Юрий Тихонович Воищев Я жду отца. Неодержанные победы (Повести)
Памяти моего отца
Тихона Ивановича Воищева,
погибшего в суровом сорок первом, —
посвящаю.
Я жду отца
Пролог
Не думай,
что мертвые мертвы,
пока существуют живые —
мертвые будут жить.
Мертвые будут жить.
Винсент Ван-ГогМальчик проснулся рано. Он долго лежал, не открывая глаз. Сегодня был день его рождения, и мальчику казалось, что, если долго — долго полежать с закрытыми глазами и задумать что-нибудь, — все обязательно исполнится.
В комнате плавало спокойное дыхание матери и равнодушное похрапывание бабки.
Мальчик загадал: если утро — солнечное, его желание обязательно сбудется…
Утро было солнечное. Стоял сентябрь, но солнце горело по — летнему.
Шел сорок четвертый год, и земля стонала под железными ногами войны.
Мальчику исполнилось девять лет, и по тем временам он считался взрослым.
Когда мать проснулась, мальчик сказал:
— Знаешь, я уверен, он скоро приедет.
Мать промолчала. Она не хотела разрушать его иллюзий. Она и сама в глубине сердца надеялась на чудо.
Сегодня был день рождения мальчика, и ему подарили большой ломоть черного хлеба и кусок сахару.
Шла война, и лучшим подарком был хлеб.
Мальчик грыз сахар и смотрел на солнце.
Он прикрывал рукою глаза и сквозь маленькую щелку глядел на пузатый комок огня, похожий на праздничный воздушный шар.
К середине дня стало жарко. Солнце работало вовсю. Даже хмурые развалины повеселели. Они хрипло шептали исковерканным деревьям:
«У этого мальчика сегодня день рождения. Улыбайтесь ему, пусть сегодня он будет счастливым».
Мудрые деревья покачивали головами:
«Конечно, конечно…»
Даже облезлый кот, сидя на подоконнике разбитого дома, умывался и мурлыкал только что сочиненную песенку:
«Мурлы, мур. Вот идет очень хороший и добрый мальчик. Он никогда не швыряет в меня камнями и не таскает за хвост, как некоторые другие хулиганы. Мурлы, мур. Мурлы, мур».
Солнце горело весь день. К вечеру от развалин потянулись тяжелые тени, и деревья печально разводили ветвями:
«Холодно!»
Солнце садилось. Оно медленно — медленно опускалось где-то далеко за городом и вдруг исчезало, словно лопнул воздушный шарик.
Когда мать пришла с работы и зажгла коптилку, мальчик вдруг подумал, что его желание никогда не исполнится.
Он заплакал горько и безутешно. Его долго не могли успокоить.
МАЛЬЧИК ЖДАЛ ОТЦА, ПОГИБШЕГО В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ.
Возвращение
Ночами я плакал. Мне хотелось есть. Мать зажигала коптилку, садилась возле меня, что-то говорила.
В комнате дрожал тусклый свет. Углы прятались в темноте.
Бабка ворочалась на своей кровати. Ей было холодно. Мне — страшно. Мать успокаивала меня. Я засыпал. Мне снилась зима.
Когда я просыпался, матери уже не было дома. Она уходила искать работу.
Шла осень сорок четвертого голодного года.
Город был разрушен. Но дом, в котором мы жили до войны, уцелел. Он стоял угрюмый, глубоко ушедший в землю, старый двухэтажный дом, и словно сам удивлялся: «И как это меня не разбомбило?!»
В тот день, когда мы вернулись, лил дождь. Такие равнодушные серые дожди бывают только осенью. Они начинаются ночью, идут днем, и даже когда люди засыпают, дождь по — прежнему стучит в окна.
Мы смотрели на дом, и он отвечал нам пронзительным взглядом пустых оконных проемов. Дождь стекал по старым побитым стенам с отвалившейся штукатуркой. Так текут слезы по морщинистым, старческим щекам.
Бедный старый дом! Он напоминал нас, вернувшихся, бесприютных, разбитых большой войной.
Люди, возвратившиеся в мертвый город, были похожи на муравьев. Из обломков кирпича вырастали стены. Из осколков стекла создавались крохотные мутные глазки — оконца.
Люди говорили друг другу:
— Никогда больше не буду покупать ничего лишнего. Всякие там тряпки, мебель. Только самое необходимое.
Люди возвращались домой. Пили водку из железных кружек. И водка была особенная — такой теперь не бывает, — прозрачная, как слезы, горькая, как горе, опьяняющая, как радость.
Горе объединяет людей. Первое время после возвращения жильцы нашего дома держались вместе. Помогали друг другу, были как одна семья. Потом — это произошло как-то незаметно — люди стали обособляться. У каждого появились свои заботы и интересы. И уже кто-то менял на «черном рынке» хлеб и картошку на тряпки и мебель. И уже на праздниках не пили водку вместе, потому что, во — первых, дорого, во — вторых, пусть каждый пьет отдельно, если хочет.
В сентябре было много дождей. Они шли днем и ночью. Вернее, шел один бесконечный, мутный, осенний дождь без начала и конца. От него некуда было спрятаться. С потолка лилось. Мокрая штукатурка шлепалась на исковерканный пол.
Мы сидели, закутавшись в старые одеяла и пальто. Мы ждали солнца, как доисторические люди, загнанные ливнем в пещеру. Мы мерзли. Печка была. Топить было нечем.
Но и дождь, и холод, и бездомность можно было вынести.
Невыносим был голод. Мы хотели есть. Мы очень хотели есть. Мы тосковали о еде. Эта тоска была невероятно одушевленной. Будто в понятие голод вселилось нечто живое. И это живое требовало пищи. Пищи — каждый день.
А есть было нечего.
Черный рынок
Однажды утром мы с бабкой пошли на базар. Несмотря на дождь, базар был многолюден и шумен.
Буханка черного — 200.
Можно купить полбуханки — 100.
Если есть деньги.
А если их нет, тогда можно поменять на хлеб одежду.
— Шерстяной платок? Посмотрим, посмотрим… Бабуся, это ведь воспоминание о платочке. Ну что вы, бабуся, человека от дела отрываете?! Я же вам русским языком говорю — это не платок, это воспоминание об оном! Бабуся, а золотишка не имеете? А? Тогда — извиняюсь… Виноват, говорю… Прощайте, бабуся. До свиданьица…
У меня в руках — книги. Старые книги. Никому не нужные книги.
— Дяденька, купите книжку! Купите? Посмотрите — с картинками! Сколько дадите… Газет у меня нету… Но и здесь бумага хорошая. Как раз для ваших самокруток! Куда же вы, дяденька?
Коммерсант из меня не вышел.
Из бабки тоже.
А золотишка мы не имеем.
Мы шли через базар. А дождь хлестал безжалостно и равнодушно. Суетились люди с лихорадочными голодными лицами. Продавали, меняли, воровали, дрались, плакали. А дождь перечеркивал всех, сминал, смывал. Будто говорил, зачем вы, куда вы, кому вы нужны?
Бешено вертелась рулетка. Какой-то толстый инвалид, сидел на скамеечке и орал:
— Подходи за счастьем!
Возле рулетки стоял длинный парень в шинели и держал зонт над инвалидом.
— Подходи за счастьем!
Рулетка кружилась, бегало перо по квадратам с цифрами, а те, кто подошел за счастьем, замирали — сейчас! Но счастье не выпадало. И они отходили, ссутулившись, кашляя и сморкаясь в мокрую землю. И ругались:
— Сволочь! Жулик! В окопах ты был?! У, гад!
С каждого выигрыша инвалид откладывал по рублю. И, когда набиралась нужная сумма, крякал. Парень отдавал инвалиду зонт, хватал деньги и, приговаривая: «Минуточку, Аким Степанович, ейн момент!» — мчался к известной торговке, покупал четвертку и бегом возвращался обратно.
— Прошу пана! Аким Степанович, вкусите!
Инвалид вставлял горлышко бутылки в рот, не глотая, выпивал водку, кричал:
— Ого! Хм! — И снова орал: — Подходи за счастьем!
В стороне от толпы сидел слепой. Он играл на трофейном аккордеоне. Пел:
Ты не плачь, моя бедная мама, Что сынок не вернулся с войны… Ты не жди от него телеграммы, Не готовь для свиданья цветы. Теплый ветер ползет по окопам, Над окопами солнце горит! Мама, сын твой в твое оконцеНикогда уж не постучит…
— Па — а-дайте калеке, братья, сестры, товарищи! Света белого он не видит. Трудиться не может… Спасибо, братик! Спасибо, сестричка!.. Спасибо, товарищ!..
За холмами, лесами, дорогами — Где твой сын? Кто ответит тебе?! И могилы ведь, и окопы —Все в одной и той же земле…
Бабка сказала:
— И подать-то нечего…
Вечерело. Мы поплелись домой. На мне была серо — зеленая куртка, перешитая из немецкого мундира. И громадные дырявые сапоги с галошами. На бабке — телогрейка. Спины наши дымились. От сырой одежды валил пар, и мы с бабкой были похожи на небольшие вулканы.
Хлеб
Дома было холодно, сыро, неуютно. В помятое корыто капала вода. Я сидел на кровати не раздеваясь и смотрел, как бабка возится с коптилкой. Наконец фитилек загорелся, тени запрыгали по комнате.
— Где это Надежда пропадает? — сказала бабка, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Опять небось работу не найдет! Дюже мы все деликатные стали. То нам не подходит, это не подходит! То подавай, это подавай!
— Чего ты ворчишь?
— А как не ворчать? Сил моих нету… Как такое терпеть?! С голоду подохнем. Кабы я помоложе была, за любую работу схватилась бы! А Надежда, она, видишь, миндальничает. Конечно, привыкла за мужем ничего не делать…
Бабке не удалось поораторствовать. Пришла мать.
— Вот и хлеб, — сказала она и положила на стол буханку.
Мне показалось, что в комнате стало теплее. Что в комнату вошло солнце. Что вернулось лето. Даже ветер утих. Даже дождь перестал. Так мне показалось. Мать несла буханку на груди, и хлеб был теплый. Хлеб был живой. Хлеб пах хлебом!
Я схватил маленький кусочек. Он был и упруг и податлив. Он дышал ровно и спокойно, как спящий ребенок.
Я нюхал его. Я ласкал его. Я жил им.
Хлеб таял во рту.
Мы ели хлеб, и бабка плакала и вздыхала:
— Хлебушко!
О хлеб! Ты не знаешь, какой ты, хлеб! Ты не знаешь, как нужен мне, матери, бабке, людям. Будь всегда с нами, хлеб. Никогда не покидай нас, хлеб! Никогда, слышишь, никогда!
Сейчас мы забыли вкус хлеба. Вкус того хлеба. Хлеба тех лет. Мы многое забываем. Мы отбрасываем куски хлеба. Хлеба, который спас нас тогда. Хлеба, который был равен жизни.
Хлеб, прости нас! Слышишь, хлеб?!
Ты по — прежнему нужен людям.
Будь всегда с нами.
Никогда не покидай нас, хлеб!
Половину буханки бабка завернула в чистое полотенце и положила на стол.
У меня слипались глаза. Мне было тепло, словно во мне горело маленькое солнце.
Засыпая, я смотрел на стол. Коптилка, тусклый нож, хлеб в полотенце — натюрморт «Осень 44–го года».
Отчаяние
Теплые волны понесли меня. Океан тепла убаюкивал. Я спал.
И вдруг я проснулся от шороха.
Было темно. Тихо. Дождь перестал.
Опять зашуршало, затрещало. Что-то мягкое шлепнулось на пол.
— Мама! — крикнул я.
Она вскочила. Чиркнула спичкой.
Хлеба не было!
На полу валялось полотенце. Тени громадных крыс лениво убегали в угол.
— Хлеб… Крысы… Хлеб… — бессмысленно бормотал я.
Мать подняла полотенце. Ни крошки.
— У, проклятые! — растерянно сказала бабка. — Здоровенные, как лошади. Им такой кусочек — на один зубочек! И как они на стол залезли?!
Бабка зажгла коптилку. Опять в комнату вошли неуютность и бездомность. Солнце во мне погасло.
Мать стояла неподвижно. Полотенце беспомощно висело в ее руках, как белое знамя капитуляции.
Вдруг мать рухнула на кровать и забилась в истерике. Она выкрикивала одно и то же:
— О господи, господи!
И от этого становилось еще страшнее.
Я сжался в комочек и с ужасом смотрел на нее.
— Надь, а Надь, — бормотала бабка, — ну, чегой-то ты? Ну, чегой-то ты убиваешься? Ну, не надо, Надь. Не переживай!
— Знала б ты, чего стоил мне этот хлеб! Знала б ты цену этому проклятому хлебу! — кричала мать.
— Ну, не надо, Надь, — говорила бабка. — Мальчонку напугаешь. Не надо, доченька.
Я долго не мог заснуть. Я лежал и думал о матери, о бабке, об отце. Я думал обо всем. И ни о чем. Мысли разбегались, расплывались, таяли.
Слушайте, дожди, осени, войны, зимы, холода, голод, я сдаюсь. У меня нет больше сил. Вы победили. Идите возьмите меня. Мне все равно. Я не могу больше бороться с вами. Вы самые сильные. Вы сильнее солнца, лета, хлеба. Вы сильнее всего на свете. Сильнее любви, жизни, надежды.
Слушайте, дожди, осени, войны, зимы, холода, голод, я сдаюсь!
Война и дети
Утром, как всегда, мать отправилась искать работу, а мы с бабкой поплелись за топливом.
Дождя не было. Но было сумрачно и холодно. Тучи низко висели над развалинами, и мне казалось, что какая-нибудь не очень ловкая тучка обязательно зацепится за ржавый крест сгоревшей церкви.
Мы плелись в лабиринте развалин. Улицы были засыпаны щебнем, обломками кирпичей, битым стеклом. Это был наш обычный рейс за топливом. В развалинах валялись куски гнилых досок, обрывки толи, бумаги. Мы их собирали.
Кое — где люди расчищали улицы. Людей было мало. Развалин много. Но на всех стенах белела надпись: «Мин нет».
Любое дело становится интересным, если его превратить в игру. Я воображал себя сапером. Я держал длинный прут. Это был миноискатель. Временами мина взрывалась. Я орал:
— Трах, бум, бум!
Бабка шарахалась от меня в сторону:
— У, чертеняка!
— Мина, — говорил я.
— Накаркаешь ты беду на нашу голову, — негодовала бабка. — Вон, Васька Мамалыгин тоже придурялся вроде тебя. Мину нашел и молотком по ей, по грешной! А она, голубушка, только того и ждала. Как вдарит! Только твоего Ваську и видели.
— Ничего ты в войне не понимаешь! — отвечал я.
— Дурной ты, — злилась бабка. — Смотри, доиграешься. Разорвет!
— Ну и ладно! — говорил я и взрывал новую «мину».
Дети тех лет были заражены ложной романтикой войны. Наслушавшись пьяных рассказов базарных инвалидов, которые, возможно, и в окопах не были, дети воображали себя героями, которым все нипочем. Дети играли в самую страшную игру, какую только можно придумать, — войну. Однажды несколько ребят с нашей улицы нашли противотанковую гранату. Стали делиться на «наших» и «немцев». «Немцами» никто не хотел быть. Наконец после долгих споров разделились. Два «немца» засели в развалину, изображавшую дзот. Остальные пошли в атаку.
«Немцы» были упорны. Все атаки «наших» ни к чему не приводили. Тогда один из «наших» сказал:
— Иду на подвиг. Если погибну, сообщите жене и родным, что я умер героем.
С гранатой он пополз к дзоту. «Немцы» лениво «постреливали». Им надоело быть «немцами».
«Наш» подполз к «дзоту» и, несмотря на то что «немцы» орали: «Сдаюсь, рус, сдаюсь!» — по всем правилам метнул гранату.
От «немцев» и от «героя» нашли жалкие обрывки мяса.
Дети тех лет, война коснулась и вас. Сколько вас погибло от мин, от бомб, от гранат, от снарядов! Или просто от голода. Дети тех лет, и вы воевали, и вы погибали. Была большая война. И скажите, есть ли такие, кого она не коснулась?
Запах черного хлеба
Куда бы мы с бабкой ни шли, всюду нас преследовал запах черного хлеба. Казалось, он идет от земли. Казалось, небо, развалины, город пахнут хлебом. Теплый, зовущий запах хлеба бил нам в лицо.
Мне было девять лет. Я не помнил вкуса пирожных и других невероятно вкусных вещей. Я не хотел их. Я хотел простого, черного, живого, дышащего хлеба.
Я хотел есть. Есть. Есть. Хотел опьянеть от сытости. От тепла. От солнца, которое каждый раз загоралось во мне, когда я был сыт.
Мне хотелось лета и хлеба.
А была осень. Беспощадная голодная осень. И осени не было конца.
Тепло
Сегодня мы топим печку. Это не такое простое дело. Особенно когда топить нечем. А есть у нас только жалкие кусочки толи, гнилые доски, мокрая бумага.
Бабка колет доски на тонкие щепочки. Бабка колдует. Она кладет щепочки в голодную пасть печки. Она перекладывает щепочки толью.
— Зажечь спичку? — спрашиваю.
— Что ты, что ты! — говорит бабка. — Ты еще маленький. Печка тебя не послушается.
Да, да, я еще маленький. Печка меня не послушается. Не загорится. Не зашумит. Не загудит. Пламя не забьется. Тепла не будет.
Печка не доверяет маленьким.
Печка верит взрослым. Тем, кто делал ее из обломков кирпича. Тем, кто замазывал ее щели. Тем, кто познал суровую радость ее тепла.
Бабка чиркает спичкой. Огонек бежит по толи. Горит. Щепки трещат, шипят. Дым валит в комнату. И вдруг вырывается пламя. Печка — ожила. Загудела:
«Сейчас, сейчас… Потерпите немного. Сейчас будет тепло. Терпение… Терпение… Главное — я снова с вами! Послушайте, какой у меня ровный, гулкий голос — у — у-у!..»
Я сижу на полу возле печки. Я смотрю на огонь. Тепло! Я плыву в теплом море. Я взмахиваю руками. Плыть! Плыть! Или — жить, жить! Одно и то же!
Красные отсветы пламени играют на полотенце, висящем на спинке стула. Это — не полотенце. Это — знамя зари!
Слушайте, дожди, осени, войны, зимы, холода, голод, я не боюсь вас. Плевал я на вас. Никогда не победите меня. Это я вам говорю, человек!
Я сижу на полу. У печки. Я смотрю на огонь.
А бабка крутит мясорубку. Ее одолжил наш сосед — шофер. Он одолжил нам мясорубку и несколько картофелин.
Бабка крутит мясорубку. Земля крутится. Комната крутится. Тепло!
Драники
Знаете, что такое драники? Это самая вкусная штука после хлеба! Уверяю вас, это потрясающе вкусно. Как приготовить? Спросите у бабки. Она лучше меня вам расскажет.
— Берете картошку. Так. Трете на терке. Или пропускаете через мясорубку. Добавляете немного отрубей. Делаете лепешки. Кладете на раскаленную сковородку. Если есть рыбий жир, льете одну столовую ложку. Если нету — воды. Жарите. Вот вам и драники.
Драники — от глагола драть, тереть. Перетирать картофель на терке или пропускать через мясорубку. Тут все зависит от вкуса. Если вы вегетарианец, трите. Если вы любите мясо, пропускаете через мясорубку. Драники, драники — деликатес! Оладьи — на рыбьем жиру или на воде.
Есть и другой способ. Аккуратно чистите картошку. Затем пропускаете шелуху через мясорубку и из «фарша» делаете драники. Картошку следует варить отдельно. Тогда у вас получится три блюда. Первое — картофельный бульон. Второе — пюре. Третье — драники… И если у вас вдобавок найдется кусочек хлеба, то…
К приходу матери у нас было все готово — и обед, и тепло. Мать улыбнулась.
— Разве сегодня праздник? А впрочем, — сказала мать, — сегодня праздник. Завтра я выхожу на работу. Буду расчищать улицы. Нас целая бригада… А потом мы будем строить… Дома, театры — все, что было до войны.
Солнце взошло вечером
За окном неожиданно посветлело. Тучи ушли, и робкое сентябрьское солнце глянуло на землю. Оно висело низко — низко, вот — вот готовое спрятаться за городом.
Солнце. Солнце. Солнце.
Солнце взошло вечером.
Но оно будет теперь всходить каждый день. Утром.
Кончились дожди. Солнце, солнце. Солнце — надо мной. Над нами. Над городом. Над домами. Над землей.
А земля кружится в сентябре. Летят желтые листья — печальные письма осени. Летят письма с фронта. И много таких писем, каких лучше бы никогда и не получать.
Это извещения о смерти. Похоронки.
«Ваш сын (муж, отец) пал смертью храбрых в бою под Ленинградом (Воронежем, Курском, Орлом, Минском)».
Лежат мертвые. В их глазах стынет солнце.
Глаза мертвых — солнца. Они — стынут. Они — умирают.
А солнце кружится в сентябре. А сентябрь рассылает печальные письма. А письма получают — сыновья, матери, жены, братья, сестры. И плачут. И кричат:
— Будь проклят тот, кто убил вас!
Они проклинают войну.
А старики говорят о войне:
— Нынче, безмозглая, у Анютки сына уволокла. И когда придавят эту гадину? Когда?
Люди верят: скоро!
Люди хотят: мир!
Люди знают: солнце будет всходить утром!
Так должно быть. Так будет!
Георгины
Осень называли сиротской. Тогда много солдат вернулось домой инвалидами. А еще больше — не вернулось.
Приходили санитарные эшелоны. Много — много эшелонов. Я смотрел на солдат, и каждый из них казался мне отцом.
Солдат встречали с цветами. Кипели пламенем георгины, и ораторы говорили о вечной славе погибшим.
Я брел с вокзала, и закатное сентябрьское солнце переходило мне дорогу и, засыпая на ходу, пряталось за дальними развалинами.
Когда мать приходила с работы, я говорил ей:
— Скоро и папа вернется.
Она кивала головой и смотрела на пламя в печке. Пламя было похоже на георгины. Мать всегда молчала, когда я говорил об отце. А бабка всегда говорила:
— Неизвестно, какой он еще вернется. Может, такой, что лучше бы ему и не возвращаться.
Я знаю, почему она так говорит. Я знаю, почему молчит мать. Они думают, что я маленький и многого не понимаю. Но это понятно и мне.
«Верьте, надейтесь, ждите»
Мой отец не вернется. Он погиб в сорок первом. Так было сказано в извещении — маленьком квадратном бумажном листке.
Погиб… Черное слово… Белая бумага… Белая — белая…
Мать: «Не верю! Не верю!»
Бабка: «Надо ждать. В такой неразберихе легко ошибиться».
Я: «Папа, это ведь неправда, что ты погиб? Скажи, папа!»
Мать берет меня за руку. Сорок второй — отступление.
Усталые лица солдат. Черная лента людей, покидающих город.
— Сейчас невозможно выяснить, насколько это верно, — сказали матери в военкомате. — Возможно, ваш муж попал в окружение… Без вести пропал…
— Но мне прислали похоронную…
— Я могу выдать вам извещение, что ваш муж жив и здоров.
— Как вы жестоки!
— Война… Нет времени для чувств… Простите, если обидел. Вы должны понимать… Скажу одно — верьте, надейтесь, ждите. Чудеса бывают.
Верьте. Надейтесь. Ждите. Чудеса бывают…
Да, чудеса бывают. Вот вернулся же Маруськин Петька. Без руки, а вернулся.
— Петь, ты Ивана не встречал?
— А Тихона?
— А Сергея?
— А Трофима?
— А Василия?
— Граждане соседки! — кричал Петька. — Отвалите! Живы ваши, живы! И Тихона видал, и Ивана, и Трохвима, и Ваську. Всех видал. Все живы. Поклоны вам шлют… А писем писать — некогда! Какие письма, женщины?! Война… Ждите, вернутся ваши мужики. Мое слово — закон!
Женщины уходили:
— Слава те господи! Спасибо, Петечка, утешил. Да и верно, какие тут письма! Им, нашим солдатикам, некогда. Воюют…
А Петька пил водку, орал песни, а потом рыдал:
— Никого не видел! Из этой мясорубки сам черт не вырвется… Войнища проклятая! Инвалидом сделала!
Гадания
Тогда все гадали. Гадали на картах, воске, пепле. Гадали для того, чтобы хоть чем-то подкрепить свою надежду.
Бабка тоже гадала. Мы с матерью садились за стол и смотрели на нее. А бабка брала затертую колоду карт, тасовала, бормотала и начинала гадание. Сначала она доставала трефового короля. Говорила матери:
— Задумай крепко…
Мать брала карту. Долго держала ее. Потом осторожно клала на стол.
Бабка раскидывала карты:
— У — у, Надя, хорошая карта! Видишь, у него на сердце дама. Ты — значит. Тоскует по тебе. В голове — собственный дом… Дальняя дорога… Не иначе, отпуск получит. Что было — хлопоты… Что будет — радость… Сердце успокоится — выпивкой. Жив он, Надя, жив. Не я говорю — карты! Ты смотри, как ему хорошо выпало. Не иначе, к Новому году в отпуск приедет.
Потом бабка гадала на мать. И выходило, что ее ждет скоро свиданье по «близкой дорожке» с военным королем — мужем, значит.
Потом гадали на меня. И мне выходило, что меня любит какая-то пустая дама и что по «дальней дороге» ко мне должен скоро приехать военный король.
О гаданья наивные! Вы утешали. Вы помогали верить, надеяться, ждать. Гадали женщины. Им выходило, что скоро — скоро вернется военный король. И жены плакали от тихого счастья. И ждали, замирая, этого свиданья и шептали: «Скорей, скорей!»
А военный король, изображенный на карте великолепным мужчиной на лихом скакуне, лежал молчаливый и равнодушный. Мертвый.
А жена ждала его. А жена говорила с ним. А жена видела его во сне. А жена гадала — скоро увидимся! А муж был мертв.
И все равно, даже зная об этом, женщины гадали. Женщины верили, надеялись, ждали. Чудеса бывают. Это верно.
Так почему же и я не могу надеяться на чудо?!
Отец
Я лежу укрытый одеялом и пальто. Печка давно погасла. Холодно.
Мать сидит рядом и рассказывает об отце.
Так бывает каждый вечер. Когда я ложусь спать, мать подсаживается ко мне и начинает рассказывать.
Бабка дремлет возле коптилки. Она пытается штопать мою рубашку, но ее клонит в сон. И она засыпает сидя.
Мать говорит ей:
— Ты бы легла, мама.
Бабка вздыхает, вздрагивает, бормочет:
— Кажись, я заснула…
Кряхтит, ложится, храпит.
Мать рассказывает об отце. Сейчас мне кажется, что она говорила для самой себя. Образ мужа начинал стираться в ее памяти, тускнеть, уходить, и она каждый раз вызывала его, возвращала его обратно.
— Ты был совсем маленький. А папка — огромный. Большой — большой. Громадный. Как великан. И сильный. Самый сильный… И добрый. Самый добрый… А тебя он любил! И все таскал на руках, хотя ты уже был тяжелый — претяжелый. И еще — он подбрасывал тебя к потолку. А потом ловил над самым полом. А я на него ругалась: «Уронишь!» А он смеялся: «Дуреха! Разве я его уроню!» А я так боялась, так боялась, что он тебя уронит…
— Не надо, мамочка… Ну, не плачь!
— Глупенький, разве я плачу?! Это коптилка мигает, тебе и кажется… Так вот… Мы часто ходили гулять. Втроем. Это — когда ты уже подрос. И даже бегал. Но ты был ужасно ленивый. И все хныкал: «Хочу на ручки!» А папка не разрешал мне брать тебя на руки. «Он уже большой», — говорил. А я сердилась: «Маленький!» Он мне не разрешал носить тебя. «Надорвешься», — смеялся. А сам подхватит тебя, посадит на плечо. И идет. А люди на него смотрят — такой он высокий, веселый, красивый. А я ему — по плечо. И люди улыбаются — такой молодой, а уже двое больших детей! Он меня звал — маленькая мама. Я, и правда, по сравнению с ним была очень маленькая. А когда тебя возьму на руки, то со стороны это очень смешно. Ты большой, тяжелый. Я тебя тащу, а ты ногами за землю цепляешься…
Мать говорит тихо — тихо. Совсем тихо. Ее еле слышно. Коптилка гаснет. В темноте я не вижу лица матери. Мне кажется, она плачет.
Рассказы тянутся, кружатся, повторяются. Я засыпаю. Но и сквозь сон до меня доносится голос матери.
Мне часто снится одно и то же. Мы идем с отцом по какому-то городу. Город — знакомый и незнакомый. Но я знаю: это город, где я родился.
Я вижу много людей. Они работают, поют, смеются. Они строят дома. И отец строит дома. И говорит мне:
— Для тебя строю. А вырастешь — будешь строить для своего сына.
Мы идем с отцом по земле. По разным городам. Я не знаю, что это за города. Я вижу — они цветные. Один город — синий, другой — зеленый… И всюду люди работают, поют, смеются.
А потом я вижу мать. Она идет нам навстречу и что-то говорит. И отец что-то говорит ей. И они улыбаются. И они целуются. И они шутливо грозят мне — не подглядывай.
И вдруг — черное небо, черные птицы, черные кресты. И люди бегут. И здания падают. И земля летит в небо. Тогда я слышу, невероятно отчетливо слышу суровый голос: «Война…» А дальше — темнота. Потом вспыхивает оглушительное солнце. И я просыпаюсь.
Сны исчезают — остается действительность. Сны — это только сны. Ни больше ни меньше. Можно верить хорошим снам. Можно не верить. Лучше не верить. Потому что сны редко сбываются.
А моя бабка верила снам. И мать тоже. И я верил. И все, кто ждал, верили. А иначе невозможно было жить. А сны — они обманывали. На то они и сны.
Вода
В воскресенье у нас воскресник. Мать стирает, моет полы. Бабка готовит обед. Как всегда, из трех блюд. А я ношу воду.
Я беру ведро и иду под гору. Там колонка. Совсем недавно дали воду, и теперь у колонки постоянно торчит очередь. Вода еле льется. Ведро — 15 минут.
Люди в очереди молчат. Стоят неподвижно. Медленно — медленно льется водяная струйка. Медленно — медленно движется очередь.
Вода ударяет в дно ведра. Струйка тонкая — тонкая. Кажется, она вот — вот оборвется.
Вода. Ты льешься, значит, город начинает жить! А совсем недавно мы ходили за тобой на реку. Далеко ходили. Ходили с ведрами, жбанами, тащили на тележках бочки.
А сейчас ты льешься из колонки.
Ты еще слабая пока, вода. Но знаю, скоро город оживет. И тогда ты загудишь по трубам. Ты ударишь сильно и упруго в дно ведра, вода.
Пусть пока тоненькая струйка. Пусть! Это очень здорово, что ты рядом, вода. И не надо ходить за тобой на реку. Не надо выставлять корыта, тазы, кастрюли во время дождя. Не надо ловить тебя, вода.
Ах, какой был зной, когда мы уходили из города! И воды не было. А хотелось пить. Люди плакали тогда, жалея о том, сколько воды они раньше тратили на стирку, на купанье, сколько воды они раньше пили, выливали, выплескивали, теряли. «Ах, вода!» — говорили люди. И солнце катилось раскаленной сковородой. И земля крутилась раскаленной сковородой. И небо падало раскаленной сковородой. Так хотелось пить. И люди ждали дождя. И молились о дожде. И плакали о дожде. О воде.
Есть милые банальности: солнце — теплое, хлеб вкусный, вода — сладкая. И я никогда не боюсь сказать банально: солнце — теплое, хлеб — вкусный, вода — сладкая!
Я поднимаю полное ведро двумя руками. Вода вот — вот перельется через край. Мне тяжело. Мне радостно — вода!
Я тащу ведро двумя руками. Я прижимаю, ведро к животу. Бережно. Как ребенка. Я иду медленно — медленно. Чтобы не расплескать воду. Чтобы не потерять ни капли.
Ох, какое тяжелое ведро! Пот капает с моего лба в воду. Ведро давит на мой живот. Ох, и сильная же ты, вода! Вот упрямая! Так и хочет выскочить из ведра… Хе — хе, только без щекотки!.. Вот возьму и брошу тебя, ведро. Будешь знать, как хулиганить. Не брошу? Брошу. Спорим, брошу? Бросаю!
Я осторожно ставлю ведро на землю.
Я размахиваю руками. На ладонях — красные полосы. Глубокие — глубокие. И руки болят.
Я злюсь. Снова тащу ведро. Каждые пять шагов я останавливаюсь, ставлю ведро на землю, отдыхаю.
Фу — у влез на гору! Я весь мокрый. Жарко… Еще немного… совсем немного… ну, еще один шаг! Еще один. Еще. Стоп. Дверь. Стучу ногой. Дверь распахивается. Дверь толкает ведро. Ведро толкает меня. Я падаю на землю. Вода льется на меня. Я ору:
— Ой — ой! Брр!
Потом сижу мокрый и реву. Слезы капают в лужу. Слезы смешиваются с водой… А может, это я такой рева и наплакал целую лужу?!
— Что ж ты так дверь открываешь?! — говорю бабке. — Не умеешь открывать, так и не открывай! Видишь, мокрый весь из-за тебя…
— Ах, ах! — суетится бабка. — Простудится!
— Ах, ах! — суетится мать. — Простудится!
— Ах, ах! — говорю. — Обязательно простужусь!
И реву. Реву не из-за того, что промок. Не из-за того, что напрасно надрывался. Реву просто из-за воды. Реву, и все!
— Ну чего ты? — говорит бабка.
— Ну чего ты? — говорит мать.
— «Чего ты, чего ты»! — говорю. — Вам бы так!
— Переодевайся скорей, — суетится бабка.
Снимаю куртку, сшитую из немецкого мундира, рубашку, переделанную из маминой кофточки, сапоги сорок восьмого размера, штаны неизвестно из чего сделанные. Стою голый. А на голове у меня дореволюционная папаха. От деда наследство. Стою. Уже не реву. Вздыхаю.
— Обед скоро? — спрашиваю.
— Готов, готов, — говорит бабка.
— Садись, садись, — говорит мать.
Закутываюсь в одеяло. Сажусь к столу. Ем три блюда. И вздыхаю о пролитой воде.
Сосед
Хорошо, когда есть соседи. А еще лучше, когда соседи — добрые. Я считаю, что нам здорово повезло в этом отношении. Наш сосед — Николай Палыч — шофер и вообще хороший дядька. Не раз выручал он нас в трудную минуту. Бабка души в нем не чаяла.
— Какой человек! — говорила бабка. — И помощь окажет, и словом утешит.
Меня больше привлекала машина, на которой ездил Николай Палыч. Правда, машина как машина. Довольно старая и потрепанная полуторка. Николай Палыч вывозил на ней за город мусор и прочие ненужности. Но, как сказал он сам, без его машины строители загнулись бы.
— Ведь понимаешь, парень, какое дело, завод восстанавливаем. Надо сначала территорию расчистить. Это можно. А мусор? Вот я его и вывожу. И получается, если бы не моя старушка, тяжело ребяткам пришлось бы. Ох как тяжело! Куда б они мусор девали? Ну, скажи, куда?
— Но ведь там и другие машины есть…
— Конечно. Ты резонный парень. Есть и другие. Но в каждом деле нужен запевала. Бригадир я. Понятно?
— Понятно, — говорю.
Но мне все-таки непонятно.
Вечерами Николай Палыч приходил к нам. Он приносил сахарин, хлеб.
— Да что вы! — говорила бабка. — Ну, зачем вы расходуетесь?! Мы и так рады.
Но продукты принимала. И мы пили чай. Вернее, подслащенный кипяток.
Николай Палыч пил старательно. На лбу у него блестел пот. Он пил чай с таким усердием, словно ворочал тяжести.
Когда Николай Палыч что-нибудь говорил, то поглядывал на мать. Слушает или нет?
Мать смущалась. Говорила «да», «нет». Кивала. Улыбалась. Улыбалась слабо. Растерянно.
Николай Палыч рассказывал только о себе.
— Скромными бывают только подлецы, — изрек он.
И не был скромен.
Вот он говорит:
— Жизнь — это шашки. Доска в клеточку. А мы — фигуры. Пешечки. Но стремимся вылезти в дамки. Одни вылезают. Другие попадаются. И тогда — небо в клеточку. Но когда живешь честно, тебе это не угрожает. Я вот на фронте командующего всей нашей армией возил. Подвиги совершал. Он, командующий, значит, говорит мне: «Фирсов, хотишь, я тебя в подполковники за храбрость произведу?» — «Никак нет, говорю. Я говорю, сержант. И желаю, говорю, дойти до звания подполковника обычным путем». Глянул он на меня из-под своих орлиных бровей, руку пожал, прижал к своему боевому сердцу. «Честный ты очень, товарищ Фирсов, говорит, уж, больно ты честный. Ну, да ты не волнуйся, это я тебя проверял — клюнешь или как?» Такие вот делы. Да, если бы не контузия, я бы уже генералом армии был. Контузия помешала. Но все равно, несмотря на контузию, я командующего от верной гибели спас. Бомба рванула, газик мой — кувырк, и кверху лапками. Я поначалу сознательность потерял. А потом, придя в себя, вижу — лежит мой генерал. Помирает вроде. Я его на плечо и в санбат. Вовремя пришел. Еще бы пять минут, и помер бы… Да нет, не я помер бы, а он. Спасли ему жизнь наши врачи. А у меня — контузия сурьезная. Глазами вращать не могу, и все тут. Так и списали меня по чистой. Пенсию дают. А я завсегда могу самый геройский подвиг совершить.
— Ну, а сейчас как? — спросила бабка.
— Чего «как»?
— Да с глазами…
— Порядочек. Вращаются…
Николай Палыч может часами рассказывать о своих военных приключениях.
Фронт. Бомбежка. Мчится на своем верном «газике» Николай Палыч. Везет пакет командующему. Немцы швыряют бомбы прямо в Николай Палыча. Но все мимо.
И вдруг — прокол. А немцы-то рядом. И не дремлют. Вот они мчатся на мотоциклах. Погиб ты, Николай Палыч! Но Николай Палыч тоже в сукно одет! Паф! Паф! Ближайший немец рухнул с мотоцикла. Николай Палыч уверенно занимает его место и благополучно привозит пакет командующему.
— Вы не думайте, что я просто шофер, — прервал он свой рассказ. — Да, конечно, шофер. Но призвания у меня другие. Сейчас я разрабатываю теорию о продлении жизни человека на земле. И нашел, что для этого необходим йод. Угу, угу, самый обыкновенный йод. Одна капля продлевает жизнь человека на год. Я систематически ввожу йод в организм. Начал с одной капли, а сейчас дошел до пяти…
Он снова перескочил на события военных лет и стал рассказывать, как ему было поручено подслушать секретный разговор немецкого командования (он ведь прекрасно знает немецкий язык. «Хочешь, парень, тебя так немецкому обучу — своих не поймешь?»). Николай Палыч прокрался к блиндажу, где шло совещание, снял часового, узнал, что надо, и бросил в блиндаж связку гранат. Все легли!
Он сбегал в свою комнату и принес показать нам финку, которой он снял часового.
— Дарю, — сказал Николай Палыч, протягивая мне финку.
— Что вы, — испугалась мать. — Такие вещи не для детей…
— И то верно, — согласился Николай Палыч и взял финку назад.
Когда он ушел, бабка с восхищением сказала:
— Ох и брехун! Пустомеля, а вроде ничего мужик. И в тебя, Надь, метит.
Мать ничего не ответила. Вздохнула. Стала стелить постель.
А мне Николай Палыч понравился.
Ненависть пришла позже.
Коптилка
Наша старая коптилка совсем никуда не годится. Ну, совсем не годится. Не горит.
Бабка станет ее зажигать — она загорится и тухнет. Сразу тухнет. И чадит.
— Испортилась коптилка, — говорит бабка. — Новую надо…
Коптилка — это моя область. Моя специальность. Я умею делать коптилки. Патента на это изобретение у меня нет. Но могу раскрыть секрет производства.
Надо найти гильзу от снаряда. Средних размеров. Пробить в ней отверстие для керосина. Верхушку сплющить. Затем вставить фитиль из марли. И коптилка готова.
Бабка наливает керосин в новую коптилку. Бормочет:
— Сколько керосину берет, проклятая! У, ненасытная! Все ей мало…
Бабка говорит мне:
— Ты бы еще побольше гильзу взял. Где я керосина наберусь?!
Я молчу. Я ни гугу. У меня свои далеко идущие планы. Во — первых, чем больше коптилка, тем ярче она горит. А это очень здорово, когда в комнате светло. Во — вторых, я скажу мальчишкам, что у нас электричество. Не верите?! Идем, идем, посмотрим!
Наше окно плотно занавешено. Светомаскировка. Но свет от коптилки такой яркий, что кажется, действительно горит электрическая лампочка.
— Правда! — говорят мальчишки. — А откуда?
— Сам сделал!
— Вре — е-ешь, — тянут они.
— Вру?! А это что! Свет или не свет?! Горит или не горит?
— Горит, — уныло говорят мальчишки. — А у нас темно… У нас — коптилки… Эх, хорошо тебе! Свет! Как при мирной жизни.
Мне жаль их немного. Но все равно я страшно горжусь. И хожу, сдерживая улыбку.
Я стою под своим окном и вдруг сам начинаю верить. Верю, что у нас снова свет. Верю, что кончилась война. Верю, что когда я войду в комнату, то увижу отца.
— Пока! — кричу ребятам.
Бегу. Дергаю дверь. В глаза — свет. Неужели?! Правда?! Стою.
Коптилка. Стол. Сидит бабка. Читает.
— Ты чего? — спрашивает.
— Я?.. А мама не пришла?
— Нет еще… Иди домой. Хватит тебе по улице гонять. Поздно уже…
Я раздеваюсь. Сажусь к столу. Смотрю на бабку. Как она читает. Бабка шевелит губами, будто разжевывает каждое слово. Долго — долго жует. Потом мусолит палец. Переворачивает страницу.
Тихо у нас. Печка еще не погасла, не совсем простыла. Коптилка горит ярко — ярко. Ну, прямо как электролампочка.
Бабка читает. А я смотрю, как она читает, и думаю, как было бы здорово, если в нашей комнате зажечь одну… нет, десять… нет, сто лампочек. Как бы они горели! Было бы светлее, чем в самые солнечные дни. Ох, как было бы светло!
Приходит мать.
— А я думала — свет дали… А это коптилка…
А это — коптилка. Всего — навсего — коптилка. Из снарядной гильзы.
Зверь пострашнее тигра
У меня появилась забота. Среди старых книг и тетрадей я нашел букварь. Бабка показала, как пишутся буквы, и я целыми днями исписывал ими стены, забор, ворота, двери — вообще все, на чем можно было писать мелом.
Почему-то мне не давалась буква «я». Я писал ее и так, и этак, и все она была у меня похожа скорее на «R», чем на «я». Но я не унывал. И писал, и писал.
Бабка, видя мое усердие, дала мне тетрадь и карандаш. Я исписал ее огромными буквами. Каждая буква была в полстраницы.
Свою «работу» я показал третьекласснику Сеньке Барсикову.
Сенька был маленький, рыжий и важный. Он осмотрел тетрадь со всех сторон и хмыкнул:
— В школу захотел?
— Ага…
— Ну и дурак. Погоди: пойдешь в школу — наплачешься. Учиться — это тебе не тетради марать разными дурацкими буквами.
— А я все равно пойду…
— А тебя еще не примут… Ты переросток. Будь я на твоем месте, я бы из дома сбежал и на фронт подался…
— На фронт тебя не примут… Ты дурак. А там знаешь каким умным надо быть!
— Это кто дурак? Я, что ли?
— А что?
— А то, смотри, перепущу. На меня где сядешь, там и слезешь, — пообещал Сенька и величественно удалился.
Сенька был страшный задира и всех пугал своей воображаемой силой.
— А знаешь, что моя фамилия означает? — спрашивал он перед началом драки у противника.
— Не — е…
— Тигра видел?
— Не — е…
— Так вот, барс — это тигр. Только пострашнее. Недаром же я свою фамилию ношу!
А через минуту, зажав в кулаке разбитый нос и громко призывая маму на помощь, Сенька мчался с поля боя. На другой день Сенька объяснял:
— Видел, как я вчера Петьке наподдал? Он с испугу голову потерял и стал метаться в разные стороны. Тут меня домой позвали, а он как чумовой бежит за мной и бежит. Пришлось еще ему подвалить… Не веришь? Кто брехло?! Пойдем стукнемся.
Зато никто из мальчишек на улице не знал интересных историй больше, чем он, — о кладоискателях, пиратах и путешествиях. Вечерами мальчишки собирались в укромном уголке нашего двора, и Сенька рассказывал, как барон Мюнхаузен летал на луну.
— И что он там увидел? — нетерпеливо спрашивали мы.
— А ничего он не увидел, — говорил Сенька. — Там же никого нет. Моя бабка говорила…
И Сенька рассказывал, что ему говорила бабка.
— И среди бабок есть умнейшие старухи, — говорил Сенька. — Вот моя бабка рассказывала, как ее мать крепостной была. При царе цепи носила. А сбежать — никакой возможности. Побежишь, а они, проклятые, как забренчат, как забренчат…
Когда мать увидела мою «писанину», она поцеловала меня и на другой день принесла большую довоенную книжку с цветными картинками. Это были «Сказки» Андерсена.
По ним я учился читать.
Школа
Ого — го! Я иду в школу. Иду в школу. Иду в школу. Конец сентября. Солнце — вовсю! Я иду в школу. За спиной у меня болтается старая полевая сумка. В сумке — тетради и кусок хлеба. Как здорово, что я иду в школу! Вы даже не представляете, как я хочу учиться. Хочу в школу, где много мальчишек и девчонок. Где изучают буквы и цифры, где очень интересно…
И вот я иду в школу.
Иду — боюсь: а вдруг не примут?!
Иду — трушу, хотя знаю, что уж давно записан в первый класс. По нашей улице ходила женщина и переписывала всех детей школьного возраста. И меня записала.
А я все равно боюсь.
Ох как боюсь! А вдруг не примут? А вдруг прогонят? Скажут, почему ты не в белой рубашке? А у меня нет такой. А говорят — надо обязательно быть в белой рубашке и черных штанах. Потому что — открытие школы.
А на мне — зеленая рубашка. Из гимнастерки. И серые штаны, от убитого немца. И сапоги с галошами.
Иду — думаю: вот если бы рубашку мелом покрасить. Или белой краской. А штаны — черной. Или углем…
А еще я боюсь, скажут, почему не подстрижен? Бабка стала меня стричь. А ножницы — тупые. Она меня ощипала порогами, зигзагами. Не голова — бугор. Как будто овцу стригли.
А может, шапку не снимать?
Нельзя. Заругают.
А может, все-таки не снимать?
Вхожу. Коридор. Шум.
Бабка однажды мне говорила:
— Придешь в школу, а там шум стоит, как туман. Только в тумане ничего не видно, а здесь — не слышно. Станешь быстро закрывать и открывать ладонями уши — как собаки лают: гав, гав, гав.
Я тоже ухватился за уши. Открываю и закрываю. Закрываю и открываю. И по сторонам смотрю. Мальчишки и девчонки разбегаются по классам. А я не знаю, куда мне идти. Стою. Верчу головой. Не знаю, куда идти — и все. Хоть умри.
— Мальчик, у тебя уши болят? — спрашивает меня худенькая женщина.
— Нет…
— А что же ты не идешь в класс?
— Не знаю, куда идти, — говорю.
— Как не знаешь? Разве твоя мама не была на родительском собрании?
— Нет…
Краснею. Боюсь, ох сейчас прогонят.
— Очень плохо, — строго говорит женщина. — Как же нам теперь с тобою быть? Первых классов у нас — четыре…
— Не знаю…
Не могу удержать слезы.
— Ну — ну, — говорит женщина и улыбается. — Такой большой мальчик, а плачешь.
— Да — a, вам-то хорошо… А меня теперь в школу не примут.
— Ладно, ладно, — смеется женщина. — Не плачь. Эх ты, ревушка — коровушка. Никто тебя не прогонит. Ну, успокоился? Вот так. А теперь пойдем искать твой класс. И, кстати, сними шапку. Когда входишь в помещение, а особенно в школу, надо обязательно снимать головной убор.
— Я это знаю, — говорю. — Только понимаете… Мне без шапки никак нельзя… Вдруг меня продует?!
— Не бойся. В школе очень тепло и сквозняков нет…
— А можно не снимать?
— Какой ты упрямый! — сердится женщина. — К тому же, я вижу, ты совсем не слушаешься взрослых. А нам в школе такие не нужны. Если ты не снимешь шапку, можешь идти домой.
— Ой, сниму…
Снимаю. Женщина мельком смотрит на мою голову. Чувствую, что она еле — еле сдерживает смех.
— Кто тебя так остриг? — спрашивает.
— Бабушка. Только у нее — ножницы тупые. Вот и получилось так…
Я опять готов зареветь. Женщина смеется. Хохочет. Но совсем не обидно.
Я смотрю на нее сначала мрачно, потом, представив свою голову, остриженную под овцу, тоже смеюсь.
Ох и посмеялись мы! У меня даже живот заболел. Я сразу скислился.
— Ты чего? — спрашивает. — Неужели обиделся?
— Да что вы, — говорю. — Только я подумал, что меня мальчишки задирать будут. Да еще овцой прозовут. А кому такое понравится?
— Верно, — говорит, — никому не понравится. Поэтому пойдем ко мне в кабинет, подумаем, что можно сделать с твоей прической.
Тут я сразу догадался, что она директор. Меня даже дрожь прошибла.
— Ты вроде испугался? — спрашивает.
— Нет, — говорю.
А сам зубами стучу. Стучу как заводной. Никак не могу остановиться. Так испугался.
— А вы меня… из школы…
— Не бойся. Из школы тебя никто не выгонит. Разве ты виноват, что у вас ножницы тупые?
И правда, разве я виноват?! Улыбаюсь. Иду за ней.
Большая комната. Письменный стол. На стене чей-то портрет.
Женщина достает из стола ножницы. Смеется:
— Как тебя зовут? А то и не знаю, кого стричь буду.
— Сережа, — говорю. — Сережа Васильев…
— А меня зовут Ирина Викторовна. Вот мы и познакомились… А теперь подставляй голову.
Сажусь. Она начинает щелкать ножницами, как заправский парикмахер. Руки у нее — ласковые, нежные, быстрые. Веселые руки. Мне хочется прижаться к ним лицом и сидеть долго — долго, не шевелясь, — такие они добрые.
Доброта… Не понимаю, почему люди прячут тебя друг от друга?
А может быть, так надо? Так и должно быть? Надо прятать тебя, чтобы в нужные, именно в нужные минуты ты океаном врывалась в человеческое сердце? Топила его в своих волнах?
Нет, тебя нельзя прятать, доброта! Тебя надо беречь. Охранять. И дарить тем, кто тебя заслуживает. Иначе ты перерастешь в злобу.
Надо быть добрым. Терпимым к людям. К людям, которые порой кажутся ненужными, смешными или злыми. К людям, с которыми мы каждый день встречаемся и о которых почти ничего не знаем. Или не хотим знать.
А что, если им нужна наша доброта? Так нужна, что они погибнут без нее. А мы не думаем об этом. А сами они об этом не скажут.
Не прячьте доброту. Ведь она, как и все другое, умирает…
— Готово, — говорит Ирина Викторовна. — Теперь вполне прилично.
Я ищу глазами зеркало.
— Какой требовательный молодой человек, — смеется она. — Ему и зеркало подавай…
Дает мне круглое карманное зеркальце. Смотрю на себя — ничего. Дразнить не будут.
— Спасибо, — говорю. — Большое спасибо.
— Пожалуйста. Только в следующий раз ты уж не стригись так. Ладно?
— Ладно, — говорю.
Зазвенел звонок. Мы пошли искать мой класс.
В первом «А» учительница сказала, что я — не ее.
В первом «Б» — то же самое.
В первом «В» — наконец-то! — я оказался в списке.
— Иди учись, — сказала Ирина Викторовна. — Смотри, чтобы мне на тебя не жаловались.
— Не будут, — заверил я и уселся за первую парту.
— Это место уже занято, — сказала учительница. Глаза ее зло смотрели сквозь очки. Она была похожа на сову. — Вообще, я не знаю куда тебя посадить… Класс переполнен.
— Да поместимся, — заулыбался я.
— Чего это ты такой веселый? Не на утренник пришел, а в школу. Если б не Ирина Викторовна, я бы тебя за родителями послала. Почему опаздываешь? Да еще в самый первый день занятий…
— Я больше не буду…
— «Не буду, не буду»! Все вы так говорите. А сами не даете работать. И как только не стыдно!
«И чего это она? — думал я. — И за что это она меня ругает?»
Когда она наконец выдохлась, я спросил:
— А можно, я с кем-нибудь втроем сяду?
— Садись, — буркнула она.
Я сел рядом с двумя мальчишками и целый час просидел глядя в одну точку. Даже не шевелился.
Карточки
Ура, ура, ура!!! Мать получила карточки. Продуктовые карточки! Карточки, по которым мы будем получать хлеб!
Вот они. Я держу их в руках. Мне кажется, я держу хлеб.
— Не порви, — говорит бабка.
— Да ты что!
Карточки, продуктовые карточки! Вы еще не забыли их? Или уже забыли? И не вспоминаете? И не помните, как они выглядят? Как пахнут карточки — право на жизнь? Карточки — билеты в мечту? Карточки — оглушительный запах хлеба?
Не верю, что вы забыли. Их нельзя забыть…
А если забыли, значит, забыли многое. Значит, забыли войну, холод, голод, тоску, дожди.
А если забыли, значит, забыли, что каждый день надо драться за мир, солнце, хлеб, улыбки. Каждый день надо сражаться за то, чтобы нигде, никогда, никто не держал в руках карточки и не плакал над ними от счастья.
Я прыгаю по комнате. Я целую карточки. Я целую хлеб, хлеб!
Бабка отбирает у меня карточки.
Я ору:
— Ура, ура, ура!!! Карточки, карточки, карточки!
А в магазинах стоят люди. Они держат карточки. И продавцы отрезают талоны от карточек. И люди несут хлеб.
А карточки прячут, чтобы не потерять. Никак нельзя терять карточки. Слишком суровое время для того, чтобы терять. Потеряешь — будешь без хлеба. Никто не даст новых карточек…
А продавцы режут хлеб. И люди просят:
— С довеском, пожалуйста.
Потому что очень хочется есть. И качает от голода. А когда идешь домой, можно съесть довесок. Маленький кусочек жизни.
И люди несут хлеб. И едят довески. И ломают от довесков маленькие кусочки. И сосут их, как конфету.
А хлеб тает во рту. А хлеб — совершенно невероятный — такой вкусный. И почему эти довески такие маленькие?!
Карточки, карточки, карточки!
Скоро и я пойду в магазин за хлебом. И буду просить:
— С довеском, пожалуйста…
И буду по кусочку есть довесок. Сосать его, как конфету…
Скоро и я пойду в магазин за хлебом.
Султан
Наконец-то! Я иду за хлебом.
Обычно за хлебом ходила бабка или мать. Но сегодня бабка прихворнула, а матери — некогда, и послали меня.
Я взял карточки и пошел.
За мной увязался Султан. Так звали пса, которого подарил мне Сенька Барсиков. Султан был инвалид. Задняя лапа у него перебита. Сенька говорил, что это немцы покалечили Султана. Они всех собак убивали, а Султана только подстрелили.
Султан, вероятно, был самой обыкновенной дворнягой. Но зато какой умница! Он даже сам и дверь стучался. Стучит и стучит, пока не впустят.
Я сразу его полюбил. И он меня. Куда бы я ни пошел, он обязательно за мной увязывался. И никак его не прогонишь.
У нас все Султана любили. И мать. И бабка. Только Николай Палыч ворчал:
— Негодная скотина. Хлеб задарма ест…
Магазин был недалеко. За несколько кварталов.
Я шел не торопясь, сжимая в руке заветные карточки.
На углу стояли мальчишки и хохотали на всю улицу. Я знал их. Это местные хулиганы Васька Гнус, Витька Телок, Жора Керя и гроза всей нашей улицы Колька Фикс. О нем говорили, что он ворует. Ребята то ли с восторгом, то ли с испугом называли его уркой.
Я был тихий малый, и меня часто колотили. К мальчишкам со своей улицы я относился с недоверием, а Кольку и его друзей просто боялся.
Они увидели меня и перестали смеяться.
Я никак не мог разойтись с ними. А удирать было стыдно.
Я шел на них. А они молча смотрели на меня. Я сжался, приготовился к их насмешкам, но они молчали. И от этого становилось еще страшнее.
Когда я поравнялся с ними, Витька Телок сказал:
— Стой.
Я остановился и тоскливо подумал: «Начинается!»
— Ишь ты, зазнался, — сказал Васька Гнус, худой и страшный, как мертвец.
— Угу, — подтвердил Жора Керя, неестественно выпучивая глаза.
— Чего вам надо? — дрожащим голосом спросил я, сдерживаясь, чтобы не зареветь от собственного бессилия.
— Спрашивает! — захихикал Телок. — Коля, объяснить ему, что ли?
Колька Фикс сказал:
— У тебя железо есть?
— Ага, — обрадовался я, думая дешево отделаться от них. — У нас во дворе за уборной много валяется… даже кровать есть… только она ржавая…
Мальчики заржали:
— Вот дурак! У тебя русским языком спрашивают: есть железо или нет?
Тут я понял, что разговор идет о деньгах и молча вывернул карманы. Кроме тетради с буквами, там ничего не нашлось. А карточки я держал в руке.
Мальчишки разочарованно порвали мою тетрадь и швырнули обрывки в лужу.
— Как же ты смеешь ходить по моей улице, да еще с кобелем, не имея железа?! — грозно спросил Колька, и сердце мое подпрыгнуло и упало от ужаса.
— Ладно, — смилостивился Колька, увидя, что я испугался. — На первый раз пропущу… Но кобеля заберу себе.
Оп стащил с себя ремень и, сделав петлю, набросил ее на шею Султана.
— Приветик! — крикнул Колька, и вся орава с криками и смехом потащила Султана за собой.
Султан рвался от них. Но петля сдавливала его шею, и он поневоле скакал на своих трех лапах за мучителями.
Он прыгал, пытаясь повернуть ко мне морду: где же я? На миг я увидел его черные расширенные от ужаса глаза, и меня словно толкнуло:
— Пацаны! — крикнул я и побежал за ними.
Они остановились.
— Пацаны, — сказал я, — отпустите собаку. Зачем она вам?
— А что дашь? — спросил Колька.
Думать было некогда.
— Вот! — Я протянул потные карточки.
Колька вырвал их у меня и, скинув ремень с шеи Султана, толкнул его ко мне:
— Целуйся с ним!
Ярость ослепила меня. Я швырнул кулак в его хохочущий рот, и Колька захлебнулся болью и криком.
На меня накинулись, смяли, швырнули на землю. Моя рука подвернулась. Что-то хрустнуло. И красные круги замелькали в глазах.
Боль
Плача, я пришел домой. Боль была во всем теле. Правая рука стала непомерно тяжелой. Она тянула меня к земле. Хотелось лечь и лежать долго и неподвижно.
Не раздеваясь, я свалился на кровать и с ужасом думал, что придется снимать пальто.
Рука горела. Казалось, она заполнила весь рукав, и всякое прикосновение к ней вызывало боль.
— Что с тобой? — испуганно и растерянно спросила бабка.
— Рука, — дернулся я.
— Поднимись, я сниму пальто…
После мучительных усилий сняли пальто. Рука сильно опухла.
— Ох, господи, как же ты так?! — спросила бабка.
— Упал, — соврал я.
О карточках промолчал.
Я снова лег, гримасничая от боли.
Бабка суетилась, меняла холодные компрессы, охала:
— Где же Надя?
За окном быстро темнело. Вечер. Мать задержалась на работе.
Бабка успокаивала и себя и меня:
— Ты не волнуйся… Это, наверное, вывих. Если бы ты сломал руку, было бы иначе…
Как иначе — она не сказала. Но я понял, что рука у меня сломана.
Я впал в странное полуобморочное состояние — полусон, полубред. Все было и отчетливо и нереально. Вроде бы комнату разделили на две части, и одну я видел отчетливо, а другую как сквозь дымку сна.
Бабка непрерывно ходила взад и вперед по комнате. И, когда она пересекала невидимую границу между сном и явью, мне казалось, что она раздваивается. И две старухи устало бродят по комнате, ищут друг друга и не могут найти. Мне становилось жутко. Мне хотелось кричать. Но боль стискивала горло, и только слезы сами собой катились и капали на рубашку.
— Что это вы без света сидите?
Это пришел Николай Палыч.
Бабка стала ему рассказывать о случившемся.
— Эх, юноша, — сказал Николай Палыч. — Руки надо беречь.
Не помню, что я говорил ему, знаю, что с его приходом боль вдруг стала невыносимой.
Бабка зажгла коптилку, и Николай Палыч принялся осматривать мою руку.
— Больно? — спросил он, осторожно дотрагиваясь до руки.
Меня словно дернуло током, и я закричал, вернее, завизжал от боли.
Николай Палыч сильно испугался и сказал:
— Ничего, бывает хуже.
Рука пылала. Я подумал: а вдруг загорится рубашка?
Продираясь сквозь мучительные приливы и отливы боли, я нетерпеливо чего-то ожидал. Это ожидание томило меня. Я никак не мог понять, чего я жду. Мне вдруг показалось, что я забыл самое главное, и от этого боль становилась сильнее и сильнее. Я никак не мог уловить мысль, не дававшую мне покоя. Казалось, она близко, и я вот — вот поймаю ее, но мысль ускользала. И я опять мучительно думал, что же мне нужно вспомнить.
И только тогда, когда пришла мать, я понял, что все время думаю о карточках. Меня бросило в жар. И не потому, что я боялся наказания, просто мне стало страшно, как же мы целый месяц будем сидеть без хлеба?!
Мать кинулась ко мне. Целовала. Плакала:
— Сыночка мой, сыночка!
О карточках никто не вспоминал.
Мать сразу засуетилась:
— Надо идти в «скорую помощь».
— Не пойду, — заныл я. — Спать хочется…
Мне действительно хотелось спать. Я судорожно зевал. «Спать, спать», — билось в мозгу.
Но мать была неумолима:
— Одевайся.
— Не пойду! Завтра…
Тогда меня стали уговаривать.
— Я тебя завтра на самосвале покатаю, — пообещал Николай Палыч.
— Не — е…
— Я тебе леденцового петуха куплю, — пообещала мать.
— Не надо! Хочу спать. Не пойду!
Бабка оказалась хитрее всех. Она сказала, что врач «скорой помощи» всем больным, которые приходят к нему на прием, дарит интересные книжки с картинками.
— Так уж и дарит?! — недоверчиво протянул я.
— Обязательно! — подтвердил Николай Палыч. — Закон такой! А иначе, какой интерес было бы туда идти?!
От книг я никогда не отказывался. Их было мало, а с картинками — тем более. И достать их было трудно. Да и негде.
— Ну тогда…
И на меня стали надевать пальто. Его надевали со всеми предосторожностями. Но все равно я вздрагивал, когда рука ползла по тесной трубе рукава. Наконец пальто надели. Мать застегнула меня на все пуговицы и еще обмотала старым шерстяным платком — чтобы не продуло. От платка мне так и не удалось отделаться.
После нашей плохо освещенной комнаты улица показалась мне совсем темной и мрачной.
Спотыкаясь, мы вылезли на гору и среди развалин поплелись в сторону центральных улиц. О фонарях тогда и не мечтали, а свой фонарик Николай Палыч забыл дома. Так мы и плелись вчетвером: мать, бабка, Николай Палыч и я, спотыкаясь о камни и мечтая выбраться на ровную дорогу. Развалины наплывали справа и слева. Темные, выщербленные стены то надвигались, то отступали. И мне начинало казаться, что развалины дышат, хрипло, надсадно и вот — вот набросятся на нас, маленьких, слабых человечков, нарушивших тишину руин.
«Скорая помощь» находилась на другом конце города. Пока мы до нее добрались, прошло немало времени. Спустившись по темной лестнице, мы очутились в ярко освещенном помещении. Это было нечто вроде приемной. Николай Палыч заглянул в другую комнату, и через секунду я уже стоял перед врачом — веселой, полной женщиной.
— Терпи, — сказала она. — А если будет очень больно — кричи во все горло.
Она потянула меня за руку. Я только кряхтел. Все боялся рассердить врача и не получить книгу.
Наконец руку уложили в лубки, и мне стало гораздо легче.
— А ты молодец, — заулыбалась женщина. — И не крикнул.
Я тоже заулыбался:
— Да, тут закричи! Небось книгу тогда бы не дали?
— Какую книгу? — удивилась женщина.
Бабушка ей что-то быстро зашептала на ухо.
— Ах, да. Чуть не забыла!
Женщина вышла и вернулась с книгой, немного потрепанной, но зато с картинками. Я схватил книгу, крикнул спасибо и, спотыкаясь на каждой букве, прочитал название: «Приключения Тома Сойера».
Лишь спустя много времени я узнал, что бабка принесла книгу с собой и попросила врача отдать ее мне.
В обратный путь мы двинулись, лишь когда начало рассветать. Утро было туманное, и у нас слипались глаза — так хотелось спать.
Развалины выплывали из тумана, но они уже не казались такими страшными и угрюмыми, как ночью. Я еще подумал — и чего это я их боялся?
Когда я нырнул под одеяло, на меня вдруг теплой волной хлынуло предчувствие счастья. Я уснул улыбаясь.
И лишь когда мать разбудила меня, чтобы идти в больницу, я понял, что предчувствия не всегда исполняются.
Гипс
— Ну, пошли, — говорит мать.
Ранним утром мы идем в больницу. Надо положить руку в гипс.
Конец октября. Резкий ветер. Голые деревья. И мы идем в больницу, чтобы мою сломанную руку положили в гипс.
Две тоненькие дощечки, между которыми дремлет боль, называются лубками. Если их снять, боль проснется. И я очень боюсь того момента, когда снимут лубки, чтобы положить руку в гипс.
— Вот одному мальчишке тоже сломали руку, — говорю, — и ничего. Срослась. И в гипс не клали… В лубках проходил, и ничего, срослась…
Мать молчит, и мы приходим в больницу. «Гипса нет! Подождите главного». Ждем. Целый день ждем. Главный: «Гипса нет. Я все прекрасно понимаю! Да, да. Рука сломана… Но гипса нет. А где достать, не знаю… Разумеется у нас больница, а не что-нибудь такое! А гипса нет! Потрудитесь выбирать выражения! Здесь вам не базар! Что?! У всех мужья погибли!»
И мы идем домой.
Мать впереди, я сзади.
А зря она сказала про отца. И почему она решила, что он погиб?! А вдруг мы придем домой, а он дома. И говорит: «Эх, вы, спекулируете мной! А я-то думал! Эх, вы!» А главный — тоже хорош! Подумаешь — гипса нет! Вот был бы я генералом, пришел бы к нему. Выкладывай гипс! Он бы тогда не очень-то орал! Выложил бы да еще спасибо сказал, что цел остался…
— Отказали вам? — спрашивает бабка.
— Отказали…
— Оно и правильно: бедному жениться — ночь коротка.
— Просто гипса нет…
— Кому нет, а кому есть. Так всегда было… И в мирное время, до революции, богачи жили, а бедняки терпели. И сейчас так же, бедный куда ни кинь — всюду клин!
— Ничего ты не понимаешь, — сказала мать. — И глупости говоришь. Война ведь! Всем очень трудно, не нам одним…
Бабка поворчала — поворчала, потом сказала:
— Это правда, всем сейчас тяжело, потому война как… И гипсу этого опять же нет… Да вить только мальчонку оттого не легче. У меня сердце кровью обливается, на него глядючи… А может, его к бабке свести? Заговорит. Она одному военному зубы заговаривала. Вмиг прошли. А военный тот — не нам чета. Представительный такой мужчина. Все зубы, как один, золотые. А болят! Ведь, скажи пожалуйста, золотые, а болят! Спасу нет. А та бабка — вмиг заговорила. Налила в блюдечко святой водицы, пошептала, подула, на военного брызнула. Он и ожил. Вот ведь как, дочка…
— А эта бабка — колдунья? — спрашиваю.
— Не скажу… Но слух такой был. И в медицине — толковая.
Мать, конечно, отказалась идти к знахарке. А жаль! Я ведь страх как люблю фокусы! Может, и сам чему-нибудь научился б. А потом ребятам показывал. А то Сенька меня раз обманул. «Хочешь, говорит, фокус покажу?» — «Хочу», — говорю. «На, говорит, тебе бумажку, жми ее, дави как хочешь. Я ее потом в момент расправлю. Будет как новенькая». Я и поверил. Взял бумажку и давай ее комкать, тереть — чуть не порвал. Ну, думаю, ни за что Сеньке ее не расправить. «На, говорю, расправляй». А Сенька бумажку взял, дико заржал и говорит: «Спасибо, есть теперь чем подтереться!» Так разве это фокус?! Я его одному семикласснику показал, так он меня чуть не пришиб…
После длительных разговоров о гипсе Николай Палыч решил, что, пожалуй, лучше всего пойти в госпиталь и попробовать достать там.
На другой день он отвез нас с матерью туда на своем самосвале. Но и там мы потерпели неудачу. Мать долго с кем-то говорила, умоляла, спорила, но так как я не был военным, гипсу не дали.
Мы шли по длинному, бесконечному коридору, и мать в бессильной ярости ударила кулаком о стену и заплакала. Так она и шла, плача и не вытирая слезы. А мне почему-то было мучительно стыдно, и я все вертел головой — не идет ли кто, и боялся, что кто-нибудь увидит, как плачет мать. И, как назло, вывернулся какой-то. Он был в больничном халате, небритый, огромный. И очень быстро двигался на костылях. Левой ноги у него не было.
Он посмотрел на мать и остановился:
— Простите, что лезу не в свое дело, но, может, смогу чем помочь? Почему вы плачете? Муж здесь лежит?
Мать даже не остановилась. Он поймал ее за руку.
— Послушайте, не сердитесь. Я ведь просто подумал, что, может, могу вам чем помочь…
— Никто мне не поможет, — выдергивая руку, сказала мать. — Во всех больницах не нашлось какого-то жалкого гипса. А у мальчика рука сломана…
Огромный человек дернулся, будто его ударили…
— Идемте, — выдохнул он и бешено застучал костылями по коридору.
Мы с матерью, ошеломленные, невольно пошли за ним.
Он ворвался в кабинет главврача и закричал седому, печальному человеку, поднявшемуся нам навстречу:
— Развели бюрократию, тыловые крысы! Сидите здесь, а мы там… Дерьмового гипса не нашли! Да подавитесь вы им! Гады! А пацан без руки из-за вас останется… Да за такие штучки!..
Он говорил надрывно, бессвязно. Костыли так и прыгали в его руках. Главврач спокойно и, как мне показалось, равнодушно смотрел на него. Наконец раненый выдохся.
— Вы все сказали, Назаров? — спросил главврач. — Покажи руку, мальчик…
Мать сняла «шины». На руку жалко было смотреть — такая она была распухшая и синяя.
— Вам надо было сразу прийти ко мне, — сказал главврач.
— Я не знала, — начала оправдываться мать.
Но он уже кого-то вызвал, меня куда-то повели, и вот уже рука лежит в гипсе, спокойно и хорошо.
Мать стала прощаться и благодарить главврача.
— Зайдите с мальчиком через месяц — снимем гипс. А благодарите не меня, а его.
И он указал на Назарова, который стоял в уголке и, потихоньку покуривая в кулак, виновато поглядывал на главврача.
— И не курите. Что вы мне обещали?
Это уже относилось к Назарову.
Мы пошли. Назаров проводил нас до выхода.
— Огромное вам спасибо, — сказала мать. — Никогда не забуду… Вы обязательно приходите к нам, когда поправитесь.
Она написала адрес на клочке бумаги и отдала его Назарову.
— Обязательно приходите, — повторила мать, и мы залезли в машину.
— Спасибо… Возможно, зайду… Когда поправлюсь…
Николай Палыч с мученическим видом сидел в самосвале и курил папиросу за папиросой. Ни слова не сказав, он бешено рванул машину с места. Я оглянулся. Огромный добрый человек стоял в дверях госпиталя и улыбчиво смотрел нам вслед.
Николай Палыч долго — долго молчал и подчеркнуто обращался только ко мне. На мать он даже не смотрел. Видимо, он обиделся на нее за то, что она так долго говорила с Назаровым и еще пригласила его в гости.
Рука под гипсом страшно чесалась. И когда дома я сказал бабке об этом, та успокоила меня:
— Заживает.
Наконец я решился сказать матери о потерянных карточках. Она махнула рукой:
— Проживем как-нибудь…
Наверное, после всех этих страшных мытарств ей было не до карточек.
Вечером я лежал в постели и рассматривал картинки в «Сказках» Андерсена и «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена. Было тихо — тихо. И на душе у меня было спокойно. И непонятная радость переполняла меня. А когда я заснул, мне приснился маленький добрый человек — волшебник Андерсен и веселый мальчишка Том Сойер.
С главврачом я так больше и не встретился. Когда через месяц снимали гипс, я услышал от санитарок, что он уехал на фронт с санитарным эшелоном и погиб во время авиационного налета.
Мой друг Сенька и другие
Я и не знал, что у меня столько друзей. Пришли почти все ребята из нашего касса. Их притащил Сенька.
— Ну, говорите чего-нибудь, — сказал Сенька. — Развлекайте…
Говорить было не о чем. Ребята сидели, скучали, бормотали…
— Ну как, лучше себя чувствуешь?
— Ага…
— А мы алфавит закончили…
— Ух, ты!
— Буквы пишем… Приходи скорей…
— Приду…
— Ну мы пошли… Пока.
— Пока.
— Поправляйся.
— Поправлюсь.
— Всего…
— Всего…
Когда они ушли, Сенька недовольно пробурчал:
— Тоже мне — развлекатели! Так — мелкота. И говорить-то не умеют.
— Чего ты на них?
— Да так. Надоели… Пока уговаривал их прийти, язык заболел. То одному некогда, то другому, то мамочка не пускает: «Куда идешь? А может, у него болезнь заразная?» Мелкота, словом… Вот у нас в классе ребята! Друг за дружку держатся. Друг дружке помогают. А говорить начнут — не наслушаешься! А у вас, так — тупари одни!
— Давай загинай! Знаю я ваш класс!
Сенька страшно злился, но все равно ходил ко мне каждый день. И все рассказывал разные необыкновенные истории, вроде бы с ним случившиеся. А когда я ему не верил, страшно обижался:
— Скажи спасибо, что у тебя рука сломана, а то бы…
И сейчас, много лет спустя, мы по — прежнему дружим с Сенькой. И по — прежнему он рассказывает мне всякие невероятные истории, вроде бы с ним случившиеся. И по — прежнему задирается, когда я ему не верю.
Назаров
В коридоре школы висел плакат. Улыбающийся солдат держал на руках ребенка. Внизу была надпись: «Он вернется с победой».
Я смотрел на плакат, и мне казалось, что однажды я приду домой и увижу отца. Он подхватит меня на руки и будет улыбаться, как боец на плакате.
Иногда я настолько начинал верить в это, что мне трудно было высидеть до конца занятий, и я убегал с уроков.
Я бежал по улицам, задыхаясь от ожидания. Но когда из-за угла наш дом выступал мне навстречу, я останавливался и понимал вдруг, что бежал напрасно.
Я подолгу стоял возле дома. Ветер надрывал луженое ноябрьское горло. Деревья стучали ветками, будто хотели согреться. Плакало небо, как старая женщина, поминая усопших. И я, наверное, плакал. Сейчас не помню. Да это и не важно. Главное, я понимал, что плакат — это плакат, не больше и не меньше. А война — это не только фильмы с обязательно счастливыми концами, но и бесконечное ожидание тех, кто уже никогда не вернется.
В тот день я тоже долго стоял возле дома. Я просто боялся заходить. Боялся потерять всякую надежду.
Так я стоял и смотрел в конец улицы, словно именно оттуда и должен был появиться отец. Улица была пустынная. Только далеко — далеко, в самом ее конце, медленно двигался мужчина на костылях.
Меня будто бы толкнуло, и я побежал к нему навстречу. Я узнал его. Это был тот самый человек из госпиталя, который кричал на главврача. Это был Назаров.
— Узнал меня? — спросил Назаров. — А я пришел к тебе чай пить… Не прогонишь?
— Да что вы! — заулыбался я.
— Дома кто есть?
— Ага… Все дома… И мама… У нее выходной сегодня…
— Значит, удачно я зашел, — засмеялся он. — Все в сборе.
— А мы вас давно ждем… Только вы все не идете и не идете…
— Лечили меня. Как видишь, вылечили…
Мы прошли в комнату. Мать стояла к нам спиной и что-то говорила бабке.
— Здравствуйте, — тихо сказал Назаров, и я не узнал этого огромного человека. Так он смутился и походил на застенчивого, растерявшегося мальчишку.
Мать обернулась.
И вдруг — о чудо! — мать засмеялась. Она засмеялась так, как смеюсь я, когда что-то меня обрадует.
— Здравствуйте, — сказала мать.
Она близко подошла к Назарову и пожала руку.
— Проходите… Садитесь…
Назаров застенчиво улыбался:
— Да я на минутку…
— Нет, нет, раздевайтесь… А это мама. Знакомьтесь.
— Очень приятно, — сказала бабка. — А я вас совсем другим представляла…
— Наверное, вроде сумасшедшего, — засмеялся Назаров.
— Что вы, что вы! — смутилась бабка.
Назаров повесил шинель и обвел глазами комнату.
— Темно у вас…
— Темно, — сказала мать. — Слава богу, что хоть крыша над головой есть… Другие-то как мучаются! В землянках живут.
Наша комната — совсем темная. Единственное окно до половины заложено кирпичами. А крохотный осколок стекла, вмазанный в кирпичи, дает так мало света, что часто даже днем, когда я готовлю уроки, приходится зажигать коптилку. Наша комната — совсем темная. Совсем. Но можно ли жаловаться, когда другие и этого не имеют? Даже крыши над головой. Даже такого крохотного оконца, как у нас?! Да никто и не жалуется! Просто так. К слову пришлось.
— А как вы поживаете? — спросила мать.
— Да так… Прыгаю. Живу пока при госпитале. Думаю работу найти какую-либо.
— А из родных у вас есть кто-нибудь? — спросила бабка.
— Никого, — сказал Назаров. — До войны жил с мамой — старушкой в Крыму, в Севастополе. Потом уехал… в летной школе учился. А перед самой войной мама умерла… Так что один — разъединственный по свету брожу.
— А как же вы теперь жить думаете? — спросила бабка.
— Не знаю… Пока воевал, все было ясно: драться до победы. А сейчас и не знаю, что делать… Как говорится, вышиб меня немец из колеи… Что я теперь? Инвалид! Гляну в небо — душе больно: ребята мои летают, а я по земле прыгаю. Вроде стрекозы, а только без крыльев…
Назаров долго рассказывал о себе. Он был летчик. Капитан. В начале сорок четвертого его подбили. Он выбросился с парашютом. Немец из пулемета изрешетил ему ноги. Одну отняли.
— Ампутация, — сказал он.
Как жил до войны…
— Это я уже вам рассказывал…
Жениться не успел. Вернее, не захотел.
— Слишком большая роскошь для летчика. Тем более для военного… Так вот и живу.
Бабка жалела.
— Бедный!.. Не горюйте, — говорила она Назарову. — Жизнь порой горче горечи. Не везет и не везет. А потом смотришь — и солнышко проглянет. Улыбнется счастье… И нет человека такого, кому счастье ни разу бы не светило. Ведь и жизнь-то так устроена: после горести — радость, как после ливня — солнце. И вам повезет…
Назаров не успел ответить — пришел Николай Палыч. Он так и застыл на пороге, увидев Назарова. Николай Палыч изобразил улыбку и закивал Назарову:
— А у нас гости, как я вижу. Будем знакомы…
И Николай Палыч без умолку начал говорить обо всем на свете: и о погоде, которая нынче не ахти какая, и о ценах на «черном рынке», и о том, где он работает и сколько получает, и о том, и о сем, и ни о чем. Особенно он нажимал на слово «мы». Мы, мол, одной семьей живем, мы, мол, сделали то-то и то-то, у нас, мол, все в относительном порядке — живем, хлеб жуем да на небо смотрим. А у вас, мол как?
— Да так себе, ничего, — сказал Назаров. — Как у всех, так и у нас.
Я слушал и удивлялся: почему ни мать, ни бабка не одернут Николая Палыча? И какая у нас одна семья? Он живет сам по себе, а мы сами по себе. Ну, приходит он к нам каждый день, так что здесь такого? Посидит, посидит да уйдет. Ведь соседи все-таки. Пусть ходит. Только зачем он за нас расписывается? Мы да мы. Говорил бы уж за себя… И чего его не одернут?
И мать меня тоже удивила. Я не узнавал ее. Она смотрела на Назарова и тихонько улыбалась. Я словно впервые увидел ее и поразился — такая она была красивая. Это была не обычная будничная красота, к которой я привык, — это была праздничная, яркая красота, какой я еще никогда не видел, и я поразился. И я подумал, что когда человек долго ждет счастья, и счастье вдруг приходит — он должен быть таким же необыкновенно празднично красивым, какой была тогда моя мать.
Наконец бабка догадалась позвать всех к столу, и мы сосредоточенно начали прихлебывать чай.
— Разве это чай, — пробурчал Николай Палыч. — Это ж не чай, а вода на сахарине…
Он пошел к себе и принес четвертку спирта.
— Вот и чай, — сказал Николай Палыч.
— Ну что ж, выпьем, — сказал Назаров.
Они выпили, и Николая Палыча понесло.
Он с ходу принялся излагать свою неповторимую теорию продления жизни. Бабка внимательно слушала.
— А что, Николай Палыч, кажись, какое-то новое средство открыли? — спросила бабка.
Николай Палыч оскорбился и отрезал, что его йод — самое последнее и новейшее средство. А все остальное — надувательство и шарлатанство.
Он говорил, а сам все поглядывал на мать и Назарова. Но они не замечали его взглядов. Они видели только друг друга. Все остальное мало их интересовало. Они не разговаривали, а сидели и молча смотрели друг на друга. Но даже я слышал их разговор. Даже я слышал слова, которые они не произносили. И мне вдруг показалось, что я иду полем на рассвете. И очень тихо, и прохладно, и сумерки лиловыми глыбами отваливаются от неба. И трава — высокая, росная, и запоздалые звезды лежат в траве. И я жду чего-то, жду. И томлюсь ожиданием. И ноги мои мокры от росы. И губы мои сухи от несказанных слов. И сам я — слово, еще не сказанное кем-то.
— …приходит муж, а жена с любовником, — донесся до меня голос Николая Палыча.
Он «выдавал» какой-то очередной анекдот. Мы с бабкой посмеялись из вежливости, и наступило молчание.
И вдруг мать и Назаров засмеялись громко и радостно. И было видно, что смеются они чему-то своему, о чем у них шел разговор без слов, а совсем не анекдоту.
Николай Палыч вздрогнул, поднялся и, бросив в пространство: «Привет!» — ушел. Никто его не задерживал.
Вскоре после него поднялся и Назаров. Мы с матерью пошли его провожать. На углу нашей улицы Назаров остановился.
— Спасибо вам, — сказал он матери.
— За что, Алексей Иванович?
— Спасибо… Тосковал я все дни… У вас побывал — отлегло от сердца…
— Вы к нам заходите… Почаще… Ведь и мы — совсем одни… Ни родных, ни близких.
— Горькая штука — одиночество. Человек без людей и себя потерять может…
— Я понимаю…
— Ну, Сергей, — сказал Назаров, — давай руку… А это тебе от меня на память. Всю войну, можно сказать, проносил.
И он протянул мне звездочку, которую солдаты носят на пилотках. И я взял потускневшую солдатскую звездочку, которая — как памятник всем погибшим в этой войне и как высшая награда всем, кто воевал и вернулся живым.
Когда мы вернулись, мать вдруг подхватила меня на руки и закружилась по комнате. И смеялась. И я смеялся. И бабка смеялась.
И вдруг мне показалось, что я снова бегу по полю. И горит надо мною громадное солнце. И травы — сухие, мертвые — путают ноги. И сердце сжимается — такое пустое поле. И нет никого. Только мертвые травы и цвелое рыжее солнце на пыльном небе. И я бегу и тоскую — так мне страшно. И тогда я вижу: далеко — далеко, на самом конце поля, — отец. Мне кажется, он идет мне навстречу. Но чем ближе я подбегаю к нему, тем яснее вижу, что он медленно уходит от меня.
«Папа!» — кричу.
А он уходит.
«Папа!» — кричу.
Уходит.
Не обернется. Не глянет. Уходит. В шинели. Худой. Длинный. Небритый. Уходит.
Я бегу, и кричу, и машу руками. А земля бешено вращается под ногами. И земля похожа на гигантское колесо, какие обычно стоят в парках и по которому надо бежать, не останавливаясь ни на секунду — иначе свалишься.
«Папа!» — кричу и останавливаюсь.
Колесо отбрасывает меня. Лежу — лицом в землю. Потом поднимаю голову. Отца нет. Ушел.
Мать кружит меня по комнате. Я вырываюсь из ее рук.
— Ты не знаешь, где у нас фотокарточка отца? — спрашиваю.
Улыбка исчезает с ее губ. Она долго смотрит на меня.
— Зачем она тебе? — спрашивает.
— Нужна, — говорю.
— Сейчас найду…
Мать долго копается в старых бумагах и письмах. Находит фото.
— Зачем оно тебе? — спрашивает.
— А разве тебе оно уже незачем?!
— Не смей говорить так! Что ты понимаешь в жизни?!
Молчу. Разглядываю фотографию. Не хочу говорить с матерью. Ненавижу ее. Всех ненавижу — и Назарова, и Николая Палыча. Что им нужно?! Чего они лезут?
— Что я тебе сделала?
Спрашивает! Другие матери ждут и с чужими мужиками не разговаривают. А она!..
— Почему ты молчишь? Что я тебе сделала?
— Ничего, — говорю.
И вдруг мне становится страшно жаль ее. И себя. И всех других пацанов, которые без отцов. И матерей — тоже жаль. А чем я им могу помочь?! А мне кто поможет?! Я молча разглаживаю карточку. Потом бабкиной булавкой прикалываю ее к стене над своей постелью. И отец смотрит на меня со стены задумчиво и печально.
Звездочка
Мой сосед по парте — Гнилушкин — удивительный малый. Когда он говорит, у него движутся уши. Как я ни пробую шевелить ушами — ничего не получается.
— Уметь надо, — говорит Гнилушкин, и уши у него шевелятся.
Это верно: надо уметь. А я многого не умею. Например, я не умею писать букву «я». А Гнилушкин умеет.
На уроке письма я страдаю. Надо написать целых пять строчек. Надо заполнить их от начала до конца. И все одной и той же буквой — «я». А у меня не получается.
— Слышь, — Гнилушкину говорю, — напиши строчечку.
— А чего дашь?
А у меня и нет ничего.
— Бесплатно и в театре не работают! Сам пиши.
А у меня не получается. Буквы то взлетают, то падают. Страх сплошной. Гад ты, Гнилушкин!
А учительница ходит по классу и в тетрадки заглядывает. В мою глянет — в обморок упадет! «Издеваешься? — скажет. — Сколько пропустил, а издеваешься. Не хочешь учиться — уходи из школы. На улице твое место, а не в школе». И начнет. Не возрадуешься. Будет мать тягать, чтобы она повоздействовала. А разве я виноват, что не умею писать букву «я»? «А разве я тебя не учила? — скажет. — Разве я не вбивала в твою дурацкую башку и „я“ и все такое прочее?!» Не отвертишься. А мать раскричится на всю школу и начнет на тебя воздействовать при всем честном народе. Ох и смеху будет!
— Напиши!..
— Нина Осиповна, что меня Васильев отвлекает!
— Васильев! Прекрати хулиганство!
— Да я разве — что?
— Опять ты пререкаешься. Долго мне с тобой еще спорить?!
— Да я — молчу…
На том и съехало.
Теперь еще об одном человеке — дружке Гнилушкина, а потом уже о звездочке, которую мне подарил Назаров. Сейчас расскажу, почему вышла такая история. Был в нашем классе мальчик — Славка. Ничего себе, подходящий. Я его отца как-то видел. Он в школу приходил. Толстый мужик. Майор вроде. А там, кто его знает, может, и выше, может, и генерал, я в чинах не разбираюсь. Так вот, у всех пацанов отцы на фронте, а Славкин дома отирается. И на войне-то не был. А так, просидел в тылу, пока другие воевали. И все об этом, конечно, знают. Но никто Славку и не упрекал. Разве, мол, он виноватый, если отец дерьмо. Только Славка в папку вышел, натура такая же. А так прикидывается своим. Только важничает сильно, а так — ничего. И пацаны ему завидуют. Даже не ему самому, а его костюмчику. А костюмчик у Славки был — по всем правилам военной моды. Прямо настоящий мундир, с погонами, с широким ремнем. А на ремне — настоящая кобура. Только пистолет — игрушечный. Славка в школу один не ходил. Его провожал и встречал папин шофер, который и по дому иногда прислуживал. Пожилой такой мужчина. Добрый очень. С пацанами ладил.
Как-то я опоздал в школу. Бегу, смотрю в коридоре стоит дядя Кирилл, так шофера звали, и старушка уборщица. И о чем-то о своем они разговаривают. Я когда ближе подошел, смотрю, дядя Кирилл в платок сморкается и плачет вроде.
Меня как по сердцу царапнуло — жаль его стало. И идти как-то неловко: еще чего подумают. Так и стою. Жду, когда они в мою сторону посмотрят. А они меня и не видят. Стоят себе и тихонько говорят о чем-то своем. И слышу, дядя Кирилл говорит:
— А Славка-то опять нажалился своему… Вроде я его сапожки плохо почистил… А тот-то как рявкнет: «Я тебя в штрафники упеку!» Скажет такое! Я сам намедни ему говорю: «Отпустите вы меня в действующую…» А он стоит — пузо вперед, и вроде и не слышит и не видит… И милости ни от него, ни от всей ихней семьи никакой не вижу… одна ругань…
— Горе-то какое, — вздыхает старушка. — Ужасть просто…
— А из деревни вести паскудные ползут… голодают… Я-то как-никак и одет, и обут, и в тепле, и сытый, а там как же…
— Ох, господи, тяжки кары твои, — снова вздыхает старушка.
— Да не расстраивайтесь… расстроил я вас… Нынче-то у всех — беды да печали…
— И когда ж конец-то проклятой?!
— Мой говорит, скоро. Вот до Берлина дойдем — и конец. А ему виднее, он при штабе…
— Да уж скорей бы!
— Будем в надежде…
Они так и не заметили меня, потому что прозвенел звонок, и ребята посыпались из классов.
Весь день я думал об услышанном разговоре. И так мне хотелось поколотить Славку, даже руки гудели. На последней перемене я все-таки не выдержал и стал на него задираться. А он:
— Чего ты, чего ты… Это ж брехня… Папе завидуют…
И все такое прочее. Словом, отвертелся. Я ему даже поверил. Так он врал здорово. Но, чувствую, он затаился. И обязательно мне насолит. Ладно, думаю, подожду, а там — посмотрим.
А я в этот день пришел в школу в новой рубашке и на ней звезда. Подарок Назарова. Хожу — задаюсь. Не у всех такие звезды есть. Хвастаюсь:
— Отец с фронта прислал!
— Заливай, заливай, — сказал Гнилушкин. — Небось выменял у кого-нибудь.
— Говорю, отец прислал.
— Кончай арапа травить, — влез Славка. — Твой отец убитый давно…
Тут Гнилушкин как рванет звезду, так и выдрал живьем с куском рубахи. Отбежал и дразнит:
— Поймаешь — твоя, не поймаешь — моя.
— Отдай, — говорю, а сам чуть не реву. Обидно. — Гады! — говорю.
А чего я с ними могу сделать, когда их двое, а я один. А тут урок начался. Гнилушкин сел со Славкой позади меня, и стали они шепотом на меня задираться. Я сначала терпел. Ничего, думаю, пусть только урок кончится. А они мне пообещали после уроков веселую жизнь устроить и стали перьями колоть. Раз укололи. Я ничего. Другой укололи. Я говорю: может, хватит? А они — гы — ы — и опять. Я подскочил да как врежу — сначала одному, а потом другому, так у них сопатки и расплющились. Я вообще крепкий малый. Тихий только. Но им я хорошо приложил. Хотел пройтись еще раз, да не успел. Учительница взвыла, как сирена, и вышвырнула меня из класса.
Стою в коридоре, переживаю. Попух, думаю. Да и думать нечего: ясно — попух! Вижу, Гнилушкин выходит и нос в кулаке держит. Чтоб кровянка не капала. Я ему:
— Звезду давай!
Он отдал.
А Славка так и не вышел. Наверное, я ему хуже смазал.
Книги у меня отобрали и без матери велели не приходить.
На другой день мать пришла в школу. А учительница уже нас ждет. И около нее стоит Славкин отец. И злость от него летит на три километра.
Учительница и слова сказать не успела, как он понес и меня и мать. Мать с ходу заплакала. Мне было ее страшно жаль. И в то же время ругал ее в душе за то, что она не может отпеть этому жирному крокодилу. А крокодил брызгался слюной и злостью. Так он меня перепугал, что я потом целый месяц боялся, как бы за мной не приехала милицейская машина. В общем, смысл его обвинительной речи сводился к одному: он, мол, воевал, кровь проливал, а его сына какой-то чуть не убил.
— Я всю войну — на передовых! — шумел крокодил.
— А почему же вы тогда живой? — спрашиваю.
Он так и захлебнулся и забегал своими крокодильими глазками.
На том дело и кончилось. Учительница и не рада была, что пригласила его на назидательную беседу. Это над такими, как моя мать, поиздеваться можно, а крокодилы — они тебя сами съедят, не опомнишься!
Подлость
В холодное ноябрьское воскресенье Назаров снова пришел к нам. Дома был я один. А мать и бабка поехали на толкучку, чтобы купить мне валенки.
Назаров посидел немного со мной, а потом пришел Николай Палыч и зазвал его к себе. Я сидел и скучал. Мать велела от дому не отходить и дом сторожить. А чего его сторожить, когда и украсть нечего! Но сказано — сиди, я и сидел. Одному всегда скучно. Из ребят никто не приходил. Даже Сенька про меня забыл…
Дверь в комнату Николая Палыча была приоткрыта, и я невольно слышал, о чем они говорят.
Николай Палыч. Слышь, все поговорить с тобой хотел…
Назаров. Давай говори.
Николай Палыч. Да вот, понимаешь, такое дело… Ты ведь не в курсе… И все такое…
Назаров. Выкладывай. Начал, так говори.
Николай Палыч. Ведь вот ты сюда ходишь, а не понимаешь, что из-за тебя семья распасться может…
Назаров. То есть?
Николай Палыч. Ну, мы с Надей вроде как муж и жена… Одним словом, живем с ней. А ты ходишь, людей смущаешь. А Надя — молодая, неопытная. Всем и всему верит. А ты ей голову кружишь… Ты пойми простую истину: ты ей не пара. Ты же калека… А у нее — ребенок.
Я заглянул в комнату и снова увидел того огромного бешеного человека, которого впервые встретил в госпитале. Назаров схватил Николая Палыча за борта пиджака и прохрипел:
— Молчи, слышишь, ты!
Он оттолкнул Николая Палыча и застучал костылями к выходу. Лицо его почернело от ярости. Стало совсем черным, словно внутренний огонь спалил его.
Я отскочил от двери и уселся за стол. Он вошел уже спокойный и очень бледный. И я не узнал его. Великан был сражен. Великан умер. Передо мной стоял поникший, усталый и очень маленький сломленный человек.
— Пойду я, — бесцветно сказал он, и мне стало не по себе, такой тоской и одиночеством повеяло.
— Нет, — сказал я и ничего больше не смог добавить. Мне даже хотелось, чтобы он ушел, — так мне было тяжело.
— Пойду я, — повторил он, и мне стало ясно, что он больше никогда не зайдет к нам. — Всего, — сказал он. — Как-нибудь увидимся.
Но я уже знал, что он никогда больше не придет к нам. И тогда я обхватил его руками, как если бы это был отец, и сказал ему:
— Папа, не уходи, папа!
И он вздрогнул, и дернулся, и прижал меня к себе, и какое-то слово пойманной птицей билось в его онемевшем горле. И когда птица вырвалась, я услышал:
— Сынок!
Так мы и стояли, не отпуская друг друга.
А Назаров все шептал и шептал это слово. И никак не мог остановиться.
И тогда я понял: он плачет.
Не хочу сидеть дома!
Я не ошибся. Назаров больше не приходил к нам. Мать удивлялась:
— Вчера встретила его на улице. Увидел меня. Перешел на другую сторону… Обиделся он, что ли? А за что?
Бабка качала головой:
— Эх, Надежда!
Мне было тошно сидеть дома. Когда я вспоминал Назарова, тоска сжимала сердце и хотелось бежать отсюда. Я брал с собой Султана, и мы подолгу бродили с ним среди развалин, уходили к реке и снова возвращались назад. А было холодно, и я стыл намертво, но все равно не шел домой. Я не мог никого видеть. Ни мать, ни бабку, ни Николая Палыча. Мне казалось, что я их ненавижу.
Николай Палыч все больше и больше лез не в свои дела, и матери это вроде бы как нравилось. Во всяком случае, она вроде бы считалась с его мнением.
— Опять у Сергея двойка! А все потому, что вы его балуете. Я, Надя, давно говорю, что здесь требуется твердая мужская рука…
В его словах, собственно, ничего такого не было, но я ненавидел его. И когда не хватало сил терпеть, я взрывался:
— И чего вам надо?! Что вы всех учите?! И вообще, кто вы мне? Отец?
Николай Палыч не спорил со мной и уходил в свою комнату. И тогда меня начинали воспитывать мать и бабка.
— Как тебе не стыдно! — кипятилась мать.
— Он старше тебя! — кипятилась бабка.
А я молчал. И уходил из дому. Я ждал зимы. Я тосковал по снегу. Мне казалось, что снег успокоит меня. Я ждал снега, как спасения. А от чего мне спасаться — не знал. В детстве многое гораздо проще. Осенью, в грязь и холод, тебя что-то мучит, и кажется, стоит пойти снегу, как все мгновенно исчезнет — и смутное беспокойство, и тоска, и все, все, терзающее тебя.
Каждое утро я просыпался, и тоска мучила меня, как неотступная тошнота. И каждое утро я ждал — снег! А небо было мутное и тяжелое, как лицо человека после долгой болезни. А небо ничего не обещало, кроме дождя. И ничего не случалось в моей жизни. И жизнь словно остановилась на мгновенье. И это мгновенье растянулось, замедлилось, как во сне, когда падаешь куда-то и летишь, задыхаясь от ужаса, и не можешь ни остановиться, ни прервать падение.
Каждое утро, едва проснувшись, я кидался к окну. Я смотрел во двор. А двор был черный, грязный, отчетливый и пустой. И снега не было. Я отходил от окна. Я одевался. Я шел в школу. И с утра начинал ждать завтра. И с утра думал, что завтра обязательно пойдет снег.
И каждый вечер я слушал скрипучий голос Николая Палыча, и каждый вечер задыхался от ненависти, и каждый вечер ждал завтра.
А снега не было.
И когда я уже не в силах был ждать, наступила зима. И пошел снег. И это было так странно, что я даже не удивился. И мне стало даже немного досадно, что пошел снег. Слишком долго я его ждал. А он оказался таким обычным!
Снег
Вот идет снег! Он идет, идет. Странный снег. Осторожный. Крупный. Звездами. Падает — тает. Первый снег.
Сначала были заморозки. И утром, когда я шел в школу, дорога была белая, будто ее посыпали сахаром. И дорога хрустела. И льдинки на лужицах — маленькие оконца, маленькие глазенки наступающей зимы.
Сначала была сырость. И туманы. И заморозки. И изморозь, как белая паутина, опутывала деревья.
А потом приходило солнце. И паутина с деревьев улетала. И дорога становилась черной. И зима прятала глаза.
Сначала была сырость. И туманы. Густые, как дым, — такие густые туманы. И когда утром я шел в школу по белой, хрустящей дороге, казалось, дома плывут мне навстречу — такой туман!
А потом пошел снег.
Снег — он пахнет зимой. А этот снег зимой не пах. Он пах сыростью, туманами, изморозью, чем угодно, только не зимой.
Первый снег.
Он падал на сырую землю и исчезал в ней. А земля открывала все поры, все отверстия — сыпься, мол, сыпься. Мне-то тебя и надо. Тебя-то я и ждала.
Вот идет снег, идет снег, идет снег. Час идет. Два идет. Три идет. Летят белые парашютисты. Летят, чтобы погибнуть. А все равно летят. И падают на мокрую землю. Черную землю. Теплую землю. И умирают. И снова летят. Снова. Без конца.
А земля лежит. Молчит. Тяжело дышит земля. Спокойно дышит. Смеется про себя: зря стараешься, первый снег. Где тебе со мною справиться?! Притаилась земля. Лежит — молчит. А снег, глупый, сыплется. Падает снег. Думает: победил я тебя, земля!
А земля молчит. Лежит. Дышит. Глубоко, спокойно. «Посмотрим, снег, посмотрим, кто кого. Ты — меня. Или я — тебя».
Снег идет. Идет снег. Целый день идет снег. Насыпал по колени. Радуется: моя взяла!
А утром — солнце.
Снег побежал, заплакал: «Обманщики! На одного — вдвоем!»
А земля смеется. Хохочет земля. Солнце — заливается.
А зима сидит за холмами. Прячется. Злится. Дуется. Как дунет! И снова — снег. Снег. Снег. Земля — в снегу. Солнце — в снегу. Город — в снегу. Дома — в снегу. Люди — в снегу. Сугробы. Снег. Снег. Снег.
Утром, когда я иду в школу, — снег. Днем, когда я иду домой, — земля. А в промежутках — туманы, сырость, изморозь. А потом снова — снег.
И наконец земля уступила. Великодушно уступила земля. Ведь и ей надоели туманы, дожди, осень. Ведь и ей нужно новое платье. Белое, крахмальное, подвенечное. Каждую зиму земля бывает невестою. И каждую осень — вдовою. Потому что каждую зиму приходит жених — Новый год, и каждую осень он умирает.
А земля — вечно юная, вечно прекрасная, вечно желанная невеста.
Апельсин
Я как-то не помню праздников. Честное слово, не помню ни одного праздника тех лет.
А может, их и не было?!
Впрочем, я ведь совсем не жалуюсь! Не я один. Многим ребятам моего поколения выпало тяжелое детство. Но даже такое детство — все равно детство. Со всеми своими радостями и печалями. И если я скажу, что в моем детстве совсем не было светлых дней, я солгу. Были такие дни. И когда они наступали, я забывал обо всем: и о войне, и о голоде, и о холоде. Но праздников, в широком смысле слова, я не помню.
Под Новый год я встретил Назарова. Он был в потертом кожаном пальто. Оно так и скрипело, когда он переставлял костыли.
— А не холодно вам? — спросил я.
— Холодно, — сказал он. — Да ведь я редко на улице бываю. Пока меня при госпитале держат. Вроде из милости, что ли… А у вас как? Все живы — здоровы?
— Все…
— А ты как, Сергей? Как успехи?
— Да тройки…
— А ты старайся.
— И так — во всю!
— Ну, раз ты стараешься, — вот тебе. Получай… — Он вытащил из кармана — яблоко не яблоко, в общем, какой-то желтый фрукт.
— А что это?
— Неужели не пробовал никогда?
— Не-е…
— Апельсин это.
— А его едят?
— Еще как! Это одному майору посылка пришла с юга — а там апельсины. Я ему говорю: слышь, Степан Фомич, подкинь-ка парочку. А он: на какой предмет? Нужно, говорю. Он пожался, но один дал. А я все тебя ждал. Думал, зайдешь. А сегодня решил уж сам к вам пойти. И хорошо, что тебя встретил…
— Спасибо… Так пойдемте к нам.
— Знаешь, Сергей, в другой раз… Устал я сегодня. Долго хожу… Ты лучше проводи меня немного.
Мы пошли потихоньку. Когда Назаров передвигал костыли, кожаное пальто его отчаянно скрипело. И снег хрустел. И я вдруг услышал запах апельсина. Запах был невероятный. Сумасшедший запах. Это был запах праздника. Вернее, всех праздников, которых никогда не было в моей жизни.
— Ты что это? — спросил Назаров.
— Так… Праздник скоро…
— Совсем… Новый год. Сорок пятый…
Да, это был запах Нового года. Запах праздника. А праздник пах апельсином.
Маленькое солнце, которое я держу в руке, называется апельсин.
Маленькое, круглое солнце. И оно — оранжевое. И если вдавить в него пальцы — брызнет сок. Солнечный, душистый, апельсиновый. А новогодний праздник пахнет апельсином. А апельсин — солнце! Если бы я мог, я дарил бы всем, кого люблю, апельсины. Всегда бы дарил. Всю жизнь.
И дома мать сказала:
— Апельсин!
И бабка сказала:
— Апельсин!
А Николай Палыч сказал:
— Откуда?
И я крикнул:
— Назаров дал! Чтобы я съел! Один!
— Никто и не просит, — сказал Николай Палыч.
— Никто и не дает, — сказал я.
Николай Палыч дернулся и ушел.
И мать не поругала меня за грубость. И долго молчала. И вздыхала. И как бы про себя сказала, что за такой апельсин можно выменять полкачана капусты.
И выменяла.
И бабка сварила щи. И я ел щи. А в щах плавало маленькое солнце — кружок моркови. И щи пахли апельсином. А апельсина я так и не попробовал.
Говорят, есть страны, где войны никогда не было. И солнце там вовсю лупится и жарит прохожих. А мальчишки — каждый день едят апельсины.
Только я что-то в это не верю.
Сватовство шофера
Я готовлю уроки по вечерам. При электричестве. И каждый раз, поглядев на лампочку, вспоминаю коптилку. Нет, я не выбросил ее. Разве выбрасывают старых и верных друзей? Спасибо тебе, коптилка. За все. За твой слабый свет. За ласковость. За доброту. Нет, я не выбрасываю тебя. Я прощаюсь с тобой. Ведь и старые друзья умирают. Прощай, коптилка. Я не забуду тебя. Но прошу, никогда не возвращайся в мой дом. Ни в чей дом. Так нужно. И ты это должна понять.
Тихо у нас. Тепло. А на дворе — мороз. Поземка. Ветер воет — у — у. Как волк, отбившийся от стаи.
В такие вечера Николай Палыч любил говорить:
— Нам вот тепло. А в окопах?! Ну, скажем, наши ребятки — привычные. Крепкий народ. А вот немцы мерзнут. Помню, в сорок втором тоже морозы стояли, ничего себе. Так фрицы, как бревна, валялись в степи.
Николай Палыч любил поговорить о войне и о своих подвигах. Когда я слушал его рассказы, я почему-то вспоминал Назарова.
Назарову не нравились такие разговоры. Он никогда не распространялся на военные темы, словно и не воевал даже.
Он будто боялся рассказов о войне.
А Николай Палыч дышать не мог без военных воспоминаний. Меня всегда удивляло это. И только теперь я понял, в чем дело.
Командующим всей нашей армии, которого Николай Палыч возил на своем «газике», оказывается, был интендантский полковник. Так что Николай Палыч, как говорится, проехал мимо войны.
Я думал, что и сегодня, в новогоднюю ночь, он будет кормить нас своими боевыми приключениями. Но все вышло иначе.
Николай Палыч поднял стакан:
— Пью за счастье.
Мать задумчиво смотрела на темное окно. Словно ждала кого-то.
Полночь. Новый год.
— Пью за счастье. А еще, бабуся, — сказал Николай Палыч, — официально предлагаю вашей дочери расписаться со мной. У меня намерения серьезные… Семью буду строить…
— Как Надя, так и я, — сказала бабка.
— А Надя не против…
Мать быстро взглянула на Николая Палыча и вдруг уронила голову на стол и заплакала. А Николай Палыч стал гладить ее волосы и что-то быстро — быстро говорить.
Я сидел растерянный, ничего не понимая.
Мать вскочила, оделась и выбежала из дому. Николай Палыч выскочил за ней. А бабка разволновалась и велела мне ложиться спать. Так и встретили Новый год.
Скоро пришла мать. Не раздеваясь, села к столу и долго так сидела.
— К нему ходила? — строго и печально спросила бабка.
— К нему… А госпиталь закрыт. И в окнах темно… Спят, наверное… — И плача выдохнула: — Не пришел!
Свадьба
— Нет, — сказала мать. — Не пойду за него. Не хочу…
— Трудно нам, — сказала бабка. — Без мужика — ой как трудно. А у тебя — Сережа. Я помру, как жить будешь? А Николай Палыч хоть и пустобрех, а все равно мужик. И домовитый. Все в дом тащит.
— Да разве в этом дело?!
— В этом не в этом, а кто тебя с ребенком подхватит? Кому ты нужна?
И мать промолчала.
Я ушел на улицу. Мне было невесело. Даже с Сенькой я поругался. Он надулся и ушел домой. А мне домой идти совсем не хотелось.
Стемнело. Сумерки неспешными шагами вошли в город. Они были тихие и печальные. Зажглись окна в домах. Сыпался крупный снег. Люди спешили. И никому не было дела до мальчишки, одиноко стоящего на улице.
— Пойдем домой, — сказал Николай Палыч.
Я и не слышал, как он подошел.
— Пойдем, пойдем, нечего мерзнуть.
Дома он вытащил из кармана огромный бумажный пакет и протянул мне:
— Американская помощь… Конфеты, тушенка и тому подобное. Бери, бери, это тебе. Бери, говорю!
И я взял. И подумал: «А он добрый». А для меня доброта — главное. Но когда я увидел, как просияла мать, глядя на нас с Николаем Палычем, мне стало страшно тоскливо и захотелось отдать назад американскую помощь. Все отдать, лишь бы он не женился на матери.
В последний день моих каникул состоялась свадьба. Народу было немного. В основном — соседи.
Пили, шумели, кричали «горько». Мать и Николай Палыч целовались. Потом стали танцевать. И мать закружилась с Николаем Палычем.
И тут пришел Назаров. Он был пьян и неестественно весел.
— Гуляем, — сказал он. — Что ж, все правильно…
Он покачнулся и близко подошел к матери. Опять я узнал в нем того бешеного человека. Опять костыли прыгали в его руках.
— Поздравляю вас, Надя. Конечно, я калека, не пара вам, но все равно скажу — люблю я вас! А вы…
Он задохнулся, махнул рукой и ушел.
В комнате стояла тишина. Только патефонная игла, дойдя до конца пластинки, яростно шипела.
— Танцуйте! — крикнул Николай Палыч, и все опять зашумели, закружились.
Мать вышла во двор. Она стояла под звездами в белой кофточке, маленькая и одинокая. Я смотрел на нее из темных сеней, и мне хотелось обнять ее и плакать вместе с нею.
Быстро вышел Николай Палыч, набросил на плечи матери пальто и обнял ее.
— Уйди, — тихо сказала мать.
И было в ее голосе такое отчаяние, что он не сказал ни слова и ушел.
Когда мать вернулась, я не узнал ее. Она снова была веселая и беззаботная. И смеялась, танцевала, пела.
И, засыпая, я слышал ее смех.
«Я — твой отец!»
Николай Палыч пришел в школу.
— Я Сережин отец, — сказал он классной руководительнице.
Они долго ходили по коридору, и она ему что-то пела.
Мальчишки из нашего класса толкали меня:
— Твой отец?
— Нет, — злился я, — отчим.
— А — а…
Дома меня ожидала взбучка.
— Учительница опять на тебя жалуется, — сказала мать.
— Хочешь вылететь из школы? — влез Николай Палыч.
— Отстаньте от меня! — заорал я. — А вам что, больше всех надо?
Николай Палыч побагровел и заметался по комнате.
Мать растерянно смотрела на меня.
— Что с тобой, Сережа?
Не помня себя, я уткнулся лицом в ее руки и заплакал.
— Ну что ты? Ну что ты, маленький? — говорила мать. А я плакал.
А потом вырвался от нее, лег на кровать и отвернулся к стенке. И не отвечал ни на какие вопросы.
Потом я заснул. Мне приснилось болото. И по болоту идут два солдата. И один — мой отец. А другого я как-то не вижу. Он ко мне спиной.
А потом отец упал. И другой выстрелил в него, и когда он повернулся ко мне, я узнал Николая Палыча.
И я побежал. А ноги не слушались. А он за мной и бормотал:
«Я — твой отец! Я — твой отец!»
Я закричал и проснулся.
А что скажет папа?
В комнате все было по — прежнему. Только Николай Палыч ушел куда-то.
— Мне сон какой-то приснился, — говорю матери. И рассказываю.
— Разве ты веришь в сны? — спрашивает.
Я молчу. А потом:
— А вдруг сейчас придет папа?
Я видел, что матери неприятен этот разговор, но не хотел молчать. Только теперь я понял, как невыносимо мне больно, что мать уже не ждет отца. А ведь я ждал его все время. Ждал, что во время свадьбы он придет, усмехнется, и вся пьяная компания и Николай Палыч исчезнут от его улыбки.
Мать устало проговорила:
— Нет, Сереженька, папа не вернется…
И тогда я закричал:
— Я хочу, хочу, слышишь, хочу, чтобы он вернулся! Это ты не хочешь, потому что забыла его! А я знаю, что он придет! Скоро придет! Как ты тогда посмотришь на него?
Мать медленно поднялась, оделась и горько — горько улыбнулась застывшей в дверях бабке. Жалость и любовь пронзили меня. Я почувствовал, что нет никого у меня дороже мамы. Пересохшими губами я прошептал:
— Мамочка, не уходи! Куда ты?
Мать ушла. Я долго лежал и молчал. Потом сказал:
— Бабушка, разве я виноват?!
Она не ответила.
И никто не был в этом виноват. Только война.
«Пока, Сергей!»
— Ну пока, Сергей, — говорит Назаров.
Мы стоим на оледенелом перроне. Позади нас торчат развалины вокзала. Впереди — обшарпанные вагоны. Назаров уезжает. Так он решил. Что я могу поделать?! Я его люблю. Но как я могу уговорить его остаться, когда он так решил?!
— Пока, — говорю. А сам плачу.
— Ну, чего ты, глупыш? — говорит. — Ну, чего ты? Ведь мы обязательно встретимся.
— Встретимся, — говорю. А сам плачу.
Я держу в руках чемоданчик. Его чемоданчик. Маленький. Легкий. Почти пустой. Там лежат бритва, мыло, полотенце и книга. Больше ничего. Только мыло, полотенце, бритва и книга. Нет у него ничего. Никого нет. Сядет он в вагон. Будет смотреть в окно. Будет молчать. Будет думать. Будет ехать. А куда — все равно. Кто его ждет?!
А я тебя буду ждать. Как папу жду. Так и тебя ждать буду. Потому что люблю. Как папу.
А может, не поедешь? Ну, не уезжай, не уезжай! Хоть бы поезд сломался. Или машинист напился. И ты бы не уехал. А потом вернется папа, и вы будете сидеть, курить и разговаривать. И вы будете друзьями. И втроем мы пойдем на рыбалку. Ты, я и папа.
Нет, уедешь. Знаю, что уедешь. И как уговорить тебя остаться? Скажи, как?
Стоим. Молчим. И сказать-то нечего. Глупые какие-то слова лезут:
— Едешь?
— Еду!..
— А когда там?
— Завтра утром…
Стоим. Молчим.
Он вдруг целует меня. Лезет в вагон. Я отдаю ему чемоданчик.
— Пока, Сергей, — говорит. — Ходи веселей!
— Пока, — говорю. А сам плачу.
Поезд дергается. Назад. Вперед.
Пошел!
Я бегу за вагонами. Кричу. Машу руками. Бегу, плачу — не уезжай!
— Пока, Сергей! — кричит. — Я тебе писать буду.
У — у-ду! — орет паровоз.
А я бегу. Я ничего не вижу. Бегу. Бегу. Не догнать.
Уехал.
Стою. Машу руками. Не уезжай!
Уехал.
Поезд далеко.
Скользко. Холодно. Ветер ледяной. Люди разошлись.
Один я. Чего стою? Чего жду? Ухожу. Оглядываюсь. Все не верю, что он уехал.
«Я тебе писать буду».
Но так он никогда и не написал.
Ненавижу!
Первым признаком близкого конца войны для меня было появление на улицах «собачника». Он ездил на скрипучей телеге, в которую была запряжена понурая облезлая лошадь. «Как до войны», — говорили старухи. Для собак настали суровые времена. Этот дядя, не считаясь ни с кем, ловил подряд всех собак — и тех, у которых были хозяева, и тех, у которых не было.
Всякий раз, когда «собачник» появлялся на нашей улице, я бежал домой и прятал Султана.
И вдруг Султан пропал. Я его всюду искал. По всей улице. Нету.
— Пропал Султан, — говорю.
— Придет, — говорит бабка. — Где-нибудь бегает…
А я боюсь: вдруг не придет?!
Вечером Николай Палыч — пьяный, веселый — смеется:
— Кобеля ищешь? А зря.
— Где он?
— У собачника спрашивай.
— Как?!
— Так. Бесполезным тварям нечего по земле бродить. Я и позаботился о твоем Султане. Пустил его на мыло. Хоть польза будет…
— Зачем ты его отдал? — кричу. — Гад! — кричу.
Страшно ругаюсь. Реву.
— Придет папа, он тебе покажет!
— Щенок! — бормочет Николай Палыч. — Я тебя в исправительную колонию сдам.
— Сволочь! — ору. — Убийца! Убийца!
Я не помню себя. Я выкрикиваю страшные ругательства. И чувствую странное облегчение, будто с каждым из них выскакивает кусок грязи, застоявшейся в моей душе.
— Щенок! — визжит Николай Палыч.
И бьет меня по лицу. Страшно бьет. А ладонь у него огромная и широкая, как лопата.
А я ругаюсь. Ругаюсь и кричу от боли.
И вдруг солнце в окне переворачивается и летит в меня. Или я лечу на него?! И солнце вспыхивает, рассыпается на куски и гаснет.
Когда я опомнился, мать держала меня на руках, а бабка прикладывала к моему лицу мокрое полотенце.
— Убийца! — шепчу. — Султан, Султан!
И кричу.
И плачу.
Никогда не прощу.
Всю жизнь буду помнить нелепую жестокость этого человека.
И сейчас помню.
А ему — что? Живет себе. Ест. Спит. Получает пенсию.
И сейчас живет.
И временами я забываю о своей ненависти и, когда пишу матери, передаю ему привет.
Колючий дым
Весть о победе пришла неожиданно — ночью. Меня разбудили голоса.
Я открыл глаза — комната полна людей!
Можно подумать, что весь дом собрался у нас. Что случилось?
— Победа, сыночек! — сказала мать. — Победа.
Так я и не заснул в эту ночь. Да и как можно заснуть, когда случилось то, чего я ждал так давно. Вернешься ли ты, отец?
Весь день я ждал, когда будет салют. Но его что-то не было и не было.
И мне стало почему-то обидно, что нет салюта. Я ведь так ждал его!
А вечером собрались соседи и решили прибрать наш черный, заросший бурьяном двор.
Мы с бабкой тоже убираем мусор, рвем старую траву, сваливаем все это в огромную кучу.
Сейчас вспыхнет огонь. Затрещит старая, сухая трава. И пламя запляшет и взовьется к звездам.
Я смотрю на слабые струйки огня. Они бегут по стволам сухих трав. Они будто ласкают траву. А потом сожмут в железных тисках и не выпустят, пока трава не сгорит. Как сквозь сон, до меня доносятся разговоры соседей:
— Вот и кончилась, проклятая!
— Дождались!
— Теперь сынок скоро из Берлина вернется.
— Слава те господи! Даровал нам победу!
— Сами взяли!
Дым щиплет глаза. Я тру их.
Знакомый запах. Колючий, колючий дым. Запах полыни. Какой знакомый запах. Полынь… Полынь… Я тру глаза. Колючий дым! Полыневый дым.
И мне кажется, что вся земля окутана бездомным запахом полыни — дымным запахом войны.
И я задыхаюсь в этом дыму. И продираюсь сквозь него, как сквозь густой кустарник. А дым лезет в горло, и нет уже сил бороться с ним.
— Воздуха! Воздуха!
— Дышать! Дышать!
И вдруг — когда уже я не надеялся на спасенье, — вдруг потянуло свежим ветром, и стало легко дышать, и дым растаял, и было необычно легко и весело снова увидеть землю — вечную и прекрасную, живую, и себя живого на ней.
И это была Победа.
Я пишу отцу
Я копался в старых книгах и тетрадях и нашел письмо. Оно было написано химическим карандашом, и буквы уже начинали расплываться. Это было единственное письмо отца. «Родные мои, — писал он, — целую неделю мы в пути. И писать некогда. Как вы там? Страшно волнуюсь. Как Сережа? Говорят, скоро мы пойдем в бой и, правду сказать, мне страшно. И не за себя, а за вас. Как вы там жить будете, если я не вернусь?! Надя, большая просьба, если сумеешь достать, то пришли мне трубочного табаку, а то махра надоела…»
— Мама, — говорю. — Письмо… От папы — письмо…
— Письмо?!
— Да, старое…
— Ах это…
Мать берет письмо и долго смотрит на потрепанный клочок бумаги.
— Да — а… — говорит она и опять смотрит на письмо. — Ты помнишь папу, Сереженька? — спрашивает.
— И помню, и не помню.
— А ты помнишь, как мы его провожали?
— Нет.
— Ты ведь был тогда совсем маленький. Был июль сорок первого года. Жарища плыла… И мы с тобой папу провожали. До леса. Там их полк стоял…
И вдруг мне показалось, что я припоминаю… В лесу было душно, и отец часто утирал пот с лица. Мы шли молча, а потом, когда до места оставалось совсем немного, отец сказал: «Присядем». И мы присели. А мимо нас проходили солдаты, и их тоже провожали. Хоть кто-то, да провожал. Не было без провожатых. Потому что через час этот полк должен был уйти в неизвестном направлении. Вот и мы провожали.
Потом отец поднялся. И мы — тоже. А он стоит. Не уходит. И вдруг упал на землю, вниз лицом, плачет. «Как же вы без меня будете?!» А потом ушел. И все оглядывался, оглядывался…
И с тех пор я его жду и жду, а он все не приходит, и не знаю, придет ли. Но жду. И пишу ему письмо.
Папочка!
Дорогой, милый папочка!
Где ты? Жив ли ты? Ищешь ли ты нас?
А мы ждем тебя. Мы верим, что ты вернешься.
Мы живем хорошо. И сейчас снова — солнце. И лето. И птицы. И дожди — теплые, свежие, ласковые. Только тебя нет. Когда же ты вернешься? Когда придешь?
А после дождя земля черная, влажная, живая. А когда идешь по ней, то остаются следы. И всякий раз после дождя я смотрю, нет ли твоих следов под нашими окнами.
А их нет и нет.
А куда тебе писать — не знаю. И не могу не писать. И вот я пишу. Пишу тебе письмо. А где ты — не знаю. А жив ли ты — не знаю.
Милый папочка, если даже ты инвалид, все равно ты нужен нам. Все равно — приходи. Потому что мы ждем тебя. Потому что всегда будем ждать тебя. И никогда не поверим, что ты мертвый.
Папочка, приходи, пожалуйста! Возвращайся с войны. Я жду тебя.
Твой сынок Сережа.Я беру письмо. Я делаю из него парус. Я пускаю кораблик.
А река — широкая. Солнце — огромное. А кораблик — маленький. И вместо паруса — письмо.
Я стою на берегу. Дует ветер. И кораблик летит по волнам. Навстречу солнцу.
А огромное солнце — низко. И к нему плывет мой кораблик. А ветер надувает парус. А парус — письмо.
Письмо к тебе, отец.
Я послал письмо отцу шестого августа тысяча девятьсот сорок пятого года. В этот день Америка взорвала первую атомную бомбу…
Эпилог
Я завидую мальчикам, у которых отцы вернулись с войны. Я страшно завидую им. Собственно, это не зависть. Это другое. Чувство, которое я не могу объяснить. В нем и боль утраты, и горечь несбывшейся надежды, и просто — зависть.
Я завидую вам, мальчики. Завидую, что ваши отцы вернулись. Завидую и радуюсь за вас и вместе с вами. Иного и быть не может.
И все же я жду отца. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что он погиб. Несмотря на то, что я знаю об этом.
Я жду. Мне двадцать шесть. И у меня сын. А я все жду отца.
Жду и жду!
Временами мне кажется, что он придет. Постучит. Войдет в шинели и сапогах. Громадный и молодой. Такой, как на фото. Скажет: «Здравствуйте. Я вернулся. А вы ждали меня?»
Поймет ли он, что, несмотря ни на что, мы ждали его? Я думаю — да. Он поймет. Он не осудит ни меня, ни мать — никого.
Я жду отца. Для меня он всегда такой, как на фото. Молодой и улыбающийся. Для меня он никогда не состарится.
Для меня война еще не кончилась, потому что мой отец не вернулся, и я его жду. И мне жутко подумать, что мой сын тоже будет ждать меня. И не дождется.
Это не просто боязнь смерти. Это тревога за будущее моего ребенка, тревога за всех сыновей, которые будут ждать отцов.
И снова я жду, жду, жду. И мне кажется, отец ищет меня. И, возможно, мы не раз встречались. Но не узнавали друг друга и проходили мимо.
Недавно я ехал в поезде. На одной станции я вышел из вагона и бесцельно побрел по перрону.
Подошел встречный поезд. Пассажиры хлынули в буфет, разбрелись по станции.
Я увидел высокого пожилого мужчину. Он медленно шел мне навстречу. Он шел так же бесцельно, как и я. А может, он тоже ждал, как и я.
Мы посмотрели друг на друга и прошли мимо. В его взгляде было ожидание. В моем — тоже.
Нелепая мысль — а вдруг это отец?! — толкнула меня, и я оглянулся. Мужчина тоже оглянулся. Глаза наши встретились, мы смутились, отвернулись, и он быстро ушел в свой вагон.
Мой поезд ушел в одну сторону.
Его — в другую.
Я стоял в тамбуре, курил и ругал себя: почему я не заговорил с ним?
Неодержанные победы
Глава первая. Трофеи
Тетка работала в кинотеатре повторного фильма. Там показывали старые картины, на них почти никто не ходил, потому что ленты, как и люди, стареют и умирают.
Осенью рано темнело, и, когда мальчик шел к тетке, уже зажигались фонари.
Он подходил к двухэтажному зданию, серому и не очень привлекательному на вид, поднимался по лестнице и видел, как у входа в зрительный зал стояла его тетка и проверяла билеты.
Зал почти всегда пустовал, мальчик мог занимать любое место, но тетка обычно усаживала его где-нибудь с краешку или, наоборот, позади, недалеко от входной двери, и, когда начинался сеанс, подсаживалась к нему.
Тетка была молчалива. Одинокие люди по — разному проявляют себя. Одни молчат, как тетка мальчика, другие жалуются на свои неудачи и во всех видят неприятных людей, от которых только и можно ждать какой-нибудь пакости. А тетка никому никогда не жаловалась на свою жизнь, ни с кем не советовалась, и вообще мальчику порой казалось, что она открывает рот, чтобы сказать: умойся, учи уроки, сходи за хлебом. Даже когда мальчик приносил в дневнике двойку, тетка только молча смотрела на него, молча закрывала дневник, молча уходила на кухню. И для мальчика это молчание было понятнее и тяжелее любого наказания.
Только однажды тетка сказала очень длинную фразу, это было два года тому назад, когда мальчик приехал. Ему было девять лет, и он приехал сам. Поезда везли его, гремя колесами и ревя сиреной, к незнакомой тетке, у которой он должен был теперь жить.
Он поехал к ней не потому, что ему хотелось, а потому, что умерла его мать, а отца давно не было. Отец ушел от них, когда мальчик только родился. Ушел и пропал, как пропадает одинокое облако в синеве неба. А когда умерла мать, соседи написали письмо тетке. И та прислала телеграмму: «Пусть приезжает». Она, наверное, не поняла, а может, даже и не знала, сколько ему лет, думала, что он уже большой и может сам ездить на поездах.
И мальчик поехал.
Соседи собрали деньги и попросили проводницу присмотреть за мальчиком и довезти его до самого того города, до самого того дома, где живет тетка.
И проводница смотрела за мальчиком, и он доехал благополучно.
Тетка ждала его на вокзале. Вещей у мальчика почти не было: маленький узелок, где лежали его рубашки, свидетельство о рождении и тоненькая пачка денег — вот и все. И когда тетка увидела его, она всплеснула руками, прижала к себе и, не то плача, не то смеясь, забормотала:
— Как же ты такой маленький доехал?
Мальчик сначала немного испугался ее сурового лица и всей ее худой и прямой, как палка, фигуры, немного оттаял и чуть сам не заплакал, потому что уже давно никто не гладил его по голове и не говорил ласкового «маленький».
Они с теткой пошли домой. Это было совсем недалеко от вокзала. И теперь ночами мальчик слышал, как переговаривались на путях маневровые паровозы, как стучали колеса больших составов, и это напоминало ему его долгое путешествие, которое он совершил сам и ничего не испугался.
Когда они пришли с вокзала, тетка ему сказала еще несколько слов. Но это были уже слова, похожие на теперешние, короткие и очень определенные: «Ну-ка, иди умойся». А потом они пили чай. Тетка пила чай с блюдечка. И мальчик, глядя на нее, тоже стал пить чай с блюдечка. А тетка только посмотрела на него молча и, когда он облил накрахмаленную скатерть, ничего не сказала, но он понял, что лучше пить чай так, как умеешь, никому не подражая.
Потом он понял еще многое. А сначала он долго привыкал к тетке, к ее дому, и ночами, когда слышал гудки паровозов, тоска забиралась ему в душу, и он плакал, кусая подушку, но плакал тихо, стараясь не разбудить тетку, спящую у противоположной стены. Плакал так, чтобы никто его не слышал. Это было большое горе мальчика. Горе, потому что не с кем было поговорить и не было мамы, которая хоть и наказывала иногда, но все понимала.
На другой день после приезда, рано утром, тетка ушла из дома, и, когда мальчик проснулся, в комнате никого не было. Он пошел по квартире, по коридору, зашел на кухню, посмотрел на газовую плиту — такой у них не было, когда они жили с мамой, — потом пошел из кухни опять по коридору и увидел дверь. Он открыл ее. Это была темная комнатка, в которой стояли старые вещи. Это был чулан. Чулан для старых вещей.
Мальчик постоял немножко, посмотрел на эти вещи и пошел назад в комнату. Он сел на диван, на котором спал, и сидел так некоторое время, сложив руки на коленях и опустив голову.
И когда пришла тетка, мальчик сидел, сложив руки на коленях и опустив голову, и глядел в пол.
— Ты умылся? — спросила тетка.
— Нет, — сказал мальчик.
Тетка ничего больше не сказала. Она достала из сетки две бутылки кефира и поставила их на стол, а рядом положила большой и продолговатый батон, похожий на крокодила.
Мальчик встал и пошел умываться. Он умывался медленно, думая о чем-то далеком и еще не ушедшем из его памяти. Мыло щипало глаза, а вода была ледяная и обжигала лицо.
Потом он утерся мохнатым полотенцем и пошел завтракать.
Начиная с этого дня, жизнь мальчика шла спокойно и размеренно, окруженная огромным молчанием вещей и тетки.
У него не было игрушек, и поэтому он сам придумывал себе игры. Тетка не покупала ему игрушек не потому, что она была жадная — это мальчик понимал, — и не потому, что у нее не было денег. Просто она не видела в них смысла, считала, что игрушки — утеха бездельников и дураков, а умным людям, вроде мальчика, лучше покупать книги с яркими картинками, а игрушек не надо.
Так тянулось время в пустой квартире. Тетка уходила на работу под вечер, а днем обычно была дома. Иногда они ходили с мальчиком в кино. Не в тот кинотеатр, где работала сама, а в другой, недалеко от их дома. Они ходили на утренние сеансы и сидели рядом. И мальчику хотелось, чтобы она хоть что-то ему когда-нибудь сказала. Но она ничего никогда не говорила.
И всякий раз, подходя к теткиной работе (а мальчик ходил туда редко, только тогда, когда ему было очень тоскливо), он думал, что вот сегодня тетка скажет ему что-то такое, а может, достанет из кармана какую-нибудь игрушку и даст мальчику. Но этого не случалось. Тетка сажала его в полупустом зале на свободное место, свет гасили, начинал трещать аппарат, и на экран выбегали буквы. Раньше мальчик плохо читал, а теперь буквы сами складывались в слова, потому что он уже почти закончил третий класс, и многие слова были ему очень понятны.
Здесь показывали старые фильмы. В них почему-то не перечислялись актеры и всегда шло маленькое предисловие из нескольких строк: «Этот фильм взят в качестве трофея…» И мальчик думал, что это за слово «трофеи». Он слышал и знал, что давно — по его понятиям двадцать лет — это огромный срок — была большая война с немцами, и мы их победили. И вот эти немецкие фильмы привезены оттуда. Но слово «трофеи» мальчик не понимал. Для него эта война была далека и непонятна, как для нас далеки и непонятны Пелопонесские войны.
И однажды был старый фильм. Утром тетка сказала:
— Хочешь посмотреть сегодня кино? Интересное.
И мальчик удивился множеству слов, а тетка странно улыбнулась. И мальчик сказал:
— Я приду.
А когда он сидел в школе, пошел дождь. Дожди в октябре не такое уж странное дело, но мальчику показалось, что дождь пошел специально, чтобы помешать ему посмотреть этот фильм.
Дождь лил весь день. Мальчик приготовил уроки и сидел, дожидаясь, когда наступит половина пятого, чтобы пойти к тетке. Дождь бубнил за окном. Капли текли по стеклу, начинало смеркаться, и мальчик поеживался, предчувствуя, как холодные капли осеннего дождя попадут ему за воротник и пробегут по телу.
Когда большая стрелка часов подошла к шести, а маленькая застряла где-то около пяти, мальчик вышел из дома. Лил сильный и неутихающий дождь. Он бил об асфальт, и в воздухе стоял ровный и однообразный гул. Мальчик побежал в струях дождя, рассекая водяные полосы, разрывая монотонный шум. Дождь лил, а мальчик бежал по тротуару и боялся, что вымокнет весь до ниточки и тетка скажет ему: «Иди домой».
Он вошел в клуб, поднялся по лестнице на второй этаж, увидел тетку и удивился: она была сегодня необычная — в своем лучшем, правда немодном, платье, как понимал мальчик.
Она стояла в дверях помолодевшая, похожая на смешную девочку, вернувшуюся вдруг из страны печали, где была превращена в сухую и молчаливую тетку. И когда она увидела мальчика, то на ее лице проступила улыбка, та затаенная улыбка, которую она все время сдерживала — ведь не было никого, кому бы она могла улыбнуться, а вот пришел мальчик, и появился повод для улыбки. И улыбка вылетела и застыла на ее подкрашенных губах, как яркая красная бабочка.
— А я думала, ты не придешь. Такой дождь на улице… Ты мокрый, наверное, совсем.
— Нет, — сказал мальчик, — я не промок. Это так… Сверху…
— Ну ладно, смотри только не простудись, — сказала тетка, как будто ее слова могли спасти мальчика от простуды.
Зал, как всегда, был полупуст. Тетка посадила мальчика и опять стала в дверях, дожидаясь, когда потушат свет. И вот свет потушили… Тетка быстро прошла в зал и села рядом с мальчиком. Он вдруг удивился: от тетки незнакомо пахло духами. Он потянул носом. А запах был ему удивительно знаком, приятен и радостен. Он вспомнил, что так пахло мамино платье, когда она уходила в театр. На мальчика навалилось что-то непонятно огромное, одновременно и печальное и радостное, и он почувствовал, что тетка ему такая же родная и близкая, как и мама. И ему захотелось ей сказать, как маме — «мамочка», — и прижаться к ней.
Он посмотрел на нее и увидел: глаза ее стали большие, а губы полураскрылись, словно тетка ждала что-то знакомое и очень ей дорогое.
Начался фильм, вспыхнула надпись: «Большой вальс», полилась музыка, и мальчик, уставившись в экран, привычно хотел прочитать: «Этот фильм взят в качестве трофея…» Но этой надписи не было, а шли имена актеров, а потом началось действие. Тогда он почувствовал, как рука тетки дотронулась до его руки, и он услышал ее шепот. Но разобрал только одно слово «Андрей». А ведь мальчика звали иначе!
И мальчик стал мучительно думать, и начал что-то понимать, но это что-то ускользало от него и никак еще не могло дойти до сознания.
А в зале звучала музыка, и на экране красивая женщина в белом платье и широкополой шляпе танцевала с композитором Штраусом большой вальс.
И снова тетка прошептала, и мальчик услышал: «Как это было давно!» И он понял: слова тетки были предназначены не ему. Самой себе говорила тетка, стараясь сделать воспоминание более живым и одушевленным и вызвать образ того, с кем она когда-то смотрела этот фильм.
Мальчик понял еще, почему тетка временами машинально смотрела на пустое место рядом и снова переводила взгляд на экран. Он понял, что она вдруг ушла в те дни, в те годы, в ту далекую и невозвратную страну — юность, и кто-то, о ком она шептала, сидит сейчас рядом с ней и смотрит этот фильм, который они, наверное, любили и видели много раз.
В этот день было три сеанса, и все три сеанса тетка смотрела «Большой вальс». На последнем сеансе она вдруг заплакала, встала и вышла из зала, а мальчик досидел до конца и вместе со всеми вышел в коридор и увидел, что тетка ждет его. Она молчала, как и прежде, и опять не было улыбки на ее лице. Улыбка улетела, словно бабочка.
Тетка взяла его за руку, и они пошли домой.
Дождь перестал. Мокрый асфальт блестел в свете фонарей. Было уже около одиннадцати.
Мальчик спросил:
— А почему сегодня не было написано «взят в качестве трофея?»
— Фильм не трофейный, — сказала тетка, — это американский, старый… довоенный.
— А что такое трофеи? — спросил мальчик.
— Да так, — сказала тетка, — Это то, что берут, когда побеждают. Мы победили фашистов и взяли какие-то фильмы в качестве трофеев.
— А это обязательно нужно делать, — спросил мальчик, — брать трофеи?
— Наверно, — сказала тетка, — я и сама толком не знаю.
— А эта война, зачем она была? — спросил мальчик.
— Война, — повторила тетка, — это трудно тебе будет понять. Подожди немножко. Когда вырастешь — поймешь.
Они замолчали. И уже почти у самого дома мальчик спросил:
— А тот… о ком ты думала, он тоже был на войне?
Тетка взглянула на него, а потом вдруг притянула к себе, но тотчас осторожно отстранила.
— Не спрашивай меня, мальчик, это было так давно… И лучше бы я не смотрела «Большой вальс». Это было так давно, мальчик, — сказала тетка. — Еще когда мы жили не здесь, а недалеко отсюда, в рабочем поселке. Сейчас туда ходит электричка. И ехать туда всего полчаса. И если бы я захотела, я могла бы поехать хоть завтра. И поезда идут часто. Полчаса туда, а через полчаса — новый поезд, обратно.
— А где он сейчас? — спросил мальчик.
Тетка промолчала, и мальчик подумал, что после большой войны, когда тот, кого любила тетка, приехал, он привез кучу фильмов, тогда еще новых, а теперь старых и никому не нужных, и он взял эти фильмы в качестве трофея и, наверно, какой-нибудь из них подарил тетке, а потом у них что-то произошло, так же, как у мамы с папой, и тот исчез вдруг, как исчезает облако, одинокое облако, утонувшее в синеве неба.
Дома мальчик молча пошел умыться перед сном. Он слышал, как тетка снимает свое самое красивое платье, как она вешает его в шкаф. А когда он вошел, она была уже в стареньком халате, на столе стоял чай. И они пили этот чай молча.
Глава вторая. Вещи
Среди ненужных вещей в чулане стоял клавесин. Рядом с ним — старое кресло с вытертым бархатным сиденьем. Это были вещи одного века — восемнадцатого. И хозяйка за совершенной ненадобностью, непригодностью и старостью снесла их в чулан.
Они стояли рядом друг с другом, и казалось, что сейчас войдет сюда, в темный чулан с пауками, великий маэстро Моцарт, сядет в старое кресло с потертой бархатной оболочкой, откинет крышку клавесина и начнет играть. И звуки раздадутся совсем как тогда, когда клавесин был молод, а это было двести лет назад, а может, и больше.
Но никто не входил в темный чулан, где стоял клавесин и старое кресло. Тут были еще и другие вещи: керосиновая лампа, щетка с вытертым до основания ворсом, клетка от птицы — птица, наверное, давно умерла или улетела — и много всякого другого. Вещи никогда не говорили друг с другом. Они как бы забыли даже свои названия, потому что некому было вспоминать о них. А ведь душа вещей — человек.
Лишь иногда, когда мальчик оставался дома один, он выдумывал игру в путешествие. Поднимался на борт своего корабля и, лавируя, плыл по длинному коридору из комнаты тетки. И было пустынно в этом проливе, и не было видно даже далеких островов. А кругом стояла глухая и бесконечная ночь. И потом, проходя мимо кухни и соседней двери, он поворачивал в узкий тупичок, который кончался чуланом. Это и было целью его путешествия.
Он входил в чулан и, постояв некоторое время, зажигал свет. И если в полумраке вещи были как бы к месту в чулане, то при ярком электрическом свете все менялось. Вещи, сложенные, брошенные как попало, словно смущались беспорядка и тихонько пытались спрятаться друг за друга, отступить куда-то в темный угол, но свет безжалостно освещал их, и они удивлялись своей беспомощности и ненужности.
Лишь клавесин весь в шрамах, ободранный и искалеченный клавесин, у которого звучало всего лишь несколько клавишей, стоял гордый, суровый и равнодушный к беспокойству вещей. Он словно оживал в эти секунды, не прятался от света, а, наоборот, радовался ему.
И кресло, стоявшее около него, тоже было спокойно. Креслу было все равно. Кресло было как бы мертвое. Оно еще жило, это кресло. Но его душа давно умерла, потому что душа вещей — человек.
В кресле сидела когда-то красивая девушка. Она ждала своего жениха. А когда он приходил, вскакивала, задевала кресло руками и бежала навстречу любимому. А потом девушка вышла замуж за этого человека, который был совершенно равнодушен к креслу. И спустя какое-то время в доме стало твориться что-то непонятное, и кресло чувствовало тревогу: хозяйка редко садилась теперь в него отдыхать. Потом муж хозяйки исчез, и кресло слышало, как плакала женщина. И теперь она подолгу сидела в кресле, которое было тогда совсем молодым, и писала письмо своему мужу — декабристу, как называли его люди, иногда приходящие в этот дом, куда-то далеко, далеко, где стояли страшные холода. И кресло слышало долгими ночами, как плачет хозяйка, как скрипит гусиное перо по бумаге, и кресло видело в слабом свете свечей, как хозяйка ходит по комнате и не находит покоя, и не может найти места в полутемных комнатах.
Больше кресло не любило ничего вспоминать, кроме той давней истории, которая была связана с ее юностью. И ничего кресло не помнило больше, кроме той прекрасной женщины, плакавшей в ночи и писавшей своему мужу в далекую Сибирь письма о любви. Ничего больше не хотело вспоминать кресло, потому что, когда умерла хозяйка — а она умерла совсем молодой и прекрасной, — креслу вдруг стало безразлично: сидит кто в нем или никто не сидит. Не стало души у кресла, потому что душа всякой вещи — человек. И кресло не обращало уже внимания на людей. Оно старилось, старилось и умирало, и все никак не могло умереть.
Мальчик подходил к креслу и тихонько забирался в него с ногами. Он любил старое кресло, чувствуя в нем странную доброту и покой. Он засыпал в нем, когда тетки не было дома. Кресло не чувствовало его тяжести. Креслу он был и безразличен и не безразличен. Он был не безразличен потому, что иногда мальчик дотрагивался рукой до клавиш клавесина — и вспоминались те мелодии, которые звучали, когда хозяйка была жива, и смеялась, и пела, и звуки были похожи на звуки старого клавесина. Звуки! Кресло помнило эти звуки. И это единственное, что оставалось в глухой и древней памяти дерева, которое никак не могло умереть.
А мальчик садился в кресло и протягивал слабые руки к старому клавесину. И сначала были мертвые клавиши, беззвучные, как онемевшие навсегда рыбы; и ничего не было слышно, кроме глухих стуков, как будто стучат костяшками о дерево. А потом вдруг палец натыкался на живую клавишу, и она вскрикивала, и она звенела, и она удивлялась, и она порхала в воздухе и танцевала, как маленькая красавица, сжившая после долгого сна. А потом шли мертвые клавиши и лишь стучали костяшки о дерево.
Это было похоже на проход по замерзшему мертвому городу сорок третьего года, когда нет снега и стучат твои ноги о мерзлый панцирь земли. И мальчик снова спешил по клавишам вперед, чтобы среди мертвого моря найти живые острова.
Когда раздавались звуки, клавесин просыпался. Он выходил из летаргического сна, заживали на нем шрамы и царапины, мертвые клавиши оживали, и звучала та музыка, звук которой похож на звон далеких колокольчиков. Клавесин рассказывал мальчику свою историю.
Был когда-то старый мастер. Все мастера старые. Никто не видел мастера молодым, потому что мастер рано стареет, ибо знание и мудрость делают человека старым, и никто никогда еще не видел ни одного мастера молодым. А все видели мастера уже старым, с бородой и трубкой в зубах. Мастер курил трубку и делал клавесины. Руки мастера, старые руки, очень многое знали. Они были такие же мудрые, как и сам он. И поэтому они знали, чего хочет мастер. Это был мастер, один из немногих, которые когда-либо жили на земле. Он сделал не так уж много клавесинов. Но эти клавесины жили очень долго, и на них играли великие музыканты.
Может быть, это сказка, а может быть, и правда, но прежде, чем меня привезли по долгому зимнему санному пути сюда в Россию, я был где-то там, далеко, где жил мастер, который делал клавесины, который был уже стар, когда меня сделал, а потом он умер. И где-то там однажды подошел человек небольшой, и руки у него были веселые, и они были легкие, эти руки, и в то же время очень сильные. Они были похожи на руки мастера, который меня сделал. Руки знали, чего хочет их хозяин. И когда он коснулся моих клавиш, я понял, что хотел бы всю жизнь только одного: чтобы хоть иногда он приходил и играл на мне, ибо я, как и каждая вещь, мертв без души, а душа всякой вещи — человек. Но такой человек, как великий маэстро Моцарт, единственный раз сыгравший на мне, такой человек не смог стать моим хозяином. А это всегда печально.
Мальчик любил сидеть в старом кресле и слушать рассказ клавесина. И хотя у кресла давно умерла душа — вместе со смертью хозяйки, — у клавесина душа, согретая прикосновением гения, была еще жива. И хоть молчали многие клавиши и струны были оборваны, те, что остались, несли вечную песнь добру, красоте и творчеству. И эта песнь была понятна мальчику.
Глава третья. Чужие мысли вслух
Когда у тетки бывал выходной день, она с самого утра начинала стирать. Брала белье, рубашки мальчика, простыни, шла в ванную и зажигала газ. Мальчик слышал гудение пламени, и ему становилось неспокойно. Пламя гудело грозно, тревожно, предупреждающе, оно как бы хотело вырваться из горелки и зажечь все вокруг чистым синим огнем. Тетка стирала белье. Она стирала до изнеможения, словно хотела уйти от каких-то мыслей, и только работа могла спасти ее от них.
Когда она стирала, руки краснели и набухали в мыльной воде; а после стирки тетка начинала прибирать в комнате. Она яростно подметала, мыла полы, вытаскивала во двор старенький коврик и выбивала его изо всех сил, словно била нечто живое, казавшееся ей опасным и страшным.
Однажды тетка, начав стирать, на секунду подняла голову, и мальчик увидел, что она плачет. Он шагнул к ней, но остановился, а она даже не видела его, опустилась на скамеечку и сидела, уронив голову.
Мальчик прошел в комнату и принялся за уроки. И ему было страшно смотреть на тетку. А тетка достала откуда-то толстую тетрадь, тетрадь была вся помятая и изломанная. И стала тетрадь эту листать, и она листала ее долго и медленно, вглядываясь в каждую страницу, а страницы были желтые, и на них прыгали фиолетовые чернильные выцветшие строчки. И тетка пробормотала:
— Сколько лет я уже не заглядывала в его дневник.
Она говорила вслух. Думала вслух. Мальчику показалось, что она обращается к нему, и он спросил:
— Чей дневник это, тетя?
И она машинально ответила:
— Андрея.
— А кто это Андрей?
— Просто так… человек… Андрей Николаевич…
— А где он сейчас?
Тетка промолчала, и мальчик подумал, что, наверное, он живет в поселке, в том самом, откуда тетка приехала в этот город, где она жила давным — давно, когда ей было столько лет, сколько сейчас мальчику, и когда она была той девочкой, которую однажды он увидел, когда они смотрели «Большой вальс». Тетка закрыла дневник, но он все равно раскрылся сам собою, и мальчик прочитал: «Дневник Андрея Петрова». И тетка пробормотала:
— Сейчас бы ему было на два года больше, чем мне.
Мальчик хотел спросить: почему «было», а потом подумал, что, наверное, этот Андрей Николаевич ушел от тетки, как от мамы ушел отец, и теперь живет в этом поселке, и даже не хочет заглянуть к тетке, а тетка любит его и поэтому плачет.
Тетка вдруг опомнилась, спрятала дневник и улыбнулась мальчику.
— Я, наверное, говорила какую-то ерунду, — сказала она. — Я даже не помню, что я тебе говорила.
— Да так, ничего, — сказал мальчик, — ничего особенного.
И тетка ушла стирать.
Мальчик посидел еще немножко, потом он вышел во двор и прошел по асфальтовой дорожке под аркой на улицу и пошел вдоль дома; а уже начинало темнеть, но это был еще не настоящий вечер, потому что небо светилось тускло, и фонари, которые зажглись в это мгновение, горели слабо, и их желтые морды почти сливались со светом уходящего дня.
Когда мальчик вернулся, тетка уже перестала стирать. Она приготовила чай, и они пили его в молчании. А потом тетка сказала:
— Я что-то устала. Пожалуй, я прилягу.
Она была очень расстроена, и мальчик подумал опять об Андрее Николаевиче и о том, что люди, наверное, очень жестоки друг к другу.
Ведь вот как получается: живет этот Андрей Николаевич совсем рядом с теткой, а не хочет к ней приехать. А тетка — ведь она очень гордая — никогда сама первая не пойдет к нему, а будет мучиться и ждать. А он может так и не прийти, потому что, наверное, он очень жестокий.
Потом мальчик достал книжку с цветными картинками. Это были смешные картинки, но мальчик даже не улыбнулся, когда смотрел их. Его клонило в сон, и он задремал, едва коснувшись подушки.
И ему приснился человек. Этот человек сказал:
«Я Андрей Николаевич».
И голос у него был спокойный и равнодушный — мертвый голос. Мальчик испугался и со страхом спросил:
«А зачем вы пришли, ведь я вас не звал».
«Ничего, — сказал Андрей Николаевич, — звал не звал, а я взял и пришел. И потом, не обманывай взрослых, ты сам говорил, чтобы я приехал к тетке. Вот я и приехал. А где же тетка?»
«Она спит».
«Ну сейчас мы ее разбудим», — сказал Андрей Николаевич.
«Не надо ее будить: она устала».
«Вот ты какой! — рассердился Андрей Николаевич. — Я приехал, а ты не хочешь разбудить тетку. Ну, тогда я уйду и больше никогда не приду!» — И он громко простучал по коридору и хлопнул дверью.
Мальчик рванулся за ним, а дверь не поддавалась. Но он навалился на нее и выскочил на лестничную площадку и крикнул: «Подождите!» Голос упал вниз, а потом взлетел вверх, и подъезд загудел: «Подождите». А внизу кто-то захохотал так ужасно, и мальчик почувствовал, что сердце у него не выдержит от страха, но он все равно еще раз крикнул: «Андрей Николаевич, не уходите!» — и побежал вниз. А внизу хохотал кто-то невидимый и страшный, и ужас переполнял мальчика, но он все бежал и бежал по лестнице вниз, туда, где смеялся невидимый, бежал, умирая от страха, и кричал: «Не уходите, не уходите. Я сейчас разбужу… разбужу…» А подъезд стонал от криков, и была пустота, и эта пустота была так огромна, так велика и всесильна, что мальчик понял: он не перекричит ее. И тишина скрыла Андрея Николаевича. А лестница вертелась у него под ногами, и тот невидимый уже не хохотал. И оттого, что он молчал, было еще ужасней. Мальчик почувствовал, что не выдержит, и тогда он проснулся.
Была ночь. Тетка спала. Мальчик сидел на диване, прижавшись спиной к стенке, и слышал, как сердце его тяжело и глухо ходит вверх и вниз. «Это был сон», — понял он и вздохнул с облегчением.
Глава четвертая. Лес
Каждое утро тетка отдергивала занавески на окне, и в комнату входил день. Каждое утро мальчик лежа смотрел, как входит свет в комнату, как тень уходит и предметы становятся четкими и ясными. Он подходил к окну и подолгу глядел вниз на улицу. Шли дожди, под ногами прохожих лежали мокрые листья, и иногда долетали гудки паровозов.
Как-то рано утром он сам решил отдернуть занавески и подошел к окну и некоторое время стоял, загадывая: будет ли солнце или опять будет дождь… Ему нужно было солнце, потому что было воскресенье, и он хотел поехать в лес. И когда он отдернул занавеску — он не сразу увидел солнце, но он увидел, что от их дома тянется большая тень, плотная и непроницаемая, а другая сторона улицы освещена ярким светом. И тогда он понял, что взошло солнце. Деревья внизу под окнами стояли неподвижно, листья на них были темные, и казалось, они уже заранее пропитаны желтым светом, хотя солнце еще не дотянулось до них теплыми руками.
Тогда мальчик запрыгал по комнате и закричал:
— В лес, я поеду в лес!
И тетка улыбнулась, но ничего не сказала. Немного позже он вышел во двор. Во дворе было пусто, но совсем весело смотрели понурые деревья, и они словно выпрямились и теперь, освещенные солнцем, горели багровым огнем последних листьев. И хотя солнце стояло совсем недолго, оно успело подсушить лужи, и грязь на тротуарах свернулась и исчезла, а ведь вчера был дождь и много людей прошло по асфальту.
Мальчик вышел к трамвайной остановке и стал дожидаться, когда подойдет пятый номер. Он ждал недолго, трамвай подошел, в нем было немного людей, мальчик сел у окна и стал смотреть, что делается в мире; а было воскресенье, было еще очень рано, и люди не торопились на работу, и поэтому многие еще спали, а кое-кто вышел просто так, посмотреть на осеннее солнце, на желтые листья, на осень, которая вошла в город. Осень была похожа на завоевательницу, примчавшуюся на рыжем коне, ворвавшуюся в город и затопившую его дождями, а потом смилостивившуюся и пославшую людям солнце.
Трамвай ехал медленно, словно и для него наступило воскресенье, и ему некуда было торопиться. Трамвай удивлялся: «Почему я сегодня работаю, когда все отдыхают», — и медленно полз через город, туда, где далеко — далеко был большой городской парк, который переходил в лес. Лес тянулся на многие километры, и не было ему ни конца ни края, и можно было и заблудиться в нем, и встретить волков. И где-то там — далеко в лесу, об этом рассказывали мальчишки, — проходила узкоколейка, и к узкоколейке выходили олени и встречали поезда, а из вагонов им бросали булки. Олени ели эти булки и кивали головами. Но мальчик не думал забираться так далеко в лес. Он просто хотел походить по парку и набрать желтых листьев для своего гербария. Все мальчишки и девчонки собирают осенью гербарии, и он поспорил с одним мальчишкой из своего класса, что наберет самых красивых листьев. И вот теперь он ехал за листьями в городской парк.
Когда трамвай дополз наконец до последней остановки и немногие люди вышли из вагонов, мальчик тоже вышел и пошел к воротам парка. Он поднялся по невысокой лесенке, прошел сквозь арку и побежал вниз под горку. Бежать было легко и радостно, и совсем близко вставал лес, освещенный солнцем, и было что-то ослепительное в желтых листьях, что-то необычное в самом лесе, который жил теперь осенней и невероятной, сказочной жизнью.
И мальчик вошел в лес. Навстречу ему шагнули деревья. Деревья были разные: одни — как колонны, прямые и высокие, другие — как старушки, согнутые и печальные, третьи — как молодцы, приземистые, и кряжистые, и сильные, и были еще деревья, просто тоненькие и хрупкие мальчики и девочки леса, и они весело бежали навстречу ему и кивали желтыми головами. И не было в лесу уже почти зеленых листьев, только одно дерево было совсем зеленое, и оно стояло гордое и молчаливое и даже не шелестело под ветром. А может быть, оно было просто печальное и завидовало другим, что они такие желтые и красивые, а оно зеленое и обыкновенное. Но мальчик подумал, что дерево — совсем не обыкновенное. Это летом, когда много зелени, оно обычно, а сейчас зеленое дерево было ему приятно, и он долго стоял около него, а потом сорвал листик и бережно понес его в руках. Так он шел неторопливо по парку и собирал листья. Листья были огромные и красивые, и листьев было много, и все их невозможно было собрать.
Потом он увидел, что навстречу ему идет девчонка. Она была маленькая, в красном пальтишке, и в руках у нее огромный букет листьев. И еще девчонка держала яблоко, большое яблоко. Она подбрасывала его вверх и ловила. Когда подбрасывала, то листья трепетали в ее руке. Казалось, она держит пламя, которое невозможно погасить.
Мальчик остановился и посмотрел на нее. Девчонка тоже посмотрела на него. И тоже остановилась. И они стояли, глядя друг на друга, не двигаясь с места. Потом мальчик пошел вперед, и девчонка тоже пошла ему навстречу. Мальчик прошел близко мимо нее, и они еще раз посмотрели друг на друга и отвернулись. И было что-то удивительно знакомое в этой девчонке, а что — он не мог сказать, только почему-то у него вдруг забилось сердце, но почему оно забилось, он не знал.
И они прошли мимо друг друга, а потом мальчик обернулся, и девчонка обернулась, и она вдруг кинула ему яблоко. От неожиданности он не поймал его, нагнулся и поднял яблоко, а когда посмотрел, то девочка уже бежала от него быстро, и ее красное пальтишко мелькало между деревьями, и бился над ней огненный букет, и этот огонь нельзя было ничем погасить.
Мальчик не знал, бежать ли ему за девочкой, догонять ли ее, и поэтому остался и долго стоял, держа в руках яблоко. Потом он присел на землю, положил около себя листья и яблоко и стал ждать: может быть, девочка вернется. Но она не вернулась. Он сунул яблоко в карман и опять зашагал в глубину парка, и букет его тоже стал похож на огненный факел, и этот огонь тоже нельзя было ничем погасить.
Он сам даже не заметил, как переступил ту невидимую черту, которая отделяла парк от леса. И только когда зашел уже далеко, почувствовал, что здесь что-то совсем иное, чем было до этого: деревья стояли высокие, и они уходили глубоко в небо, и мальчик вдруг подумал, что это напоминает собор, вернее, он не подумал, потому что он не знал, что такое собор, но что-то похожее мелькнуло у него, и он остановился.
Ему стало на мгновение страшно, показалось, что он уже почти дошел до узкоколейки, где олени выходят к поездам, и что отсюда невозможно найти дорогу назад. И тогда он коснулся рукой яблока в кармане и успокоился. Он подумал о девочке и пошел вперед. Он подумал, что раз он все время идет вперед, то этой же дорогой сумеет вернуться назад. И страх исчез.
Мальчик неторопливо шел по лесу, изредка останавливаясь, чтобы сорвать лист, который казался ему самым красивым. Он шел очень долго, когда вдруг как-то потемнело все вокруг сразу, снова ударил страх в сердце, и тогда он понял, что заблудился. Он закричал и побежал назад. Но сколько ни бежал, все возвращался на одно и то же место — на полянку. И он кричал, и бежал, и никак не мог уйти от этой поляны. Когда совсем изнемог, он опустился на траву и подумал: «Ну вот и все, вот я и заблудился». И тогда он съел яблоко, которое дала ему девочка. И не было уже тишины и покоя, а был только страх.
Он снова побежал, и лес уже не казался ему приветливым и радостным. Деревья выступали ему навстречу и пугали его, и никого не было в лесу. Был только лес и мальчик. И уже совсем обессиленный и отчаявшийся, он выбежал на пригорок, и лес перед ним расступился, и он увидел, что совсем близко проходят рельсы. Это была узкоколейка. И вышли из лесу олени. У них были большие рога, похожие на деревья. Олени, как души леса, несли на себе лес, но этот лес был приветлив, и олени улыбались мальчику. Он подошел к ним, и они не убежали от него. Он пошел рядом с ними, и они шли вокруг него, касаясь его боками, и улыбались.
И тогда он увидел окопы, они были длинные и извивались во все стороны, как змеи. Они были уже полузаросшие и неглубокие; а что такое окопы, мальчик знал хорошо. И он на секунду остановился, и олени тоже остановились, и тогда из окопа вышел солдат и сказал:
«Сыночек, ты это?»
И мальчик попятился от него в испуге, а солдат протягивал к нему руки и шел к нему, а мальчик пятился, и олени стояли за его спиной, покачивая головами. А солдат подошел ближе и дотронулся до мальчика, и руки у него были совсем легкие и прохладные, совсем невесомые руки, и солдат приблизил свое лицо к лицу мальчика и сказал:
«Ах, нет, я ошибся. Но у меня был такой же, как и ты. Только он никогда не приходит сюда, и я не знаю, придет ли он. Наверное, он не знает, где я».
Солдат отступил и пошел к окопу медленно и оглядываясь. Потом он лег на дно окопа и сказал:
«Уходи отсюда скорей. Сейчас они пойдут в атаку».
Что-то загремело вдали, как гром, но это не был гром, потому что была осень, и грозы давно отошли. Солдат лежал на дне окопа, и в руках у него был автомат, и рядом с собой он положил гранаты, словно ждал кого-то, а никого не было. А когда мальчик подошел поближе, то не было солдата, а просто был окоп длинный и извивающийся, как змея, и окоп уже почти зарос травою и никого не было в нем. И олени закачали головами, и мальчик снова пошел с ними.
Так они шли долго, и у мальчика уже не было страха. Он просто подумал, что олени знают, куда идти. И внезапно лес расступился, олени покачали головами и повернули назад, и он увидел, что совсем близко проходит дорога, ведущая в парк. И парк был рядом. И он оглянулся на лес, но оленей уже не было видно, и тогда он, прижав к груди листья, побежал по дороге, ведущей в город.
Глава пятая. Крепость
Мальчик проснулся от неожиданного предчувствия, которое нахлынуло на него среди ночи.
От окна шел слабый свет, и мальчик, соскочив с дивана, прошлепал к окну. Он отдернул занавеску и прижался лицом к стеклу. На улице была зима, на улице лежал снег, от снега исходил необычный свет, который разбудил мальчика. И в комнате было полусветло. Стояла большая и плоская луна над крышами. А крыши были в снегу, и на деревьях тоже лежал снег.
Мальчик постоял так некоторое время, потом он почувствовал, что у него радостно прыгает сердце. Это была странная радость, непонятная, без всякой причины. Просто была радость, и все. И он снова лег, но уже не мог заснуть и лежал долго без сна, поглядывая иногда на светлое окно. Потом он заснул, и ему снилось, как он идет по улице, засыпанной снегом, и тащит за собой новые санки. А потом он летит на этих санках с горы, вниз, и санки катятся, катятся без остановки.
Утром тетка разбудила его, молча тронув за плечо, и он сразу проснулся и вскочил. Подбежал к окну, думая, что снег ему приснился, но снег лежал, его было много, весь город был в снегу, и ровное сияние дня стояло над городом.
Мальчик выбежал из дома. До начала уроков оставалось минут двадцать. Он бежал по снегу, размахивая портфелем. И мальчишки, знакомые и незнакомые, тоже бежали, размахивая портфелями. И они все были в снегу. Не успел мальчик дойти до школьной двери, как снова пошел снег. Это был большой и спокойный снег, знающий свою силу: снег сыпался, сыпался, сыпался на землю.
Все уроки мальчик смотрел в окно, но снега не было видно — окно было высоко над землей. Только по необычному свету, который струился от земли, он понимал, что снег не растаял. И каждую перемену мальчик выскакивал во двор, чтобы посмотреть, цел ли снег. А снега становились все больше, и казалось, если он не перестанет идти, то скоро завалит весь город по самые крыши.
Но вот наконец кончились уроки. С шумом побежали по лестнице мальчишки. В раздевалке была толчея. И пока мальчик надевал пальтишко, многие успели выскочить из школы, и крича, уже кидались снежками. Он тоже стал кидаться снежками, а потом все барахтались в общей куче и с визгом падали в сугробы.
Тетки уже не было дома, когда он пришел. Он быстро поел и подошел к окну.
Во дворе мальчишки строили снежную крепость. Снег был влажный и легко катался в большие комы, из которых строились стены. Крепость росла, она становилась все больше, и все выше поднимались ее стены.
Тогда мальчик забыл про уроки и помчался к мальчишкам помогать им строить крепость. Он катал огромные шары снега. Сначала шар был просто снежком. Надо было катить его по ровному снегу, чтобы он обрастал, обрастал снегом и превращался в здоровенный ком, который было трудно поднять одному. И крепость выросла, и прорубили в ней бойницы, и мальчику сказали, что он вместе с другими мальчишками будет нападать, а в крепости засело несколько человек.
Снежки были заготовлены, кто-то свистнул, и атака началась. Они бежали сквозь град снежков, и у мальчика осталось всего два заряда, и он берег их для последней схватки в крепости. И тут выскочили из крепости мальчишки, и завязалась рукопашная схватка. Но тех, кто нападал, было больше, и они ворвались в крепость.
Потом все расселись на снегу, и у всех было странное чувство, что чего-то не хватает. Но чего же не хватает, ведь крепость взята?! Тогда мальчик сказал:
— А я знаю, в чем дело. Тут же нет трофеев.
— Каких еще трофеев? — спросили его.
— Обычных, — сказал мальчик. — Когда идет война и кто-то побеждает, то победители всегда берут трофеи.
— Какие это трофеи? — спросили мальчишки.
— Это кинофильмы, — сказал мальчик.
— А — а-а, — загудели все, вспомнив те редкие трофейные фильмы, которые они видели.
— А где же мы возьмем эти фильмы? — сказали мальчишки.
— Не знаю, — сказал мальчик.
И всем стало немного печально, что война не настоящая и нельзя взять трофеи, и все загрустили. А над городом тревожно и звонко пропел самолет и промчался, оставив белый след в пустынном и сумрачном небе, и мальчишки задрали головы — посмотреть, но самолет исчез, и только звук его мотора еще висел над землей.
А потом мальчик постарше сказал:
— Плевать мне на трофеи! Лишь бы снег был получше.
И он вскочил и ударил ногой в стену крепости, но она не поддалась, тогда он стал толкать ее руками, и стена стала сыпаться на глазах у изумленных мальчишек. А он что-то закричал и прыгнул на эту стену, и она рухнула, и он упал вместе со стеной, и комья снега рассыпались.
Тогда все вскочили и загалдели осуждающе:
— Зачем ты это сделал?!
А он молчал долго и наконец сказал:
— А ну их, эти крепости… И трофеи… Не нужны они, — и медленно пошел, и все смотрели, как он уходит.
Всем вдруг стало как-то не по себе. И кто-то вдруг очень серьезно сказал:
— А хорошо, что война была не настоящая.
Глава шестая. Путешествие
Тетка еще спала, когда мальчик встал и, стараясь не разбудить ее, быстро оделся. Он на цыпочках прошел по коридору, открыл дверь и осторожно притянул ее за собой. Замок чуть слышно щелкнул. Тогда он побежал вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки и хватаясь руками за перила. Шаги его гулко звучали в пустоте и тишине подъезда. Он выбежал во двор и по скользкой тропинке быстро прошел через арку на улицу.
Было еще очень рано. Знакомые гудки паровозов, тревожившие его по ночам, ожили в памяти мальчика, и он с радостью подумал, что вот сейчас он тоже поедет, и паровоз будет кричать «у — у-у», и вагоны будут стучать колесами, а за окном будут мелькать заснеженные поля, молчащие леса и застывшие реки.
На привокзальной площади он посмотрел на большие часы. Было без пятнадцати десять. Он быстро подошел к кассе, потому что поезд отходил ровно в десять, и мальчик торопился.
На перроне сновали люди. Они заходили в вагоны пригородного поезда, и мальчик остановился на мгновение, думая, в какой вагон лучше сесть. Прошли какие-то парни и девушки. Они громко пели: «А ведь слова, как люди, у них бывают раны. Слова, как люди, плачут и по ночам не спят». Это была грустная песня, но парни и девушки были веселые. И они смеялись, когда пели эту песню.
И мальчику тоже стало весело, хотя песня была и грустная. И он пошел следом за ними. А они уже пели какую-то другую песню, веселую и смешную, и хохотали, и мальчик шел за ними и улыбался.
Он сел в тот же вагон, в который вошли парни и девушки. У них с собой были рюкзаки и лыжи, и в вагоне запахло лыжной мастикой, запахло, как пахнет только зимой, когда вносят лыжи в помещение. Кроме мальчика и веселой компании, в вагоне сидели еще женщина, старик, уткнувшийся носом в телогрейку, и какая-то девчонка лет двенадцати. Мальчик сел у окна и стал ждать, когда тронется поезд, и ему казалось, что давно уже пора поезду тронуться, а поезд все стоит и стоит на месте.
Но вот слабо дрогнул пол, вагон качнулся назад, потом вперед. Сначала тихо и медленно застучали колеса и пополз перрон, а потом все быстрей и быстрей пошел поезд, и вот уже замелькали: здание вокзала, стрелочники со свернутыми желтыми флажками, какие-то люди, расчищающие соседние пути от снега, семафор с зеленым глазом, потом пошли дома, домики и домишки и редкие люди — далеко, далеко… И вот уже поезд пошел, пыхтя и отдуваясь и иногда важно гудя: у — у-у. Вагоны слегка раскачивало из стороны в сторону, и мальчику было приятно, и он представлял, что плывет на корабле и сейчас — качка.
А парни и девушки пели разные песни, мальчику запомнились слова: «Был король как король». А больше он ничего не запомнил из этих песен, потому что все время смотрел в окно и часто забывал обо всем и никого не видел и не слышал, и только движение поезда, становившееся все стремительнее и стремительнее, приносило какие-то свои обрывистые и неясные мысли, которые возникали как бы от стука колес. Мысли эти повторялись и были ни на что не похожи. Мысли были неизвестно о чем — это были неопределенные мысли, которые можно было бы назвать раздумьями путешественника.
Так ехал поезд, иногда останавливаясь у какой-нибудь станции. В вагон село еще несколько человек, потом на следующей станции парни и девушки вышли из вагона, а еще на следующей — мальчик остался один. И ему стало грустно немного, что он один, и даже как-то страшно. А чего он боялся, он сам не знал. Да он и не боялся, а просто так, неотчетливое и томительное чувство, которое возникает при полном одиночестве, нашло на него и тут же пропало, как только колеса запели свою песню, и пришли снова мысли ни о чем, просто возникающие под стук колес и тут же уходящие.
Поезд шел ровно двадцать минут. Это мальчик установил, когда вылез из вагона — на той станции, где ему надо было выходить, — и посмотрел на часы. Было двадцать минут одиннадцатого. Тетка ошиблась, когда говорила, что ехать полчаса. Всего двадцать минут заняло путешествие. И мальчик немножко огорчился, что ехал так мало, но он сейчас же утешился, решив, что назад ему придется ехать тоже двадцать минут, и всего вместе — сорок.
Он постоял у вокзала. Прошел мальчишка, волоча за собой упирающуюся собаку. Собака идти не хотела. Она была лохматая и красивая. И она упиралась, и одновременно зевала, и лениво махала хвостом. Наверное, ей хотелось спать, а мальчишка тянул ее куда-то за собой, как будто ему не было другого дела. Так, наверное, думала собака и ругала про себя мальчишку. Мальчишка не обращал на него внимания и тянул ее, а собака упиралась.
Мальчик постоял еще немного, посмотрел, как мальчишка тащит за собой собаку, а потом пошел по тропинке, которая вела в поселок. До поселка было совсем близко — он начинался тут же за станцией. И только надо было выяснить, где живет Андрей Николаевич. Но ведь в поселке люди знают друг друга. Там и домов всего-то немного, не так, как в городе.
И поэтому мальчик остановил первую встречную женщину и сказал:
— А где здесь живет Петров?
— Какой Петров? — сказала женщина.
— Его зовут Андрей Николаевич, — сказал мальчик.
Женщина странно как-то на него посмотрела и сказала:
— Иди прямо, потом свернешь в первый переулок, второй дом от угла.
Женщина пошла дальше, и, когда мальчик оглянулся, она тоже оглянулась. И мальчика поразил ее взгляд — он был растерянный и недоумевающий. И когда она увидела, что мальчик глядит на нее, она словно смутилась, отвернулась и быстро пошла к станции.
Солнце светило ярко. Оно вышло из-за туч и теперь стояло над головой мальчика. Не совсем над головой, а так, несколько в стороне, потому что было совсем рано, и солнце еще не поднялось как следует. Снег был и голубоватый и белый. Снег лежал под ногами у мальчика пушистыми сугробами, которые он перепрыгивал, и тропинка огибала эти сугробы. Она была хорошо утоптана, потому что по ней прошло утром много людей на работу.
До переулка было совсем недалеко, и мальчик, еще не поворачивая, увидел второй дом от угла, о котором ему говорила женщина, и пошел к нему. Тропинка бежала мимо, а к дому не вели никакие следы. Снег лежал глубоко и ровно, словно уже давно никто не выходил из дома, и дом показался мальчику мрачным и печальным даже при солнце. Глубоко проваливаясь в снег, он подошел к калитке, открыл ее и вошел во двор. Дворик был маленький, весь покрытый снегом, у крыльца стояло два дерева. Они были голые, и ветки у них тянулись вверх, отчего деревья казались узкими, словно их сжало холодом, хотя мороз было не очень сильный.
Мальчик поднялся по трем ступенькам и поискал кнопку звонка. Но ее не было. И тогда он постучал робко и тихо и, постучав, замер на мгновение, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги в глубине дома. Но все было тихо, и никто не шел открывать дверь. Невольно он с каким-то облегчением подумал, а может, и хорошо, что он не застал Андрея Николаевича. Наверное, тот ушел на работу, и мальчику стало как-то легче от этой мысли, потому что он толком и не знал, о чем будет говорить с ним, и боялся этого разговора. На всякий случай, он постучал еще раз погромче. Он уже осмелел, чувствуя, что дома никого нет, и не боялся стучать, и не боялся встретиться с тем, с кем он так хотел поговорить. И снова ответом была тишина; мальчик, облегченно вздохнув, стал спускаться по ступенькам вниз, к своим следам, ведущим от калитки к дому. И вдруг — даже не слухом, а всем своим существом — услышал слабые шаги в глубине дома и понял, что сейчас кто-то откроет ему дверь.
Дверь открыла старушка. Она была очень маленькая. А может быть, какое-то горе ее так состарило, потому что мальчик увидел печаль в ее глазах. Он почувствовал, что такая грусть бывает только у очень одиноких людей. И он сказал ей:
— Здравствуйте, бабушка.
Она посмотрела на него удивленно и сказала:
— Здравствуй, мальчик! А зачем ты пожаловал?
— Я пришел к Андрею… Николаевичу, — робко сказал мальчик.
И тут он увидел, как женщина вздрогнула, и он испугался, сам не зная чего, и женщина сказала:
— А ты чей будешь, мальчик?
Он замялся, а потом сказал:
— Ничей… Так. Знакомый.
— Знакомый? — переспросила женщина. — Знакомый Андрея Николаевича?
— Нет, не совсем его, — сказал мальчик. — Знакомый… — И он запутался, не зная, что сказать.
Старая женщина внимательно посмотрела на него и сказала:
— Что ж мы тут стоим. Заходи в дом.
И они зашли в дом.
Сначала была комнатка, в ней не было почти никакой мебели — стоял только столик у окна да стулья. Из этой комнатки вела дверь. Куда она вела, мальчик не знал, но он понял, что дом состоит из двух комнат.
В другой комнате стояла кровать, стол, покрытый белой скатертью, цветок на окне, а на стене висела фотография молодого мужчины. Он был в военной форме, и форма у него была не совсем такая, как у теперешних военных. Мальчик сначала подумал, что же в ней такое, а когда присмотрелся, то увидел, что у мужчины не было погон, а на воротнике гимнастерки торчали какие-то твердые ромбики.
Мужчина на фотографии был очень молод. Ему от силы было лет двадцать пять. Он смотрел на мальчика, и чувствовалось, что мужчина сдерживает улыбку. Мальчик понял, что это веселый и очень добрый человек.
— Раздевайся, мальчик, — сказала женщина.
Он снял пальто и шапку, женщина положила вещи на стул.
— Садись, — сказала она.
И мальчик сел, положив руки на стол.
Женщина села против него и сказала:
— Ты не здешний, мальчик?
— Да, — сказал он. — Я приехал из города.
— Кто твоя мама?
— Мамы у меня нет, — сказал мальчик.
Старушка посмотрела на него, и он почувствовал в ней что-то очень близкое. Ему стало спокойнее, и он рассказал ей тогда про свою тетку, про фотокарточку, которую он нашел случайно, и про дневник Андрея Николаевича.
Женщина слушала его не перебивая. Она смотрела куда-то в пространство, прямо перед собой, словно видела там что-то такое, чего не мог увидеть мальчик. Потом она сказала:
— Я его мама.
Она могла этого не говорить, мальчик понял это сразу, как только сюда вошел.
И мальчик тогда спросил:
— А где же Андрей Николаевич?
И женщина сказала:
— А он далеко отсюда!
— Как — далеко? — удивился мальчик.
— Андрей Николаевич умер, — сказала женщина. — Он погиб еще в сорок втором году.
Наступило молчание. Молчание это длилось долго, пока женщина не поднялась, не прошлась по комнате и не сказала:
— Я же знала хорошо твою тетю. И всю их семью знала. Они жили здесь, недалеко от нас. Не судьба, видно, была им с Андрюшенькой-то вместе быть, не судьба!
Мальчик сидел молча, чувствуя, что огромное горе душит его. Андрей Николаевич был чужой для него, страшно чужой. И он не видел его никогда, кроме как на фотографии. Но Андрей Николаевич был чем-то ему необычно близок, мальчик уже свыкся с мыслью и приучил себя к тому, что он встретится с этим человеком. И этот человек окажется обязательно добрым, великодушным и щедрым, таким, каким он его придумал. И когда мальчик узнал, что Андрей Николаевич погиб, он словно похоронил его только что. И это было такое же горе для него, как тогда, когда умерла мама.
Мальчику стало до того невыносимо горько, и до того он боялся расплакаться, что он встал и смог сказать только одно;
— Ну, я пойду тогда.
Но женщина тоже поднялась, подошла к нему и положила руку на голову.
— Никуда ты не пойдешь, — сказала она. — Сейчас мы будем пить чай.
И он остался.
Они долго пили чай; мальчик узнал, что женщина была учительницей, а сейчас она на пенсии, что к ней приходят соседи, и ей, в общем-то, совсем не тоскливо, и она не одинока. Но в глазах ее была печаль, и слова не могли обмануть мальчика. Он ничего не сказал ей, только подумал о том, что каникулы только начались и он сможет теперь приехать к ней еще несколько раз.
Через час они вышли из дома. Женщина пошла провожать его к вокзалу. Солнце поднялось еще выше, и мальчик чувствовал тепло, и тепло было совсем весеннее. И даже снег слегка подтаял, но мальчик знал, что до весны еще далеко, и весна приходит не сразу, и поэтому солнце не могло его обмануть.
Они стояли на перроне. Прошел тот же мальчишка с собакой. На этот раз она бежала впереди него и весело махала хвостом. Собрались еще какие-то люди, и подошел поезд.
Когда мальчик уже пошел к вагону, женщина шагнула к нему и сказала:
— Спасибо тебе, маленький.
— За что же? — сказал мальчик.
— А так, — сказала женщина. — Просто так, спасибо тебе.
Он улыбнулся ей, и она улыбнулась. Губы ее дрогнули. Он снова подумал, какая она старая и одинокая, и вошел в вагон.
Когда поезд тронулся, он увидел ее еще раз за оконным стеклом, увидел, как она подняла руку. А она не видела его и просто так помахала, на всякий случай — на прощание. И поезд пошел все быстрей и быстрей. И опять также стучали колеса, и вагон раскачивался, как большой корабль, но теперь это не доставляло мальчику никакого удовольствия, и он не радовался, что будет ехать еще двадцать минут. Его томило и мучило движение поезда и хотелось скорее очутиться дома. А поезд шел, шел, и казалось, не будет конца его движению. Мальчик терпеливо сидел, сложив руки на коленях, и даже не смотрел в окно.
Глава седьмая. «Большой вальс»
Сначала были каникулы. Это был один большой и сверкающий праздник. Все десять свободных дней превратились будто бы в один день, наполненный блеском елок, шумом, песнями, морозом, вечерами со звездами и всем тем, чего порой так не хватало мальчику. И мальчик совсем забыл и о своем решении съездить к матери Андрея Николаевича еще раз, и о тетке, и обо всем. Он словно растворился в кипящих огнях новогоднего праздника и плыл по сверкающей реке, которая несла его далеко, далеко.
И когда мальчик однажды проснулся, он вдруг почувствовал слабую тоску и непонятную пустоту в сердце. Он вдруг понял, что каникулы кончились и сегодня надо идти в школу. И еще что-то мучило его, и он никак не мог припомнить, что же это такое. И только когда утром он шел в школу и увидел афишу у клуба студентов и на афише было написано: «Сегодня в 19 и 21 час кинофильм „Большой вальс“ — мальчик понял, что его мучает.
Он остановился у афиши и стоял, глядя на четкие черные буквы: „Большой вальс“ сегодня в 19 и 21 час». И ему расхотелось идти в школу, и он все-таки пошел, потому что тетка не любила, когда он пропускал занятия, даже по уважительным причинам, а сегодня не было вообще никаких причин.
Он высидел три урока, но потом сказал учительнице, что плохо себя чувствует, что у него болит голова и, кажется, он простудился. А учительница, она была молодая и очень добрая, сказала ему:
— Тогда иди домой, Саша, а то вдруг у тебя грипп начнется.
Не помня себя от радости, он сбежал по лестнице в раздевалку, кое-как натянул на себя пальтишко и, нахлобучив шапку, выскочил во двор. Снег лежал блестящий, ровный, но уже какой-то потускневший и не свежий. Но он еще блестел и сверкал и был похож на снег новогодних праздников. И это все еще был веселый снег, и мальчику стало весело.
Прежде чем он дошел до дома, у него уже созрело решение. От праздников остался целый рубль, и этого рубля как раз должно было хватить на два билета. Когда тетка открыла ему, она ничего не сказала, только во взгляде ее мальчик прочел удивление. И он сказал:
— А нас сегодня раньше отпустили, учительница заболела, у нее грипп.
Тетка молча посторонилась, и он вошел в комнату. Также молча тетка накрыла на стол, но мальчику не хотелось есть. Он проглотил несколько ложек супа и сказал:
— Мне что-то не хочется.
— Поешь, — сказала тетка.
И он доел суп до конца.
Он долго не знал и не решался, как сказать тетке об очень важном деле, и наконец он сказал:
— А ты не могла бы сегодня не пойти на работу?
— А что такое? — сразу встрепенулась тетка. — В школу меня вызывают?
— Нет, ничего, — сказал мальчик.
— Может быть, классное собрание сегодня?
— Нет, — сказал мальчик.
— А почему я должна остаться дома? — спросила тетка.
— Я не могу тебе сказать сразу, — ответил мальчик, — но это очень нужно, чтобы ты сегодня вечером была дома.
— Я же на работе.
— И все-таки, — сказал мальчик.
Потом тетка занялась своими делами. Она подмела комнату, помыла посуду. А мальчик сидел за столом и листал учебники. Он не думал об уроках, он думал о том, как уговорить тетку остаться сегодня дома. Это было очень нужно. И она не могла не остаться.
И он снова подошел к ней и посмотрел ей в глаза. Глаза у нее были глубокие, и он вдруг впервые увидел — а может быть, он увидел это потому, что впервые заглянул ей в глаза, — он увидел, что в глазах у тетки, как и в глазах матери Андрея Николаевича, глубоко, глубоко таилась печаль. И он ничего не сказал ей, а только посмотрел ей в глаза. И тетка промолчала. Она походила немного взад и вперед, постояла у окна, потом вдруг накинула пальто и вышла. Стояла такая тишина, что мальчик услышал ее шаги по лестнице. Шаги были медленные, нерешительные, но он знал, что она идет отпрашиваться на сегодня с работы.
Пока тетки не было, он достал спрятанный рубль и засунул его в карман поглубже, чтобы не потерять. Он сидел, терпеливо дожидаясь тетку и время от времени трогая карман, где лежали деньги. Сейчас этот рубль был для него дороже всего золота мира, дороже всех богатств. И только мальчик знал почему.
Когда тетка вернулась и мальчик посмотрел на нее, он сразу понял, что тетка не пойдет сегодня на работу. Он увидел очень далекую улыбку, которая еще не родилась на ее губах, но он уже знал, что тетка улыбается. И она действительно улыбнулась и сказала:
— Ну вот, сегодня мы с тобой будем сидеть вечером дома, как ты хотел.
Мальчик ничего не сказал ей. Он сложил учебники в портфель, положил его на полку и пошел в переднюю одеться.
— Куда же ты? — сказала тетка.
— Я скоро вернусь, — сказал мальчик.
Он шел не торопясь по улицам, потому что было еще рано. Он думал, что касса еще не открыта. Но когда он подошел, касса была уже открыта — здесь продавали билеты заранее.
Мальчик протянул кассирше свой рубль и сказал:
— Два билета.
Кассирша посмотрела на него из окошечка:
— А таких маленьких, как ты, на вечерний сеанс у нас не пускают.
— А я не для себя беру, — сказал мальчик.
— А, ну тогда понятно, — сказала кассирша и протянула ему два билета и еще двадцать копеек сдачи.
Мальчик нес билеты в руке, он не доверял теперь даже карману. Билеты никак нельзя было потерять. Он походил еще немного около дома, а потом спросил у мужчины:
— Сколько сейчас времени?
И тот сказал:
— Пятнадцать минут шестого.
Тогда мальчик медленно поднялся по лестнице и позвонил.
Некоторое время, пока они пили чай, тетка молчала. А потом спросила:
— Ну может, ты теперь раскроешь свою тайну? Может, ты мне скажешь, почему я должна была остаться дома?
— Немножко позже, тетя, — сказал мальчик. — Ты ведь взрослая, ты можешь и потерпеть. Потерпи, пожалуйста.
Тетка улыбнулась, она знала, если мальчик что-то говорит, то он говорит только правду, уж такой у него характер, и он никогда не обманывал и не мог обмануть. И если ему нужно было, чтобы она не пошла сегодня на работу, значит, так уж нужно. И она с этим считалась.
Когда мальчик увидел, что часы покалывают шесть, он сказал тетке:
— Я хотел бы тебя попросить еще об одном.
— О чем же? — спросила тетка.
— Не могла бы ты надеть то платье?
— Какое платье? — уди пилась тетка.
— Ну, то, помнишь, когда мы смотрели «Большой вальс».
Тетка несколько растерянно посмотрела на него, но сказала:
— Хорошо, я надену это платье. Только зачем?
— Надень просто так, — сказал мальчик. — Мне это платье нравится.
Он вышел на кухню, дожидаясь, пока тетка переоденется.
И когда он снова вошел в комнату, он увидел тетку такой, как в тот вечер, когда они смотрели с ней этот фильм. И он снова увидел девочку, которая вернулась откуда-то из далекой страны без названия. И девочка улыбалась.
— А теперь мы с тобой пойдем в одно место, — сказал мальчик.
И они оделись, и вышли, и спустились по лестнице, и прошли под аркой, и уже наступил вечер, зажглись фонари, и пошел слабый снег. Тетка молчала и ни о чем не спрашивала мальчика, словно какое-то предчувствие или неясное ожидание вошло в нее и она во всем повиновалась тому, что говорил ей мальчик. Они шли по тротуару, скользкому и гладкому. На тротуаре чернели дорожки, а по ним катались мальчишки. Они разбегались и катились по длинной ледяной дорожке, в которой отражались фонари.
Они шли довольно долго, потому что мальчик не торопился: до семи было еще около получаса. Он вел тетку разными улицами, чтобы они не сразу подошли к клубу студентов и чтобы как-то убить время. И только когда осталось десять минут — это мальчик увидел, посмотрев на одинокие часы, большие и грустные, — он заторопился, и они подошли к клубу.
И когда тетка прочитала название фильма, она все поняла и остановилась, словно не решаясь идти туда, в зал, где сейчас будут показывать этот фильм. Но мальчик взял ее за руку, вложил в ее слабые пальцы билеты и сказал:
— Иди, тетя, я подожду тебя дома.
— А ты разве не пойдешь? — медленно сказала она.
— Меня не пустят, — сказал мальчик. — Это только в твоем клубе меня пускали. А сюда меня не пустят.
— А зачем же ты купил два билета? — сказала тетка.
— Так надо, — сказал мальчик.
— Я не пойду одна, — сказала тетка. — Давай вернемся домой. Мне лучше не ходить на этот фильм.
— Нет, ты пойдешь, — сказал мальчик. — Ты пойдешь без меня. Я хочу так. Так нужно, понимаешь? И не продавай этот билет, и никого не пускай на свободное место рядом с собой. Я очень тебя прошу, иди.
Он даже подтолкнул ее слегка. И тетка нерешительно пошла. Она растерянно оглядывалась на мальчика, и он испугался, а вдруг она сейчас заплачет, а это совсем не нужно. Нужно, чтобы она вошла в зал, села и чтобы рядом с ней было пустое место, совсем пустое, чтобы никто не сидел на нем, потому что это место принадлежало одному только человеку, и его звали Андрей Николаевич. Когда тетка скрылась за дверью, мальчик не пошел домой, а остался. Он бродил около клуба и думал. Он думал о многом, но эти мысли были интересны только ему самому. И если бы он попытался их пересказать, то у него ничего бы не получилось: думать — одно, а говорить — совсем другое. Когда говоришь, не хватает слов, и слова становятся бесцветными и вялыми, будто оттого, что ты их выпускаешь на волю, они линяют и стареют, и пропадает тот смысл, который был в них.
Он ходил возле клуба. Шел слабый снег, и горели фонари. Напротив, на другой стороне, он увидел на здании телеграфа часы, и ему показалось, что время тянется удивительно медленно. И только когда он забывался и думал о своем, а потом смотрел на часы, то стрелки словно перескакивали через пятиминутки, и большая двигалась к двенадцати, а маленькая к восьми. И самое главное, о чем думал мальчик, самое важное заключалось в том, что был поезд в двадцать ноль — ноль и на этом поезде за полчаса можно доехать до того поселка.
Но тетке было это неизвестно, ведь только мальчик знал расписание поездов. Он изучил его, когда собирался поехать снова к матери Андрея Николаевича. Мальчику хотелось и не хотелось, чтобы тетка вышла до восьми. Он сам не знал, чего ему хочется, словно он сделал что-то важное, и не мог в этом разобраться.
И когда большая стрелка часов на телеграфе напротив вздрогнула на девяти и почти стрелки сошлись — маленькая и большая, — дверь клуба распахнулась, и мальчик увидел тетку. Он не стал смотреть ей в лицо. Он знал — она плачет. Тетка шла быстро, наклонив голову, но он чувствовал ее слезы. И он не стал окликать ее, просто вышел навстречу.
И она остановилась, почти натолкнувшись на него, и хотела обойти, потому что не узнала. Он ей сказал тихо:
— Тетя.
Но она, все еще не понимая, кто перед ней, но уже чувствуя, что это мальчик, а не кто-то чужой, прижала его к себе.
И тогда мальчик сказал:
— А ты знаешь, тетя, ты ошиблась. До того поселка не полчаса езды.
Он не смотрел на нее, но чувствовал, что она смотрит на него. И он сказал:
— Да, не полчаса, а всего двадцать минут. Я это знаю. И если мы сейчас пойдем, мы успеем еще на девятичасовой поезд.
И он пошел вперед, и он шел быстро потому что надо было спешить, ведь поезд уходил ровно в восемь вечера.
Глава восьмая. Вечное возвращение
Во всем мире висели сосульки. Во всем мире ярко светило солнце. Во всем мире стучала капель. Это была весна. Она пришла наконец после долгой зимы, и мальчик поднимал голову и ртом ловил капли, падающие с сосулек; капли были пресные и холодные, и мальчик подумал: так плачет весна. Но плакала не весна, плакала сосулька, которая таяла, и сосулька знала, что не скоро еще она снова станет такой большой и красивой. А пройдет долгое время, она уйдет в землю капелькой воды, и капелька пройдет под землей длинный и темный путь, а потом вырвется наружу в роднике, а в жаркий день она поднимется облачком пара высоко в небо, чтобы пролиться новым дождем, и снова уйти в землю, и снова пройти длинный и темный путь, снова вырваться наружу, снова стать дождем. И так без конца, до тех пор, пока не ударят холода и пока капелька не превратится в снежинку, а потом снежинка, застрявшая где-то на карнизе старого дома, вырастет в сосульку.
Плакала сосулька, но она плакала по привычке. Ей было совсем не грустно, ведь она знала, что никогда не умрет и что все снова повторится. И мир будет так же прекрасен, и мир будет так же сверкать, блестеть, звенеть и греметь, как в эту весну. Но мальчик ведь не знал об этом. И мальчику стало грустно. Но грусть быстро прошла. Она прошла в тот момент, когда его позвали мальчишки, и он побежал с ними к реке, чтобы посмотреть ледоход.
Ледоход был похож на большой морской бой. Метались в мутной воде огромные льдины, наскакивали друг на друга, как большие корабли; стоял грохот, как от пушечных выстрелов — шло большое сражение. Сражение было очень веселое. Так, по крайней мере, показалось мальчику. И ему было весело смотреть, как льдины наскакивают друг на друга, громыхают, скрежещут и бессильно расходятся в разные стороны, и их уносит течением далеко — далеко — прямо в открытое море.

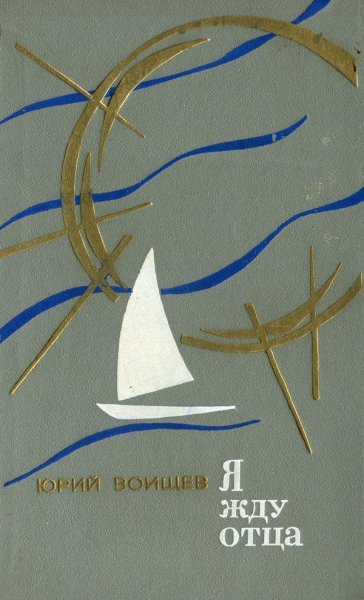


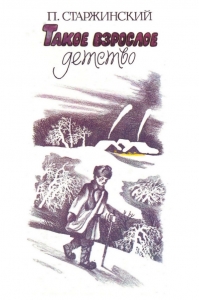






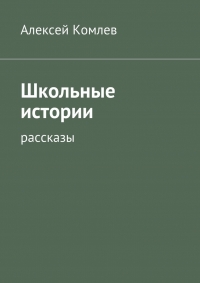

Комментарии к книге «Я жду отца. Неодержанные победы (Повести)», Юрий Тихонович Воищев
Всего 0 комментариев