Нина Дашевская Второй (сборник)
© Дашевская Н. С., текст, 2018
© ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2018
* * *
Второй
Иду на специальность. Ослепительное солнце светит через закрытые веки, через кожу, через одежду, даже ногами чувствуется через кеды – идёшь по солнечному тротуару. Я иду медленнее, чем обычно. Солнце говорит: плюнь, Про, не ходи! Какие этюды, какой Бах, смотри, как тепло! Кончики пальцев чувствуют солнечный свет. Я дёргаю себя за ухо, за другое, за нос – очнись, Прошка, ты не на пляже! Вспомни, как ты хотел. Как ты поступал в эту школу, как тебя не брали и ты кулаком разбил балконную дверь, когда не прошёл, чего ты тогда хотел, а? Мечтал! Чтобы вот так, солнечным днём идти на специальность. Иди и радуйся! Лентяй, пингвин. Иди, иди-иди!
Тяжёлая дверь школы, у меня не хватает сил, чтобы дёрнуть её на себя, и мелькает мысль: вдруг закрыто? А? Ну вдру-уг!
Открылась. Ну ладно. Иди, не убьют же тебя там. Зато потом будешь с чувством выполненного долга пить чай в буфете, и, может быть, придёт Густав. Даже наверняка придёт, почему бы ему не прийти?
На уроке я играю Баха. От солнца мой Бах растекается в лужу, расплывается, разбитое яйцо на полу, пальцы путаются. А я ведь выстроил его, и уже было, было здание, такое стройное, но хрупкое… Растеклось, рассыпалось. Эх, Прохор. Бездарность ты, нечего и воображать. В голове тоже лужа вместо мозга, и я слышу издалека, будто сквозь вату:
– Ноты выучить может даже обезьяна! Где музыка? Где, я спрашиваю?! Бросил фразу! Локоть! Куда ты тянешь кота за хвост? Ну-у-у, теперь полетел, где ритм?!
Ключ стучит по столу. Раз-два, раз-два…
Самое обидное, что пришла уже следующая ученица, Аня Лернер, эх, и перед ней я так позорюсь!
Но всё заканчивается, и этот кошмар не бесконечен. Марго выгоняет меня и сама садится за рояль. Показывает, как надо. Так, а можно и так, совсем по-другому; главное, чтобы мысль была!
Я стою в дверях и стекаю по косяку. Нет, я не зря пришёл. Откуда она так может, Марго?! Откуда?!
Она встаёт из-за рояля, идёт к окну. Злится, значит. Когда так злится – даже смотреть на тебя не хочет, на это ничтожество.
– Все нервы у меня вытягиваешь, Прохор! Ноты ладно, ноты ты выучишь, с твоей головой вообще стыдно в таком виде приходить. Но энергия, Прохор! Чем ты играешь, у тебя что, внутри вообще ничего нет? Мужчина ты или дохлая амёба? Никакого характера… Не солист, не ведёшь за собой! У девчонок больше силы, чем у тебя!.. Вот послушай сейчас Аню, послушай!
…У Ани Лернер узкие плечи, тонкие пальцы – спичка, а не человек. Только волосы густые, чёрные, сильные-сильные, и глаза яркие. Этими глазами она смотрит на меня и шепчет губами: уйди, Про! Не слушай, уйди куда хочешь!!!
Ага, значит, и Аня сегодня не в форме. В моей предыдущей школе такого не было, а тут есть: на уроке часто сидит кто-то из одноклассников, и от этого так страшно играть, так страшно!!!
Я немного переживаю за Аню. Ведь это я разозлил Марго; и маленькая хрупкая Аня… Ой. Лучше не думать.
Я сижу на подоконнике, пью чай из пластикового стаканчика. Злюсь. Чай невкусный, обжигает горло. Злюсь на Марго и ещё больше – на свои руки, свою голову бестолковую, да и на Аню Лернер заодно. Ладно, ладно. Сейчас пройдёт, схлынет, и я смогу на холодную голову проанализировать…
Что? Какой анализ, Про! Ты что, смотри, какое солнце!
– Салют, Прохор! – Меня хлопают по плечу. – Как оно? На спец ходил?
– Угу, на спец.
– А, то-то, я смотрю, у тебя вид такой отмороженный… Как Марго?
– Ослепительна, – говорю, – сияет, как роса на траве. А я рядом с нею тускл и прогоркл.
– Про?.. Прогоркл?
Мы начинаем ржать, как кони. Я изображаю, как Марго плюётся мной, как я лежу, испорченное блюдо второго сорта, можете взять, уценка. Соныч знает, он тоже учился у Марго, она его довела до нервного срыва. Сбежал от неё, перевёлся к Зондбергу. Конечно, хрен редьки не слаще, но ему там легче, нашли контакт.
…И тут появляется Густав. Я всегда немного смущаюсь перед ним, понимаю: наша школа для таких, как он. А мы с Сонычем тут недоразумение.
Я смущаюсь, а Соныч повторяет ему мою шутку про Марго, как она ослепительна, а я тускл и прогоркл. Густав тоже смеётся. Я рад, что рассмешил его, хотя с Густавом вот так валять дурака, как с Сонычем, не могу.
* * *
Я поступил в нашу школу, специальную музыкальную, со второго раза и, в общем, случайно; не должен был, но прошёл. Взяли авансом. После меня на экзамене играла Аня Лернер, я слушал из-за двери и понимал, что мне тут нечего делать. Я просто умею ставить пальцы на клавиши. И всё. А делать музыку я не умею. Она звучит у меня внутри, но мои корявые руки не способны воспроизвести её. А Аня может.
И чудом я попал в класс к Марго. Мне сказали: пишите заявление к педагогу, а я никого и не знал, кроме неё.
У неё был концерт в кирхе, там бывают концерты. И мы с мамой пошли. Марго играла Баха. Я тогда оцепенел. Впервые замер от музыки, думал только: пускай не кончается, не кончается! И потом эта музыка звучала в моей голове, долго, долго…
Ну и я написал заявление к ней, безо всяких надежд, наудачу.
И был зачислен.
Чудо.
Я до сих пор не могу выйти из этого оцепенения, когда Марго говорит мне: локоть веди! Играй, Прохор, что ты как амёба!!! Замороженный, ледяной мальчик! Скучный, не сольный… Тапёр, тебе бы в кинотеатре играть.
Они тут все другие. Они с детства. У них руки способны на всё, им остаётся только музыку делать. А я! Со своей деревенской школой – что я могу?!
Ну. И я стал делать то, что действительно могу. Смешить. Смешить весь класс.
– Новенький? Как тебя зовут? – просто, по-детски спросила одна девочка. Я потом узнал, что она Оля, флейтистка.
– Про, – сказал я.
– Как?..
– Про! Как противоракетная оборона.
– Ух ты, – сказала Оля, и другие тоже сказали «ух ты», и Аня Лернер, и, может быть, даже Густав.
Густав мне не понравился. Воображала, подумал я сразу. Вот Соныч – нормальный парень, сразу видно. Свой. А Густав какой-то выпендрёжный. Тонкий шарф, пиджак… Больно следит за своей внешностью, что-то в этом есть неправильное для парня. И фамилия выпендрёжная, и имя – какой-то пазл, искусственное что-то, выдуманное: Густав Август. Анаграмма, имя из тех же букв, что и фамилия. Магический квадрат. Он, кажется, из Риги. В нём есть какая-то заграничность. Смотрит на нас свысока; ну и жил бы в своей Риге!
Он держался отдельно; в буфете садился один, если столы заняты – на подоконник. Не участвовал в наших общих штуках, когда мы флешмоб против англичанки придумывали… Я даже жалел его, думал, вот ненормальный. Какой-то аутист, людей боится.
Оказалось, ничего он не боится. Просто ему никто не нужен. Он просто другой. Не мы.
– Пойдём, послушаем, – сказал мне Соныч. Ну, послушаем так послушаем, никто не запрещает.
– Пойдём, а кто сегодня будет? – спросил я.
– Так Густав же, – объяснил Соныч. Удивился моему незнанию. Ведь список репетиций в зале вывешен на двери. И все знают, когда Густав Август.
…В зале было человек тридцать. Нормально для школьника вообще: просто урок, не концерт – откуда они понабежали все?
– Это же Густав, – сказал мне Соныч.
Значит, кто-то раскрутил этого Густава, значит, тут принято, что он талант. А на самом деле всего лишь нужно научиться нажимать правильные клавиши в правильное время. Вот и весь ваш пианизм, всё ваше волшебство…
Да, и сначала он играл – ничего особенного. Ну, хороший пианист. Нормальный.
А потом начался Скрябин. И у меня стул поехал из-под ног.
Не знаю, чем это объяснить. Может, всё очень просто. Просто Густав – гений.
Меня будто крепко взяли и повели за собой. И я пошёл. Как дурак. Так бывает во сне, когда не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, не чувствуешь туловища, весь становишься одни уши и в груди стучит сердце. Сердце с ушами, такой уродец. И думаешь: только бы не кончилось, не кончилось…
* * *
Ночью я слушал этого Скрябина. В записи, разных пианистов. Может, дело не в Густаве? Может, просто такая музыка? Казалось, меня в какую-то воронку засасывает. Никогда такого не было раньше.
Кот раньше не любил пылесос, а потом ничего, втянулся.
И я втянулся. Внутрь этой музыки.
Потом Густав играл на классном концерте, и я ждал: будет такое же волшебство или нет? Когда ждёшь, обычно не бывает. Ничего особенного. А тут – было.
С тех пор когда я видел его, то хотел побыстрее уйти. Мне было не по себе, что человек, который так умеет, волшебник, – просто сидит рядом, ест, говорит изредка с другими… Но когда я шёл в школу, часто думал: вдруг будет Густав? Вдруг?
Гусь лапчатый. Больно надо. Воображала.
* * *
Один раз Густав спросил меня, что было на математике.
– Разложение многочленов на множители, – говорю.
– Какое ещё разложение? – не понял он.
– Моральное, – объяснил я.
Он моргнул, а потом расхохотался. Я страшно гордился своей шуткой, дня три. Да вру, не три – мне до сих пор кажется, что это дико смешно.
* * *
На камерный меня поставили с Олей. Камерный ансамбль, играть дуэтом или трио, например. Мне было всё равно с кем, я же никого не знаю. И Олю я не запомнил. У неё такое лицо обыкновенное. Это она меня тогда первая спросила: как тебя зовут?
Я потом несколько раз на других девчонок думал, что это и есть Оля, даже здоровался.
А когда она подошла и сказала:
– Мы с тобой вроде по камерному, да?
Я ответил:
– Нет, у меня Оля Коровина.
– Так это я же!
Вот я балда, надо же так ошибиться. Ну правда, таких лиц обыкновенных полшколы. Оля и Оля.
Но она не обиделась. Говорит: когда мою фамилию увидела, сразу обрадовалась.
– Ну да, когда люди мою фамилию видят – они всегда радуются.
Оля смеётся. Ничего, кстати, Оля, когда смеётся, – у неё ямочка, но не на щеке, а выше, на скуле. Слева. А справа нет. Хорошо смеётся, легко. Обычно девчонки хихикают глупо.
Прохор Небейголова и Ольга Коровина. Отлично.
Чувствую, хорошенький выйдет у нас с ней этот камерный ансамбль.
* * *
И правда вышел. И неплохой. Мой любимый теперь предмет. На камерный я лечу с радостью, и весь день сияет с самого утра, если вечером камерный. Не из-за Оли, нет.
Меня полюбила учительница, Ольга Степановна. Она много болеет, и мы ходим заниматься к ней домой. Раз я слышал, как по телефону её назвали Лёлечкой, и про себя теперь зову её так, хотя ей за пятьдесят, наверное. На втором уроке она сказала, что у меня редкие уши. Я сначала не понял: нормальные уши у меня, не торчат; но она про другое говорила. Что пианисту обычно трудно сдержать в себе солиста, с нами бывает трудно играть. А я умею слушать другого. Я тонкий. Я… Такое слово «деликатный». Я такого даже не знал.
«Прохор, ваша природная деликатность иногда даже несколько мешает вам». Да, Лёлечка с нами на «вы». Маленькая, хрупкая, со спины – девочка с почему-то седыми волосами.
И вот она первая сказала мне, что я – могу. Сто́ю. Что у меня есть то, чего у других нет. Что Оле со мной повезло.
И из Оли моей она тащит, тащит… Оля – средняя флейтистка, я сразу понял: несмелая, просто такая лирическая девочка, в маленький оркестр куда-нибудь сядет и будет тихонько играть. На вторую флейту. И мне жаль Олю. Я чувствую, она как я: внутри у неё всё есть. Океан внутри, много. Не позволяют то ли руки, то ли дыхания не хватает; флейта – трудный инструмент, очень много воздуха впустую уходит, то есть не впустую, а мимо флейты. Так нужно дуть, чтобы воздух рассекался и внутрь инструмента попадало совсем немного. Так и есть: дуешь, дуешь в эту флейту, а на выходе – пятая часть того, что вложил.
Оля привыкла, чтобы ей на экзамене говорили: какая хорошая девочка, умная. Молодец. Четыре.
Мне с ней правда было очень хорошо играть, уютно. И Лёлечка со временем нас стала из этого уюта вытаскивать.
«Если вы собираетесь так в переходе играть, то пожалуйста. Парковая игра. Но если в зале… Хорошо, мои дорогие, сидеть дома в тёплом одеяле. Давайте, делайте что-нибудь! Вам же есть что сказать! Так говорите! Чтобы слушателя пробить, в самую середину… Понимаете? Слушатель – он любит в скорлупе своей сидеть и чтобы ему красивое кино показывали… Но если вы его пробьёте, ребятки, – он ваш, навсегда… Вы Моцарта играете, зайцы мои, это же концентрат всего, что в мире есть! В мире не только тёплые тапки!!! Чего вы играете, а?»
То есть она говорила мне то же, что и Марго. Но как-то иначе. Как-то не «эх ты, амёба», а «давай-давай, сможешь!».
* * *
Потом мы шли с Олей к метро, и она мне рассказывала. Что вот я, со мной понятно: из маленькой музыкальной школы в райцентре, я талантливый, добился, поступил, с нуля… А у неё всё было: мама скрипачка, Олю учила с трёх лет, на скрипке не вышло, потом врачи велели слабые лёгкие развивать – вот и флейта, эта спецмузшкола с первого класса, лучший учитель, и что… И ничего. Плывёт по течению.
И понимает, понимает. Что никакого большого музыканта из неё не выйдет.
– Не говори ерунды. Ты хороший музыкант, ну, не орёшь в лоб, но с тобой играть мне нравится. И тонко, и содержательно.
Я хвалю её и даже, может, немного привираю. Ну чего она так к себе? Что за комплекс серой мыши? Нормально играет, не хуже других. И она отвечает:
– Знаешь, у флейтистов принято флейтой болтать во все стороны. Когда стоишь просто, тебе говорят: невыразительная игра. А я не могу, это мне искусственно, не нужно. Зачем это, будто флейтой мух гоняешь, что, от этого звук лучше?
Смешно. Мух гоняешь… Не, эта Оля – молодец. Хотя она правда зажато стоит, как в первом классе. Мне даже любопытно вытащить её из кокона, освободить, чтобы ей легко было играть, чтобы самой нравилось.
Мы занимаемся вечером в школе, допоздна.
– Давай, – говорю я, – что ты… Как дохлая амёба, играй давай, у тебя же есть внутри!
Оля не обижается. И не хочет уходить. И мне вдруг становится страшно. На улице темнеет; мне сейчас ещё её провожать придётся… Не, мы так не договаривались! И сейчас тоже, вдвоём в классе… Может, она думает про меня что лишнее?
Я хватаюсь за телефон, стараюсь выдумать себе срочное дело.
– Слушай… Я к Сонычу обещал зайти, он здесь где-то… Пойдёшь со мной?
– К Сонычу? – Оля почему-то краснеет. – Нет, я ещё позанимаюсь лучше.
– Тебя потом проводить, может? Поздно уже?
– Нет, – твёрдо мотает она головой, – я сама.
Ну, сама так сама, чего я буду навязываться. Я иду вниз, смотрю журнал на вахте, где мы берём ключи и расписываемся. Сон-Левитин, ага, восемнадцатый класс, соседний с моим.
В его классе темно и холодно. Я вхожу и не сразу вижу Соныча на фоне окна.
– Ты чего, Дим? Можно свет включить?
– А, это ты… Не, у меня глаза болят, не надо.
Я иду к нему и чуть не наступаю на ноты – валяются на полу. Соныч раскидал. Вот псих! Глаза привыкают к темноте, и я вижу: Соныч без рубашки. По пояс голый, смотрит в открытое окно. Холодно ведь!
– Ты чего голый, Соныч?
– Ничего… Так. Жаркая битва с Шопеном.
– Вижу, – я смотрю на раскиданные ноты, – передрались?
– Ну, так, – встряхивает головой он.
Я впервые вижу, какие у него мышцы. Это тебе не я, Прохор, дохлый пианист-очкарик; у Соныча всё на месте. Дима Сон-Левитин, мой друг, корейско-еврейского происхождения: у него странный, страшно красивый разрез глаз, чёрные азиатские волосы и, как оказалось, широкие плечи и крепкий пресс.
– Ты качаешься? – спрашиваю его. Прямо модель из журнала, никогда бы не подумал!
– Так, – отвечает опять Соныч.
Он молчит, потом закрывает окно. И говорит:
– Слушай, Про… Вот Оля. Оля. У вас… Да?
– Чего у нас? У нас камерный ансамбль, а ты что думал?..
– Не, ты мне скажи… Скажи как есть. Роман? Если ты… По-настоящему – тогда ладно. Если реально роман. А если так…
Он вдруг хватает меня за рубашку и смотрит своими странными глазами, близко-близко:
– Если ты её обидишь… Смотри, Про. Смотри!
…Только тут до меня доходит. Вот я балда! Но я и подумать не мог; ладно бы Аня Лернер, она хотя бы красивая, а тут-то что, обычная Оля!
– С пятого класса, – говорит Соныч. – Таких сейчас не бывает. Ты посмотри, она будто из позапрошлого века! Так сейчас и смотреть никто не умеет… Такие глаза…
Соныч надевает футболку и становится похож на самого себя, мне уже не так страшно.
– Дим. Дим, я же не знал. У нас… У нас ничего нет, совсем. Близко даже. Ты… Ты чего сам не подойдёшь к ней?
– Боюсь, – просто отвечает Соныч. Обычный Димка Сон-Левитин, Соныч, мой друг.
– Хочешь, спрошу про тебя?..
– В табло получишь, не смей!
* * *
Мы играем экзамен. Камерный ансамбль.
Мы с Олей Коровиной смертники. Во-первых, мы играем Моцарта. Моцарт – обязательное испытание, мучение, за него никогда не ставят пятёрок, это не принято. Потому что в Моцарте мало нот, и просто сыграть их все не так сложно. Нужно что-то такое особенное, чему нет названия, вернее, есть: «умение играть Моцарта». Считается, что школьники этим умением не могут обладать по причине отсутствия опыта.
А я влюбился в Моцарта, по уши; я забросил специальность и играю только его, разное. И всё это из-за Оли. Она мне показала, как он дышит, как звучит – будто чистую воду пьёшь; и из первой ноты так естественно вытекает вся соната, будто другой музыки там и быть не могло. Как скульптор достаёт уже готовую скульптуру из неотёсанного камня, шаг за шагом, так и Моцарт – из мира звуков высекал одно единственно возможное произведение, удивительная штука, чудо. Музыка натянута от начала до конца, как леска, нигде не провисает, нигде не рвётся…
Моцарт прожил всего тридцать семь. Когда он успел столько?
Да, мы играем Моцарта, поэтому считаемся смертниками. Вторая причина – это порядок. Не повезло. Перед нами играют виолончельную сонату Бетховена Рома Семёнов и Густав Август.
Ромка тоже знаменитость на виолончельной кафедре. Жаль, я не могу их послушать: перед своим выступлением не слушают никого, чтобы не сбить настрой.
Не помню, как мы играли. Страшно волновался за Олю, не за себя. Я-то сыграю. Но она начала так здорово, таким звуком необыкновенным… И чудо: повела меня за собой, будто она сильнее. Я просто был рядом каждую секунду, и всё.
Подумал только, что всегда хочу с ней играть. Она меня чувствует, и я её.
Соныч треснул по плечу, сказал: ну ты крут, Противоракетный! К Оле не подошёл. А она вдруг расплакалась. Я мигал, мигал Сонычу: подойди, балда!!! Подойди сейчас, утешь девушку! Нет, этот ненормальный стоит столбом.
Пришлось мне.
– Ты чего? Чего ты, Оля, хорошо же играла!
– Правда… Правда хорошо?..
Она вдруг села на пол.
– Ты чего?!
– Ноги не держат, – она засмеялась, – вообще сил нет…
Тут уж Дима Сон-Левитин догадался дать ей руку. Я тихонько утопал на лестницу. Пусть сами.
Странно остаться одному. Одному с Моцартом в голове. Я облокотился на перила и смотрю вниз, как лестница заворачивается улиткой, красиво. В бесконечность.
– Поздравляю, – услышал знакомый царственный голос и вздрогнул. Марго! Слышала?!!
– Да, слышала. В ансамбле ты удивительно раскрываешься, Прохор. Буду с тебя теперь требовать большего. Можешь, умеешь. Держись, мало не покажется! – и она рассмеялась своим королевским смехом, и я впервые тоже смог улыбнуться при ней.
Объявляли результаты. У Сон-Левитина трояк. Страшно даже. Оля одной рукой в меня вцепилась, другой в Соныча. Ждём своих фамилий.
– Семёнов, Август – отлично с минусом. Коровина, Небейголова – отлично с минусом…
– Чего это Густаву минус? – спрашиваю я. Про нас я пока не понял. Это невозможно, чтобы так.
Соныч сияет, забыл про свой трояк. А у Оли блестят глаза, и она трескает меня по лбу:
– Всё из-за тебя! Из-за тебя, Небейголова ушастая!.. Первая пятёрка за всю жизнь, первая!..
И у меня первая. И за что – за Моцарта! Нас все поздравляют, а наша Лёлечка полезла обниматься и даже расцеловала меня в обе щеки.
Внезапно у меня схватывает живот. Сильно.
Бегу в туалет и долго не могу выйти. Даже немного реву, пока никто не видит. Я смог, смог! Мы с Олькой сыграли по-настоящему, по-настоящему!
Вдруг я слышу голос Густава. Он говорит с кем-то по телефону – тоже лучше туалета места не нашлось?! Встал к окну и говорит. Он же не знает, что я здесь; и мне теперь не выйти.
– Да, с минусом… Виноват, конечно, сам, я знаю. Понесло меня, понимаешь? И Ромку завалил… С виолончелью так нельзя, я понял уже. Понесло само, я не специально, разошлись даже… Не, чуть-чуть, почти незаметно, но неприятно… Главное, Ромке пришлось давить. Я тоже гений, конечно, не дал ему прозвучать. Да я знаю, что со мной хреново играть, мне Ромка уже высказал… Одеяло на себя тянешь, говорит. Поссорились даже. Хотя, знаешь, у нас в классе только один парень нормально ансамбль сыграл. Ага. Остальные так… Главное, девочка там такая средняя, флейтистка. Вообще не фонтан, нечего слушать…
Так бы и дал ему сейчас в лоб! За Олю! Больно воображает… Прямо вот сейчас выйду и скажу!
– Да, я сначала не слушал толком, переживал за нашего Бетховена, лажанулись мы, неприятно. Ну, и потом после Ромки такая совсем бледная девочка… Но, знаешь, я понял. Как важно уметь вторым быть. Впервые услышал. А то у нас все на себя играют. А тут – вторым. Бережно-бережно… Девочка прямо расцвела, знаешь. Я бы даже его попросил со мной концерт Рахманинова сыграть. Этот сможет, точно. Умеет вторым. Никто так не умеет… Прохор, да. Смешной такой, Небейголова. Чего? Да фамилия такая, представь!
Смешной. Сам-то, можно подумать, не смешной. А всё ж таки за Олю он у меня получит в табло, какой бы он ни был Густав.
Я просидел в туалете до темноты. Меня искали, звонили. Не отвечал.
А потом тихо вышел из школы, вокруг никого. У перегоревшего фонаря стало видно, какое небо звёздное.
Я включил у себя в голове концерт Рахманинова погромче и пошёл домой.
Лук
У Илюхи это было всегда, с самого детства. Среди самого обычного течения дня он вдруг выпадал из реальности. Будто кто ставил жизнь на паузу и в это время показывал ему совсем другое кино.
Он шёл в детский сад за руку с папой и вдруг понимал: там, под асфальтом, глина-песок-камни, и он будто летел вниз, через туннель, к жаркому ядру…
– Чего ты? – спрашивал папа. – Пойдём скорей. Холодно.
– Жарко, – отвечал Илья и снимал варежку. Папа удивлялся, какая горячая у него рука.
По дороге в школу это случалось чаще всего, именно утром. По городу ходили странные люди и оставляли на дороге дикие груши. Как знак. Илюха шёл за этими грушами, видел: груши лежат неестественно. Их так положили.
А потом приходилось бежать в школу из другого конца парка.
Родители сначала ругали:
– Илья, ты опять! Соберись! Почему в разных ботинках?..
А потом привыкли и стали шутить: доктор, у меня провалы в памяти… Это старый анекдот:
– И давно это у вас?
– Что?
– Провалы.
– Какие провалы?..
Илюха научился немного управлять этим и даже извлекать пользу. Он любил длинные нудные дела: чистить картошку, мыть посуду… Руки делают механическую работу, а сознание проваливается. Вода утекает из раковины сквозь шесть дырочек, делает вид, что бежит в трубу. Но там всё не так. Там всё другое, там пространство вывернуто наизнанку, вода сразу застывает и превращается в лёд, чистейший лёд, он капает с потолка пещеры… Илюха идёт по этой пещере с фонариком, и на каску его капает вода с ледяных сосулек.
Так же бывало и на скучных уроках. Иногда Илья застывал над решением трудной задачи, а потом выныривал из песка, сосновых иголок и пенопластовых шариков – сначала со счастьем, что его не успели засыпать, и потом с ещё большим счастьем, что ничего этого не было. И ответ задачи уже откуда-то был в голове. Но это случалось не всегда, так что учился Илья неровно.
Однажды учитель отправил его на математическую олимпиаду вместо заболевшего Вадика. Случайно: просто Илюха жил недалеко и успевал добежать до школы. Он помнил, как зашёл в класс, как взял задание олимпиады.
А потом обнаружил себя в девчоночьем туалете. Хорошо, никто его там не видел, кроме уборщицы.
На вопрос учителя: «Как прошло?» – пожал плечами. Однако потом ему дали какой-то диплом второй степени. Правда, сразу после этого он нахватал семь двоек за один день. И учитель математики решил, что он перенапрягся. Зато перестал дёргать: «Волохов, ты где сейчас?»
Тихо подкладывал задачи разной сложности – и в конце урока забирал то готовое решение, то чистый лист.
* * *
Единственное, где Илья научился чётко проваливаться в эти вспышки сна, – стоматологический кабинет. Зубы достались плохие, лечить приходилось часто. Илья спокойно садился в кресло, открывал рот. Наблюдал за руками врача – больше нигде он так близко не видел женских рук, рассматривал поры и мелкие морщинки. Ногти покрашены сиреневым лаком, а безымянный палец – ярко-розовым.
…Как в племени Си, в древнем африканском племени, где безымянный палец считался особенным. Им нельзя было совершать никакой работы. Можно было использовать лишь в двух случаях: при игре на музыкальном инструменте и прикосновении к любимой женщине. С тех пор возникла традиция надевать на палец обручальное кольцо. А детям, чтобы не перепутали, какой палец нужно беречь и ни в коем случае не совать, например, в нос, ноготь этого пальца красили специальной глиной.
Лица у людей племени Си были широкие, почти азиатские, цвета крепкого чая. Но у Илюхиной невесты цвет лица был ещё темнее, почти чёрный; и очень длинная у неё была шея. Илюха любил смотреть на неё в профиль, когда солнце садится и тени становятся острыми. Он ещё ничего не сказал ей, только иногда ночами представлял её профиль с длинной шеей и прикладывал безымянный палец к губам. Спать было жарко, циновка из травы пахла травой и потом, по ней полз муравей и…
– Сплюньте, – сказала врач.
Илюха увидел яркий свет стоматологической лампы, послушно сплюнул, попросил салфетку. И незаметно приложил безымянный палец к онемевшей губе.
…Они шли с классом на экскурсию, выходили все вместе из автобуса и шли к монастырю. До монастыря было шагов сто, не больше.
– Я кошелёк забыл, я быстро, – сказал Илья и побежал обратно к автобусу.
На стоянке был маленький киоск с кофе и пирожками. Зачем он сбежал ото всех?
Непонятно; ясно только, что сейчас ему совершенно необходимо побыть даже не одному, а без них.
Кофе продавал азиатский паренёк с плохой кожей. С акцентом попросил «без сдача», Илюха выгреб из карманов мелочь.
И вдруг он услышал музыку. Тихо-тихо. Музыка была самая настоящая, не в голове. Крейцерова соната. Звонок у кого-то? Нет. Нет, точно: из-за кофейного прилавка.
– Это вы Бетховена слушаете?
Паренёк закивал:
– Да, да, люблю скрипка очень.
Илюха спокойно выпил кофе, дослушал коду первой части.
– Красиво.
– Написано в телефоне: «Крейцерова соната», – сказал паренёк. С телефона, значит, слушает.
– Я знаю, – ответил зачем-то Илюха, – я её играл.
– Скрипка играешь? – поднял редкие брови продавец.
Илья кивнул:
– Видишь, мозоли на пальцах…
Потом очнулся, побежал догонять своих. Его никто не успел хватиться, как раз только все собирались, и учительница никак не могла пересчитать всех девочек, щёлкающих на телефон монастырь, причём обязательно снизу, чтобы колокольня казалась выше.
«…Что это было? – думал Илья. – Ведь это не был сон, а всё же провал в совершенно другую реальность. Бетховен на автобусной стоянке… И зачем я наврал этому парню, мозоли совсем не от скрипки».
Бетховена играл папа. Илюха усмехнулся: вот что по-настоящему странно. Другие могут сказать: у моего папы «БМВ», и его подрезал один тип, и он… или: мой папа поймал вот такую рыбу, или: мы с папой ходили на футбол. А Илья мог сказать: мой папа вчера играл за стенкой сонату Бетховена. Он так давно её учит, что мы с мамой тоже выучили наизусть.
Илюха музыкой не занимался. Пробовали, конечно, но он с самого начала так расстраивался, что у него не выходит. В ушах есть, а руками не получается. Пришлось бросить, а то были сплошные слёзы.
Потом уже, в седьмом классе, научился играть на укулеле, маленькой гавайской гитаре. Слух, оказалось, хороший, и все аккорды уже будто были в голове, ждали своего часа: он не знал их названий, просто чувствовал, какой подойдёт именно сейчас.
Укулеле принёс папа, думал как раз Илюху увлечь. Но Илья поначалу отказался наотрез, вспоминая первые уроки музыки. Папа побренчал сам, пел смешные песни на английском языке; потом забросил – некогда.
…А потом мама сказала:
– Илюша, принеси мне очки, пожалуйста. Они возле кровати где-то лежат в спальне.
А через полчаса зашла сама в комнату и обнаружила Илью на этой самой кровати. Он лежал, подняв ноги высоко на стену, и задумчиво перебирал струны укулеле. Мама тихо взяла очки с подоконника и вышла.
Так что мозоли были от гитары, хотя и мозолями их не назовёшь – так, отпечатки от струн. Не то что у папы: врачи кровь не могут взять.
– Волохов, о чём задумался? – спросила учительница.
– О музыке, – ответил он и поднял глаза на шатровый купол церкви. Уносит в небо. Наверное, в старину вот так стояли и смотрели на этот купол. И их уносило, кружило, вертело… И становилось легче.
А ему, Илюхе, становится легче – от чего? Что у него в жизни такого тяжёлого происходит, обычная жизнь. Страшнее того, что мама лук заставляет есть – «в городе эпидемия гриппа!», – ничего не случается.
И всё же зачем был этот кофейный мальчик с Бетховеном? Это же было на самом деле, не провал в голове! Значит, на самом деле человек иногда будто попадает в другой мир. В совсем другой.
…После экскурсии Илья не пошёл домой, а стал бродить с телефоном, фотографируя разные места. Именно те, где встречаются два мира: старая колонка для воды (как сохранилась ещё?!) – а за ней небоскрёб. Или лучше всего окна, проёмы. Арки, дырки в пространстве. За бетонными плитами – река. Во дворе сушится бельё; полощутся две тельняшки. А между ними виден огромный подъёмный кран.
«Новое дело», – подумал Илья. Будет теперь собирать такие штуки. Потому что провалы в другие миры существуют не только у него в голове, но и на самом деле.
…Ночью проснулся от страха. Почему-то было очень страшно, хотя если рассказывать сон – ничего такого, просто лестницы.
Илья взял со стула укулеле, тихонько – чтобы никого не разбудить – прошелестел по струнам. Всухую, без звука, зажал несколько аккордов, горло напряглось – будто запел, но без голоса. «Может, я музыку смогу писать? Это же вроде бы ничья песня». Ночной кошмар отступил, но мысль о своём композиторстве так взбудоражила его, что уснуть уже никак не получалось.
Встал и потащился на кухню выпить воды. Это всегда помогало.
На кухне горел свет. Илья посмотрел на часы – третий час ночи.
На кухне стоял папа и аккуратно резал красную луковицу, стараясь не стучать ножом по доске.
– Папа, что ты делаешь? – спросил Илья. Может, ему это всё ещё снится?
– Лук режу, – объяснил папа. – Пока мамы нет.
А, точно. Мама в командировке.
– Лук? Зачем?
– Люблю, – признался папа. – А мама терпеть не может.
– Не может? Сама же им меня и пичкает!!
– Это она себя мучает, для здоровья. В интернете прочитала, что самое действенное средство, лучше любых лекарств. А так она не переносит запаха. С едой может, а отдельно…
– Па… А ты что, правда любишь лук? Вот так, без всего? Разве так едят?!
Папа музыкальными своими пальцами подхватил колечко лука и захрустел им.
– Очень люблю.
– Представляешь, – решил рассказать Илья, – сегодня на экскурсии кофе пил в какой-то уличной кафешке. И там парень-продавец слушал Бетховена.
– Сурка?
– Крейцерову сонату.
Илюха хотел добавить, что продавец был нерусский, но застеснялся. Папа очень щепетильно относился к национальным вопросам, скажет ещё: «Какая разница? Просто человек!»
– Слушай, ты это выдумал? Или на самом деле?
– На самом, – ответил Илья, а потом засуетился, стал искать зарядник от телефона – почему-то обязательно захотелось показать свои фотографии, провалы в пространстве.
– Интересно, – сказал папа. – Слушай… Слушай, давно хотел сказать. У меня ведь тоже это есть.
– Что?
– Ну, как у тебя. Я задумываюсь и улетаю. Сейчас уже меньше, некогда. А в юности… Мама очень обижалась, и я научился это прятать. Она спросит: «О чём ты только думаешь?» – а у меня припасён логичный ответ: «Думаю, как бы нам достать еды, например».
– А сейчас?
– И сейчас бывает. Поэтому я так и не научился водить машину: боюсь. Я, знаешь, в детстве как-то задумался на бегу. И впечатался в стену со всего маху, лбом, – он засмеялся и потрогал рукой почти незаметный шрам на лбу. – Тогда уже понял, что за руль мне нельзя.
«Интересно, а мне можно будет?» – думал про себя Илья.
– Я всё же думаю, – ответил папа, – что это не болезнь, а талант. И нужно научиться его использовать. Может, ты снимешь особенное красивое кино…
Кино. Как его снимешь, если самое главное происходит внутри головы?
– Э, оставь мой лук! – возмутился папа. Илюха только сейчас заметил, что таскает его руками из тарелки и жуёт. И этот гадкий лук удивительно вкусный, оказывается.
– Я нечаянно.
– За нечаянно бьют отчаянно, – вдруг ответил папа поговоркой из своего детства, – полтарелки слопал!
Илья вдруг заметил, что по всему столу аккуратно расставлены яблоки. Не в тарелке, а именно на столе – как фигуры в сложной игре.
– А яблоки зачем? – спросил он.
– Для красоты, – ответил папа. – Для красоты мира. Яблоки – пространствообразующий элемент.
Илюха выпил воды и пошёл спать. И только закрыл глаза – увидел эти яблоки: яблоки были расставлены по всему небу, небо ночное, но светлое. И по небу летел нарисованный папа и махал нарисованными крыльями, как на картинах Шагала.
А Илья сидел под мостом и смотрел на него. Илья был настоящий, не нарисованный. Он играл на укулеле Крейцерову сонату Бетховена.
…Проснулся за десять минут до будильника. Этому фокусу научился давно: так он получал время для совершенно законного провала куда угодно.
Но тут он не стал проваливаться. «Нужно научиться чётко отделять реальность от моих выключений, – думал он. – Или не нужно?»
На кухне распахнуто окно, Илюха поёжился. Папа, значит, проветривает кухню от лукового отчаянного запаха.
Талант или болезнь? «Это как лук, – вдруг подумал он. – Вроде гадость, а вчера было вкусно».
Главное – найти баланс между реальным и вот этим… этим… Как бы это назвать?
Оконные рамы хлопнули одна о другую, Илья поспешил закрыть окно и замер.
На пожелтевшую траву, усыпанную подгнившими городскими яблоками, ровно ложился первый снег.
Грошик
Грошик всегда любил аэропорты. Ждать самолёта – это как последний день перед каникулами: кажется, у самого крылья растут!
Но сегодня всё было не то. Даже странно.
Каждый год они куда-то летали, и всегда хотелось прыгать от счастья. В детстве он так и скакал на самом деле, потом стал прыгать только внутренне, про себя. А сейчас не хотелось. Ну, летят. Ну, самолёт. Ну, море.
Неужели я стал взрослым, усмехнулся про себя Грошик. Да нет, ерунда, рановато. Просто он волнуется из-за школы, вот и всё.
Грошик поступал в другую школу, в восьмой класс. Экзамены сдал средне и сейчас оказался в подвешенном состоянии: может, возьмут, а может, и нет. И он останется Грошиком на всю жизнь, то есть ещё на четыре года.
Хотя… Наивный дурачок он был, когда думал – в другой школе всё будет не так. Так же будет, ничего не изменится.
Сегодня утром он пошёл смотреть результаты экзаменов. Вечером вывесят в интернете, но неужели ждать? Списки были прямо на двери школы, на улице.
Грошевский, двадцатым номером. Что же… Через неделю будет сдавать экзамены ещё один поток, а мест двадцать пять. Если хотя бы шесть человек напишут лучше – он, Грошик, в пролёте. Вероятность поступления… Он прикинул в уме, потом плюнул: вероятность выходила не очень. Хотя шанс есть. Есть же шанс!
– А, Грош! Что, ты как?
Вздрогнул, обернулся: кто здесь из старой школы? А потом понял: это не из старой… Фёдор, чудной такой парень, волосы синие с одной стороны, с другой их вообще нет, и туннель в ухе.
– Вот, двадцатый, – сказал ему Грошик.
И отошёл. Говорить не хотелось.
Медный грош, ломаного гроша не стоит, пропасть ни за грош. Видно, дёшево он выглядит, раз прозвище сразу прилипает к нему.
Всё, забыть. Впереди самолёт, радость! Отчего же она никак не наступает?.. А может, дело не в поступлении, а просто они впервые едут с мамой вдвоём. Грошик привык, что их много, Грошевских. Папа, мама и три брата, да каких брата! Он, Грошик, всегда был из всех самый маленький. И всю школу ему говорили: Грошевский? О, у тебя такие братья!
Конечно, когда есть Илюха – капитан школьной команды по баскетболу, и Тимофей – главный диджей всех дискотек, ему самому оставалось быть только Грошиком.
Всегда они дёргали его, шутили, расслабиться нельзя ни на минуту. И он даже обрадовался, что едут без них – сколько можно, в самом деле?.. Но почему тогда даже в аэропорту как-то пусто? Будто зуб выпал, а всё хочется его языком пошатать.
– Матюша, я отойду ненадолго, – сказала мама.
Он кивнул, сделал скучное лицо. А внутри стало страшно. Ну что ты за младенец, от мамы ни на шаг… Детский сад на выезде. Он так привык быть со старшими, никогда не оставался один в таком большом пространстве.
В магазинчике через стекло было видно: какой-то мелкий пацан лет десяти рассматривает телефоны. Один, никаких мам с ним не было. Да брат Илюха на свой футбол в шесть лет один ездил в троллейбусе, а он что?! Точно Грошик, и это на всю жизнь.
– Всё в порядке? – спросила мама. Уже вернулась.
Он вздохнул с облегчением и тут же разозлился на себя. Нет, хорошо, что они поехали вдвоём! А то он так и будет каким-то придатком. Вечным хвостом. Надо взрослеть.
– Грустный какой-то; из-за школы переживаешь? Не волнуйся, ты сделал что мог. Уровень у тебя хороший, если чуть-чуть не хватит – можно будет на следующий год попробовать…
Вот! Даже мама не верит, что он поступит. Даже мама! Не понимает, каково это – остаться в старой школе. Для всех учителей – «Грошевский-младший». И хоть бы старшие были двоечники какие, так нет! «Учись как братья! Бери пример!» И он даже завидовал приятелю Артемьеву: тот отвечал сам за себя, потому что ни братьев, ни сестёр у него не имелось.
И старшеклассницы вечно ловили Грошика, младшего братца, и передавали записки (в начальных классах ему даже нравилась эта роль почтальона).
А потом надоело. Маленький, маленький, и ростом самый мелкий в классе, и ничего-то он не решает, ничего от него не зависит. Это не я, меня здесь не было.
На самом деле сменить школу посоветовал Тим. Сказал: вот, смотри какой лицей, хочешь попробовать? Там про нас, старших, и знать никто не будет… Тимофей вообще его понимает, чувствует. Жаль, что не удалось с ним сегодня поговорить. И вообще жаль, что они не летят вместе. У Тима экзамены, а у Илюхи соревнования. Какое уж тут море. А маме дали отпуск только сейчас, в июне. И тут как раз позвонила мамина школьная подруга Майка, позвала в гости. И она решилась: поедут вдвоём!
Вдвоём. И без этих огромных балбесов оказалось, что им с мамой даже говорить не о чем.
Мама читает и улыбается. То ли книге, то ли своим мыслям: конечно, впереди море, и главное – увидит свою подругу, сто лет не виделись!
Грошик тоже делает вид, что читает. А у самого в ушах – вот эти утренние слова синеволосого Фёдора: «Ну что, Грош? Как?»…
Илюху с Тимохой никогда не звали Грошиками.
* * *
Но когда они сели в самолёт («Поддуть жилеты через клапаны поддува», – всегда смеялись они впятером; а тут с мамой только переглянулись), и когда пристегнули ремни, и когда самолёт пошёл на разгон – и вдавило в сиденье, и заложило уши, – только тут Грошик почувствовал «внутреннее прыганье», когда сердце готово разорваться от счастья. Летим!
«Может, мне стать лётчиком?» – подумал он тихонько и сам себя засмеял за эту мысль. Кому лётчиком, тебе, Грошику?..
Но всё равно было счастье. Там, в небе. И не хотелось думать, что дальше, – ни про школу, ни про море, ни про неизвестную мамину подругу (тоже никогда не знаешь, чего ожидать от этих знакомых, лучше бы в гостиницу). Просто небо, и всё.
Как это другие могут читать или играть в телефон в небе? Ещё уши наушниками затыкают и смотрят в экран. Мы же летим, летим, летим!
«Тим», – отозвалось в ушах, и Грошик наконец улыбнулся. Вообще, повезло ему, такие братья! И дома ему хорошо, очень хорошо, для них он Мотька, для мамы – Матюша, и никаких тебе медных ломаных единиц оплаты. Бедный Артемьев, как он всё время один?..
* * *
Прилетели совсем ночью. Мамина подруга Майка оказалась тонкая, длинная, похожая на девчонку или даже на пацана. Никак не скажешь, что они с мамой ровесницы. Грошик впервые заметил, что мама вообще-то выглядит не очень. Устаёт с ними, конечно. На море ей самое время; раньше он думал, что она только его «вывозит», а ведь ей и самой нужно! Грошик ревниво рассматривал эту тонкую Майку: наверное, у неё нет троих сыновей.
– Неужели Матвей? – поразилась она. – Какие же тогда старшие?!
Мама засмеялась, показала руками какие – для этого ей пришлось подняться на цыпочки.
– Вот ты, Санька, счастливая, – вздохнула Майка, и Грошик тут же простил ей эту девчоночью лёгкость во всём. – Поехали скорее, пока мои Черешенки спят, – заторопила она их, и тут уж мама ахнула:
– У тебя? Я не знала.
– Да, сразу две, – засмеялась Майка, – увидишь какие…
Черешенки. Кто это, неужели дочки? Маленькие, раз мама про них не знает. Во он влип, а! Вот тебе и море, в компании двух младенцев… Хотя ладно, поживём – увидим, может, не девочки, а птички какие-нибудь.
Но оказалось – нет, не птички.
– Сколько им?
– Почти четыре. Да, двойняшки.
– Что же ты молчала!!
– Ну… Ты бы стала суетиться с подарками… Мне не хотелось…
– Майка… Ну ты даёшь. И… Сама?
– Сама, – тряхнула головой Майка, совсем как Соня из параллельного класса. И добавила: – Матвей! Бери чемодан и пойдём в машину.
И ему понравилось, что чемодан взял он, а не мама. Дома она ему не отдавала, а тут и вариантов не было.
– Как ты хорошо водишь, а я так и не научилась, – хвалила мама Майку. – И выглядишь так хорошо, совершенно не изменилась!.. Вернее, нет, изменилась. Ты такая не была… Очень похорошела.
– А ты совсем такая, как была, – сказала Майка.
– Ну, это ты врёшь. Я-то знаю. Чего уж там.
– Ничего не вижу, – сказала Майка ещё раз очень уверенно, – не изменилась. Я бы только тебя постригла. Хочешь? Я хорошо стригу.
– Ты? Стрижёшь?! – поразилась мама.
– Ну да. Надо же как-то выживать… Сначала – для заработка, а потом понравилось. У меня, говорят, руки лёгкие.
– Стрижёшь, – повторила мама, – с твоим образованием…
– Образование – ерунда, – отмахнулась Майка, – у всех образование. Кому сейчас нужен мой французский? У нас курортный город, сфера обслуживания, сама понимаешь… Ну, есть два французских ученика. Но за стрижку я получаю больше. И потом… Это просто стереотип, что работать надо головой, а ручной труд не престижен. Если у меня получается и людям это нужно – почему нет? И потом, Сашка, знаешь… Стрижка может сделать человека счастливым. Хоть на несколько минут, но это всегда радость. Я вижу. Давай постригу, а?
– Ну ты даёшь, Майка. Никогда бы не подумала. Всё же какой ты удивительный человек! А французский?
– Ну что французский… Перевожу немного для себя, одну книжку, детскую. Но это так, занимаю мозг, чтобы работал. Хобби. Как у других вышивание.
Грошик не дослушал, что она там переводит, уснул.
* * *
Приехали под утро, было уже совсем светло. Маленький домик, вот чудо! Не квартира. Домик и садик в два метра перед ним, цветы и дерево. Рядом с деревом – столбик, и качели подвешены. Как на картинке! И морем пахнет, уже прямо тут пахнет! Ура.
Майка показала им комнату – крошечную, ничего лишнего; на узких кроватях уже было постелено.
– Ложитесь, – сказала она, – ещё успеете поспать.
– А ты? – спросила мама.
– Я уже точно не успею. Девчонки сейчас проснутся.
– Как же ты, Майка! Мы бы сами доехали, а ты всю ночь за рулём, я же не знала…
– Я очень хотела тебя увидеть, – сказала Майка как-то очень просто, – вот и всё.
Грошик вдруг остро позавидовал маме. Ведь они школьные подруги, хотя и не виделись, не говорили столько лет. Мама даже не знала про Черешенок. И всё равно: Майка мчалась в аэропорт на машине всю ночь, чтобы встретить. А он, Грошик, сможет вот так приехать к кому-то из одноклассников? К кому?.. И чтобы вот так: я очень хотел тебя увидеть… Нет, таких друзей у него нет.
…И тут в дверном проёме – явление.
Это было похоже на картинку, какими девчонки перекидываются во «ВКонтакте». Через открытую дверь светит утреннее солнце, и в этом сиянии появились два ангела. Два совершенных ангела в длинных ночных рубашках.
– Черешни! Доброе утро, – сказала Майка. – Знакомьтесь, это наши гости: Александра и Матвей.
– Матвей, – сказали Черешни одновременно.
Грошик сел на пол, чтобы быть с ними одного роста. И смотрел во все глаза.
Они были разные. То есть потом только он увидел, что лица совсем одинаковые; отличались волосы. У обеих тёмные, но у Ани – длинные, прямые, а у Аси – короткие, мелко вьющиеся, такой шапкой. И ещё у Аси две маленькие родинки на щеке, точка с запятой.
– Гости пусть отдыхают, а мы пойдём умываться и завтракать, – сказала им Майка.
– С Матвеем, – сказала Аня тихо.
– С Матвеем, – сказала Ася громко.
И Матвей вдруг понял, что спать не хочет совершенно.
* * *
Грошик никогда не любил маленьких, вечно они путаются под ногами и орут без повода, поди разбери, чего им надо. Но Черешни были волшебные. Тихая, осторожная Аня и совсем другая Ася, ни секунды на месте. И когда он пошёл с мамой на море без них – даже на минуту расстроился. Но потом было море, и он всё забыл.
…Море ещё холодное, но мама отважно пошла купаться, и Грошик за ней. Они купались одни на всём берегу, и он страшно этим гордился. Вода смыла все неприятности: и все обиды на братьев, и даже это нелепое «Грош» от синеволосого Фёдора, того парня с дыркой в ухе. Интересно, а как этот Фёдор сдал экзамен? Грошик даже не посмотрел. Он всегда немного завидовал таким смелым, кто мог проколоть себе ухо, сделать татуировку или побриться наголо. Не то чтобы это очень красиво, просто сразу видно: вот, смелый человек.
Самого Грошика хватило только на то, чтобы однажды отказаться от парикмахерской. И мама внезапно обрадовалась:
– Хочешь отрастить волосы? Давай попробуем, я давно хотела тебе предложить!
…Ну вот, он предполагал, что это бунт; а оказалось – она сама же и хотела. И вообще он всегда подозревал, что после Илюхи с Тимохой она ждала девочку.
Надеялся, что длинные волосы добавят ему хоть немного крутизны, но вышло не очень: так, болтаются какие-то светлые водоросли. Ну и ладно, ещё не хватало думать о внешности.
Голова сохнет долго, и Грошик замёрз. Мама шла обратно медленно, а ему бы хотелось поскорее. Шёл и старался не стучать зубами. Свитер, что ли, надо было взять с собой на это море?..
Черешенки были на улице, Аня качалась на качелях, а Аська-точка-с-запятой сидела на дереве. И тут они увидели его.
– Матвей!!! – закричали вместе, и спрыгнули со своих мест, и понеслись к нему, и повисли на руках; и он закружил их, такие лёгкие оказались!
А в ушах звенело это «Матвей!», и он вдруг понял: у него в животе счастье. И прыгает там, и хочет через горло выскочить наружу.
– Очаровал моих девчонок? – засмеялась Майка. – Как же они тебя делить будут?
И правда, весь вечер они не могли его поделить. «Я с Матвеем!» «Нет, я!» – кричали они и заползали ему на колени, на спину, на плечи, на голову даже.
…А вечером, когда девчонки заснули, Майка постригла маму. И Матвей не мог понять, что изменилось: волосы не стали сильно короче, просто… Просто другая мама. Моложе и веселее. Как это? Волшебство.
– Нравится? – спросила мама.
– Очень, – ответил он.
– А ты? – спросила вдруг Майка. – Хочешь?
– Он длинные хочет, – засмеялась мама, – отличаться ему хочется от других.
– Отличаться? – удивилась Майка. – Хорошо, я подумаю…
* * *
– У тебя самого идеи есть? – спросила она. Было раннее утро, девчонки ещё спали. А Матвей уже сидел с вымытой головой, укутанный фартуком, и рассматривал в зеркале своё глупое лицо. Что можно сделать с таким?..
– Делайте что хотите.
– А не боишься?
Чего бояться. Не налысо же она его побреет.
– Доверяешь, значит?
– Да.
– Ну, смотри…
Он сначала и правда смотрел, а потом закрыл глаза. Непривычное ощущение, давно его всё же не стригли. И потом, в парикмахерских было неприятно и хотелось поскорее уйти, пусть хоть как, лишь бы быстрее. А у Майки, видно, были и правда лёгкие руки. Только что она делает? Затылком непривычно чувствуется сталь ножниц и воздух, и возле ушей тоже. Холодно. Это что, правда наголо, что ли?
Немного страшно. Но и интересно. А хоть бы и совсем под ноль, почему бы и нет? Не трус же он, не трус!
– Ну, открывай! – сказала Майка.
Он открыл глаза.
В зеркале отражался незнакомый человек.
Провёл руками по затылку, по вискам. Точно, почти наголо – осталась коротенькая шёрстка. Зато сверху – остров длинных волос и косая чёлка.
– Ещё можно вот так, – сказала Майка и быстрым движением собрала ему всю эту чёлку в короткий хвостик на самой макушке.
У парня в зеркале обозначились непривычные чёткие скулы, выпуклый лоб. И непонятно откуда взявшийся насмешливый взгляд. Неужели это я?!
– Не слишком радикально? – спросила Майка, но она уже видела, что ему нравится.
– Не слишком, – сказал он. Хотелось сказать что-то вроде «вау, как же круто!», но постеснялся.
– Ну-ка сделай вот так, – Майка прищурилась и показала два пальца буквой V.
Он повторил её жест, и она тут же щёлкнула его на телефон:
– С ума сойти, прямо звезда с обложки!
Маме не понравится. Вот точно.
Но ей понравилось.
– Ну, Майка… – сказала она. – Ну, Майка, ну, Мотька! Вот вы даёте.
Ему захотелось сразу же выложить фотографию у себя во «ВКонтакте», но интернет не работал.
– Вызову мастера, починит, – пообещала Майка. – Я сама хочу выложить, ты мне разрешишь? Вы моя профессиональная удача.
– Матвей! – раздался голос первого ангела из коридора, и сразу же включился второй: «Матвей, Матвей, Матве-е-е-ей! Ты где?!»
И понеслось.
Матвею нельзя было отойти ни на шаг, ни на секунду! В туалет сбежать от них – спецоперация.
Матвей строил башни из коробок и стульев. Матвей делал дом из пледа. Матвей играл в инопланетное вторжение. Матвей устраивал гонки стеклянных шариков с разных горок.
Матвей катал обеих на плечах.
А потом они пошли на море.
Там, на песке, четыре парня чуть старше Матвея играли в волейбол. И он внезапно застеснялся снимать майку: по сравнению с ними такой бледный и такой худосочный, «ни грамма лишних мышц», как шутил брат Илья.
– Матвей, Матве-е-е-ей!
И он тут же забыл про этих волейболистов: хотелось таскать песок ведёрком, строить замок, рыть подкопы. Собирать камни и выкладывать буквы. Совсем впал в детство!
– Знаешь, – сказала ему Майка, – тебе надо с детьми работать. У тебя настоящий талант. Черешни вообще-то совершенно не выносят чужих, это первый раз с ними такое.
А Матвей всё строил и строил, весь в песке, а девчонки выкладывали камешками дорожку к замку.
Многие останавливались и даже щёлкали их строение на телефон.
Подошла девчонка, взрослая, чуть старше Матвея, покрутилась рядом, помялась, а потом прямо спросила: можно с вами?
– Нельзя! – крикнула вдруг Ася. – Нельзя, это наш замок! Это наш Матвей!
И бросила в девочку песком.
– Как так можно, Ася! – пытался отругать её Матвей, кусая губы, чтобы не расхохотаться.
В итоге новую девочку всё же приняли, а к вечеру Матвей организовал крупные строительные работы: в их отряде было уже человек десять.
Но Ася всё же упрямо твердила: «Это мой Матвей!», – а Аня просто тихо обнимала его за ногу, он чуть не шлёпнулся из-за неё.
Вечером Матвей вызвался читать им, так и уснул в их комнате. Проснулся на спальном мешке, под пледом – видно, Майка ему притащила какое-то подобие постели и он во сне туда переполз.
Утром они с девчонками не стали будить мам, оделись и ушли сразу в садик под окнами.
Пытался заплести Ане волосы, и Аська тут же ревниво заявила, что тоже скоро отрастит длинные. Потом они вернулись на кухню, и Матвей отважно замутил большой омлет с хлебом и сыром – единственное блюдо, которому его обучил брат Тимофей. Потом встала мама и показала, как варить кофе в турке. На запах проснулась и Майка.
– Кажется, выспалась первый раз в жизни, – сказала она. – У тебя, Санька, не сын, а мечта.
– Сама его не узнаю, – ответила мама.
Ага. Обычно, значит, Матвей лентяй и оболтус.
* * *
Через несколько дней мама уехала в город по магазинам, девчонки днём уснули, и Матвей остался с Майкой вдвоём.
– Интернет заработал, знаешь? – сказала она.
– Ага. Вообще, иногда и без него полезно. Информационная детоксикация, – ответил он. Ему было неловко; непонятно, как её называть: просто Майя? Не тётя же?
В идеале, конечно, сейчас и правда свалить в интернет. Но вроде уже и не тянуло так, как раньше, и хотелось это сохранить – чувство реальной жизни. Такое короткое это время всё же, завтра уже уезжать… И эта фотография с новой причёской… Что он, девочка, своё лицо выкладывать? Расхотелось, стало всё равно. Не нужны ему три чужих лайка. У него Черешни есть, такие Черешни!
– Интересный ты человек, – сказала Майка, – Смотрю и завидую Сашке: у меня ведь тоже такой сын мог бы быть…
– Никакой я не интересный, вы же совсем ничего не знаете, – сказал Матвей. – У меня и друзей в школе нет. Сейчас вот поступал в новую и, похоже, завалил экзамены.
– Нет друзей? – спросила она. – У меня тоже не было…
Как?! У неё, вот у этой весёлой, лёгкой такой!
– Терпеть не могла школу. Только один был праздник – французский. Я его любила, и он меня… А так – казалось, и поговорить не с кем… Длинная была, сутулая, очки ужасные, зубы кривые… Аллергия страшная вылезала на всё подряд, со мной сидеть никто не хотел. Да ещё Футболкой дразнили…
– Кем?
– Футболкой. Ну, Майка же… Ненавидела своё имя. И потом… Тоже была история, письмо написала одному… Одному человеку, казалось, он лучше других. Вот же дура была, вспомнить страшно. Как потом надо мной смеялись. Все.
– Все?..
– Все. Я тогда совсем с ума сошла, жить не хотела. И вдруг один человек зашёл в класс и сел со мной. И сказал: хватит ныть. Ты тут самая красивая, им не понять.
– Тот, которому письмо?..
– А, этот – нет, конечно. Тот как раз его всему классу и показал. Другой человек, девочка. Независимая такая, умная, красивая… Мальчишки её уважали очень. Не клеили – именно уважали, побаивались. И она меня спасла. Села со мной, не испугалась общественного мнения. И так и сидела до конца школы. Ей говорили: ты что, больная, с ней сидеть?.. Знаешь, мне кажется, в тебе тоже это есть.
– Что? – не понял Матвей.
– Вот это умение защитить, позаботиться. С тобой не страшно. Недаром же Черешни от тебя ни на шаг, чувствуют: не страшно.
– Не знаю, – пожал плечами Матвей. – Вообще, я думал, что я трус. И так, серая мышь.
– Ну нет. Девчонки мои видят, с кем дело имеют. Поверь им.
– А с той девочкой… Вы дружите сейчас? Видитесь?
– Вот, увиделись наконец, – улыбнулась Майка. – Я очень вас ждала.
– Мама? – поразился Матвей.
– Ну конечно. Сашка из такой дыры меня вытащила, ты и представить не можешь. Она у тебя очень сильная. И ты на неё похож.
* * *
Уезжать не хотелось.
– Обязательно пиши, – сказала Майка. Не маме, а именно ему.
Как прилетели – Матвей сразу зашёл на сайт новой школы, прямо в аэропорту, с телефона. Да, окончательные результаты экзаменов есть.
Двадцать пятый. Над самой чертой. Прошёл. Поискал глазами синеволосого Фёдора Рыбакова – сначала не нашёл, потом увидел: вторым номером. Надо же, умный, оказывается, с виду и не скажешь. Значит, будет такой одноклассник. Надо будет сразу с ним навести мосты.
Пока не верилось. Дома братьев ещё не было, и он, не разбирая чемодана, всё же рванул к этой новой школе, посмотреть своими глазами списки.
Точно, двадцать пятый. Прошёл.
– Йес, – сказал он тихонько.
– Прошёл? – спросила его высокая нескладная девочка – оказалось, стояла рядом.
– Да, последним вот! Проскочил, – и он показал свою фамилию.
– Значит, в одном классе будем, – обрадовалась она. С чего он взял, что она нескладная? Вполне хорошенькая. – Вот я! – и она показала на фамилию в середине списка: «Петрова М.».
– Маша или Марина? – спросил он.
– Майя, – ответила она, – а ты Миша или Макс?
– Матвей, – сказал он, стараясь не улыбаться слишком широко.
– Грошевский, – сказала она, – красивая фамилия у тебя.
Матвей сжался. Вот сейчас скажет… Сейчас. Грошик.
– Ладно, пока, Матвей! – улыбнулась она и подхватила свой самокат. Точно, можно теперь на таком в школу ездить.
Матвею вдруг захотелось сделать сальто – надо научиться, кстати. Или самокатные трюки какие освоить.
А пока он просто прыгнул с крыльца сразу через все ступеньки.
Подросток N
«Подросток N испытывает трудности в общении с одноклассниками».
Чуть не рассмеялся вслух.
Это девушка в метро читает журнал, а я стоял рядом и заглянул. Наверное, «советы психолога» у неё там или что-то вроде этого. Читаешь такое и думаешь, что ты умный: психолог ещё только начнёт советовать, а тебе уже с этим подростком N ясно всё.
Кто, интересно, не испытывает трудностей в общении?..
И вдруг мне в голову пришла такая простая мысль: каждый человек думает, что он особенный, что в его голове – отдельный мир. Неповторимый. Я, скажем, совершенно не такой, как все.
А на самом деле – подросток N.
Типаж, похожий на других. И мы все такие. В каждом классе есть лидер, шут, принцесса… Ну, сами знаете. Любую книжку читаешь, любое кино смотришь и видишь: о, это наш Костик, это Ильицкий, это Даша… Вот взять Гарри Поттера. Думаете, его так все любят, потому что он мальчик-волшебник?
Нет, там все узнают своих. Там всё как у нас, но проблемы решаются с помощью волшебства, поэтому повеселее.
А так все герои раскладываются на любой класс. Хотя в книге преувеличено, конечно. Гипербола, художественный приём.
Конечно, мы немного отличаемся друг от друга. Но всё равно говорим слова, которые другие уже говорили, совершаем те же действия, что были до нас. И книги нравятся, в которых читаешь свои мысли. Ты не смог сформулировать, а автор смог.
Ну и кто ты после этого, такой умный и оригинальный, да?
Я даже сочинения в школе научился строчить чужими словами. У меня хорошая память, что есть, то есть: тащу кусками чужие предложения, конструкции, а с ними и мысли чужие – вот и пятёрка. Хотя на самом деле я не умею писать ничего своего. Я вообще довольно обыкновенный и малоинтересный человек. Подросток N.
А у меня не получается играть никакую роль. Для короля я не подхожу ни внешностью, ни – о, смешно вышло – внутренностью. Шутом быть лучше всего, но и сложнее: я не потяну, это к Ильицкому. Для принцессы – сами понимаете, есть изначальные правила игры: кому какие карты выпали, такими и играть.
В этом театре я хотел бы быть монтировщиком. Не играть на сцене, а просто приносить пользу: таскать декорации, поднимать на канатах всякие тяжёлые штуки к потолку. Ходить за сценой в рабочем комбинезоне, отрастить бороду и вставить серьгу в ухо. И чтобы меня никто не видел.
Буду просто подростком N, наблюдателем. Для начала надо уйти со сцены за кулисы, а там и в монтировщики возьмут.
Поэтому я вышел из метро не на своей станции. Просто чтобы выйти из системы, сломать матрицу.
* * *
Станция «Площадь Революции». Тут есть собака.
То есть здесь разные скульптуры: парень с книгой, человек с ружьём и вот, пограничник с собакой.
И все, как сговорились, трогают ей нос.
Я выхожу из поезда и сразу вижу эту блестящую морду. Светится даже. Она хорошая, славная псина, это сразу видно. И я подхожу и глажу ей нос.
А ведь раньше всегда стеснялся, мне казалось: все на меня посмотрят и подумают – вот, все трогают, и этому надо! Или ещё что-нибудь подумают…
Зато сейчас другое дело. Я – это не я, я подросток N.
Обозначим как а математическое множество людей, которые трогают собаку за нос. И как б – множество людей, которые не трогают. И вот, я всего лишь перешёл из одного множества в другое. Ничего тут такого нет.
И мне всё равно, что обо мне думают. Ведь думают не обо мне, а обо всех людях множества а. Вернее, никто ни о ком не думает – все бегут по своим делам, да и всё.
* * *
Хотел выйти на улицу, а оказался на другой станции. Вот балда. Хотя нет, не балда: я просто подросток N, который иногда задумывается и путается в тех переходах, которые наизусть должен знать. С кем не бывает.
Я прыгнул в первый попавшийся поезд, даже не посмотрел, куда еду.
А потом мне надоело метро, и я вышел на улицу.
Всё же надо сориентироваться; достал телефон с картой.
Тут же на меня налетела дама средних лет и сказала что-то нежное-ласковое, вроде «стоят тут со своими телефонами и ничего не видят вокруг себя!».
Хотя впечаталась в меня как раз она.
Раньше, пока я был собой, я бы расстроился. А сейчас она обругала не меня, а подростка N, которому по роли полагается расстраиваться. А он не будет. Он метит в монтировщики сцены.
Например, все люди любят знать, где они находятся. Смотрят по карте или спрашивают, как пройти.
А подросток N уберет свой телефон с картами и будет просто ходить. Важен процесс ходьбы, а не результат.
И правда, почему это я ничего не вижу вокруг себя?
* * *
Хорошо идти по улице, включив все органы чувств на максимум. Смотреть, будто я первый раз в этом городе, будто впервые всё вижу: дома, деревья и маленький гнутый заборчик. Я же и правда тут первый раз. Слушать все звуки: машины, птицы, троллейбус, шаги, чужие разговоры. Обоняние. С этим хуже, но надо развивать. Принюхался. Э, нет, не понравилось: обоняние будем развивать после дождя; для первого раза сойдут уши и глаза.
А мысли надо отключить. Внутренний монолог вот этот остановить. Как же его выключить? Всё! Мозг, ты вне зоны доступа! У меня остались только входящие: через уши и глаза. И усталость в ногах, потому что если вот так идти пешком домой – это не так уж и близко. И, наверное, дома придётся объяснять, почему я так поздно… Фу ты. Я же просил мозг выключиться!
Я подросток N, который не должен никому ничего объяснять.
* * *
Вдруг всё, из-за чего мне было так плохо час назад, оказалось неважным. Скажите, ну у кого такого нет?.. Я мог бы, конечно, подробно. Про Дину. Про Мелехова. Про Ильицкого.
Про мою несчастную географию, которую я учил-учил, а оказалось не то, и теперь впервые в жизни пересдавать.
Про маму и папу. По сравнению с этим география – вообще ерунда.
Да вы знаете миллион таких историй! Зачем? Каждый такой эпизод описан в литературе сотни раз, отличаются лишь детали. И то они такие, эти детали, что мои несчастья оказываются жалкими и плоскими. Да и я, в общем, не так чтобы очень объёмный.
На фоне мировых войн и надвигающейся экологической катастрофы…
Хотя что мне, подростку N, будущему монтировщику, эти катастрофы! Я просто иду, здесь и сейчас. И мне вдруг нравится всё вокруг. Ну, не так чтобы восторг – просто нравится. Тепло. Маленькая улица, по которой я иду непонятно куда. Плохо ли.
Хорошо.
Это актёры должны страдать на сцене, сомневаться по полчаса, умирать с длинными монологами.
А монтировщик работает в антракте, за закрытым занавесом. Смена декораций! Осторожно, головы! На канатах спускают что-то большое, непонятное… Ему и знать не надо, что это. Ему надо закрепить эту штуковину правильным узлом.
И когда начнётся следующий акт страданий или сомнений, монтировщик может спокойно идти в буфет, пить свой честный кофе.
* * *
Мне вдруг очень нравится город, в котором я оказался. Не типовая застройка, старая; дома невысокие, разные все. Но и не центр, полный парадных достопримечательностей. Таких улиц, наверное, тоже много в любом не очень новом городе… Как люди. Такие, да не совсем.
«Пуговишников переулок», – читаю я.
Пуговишников! Какое хорошее. Хорошо всё-таки, что у переулков есть имена. Что это не просто «Переулок N».
Мне нравится буква «ш», как в разговорном московском «булошная». Я только читал, что так должны говорить в Москве, но никогда не слышал. Может, оттого, что булочных толком не осталось?
Был бы он «Пуговичников» – и совсем не то. Не было бы тепла и этого вкуса… Точно, вкуса пуговицы. В детстве я любил пуговицы в рот брать, даже откусывал верхнюю с куртки несколько раз. Пластмассовое и круглое.
…Вдруг я вижу на асфальте пуговицу. Серенькую, в четыре дырочки. Кладу в карман.
Нет, не в карман; сразу вытащил. Мне нравится держать её в руке, будто рукой я чувствую её вкус: круглый и пластмассовый.
* * *
Пуговишников переулок упирается в стену. Вот это стена! Кирпичи, крашенные жёлтой краской; где-то есть штукатурка, а где-то нет; а тут вообще вся краска облезла, а здесь было окно – заложено кирпичами, а вот белым что-то замазано… прямо поэма, а не стена. Сколько же тут слоёв? Сколько раз её красили, сколько – штукатурили и опять красили?
И солнце. Если бы не солнце, в унылый серый день я бы этого не увидел, всей красоты этой стены.
Я снимаю её на телефон. Потом пройдут годы, а со мной останутся этот день, и эта стена, и эта пуговица… Да нет, какие там годы; телефон потеряю или сломается, да и пуговица не вечная. Но всё равно хочется сохранить подольше.
У меня в телефоне много таких фотографий. Когда я снимал не объект, а день.
День, когда я иду и улыбаюсь. Как дурак. Будто ничего не случилось; а ведь ничего и не случилось. Я подросток N, и у меня всё не хуже, чем у других. И не лучше; но это уже неплохо. Хорошо быть никем. Просто смотришь; никто тебя не знает, и никому не должен…
…И тут я слышу своё имя.
* * *
– Чего ты, оглох? Кричу-кричу – ноль эмоций.
Ого. Зойка из нашего класса.
– О, привет. Извини, задумался. Ты что здесь делаешь вообще?
– Просто иду. Случайно. А ты?
– И я.
Зойка хорошая вообще. Смешная. С ней мне легко, потому что она не воображает. Совсем. Ещё мне её немного жаль: она… Как бы это сказать? Нехуденькая, в общем. Такой медвежонок. Зато в ней нет этого дурацкого желания нравиться, с ней можно поговорить как с человеком.
– Первый раз здесь, просто вышел на первой попавшейся остановке. И тут ты!
– Я тоже болтаюсь… Стену видел? – вдруг спрашивает она.
Я даже остановился. Откуда она знает?!
– Ты телепат, что ли?!
– Нет, видела, как ты фотографируешь.
– А. Тогда ясно.
Странно. Зойка мне не мешает. Я так хотел побыть один; казалось, любой человек мне был бы лишним сейчас.
Вдруг что-то падает у неё из кулака, звонкое, катится по асфальту… Монетка? Нет.
Зойка ловко накрывает её ногой (у неё красные кеды), поднимает. Гайка.
– Ты собираешь гайки?
– Да. С сегодняшнего дня. Захочешь сделать мне приятное – дари.
Я открываю кулак и показываю пуговицу. Зойка очень серьёзно смотрит на неё, потом на меня. А потом вдруг говорит:
– Рассказывай.
– Что?..
– Давай вываливай. Что у тебя в голове. Прямо сейчас! Мне кажется… мне кажется, я сейчас тебя очень пойму.
И я поверил. И рассказал ей про подростка N.
– Знаешь, я подумал: мы всё время играем роли. Привыкли быть определённым человеком и играем. А зачем? Я решил быть не собой, а человеком вообще. Подростком N. Как чистый лист. Понимаешь? Не, я плохо объясняю…
– Ты имеешь в виду совсем? Забыть своё прошлое, свой опыт, своё имя? Раствориться в человечестве?
Ого. Кажется, она и правда понимает!
– Не то что совсем забыть, а… Ведь это уже всё было, понимаешь? Люди уже говорили то, что мы говорим, думали, чувствовали… Мы думаем, мы особенные. А на самом деле всё повторяется по определённым схемам.
– Да. Некоторых людей даже звали точно так же, как нас.
– И это тоже. Меня назвали в честь прадеда; я был у него на кладбище. Это ужас.
– Почему?
– Ну, как! Видеть своё имя на плите…
– А. Ясно. Но нет, это не ужас. Ужас – это когда тебя зовут Зоя Синицкая.
– А чего такого?
– Ты! Уж ты точно читал Ильфа и Петрова. Нет?.. Только и спасает, что необразованность окружающих…
– Стой! Зося Синицкая… Точно. О! Да, ужас… Хотя она и положительная героиня… Так ведь Зося, не Зоя?
– Думаешь, это спасает?.. Разницы почти нет.
– Что же твои родители, чем они думали?!
– Да ничем они не думали, это неожиданно вышло. Мама с детства мечтала меня Зоей назвать, ну и назвала – ничего не предвещало. А потом появился Синицкий.
– Потом?..
– Ну да, он мой отчим, ты не знал? Я же только в третьем классе стала Синицкая. А, ты тогда ещё у нас не учился.
…Отчим. Мне вдруг становится стыдно. Представил, что у меня неродной отец: в третьем классе я бы его, наверное, стукнул головой в живот. Сразу. Чужого дядьку. И никакой подросток N не спас бы.
– Да нет, чего ты. Он очень хороший, старик Синицкий. А меня он сразу Зосей стал звать, конечно, – она засмеялась, – такой вредный!.. Знаешь… Знаешь, он мне каждый день говорит, что я красивая. А ведь он не должен мне ничего, он же не родной отец.
Я краснею какими-то пятнами. Что мне, сказать ей сейчас, что она и правда красивая? Но она же поймёт, что я вру из вежливости. Она же умная, понимает!
– Да чего ты, я же знаю, что я толстая. Знаешь, как это удобно! Все переживают: ах, красивая или некрасивая, какую бы причёску, какие ногти… А я – нет! Мне и переживать нечего, всё ясно. А мама говорит, что я чуть-чуть полновата. Это вот чуть-чуть! – она смеётся, и мне тоже делается легко: нормальный она человек, не надо ничего придумывать. – А мой старик Синицкий сразу сказал: надо интеллектом брать. И я поверила. Знаешь почему?
– Почему?
– Потому что он мне никогда не врёт.
Мы идём и молчим. Странный этот Синицкий: то говорит ей – красивая; то – интеллектом надо брать. И не врёт. Интересно даже.
А потом Зоя продолжает:
– Вот ты хочешь избавиться от своей личности. Такой буддистский подход, да: нет желаний, нет и страданий. Так?
– Ну… Не знаю, не думал про буддизм. Не успел.
У меня закрадывается подозрение, что Зоя значительно умнее меня.
– А я наоборот. Хочу всего разного, чтобы как можно больше. И вверх, и вниз. Спокойная жизнь не для меня. И вот ты говоришь, всё уже было, да? До всего додумались. А я всё время думаю, и мне кажется: какие-то мои мысли могут быть именно мои, да? Если другой человек мне их скажет – будет не то. Ну… Как объяснить… Вот смотри. Я вчера мыла посуду.
– Оригинально.
– Да, весьма.
(Весьма! Никто из моих знакомых так не говорит!)
– Так вот, мо́ю посуду и думаю: «Когда же это кончится, когда?» Я иногда даже вслух это произношу, ловлю себя на этом – и не знаю, что имею в виду. Посуду? Или вот всё?..
– Да, у меня тоже так. «Когда же это кончится?» А что – это?
– Ну, и вот если правда – всё. Всё кончилось. И последнее, что ты можешь в жизни, – мыть посуду. Перестанешь мыть – конец жизни, game over. Хотела бы я, чтобы посуда кончилась?.. Мыла бы и мыла, радовалась горячей воде и тому, что ещё, ещё есть посуда. Сколько бы я так смогла? Сутки, двое?..
– Я бы неделю, наверное, мыл, пока не свалился.
– Ага. Ну вот скажи, это, конечно, не новость – что человек начинает ценить жизнь, только если есть реальная опасность, ну… В общем, похожие мысли есть. А вот про посуду. Ты читал у кого-нибудь такое?
– Вроде нет.
– Вот! Это как музыка: нот всего семь, но сочетания разные. И вот как ты – именно ты – составишь слова, мысли разные… Думаешь, это всегда уже было?
– Ну… Не знаю.
Мы идём рядом, Зойка быстро ходит, мне нравится так быстро, и вообще. И вообще, зачем-то мне хочется говорить, и я говорю:
– Зойка! Я вот тоже думал, знаешь о чём? О любви. Ну, скажи, неоригинальная тема, так?
– Давай о любви. Чего ты, испугался, что ли? Говори давай, подросток N!
– Ну… Знаешь, я чего-то не могу вслух. Я это записал. В телефон.
– Дай почитать?
Я даю. И думаю: вот я дурак! Засмеёт меня. А может, и не засмеёт. Может, и не дурак.
«Размышление о любви
Наверное, это очень круто – смотреть в глаза столько, сколько хочешь. Но рано или поздно станет скучно. То есть если надо будет бежать учиться, или домой, или ещё куда – тут понятно: будет казаться, что не хватает времени и как не хочется уходить. Но если времени сколько угодно. Ну да, можно говорить-говорить. Самому с собой можно говорить долго, а вдвоём – вообще очень долго, особенно первый раз, пока не расскажешь всего себя, ну, то, что через край.
А потом всё равно. Рано или поздно станет скучно. (Я не беру те простые вещи, что раньше, может, захочется есть или тупо в туалет.)
Но вот – скучно. Захочется книгу или пойти куда-нибудь. Одному. И что? Фишка в том, что скучно кому-то из двоих станет раньше.
В этом всё дело. Это мучительно.
Лучше всегда уходить раньше этого момента. Пока кому-то не стало скучно с тобой».
– Интересно, – говорит Зоя. Нет, не смеётся надо мной.
– Тоже уже было, правда ведь? Ничего оригинального?
– А ты не думаешь, что… Что если стараться быть оригинальным – уйдёшь от истины?
– Неужели ты веришь в истину, Зойка?!
– Ну и верю, и что.
Она вдруг рассмеялась:
– Надо же, такие разговоры обычно возможны только в поезде, в третьем часу ночи.
– В поезде? Ты с кем-то так говорила?
– Да. А ты ездил куда-нибудь один?
– Ещё нет. А ты да?
– Да.
Ничего себе, родители отпускают её одну. То есть не родители, а… Старик Синицкий. Интересно, а я раньше думал: Зоя и Зоя.
– У меня такие разговоры возможны только… Только ни с кем. Только если я пишу.
– А ещё такое есть?
– А тебе интересно?
– Нет, из вежливости спрашиваю, – Зойка отвернулась и пошла такая независимая, руки в карманы. Смешная.
– Вот ещё, – сказал я и снова дал ей телефон.
«Размышление об аварийной сигнализации
Аварийку включают, когда действительно что-то случилось. Но чаще имеется в виду вот что: я нарушаю правила и знаю это, так вышло, извините, у меня такая ситуация.
Либо человек стоит в неположенном месте, либо у него фары не работают, либо ещё что. Он обозначает: у меня проблемы. Я неадекватен, понимаю. Извините.
Жаль, что нет такой же аварийной сигнализации просто у людей. Многих проблем удалось бы избежать».
Зойка смеётся.
– А это хорошая мысль. Ты всё же не дурак, подросток N!
Я смеюсь тоже.
– Скажи, – вдруг она перестаёт смеяться. – А почему ты не хочешь быть собой? Тебе это плохо – почему?
Я пожимаю плечами. Как это объяснишь?
– Много всего, даже не знаю… Ну, родители ругаются.
– Родители?.. И серьёзно?
– Да не. Вроде из-за ерунды: кто свет не выключил, да я не включала, это ты – нет, ты. И поехало, из-за ерунды!
– Да… плохо. Надо что-то делать, надо… Знаешь что? Купи им билет в кино.
– Чего?
– В кино! Лучше французское какое-нибудь. А что ещё? Вот твои родители ссорятся, а ты будешь стоять и смотреть, как псих!
– А вдруг они в это время не смогут… Или кино не понравится.
– Вдруг-вдруг… Трус. Смогут они, и им понравится. Их так впечатлит, что ребёнок им билет купил, они с уважением отнесутся. Они же тебя любят.
– Откуда ты знаешь?
– Видно. Что тебя родители любят, это всегда видно. Так что давай; кто, если не ты?
…А ведь правда, кто?
– Зой… Вот ещё. Почитаешь?
«Есть столько деталей, которые я замечаю. И думаю: вот про это написать бы и про это. Но кое-что забываю. А про что-то действительно пишу. И эти детали, перенесённые в буквы, – что это? Им от этого лучше? Иллюзия значимости. Останутся они в чьей-то памяти или нет? Вообще-то ведь это неважно, самим деталям нет до этого никакого дела.
Это как лица. Я их не запоминаю. Но иногда чьё-то случайное лицо западает в память на несколько секунд. Редко больше трёх минут. Почему, интересно? Зачем?»
Зоя молчит. А потом говорит:
– Запиши мой адрес. А? Мне очень нравится, как ты пишешь. Присылай.
– Нравится?
– Да!
…И я рискую, показываю ей последнее.
«Размышление под мостом
Когда у меня появится девушка, я отведу её сюда. Под мост. И скажу: вот. Я буду с тобой честен. Ты ждала романтики? Парк с лебедями или кино? Нет. Я – это вот, под мостом. Вот эти железные балки и река. И грохот машин сверху.
И она скажет: „Да? А знаешь, Паша водил меня в „Шоколадницу“.
А я скажу: „У меня нет денег“. (Ведь девушка у меня появится раньше, чем деньги? Правда ведь?)
И ещё скажу: „Ну и вали обратно к своему Паше“.
Такой у меня будет короткий роман. Лаконичный даже».
– Да, – говорит Зоя.
– Чего «да»?
– То, что мне это очень понятно.
…Мне опять становится дико неловко, и я спрашиваю:
– А ты вообще знаешь, где тут метро?
– Знаю. Но оно закрыто, ремонт. Вообще-то я этот район знаю очень хорошо, жила здесь.
– Здесь?!
– Ну да, недалеко. Знаешь, что вон там?
– Нет.
– Балетное училище.
Зоя вздыхает. Но я пока ещё не понял.
– Ну, смотри. В него ходят балетные девочки, такие все… Такие тонкие. Понимаешь? И тут я. Бегемот. И понимаю: никогда. Никогда мне не стать как они. Теперь ясно тебе?
– Ясно, – говорю я. У меня почему-то всё внутри сжимается. Я никогда не переживал из-за своей внешности, но мне вдруг это становится очень понятно. Как она каждый день выходила на улицу, а там балетные эти. У меня даже ладони вспотели.
– Меня спас Синицкий. Ты же понимаешь, что он никакой не старик, что это я только так говорю?
– Да, понимаю.
– Так вот. Он объяснил мне, что я – человек. Понимаешь, нет? И ты… И ты можешь быть каким угодно подростком N, но мне нравится, что ты – это именно ты, ты, Гриша.
Мы молчим. А что бы вы сделали на моем месте? А потом я отдаю ей пуговицу. Не могу сказать ни слова, горло перехватило; да и не знаю, что сказать. Подросток N теряет способность к вербальной коммуникации.
– Оливер, – вдруг говорит Зойка.
– Чего?
– Оливер! Видишь? У твоей пуговицы есть имя.
– Надо же. Точно, – а я и не заметил: есть такой магазин, Oliver, на пуговице так и написано.
– Спасибо за Оливера, – говорит Зойка. – А теперь мне надо одной. Ладно? Извини, Гриш.
Я киваю. И она вдруг быстро-быстро уходит, шлёпает в своих красных кедах. А я иду обратно, в Пуговишников переулок. Туда, где я нашёл пуговицу Оливера и подарил её Зойке.
* * *
Потом я еду домой. Мне нужно купить билет в кино для родителей, пересдавать географию, и извиняться перед Диной, и поговорить наконец с Ильицким, обязательно.
Почему-то я уверен, что теперь всё будет хорошо. В крайнем случае всегда можно написать Зойке – у меня теперь есть её адрес. И ещё есть фотография в телефоне – фотография стены, вернее, того дня, когда я был подростком N.
А теперь я Гриша. Гриша с гайкой в кармане.
Всё обойдётся.
Цветок липы
Оля никогда не думала, красивая она или нет. Она думала: «Хорошо бы залезть на эту крышу». Или ещё: «Если подъёмный кран упадёт, он достанет до школы или нет?» Ещё Оля иногда думала музыкой, а не словами, но чаще всего это звенело в голове одновременно.
Поэтому сейчас Оля никак не могла понять, как она оказалась на стройке. Голова думает себе, а ноги идут совершенно отдельно. То есть это давно уже не стройка: начали строить и бросили два этажа. Охраны нет никакой, трава пробивается между бетонными плитами.
Зато есть подвал, и в этом подвале до сих пор лёд, хотя уже май, кругом трава и одуванчики.
Оля немного покаталась по льду в своих летних босоножках и тут увидела Гордеева. Он сидел в углу на корточках, возился с какой-то жестянкой. Посмотрел насмешливо:
– Ты откуда здесь, водолаз?
Гордеев был двоечник и хулиган. Чего он такого хулиганил, Оля толком не знала, но так в школе считалось: «А, этот Гордеев! Всё с ним понятно».
– Почему водолаз? – спросила Оля спокойно. Хулиган и хулиган, интересно даже.
– У кого четыре глаза, тот похож на водолаза! – выдал Гордеев. Смешно, можно подумать. Детсадовский юмор, будто очков никогда не видел.
– А ты что тут делаешь? – спросила Оля.
И Гордей вдруг совершенно человеческим голосом, никаким не хулиганским, ответил:
– Свинец буду плавить.
– Прямо здесь?
– Ну да. Мы вчера тут костёр жгли уже, видишь?
Да, точно. А ведь холодно тут, костёр бы хорошо.
– А чего не на улице? Тут же неудобно?
– Зато никто не видит, – ответил Гордей. Он щёлкнул зажигалкой, появился язычок пламени. Оля смотрела, как Гордей нежно подкладывает бумажки, щепки, палочки – о, занялось. Оля протянула к огню ладони лодочкой.
– Замёрзла, Водолаз? Грейся.
Лицо у Гордея стало таинственным; угол подвала похож на таинственный замок. Всё дело в освещении, подумала Оля: папа хорошо фотографировал, и она разбиралась в свете.
Запах, правда, совсем не как в лесу у костра. Но ладно, сойдёт.
– Это ты на пианино играла вчера, Водолаз? На концерте?
– Я.
– Я чуть не уснул, – объявил Гордей. – А на гитаре можешь?
– Нет.
– А я учусь. Смотри, мозоли на пальцах. Это тебе не пианино!
Оля уважительно посмотрела на его руки. Правда, мозолей никаких не разглядела, зато увидела некрасивый шрам, ожог и чёрную точку на ногте – может, синяк, а может, и грязь просто.
– На бутылку упал разбитую, – объяснил про шрам Гордей, – зашивали.
– Ясно. А у меня кошка, – ответила Оля и показала исцарапанную руку.
– Ого, зверь, – оценил Гордей, – рыжая?
– Чёрная с белым. Дуся зовут.
– А у меня Серафим. Кот. Симыч. Хороший был кот, сбежал.
– Жалко.
Послышался какой-то шум, голоса. Кто-то шёл сюда. Гордей вскочил на ноги, раздавил свой костёрик каблуком.
– Жалко, – повторила Оля уже про костёр.
– Нехорошие люди идут, не хочется встречаться, – объяснил Гордей и сплюнул. – И потом, я им должен. Так что надо валить. Пока, Водолаз! На пианино только больше такого не играй!
И он исчез; а Оля вышла на улицу и удивилась, какое там солнце.
* * *
А потом они с Тимкой Левицким ходили на совет школы. От каждого класса нужно два человека, и там разные вопросы решаются голосованием. Олю с Левицким отправили потому, что они уже заработали себе пятёрки в году, а остальные писали ещё какую-то работу.
Оля и Левицкий обрадовались, конечно, что можно сбежать с урока, забрались на последний ряд в зале и не особо слушали, кто там что говорит. Сначала, например, рассуждали, что курить нельзя. Это и так ясно, о чём тут говорить? Потом ещё что-то…
А Оля с Левицким играли в «ним». Это Тимка, конечно, показал такую игру: сначала на перемене, со спичками. Нужно брать спички из кучи по определённым правилам; кто взял последнюю – проиграл.
Потом стали играть на уроке, закрашивать клеточки вместо спичек. Но в школе они сидят на первой парте, два очкарика, под самым носом у учителя. Поэтому Тимка придумал способ играть на пальцах. Достигли такого мастерства, что с виду совсем незаметно, что играют: чуть пальцы шевелятся, и всё.
Это было захватывающе, будто тайное общество. У всех на виду играют, и никто не замечает! Оле казалось: вот-вот разгадает его стратегию и начнёт выигрывать. Она почти ничего не слышала, только следила за пальцами: загорелые длинные пальцы пианиста у маленького Левицкого – и обычные, исцарапанные Дусей у Оли. Хотя пианистка как раз она, обидно даже.
– Итак, голосуем за исключение Вениамина из школы. Кто за? – вдруг услышали они.
Какого-то Вениамина обсуждали, а они всё прослушали.
– Кто это – Вениамин? – шёпотом спросила Оля у Тимки и, не дожидаясь ответа, поняла сама.
У стены стоял Гордеев. Вот неподходящее имя, неужели он Вениамин?! Стоял и улыбался, будто ему на всё наплевать.
– Теперь кто за то, – объявил председатель, – чтобы Вениамин Гордеев остался в нашей школе?
Оля подняла руку. Спокойно подняла: ну как можно выгнать Гордея? Кто тогда будет считаться хулиганом в этой школе, и вообще…
Оля вдруг поняла, что все смотрят на неё. То есть на них с Левицким – Тимка поднял руку сразу за ней. И всё, больше никого.
…И тут поднялась ещё одна рука. Взрослая. И ещё, и ещё…
– Значит, единогласия нет в этом вопросе? Евгений Петрович, почему вы так голосуете? – громогласно спросила завуч.
– Если мы, – ответил молодой историк, – избавимся от Гордеева, то нам, конечно, станет легче. Но кем он вырастет? Вы же знаете, какая у него семейная ситуация. И потом, твои товарищи, Вениамин, тебя поддерживают…
Вениамин хмыкнул и сказал одними губами: «Водолаз». Может, что другое сказал, но Оля так увидела.
– Но вы понимаете, Евгений Петрович, – сказала завуч тяжёлым, почти мужским голосом, – если мы оставим Гордеева в школе, то другие будут думать, что им можно! Тоже можно! Всё!
– Что всё? – спросил историк, поправив очки.
– Всё что угодно! Распивать! Разные напитки!
Оля сначала услышала: распевать. И конечно, распевать лучше хором, лучше хором… Стало смешно. Какие такие напитки распивать лучше хором?
И тут маленький ушастый Левицкий сказал – негромко, но слышно:
– Сами, можно подумать, никогда ничего не распивают.
– Что?! Встань!
– Ничего, Василиса Антоновна, – Тимка встал. – Вот вы говорите: другие будут думать. Это мы, что ли, другие? Не надо нас за дураков держать, мы прекрасно знаем, что можно, а что нельзя. Если вы Гордеева в школе оставите – это не значит, что мы все толпой ломанёмся в киоск. И будем… распивать.
В зале начали хихикать.
– Не понимаю. Ты его защищаешь, что ли?
– Я нас защищаю. Потому что не надо нас воспитывать чужим исключением. А Гордеева выгнать, конечно, легче всего: нет человека – нет проблемы.
В зале поднялся шум. Кто-то шептался, а несколько старшеклассников прямо в голос говорили: правильно, они бы всех выгнали, мы им только мешаем!
А маленький Левицкий опять сидел как ни в чём не бывало, блестел своими очками – невозмутимый, будто вовсе тут ни при чём. Оля смотрела на него как на чужого – ничего себе, Левицкий! А Тимка… Тимка показал ей пальцы. Она даже не сразу поняла, и он повторил движение: ты играешь, нет?
* * *
Из школы шли с ним вместе.
– А ты смелый, какую кашу заварил.
– Я что, – ответил маленький Левицкий, – это ты смелая.
– Я?! А я-то тут при чём?!
– Очень даже. Руку подняла? Подняла. Одна. Я вот не знаю, смог бы первым. Видела потом? Многие же хотели, но боялись первыми, боялись одни оказаться со своим мнением. Это вообще страшно. Потом, ты же понимаешь – этот совет школы ни на что не влияет, исключить может только директор. Но повлиять на его мнение можно. Надеюсь, они внемлют голосу разума…
– Внемлют… А я даже подумать ни о чём не успела… А что он вообще сделал, этот Гордей?
– Что? Ты где была вообще, они же полчаса об этом говорили!
– Я с тобой играла…
– Ничего себе у тебя погружение в процесс! – Тимка засмеялся, а потом объяснил: – Водку они пили. На крыше. А потом бутылку вниз кинули, придурки. Хорошо, не убили никого. Вот об этом кретинизме и надо было говорить. А они – ах, водка в школе!
– С кем он там был?
– Не знаю. Никто не знает, поймали только Гордея. Но он никого не выдал, представь. Они же на него почему разозлились? Других не могут найти. Исключением давили, а он молчит. Скала. Я его зауважал даже, придурка…
– А что у него за ситуация в семье, не знаешь?
– Да чего там знать. Классические асоциальные элементы. Алкаши, по-русски говоря. Кажется, сидит кто-то… И сестра маленькая; если Веньку в колонию отправят – кто за ней следить будет?
– В колонию?! За что, он же не преступник!
– Ну да, а попал бы кому по башке бутылкой – был бы преступник. Реально же могли убить кого-нибудь, дураки… Ты думаешь, преступники все злодеи? Часто так бывает, по глупости. Вот людям заняться нечем!.. Ну что, дальше будем играть, нет?
* * *
А потом сразу наступило лето, каникулы. Оля осталась в городе, занималась на пианино. Дома был маленький братик Ваня, и Оля уходила в музыкальную школу, чтобы не мешать ему спать.
Ей давали ключи от классов, как взрослой; иногда даже от большого зала с роялем. Оле страшно нравилось это: пустая школа, и она играет, одна. Такое взрослое, серьёзное дело… Первое лето она так занималась, и вот результат: ещё июнь, а она знает уже всю летнюю программу наизусть! Играет без нот, с закрытыми глазами…
Оля шла домой и думала: как хорошо, хорошо! Музыка в ушах и уже в пальцах; и да, залезть бы как-нибудь на крышу музыкальной школы по пожарной лестнице, и как тепло, липой пахнет… Всё цветёт, всё вокруг! Такое! Акварельное!
Тут она поняла, почему всё такое красивое: она забыла на рояле очки. Без очков сливается и получается… Получается импрессионизм, – Оля сама засмеялась от такого сравнения. На стене в школе висел календарь художника Моне. Вот! Импрессионисты были близорукими и не носили очков наверняка! Какое открытие!
– О, Водолаз! Привет! Откуда чешешь?
– Заниматься ходила.
– На пианино своём, что ли?
– Ну да.
– Каникулы же!
Оля пожала плечами. Подумала ещё, Гордеев сейчас опять вспомнит, как спал у неё на концерте, но он промолчал.
– А тебя не выгнали? – спросила она.
– Не. Женя заступился, историк. Я от него иду сейчас – он меня взялся перевоспитывать. Чаем поит, печеньем кормит.
– А. Тебе на пользу идёт, длинными предложениями стал разговаривать.
Гордеев хмыкнул, а потом спросил:
– Очки сняла?
– Забыла просто.
– А ты без очков очень даже.
– Очень что?
– Очень. Даже. Очень даже ничего. – Гордеев вдруг подпрыгнул и сорвал цветок липы с дерева. – От сердца! И почек! Дарю вам цветочек!
– Детский сад, – засмеялась Оля. Но цветок взяла.
Дома поставила его в коробочку от фотоплёнки – маленький чёрный цилиндр, как раз подошёл. Надо же, Гордеев с Левицким – ровесники. Гордей выше на две головы, а интеллект у него – старшая группа детского сада. Если не младшая.
– Оля, – крикнула мама с кухни, – молока в доме нет! Можешь сходить, не устала?
– Да, сейчас, – ответила Оля. Она рассматривала своё лицо в зеркале, кажется, первый раз. А вроде ничего лицо. Очень даже.
* * *
На следующий год Гордеев продолжал учиться, только в младшем классе – оставили на второй год. А вот Левицкий ушёл в какую-то умную школу. Жалко – не с кем стало играть, и вообще поговорить не с кем. Но и не особо хотелось говорить: Оля стала много заниматься музыкой, готовилась к конкурсу, её даже освобождали от уроков. Очки она старалась не носить, узнавала людей в основном по причёске и одежде. Однажды с удивлением поняла, что бритый наголо парень – это Гордеев, а она и узнать его не могла долго. Увидела, что у него какие-то смешные усы отросли, удивилась ещё больше.
Ещё был случай: пришла в гардероб за курткой, а там, в капюшоне, – цветы. Букет. Кажется, с клумбы сорванный, но красивый. Долго потом не могла отряхнуть капюшон от лепестков; Гордеев же делал вид, что он тут ни при чём, отворачивался.
А на следующий год Оля ушла из школы в музыкальное училище и Гордеева больше не встречала.
* * *
Все дети играли в паровозике, а Минька упрямо лез на крышу. Ольга сначала сердилась на него – хоть бы раз поиграл как человек, куда его вечно тащит? – а потом засмеялась: чего ты хотела от своего ребёнка?
Был тёплый июнь, цвела липа – так же, как в тот год. Ольга всегда вспоминала Веньку Гордеева, когда чувствовала этот запах. Как сильно пахнет – голова кружится. Где Гордей сейчас, интересно, жив ли? Беспокойная, должно быть, у него судьба.
– Минька, нам бы домой уже идти!
– Мама, я ещё чуть-чуть!
…Не хотелось его забирать. С одной стороны, скоро к Ольге придёт ученик, дипломник. Поступает в этом году, скоро экзамен, она с ним занимается каждый день по два часа. С другой стороны, Минька так хорошо играет. Познакомился с девочкой на крыше паровозика и не отходит от неё ни на шаг. Это первый раз такое; и дело не в том, что девочка. Просто он всегда играл один, ему с другими неинтересно – а тут говорят, говорят и не могут остановиться. Как его заберёшь?
Ольга смотрела то на детей, то на цветущую липу, то на долговязого парня в смешной футболке. Лохматый, бородатый – неужели отец этой девочки? Худой страшно, руки из футболки нелепо торчат. Уткнулся в телефон, пока ребёнок на крыше. Ольга помогла слезть и Миньке, и девочке – даже не заметил. А девочка красивая. А липа пахнет, пахнет… Ольге вдруг пришла в голову мысль:
– Минька, пойдём, я тебе что покажу, – сказала она.
– Что?
Ольга сорвала цветок липы:
– Подари девочке. Ей будет приятно, вот увидишь!
– Нет, – сказал Минька, – у меня вот что есть, – и раскрыл ладошку.
Там лежал дохлый жук-бронзовка.
– Она оценит? – с сомнением спросила Ольга.
– Конечно!
– Оля, это ты? – спросил длинный парень. А ведь знакомое лицо, кто же это? – Не узнала, – он улыбнулся и шевельнул красивыми загорелыми пальцами пианиста. Знакомое движение…
– Тимка!!! Бог мой, какой ты стал бесконечно длинный…
Оля чуть не бросилась к нему обниматься, но в последний момент застеснялась. Бородатый, совсем другой ведь человек… А, нет. Улыбается так же. Спросил:
– Неужели у тебя такой большой сын?
– Да, взрослый…
– Минька – это Михаил? Или Митя?
– Минька – это Бенджамин, – объяснила Оля. – У него отец американец.
– Ух ты, Бенджамин. Красиво, – уважительно вздохнул Тим и неожиданно добавил: – Я тоже в Штатах жил, два года. Сейчас вернулся.
– Работал?
– Да. Слушай, у тебя в телефоне есть такая игрушка? – открыл приложение, показал. Модный у него телефон, неужели хвастается? Как глупо; совсем не похоже на прежнего Тимку.
– Есть, – кивнула Оля, – Минька из неё не вылезает, я даже думаю удалить.
– Не удаляй пока. Это моя.
– Как это?..
– Ну, я делал. Не один, конечно, но идея моя.
– Ух ты! – восхитилась Оля. Тогда есть чем хвастаться, конечно. – Значит, так со школы и придумываешь игры?
– Ну, не только игрушки, конечно. Но это люблю.
– Надо же; а я как раз тебя вспоминала.
– А ведь врёшь, – сказал вдруг Тим. – Гордеева вспоминала, а не меня.
– Точно. Ты откуда такой телепат?
Тим вздохнул, потом сказал:
– Вычислил. Я же математик, знаешь…
Откуда он всё же знает? Такой высоченный; неужели это тот самый маленький Левицкий?
– Где он сейчас, этот Венька, не знаешь? Не пропал?
– Знаю. Он поступил в Нахимовское, представь. Огромный был конкурс; никто не верил, а Гордей поехал и поступил. Женя-историк с ним занимался, вытянул. Он такой учитель волшебный, я у него тоже занимался потом, мы вдвоём с Гордеем и ходили. А теперь Гордей в море, мы немного переписываемся… Виделись последний раз в Нью-Йорке.
– Ничего себе! А я ушла в училище и ничего этого не знала!
– Да ты вообще… Мало что знала, кажется, – внезапно сказал он. Ну и нахальный оказался Левицкий, чего вдруг?
– Не понимаю… Ты про что?
– Ты хоть поняла тогда, что цветы от меня были? В капюшон положил тебе.
– Ты?!
– Ну да. Я за тобой целый год ходил, а ты меня вообще не замечала. Специально?
– Тима! Не может быть. Я тебя не видела, я же очки тогда перестала носить. Мне казалось, они мне не идут…
– Вот балда. Очень даже шли.
– «Очень даже», – передразнила Оля. – А ты сам разве не балда? Чего не подошёл, неужели боялся?
– Конечно боялся. Ты такая стала… Совсем другая, резко изменилась за лето. Голову стала по-другому держать и вообще… Ну и Гордеев же тебе нравился.
– Тьфу, скажешь тоже. Он же совсем дурной был…
– Дурной, однако нравился. Я даже налысо побрился, как он. Вышел ужас…
– Тима!
– Ну что Тима, я мало соображал тогда… А ты всё равно меня не видела в упор. Зато теперь видишь какие отросли, – Тим потянул за волосы, пружинка растянулась и опять завилась. Точно, он же не был кудрявым, а тут стал!
– Ничего не знала, – вздохнула Оля, – прости.
– За что? Ты мне другое скажи… Это важный вопрос. Скажи, тебе было с кем-нибудь так же легко, как со мной?
…Оля не сразу ответила. Минька с девочкой увлечённо рассматривали жука, ветки липы нависли над паровозиком, как же пахнет, ведь с ума можно сойти. Оля думала, вспоминала свою жизнь. Потом ответила:
– Нет. Похоже, что ни с кем.
– А… А твой американец?
Оля засмеялась:
– С ним сейчас стало очень легко. Он в Америке, я здесь – никаких противоречий и трудностей.
– Вы развелись?
Вот программист, сразу в лоб спрашивает.
– Мы и не женились. Хотя Миньку он любит, ты не думай.
– Я и не думаю. Думаю только, что Бенджамин – это Вениамин по-русски.
– Ой. Точно… Я об этом вообще не думала. Честно не думала, Тим! Это его отец имя придумал, а мне понравилось. Веришь, нет? Да никогда мне не нравился Гордей, что ты выдумал!
Девочка с Минькой прибежали к ним радостные:
– Мы его похоронили! Похоронили!
– Кого?!
– Жука!
«Закопали, значит, такого красивого», – пожалела вдруг Оля. И только сейчас догадалась спросить:
– А твою дочку как зовут?
– Оля тоже, – улыбнулся Тимка, а потом вдруг добавил: – Только она не дочка. Племянница. Ты не видишь, что ли?
И только тут Оля увидела, что он шевелит пальцами изо всех сил, довольно отчётливо.
– Играешь, нет? Или разучилась?
– Тима, – сказала Оля. – Я играю, не разучилась. Только сначала у меня к тебе серьёзный вопрос.
– Какой?
– Полезешь со мной на крышу? Вечером?
Кнехт
«Уеду, – думал Кнехт. – Невозможно здесь, задыхаюсь. Полжизни прошло, и ведь дальше будет то же самое. Надо ехать».
Он так думал каждый год и никак не мог решиться. Так вышло, что Кнехт остался тут совершенно один: кто-то из старых друзей умер, остальные уехали. Люди не держали его, но город не отпускал. Хотя что это – город? Просто дома, улицы. Ну, красивые; мало ли красивых. К тому же Старый город давно разменял свою красоту на туристические открытки. Город для туристов: не хотите ли сувениров? Фотографируйте меня, фотографируйте!
Кнехт знал свой город наизусть. Когда-то он хотел стать художником, пытался рисовать, но его картины не продавались. Торговцы с удовольствием брали одно и то же: стандартные виды, будто ксерокс один с другого. И туристы тоже старались купить самое известное. Зачем? Зачем им опять тот же вид, который они видели в интернете?..
«Прекрасно, Кнехт, совсем другое дело. „Ратушная площадь на рассвете“, или „Главная башня“, или „Закатный вид с моста“. То, что нужно! А вот эта ваша „Монетка на брусчатке“ никому не нужна, забирайте. Если месяц картина не продаётся – мы снимаем её с продажи. Принесите в следующий раз „Ратушную площадь“! И лучше, если она будет на тарелке. Или на кружке. Или на майке. Вы умеете рисовать на майках, Кнехт?..»
Поначалу Кнехт сопротивлялся. Ему казалось, у него талант видеть вещи, он чувствует свой город иначе, тоньше, чем другие. Но долги росли, а работать в супермаркете Кнехт не сумел – слишком рассеян. Браться за более ответственную работу нечего было и думать. И тогда он решил: будет вам «Ратушная площадь» на тарелке, на кружке, хоть на зубной щётке! А потом я буду рисовать для себя. Потом, потом. В свободное время.
Но свободное время почему-то никак не наступало.
И в один прекрасный день (он и правда был прекрасный, к тому же у Кнехта был день рожденья) он решил: «Сегодня! Сегодня я рисую для себя!»
…Он постоял у пустого холста, потом побродил по городу с альбомом для набросков, так и не раскрыв его. Потом посидел с блокнотом дома у окна, отложил незатупленный карандаш и лёг спать.
Проснулся он с простой и ясной мыслью: «Если бы мои картины были кому-то нужны, покупатель нашёлся бы. Обязательно. Значит, у меня просто нет никакого таланта. Я всё выдумал; пора взрослеть. Я неплохой ремесленник, буду расписывать кружки. Это меня всегда прокормит».
У Кнехта была небольшая квартира в самом центре, и друзья посоветовали сдавать комнату туристам. Это тоже приносило доход, и Кнехту вполне хватало на жизнь. Главное было дотянуть до весны, а потом начиналась пора отпусков, туристический сезон. И тут Кнехт мог позволить себе ужин в ресторане или даже новое пальто с деревянными пуговицами.
В марте деньги кончались, и Кнехт сидел дома почти в спячке, изредка выбегая в соседнюю лавочку.
А потом, уже в мае, снова наступал туристический сезон, и жизнь начиналась снова.
«Неужели только это и будет? И в сорок, и в семьдесят – одно и то же? Я превращусь в злобного старика, а мои картинки потеряют остаток чувства. Их перестанут покупать, и мне останется прыгнуть со скалы в море».
Да, в городе было море. Кнехт как-то всё время забывал о нём: холодное, неприветливое море, порт. На пароме приезжали туристы; остальное мало волновало Кнехта.
«Всё из-за моей фамилии, – думал иногда он. – Сижу тут, как столб, вбитый по уши, как самый настоящий чугунный кнехт, к которому швартуют суда. Я сам привязал себя к городу, который давно уже не люблю, а Ратушную площадь на рассвете просто не могу уже видеть. Уехать! Оторвать себя с корнем, вырваться, устроиться матросом на корабль! А то вся жизнь пройдёт здесь, а я так и не почувствую её вкуса».
Так говорил себе Кнехт каждый год. Но в ноябре, когда город сбрасывал с себя туристов, как деревья – последние листья, Кнехту вдруг становилось нестерпимо жаль его оставлять. И он ходил, ходил по этим пустым, продуваемым ветром дворам и ни о чём не думал. Просто ходил. Лучший месяц в году – ноябрь.
* * *
В августе Кнехт твёрдо решил: уедет. Сезон оказался удачным, Кнехту удалось скопить кое-что на путешествие. Переедет через море на пароме, а там будь что будет. Не пропадёт же он, в самом деле. Будет делать любую простую работу. Жаль, что нельзя уже расплачиваться в трактирах рисунками, как в старые времена.
Комнату в этот раз удалось сдать удачно, у Кнехта жили два постояльца, отец и сын. Мальчик на редкость тихий, не шумит и не бегает по квартире (наверное, отец столько таскает его по городу, что к вечеру парень валится с ног). Отец тоже очень приличный человек, не стал торговаться. Можно было взять с них за комнату и побольше.
Вечером жильцы ужинали на кухне, а Кнехт запирался в своей комнате с остывшим кофе. Он сам по себе, они сами по себе. Пусть думают про него что хотят.
Ночью он пытался немного рисовать, иногда – писать. Но чаще всего просто сидел, смотрел в окно на пустой город со смешанным чувством тревоги и радости. Уеду, уеду. Оставлю навсегда, и как хотите тут.
Отец с мальчиком уходили рано, Кнехт не слышал, утром он всегда спит очень крепко. Куда им ходить? Ну, посмотрели Ратушную площадь, башню и мост. Что ещё нужно постороннему человеку в Старом городе?..
На четвёртый день Кнехта всё же разбудили. Постоялец громко доказывал кому-то в телефон:
– Совершенно невозможно! Ну как вы не понимаете, я в отпуске! У меня может быть отпуск или нет?! Я с ребёнком…
Проблемы. Как неприятно: если они уедут, придётся вернуть деньги за оставшиеся дни, совершенно некстати…
– Что-то случилось? – спросил Кнехт, заставив себя одеться и выползти на кухню.
– Работа не отпускает, – неловко улыбнулся жилец.
– Уезжаете? – осторожно спросил Кнехт. Где только люди берут такую работу, которая не отпускает?
– Да, в общем, – пожал плечами жилец, – я могу и удалённо работать, был бы компьютер. Только вот Гриша… Не сидеть же ему со мной взаперти. Боюсь, придётся нам всё же ехать на море.
– Почему на море? – не понял Кнехт.
– Жена сейчас там, – объяснил жилец. – Ей нужно море… Проблемы со здоровьем. А Гриша очень хотел посмотреть город, вот мы и решили: неделю здесь, а потом все вместе на море. Но видите как, работа…
– Ясно, – кивнул Кнехт. Мальчик, наверное, будет рад: в городе уже всё посмотрел, конечно, ему хочется на море.
– Жаль, – сказал вдруг отец, – Грише очень нравится город. Он мог бы бесконечно тут ходить.
– Не надоело ещё? – спросил всё же Кнехт.
– Нет, что вы! – крикнул вдруг Гриша, десятилетний мальчик, очень худенький. Кнехт впервые услышал, какой у него звонкий голос. – Мне никогда не надоест! Я не хочу ехать, папа, можно я сам буду тут ходить, я не потеряюсь, ну пожаалуйста!
Ноги-спички, кулачки как у соломенного человечка. Надо же какой! Кнехт думал, он тише воды… На море не хочет… Что он здесь нашёл? Какой-то странный мальчик.
Отец не спорил с ним, виновато улыбнулся Кнехту.
– Гриша, покажи Паулю свои фотографии. Вы же посмотрите, да, Пауль?
Сто лет Кнехта не звали по имени: далёкие знакомые привыкли к фамилии, а близких не осталось. Ладно, Пауль так Пауль, посмотрим фотографии. Кнехт сразу расстроился: такой огромный фотоаппарат! Дорогой, наверное. Зачем он мальчику? Баловство это. Техника, камеры… Возьми карандаш и нарисуй! А так – можно и на телефон щёлкнуть. Уж ребёнку точно такой здоровый аппарат ни к чему, и тяжело, наверное…
– Смотрите, – сказал мальчик. Вытащил карточку из фотоаппарата, умело вставил в компьютер. Как они легко с этой техникой, у Кнехта всю жизнь ломалось всё, что сложнее карандаша…
Мальчик щёлкнул по клавишам и вывел на экран первый кадр.
Кнехт обомлел.
То есть именно обомлел: ноги обмякли, мышцам стало трудно удерживать тело, и Кнехт осторожно опустил себя на табурет.
Он увидел свой сюжет, свою картину. Монетка на булыжной мостовой. Расположение кадра было ровно таким же, как на холсте, который много лет валяется за шкафом лицом к стене.
– Это ты сам снимал? – осторожно спросил он.
Мальчик кивнул. Конечно, сам, а то кто же…
Кнехту понравилось, что Гриша не спешит щёлкать картинки дальше, показывать другие фотографии.
– Хороший кадр, – сказал Кнехт и задумчиво отхлебнул кофе.
– Вам сварить? – деликатно спросил Гришин отец. Кнехт сообразил, что пьёт не из своей чашки, растерялся, а потом сказал:
– Да, сварите, если не трудно… Такой же. Кажется, у меня есть одна мысль.
Гриша закрыл фотографию на экране и стал быстро листать другие:
– Сейчас, сейчас… Не смотрите, я ещё не чистил, тут ерунда… А, вот!
Да, тоже хорошо. Просто дверь: ручка в виде льва и квадратное окошко. Но как падает свет! Сколько мальчику лет, десять? Когда он научился отличать хорошие кадры от обыкновенных?!
Кнехт молчал, пока кухню снова не наполнил запах кофе. Крепкий, удивительно вкусный вышел – Кнехт попробовал и улыбнулся. Когда он улыбался последний раз?
– У меня к вам предложение, – сказал он жильцу. – Я сегодня свободен и мог бы показать мальчику город, пока вы работаете.
* * *
Кнехт растерянно смотрел на мальчика. Зачем он это придумал? Куда они пойдут, что он может показать ребёнку? Он никогда не умел разговаривать с детьми.
Странно, что отец так легко отпустил мальчика с ним, с чужим, обрадовался. Видно, очень занят.
– Куда пойдём? – спросил мальчик.
– Ну…
Как показать человеку город? Тот город, который тебе не просто место для житья. Город, из которого состоишь ты сам больше чем наполовину, как другие люди – из воды.
– Вот, смотри. Ратушная площадь…
Мальчик не смотрел на башню с часами, он смотрел себе под ноги. Он наверняка тоже успел выучить наизусть все эти башни и часы. Что Кнехт может показать ему? Что вообще ему надо?!
– Смотрите, Пауль, – вдруг сказал мальчик. – Смотрите, какой странной формы этот камень.
…И вдруг стало легко. Сразу.
– Туда? – спросил Гриша, Кнехт кивнул, и они свернули в самый узкий и кривой переулок.
* * *
Гриша провёл рукой по кирпичам, вылезшим из-под штукатурки.
– Сколько лет этому дому?
– Не знаю, – пожал плечами Кнехт, – думаю, семнадцатый век. А, точно, смотри: табличка. Да, семнадцатый, точно.
– Это что – четыреста лет, да? Ничего себе. А почему не отвалилось полностью?
– Штукатурка? Ремонтируют. Это недавняя, конечно, новая; и всё равно отваливается. Скоро опять закрасят. А тогда… Тогда вообще всё иначе выглядело.
– Иначе, – разочаровался Гриша. – А кирпичи? Кирпичи хоть настоящие?
– Настоящие, – уверено кивнул Кнехт. – Смотри какие! Сейчас таких не делают, вот этот – видишь? – новый, а остальные – как было. Вообще внутри многое поменяли, провели коммуникации, сейчас без этого никак… Стены – то, что осталось. Стены настоящие.
И Кнехт погладил – нет, просто коснулся рукой стены. Почему-то казалось, что кирпич должен быть тёплым. Нет, холодный. Просто шершавый камень. Он думал, Гриша достанет фотоаппарат, но тот не стал.
Железные кольца. Зачем они? Из старых, неровных стен часто выступают железные кольца, крюки. У всех было какое-то предназначение, иногда понятное, иногда утерянное.
Раньше Кнехт часто думал: зачем? А потом как-то привык.
– Зачем? – спросил Гриша, и Кнехт вздрогнул. Гриша покрутил кольцо в крюке – двигается или намертво приржавело? Кнехт вдруг подумал, что это хороший кадр: такая живая, тёплая маленькая рука – и тяжёлое кованое кольцо.
– Лошадей привязывать, – объяснил Кнехт. – А сейчас можно, скажем, велосипед.
Гриша кивнул, посмотрел вверх. Тут, внизу, темно; но на втором этаже вишнёвая стена ярко освещена солнцем. Проводка тянется поверху, к окну – и солнечный свет обнаруживает неровность стены; тень от проводов извилистая, будто река на карте.
– А там зачем крюки? – спрашивает Гриша. Кнехт не знает. Такие же есть рядом с окном – открывать ставни. Но там окон нет. Раньше были?..
– Иногда хозяева закладывали окна кирпичом, – объясняет Кнехт, – тогда были налоги на окна. И люди шли на хитрость, чтобы не платить.
– Но ведь темно, – отвечал Гриша, – на керосин больше потратишь…
– Видимо, день проходил в работе, а когда в комнате только спишь, свет не особенно нужен…
Солнце высвечивает все детали стены, как увеличительное стекло. Сами крюки почти не видны, зато тень от них – с палец. И ржавый подтёк на стене.
Гриша достаёт фотоаппарат. Кнехт его не торопит, тоже рассматривает стену. На такую можно смотреть и смотреть, не надоест.
Стены домов – как лица. Бывают такие у людей, смотрел бы и смотрел. Не у всех, но встречаются.
Красная, почти оранжевая стена – цвет радости. Окна и углы дома обведены белым, и эта белая полоса чуть неровная. Гриша проводит пальцем по границе белого и оранжевого. Стена шершавая, пальцу щекотно.
Из-под дома растёт одуванчик. Из каких стран занесло его, каким ветром?
Низкая арка во внутренний двор. Решётка не заперта.
– Пойдём?
– А можно? – спрашивает Гриша.
Кнехт кивает.
Изнутри совсем не так, как снаружи. Стена трескается, заляпана штукатуркой как попало, закрашена жёлтой краской. Внешняя проводка, некрашеные деревянные ставни из косых планок, железный фонарь из стены.
– Фонарь старый, – говорит Гриша. Пауль кивает. По крайней мере, тридцать лет назад он уже здесь был.
Стоит ли говорить, что здесь, за этим низким окошком, жил доктор? И для Пауля этот двор навсегда – гадкий вкус деревянной палочки в горле. «Когда вы уже научитесь открывать рот нормально, Пауль, вы ведь уже большой мальчик?»
– Здесь раньше жила собака, – то ли спросил, то ли просто сказал Гриша.
– Тут везде живут собаки, – пожал плечами Пауль, – у многих…
– Большая, белая. С треугольными ушами.
– Откуда ты знаешь? – Ну да, собаки все с треугольными ушами или почти все. Но большая белая?.. Откуда?!
– Не знаю, – серьёзно сказал Гриша, – этому двору подошла бы такая собака.
– Это была собака доктора, – сказал Пауль. – Большой умный пёс, его звали Эмиль.
И неожиданно для самого себя рассказал, как в детстве боялся собак. И доктора тоже боялся. И однажды доктор был занят, пришлось ждать, от страха сводило зубы и скрипело в животе. И тогда лохматый Эмиль подошёл и лёг Паулю на ногу. Пауль замер. А потом тихонько погладил Эмиля. И потом приходить к доктору было уже не страшно. Хотя, казалось бы, ничего такого не произошло.
Кнехт вдруг страшно смутился. Он никогда не рассказывал никому о своём детстве, чего вдруг?.. А Гриша сказал:
– Надо же. Вы здесь жили… И сейчас. Живёте. Прямо здесь. В таком… старом городе.
– В этом есть свои неудобства, – пробурчал Кнехт.
– Ходите по брусчатке, – продолжал Гриша.
– Ты находишь это прекрасным? – Кнехт посмотрел на подмётки своих ботинок. Да, обувь тут стирается быстрее обычного. Если ехать, надо покупать новые. Если ехать… Стоп, откуда взялось это «если»? Он ведь уже решил!
– Да, – вдруг твёрдо сказал Гриша, – я нахожу это прекрасным. В нашем городе совсем нет таких улиц, один асфальт. И дома все одинаковые. Есть, конечно, центр города, там по-другому. Но это далеко. А там, где мы живём, там… Там совсем не так.
…Неужели этот мальчик живёт в типовом районе? Такой глазастый, как же он научился видеть?..
– Но у нас тоже бывает очень красиво, – добавил Гриша. – Всё зависит от того, как падает свет.
* * *
Они ходили и ходили по улицам, маршрут выбирал Гриша, а Кнехт просто шёл рядом и смотрел. Гриша ходил быстро, длинным ногам Кнехта удобно в таком темпе. А внезапные остановки на фотографирование не раздражали. Кнехт замирал и вдруг смотрел на город Гришиными глазами: красивый, чёрт его возьми, попробуй уехать из такого.
Двери – все разные; окна, шпили, и башенки, и булыжная мостовая. И свет, свет! Какой разный. Хорошо, что сегодня такое солнце.
– Надо успеть, – говорил Гриша, – уже и так поздно… Скоро будут прямые лучи, это совершенно неинтересно.
Человек-спичка, такой тонкий, – и такой громоздкий у него фотоаппарат. Кнехт предложил понести камеру, Гриша даже не ответил.
И совершенно неожиданно их снова вынесло на Ратушную площадь.
* * *
Кнехт пытался посмотреть на это место заново, будто он здесь впервые, но не получалось. Это как смотреть в зеркало и представлять, будто это лицо другого человека. Красиво? Ну, наверное… Слишком предсказуемо; и слишком уж много народу. Хотя часы… Башня с часами – это, наверное, интересно… Но ведь в любом городе есть такая башня, разве нет?
Кнехт обернулся на мальчика.
Грише никакого дела не было до башни с часами. Он смотрел под ноги.
– Мостовая? – спросил Кнехт.
– Да. Это так… Красиво. Почему сейчас не делают так?
– Знаешь, а я ведь в детстве писал сочинение про брусчатку.
– Сочинение?
– Ну да. Вы пишете в школе? Вот и мы. Тема была какая-то конкурсная, «Мой город» или что-то такое… Все писали про обычные достопримечательности, одна девочка – про свой двор. А я – про брусчатку. Потому что она… Она дышит. Это такая рабочая часть города; по ней идёт столько ног! И она принимает и принимает людей, и лошадей, и колёса – всё-всё городское движение. На неё никто и не смотрит обычно, чего смотреть под ноги… Разве что ищешь что-нибудь. А ведь брусчатка – совсем не то, что тротуар. Если потеряешь монетку – на асфальте ей лежать полминуты, не больше! Если спичку или другой мусор – до утренней метлы дворника. А если упадёт на брусчатку… Есть шанс. Затеряться, спрятаться между булыжников, и лежать долго-долго, и смотреть, как прорастает трава… Сверху её топчут, а она всё равно пробивается и даже зеленеет. Под ней можно спрятаться, сохраниться. Брусчатку, конечно, меняют время от времени. Но всё же она долговечней, чем асфальт, и хранит столько следов…
Булыжная память длиннее асфальтовой примерно в тысячу раз.
Как же он помнит всё это?! Ничего не забыл. Нет, совсем ничего. Кнехт вдруг испугался: зачем он это рассказывает чужому, совершенно незнакомому мальчику?
Но Гриша просто коротко кивнул, будто понял. И почти лёг на площадь; ему нужен был ракурс. Кнехт не мешал, просто следил, чтобы мальчика никто не задел.
Часы пробили одиннадцать. Ничего себе; кажется, должно быть часа четыре дня, а тут – одиннадцать! И ещё весь день впереди! Нет, у ранних вставаний есть свои плюсы.
* * *
А потом Гриша сказал: на море. Кнехт пожал плечами, и они пошли в порт.
Чуть не доходя, свернули в сторону – там можно пройти между домами. Странный кусок берега: бетон крошится одуванчиками и клевером, из него торчит ржавая арматура. Порт совсем рядом, виден красный паром: всего через несколько дней Кнехт уедет на таком. Вода бурого цвета, совсем не хочется называть её морем: что-то вроде мелкого залива. Но Гриша сказал:
– Море.
И сел на тёплые бетонные плиты.
Кнехт расшнуровал ботинки и сел рядом, а потом лёг. Стал смотреть в небо и слушать море. Почему он так долго не приходил сюда?
Гриша лениво бросал камешки в воду. Жарко. Кнехт чуть шевелил босыми ногами: устали, давно не ходил столько, и так приятно чувствовать уставшими ногами морской ветер.
И тут мальчик заговорил, быстро, чуть заикаясь:
– Это очень красивый город. Но у тебя с ним что-то не то. Не знаю, что у вас разладилось, но это надо вернуть.
Кнехт не удивился. Высокое небо перед глазами, солёный ветер гуляет по босым ногам, рядом сидит мальчик с луны. Чему тут удивляться?
– Тебе надо уехать, – сказал вдруг Гриша, и на последнем «уехать» Кнехт услышал, как он швырнул камень. Плеск раздался не сразу. Далеко, наверное, удачный бросок.
Кнехт рывком сел, подтянул по-турецки ноги. Он был готов сейчас увидеть кого угодно – старого монаха или инопланетянина с детским голосом; но рядом по-прежнему был Гриша, маленький мальчик, ноги-спички.
– Откуда. Откуда. Ты. Знаешь?!
Хотелось кричать ещё: да кто ты такой, чтобы давать мне советы, влезать в мою голову, чувствовать моё сердце?! Откуда ты взялся, что тебе нужно?!
Гриша не ответил. Пошёл к воде, осторожно ступая по наклонной плите босыми ногами. Попробовал воду ногой, потом лёг и сунул руку в воду.
Не свалился бы, да и море здесь грязное, зачем он туда лезет?
Гриша вернулся к Кнехту, без улыбки посмотрел в глаза. Карие с крапинками у него, светлые; у Кнехта раньше тоже были такие, потом потемнели.
– Тебе по-другому надо уехать, не так, как ты хотел, не насовсем. Надо уехать, чтобы вернуться. Ты боишься рвать связь с городом, но это невозможно.
– Что невозможно?
– Порвать связь. Этот город внутри тебя, всегда будет с тобой. Поезжай, ничего не бойся. И возвращайся. На, не потеряй!
Он раскрыл кулак и отдал Кнехту гладкий камень с дырочкой. Отдалённо камень напоминал сердце, как его принято рисовать на открытках.
– Не потеряю, – кивнул Кнехт.
Потом Гриша вдруг тряхнул головой и сказал:
– Пойдёмте дальше? А то до вечера тут проторчим!
И Кнехт обрадовался: рядом с ним опять обыкновенный – ну, пусть не совсем, но всё же – мальчик, Гриша, он с ним снова на «вы», и опять Кнехт – взрослый, старший.
* * *
Не такой уж и взрослый: они излазали всю вертолётную площадку, и Пауль бежал с Гришей наперегонки вниз с холма, а потом они пошли в порт и смотрели, как пожилой матрос сворачивает бухтой канат.
Пауль вдруг подумал: а ведь я могу так же. Могу стать матросом, и сворачивать намокший тяжёлый канат, и знать, что делаю дело.
И ещё подумал, что давно не думал так: «Могу». Обычно – «мог бы, мог бы, но давно, а теперь всё, всё упущено…». А теперь ему будто выдали билет с открытой датой: делай что хочешь. Ещё ничего не кончилось.
Внезапно захотелось сесть уже куда-нибудь и кофе. Остро захотелось – даже не вкуса кофейного, а запаха.
Кнехт выбрал знакомый магазинчик – такой не назовёшь «кафе», всего лишь один раскладной столик у дверей под крышей.
Кнехту – двойной крепкий кофе, безо всяких глупостей вроде сливок и сахара. Мальчику – мороженое. Какое счастье, что он любит мороженое, как самый обыкновенный мальчик!
Гриша делает ложкой ямку, отправляет кусок белоснежного в рот, сияет: настоящее. Как вкусно! Пауль, а можно мне… Можно вы нальёте мне кофе в мороженое? Чуть-чуть?
Кнехт ложечкой добавляет кофе в снежную ямку. А Гриша опускает кусочек ему в кофе. Кнехт не возражает.
– Папа всегда так любит, – говорит Гриша, и только тут Кнехт спохватывается. Достаёт телефон. Нет, ни одного пропущенного.
Пишет эсэмэску Ивану:
«Гуляем, едим мороженое, у вас чудесный мальчик».
Тут же приходит ответ:
«Огромное спасибо, вы страшно меня выручили».
Кофе с мороженым – очень вкусно.
– Мороженое с кофе, – говорит Гриша, – страшно вкусно.
Гудят ноги, Кнехт растягивает удовольствие, насколько возможно, но кофе кончается.
– Пойдём? – спрашивает Гриша.
– Ты не устал? – с надеждой спрашивает Кнехт. – Может, домой?..
– Как домой?! Мы же только вышли!
Кнехт поднимается, кряхтя. Это кряхтенье почти внутреннее, незаметное, но Гриша видит.
– Вы устали, да?
– Нет, – мотает головой Пауль, – пойдём. Пойдём наверх! Оттуда хорошо видно море.
* * *
Они вернулись, когда уже совсем стемнело. Иван ждал их, сварил обыкновенной картошки с обыкновенными же сосисками из супермаркета, и Пауль с Гришей с одинаковой жадностью набросились на еду.
– Хорошо походили? – спросил отец. Гриша кивнул, запихивая в рот горячую картофелину целиком.
– Ну и славно, – кивнул Иван и не стал расспрашивать.
Потом, когда Гриша свалился спать, старший постоялец постучался к Кнехту и сказал чуть виновато:
– Вы даже не представляете, как вы меня выручили. Надеюсь, он не очень утомил вас. Простите… Я вам что-то должен?
– Нет, что вы, – засмеялся Пауль. – Это я вам должен. Ваш мальчик вернул мне мой город.
Иван не удивился.
– Да. Гриша может.
* * *
Кнехт сразу заснул как убитый, но быстро проснулся. Небо уже светлело, хотя ещё не рассвело.
«Уеду, – подумал Кнехт. Но не с тоской, как раньше, а радостно. Как в детстве ждёшь путешествия на каникулы. – Уеду, а потом вернусь».
Он полежал ещё немного, удивляясь отсутствию сна и ясной голове.
А потом резко встал, натянул свитер и брюки. На подоконнике валялся старый скетчбук, альбом для набросков. Пауль смахнул пыль и пролистал большим пальцем пустые пожелтевшие страницы. Какое-то необычное чувство в пальцах… Может, это от вчерашней усталости? Нет, не похоже… Будто знакомое. Будто раньше было, давно-давно…
А! Конечно!
Пауль нашёл среди завалов на столе карандаш, пристроился на подоконнике, где светлее, и начал рисовать.
Кованое кольцо в стене. Из трещины в бетонной плите растёт одуванчик.
У маленького мальчика с огромным фотоаппаратом тонкие пальцы и внимательные глаза. За его плечом поднимаются шпили Старого города.
…Стало совсем светло. Пауль Кнехт отложил карандаш и стал смотреть, как сквозь рваные пласты тумана над крышами пробиваются первые солнечные лучи.
Канатоходец
– Трус, – говорит мне Петер.
– И ничего не трус, – говорю я. – Просто не хочу.
– Да ты не бойся, – ласково говорит мне Шмулик, – я раньше тоже боялся, а теперь вообще не страшно!
Вот же, а. Так бы и двинул Шмулику этому.
– Не хочу, и всё! Не боюсь я!
Петер подошёл ко мне близко-близко. Я даже увидел маленькие крапинки в его выцветших глазах.
– Докажи, что не боишься.
– Не буду вам ничего доказывать! Хотите – летайте сами, чего привязались!
Петер презрительно плюнул.
– Ладно, моя очередь, – миролюбиво сказал Шмулик и полетел.
У-у-у-ух-х-х! – всего-то секунда. И за это время моё сердце успевает сгонять в желудок и обратно, как шарик на резинке.
Изо всех сил вдыхаю запах сосновых иголок. Вот за этот запах люблю это место; надо же было так испортить его тарзанкой. Канат привязан к толстой сосновой ветке на самом краю обрыва. Толкаешься и летишь над карьером; и назад.
– У-у-ух-х-х, – полетел Марио, его очередь. Бритая макушка отсвечивает на солнце. Марио недавно болел, а его мать думает, что все болезни – в волосах. Вот и побрила наголо. У него оказалась неожиданно красивая форма головы, ему идёт.
После него летит светловолосый Петер.
А я не буду. Больно надо.
Нет, я не трус. Просто не люблю это, не понимаю. Зачем бессмысленно рисковать. Если бы войти в горящий дом спасать человека – это да. А так…
И потом, как я могу быть уверен, что канат не порвётся или что ветка не обломится? Вон как трещит!
А за свои руки, пожалуй, я отвечаю. У меня сильные.
Вдруг Марио оглушительно свистит, но уже поздно – полицейский хватает первого, кто подвернулся: меня.
– Что это вы тут, а?! Свихнулись совсем! Это всё ты, всё ты их учишь своим штукам!
…Конечно, я, больше некому. Терпеть он меня не может, вот что.
– Доминик, беги! – кричит Шмулик. Они-то уже далеко, особенно Петер.
Но я не бегу. Я смотрю мимо полицейского с самым идиотским видом, на какой способен, и мычу:
– Да тут все… Все летают. И мы… А чего такого… А Петер не летал вовсе, просто смотрел.
Мне ничего не будет. А вот Петеру мало не покажется: полицейский – его отец.
– Спилю этот сук к чёртовой пр-р-рабабушке! – грохочет он.
Ну да, ну да, киваю я, стараюсь казаться меньше и безобиднее. Дожидаюсь, пока они убегут подальше. И как только отец Петера теряет бдительность, я резко бодаю его затылком в подбородок, он на миг ослабляет хватку – и привет! Никогда, никогда этому коротышке-полицейскому не догнать Доминика!
* * *
…Я нахожу их в городе, болтаются на рынке. У Марио сегодня есть деньги, он заработал утром и теперь угощает всех горячими вафлями. Деньги отдают Петеру, и пока он солидно платит за вафли, Марио успевает стянуть ещё и пирог с мясом.
С ними ошивается незнакомый парень в тельняшке. Новенький. Откуда взялся?
– Доминик! – первым замечает меня Шмулик. – Как ты? Сбежал?
– Чего сразу-то не свалил? – ухмыляется Марио. – Все утекли, а ты остался. Я же свистел!
Похоже, они не понимают, что я просто дал им возможность убежать!
– Чего он сказал-то? – хмуро спрашивает Петер.
– Сказал, что пустит тебя на котлеты, – мстительно говорю я. – И ещё сказал, что спилит этот сук к чёртовой прабабушке.
– А ты что?
– А я сказал: если спилят тарзанку, так мы на колокольню будем лазать всё равно!
– На колокольню! – вдруг загораются глаза у лысого Марио. – Вот это мысль!
Чёрт дёрнул меня за язык. Мы дожёвываем пирог (мне всё же достаётся кусочек) и дружно тащимся на колокольню. Она стоит на главной площади, прямо напротив ратуши. Нарядная, будто кремовый торт.
Но если нырнуть в арку, колокольня открывается с другой стороны. Там, где из-под слезающей штукатурки показались выбитые кирпичи. По этой стене можно залезть довольно высоко…
Я легко добираюсь до первого карниза, касаюсь его рукой – всё, достал! – и прыгаю вниз. Невысоко, метра два тут.
– А чего дальше-то не стал? – спрашивает новенький. Нацепил тельняшку и воображает себя матросом. – Мог бы подтянуться за карниз и спокойно дальше лезть. Боишься, что ли?
Сговорились прямо.
– Не боюсь я. Не хочу просто.
Скучно мне с ними, надоели. А Матрос наседает, прямо нарывается: боишься, да?
– Да не хочет он! Он не трус! – выкрикивает маленький Шмулик. Вот тут он и схлопочет у меня по чёрному кудрявому затылку, мне не требуются адвокаты!
Матрос откровенно наседает, а я отхожу. Назад. Вот придурок, драться ему хочется, видите ли! А мне вот не хочется! Он сплёвывает:
– Вот не думал, что на вашем берегу все такие. Кисейные барышни.
Ого, книжный мальчик: кисейные барышни. Наши так не говорят! Наши… Наши – это вот Марио. Глаза наливаются горячим, и он бросается на Матроса, они катаются по земле…
А я стою как дурак. Я просто не хотел драться. А эти двое хотели. Чего вот я теперь должен!
Встали, отряхиваются. Марио смотрит на меня презрительно. Он почти всегда так смотрит на меня: думает, что я и правда трус. А жалко: мне кажется, мы с ним похожи. Только мы двое работаем по утрам.
Этот, в тельняшке, уцепился за выбоины в стене и лезет на колокольню. Ну-ну, посмотрим. Это только кажется просто, тут надо знать… Я подсаживаю маленького Шмулика, подпихиваю его босую ногу – давай же, лезь! И он оказывается даже выше Матроса. Ещё чуть-чуть, и он достанет до карниза!
– Самуэль!! – вдруг раздаётся истошный визг аптекаря, отца Шмулика. – Слезай немедленно!
И чего он не в аптеке своей, почему мы сегодня натыкаемся на отцов? Странный какой-то день. Мы скатываемся со стены, летим со Шмуликом прочь, дворами и подворотнями и, только вылетев к реке, переводим дух.
– Чего тебе будет? – спрашиваю его.
– Ничего, – улыбается Шмулик. Надо же, Самуэль – какое у него имя оказалось серьёзное. – Ничего, он так только кричит.
Нас догоняют остальные. Матрос ещё пытается задирать меня, но его не поддерживают. Меня никогда не будут особо дразнить. Вообще-то я знаю, что они терпят меня только по одной причине. Ну и пусть.
– Оставь его в покое, – говорит Петер. Матрос пожимает плечами.
И тут я лениво спрашиваю:
– Ну что? Кто сегодня? Двое. Могу только двоих, мне и так попало в прошлый раз.
Марио отходит. Он занят сегодня вечером – работает; мать просила помочь. Я вообще думал – Петер и Шмулик; но теперь ещё этот Матрос…
Я могу провести их в цирк. Без билета. Я один. Интересно, Шмулик подлизывается ко мне из-за этого? Или просто так. Ведь может же быть такое, чтобы просто так!
У всех троих несчастные глаза. Кто из них будет – двое? Матрос, в общем, непонятно откуда взялся, а Петер и Шмулик – наши…
– Камень-ножницы-бумага, – решаю я. Я всегда решаю именно это. Не кто пойдёт, а какой жребий выбрать. Потому что никогда я не смогу сказать живому человеку: ты с нами не пойдёшь в цирк.
Матрос проигрывает.
– И пожалуйста, – говорит он, – больно надо!
Отходит к Марио.
– Ты когда-нибудь был в цирке? – спрашивает его Шмулик. Матрос качает головой. Неужели не был?! Ни разу?!
– Тогда ладно, – тихо говорит Шмулик. – Иди вместо меня.
* * *
Мне ужасно жаль маленького Шмулика, но что я могу сделать?! Раньше я водил всю толпу, но сейчас Аристотель сказал мне: или двоих, или вообще лавочка прикроется.
Публика уже собирается на представление. Я ныряю в здание цирка со служебного входа. Здесь нельзя провести других – заметут! У нас есть запасные варианты. В несколько минут я перебираю их все, ношусь по цирку, как бешеный. И понимаю: сегодня можно только через слоновник. И даже радуюсь: вот им, Петеру и Матросу! Пусть нюхают!
Петер идёт мимо слонихи Джеральдины, зажав нос, явно боится. Джеральдине только хоботом двинуть, и готово! Зато Матрос смотрит на неё во все глаза и улыбается: надо же какая! Слонов он тоже никогда не видел раньше. Я тащу его за рукав – скорее!
Мы продираемся по самым тёмным коридорам и лестницам и наконец выныриваем в осветительскую.
– Аристотель! – шепчу я громко. – Ты один?
– Да, и уже отвернулся, – отвечает мне Аристотель, наш осветитель, король всех фонарей и прожекторов. Директор терпеть не может посторонних в театре, безбилетников. Но Аристотель старше директора в два с половиной раза и не больно-то боится. Он только просит, чтобы я не приводил больше двух человек.
Вокруг самого яркого прожектора – самая чёрная темень. И никто не увидит три притихшие тени: Петера, Матроса и мою.
Отсюда я смотрю все представления. А ещё смотрю на Матроса. Он и правда первый раз в цирке – сидит открыв рот. Как маленький.
Акробаты и дрессированные собаки. Фокусник (его не люблю). Клоун Бартоломео (обожаю). Но это всё не главное. У меня страшно колотится сердце, и я знаю: сейчас на арену выйдет он.
* * *
– Лучший в мире канатоходец Теодор Юлиус Штрохольм!
И он выходит. Идёт по канату, лёгкий, как горсточка нута. Тонкий и гибкий, как мальчишка. Он совсем не выглядит взрослым.
Я перестаю моргать. Мне кажется, закрой я глаза хоть на миг – и он… В общем, я держу его взглядом, помогаю. Так трудно идти по этой тонкой ниточке, она отблёскивает в свете прожекторов, как паутинка в утренней траве.
Я смотрю на него, и мне кажется, что это я. Что это я иду, раскинув руки, и не вижу всей этой толпы – только свой путь, тонкий трос, натянутый высоко над ареной. И мне не страшно. Совсем.
Толпа ахает, замирает. У меня останавливается сердце. Нет, опять стучит, нормально. Идёт, просто пошатнулся.
Чёртов канатоходец. Не смотреть бы. Говорят, когда переживаешь – теряешь часы жизни. С ним я теряю целые дни и годы. Скоро от моей жизни совсем ничего не останется.
Он, качаясь, доходит наконец до твёрдой площадки. Публика взрывается аплодисментами. Но я-то знаю. Я-то знаю, что это только начало номера.
Там, на площадке, он открывает ящик и достаёт старый халат. Надевает его, зевает…
Теодор Юлиус приходит домой. Снимает ботинки. Гладит кошку, ставит чайник…
Он восхитительный мим. Это называется пантомима: когда показывают что-то без слов и даже без предметов. Но все будто видят и кошку, и чайник… Кошка мяукает, чайник кипит – я знаю, что звуки идут в записи, через динамик. Но кажется, что это у него в руках возникает чудо… Смотрел бы и смотрел. Если бы только Теодор Юлиус не проделывал все эти штуки на своей проволоке.
Я знаю, какого труда, какой точности стоят все эти будто бы ленивые, неловкие движения. А он ложится себе спать. И даже храпит, будто нет более удобной кровати…
Это очень страшно. Потому что это самое трудное – вот так сохранять равновесие на узкой проволоке, лёжа.
Оглушительно звонит будильник, и Теодор Юлиус Штрохольм вскакивает с постели. Лихорадочно умывается, бреется – опаздывает! Перекусывает на ходу, выпивает кофе, ловит такси… И вот он на работе. Он возвращается на твёрдую площадку, скидывает там свой халат и вновь превращается в настоящего канатоходца – тонкого, гибкого и сильного, его тело натянуто как струна, он бесстрашен! Снова он идёт по проволоке, раскинув руки… И хотя зал уже знает: это самое простое, это ничего ему не стоит, – но всё равно встаёт. Весь цирк встаёт и аплодирует ему! И он делает для восторженной публики сальто на проволоке.
…И вместе с ним сальто делает моё сердце.
Теодор Юлиус Штрохольм, когда же кончится твоё бесконечное выступление!
Наконец он спускается на твёрдую землю. И я вспоминаю, как дышать. И закрываю глаза. Они мокрые – попробуйте-ка сами не моргать столько!..
Я знаю, знаю, что у него есть страховка. Если он сорвётся – это не так уж и страшно. Он показывал мне миллион раз, чтобы я перестал бояться за него. И потом на представлении один раз по-настоящему сорвался. Повис на страховке, как паучок… Публика ахнула. Он сделал вид, что это специально, сымпровизировал, продолжил номер дальше. Но я-то знаю… И потом. Кто может обещать, что страховка всегда сработает так, как надо?
* * *
Мы выходим из цирка.
– Ну что, понравилось? – спрашивает Петер, будто именно он привёл Матроса на представление.
– Вообще. Вообще! – твердит Матрос, все другие слова забыл. Я радуюсь, что ему так понравилось и что он это не скрывает. – А этот… канатоходец! Вообще. Вообще!
– Да, канатоходец крутой, – кивает Петер. Я молчу.
Вдруг Матрос поворачивается ко мне.
– А я видел, как ты смотрел на него. Видел. Боялся. Белый весь сидел. Ты же представлял, как будто это ты? Да?
Я вздрогнул. Откуда он знает?..
– Ты, наверное, хочешь тоже. Да? Тоже хочешь ходить по канату?
– Нет, – отвечаю я. Я не говорю ему, что умею ходить по канату. Не так-то это и сложно, если просто ходить.
– Лучший номер! – повторяет Матрос.
– Ненавижу этот номер, – бормочу я. – Лучше бы его не было.
– Оставь его в покое, – бросает Матросу Петер. – Он переживает. Каждый раз переживает, как чёрт.
– За канатоходца?
– Да. Это его отец, – сдаётся наконец Петер.
…Мы выходим на площадь. Часы на здании ратуши бьют десять раз. От колокольни до соседнего дома натянут трос; в праздничные дни на нём развешивают флажки и фонарики. Я киваю на него:
– Раньше он ходил здесь.
– Кто? – не понимает Матрос. – Где ходил?..
– Теодор Штрохольм. В День города он шёл по этому тросу. От того дома с башенкой до колокольни. Шёл над толпой, раскинув руки. Безо всякой страховки. И когда он проходил трос до конца, звонарь ударял в колокол. И толпа выдыхала. Это было очень страшно.
– Прямо здесь?.. – Матрос с Петером стоят задрав головы.
– Да.
– Ты видел?
– Нет, это было давно. Ещё до моего рождения. (Да, кивает Петер, отец мне рассказывал. Весь город приходил смотреть на нашего канатоходца.)
– А сейчас? Почему он не ходит сейчас?
– Из-за меня, – отвечаю я. – У него же есть я. А у меня, кроме него, никого нет. И он не может теперь так просто пройти над площадью без страховки. Не может.
* * *
– Значит, ты целыми днями в цирке?
– Ну да.
Мы идём с Матросом вдоль реки. Петер давно ушёл, запрыгнул к себе через окно, чтобы притвориться спящим. Лучше остаться без ужина, чем попасться на глаза отцу! А спящего ребёнка, глядишь, не тронут.
Я пошёл провожать Матроса на другую сторону реки. Он живёт там, у самых доков. Оказалось, он и правда матрос – работает на маленьком пароходике. «Речная электричка», – скептически обзывает своё судно Матрос: ходит до близких деревень и назад в тот же день. А ему, конечно, хочется в море…
Я никогда не был здесь, в доках. Видел их только со своего берега реки. Здесь чинят небольшие суда, катера. Здесь же латают и Матросову «электричку», поэтому он оказался сегодня свободен.
Матрос в благодарность за цирк тоже показывает мне свой мир. Совсем стемнело, бродят скучающие собаки; кошачьими голосами орут чайки. Всюду скрученные в бухты канаты, пахнет дёгтем. Или, может, не дёгтем – но мне кажется, этот запах зовётся так. Матрос показывает мне длинную палку в воде. Такой высокий столб: на нём отмечают уровень воды.
– Видишь, в прошлом году было наводнение. Вода вышла из берегов, захлестнула набережную. Помнишь?
– Конечно, помню.
– Да, это было не опасно. А теперь смотри.
На самом верху столбика тоже есть отметка. Металлическая скобка, на ней выбит год.
– Что это?
– Тридцать лет назад было. Ужас что. Пришла сильная волна с океана, и ветер гнал воду, гнал и гнал… Знаешь, у меня есть сосед, он учёный. Так он бредит наводнениями этими. Очень боится. Изобретает способы защиты… А в этом году прибор изобрёл, который предсказывает наводнения. Этот прибор всё время на нуле. Ну и значит, наводнения пока не будет. Над этим учёным все смеются. А я смотрю на эту отметку на столбе и думаю: нечего смеяться. Может, он прав.
…Мы говорим ещё про наводнения. Потом Матрос рассказывает мне про море. Как там нужно будет лазать по вантам, на самом верху.
– Но я не боюсь высоты, – говорит Матрос. – Я смогу.
– Может… Знаешь, никогда не думал. Но, может, и я… И я хочу быть матросом.
– Ну… Там высоко, – говорит Матрос.
– Ты думаешь, я боюсь высоты? – спрашиваю я. Он молчит. – Я ненавижу бессмысленный риск, – объясняю я. – Просто чтобы показать – вот какой я, и не боюсь! Если бы спасать кого… А так…
– Слушай, – говорит Матрос. – А если бы нужно было спасать? Ты бы не испугался?
– Думаю, нет, – осторожно говорю я.
Потом он рассказывает мне о своей работе. Она нетрудная. Конечно, совсем лёгкая – я вижу, какие у него мозоли. Почти как у меня.
– А ты тренируешься каждый день? – спрашивает он.
– Конечно. Сейчас, правда, меньше. Тео (я зову отца Тео, его все так зовут) видит, что я не буду таким, как он. Но всё равно… Всё равно он говорит, что должен дать мне профессию. Что дальше я – как захочу. Но он должен быть уверен, что я хоть что-то умею.
Мы пришли; вот Матрос и дома. Но мне почему-то совсем не хочется расставаться с ним. Первый раз мне так нравится слушать человека. И ему, похоже, тоже интересно слушать меня.
– Слушай, – говорит он. – А пойдём к моему соседу? Тебя вообще ждут дома или как?
– Нет, я могу в любое время прийти. Сегодня день рожденья нашего фокусника, я его терпеть не могу. А Тео там, с ними. Так что я свободен.
– Тогда пойдём к Абрахаму! Он такой, знаешь… Он удивительный.
* * *
Сосед Матроса Абрахам Суббота – великий учёный. Это сразу ясно, как только заходишь к нему в комнату. Вернее, это и комнатой назвать трудно – такое нагромождение склянок, металлических штук, сундуков, старинных книг и непонятных приборов. Мы продираемся мимо этого хлама и не сразу находим в углу самого Абрахама Субботу. У него длинные седые волосы и борода, как у волшебника. И очки. Колоритный тип, ничего не скажешь.
– Здравствуй, Абрахам, – говорит Матрос громко (учёный глуховат), – это Доминик, познакомься.
Мне странно, что они на «ты». Но я ведь тоже на «ты» с клоуном Бартоломео и даже с Аристотелем, а он ещё старше.
– Доминик? – спрашивает Абрахам. – Откуда ты?
– Из цирка, – пожимаю я плечами. Это не совсем честно: всё-таки я не цирковой, если по-настоящему. Но как ещё ответить на такой вопрос?
– Из цирка? – удивляется Абрахам. – А кто твои родители?
Даже обидно. Как будто в школе. Или в полиции: отец Петера забирал меня пару раз и задавал мне такие же идиотские вопросы. Хотя прекрасно знал ответы.
– Мой отец – Теодор Штрохольм, – говорю я. Надеюсь, на этом допрос закончится.
– Теодор Юлиус? – Абрахам даже вскочил. – Тот самый, который ходил по проволоке над городом до самой колокольни?! Теодор Юлиус Штрохольм. Но ведь он совсем мальчишка! Не знал, что у него есть сын.
…Да, когда отец ходил по проволоке без страховки, он был совсем юным. Наверное, Абрахам запомнил его таким, а в цирке и не был с тех пор.
– Настоящий канатоходец, – качает головой Абрахам Суббота. – Сейчас таких нет…
Я открываю рот, чтобы сказать: как же нет! Он есть, работает, ходит по канату лучше всех, приходите посмотреть!
…Но тут я понимаю. Человек, который работает в цирке, показывает сложный, сумасшедший номер, которого не делает никто в мире. И канатоходец, который идёт над городом без страховки, сосредоточенно, серьёзно идёт по тонкому тросу, и тело его натянуто как струна, а толпа внизу смотрит задрав головы, замерев, не дыша. Такой канатоходец – это совсем другое дело.
– У тебя не цирковое имя, – вдруг говорит Абрахам.
– Это точно, – киваю я. – Он хотел назвать меня Лоэнгрином. Или, в крайнем случае, Христофором. Но мама сказала: Доминик. Поэтому так.
…Хорошо, что Матрос не спрашивает ничего про мою маму. Я и сам ничего о ней не знаю. Только то, что она назвала меня этим именем, самым обыкновенным. Иногда я думаю, что из-за этого имени я не цирковой внутри. Тоже самый обыкновенный.
…А Абрахам Суббота показывает нам с Матросом всякие штуки. Прибор, который может сосчитать зёрна внутри нераскрытого граната. Флейту, которая может повторять голоса птиц. Часы, которые идут с точностью до одной секунды в миллион лет.
– Покажи Доминику волнометр, – говорит Матрос и добавляет шёпотом, для меня: – Это его гордость.
– О, конечно! Волнометр… Куда же он запропастился… А, вот!
И он с гордостью показывает мне прибор вроде половинки часов с антенной. Только стрелки у него нет.
– А… Как он показывает? – спрашиваю я.
– Очень просто! Эти отметки – возможный уровень воды. Над уровнем моря.
– А… Сколько он показывает сейчас? – я всё ещё не понимаю.
– Сломался, наверное, – пожимает плечами Матрос. – Стрелка всегда на нуле была. Но сейчас её нет…
Абрахам растерянно смотрит на свой волнометр. И вдруг бледнеет. Руки начинают дрожать.
– Что это… Вы видите?! Что это! Стрелка… Она лежит!
Наконец вижу и я. Стрелка лежит, но не на нуле. А с другой стороны.
– Сломался? – спрашиваю я.
– Нет. Он не мог сломаться, – учёный еле удерживает в руках прибор. – Шкалы не хватило. Вы видите?! Зашкалило! Город затопит! Огромная, огромная волна идёт с океана! Скорее, скорее, предупредить всех!
– Как… предупредить, – лепечу я. – Правда, как?! Стучать в окна?!
– Сколько у нас времени? – очень спокойным голосом спрашивает Матрос.
– Не больше двух часов… Подвалы, первые этажи. Надо… Скорее, скорее!
– Колокол, – вдруг говорит Матрос.
Точно. Как я сам не догадался? Это единственный способ. Разбудить, поднять весь город!
* * *
Мы летим с Матросом как сумасшедшие. Он ведёт меня коротким путём – мы перемахиваем через заборы, пригодилась наконец моя физическая подготовка!
Мы бежим рядом, и я всё думаю: надо же, как мне повезло с другом! Он сразу понял, что делать! И главное – он не боится ударить в колокол. Разбудить весь город!
– А вдруг нет, – спросил я его на бегу, – вдруг его волнометр врёт?
– Тогда хорошо, – отвечает Матрос. И точно, тогда хорошо ведь! Правда, чего мы тогда ударим в колокол, как самые умные?.. – Но приборы Абрахама не врут, – добавляет Матрос. – Число зёрен граната он показывает точно. Я проверял.
Перебегаем мост; уже близко. Ну, вот и площадь. Хоть бы солдат стоял у ратуши – так нет никого! Только мы с Матросом. Значит… Значит, в колокол ударять нам.
…На двери колокольни – огромный замок. Да нет, никакой не огромный. Самый обычный. Но… Я как-то не подумал, что вход на колокольню ночью будет закрыт.
– Будить звонаря? – спрашиваю я. Даже с некоторым облегчением – всё ж таки мне не нравится идея лупить в колокол самим.
– Ты знаешь, где он живёт? – спрашивает Матрос.
– Нет, конечно… Надо узнать…
Но как? У кого?!
– Нет времени, – говорит Матрос. Он ухватывается рукой за стену, там, где выбиты кирпичи. И другой рукой. И…
Я с ужасом понимаю, что он хочет долезть до проёма второго этажа по стене. Пролезть, как воры!! Но разве у нас есть выбор?..
Я лезу за ним. Хватаюсь за карниз, подтягиваюсь. Быстрее, чем он. Я ведь знаю, как тут лезть. Только выше… Никогда не забирался так высоко. О, вот и всё! И… И решётка. Чёрт, откуда здесь решётка!!!
Мы висим с Матросом, как две обезьяны в зверинце. Вот она, колокольня внутри. Но нам не попасть туда! Это же надо, кому пришло в голову поставить решётки!!! Неужели из-за нас, дураков? Увидели и теперь боятся, что мы влезем?
– Как же, – повторяет Матрос, – как же так! Не было же никаких решёток, ещё утром не было!
Дальше лезть бессмысленно. Там, дальше, – гладкая оштукатуренная стенка. Не за что зацепиться.
Матрос прыгает вниз, на землю. Ух, высоко. Но за ним прыгаю и я. Нет времени так просто висеть.
– Что же делать, Доминик?! – с отчаянием спрашивает он.
…И тут я понимаю, что надо делать. Отчётливо и ясно. И ещё я понимаю, что сделать это может один человек на всём белом свете.
– Беги, Матрос! Беги в цирк, скажи всем, чтобы выводили зверей из подвалов. Цирк затопит сто пудов, он возле реки. И стучи во все окна.
– А ты?
– А я… Уж я знаю. Я найду звонаря, не переживай.
* * *
Матрос поверил мне и умчался. Теперь вся надежда на одного-единственного человека. Он справится, я-то знаю. Тем более у него и выбора особенного нет. Кстати, его зовут Доминик Штрохольм.
Я смотрел как бы со стороны, как человек этот колотит кулаком в дверь аптекаря.
– Шмулик! Открой!
Наконец дверь открылась, выглянул испуганный аптекарь:
– Доминик, это ты! Что случилось?
– Наводнение! – заорал я. Отодвинул опешившего аптекаря и прошёл, не разуваясь (а ведь аптекарша трясётся над своими чистыми полами!), в маленькую комнату Шмулика.
Семья аптекаря живёт на чердаке под самой крышей. В доме на площади.
– Доминик! Что ты, что! – успел пискнуть Шмулик. Какая у него смешная пижама. В зайцах. Никогда бы не подумал, что Шмулик в таком спит. В следующие несколько минут я только и думал, что об этих зайцах, совершенно косых.
А сейчас я отщёлкнул шпингалет и распахнул окно. Скорее, пока не опомнились аптекарь и его семейство.
Я встал на подоконник. Как раз над Шмуликовым окном к крепкому чугунному кольцу привинчен трос. Тот, что соединяет этот дом с колокольней.
Если бы здесь был Тео. Он, конечно, прошёл бы, пробежал по этому тросу за несколько секунд. Но я не он. Я умею ходить по канату только в метре от пола. И то не очень. Нет, я не герой, я не пойду по тросу, раскинув руки, вытянувшись в струну.
Зато у меня сильные руки. Я хвастаюсь за трос. И поднимаю ноги, скрещиваю их. И делаю первый шаг – перехватываю руками вперёд. Я боюсь только одного – что аптекарь успеет остановить меня.
Но он не успел. Испугался. А я теперь думаю только о Шмуликовых зайцах. Надо же, у меня в жизни не было никакой пижамы.
И гораздо проще, чем я думал. Хорошо, что сейчас нет никаких флажков и лампочек. Долбануло бы током – и привет. А так – что? В общем, иду себе и иду, перебираю руками. Ну и ветер здесь. Трос начинает раскачиваться. Чуть-чуть потряхивает. Как вот он ходил здесь?! Мой Тео. Ветер же! Я об этом никогда не думал.
Тьфу, лохматый трос, проволока торчит. Порезался. Вот чёрт. Капнуло на плечо. Испачкал, не отстирается. И… Долго там ещё? Нет, нет. Зайцы. Шмуликовы зайцы. Надо же, интересно, мама ему сшила пижаму эту? Левой, правой. Дошёл до середины, нет?.. Наверное, нет.
И тут надо мной нависает тень. Я от испуга ещё крепче вцепляюсь в трос – и тут же упираюсь ногой в стену. Колокольня. Вот и всё. И делов-то.
Я спрыгиваю внутрь. Звонница. Никогда не был здесь. Колокола-колокольчики, надо же сколько! А наверху – самый большой. Вот и верёвка, тянется от его языка. И тут мне становится страшно. По-настоящему страшно. А вдруг никакого наводнения нет, и я тут…
Неужели всё зря? Неужели я не смогу?
И вдруг я вспоминаю: Марио. Он живёт в подвале. Вся его семья – мать с шести утра торгует на рынке, Марио помогает ей; и три сестры. Марио – старший. Все они живут в подвальном этаже; из его окна видны чужие ботинки. Чужие ботинки, шагающие по набережной. Их дом у самой воды. Их захлестнёт первыми. А они спят! Все спят!
Я берусь за верёвку. Оказывается тяжелее, чем я ожидал; колокол вообще не шевелится. Только чуть. И ещё, и ещё! Я раскачиваю колокол изо всех сил, повисаю на верёвке.
– Бом-м-м! – летит над площадью первый удар. – Бом-м-м! Бом-м-м!
Громко, размеренно. Этот звук врывается в ночь, прорывает её темноту, её тонкое одеяло, накрывшее тишиной весь город. Надо бы, конечно, сигнал SOS – меня научил Матрос. Это сигнал бедствия: три коротких удара – три длинных – три коротких. Но я не могу управлять колоколом. Он раскачивается и бьёт сам: ровно, тревожно.
– Бом-м-м! Бом-м-м!
И город встаёт. Встаёт! А я просто болтаюсь на этой верёвке, как котёнок.
– Бам-м-м! – ревёт колокол.
Я отпускаю верёвку и падаю. Больше не могу; забиваюсь в угол. Меня трясёт. Горят уши, будто я стянул пирожок на рынке и меня застукали. Чёрт. Чёрт, чёрт!
– Эй! Что случилось? – кричит снизу чей-то голос.
– Наводнение! – кричу я в ответ. И сам поражаюсь, какой громкий у меня голос. Я думал, уже вообще никакого нет.
– Нение… – несётся эхом, разносится по городу.
Стучат в ставни, в окна:
– Вставайте! Вставайте все!!! Наводнение!
…Вдруг я понимаю, что это всё – дурацкая ошибка. Какое может быть наводнение! И главное – что это за прибор, это же невозможно! Кто такой этот Абрахам? И Матрос – я же познакомился с ним только сегодня днём!.. Неужели сегодня?
– Щенок! Сумасшедший! – трясёт меня кто-то. А, звонарь. Ну и ладно. Теперь ладно. Мне совершенно всё равно. – Как ты сюда попал?!! Как ты… Какое наводнение, к чёрту! Какое! Перебудил весь город! Псих!!!
Я не знаю, сколько прошло времени. И что говорил звонарь. У меня отнялись ноги, я вишу тряпкой, и он просто не может стащить меня вниз. Но я слышу, как город шумит. Как поднялись люди. Все поднялись. Неужели зря? Неужели мы ошиблись?
* * *
А потом звонарь вдруг рывком поднимает меня:
– Где твоё наводнение? Ну, смотри! Где?!
Тихая ночь. Тише не придумаешь. Безлунная, беззвёздная. Но и ветра нет. Тихо-тихо. И наша река спокойно течёт себе через город. Спокойно.
И тут мы видим это. Оно идёт со стороны океана. Ничего особенного, просто лента реки стала чуть толще. Набухла.
Кажется, будто где-то открыли кран. Открыли и никак не выключат. Забыли.
Волна сверху кажется небольшой. Только катера заколыхались на воде, будто щепки. Какую-то лодку выкинуло на берег. Так, носком ботинка отшвырнуло. Вода стала выше. И ещё. И ещё. Просто шла, и всё. И перелилась через край.
Мост накрыло.
А вода пошла в город.
Мы смотрим, не можем оторваться.
Это даже не похоже на воду. Какая-то куча мусора, щепок… Будто грязный ручей течёт вдоль дороги. Заполняет и мнёт будто бы игрушечный город. Плывёт будка газетчика, на боку, как неживая.
Вода идёт и идёт. Я вижу дом, в котором живёт Марио. Стоит как остров. Успели, нет… Нет, не может быть, чтобы не успели. А вокруг бушует вода.
Не знаю, сколько прошло времени. Может, часов пять. А может, пятнадцать минут. Но вода начала уходить. Уходить, будто всасываться в неизвестный шланг. Так же стремительно, как и пришла.
Небо посветлело. А мы со звонарём так и стоим на колокольне. Застывшие, как замороженные. И смотрим на грязный, оплёванный город. Весь в песке и иле, весь в мусоре. На другом берегу начался пожар.
* * *
…Сегодня День города. Праздник. Думали, отмечать или нет после такой беды. Но решили всё же отпраздновать. Именно сейчас.
Прошёл всего месяц. Город потихоньку приходит в себя, отмывается, отстраивается. Чинят выбитые мостовые, откачивают из подвалов ил и грязь. Мост полностью восстановлен, и стало легче: сообщение между берегами налажено. В ход пошли специальные машины, их изобрёл Абрахам Суббота. Он теперь второй человек в городе после бургомистра. Именно Абрахам руководит всеми работами.
Марио и его семья вчера вернулись домой. Их подвал наконец вычищен, там опять можно жить. Хотя работы ещё много. Всё это время они жили у Петера, в семье полицейского, который раньше гонял их на рынке, как провинившихся щенков. У Шмулика на чердаке тоже поместилась ещё одна семья. И у нас в цирке открыто временное общежитие. Но сейчас люди потихоньку расходятся, возвращаются в свои дома. Поэтому решено отметить День города. Потому что надо жить дальше.
Мы сидим дома у Шмулика. Я и мой отец Тео. На нём трико: с одной стороны синее, с другой – сияет оранжевыми ромбами. Он и раньше, четырнадцать лет назад, выходил отсюда, из квартиры аптекаря. Только ни Шмулика, ни меня тогда ещё не было, да и аптекарь был студентом.
Мы сидим на кухне и много смеёмся. Оказывается, наши отцы очень дружили в детстве, а мы со Шмуликом и не знали.
Потом Тео идёт в комнату Шмулика. И я с ним. Семья аптекаря деликатно оставляет нас одних. И тут я спрашиваю его:
– Зачем?.. Зачем тебе это надо? Неужели ты просто хочешь, чтобы люди считали тебя самым смелым? Я знаю это и так.
– Очень просто, Доминик. Я даю им надежду. Они смотрят на меня и думают: если он не боится… там, наверху, – не боится! А у него только и есть, что узкая проволока под ногами, – значит, и нам не нужно. Не нужно ничего бояться. Понимаешь?
– А чего же раньше?
– Ну, ты был маленьким… А сейчас вырос.
– Где уж я вырос, – пожимаю я плечами. Уши становятся горячими. Вот же чёрт, никогда не могу справиться со своими ушами.
– Ты вырос, Доминик. Стал взрослым. Спас от наводнения целый город.
– Ну что ты. Разве я спас…
– Спас. Разбудил всех, и никто не погиб. Не то что тогда, тридцать лет назад… А ведь эта волна была ещё выше. Ты спас их, Доминик. Разбудил и спас.
– Что я! Разве я… Это всё Абрахам со своим волнометром. И Матрос. Ведь это Матрос! Он добежал до цирка, сказал, чтобы спасали животных. И потом поймал чужую лодку, и бросился в рыбацкий посёлок. Тот, что на самом берегу, где маленькие домики. Он один вывез оттуда четырнадцать человек! А ты говоришь, я… Я просто сидел на колокольне и смотрел.
– Поверили бы там, в цирке, твоему Матросу, если бы не ударил колокол… Ну и звери выли, чувствовали. Знаешь, это было удивительное зрелище. Животных вывели из клеток на арену, и они стояли все вместе, и никто не тронул другого. И когда вода пошла на манеж, обезьяны забрались на верхние ряды. А слониха Джеральдина так и стояла по колено в воде. И она взяла хоботом меня и посадила к себе на голову. И Бартоломео тоже. И Аристотеля. Она нас спасала, как могла. А потом вода ушла.
…Я представляю эту картину и улыбаюсь.
– Ладно, – встряхивает головой Тео. Тонкий и маленький, как мальчишка. Лёгкий, как горсточка нута. Канат почти не прогибается под ним, не чувствует его веса. – Ладно, мне нужно идти.
– Ну и иди, – говорю я. – Иди-иди! Я даже смотреть не буду.
Ещё чего – смотреть, как он идёт над площадью без страховки. У меня сердце остановится. Я-то знаю, какой там ветер.
Он встаёт на подоконник, открывает окно. В комнату врывается шум толпы.
– Тео! Теодор Юлиус, давай! – кричат снизу.
– Знаешь, Доминик, – говорит он вдруг. – Иногда там, на проволоке, самое безопасное место в мире.
Он хватается за трос и через секунду уже стоит на нём. Раскидывает руки, вытягивается в струну. И идёт. И ему не страшно. Я знаю, что нет.
Конечно, я смотрю. Не замечаю, что прокусил губу до крови. Хотя я точно знаю, что он пройдёт. У Теодора Юлиуса Штрохольма нет выбора. Только идти вперёд. Он же должен дать людям надежду.
Главное – не моргать. Это теперь самое главное.









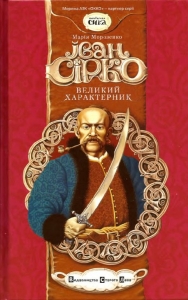



Комментарии к книге «Второй», Нина Сергеевна Дашевская
Всего 0 комментариев