Туве Янссон В конце ноября
Tove Jansson
SENT I NOVEMBER
Copyright © Tove Jansson 1970
Schildts Förlags Ab, Finland.
All rights reserved
© Н. Белякова, перевод, 2012
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2012
Издательство АЗБУКА®
* * *
1
Ранним утром, проснувшись в своей палатке, Снусмумрик почувствовал, что в Долину муми-троллей пришла осень.
Новое время года приходит внезапно, одним скачком! Вмиг все вокруг меняется, и тому, кому пора уезжать, нельзя терять ни минуты. Снусмумрик быстро вытащил из земли колышки палатки, погасил угли в костре, на ходу взгромоздил рюкзак себе на спину и, не дожидаясь, пока проснутся другие и начнут расспрашивать, зашагал по дороге. На него снизошло удивительное спокойствие, как будто он стал деревом в тихую погоду, на котором не шевелится ни один листочек. На том месте, где стояла палатка, остался квадрат пожухлой травы. Его друзья проснутся поздним утром и скажут: «Он ушел; стало быть, наступила осень».
Снусмумрик шел легкой пружинистой походкой по густому лесу, и вдруг закапал дождь. Несколько дождинок упало на его зеленую шляпу и зеленый дождевик, к шепоту листвы присоединилось шлепанье капель. Но добрый лес, окружавший Снусмумрика сплошной стеной, не только хранил его прекрасное одиночество, но и защищал от дождя.
Вдоль моря, торжественно извиваясь, тянулись длинные горные хребты, вдаваясь в воду мысами и отступая перед заливами, глубоко врезающимися в сушу. У самого берега раскинулись долины, в одной из которых жила одинокая Филифьонка. Снусмумрику доводилось встречать многих филифьонок, и он знал, что это странный народец и что у них на все свои удивительные и необычные порядки. Но мимо дома этой Филифьонки он проходил особенно тихо и осторожно.
Калитка была заперта. В саду, за острыми и прямыми колышками ограды, было совсем пусто – веревки для белья сняты, никаких следов обыкновенного симпатичного беспорядка: ни грабель или ведра, ни забытой шляпы или кошачьего блюдечка, ни других обыденных вещей, которые говорят о том, что дом обитаем.
Наступила осень, и Филифьонка заперлась в своем доме – он казался заколоченным и пустым. Она забралась в самую его глубь, укрылась за высокими непроницаемыми стенами, за частоколом елей, прятавших окна дома от чужих глаз.
Медленный переход осени к зиме неплохая пора. Это пора, когда нужно собрать, привести в порядок и сложить все запасы, которые ты накопил за лето. А как прекрасно собирать все, что есть у тебя, и складывать к себе поближе, собрать свое тепло и свои мысли, зарыться в глубокую норку – крепкое и надежное укрытие; защищать его как что-то важное, дорогое, твое собственное. А после пусть мороз, бури и мрак приходят, когда им вздумается. Они будут обшаривать стены, искать лазейку, но ничего у них не получится: все кругом заперто, а внутри, в тепле и одиночестве, сидит себе и смеется тот, кто загодя обо всем позаботился. Есть на свете те, кто остается, и те, кто собирается в путь. И так было всегда. Каждый волен выбирать, покуда есть время, но после, сделав выбор, нельзя от него отступаться.
Филифьонка вышла на задний двор и принялась выколачивать коврики. Она колотила их с ритмичной яростью, и каждому было ясно, что ей нравилась эта работа. Снусмумрик зажег трубку и пошел дальше. «Жители уже проснулись, – подумал он. – Папа заводит часы и постукивает по барометру. Мама разжигает огонь в плите. Муми-тролль выходит на веранду и видит, что палатки нет. Я забыл о прощальном письме, не успел его написать. Но ведь все мои письма одинаковы: „Я приду в апреле, будьте здоровы“. Или: „Я ухожу, вернусь весной, ждите…“ Муми-тролль знает это».
И Снусмумрик тут же забыл про Муми-тролля. В сумерках он подошел к длинному морскому заливу, лежавшему между горами в вечной тени. На берегу, там, где стояла кучка тесно прижавшихся друг к другу домов, горело несколько ранних огоньков. Никому не хотелось гулять под дождем, все сидели дома. Здесь жили Хемуль, Мюмла и Гафса, под каждой крышей жил тот, что решил остаться, кто любит сидеть под крышей.
Снусмумрик прокрался задворками, держась в тени и не желая ни с кем разговаривать. Маленькие и большие дома сгрудились в стайку, некоторые из них стояли вплотную друг к другу, у них были общие водосточные желоба и мусорные бачки, они глядели друг другу в окна, вдыхая запахи кухонь. Дымовые трубы, высокие фронтоны и рычаги колодцев, а внизу – дорожки, протоптанные от двери к двери.
Снусмумрик шел быстрой неслышной походкой и думал про себя: «Ах вы, дома, я терпеть не могу вас».
Было уже почти темно. Прямо на берегу под ольховыми кронами стояла затянутая брезентом лодка Хемуля. Чуть выше были сложены мачта, весла и руль. Они лежали здесь уже много лет и почернели, потрескались от времени, потому что никто ими не пользовался. Снусмумрик встряхнулся и прошел мимо.
Но маленький хомса, сидевший в лодке Хемуля, услыхал его шаги и затаил дыхание. Шаги удалялись, вот снова стало тихо, лишь слышался шум капель, падавших на брезент.
Самый последний дом стоял поодаль и одиноко выделялся на фоне темно-зеленой стены ельника. Здесь начиналась настоящая глушь. Снусмумрик зашагал быстрее прямо к лесу. Тут дверь последнего дома приоткрылась, и из щелочки донесся старческий голос:
– Куда ты идешь?
– Не знаю, – ответил Снусмумрик.
Дверь затворилась. Снусмумрик вошел в лес. Перед ним лежали тысячи километров тишины.
2
Время шло, а дождик все лил. Такой дождливой осени еще не бывало. С гор и холмов стекали потоки воды, и прибрежные долины стали топкими и вязкими, травы не засыхали, а гнили. Лето вдруг кончилось, словно его и вовсе не было, дороги от дома к дому стали очень длинными, и каждый укрылся в своем домишке.
На носу лодки Хемуля жил маленький хомса по прозванию Тофт, что значит «банка» (имя его не имело ничего общего с корабельной банкой, это было просто совпадение). Никто не знал, что он там живет. Лишь раз в году, раннею весною, снимали брезент и кто-нибудь смолил лодку и конопатил самые большие щели. Потом брезент опять натягивали, и лодка снова ждала. Хемулю было не до морского плавания, да и к тому же он не умел управлять лодкой.
Хомса Тофт обожал запах дегтя, он был доволен, что в его доме так хорошо пахнет. Ему нравились клубок каната, надежно державший его в своих объятиях, и звук постоянно падавших дождевых капель. Просторное теплое пальтишко хомсы согревало его долгими осенними ночами.
Вечерами, когда все расходились по домам и залив затихал, хомса рассказывал себе историю собственной жизни. Это был рассказ о счастливой семье. Он рассказывал, пока не засыпал, а на другой вечер продолжал рассказ или начинал его сначала.
И начинал он обычно с описания счастливой долины Муми-дален. Вот ты медленно спускаешься со склона, поросшего темными елями и белоствольными березами. Становится теплее. Он пытался описать, что чувствуешь при виде долины, расстилающейся перед тобой диким зеленым садом, пронизанным солнцем. Вокруг тебя и над твоей головой – трава, а на ней – солнечные пятна, повсюду гудят шмели и пахнет так сладко, а ты идешь медленно, покуда не услышишь шум реки.
Было очень важно описать точно самую малейшую подробность: один раз он увлекся и придумал возле реки беседку – и это было неверно. Там был лишь мост и рядом почтовый ящик. А еще там были кусты сирени и папина поленница дров; и пахло это все по-особенному – уютом и летом.
Было это ранним утром, и кругом стояла тишина. Хомса Тофт мог разглядеть нарядный шар из голубого стекла, укрепленный на столбе в дальнем углу сада. Этот стеклянный шар был самым прекрасным украшением всей долины. И к тому же он был волшебный.
В высокой траве росло много цветов, и хомса рассказал о каждом из них. Он поведал про аккуратные дорожки, выложенные раковинами и небольшими золотыми самородками, задержался немного, описывая солнечные зайчики, – они ему так нравились! Он дал ветерку прошелестеть высоко над долиной, промчаться по лесистым склонам, замереть и снова уступить место полной тишине. Яблони стояли в цвету. Вначале хомса представил себе их с плодами, но потом отказался от этого. Он повесил гамак и рассыпал золотые опилки перед дровяным сараем. Теперь он уже совсем близко подошел к дому. Вот клумба с пионами, а вот веранда… Залитая утренним солнцем веранда точно такая, какой ее сделал хомса: перила с узором, выпиленным лобзиком, жимолость, качалка… Хомса Тофт никогда не входил в дом, он ждал, когда мама выйдет на крыльцо.
К сожалению, он всегда засыпал именно на этом месте. Лишь один-единственный раз он увидел, как за приоткрытыми дверями мелькнула ее добродушная физиономия, – мама была кругленькая, полная, какой и должна быть мама.
Сейчас Тофт, еще не успев погрузиться в сновидения, отправился назад через долину. Сотни раз ходил он по этой дороге, и каждый раз, повторяя этот путь, он волновался все сильнее.
Вдруг долина заволоклась туманом, все расплылось, в закрытых глазах Тофта был лишь один мрак, он слышал только монотонный стук осеннего дождя по брезенту. Хомса попытался вернуться в долину, но не смог.
В последнюю неделю это случалось с ним много раз, и каждый раз туман приходил чуть раньше, чем накануне. Вчера он пришел, когда Тофт был возле дровяного сарая, сегодня темнота наступила, едва он успел дойти до кустов сирени. Тофт запахнул плотнее свое пальтишко и подумал: «Завтра я, поди, не успею дойти даже до реки. Мой рассказ становится все короче, все отступает и отступает назад».
Хомса поспал немного. Проснувшись, он понял, что надо делать. Ему надо покинуть лодку Хемуля и отправиться в долину, подняться на веранду, отворить дверь и сказать, кто он такой.
Приняв решение, Тофт снова заснул и проспал целую ночь без снов.
3
В тот ноябрьский четверг дождь прекратился, и Филифьонка решила вымыть окно на чердаке. Она нагрела воду в кухне, растворила в ней немного мыла, поставила таз на стул и открыла окно. И тут что-то отлетело от оконной рамы и упало к ее лапе. Это что-то походило на клочок ваты, но Филифьонка сразу догадалась, что это противный кокон, а внутри него сидит бледная белая гусеница. Филифьонка вздрогнула и отдернула лапу. Куда бы она ни шла, что бы ни делала, повсюду ей попадались на глаза всякие ползучки! Она взяла тряпку, быстро смахнула гусеницу и долго глядела, как та катится по крутому склону крыши.
«Фу, какая гадость!» – прошептала Филифьонка и, когда гусеница исчезла, встряхнула тряпку. Она подняла таз и вылезла из окна, чтобы помыть его снаружи.
На лапах у Филифьонки были войлочные тапочки, и, ступив на крутую мокрую крышу, она заскользила вниз. Она не успела испугаться. Ее худенькое тело мгновенно и резко подалось вперед, какие-то секунды она катилась по крыше на животе, потом лапы ее уперлись в самый край крыши, и она остановилась. И тут Филифьонка испугалась. Страх, противный, словно привкус чернил во рту, заполз в нее. Она опустила глаза и увидела землю далеко внизу, от ужаса и удивления у нее свело челюсти, и она не могла кричать. Да и звать было некого. Филифьонка наконец отделалась от всех своих родственников и от всех назойливых знакомых. Теперь у нее было сколько угодно времени, чтобы ухаживать за домом, лелеять свое одиночество, падать с крыши в сад, где не было никого, кроме жуков да немыслимых гусениц.
Филифьонка чуть проползла вверх червяком, пытаясь уцепиться лапами за скользкую жесть крыши, но снова скатилась вниз. Ветер раскачивал раскрытое окно, листва в саду шелестела, время шло. На крышу упало несколько дождевых капель.
И тут Филифьонка вспомнила про громоотвод, который тянулся от чердака на другой стороне дома. Очень медленно и очень осторожно начала она двигаться по краю крыши – крошечный шажок одной лапой, потом другой, глаза крепко зажмурены, а живот крепко прижат к крыше. И так Филифьонка обошла вокруг своего большого дома, думая только о том, чтобы у нее не закружилась голова. Что тогда с ней будет?
Вот она нащупала лапой громоотвод, вцепилась в него изо всех сил и поднялась, не открывая глаз, до верхнего этажа. Она уцепилась за узенький деревянный барьерчик, окружавший чердачный этаж, проползла немного и замерла. Потом приподнялась, встала на четвереньки, подождала, пока пройдет дрожь в коленках, и, совсем не чувствуя себя смешной, поползла. Одно окно, другое, третье… Все заперты. Собственная длинная мордочка мешала ей, слишком длинные волосы щекотали нос. «Только бы не чихнуть, – подумала она, – ведь тогда я потеряю равновесие… Не надо смотреть по сторонам и думать ни о чем не надо». Одна тапочка согнулась пополам, пояс расстегнулся… «Никому-то я не нужна… Вот-вот, в одну из этих ужасных секунд я…»
А дождь все капал и капал. Филифьонка открыла глаза, чуть повернула голову на крутой скат крыши, за которым начиналась пустота. Ее лапы снова задрожали, и мир вокруг нее завертелся, голова закружилась. Она на миг оторвалась от стены; карниз, в который она упиралась, показался ей узеньким и тоненьким, как лезвие ножа, и в эту бесконечную секунду перед ней прошла вся ее филифьонкская жизнь. Она медленно отклонилась подальше от неумолимого и зловещего угла падения и так и застыла на целую вечность, потом опять приникла к стене.
Все в ней слилось в одно стремление: стать совсем плоской и двигаться вперед. Вот наконец окно. Ветер плотно захлопнул его. Оконная рама совсем гладкая, ухватиться не за что, не за что потянуть. Ни единого маленького гвоздика. Филифьонка попробовала зацепить раму шпилькой, но шпилька согнулась. Она видела сквозь стекло таз с мыльной водой и тряпку – приметы спокойной повседневности, недосягаемый мир.
Тряпка! Она застряла между рамой и подоконником… Сердце Филифьонки сильно застучало – она видела уголок тряпочки, захлопнутый рамой и высунувшийся наружу; она ухватила его кончиком лапки и потянула медленно, осторожно… «О, пусть она выдержит, пусть она окажется новой и крепкой, а не старой и ветхой… Никогда больше не стану беречь, буду транжиркой… и убирать перестану, я слишком часто навожу порядок, я ужасная чистоплюйка… Я стану совсем другой, вовсе не филифьонкой», – думала Филифьонка в безнадежной мольбе, потому что филифьонка может быть только филифьонкой, и никем другим.
И тряпка выдержала. Окно приоткрылось, ветер широко распахнул его, и Филифьонка, сделав рывок вперед, почувствовала, что она в безопасности. Теперь она лежала на полу, а в животе у нее что-то крутилось и вертелось – ей было ужасно плохо.
Ветер раскачивал абажур, кисточки качались на одинаковом расстоянии друг от друга, и на конце каждой висела бусинка. Она внимательно и удивленно разглядывала их, будто видела впервые. Она никогда раньше не замечала, что шелк абажура красный, этот ужасно красивый красный цвет напоминал солнечный закат. И крюк на потолке показался ей каким-то совсем другим.
Филифьонка стала приходить в себя. Она призадумалась: почему это с крючков все свешивается вниз, а не куда-нибудь в сторону и от чего это зависит? Вся комната изменилась, все в ней стало каким-то новым. Филифьонка подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Нос с одной стороны был весь исцарапан, а волосы – мокрые и прямые, как проволока. И глаза были какие-то другие. «Подумать только, что у всех есть глаза. И как только они устроены, что могут все видеть?» Ее начало знобить – верно, от дождя и оттого, что за эту секунду страха перед ней пронеслась вся ее жизнь. Она решила сварить кофе. Филифьонка открыла кухонный шкаф и увидела, что у нее слишком много посуды. Ужасно много кофейных чашек, слишком много кастрюль и сковородок, горы тарелок, сотни других кухонных предметов – и все это для одной лишь Филифьонки! Кому это все достанется, когда она умрет?
– Я никогда не умру, – прошептала Филифьонка и, захлопнув дверцу шкафа, побежала в столовую, проскользнула между стульями, выбежала в гостиную, раздвинула оконные шторы, поднялась на чердак. Повсюду было тихо. Филифьонка распахнула дверцы платяного шкафа и, увидев лежащий в шкафу чемодан, поняла наконец, что ей надо делать.
Она поедет в гости. Ей надо отвлечься, побыть в обществе. В компании с теми, с кем можно приятно поболтать, с теми, которые снуют взад и вперед и заполняют собой весь день, так что у них не остается времени для страшных мыслей. Не к Хемулю, не к Мюмле, только не к Мюмле! Только к семье муми-троллей. Самое время навестить Муми-маму.
Когда у тебя возникает желание что-то сделать, нужно немедленно принимать решение и не ждать, пока это настроение пройдет. Филифьонка вынула чемодан, положила в него серебряную вазу – ее она подарит Муми-маме.
Потом вылила мыльную воду на крышу и закрыла окно, вытерла голову полотенцем, закрутила волосы на бигуди и выпила чашку кофе. Дом обретал покой и становился прежним. Филифьонка вымыла чашку, вынула серебряную вазу из чемодана и заменила ее фарфоровой. Из-за дождя сумерки наступили рано, и она зажгла свет.
«И что это мне взбрело в голову? – подумала Филифьонка. – Абажур вовсе не красный, а коричневый. Но все равно я отправлюсь в гости».
4
Стояла поздняя осень. Снусмумрик продолжал свой путь на юг. Иногда он останавливался, разбивал палатку, не задумываясь о том, как бежит время, бродил вокруг, ни о чем не думая, ни о чем не вспоминая. И много спал. Он смотрел по сторонам внимательно, но без малейшего любопытства, не заботясь о том, куда идет, – лишь бы идти дальше.
Лес был тяжелый от дождя, деревья словно застыли. Все завяло и поникло, только внизу прямо на земле расцвел потаенный осенний сад. Он поднимался с мощной силой из гнили. Это были странные растения, блестящие, разбухшие, так не похожие на то, что растет летом. Голый желто-зеленый черничник, красная, как кровь, клюква. Незаметные летом мхи и лишайники вдруг разрослись пушистым ковром и завладели всем лесом. Лес повсюду пестрел новыми яркими красками, и повсюду на земле светились опавшие красные ягоды рябины. Папоротник почернел.
Снусмумрику захотелось сочинить песню. Он ждал, пока это желание окончательно созреет, и в один прекрасный вечер достал с самого дна рюкзака губную гармошку. Еще в августе в Муми-дален он сочинил пять тактов, которые, бесспорно, могли стать блестящим началом мелодии. Они явились внезапно, сами собой, как приходят любые свободные звуки. Теперь настало время собрать их и сделать из них песню о дожде.
Снусмумрик прислушался и ждал. Пять тактов не приходили. Он продолжал ждать, вовсе не волнуясь, потому что знал, как бывает с мелодией. Но ничего, кроме слабого шороха дождя и журчания водяных струй, не слышал. Вот стало совсем темно. Снусмумрик взял свою гармошку и положил ее обратно в мешок. Он понял, что пять тактов остались в Муми-дален и он найдет их, лишь когда вернется туда.
Снусмумрик знал миллионы других мотивов, но это были летние песенки про все на свете, и Снусмумрик отогнал их от себя. Конечно, легкий шорох дождя и журчание воды в ручейках – все те же самые звуки одиночества и красоты, но какое ему дело до дождя, раз он не может сочинить о нем песню.
5
Хемуль просыпался медленно, он узнавал сам себя и хотел быть кем-нибудь другим, кого он не знал. Он чувствовал себя еще более усталым, чем в тот момент, когда ложился, а ведь сейчас начинался новый день, который будет длиться до самого вечера, а за ним пойдет еще день, еще и еще, и они будут похожи друг на друга, как все дни Хемуля.
Он заполз под одеяло, уткнулся носом в подушку и подвинул живот на край кровати, где простыня была прохладная. Потом широко раскинулся, так что занял всю кровать, и ждал, когда к нему придет приятный сон. Но сон не приходил. Тогда он свернулся и стал совсем маленьким, но это тоже не помогло. Он попробовал стать хемулем, которого все любят, потом бедным хемулем, которого никто не любит. Но он по-прежнему оставался хемулем, который, как ни старался, ничего хорошего толком сделать не мог. Наконец он встал и натянул брюки.
Хемуль не любил раздеваться и одеваться, это наводило его на мысль, что дни проходят, а ничего значительного не происходит. А ведь он с утра до вечера только и делает, что руководит и дает указания. Все вокруг него ведут жизнь бестолковую и беспорядочную; куда ни глянь, все надо исправлять, он просто надорвался, указывая каждому, как надо вести себя и что делать.
«Можно подумать, что они не желают себе добра», – с грустью рассуждал он, чистя зубы. Хемуль взглянул на фотографию, на которой он был снят рядом с парусной лодкой. Этот красивый снимок, сделанный в день спуска на воду, еще больше опечалил его.
«Надо бы научиться управлять лодкой, – подумал он, – но я вечно занят…»
Внезапно ему пришло в голову, что он занят всегда лишь тем, что переставляет вещи с одного места на другое или указывает другим, как это делать. И он подумал: «А что будет, если я перестану этим заниматься?» – «Ничего не будет, найдутся желающие на мое место», – ответил он сам себе и поставил зубную щетку в стакан. Эти слова удивили и даже немного испугали его, и по спине у него поползли мурашки точь-в-точь как в новогоднюю полночь, когда часы бьют двенадцать. Через секунду он подумал: «Но ведь надо же научиться управлять лодкой…» Тут ему стало совсем плохо. Он пошел и сел на кровать. «Никак не пойму, – подумал он, – почему я это сказал. Есть вещи, о которых нельзя думать, и вообще, не надо слишком много рассуждать».
Он отчаянно пытался придумать что-нибудь такое, что разогнало бы утреннюю меланхолию. Он думал, думал, и постепенно в голове его всплыло приятное и неясное воспоминание одного лета. Хемуль вспомнил Муми-дален. Он был там ужасно давно, но одну вещь он отчетливо запомнил. Он запомнил южную гостиную, в которой было так приятно просыпаться по утрам. Окно было открыто, и легкий летний ветерок играл белой занавеской, оконный крючок мерно стучал по подоконнику… На потолке плясала муха. Не надо было никуда спешить. На веранде его ждал кофе. Все было ясно и просто, все шло само собой.
В этом доме жила одна семья. Всех их он не помнил. Помнил только, как они неслышно сновали туда-сюда и каждый был занят своим делом. Все были славные и добрые – одним словом, семья. Отчетливей всего он помнил папу, папину лодку и лодочную пристань. И еще – как просыпался по утрам в хорошем настроении.
Хемуль поднялся, взял зубную щетку и положил ее в карман. Плохое настроение и дурное самочувствие улетучились, теперь он был совсем другим хемулем.
Никто не видел, как Хемуль ушел – без чемодана, без зонта. Не сказав «до свидания» никому из соседей.
Хемуль не привык бродить по лесам и полям и поэтому много раз сбивался с пути. Но это вовсе не пугало и не сердило его.
«Раньше я ни разу не сбивался с пути, – весело думал он, – и никогда не промокал насквозь!» Он размахивал лапами и чувствовал себя так же, как в той песне, где кто-то прошел тысячи миль под дождем и чувствовал себя одичавшим и свободным. Хемуль радовался! Скоро он будет пить горячий кофе на веранде.
Примерно в километре к востоку от Муми-дален протекала река. Хемуль постоял на берегу, задумчиво глядя на темные струи, и решил, что река похожа на жизнь. Одни плывут медленно, другие – быстро, третьи переворачиваются вместе с лодкой.
«Я скажу об этом Муми-папе, – серьезно подумал он, – мне кажется, мысль эта абсолютно новая. Подумать только, как легко приходят сегодня мысли, и все кажется таким простым. Стоит только выйти за дверь, сдвинув шляпу на затылок, не правда ли? Может, спустить лодку на воду? Поплыву к морю… Крепко сожму лапой руль… – И повторил: – Крепко сожму лапой руль…» Он был бесконечно, до боли счастлив. Затянув потуже ремень, он пошел вдоль берега.
Долина была окутана густым, серым, мокрым туманом. Хемуль прошел прямо в сад и остановился удивленный. Что-то здесь изменилось. Все было такое же, как раньше, и не такое. Увядший лист покружился и упал ему на нос.
«Чепуха какая-то! – воскликнул Хемуль. – Ах да, сейчас ведь вовсе не лето, правда? Сейчас осень!» А он всегда представлял себе лето в Муми-дален. Он направился к дому, остановился возле лестницы, ведущей на веранду, и попробовал вывести тирольский йодль. Но у него ничего не вышло.
Тогда он закричал: «Хи! Хо! Поставьте кофейник на огонь!»
Ответа не было. Хемуль снова покричал и снова подождал.
«Сейчас я подшучу над ними», – решил он. Подняв воротник и надвинув шляпу на глаза, он взял грабли, стоявшие у бочки с водой, угрожающе поднял их над головой и проревел:
– Отворите, именем закона! – И, сотрясаясь от смеха, стал ждать.
Дом молчал. Дождь припустил сильнее, дождинки все капали и капали на напрасно ожидавшего Хемуля, и вокруг не было никаких других звуков, кроме шороха падающего дождя.
6
Хомса Тофт никогда не был в Муми-дален, но он легко нашел дорогу. Путь был дальний, а ноги у хомсы короткие. Не раз путь ему преграждали глубокие лужи, болота и огромные деревья, упавшие на землю от старости или поваленные бурей. На вырванных из земли корнях висели тяжелые комья земли, а под корнями блестели глубокие черные ямы, наполненные водой. Хомса обходил каждое болотце, каждую ямку с водой и при этом ни разу не заблудился. Он был очень счастлив, потому что знал, чего хотел. В лесу прекрасно, гораздо лучше, чем в лодке Хемуля.
А вот от Хемуля пахло старыми бумагами и страхом. Хомса знал это – однажды Хемуль постоял возле своей лодки, повздыхал, слегка приподнял брезент и пошел своей дорогой.
Дождь перестал лить, и лес, окутанный туманом, стал еще красивее. Там, где холмы понижались к Муми-дален, лес становился гуще, а ложбинки, наполненные водой, превращались в потоки. Их было все больше и больше. Хомса шел между сотен ручейков и водопадиков, и все они устремлялись туда же, куда шел и он.
Вот долина уже совсем близко, вот он идет по ней. Он узнал березы – ведь стволы их были белее, чем во всех других долинах. Все светлое было здесь светлее, все темное – темнее. Хомса Тофт старался идти как можно тише и медленнее. Он прислушивался. В долине слышался стук топора – видно, папа запасал дрова на зиму. Хомса стал ступать еще осторожнее, его лапы едва касались мха. Путь ему преградила река, он знал, что есть мост, а за мостом – дорога. Рубить перестали, теперь слышался только шум реки, в которую впадали все потоки и ручейки, чтобы вместе с нею устремиться к морю.
«Вот я и пришел», – подумал Тофт. Он прошел по мосту, вошел в сад. Здесь было все так же, как он рассказывал себе, иначе и быть не могло. Деревья стояли голые, окутанные ноябрьским туманом, но на мгновение они оделись зеленой листвой, в траве заплясали солнечные зайчики, и хомса вдохнул уютный и сладкий аромат сирени.
Он побежал вприпрыжку к сараю, но на него вдруг пахнуло запахом старой бумаги и страха. Хомса Тофт остановился.
«Это Хемуль, – подумал он. – Так вот как он выглядит». На приступке сарая сидел Хемуль с топором в лапах. На топоре были зазубрины – видно, им ударяли по гвоздям.
Хемуль взглянул на хомсу.
– Привет, – сказал он, – а я думал, это Муми-папа идет. Ты не знаешь, куда все подевались?
– Нет, – отвечал Тофт.
– В этих дровах полно гвоздей, – продолжал Хемуль, показывая топор. – Старые доски да рейки, в них всегда много гвоздей! Хорошо, что теперь я хоть с кем-то смогу поговорить. Я пришел сюда отдохнуть, – продолжал Хемуль. – Взял и заявился к старым знакомым! – Он засмеялся и поставил топор в угол сарая. – Послушай, хомса, – сказал он. – Собери дрова и отнеси их в кухню посушить да уложи потом их в поленницу – смотри, вот так. А я тем временем пойду сварю кофе. Кухня направо, вход с задней стороны дома.
– Я знаю, – ответил Тофт и начал собирать поленья. Он понял, что Хемуль не привык колоть дрова, но, видно, это занятие ему нравилось. Дрова хорошо пахли.
Хемуль внес поднос с кофе в гостиную и поставил его на овальный столик красного дерева.
– Утренний кофе всегда пьют на веранде, – заметил он, – а гостям, что приходят сюда впервые, подают в гостиной.
Хомса робко оглядывал красивую и строгую комнату. Мебель была великолепная, стулья обиты темно-красным бархатом, а на спинке каждого из них была кружевная салфетка. Хомса не посмел сесть. Кафельная печь доходила до самого потолка. Кафель был разрисован сосновыми шишками, шнурок заслонки расшит бисером, а печная дверца была из блестящей латуни. Комод тоже был блестящий – полированный, с золочеными ручками у каждого ящика.
– Ну так что же ты не садишься? – спросил Хемуль.
Хомса присел на самый краешек стула и уставился на портрет, висевший над комодом. Из рамы на него глядел кто-то ужасно серый и косматый, со злыми, близко посаженными глазами, длинным хвостом и огромным носом.
– Это их прадедушка, – пояснил Хемуль. – В ту пору они еще жили в печке.
Взгляд хомсы скользнул дальше к лестнице, ведущей в темноту пустого чердака. Он вздрогнул и спросил:
– А может быть, в кухне теплее?
– Пожалуй, ты прав, – ответил Хемуль. – В кухне, наверное, уютнее.
Он взял со стола поднос, и они вышли из гостиной.
Целый день они не вспоминали о семье, уехавшей из дома. Хемуль сгребал листья в саду и болтал обо всем, что приходило ему в голову, а хомса ходил следом, собирая листья в корзину, и больше слушал, чем говорил.
Один раз Хемуль остановился взглянуть на папин голубой стеклянный шар.
– Украшение сада, – сказал он. – Помню, в детстве такие шары красили серебряной краской. – И продолжал сгребать листья.
Хомса хотел полюбоваться стеклянным шаром наедине – ведь шар был самой важной вещью в долине, в нем всегда отражались те, кто жил в ней.
Если с семьей муми-троллей ничего не случилось, хомса непременно должен увидеть их в синеве стеклянного шара.
Когда стемнело, Хемуль вошел в гостиную и завел папины стенные часы. Они начали бить, как бешеные, часто и неровно, а потом пошли. Под их размеренное и совершенно спокойное тиканье гостиная ожила. Хемуль подошел к барометру. Это был большой барометр в темном, сплошь украшенном резным орнаментом футляре красного дерева. Хемуль постучал по нему. Стрелка показывала Переменно. Потом Хемуль пошел в кухню и сказал:
– Все начинает налаживаться! Сейчас мы подбросим дров и выпьем еще кофейку, идет?
Он зажег кухонную лампу и нашел в кладовой ванильные сухарики.
– Настоящие корабельные сухари, – объяснил Хемуль. – Они напоминают мне о моей лодке. Ешь, хомса. А то ты слишком худой.
– Большое спасибо, – поблагодарил хомса.
Хемуль был слегка возбужден. Он склонился над кухонным столом и сказал:
– Моя лодка построена прочно. Спустить весною лодку на воду – что может быть лучше на свете?
Хомса ерзал на стуле, макал сухарь в кофе и молчал.
– Все медлишь да ждешь чего-то. А потом наконец поднимешь парус и отправишься в плаванье.
Хомса глядел на Хемуля из-под косматой челки. Под конец он сказал:
– Угу.
Хемулю вдруг стало тоскливо – в доме было слишком тихо.
– Не всегда успеваешь сделать все, что хочешь, – заметил он. – Ты знал тех, кто жил в этом доме?
– Да, я знал маму, – ответил Тофт. – А остальных плохо помню.
– Я тоже! – воскликнул Хемуль, радуясь, что хомса на конец хоть что-то сказал. – Я никогда не разглядывал их внимательно, мне достаточно было знать, что они тут, рядом. – Он помедлил, подыскивая подходящие слова, и продолжал: – Но я всегда помню о них, ты понимаешь, что я хочу сказать?
Хомса снова замкнулся в себе. Немного подождав, Хемуль поднялся.
– Пожалуй, пора ложиться спать. Завтра тоже будет день, – сказал он, но ушел не сразу.
Прекрасный летний образ южной гостиной исчез, Хемуль видел перед собой лишь пустой темный чердак. Подумав, он решил ночевать в кухне.
– Пойду прогуляюсь немного, – пробормотал Тофт.
Он притворил за собой дверь и остановился. На дворе была непроглядная тьма. Хомса подождал, пока глаза его привыкнут к темноте, и медленно побрел в сад. Из глубины погруженного во мрак сада струился голубой свет. Хомса подошел совсем близко к стеклянному шару. Глубокий, как море, он был пронизан длинными темными волнами. Хомса Тофт все смотрел, смотрел и терпеливо ждал. Наконец в самой глубине синевы засветился слабый огонек. Он загорался и гас, загорался и гас с равными промежутками, словно маяк. «Как они далеко», – подумал Тофт. Он весь продрог, но продолжал смотреть не отрываясь на огонек, который то исчезал, то появлялся, но был до того слаб, что хомса с трудом мог его разглядеть. Ему показалось, что его обманули.
Хемуль стоял в кухне, держа в лапе фонарь. Ему казалось ужасно тяжело и противно достать матрас, найти место, где его постелить, раздеться и сказать самому себе, что еще один день перешел в ночь. «Как же это вышло? – удивился он про себя. – Ведь я весь день был веселый. Что, собственно говоря, изменилось?»
Хемуль все еще недоумевал, когда дверь на веранду отворилась и кто-то вошел в гостиную. Загремел опрокинутый стул.
– Что ты там делаешь? – спросил Хемуль.
Ответа не было. Хемуль поднял лампу и крикнул:
– Кто там?
Старческий голос загадочно ответил:
– А уж этого я тебе не скажу!
7
Он был ужасно старый и совсем потерял память. Однажды темным осенним утром он проснулся и забыл, как его зовут. Печально не помнить, как зовут других, но забыть собственное имя – прекрасно.
В этот день он не вставал с постели, лежал себе и перед ним всплывали разные картины, разные мысли приходили и уходили. Иногда он засыпал, потом снова просыпался, но так и не мог вспомнить, кто он такой. Это был спокойный и в то же время увлекательный день.
Вечером он стал придумывать себе имя, чтобы встать с постели: Скруттагуббе? Онкельскронкель? Онкельскрут? Мурфарскрелль? Моффи?.. Он знал некоторых, которые сразу теряют свое имя, как только с ними познакомишься. Они приходят по воскресеньям, выкрикивают вежливые вопросы, потому что никак не могут усвоить, что я вовсе не глухой. Они стараются излагать мысли как можно проще, чтобы я понял, о чем идет речь. Они говорят: «Доброй ночи!» – и уходят к себе домой и там танцуют, поют и веселятся до самого утра. Имя им – родственники. «Я – Онкельскрут, – торжественно прошептал он. – Сейчас я поднимусь с постели и забуду всех родственников на свете».
Почти всю ночь Онкельскрут сидел у окна и глядел в темноту, ожидая чего-то важного. Кто-то прошел мимо его дома и исчез в лесу. На другом берегу залива отражалось в воде чье-то освещенное окно. Может быть, там что-то праздновали, а может, и нет. Ночь медленно уходила, а Онкельскрут все ждал, стараясь понять, чего же он хочет.
Уже перед самым рассветом он понял, что хочет отправиться в долину, где он был когда-то, очень давно. Возможно, он просто слышал что-то об этой долине или читал – какая разница? Самое главное в этой долине – ручей. А может быть, это река? Но только не речушка. Онкельскрут решил, что все-таки это ручей. Ручьи ему нравились гораздо больше, чем речушки. Прозрачный и быстрый ручей. Он сидел на мосту, болтал ногами и смотрел на рыбешек, что мельтешили в воде, обгоняя друг друга! Никто не спрашивал, как он себя чувствует, чтобы тут же начать болтовню о совсем других вещах, не давая ему опомниться и решить, хорошо он себя чувствует или плохо. В этой долине он мог играть и петь всю ночь и последним уходить спать на рассвете.
Онкельскрут не сразу принял решение. Он успел понять, как важно повременить, когда чего-то сильно желаешь, и знал, что поездку в неизвестность следует подготовить и обдумать.
Прошло много дней. Онкельскрут бродил по холмам вдоль темного залива, он все более и более впадал в забытье, и ему казалось, что с каждым днем долина становилась все ближе к нему.
Последние красно-желтые листья падали с деревьев и ложились охапками ему под ноги. (Ноги у Онкельскрута были еще удивительно молодые.) Время от времени он останавливался, поддевал палкой красивый лист и говорил про себя: «Это клен. Это я никогда не забуду». Онкельскрут хорошо знал, что ему не следует забывать.
За эти дни он постарался забыть многое. Каждое утро он просыпался с тайным желанием забыть, что долина подходит к нему все ближе и ближе. Никто ему не мешал, никто не напоминал, кто он такой.
Онкельскрут нашел под кроватью корзину, сложил туда все свои лекарства и маленькую бутылочку коньяку для желудка. Он сделал шесть бутербродов и не забыл про зонтик.
Он приготовился к побегу.
За долгие годы на полу у Онкельскрута скопились груды вещей. Тут было много всякой всячины, которую не хочется убирать и по многим причинам убирать не следует. Все эти предметы были разбросаны, словно островки, – ненужный и забытый архипелаг. Онкельскрут перешагивал через эти островки, обходил их по привычке, и они придавали его ежедневному хождению какое-то разнообразие и в то же время вселяли чувство чего-то постоянного и непреходящего. Теперь Онкельскрут решил, что они ему больше не нужны. Он взял метлу и поднял в комнате тарарам. Все – корки и крошки, старые домашние туфли и тряпки для вытирания пыли, завалявшиеся таблетки и забытые листочки с перечнем того, что нужно не забыть, ложки, вилки, пуговицы и нераспечатанные письма – все сгрудилось теперь в одну кучу. Из этой кучи он извлек только очки и положил их в корзину. Отныне он будет смотреть на вещи иначе.
Долина была уже совсем близко, за углом. Но Онкельскрут чувствовал, что воскресенье еще не наступило. Он ушел из дома в пятницу или в субботу. Конечно, он не вытерпел и написал прощальное письмо.
Я ухожу своей дорогой и чувствую себя отлично, – писал он. – Я слышал все, о чем вы говорили целую сотню лет, ведь я вовсе не глухой. К тому же я знаю, что вы то и дело веселились потихоньку от меня всю дорогу.
Подписи он не поставил.
Потом Онкельскрут надел пижаму и гамаши, поднял с пола свою корзиночку, отворил дверь и запер ее, оставив за нею все свои сто долгих лет, исполненный силы, которую ему придавали жажда путешествий и его новое имя. Он пошел прямо на север к счастливой долине, и никто из обитателей домишек на берегу залива не знал, куда он ушел. Красно-желтые листья кружились у него над головой, а вдалеке на холмы обрушился осенний ливень, чтобы смыть остатки того, что ему не хотелось помнить.
8
Визит Филифьонки в Муми-дален был ненадолго отсрочен – она никак не могла решить, надо ли ей пересыпать вещи антимолью или нет. Дело это непростое: сначала нужно все проветрить, выколотить и вычистить и так далее, не говоря уже о самих шкафах, которые надо вымыть с содой и с мылом. Но стоило Филифьонке взять в лапы щетку или тряпку, как у нее начинала кружиться голова и тошнотворное ощущение страха возникало в желудке, поднималось и застревало в горле. Нет, заниматься уборкой она больше не могла. После того как мыла то окно. «Так дело не пойдет, – подумала бедная Филифьонка, – моль сожрет все мои вещи!»
Она не знала, сколько времени будет гостить в долине. Если ей там не понравится, она не останется надолго. Если будет хорошо, почему не задержаться на месяц? А если она проживет там целый месяц, всю ее одежду за это время успеет прогрызть моль и прочая дрянь. Она с ужасом представляла себе, как их маленькие челюсти прогрызут себе ходы в ее платьях и коврах, вообразила, как они обрадуются, добравшись до ее лисьей горжетки!
Вконец измученная сомнениями, она взяла чемодан, набросила на плечи горжетку, заперла дом и отправилась в путь.
От ее дома до Муми-дален было совсем недалеко, но к концу пути чемодан оттянул ей лапу, словно камень, а сапоги стали сильно жать. Она поднялась на веранду, постучала, немного подождала и вошла в гостиную.
Филифьонка с первого взгляда заметила, что здесь давно никто не убирал. Она сняла с лапы хлопчатобумажную перчатку и провела лапкой по выступу на кафельной печи, оставив белую полоску на сером. «Неужели такое возможно? – прошептала взволнованная Филифьонка, и по спине у нее поползли мурашки. – Добровольно перестать наводить порядок в доме…» Она поставила чемодан и подошла к окну. Оно тоже было грязное. Дождь оставил на стекле длинные печальные полоски. Лишь увидев, что шторы на окнах спущены, она поняла – семейства муми-троллей нет дома. Она увидела, что хрустальная люстра укутана в тюлевый чехол. Со всех сторон на нее повеяло холодом опустевшего дома, и она почувствовала себя бессовестно обманутой. Филифьонка открыла чемодан, вынула из него фарфоровую вазу – подарок Муми-маме – и поставила ее на стол как немой упрек. В доме стояла необыкновенная тишина.
Филифьонка ринулась вдруг на второй этаж, там было еще холоднее – застоявшийся холод в летнем помещении, запертом на зиму. Она распахивала одну дверь за другой – шторы во всех комнатах были опущены, повсюду царили пустота и полумрак. Филифьонка испугалась еще сильнее и начала открывать стенные шкафы. Она попробовала было открыть и платяной шкаф, но он был заперт. Тогда она разъярилась и принялась колотить по шкафу обеими лапами, потом побежала дальше, к чулану, и рванула дверь.
Там сидел маленький хомса, обхватив лапками большую книгу. Он испуганно таращил на нее глаза.
– Где они? Куда они подевались? – закричала Филифьонка.
Хомса положил книгу и отполз к самой стене, но, принюхавшись, понял, что незнакомка не опасна – от нее пахло страхом. Он ответил:
– Я не знаю.
– Но я приехала их навестить! – воскликнула Филифьонка. – Я привезла им подарок, прекрасную вазу. Не могли же они уехать куда-то, не сказав ни слова!
Маленький хомса только мотал головой и таращил на нее глаза. И Филифьонка ушла, сильно хлопнув дверью.
Хомса Тофт пополз на свое место, сделал себе новую удобную ямку и снова стал читать. Книга была очень большая и толстая, но без конца и без начала, страницы в ней пожелтели, а края их обгрызли крысы. Хомса не привык читать и потому каждую строчку одолевал ужасно долго. Он надеялся, что книга расскажет ему, куда уехала семья муми-троллей и где она сейчас находится. Но книга рассказывала совсем о другом – об удивительных зверях и темных лесах, и ни одно название в этой книге не было ему знакомо. Хомса и знать не знал, что глубоко-глубоко в морской пучине живут радиолярии и последние нуммулиты. Один из нуммулитов совсем не похож на своих родственников, сперва он был немного похож на Ноктилуку, а после стал ни на кого не похожим. Он, как видно, совсем маленький, а когда пугается, становится еще меньше.
«Однако нам не следует удивляться, – читал Тофт, – наличию этой редкой разновидности группы Протозоа. Причина ее своеобразного развития не поддается тщательному изучению, но имеется основание предполагать, что решающим моментом условий ее жизни является электрический заряд. Очевидно, в период ее возникновения электрические бури были частым явлением, поскольку, как мы описывали выше, в послеледниковый период горные цепи подвергались систематическим воздействиям непогоды и расположенное вблизи море получало электрические заряды».
Хомса отложил книгу. Он не понял толком, о чем в ней говорится, да и фразы были ужасно длинные. Но все эти странные слова казались ему красивыми. К тому же у него никогда еще не было своей книги. Он спрятал ее под сетью, лег и стал размышлять. На потолке под разбитым окном спала, повиснув вниз головой, летучая мышь. Издалека доносился визгливый голос Филифьонки – она обнаружила Хемуля.
Хомсу Тофта все сильнее клонило ко сну. Он попробовал было рассказать самому себе про счастливую семью, но у него ничего не получилось. Тогда он стал рассказывать про одинокого зверюшку – маленького нуммулита, который был немного похож на Ноктилуку и любил электричество.
9
Мюмла[1] шла по лесу и думала про себя: «Как прекрасно быть Мюмлой! Мне так хорошо, что лучше и быть не может».
Она любовалась своими длинными лапами и красными сапожками, гордилась своей затейливой мюмлинской прической: ее светло-оранжевые блестящие и прямые волосы были собраны в узел на макушке и походили на луковицу. Она шла по низинам и горам, ступала по глубоким ложбинкам, которые дождь превратил в зеленые подводные сады. Она шла быстро и иногда подпрыгивала, чтобы почувствовать, какая она тоненькая и легкая.
Мюмла спешила. Ей захотелось навестить свою младшую сестру Мю, которую удочерила семья муми-троллей. Наверно, она все такая же серьезная и злая и умещается в корзинке для шитья. У самой долины Мюмла увидела Онкельскрута, который сидел на мосту и удил рыбу. На нем были пижама, гамаши и шляпа. В лапе он держал зонтик. Мюмла никогда не видела его близко и теперь рассматривала с любопытством. Он был до удивления маленький.
– Я знаю, кто ты, – сказал он. – А я не кто иной, как Онкельскрут. Мне известно, что ты веселишься все ночи напролет, у тебя до утра горит свет!
– Думай что хочешь, – бесшабашно ответила Мюмла. – Ты видел малышку Мю?
Онкельскрут вытащил удочку и проверил крючок. Рыба не клевала.
– Так ты не видел Мю? – громче повторила Мюмла.
– Не кричи, – шикнул на нее Онкельскрут. – У меня прекрасный слух. Ты распугаешь всю рыбу, и она уплывет!
– Она уже давно уплыла, – засмеялась Мюмла и побежала дальше.
Онкельскрут фыркнул и спрятался глубже под зонтик. В его ручье было всегда полным-полно рыбы. Он поглядел вниз. Вода бурлила под мостом и была похожа на блестящую разбухшую массу. Она поднимала со дна тысячи затонувших предметов, которые мелькали перед глазами и уносились прочь, мелькали и уносились прочь… У Онкельскрута зарябило в глазах, он зажмурил их, чтобы увидеть свой ручей – прозрачный ручей с песчаным дном и юркими серебристыми рыбками…
«Что-то тут не так, – с беспокойством подумал он. – Мост настоящий, тот самый мост. Но я сам какой-то другой, совершенно новый…» И с этими мыслями он уснул.
Филифьонка сидела на веранде, укутав лапы в одеяла. У нее был такой вид, будто ей принадлежит вся долина, а она вовсе не рада этому.
– Привет! – сказала Мюмла. Она сразу же поняла, что дом пуст.
– Добрый день, – ответила Филифьонка холодно-вежливо, это была ее обычная манера в обращении с мюмлами. – Они уехали, не сказав ни слова. Хорошо, что хоть дверь не заперли.
– Они никогда ничего не запирают, – заметила Мюмла.
– Нет, запирают, – прошептала Филифьонка и откинулась на спинку стула. – Запирают. Они заперли платяной шкаф на втором этаже! Видно, они хранят там ценности. Боятся, чтобы их не украли!
Мюмла внимательно смотрела на Филифьонку: испуганные глаза, крутые завитки волос, каждый завиток зажат заколкой, лисья горжетка, сама себя кусающая за хвост. Филифьонка совсем не изменилась. Вот в саду показался Хемуль, он сгребал опавшие листья. За ним кто-то маленький собирал их в корзину.
– Привет, – сказал Хемуль, – так ты тоже здесь?
– А это кто? – удивилась Мюмла.
– Я привезла подарок, – услышала Мюмла за своей спиной голос Филифьонки.
– Это хомса, – пояснил Хемуль, – он помогает мне работать в саду.
– Очень красивую фарфоровую вазу! Для Муми-мамы! – резко заявила Филифьонка.
– Вот оно что, – сказала Мюмла Хемулю, – так ты сгребаешь листья…
– Я хочу угодить Муми-папе, – поспешил сказать Хемуль.
Вдруг Филифьонка воскликнула:
– Нельзя трогать опавшую листву! Она опасна! В ней полно всякой гнили!
Филифьонка побежала по саду, одеяла волочились за ней.
– На листьях столько бактерий, – кричала она. – Червяков! Гусениц! Всяких ползучек! Не трогайте их!
Хемуль продолжал работать граблями. Но его упрямая и простодушная морда сморщилась, он настойчиво повторял:
– Я хочу сделать приятное Муми-папе.
– Я знаю, что говорю, – заявила Филифьонка угрожающе и подошла ближе.
Мюмла поглядела на них. «При чем тут опавшие листья, – подумала она. – Вот чудаки!» Она вошла в дом и поднялась на верхний этаж. Здесь было очень холодно. В южной гостиной было все так же: белый комод, выцветшая картина, голубое одеяло из гагачьего пуха. Рукомойник был пуст, а на дне его лежал мертвый паук. На полу посреди комнаты стоял чемодан Филифьонки, а на кровати лежала розовая ночная сорочка.
Мюмла перенесла чемодан и сорочку в северную гостиную и закрыла дверь. Южная гостиная предназначалась ей самой. Ее собственная старая гребенка лежала на комоде под салфеткой из жатой ткани. Она приподняла салфетку – гребенка лежала на том же месте. Мюмла села у окна, распустила свои красивые длинные волосы и принялась их расчесывать. Внизу за окном продолжалась перебранка. Мюмла видела, как спорившие шевелят губами, но слов за закрытыми окнами не слышала.
Мюмла все расчесывала и расчесывала волосы, и они блестели все сильнее и сильнее. Она задумчиво смотрела вниз на большой сад. Осень так сильно изменила его, сделала заброшенным и незнакомым. Стоявшие рядами деревья, голые, окутанные завесой дождя, походили на серые кулисы.
Беззвучная перебранка возле веранды продолжалась. Спорившие размахивали лапами, бегали и казались сами такими же ненастоящими, как и деревья. Кроме хомсы. Он стоял молча, уставясь в землю.
Широкая тень опустилась над долиной – опять полил дождь. И тут на мосту показался Снусмумрик. Ну конечно же, это он, ни у кого другого не было такой зеленой одежды. Он остановился у кустов сирени, поглядел на них, потом медленными шагами направился к дому. Мюмла отворила окно.
Хемуль отбросил грабли.
– Вечно мне приходится все приводить в порядок, – сказал он.
А Филифьонка бросила куда-то в сторону:
– При Муми-маме все было по-другому.
Хомса стоял и смотрел на ее сапожки, он понимал, что они ей тесны.
Вот дождевая туча доползла до них. Последние печальные листья сорвались с веток и опустились на веранду, дождь лил все сильнее и сильнее.
– Привет! – воскликнул Снусмумрик.
Все поглядели друг на друга.
– Кажется, идет дождь, – раздраженно сказала Филифьонка. – Никого нет дома.
– Как хорошо, что ты пришел! – обрадовался Хемуль.
Снусмумрик сделал неопределенный жест, помедлил и, еще глубже надвинув шляпу, повернулся и пошел обратно к реке. Хемуль и Филифьонка пошли за ним. Они встали у берега и смотрели, как он разбивал палатку около моста и как потом залез в нее.
– Как хорошо, что ты приехал, – повторил Хемуль.
Они еще постояли на дожде, подождали…
– Он спит, – прошептал Хемуль, – он устал.
Мюмла видела, как Хемуль и Филифьонка возвращались в дом. Она закрыла окно и старательно собрала волосы в строгий и красивый узел.
Жить в свое удовольствие – что может быть лучше на свете. Мюмла никогда не жалела тех, кого ей доводилось встречать, и никогда не вмешивалась в ссоры и передряги. Она только наблюдала за ними с удивлением и не без удовольствия.
Одеяло из гагачьего пуха было голубое. Шесть лет собирала Муми-мама гагачий пух, и теперь одеяло лежало в южной гостиной под вязаным кружевным покрывалом и ждало того, кто любит жить в свое удовольствие. Мюмла решила положить к лапам грелку, она знала, где в этом доме лежит грелка. Как станет смеркаться, она разложит постель и недолго поспит. А вечером, когда поспеет ужин, в кухне будет тепло.
Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. Быть счастливой очень легко.
Ноябрьский день медленно угасал. Мюмла залезла под одеяло, вытянулась так сильно, что косточки захрустели, и обхватила грелку лапками. За окном шел дождь. Через час-другой она в меру проголодается и отведает ужин Филифьонки, и, может быть, ей захочется поболтать. А сейчас ей хочется лишь окунуться в тепло. Весь мир превратился в большое теплое одеяло, плотно укутавшее одну маленькую мюмлу, а все прочее осталось снаружи. Мюмле никогда не снились сны, она спала, когда хотела спать, и просыпалась, когда стоило проснуться.
10
В палатке было темно. Снусмумрик вылез из спального мешка: пять тактов не подошли к нему ближе. Никаких следов музыки. Снаружи было совсем тихо, дождь прекратился. Снусмумрик решил поджарить свинину и пошел в сарай за дровами.
Когда он разжег огонь, Хемуль и Филифьонка снова подошли к палатке. Они стояли молча и смотрели.
Снусмумрик спросил:
– Вы ужинали?
– Нет еще, – ответил Хемуль. – Мы никак не можем договориться, кому из нас мыть посуду!
– Хомсе, – заявила Филифьонка.
– Нет, не хомсе, – возразил Хемуль. – Ведь он помогал мне работать в саду. А в доме должны, хлопотать Филифьонка и Мюмла, ведь они женщины. Разве я не прав? Я варю кофе, чтобы всем было приятно. А Онкельскрут ужасно старый, и я ему позволяю делать, что он хочет.
– Ты, Хемуль, только и знаешь, что распоряжаться с важным видом! – воскликнула Филифьонка.
Они оба уставились на Снусмумрика с опаской.
«Мыть посуду, – думал он. – Они ничего не знают. Мыть посуду – это болтать тарелку в ручье, полоскать лапы, это же просто ерунда. О чем они говорят!»
– Не правда ли, что хемули всегда только и знают, что распоряжаться! – сказала Филифьонка.
Снусмумрик немного побаивался их. Он поднялся и хотел сказать что-нибудь вразумительное, но ничего толком не мог придумать.
– Вовсе я не распоряжаюсь! – закричал Хемуль. – Я хочу жить в палатке и быть свободным!
Он откинул дверь палатки, заполз внутрь, заполнив все пространство.
– Видишь, что с ним творится! – прошептала Филифьонка. Она подождала немного и ушла.
Снусмумрик снял сковородку с огня, свинина сгорела в уголь. Он убрал в карман трубку. Немного погодя он спросил у Хемуля:
– Ты привык спать в палатке?
– Жизнь на природе – самое лучшее на свете, – мрачно ответил Хемуль.
Уже совсем стемнело, но в доме муми-троллей светились два окна, и свет их был такой же приветливый и надежный, как прежде.
Филифьонка лежала в северной гостиной, натянув одеяло до самого носа. Вся голова у нее была в бигуди, и лежать на них было больно. Она считала сучки в досках на потолке. Ей хотелось есть. Филифьонка любила стряпать. Ей нравилось расставлять на кухонных полках ряды красивых маленьких баночек и мешочков, нравилось выдумывать, как лучше употребить остатки еды в пудингах или крокетах, чтобы никто их не узнал. Она готовила так экономно, что ни одна манная крупинка не пропадала даром.
На веранде висел большой гонг муми-троллей. Филифьонка представила себе, как она ударяет по звучной латуни. «Динь-дон! – раздается по всей долине, и все мчатся с радостными возгласами: – Еда готова! Что у нас сегодня на обед? До чего же есть охота!»
На глазах у Филифьонки выступили слезы. Хемуль испортил ей все настроение. Она бы, конечно, и посуду помыла. Только по собственной инициативе. «Филифьонка должна мыть посуду, потому что она – женщина!» Еще чего! Да вдобавок еще вместе с Мюмлой!
Филифьонка погасила свет – пусть не горит зря – и натянула одеяло на голову. Скрипнула лестница. Снизу донесся слабый шум. Где-то закрылась дверь. «Откуда столько звуков в этом пустом доме?» – удивилась Филифьонка и тут же вспомнила, что в доме полно народу. И все же он по-прежнему казался ей пустым.
Онкельскрут лежал в гостиной на диване, уткнувшись мордочкой в красивую бархатную подушку, и вдруг услыхал, что кто-то крадется в кухню. Звякнуло стекло. Он сел в темноте и навострил уши. «Они там веселятся», – подумал он.
Вот снова все затихло, Онкельскрут ступил на холодный пол и стал тихо красться к кухонной двери. В кухне было темно, только из кладовки падала на пол полоска света. «Ага! – подумал Онкельскрут. – Вот где они спрятались». Он рванул на себя дверь. В кладовке сидела Мюмла и уплетала маринованные огурцы. На полке стояли две горящие свечи.
– Вот оно что, тебе эта мысль тоже пришла в голову? Бери огурцы. А это ванильные сухарики. А вот пикули, но лучше их не ешь, они слишком острые – вредно для желудка.
Онкельскрут тут же взял банку пикулей и начал есть. Они ему не понравились, и Мюмла, увидев это, сказала:
– Пикули не для твоего желудка. Ты просто взорвешься и умрешь на месте.
– В отпуске не умирают, – весело ответил Онкельскрут. – А что у них в суповой миске?
– Еловые иголки, – отрезала Мюмла. – Прежде чем залечь в спячку, они набивают желудки еловыми иголками. – Она приподняла крышку и, заглянув в миску, сказала: – Предок, видно, съел больше всех.
– Какой предок? – удивился Онкельскрут, принимаясь за огурцы.
– Тот, что жил в печке. Ему триста лет. Сейчас он спит.
Онкельскрут ничего не ответил. Он пробовал разобраться: хорошо или плохо, что на свете есть кто-то еще старше его. Это настолько его заинтересовало, что он решил разбудить предка и познакомиться с ним.
– Послушайка, – сказала Мюмла, – сейчас будить его ни к чему. Он просыпается не раньше апреля. Я вижу, ты уже съел полбанки огурцов.
Онкельскрут надул щеки, сморщил нос, засунул несколько огурцов и сухариков в карман, взял одну свечу и заковылял на своих мягких лапах обратно в гостиную. Он поставил свечу на пол возле печки и открыл печную дверцу. Там было темно. Онкельскрут приподнял свечу и снова заглянул в печь. И опять, кроме обрывков бумаги и сажи, нападавшей из трубы, ничего не увидел.
– Ты здесь? – крикнул он. – Проснись! Я хочу на тебя поглядеть, узнать, как ты выглядишь.
Но предок не отвечал. Он спал, набив брюхо еловыми иглами.
Онкельскрут собрал обрывки бумаги и, догадавшись, что это письмо, стал вспоминать, куда он дел свои очки, но так и не вспомнил. Тогда он спрятал обрывки письма в надежное место, задул свечу и снова зарылся в подушки.
«Интересно, собираются ли они приглашать предка на праздник? – с горечью подумал он. – Мне-то сегодня было очень весело. Это был мой собственный день».
Хомса Тофт лежал в чулане и читал свою книгу. Горевшая возле него свеча отбрасывала на пол светлый кружок, и от этого ему было уютно в этом большом чужом доме.
«Как мы указывали выше, – читал хомса, – представитель этого необычайного вида аккумулировал свою энергию из электрических зарядов, которые регулярно накапливались в долинах и светились по ночам белым и фиолетовым цветом. Мы можем себе представить, как последний из вымирающего вида нуммулитов постепенно приближается к поверхности воды, как он пробирается к бесконечному пространству болот в лесу, мокром от дождя, где вспышки отражаются в поднимающихся из тины пузырях, и как он в конце концов покидает свою родную стихию».
«Видно, ему было одиноко и тоскливо, – думал Тофт. – Он совсем не походил на других, и в семье его не любили. Вот он и ушел от них. Интересно, где он сейчас? Доведется ли мне когда-нибудь увидеть его? Может, он покажется, если я расскажу ему обо всем?»
«Конец главы», – прочитал Тофт вслух и погасил свечу.
11
На рассвете, когда ноябрьская ночь медленно превращалась в бесцветное утро, с моря пришел туман. Он клубился, поднимаясь по склонам гор, сползал в долину, наполняя ее до краев. Снусмумрик проснулся пораньше, с тем чтобы провести несколько часов наедине с самим собой. Его костер давно погас, но ему не было холодно. Он владел простым и в то же время редким искусством сохранять собственное тепло и теперь лежал не шевелясь, стараясь снова не впасть в сон. Туман принес в долину удивительную тишину и неподвижность.
Снусмумрик вдруг встрепенулся, сон сразу же слетел с него. Он услыхал, хотя еще не очень ясно, свои пять тактов.
«Хорошо, – подумал он, – выпью чашку черного кофе, и они будут мои». Но как раз этого ему бы сейчас не следовало делать.
Утренний костер занялся и быстро разгорелся. Снусмумрик наполнил кофейник речной водой и поставил его на огонь. Он сделал шаг назад, наступил нечаянно на грабли Хемуля и растянулся на земле. Со страшным грохотом покатилась вниз к реке какая-то кастрюля, а из палатки высунул свою большую морду Хемуль.
– Привет!
– Привет, привет! – ответил Снусмумрик.
Хемуль, замерзший, сонный, приковылял к огню со спальным мешком на голове, с твердым намерением быть приятным и любезным.
– Ах эта жизнь на природе! – воскликнул он.
Снусмумрик подал кофе.
– Подумать только, – продолжал Хемуль, – слышать таинственные звуки ночи, лежа в настоящей палатке! Кстати, у меня в ухе стреляет, у тебя нет какого-нибудь средства?
– Нет, – сказал Снусмумрик. – Тебе с сахаром или без?
– С сахаром, желательно четыре кусочка, – ответил Хемуль.
Грудь у него уже согрелась, и поясницу ломило не так сильно. Кофе был очень горячий.
– Знаешь, что мне в тебе нравится, – доверительно сказал Хемуль, – то, что ты такой молчаливый. Можно подумать, что ты очень умный. Мне хочется поговорить о моей лодке.
Туман начал редеть и подниматься, вот уже проступила вначале черная земля, потом большие сапоги Хемуля… Но голова его все еще оставалась в тумане. Он чувствовал себя вроде бы как всегда, только вот с ушами было что-то неладное. От кофе в животе у него потеплело, он стал вдруг беспечным и весело сказал:
– Послушай, мы, кажется, понимаем друг друга. Лодка Муми-папы вроде бы стоит на причале у мостков возле купальни. Точно?
И они стали вспоминать: мостки, узенькие, полузатонувшие, раскачивающиеся на темных сваях, купальня с остроконечной крышей, с красными и зелеными стеклами и крутой лесенкой, спускающейся к воде.
– Мне думается, лодку вряд ли там оставили, – сказал Снусмумрик и отставил кружку. Он подумал: «Они, наверно, уплыли на ней, но говорить о них с этим Хемулем я не хочу».
Но Хемуль наклонился к нему и сказал серьезно:
– Надо пойти проверить. Лучше идти вдвоем, чтобы нам никто не мешал.
Они пошли, и скоро их фигурки исчезли в тумане, который поднялся и поплыл над землей. В лесу он напоминал огромный белый потолок, опирающийся на темные стволы деревьев. Это была неповторимая и торжественная картина. Хемуль молчал и думал о своей лодке.
Лодочная пристань ничуть не изменилась. Парусная лодка исчезла. Жижа из водорослей и ила лежала выше уровня высокой воды, а маленький челнок был вытащен на берег к самому лесу. Временами в разрывах тумана отчетливо виднелись море, берег и небо. По-прежнему стояла удивительная тишина.
– Знаешь, что со мной происходит? – воскликнул Хемуль. – Что-то совершенно… совершенно невероятное! У меня больше не болят уши.
Ему вдруг ужасно захотелось довериться, откровенно рассказать о себе, но от смущения он не мог найти нужные слова. Снусмумрик издал неопределенный звук и пошел дальше. Вдоль всего берега, насколько хватало глаз, тянулась темная гряда, мокрая от воды, – под грудой водорослей и тростника скопилось все, что прилив и шторм выбросили на берег. Разбитые в щепки бревна были утыканы гвоздями и всякими покорежившимися железяками. Море поглотило берег, подступив прямо к деревьям, и в их ветвях застряли водоросли.
– Штормило, – сказал Снусмумрик.
– Я стараюсь изо всех сил, – воскликнул Хемуль за его спиной.
Снусмумрик издал, как всегда, неопределенный звук, означавший, что он слышал сказанные ему слова и добавить ему нечего.
Они пошли по мосткам. Под ними медленно колыхалась в такт движению воды коричневая масса. Это были водоросли, оторванные со дна волнами. Внезапно туман растаял, и берег стал самым пустынным берегом на свете.
– Ты понимаешь? – спросил Хемуль.
Снусмумрик сжал трубку зубами и уставился на воду.
– Угу, – сказал он. И немного погодя добавил: – Мне думается, борта маленькой лодки нужно собирать внахлест.
– Да, – согласился Хемуль. – Для маленьких лодок это гораздо лучше. И их нужно смолить, а не покрывать лаком. Я смолю лодку каждую весну, прежде чем отправляюсь в плавание. Вот только с парусом я не могу решить, какой лучше: белый или красный. Белый – это всегда хорошо, так сказать, классический цвет. Зато, если подумать, красный парус – это смело. Что ты на это скажешь? Может, красный – это слишком вызывающе?
– Нет, почему же, – отвечал Снусмумрик, – пусть будет красный.
Ему хотелось спать, хотелось лишь одного – залезть в палатку и закрыться там ото всех.
Хемуль всю дорогу рассказывал про свою лодку.
– У меня есть одна странность, – говорил он. – Все, кто любят лодки, для меня ну просто родные. Взять, например, Муми-папу. В один прекрасный день он поднимает парус и уплывает. Вот так, безо всяких, уплывает, и все! Совершенно свободный! Иногда, знаешь, мне кажется, что мы с ним похожи. Правда, немножко, но все-таки похожи.
Снусмумрик издал неопределенный звук.
– Да, в самом деле, – спокойно продолжал Хемуль, – ведь недаром его лодка называется «Приключение». В этом заключен большой смысл.
Они расстались у палатки.
– Это было прекрасное утро, – сказал Хемуль. – Спасибо, что ты меня выслушал.
Снусмумрик закрыл палатку. Оттого что она была зеленая, каждому, кто находился в ней, казалось, что снаружи всегда светит солнце.
Когда Хемуль подошел к дому, уже наступил день, и никто не знал, что Хемулю подарило это утро. Филифьонка отворила окно, чтобы проветрить комнату.
– Доброе утро! – закричал Хемуль. – Я спал в палатке! Я слышал ночные звуки!
– Какие звуки? – спросила Филифьонка и закрепила крючком ставни.
– Ночные звуки, – повторил Хемуль. – Я хочу сказать: звуки, которые раздаются по ночам.
– Вот оно что, – сказала Филифьонка.
Она не любила окна, они ненадежны – ветер их то распахивает, то захлопывает… В северной гостиной было холоднее, чем за окном. Она села перед зеркалом и стала снимать бигуди. Ее слегка знобило. Она думала о том, что окна у нее всегда выходят на север, даже в ее собственном доме. И все-то у нее идет шиворот-навыворот: волосы не высохли как следует (и не мудрено в такую-то сырость!), кудряшки повисли как проволока, а ведь утренняя прическа – такая важная вещь! Да еще Мюмла сюда явилась! В доме пахнет сыростью и запустением и повсюду лежит пыль. Комнаты нужно проветрить, устроить хороший сквозняк, нагреть побольше воды и сделать генеральную уборку…
Но стоило только Филифьонке подумать про генеральную уборку, как голова у нее закружилась, к горлу подступила тошнота, и на одно страшное мгновение она повисла над пропастью. Она знала, что никогда больше не сможет заниматься уборкой. «Как же я стану жить, если не смогу ни убираться, ни готовить еду? – подумала она. – Ведь на свете нет больше никакого стоящего занятия».
Она очень осторожно спустилась с лестницы. Все сидели на веранде и пили кофе. Филифьонка оглядела их. Она взглянула на помятую шляпу Онкельскрута, на нечесаную голову Мюмлы, на круглый затылок Хемуля, слегка покрасневший от утреннего холода. Вот они сидят тут все вместе. И до чего же красивые волосы у Мюмлы! И вдруг Филифьонка почувствовала страшную усталость и подумала: «Они меня совсем не любят».
Она вошла в гостиную и огляделась. Хемуль завел часы, постучал по барометру. Мебель стояла на своих местах, и все, что когда-либо происходило в этой гостиной, было чужое и непонятное и знать ее не хотело.
Филифьонка вдруг бросилась в кухню за дровами. Она жарко натопит печь, согреет дом и всех, кто надумал поселиться в нем.
– Послушай, как там тебя зовут, – закричал Онкельскрут, стоя у палатки. – Я спас предка! Моего приятеля – предка! Она забыла, что он живет в печке. Как только она могла! А теперь лежит на кровати и плачет.
– Кто? – спросил Снусмумрик.
– Ясное дело, эта, с горжеткой! – воскликнул Онкельскрут. – Вот ужас-то!
– Она скоро успокоится, – пробормотал Снусмумрик.
Онкельскрут удивился. Он был очень разочарован. Он постучал палкой по земле и сказал про себя много нехороших слов, потом пошел к мосту. Там сидела Мюмла и расчесывала волосы.
– Ты видела, как я спас предка? – строго спросил он. – Еще секунда, и он бы сгорел.
– Но ведь он не сгорел, – сказала Мюмла.
– Молодежь нынче ничего не понимает, вы какие-то бесчувственные. Вы, похоже, и не думаете восхищаться моим поступком, – проворчал Онкельскрут и вытащил из воды сачок. Он был пустой.
– Рыба в реке водится только весной, – сказала Мюмла.
– Это не река, а ручей. Мой ручей, и в нем полно рыбы.
– Послушай, Онкельскрут, – спокойно возразила Мюмла, – это и не река, и не ручей. Это речушка. Но раз семья муми-троллей называет ее рекой, значит, это река. Что ты все споришь о том, чего нет и никогда не было?
– Потому что так интереснее!
А Мюмла все расчесывала и расчесывала свои волосы, и гребень шуршал, как волны по песчаному берегу, – легко и равнодушно.
Онкельскрут встал и сказал с большим достоинством:
– Если даже ты видишь, что это речушка, зачем говорить мне об этом? Что за кошмарные дети, зачем вы огорчаете меня?
Мюмла очень удивилась и перестала причесываться.
– Ты мне нравишься, – сказала она. – Я вовсе не хотела тебя огорчить.
– Хорошо, – обрадовался Онкельскрут, – но тогда перестань говорить о том, что есть на самом деле, и дай мне видеть все так, как мне приятно.
– Я постараюсь, – обещала Мюмла.
Онкельскрут был сильно взволнован. Он потопал к палатке и закричал:
– Эй ты, там, в палатке! Скажи: ручей это, река или речушка? Есть там рыба или нет? Когда ты наконец выйдешь оттуда и заинтересуешься хоть чем-нибудь?
– Сейчас, – сердито ответил Снусмумрик. Он внимательно прислушался, но Онкельскрут больше ничего не сказал.
«Надо идти к ним, – подумал Снусмумрик. – Неудобно. И зачем я только вернулся сюда, что у меня с ними общего, они ничего не понимают в музыке». Он перевернулся на спину, потом лег на живот, зарылся мордочкой в спальный мешок. Что бы он ни делал, они все равно являлись к нему в палатку, они все время были рядом – беспокойные глаза Хемуля, Филифьонка, плачущая на кровати, хомса, который все время молчит, уставясь в землю, и растерянный Онкельскрут… они были тут же, они засели у него в голове, и к тому же в палатке пахло Хемулем. «Надо выйти отсюда, – подумал Снусмумрик, – лучше быть с ними, чем думать о них». И как они не похожи на семью муми-троллей. С ними тоже было нелегко. Они были повсюду, они хотели все время разговаривать с ним. Но с ними можно было чувствовать себя как будто наедине с самим собой. «Как же это им удавалось? – удивился Снусмумрик. – Ведь я был с ними каждое лето и не замечал, что они давали мне возможность побыть одному».
12
Хомса Тофт читал медленно и отчетливо: «Словами невозможно описать смятение, возникшее в то время, когда поступление электрических зарядов прекратилось. Мы имеем основание предполагать, что нуммулит – это одиночное явление, которое тем не менее мы по-прежнему относим к группе Протозоа, – замедлил значительно свое развитие и прошел период съеживания. Свойство фосфоресцировать у него утратилось, и несчастное существо вынуждено было прятаться в трещинах и глубоких расселинах, служивших ему временным убежищем для защиты от окружающего мира».
– Так и есть, – прошептал Тофт, – теперь кто угодно может обидеть его, ведь в нем нет электричества. Теперь он все съеживается, съеживается и не знает, куда ему деваться…
Хомса Тофт свернулся калачиком и начал рассказывать. Он позволил этому зверьку прийти в одну долину, где жил хомса, умевший делать электрические бури. В долине светились белые и фиолетовые молнии. Сначала они блистали вдали, потом подходили все ближе и ближе…
Ни одна рыба не попалась в сачок Онкельскрута. Он заснул на мосту, надвинув шляпу на глаза. Рядом на каминном коврике лежала Мюмла и смотрела на коричневые струи воды. Возле почтового ящика сидел Хемуль, он что-то писал крупными буквами на фанерной доске.
– «Муми-дален – Долина муми-троллей», – прочитала Мюмла. – Для кого это ты пишешь? – спросила она. – Тот, кто придет сюда, будет знать, куда он пришел?
– Это совсем не для кого-то, – объяснил Хемуль, – это для нас.
– А зачем? – удивилась она.
– Я и сам не знаю, – пожал плечами Хемуль и, подумав, сказал: – Может, для того, чтобы знать наверняка. Ведь это особенное название, ты понимаешь, что я имею в виду?
– Нет, – призналась Мюмла.
Хемуль дописал последнюю букву, вынул из кармана большой гвоздь и начал прибивать доску к перилам моста. Проснулся Онкельскрут и пробормотал:
– Спасите предка…
А из палатки выскочил Снусмумрик и закричал:
– Что ты делаешь? Сейчас же прекрати!
Шляпа у него, как всегда, была надвинута на глаза.
Никто никогда раньше не видел, чтобы Снусмумрик вышел из себя, и теперь все ужасно сконфузились и потупили глаза.
– Нечего расстраиваться! – продолжал Снусмумрик с упреком. – Неужто ты не знаешь?..
Каждый хемуль должен знать, что любой снусмумрик ненавидит объявления, которые что-либо воспрещают, это единственное, что может разозлить его, обидеть, вывести из себя. Вот Снусмумрик и вышел из себя. Он кричал и вел себя ужасно глупо.
Хемуль вытащил гвоздь и бросил фанеру в воду. Буквы быстро потемнели, расплылись, и различить их было уже нельзя, объявление подхватил поток и понес его дальше, к морю.
– Видишь, – сказал Хемуль, и в голосе у него не было прежнего уважения, – доска уплыла. Может, это в самом деле не так важно, как мне казалось.
Снусмумрик ничего не ответил, он стоял неподвижно. Вдруг он подбежал к почтовому ящику, поднял крышку и заглянул внутрь. Потом побежал дальше, к большому клену, и сунул лапу в дупло.
Онкельскрут вскочил на ноги и закричал:
– Ты ждешь письма?
Не говоря ни слова, Снусмумрик подбежал к дровяному сараю, опрокинул чурбан для колки дров, распахнул дверь, и все увидели, что он шарит лапой по полочке у окна над верстаком.
– Ты никак ищешь свои очки? – с любопытством спросил Онкельскрут.
– Я хочу, чтобы мне не мешали, – ответил Снусмумрик, вышел из сарая и пошел дальше.
– В самом деле! – воскликнул Онкельскрут и заспешил за Снусмумриком. – Ты совершенно прав. Прежде я целыми днями искал вещи, слова и названия и не мог терпеть, когда мне пытались помочь. – Он уцепился за плащ Снусмумрика и продолжал: – Знаешь, что они говорили мне целыми днями? «Где ты видел это в последний раз?» – «Постарайся вспомнить». – «Когда это случилось?» – «Где это случилось?» Ха-ха! Но теперь с этим покончено. Я забываю и теряю все, что хочу. Скажу тебе…
– Онкельскрут, – сказал Снусмумрик, – по осени рыба ходит у берега, а не на середине реки.
– Ручья, а не реки, – радостно поправил его Онкельскрут. – Это первое разумное слово из всех, что мне довелось услыхать сегодня.
Он тут же побежал к реке, а Снусмумрик продолжал искать. Он искал письмо Муми-тролля, прощальное письмо. Муми-тролль должен был бы его оставить, ведь он никогда не забывает сказать до свидания. Но все тайники были пусты.
Лишь один Муми-тролль знает, как нужно писать письмо Снусмумрику. По-деловому и коротко. Никаких там обещаний, тоски и прочих печальных вещей. А в конце что-нибудь веселое, чтобы можно было посмеяться.
Снусмумрик вошел в дом и поднялся на второй этаж, отвинтил круглый деревянный шарик на лестничных перилах – там тоже ничего не было.
– Пусто! – сказала Филифьонка за его спиной. – Если ты ищешь их драгоценности, то они не здесь. Они в платяном шкафу, а шкаф заперт.
Она сидела на пороге своей комнаты, закутав лапы в одеяло и уткнув мордочку в горжетку.
– Они никогда ничего не запирают.
– Какой холод! – воскликнула Филифьонка. – За что вы меня не любите? Почему не можете придумать для меня какое-нибудь занятие?
– Ты можешь спуститься в кухню, – пробормотал Снусмумрик, – там теплее.
Филифьонка не отвечала. Откуда-то издалека донесся слабый раскат грома.
– Они ничего не запирают, – повторил Снусмумрик.
Снусмумрик подошел к платяному шкафу и отворил дверцу. Шкаф был пуст. Он, не оглядываясь, спустился вниз по лестнице.
Филифьонка медленно поднялась. Она видела, что в шкафу пусто. Но из пыльной темноты шкафа шел отвратительный и странный запах – удушающий и сладковатый запах гнили.
В шкафу не было ничего, кроме съеденной молью шерстяной прихватки для кофейника и мягкого коврика серой пыли. А что это за следы на слое пыли? Крошечные, еле заметные… Что-то жило в шкафу… Нечто вроде того, что ползает на месте сдвинутого камня, что шевелится под сгнившими растениями. Теперь они уползли из этого шкафа – они ползли, шелестя лапками, тихонько позванивая панцирями, шевеля щупальцами, извиваясь на белых мягких животиках…
Она закричала:
– Хомса! Иди сюда!
Хомса вышел из чулана. Растерянный, помятый, он недоуменно смотрел на Филифьонку, словно не узнавал ее. Хомса раздул ноздри – здесь очень сильно пахло электричеством, запах был свежий и резкий.
– Они выползли! – воскликнула Филифьонка. – Они жили здесь и выползли!
Дверца шкафа скрипнула, и Филифьонка увидела, как в нем что-то опасно блеснуло. Она вскрикнула. Но это было всего лишь зеркало на внутренней стороне дверцы. В шкафу же было по-прежнему пусто.
Хомса Тофт подошел ближе, прижав лапы ко рту. Глаза у него стали круглые и черные как уголь. Запах электричества становился все сильнее и сильнее.
– Я выпустил его, – прошептал он, – он был здесь, но я выпустил его.
– Кого ты выпустил? – со страхом спросила Филифьонка.
Хомса покачал головой.
– Я не знаю, – сказал он.
– Но ведь ты, наверно, их видел. Подумай хорошенько, – настаивала Филифьонка. – Как они выглядели?
Но хомса побежал в свой чулан и заперся. Сердце у него сильно стучало, а по спине бегали мурашки. Стало быть, это правда. Зверек пришел сюда. Он здесь, в долине. Хомса открыл книгу на той самой странице и стал читать по складам быстро, как только мог: «Мы имеем основание предполагать, что его конституция приспособится к новым обстоятельствам и освоится в новой среде, после чего создадутся предпосылки для возможности его выживания. Далее существует вероятность, однако это лишь наше предположение, наша гипотеза, что через неопределенное время в результате развития этой особи, причем характер его развития абсолютно неясен, он вступит в фазу нормального роста».
– Ничего не понимаю, – прошептал хомса, – одна болтовня. Если они не поторопятся, он пропадет.
Он лег на книгу, зарыв лапы в волосы, и в отчаянии принялся сбивчиво рассказывать дальше. Он знал, что зверек становится все меньше и меньше и что выжить ему очень трудно.
Гроза подходила все ближе, вспышки молнии сверкали здесь и там. Непрерывно слышался треск электричества, деревья дрожали, и зверек чувствовал: «Вот, вот, наконец-то!» Он все рос и рос. Вот опять засверкали молнии, белые и фиолетовые. Зверек стал еще больше. Он стал уже такой большой, что ему необязательно было принадлежать к какому-нибудь виду.
Тофту стало легче. Он лег на спину и смотрел на окно в потолке, за которым виднелись сплошные серые тучи. Он слышал дальние раскаты грома, похожие на ворчание, идущее глубоко из горла, когда тебя хорошенько разозлят.
Медленно и осторожно спускалась Филифьонка вниз по лестнице. Она думала, что все эти страшилища, скорее всего, держатся вместе, затаились сплошной густой массой в каком-нибудь сыром и темном углу. Или тихо-тихо сидят в какой-нибудь потаенной и гнилой осенней яме. А может быть, все не так! Может, они забрались под кровати, в сапоги или еще куда-то?!
«Какая несправедливость! – думала Филифьонка. – Никто из моих знакомых не попадает в подобные истории. Никто, кроме меня!»
Перепуганная, она помчалась длинными прыжками к палатке, дернула закрытую дверцу и с отчаянием прошептала:
– Открой, открой… Это я, Филифьонка!
Только в палатке она почувствовала себя увереннее. Она опустилась на спальный мешок, обхватила колени лапами и сказала:
– Теперь они вышли на свободу. Их выпустили из платяного шкафа, и сейчас они могут быть где угодно… Миллионы насекомых притаились и ждут…
– А кто-нибудь еще видел их? – осторожно спросил Снусмумрик.
– Конечно нет! – раздраженно ответила Филифьонка. – Ведь это они меня поджидают!
Снусмумрик выколотил свою трубку и попытался найти подходящие слова. Удары грома послышались снова.
– Не вздумай говорить, что сейчас будет гроза, – угрюмо сказала Филифьонка. – Не говори, что насекомые давно уползли, или что их вовсе не было, или что они маленькие и безобидные, – мне это вовсе не поможет.
Снусмумрик взглянул ей прямо в глаза и заявил:
– Есть одно место, куда они никогда не заползут, это кухня. Туда они никогда не явятся.
– Ты в этом уверен? – строго спросила Филифьонка.
– Я это знаю, – заверил Снусмумрик.
Снова ударил гром, теперь уже совсем близко. Снусмумрик взглянул на Филифьонку и ухмыльнулся.
– Все-таки будет гроза, – сказал он.
И действительно, с моря пришла сильная гроза. Блистали белые и фиолетовые молнии, он никогда не видел так много красивых молний. Внезапно долина погрузилась во тьму. Филифьонка подобрала юбки, засеменила через сад к дому и захлопнула за собой кухонную дверь.
Снусмумрик поднял мордочку и принюхался, воздух был холодный, как железо. Пахло электричеством. Теперь молнии струились параллельными столбами света и у самой земли рассыпались на большие дрожащие пучки. Вся долина была пронизана их ослепительным светом! Снусмумрик топал лапами от радости и восхищения. Он ждал шквала ветра и дождя, но они не приходили. Лишь раскаты грома раздавались между горными вершинами, казалось, огромные тяжелые шары катались взад и вперед по небу, и пахло паленым. Вот раздался последний торжествующий аккорд, и все затихло. Наступила полная тишина, молнии больше не сверкали.
«Удивительная гроза, – подумал Снусмумрик, – интересно, куда ударила молния?»
И в тот же миг раздался страшный рев, от которого у Снусмумрика по спине поползли мурашки. Кричали у излучины реки. Неужели молния ударила в Онкельскрута?
Когда Снусмумрик прибежал туда, Онкельскрут подпрыгивал на месте, держа обеими лапами окуня.
– Рыба! Рыба! – орал он. – Я поймал рыбу! Как ты думаешь, что лучше: сварить его или зажарить? А есть здесь коптильня? Может ли кто-нибудь приготовить эту рыбу как следует?
– Филифьонка! – сказал Снусмумрик и засмеялся. – Одна только Филифьонка может приготовить твою рыбу.
На стук Филифьонка высунула свою дрожащую мордочку и пошевелила усиками. Она впустила Снусмумрика, задвинула засов и прошептала: «Мне кажется, я справилась».
Снусмумрик кивнул, он понял, что она имеет в виду не грозу.
– Онкельскрут впервые поймал рыбу, – сказал он. – Правда ли, что только хемули умеют ее готовить?
– Конечно нет! – воскликнула Филифьонка. – Только филифьонки умеют готовить рыбные блюда, и Хемулю это известно.
– Но навряд ли ты сумеешь сделать так, чтобы ее хватило на всех, – грустно возразил Снусмумрик.
– Вот как? Ты так думаешь? – возмутилась Филифьонка и бесцеремонно выхватила у него из лап окуня. – Хотела бы я видеть ту рыбку, которую не смогла бы разделить на шесть персон! – Она распахнула кухонную дверь и серьезно сказала: – А теперь уходи, я не люблю, когда мне мешают во время готовки.
– Ага! – воскликнул Онкельскрут, подглядывавший в дверную щель. – Стало быть, она может готовить! – И вошел в кухню.
Филифьонка опустила рыбу на пол.
– Но ведь сегодня день отца! – пробормотал Снусмумрик.
– Ты уверен в этом? – спросила Филифьонка с сомнением в голосе. Она строго посмотрела на Онкельскрута и спросила: – А у тебя есть дети?
– Нет ни одного ребенка! Я не люблю родственников. У меня есть только правнуки, но их я забыл.
Филифьонка вздохнула:
– Почему никто из вас не может вести себя нормально? С ума сойти можно в этом доме. Уходите оба отсюда и не мешайте мне готовить ужин.
Оставшись одна, она задвинула засов и очистила окуня, забыв обо всем на свете, кроме рецепта, как вкуснее приготовить рыбу.
Эта короткая, но страшная гроза сильно наэлектризовала Мюмлу. От волос ее сыпались искры, и каждая маленькая пушинка на ее лапках встала дыбом и дрожала.
«Теперь я заряжена дикостью, – думала она, – и не стану ничего делать. До чего же приятно делать то, что хочешь». Она свернулась на одеяле из гагачьего пуха – как маленькая шаровая молния, как огненный клубок.
Хомса Тофт стоял на чердаке и смотрел в окно; гордый, восхищенный и немного испуганный, он смотрел, как в Долине муми-троллей сверкают молнии.
«Это моя гроза, – думал Тофт, – я ее сделал. Я наконец научился рассказывать так, что мой рассказ можно увидеть. Я рассказываю о последнем нуммулите, маленькой радиолярии, родственнике семейства Протозоа… Я умею метать гром и молнии, я – хомса, о котором никто ничего не знает». Он уже достаточно наказал Муми-маму этой грозой и решил вести себя тихо и никому, кроме себя, не рассказывать про нуммулита. Ему нет дела до электричества других – у него была своя гроза. Хомсе хотелось, чтобы вся долина была совсем пустой, – тогда у него было бы больше места для мечтаний. Чтобы придать очертания большой мечте, нужны пространство и тишина.
Летучая мышь все еще спала на потолке, ей не было дела до грозы.
– Хомса, иди сюда, помоги-ка мне! – донесся из сада возглас Хемуля.
Хомса вышел из чулана. Притихший, с падающими на глаза волосами, он спустился вниз, и никто не знал, что он держит в своих лапках грозы, бушующие в лесах, тяжелых от дождя.
– Вот это гроза так гроза! Тебе было страшно? – спросил Хемуль.
– Нет, – ответил хомса.
13
Ровно в два часа рыба Филифьонки была готова. Она запрятала ее в большой дымящийся коричневый пудинг. Вся кухня уютно и умиротворенно благоухала едой и стала самым приятным и безопасным местом в мире. Ни насекомые, ни гроза сюда попасть не могли, здесь царила Филифьонка. Страх и головокружение отступили назад, ушли, запрятались в самый дальний уголок ее сердца.
«Какое счастье, – думала Филифьонка, – я больше не смогу заниматься уборкой, но я могу готовить еду. У меня появилась надежда!»
Она открыла дверь, вышла на веранду и взяла блестящий латунный гонг Муми-мамы. Она держала его в лапе и смотрела, как в нем отражалась ее ликующая мордочка, потом взяла колотушку с круглой деревянной головкой, обитой замшей, и ударила. «Динь-дон, динь-дон, динь-дон! – разнеслось по всей долине. – Обед готов! Идите к столу!»
И все прибежали с криком:
– Что такое? Что случилось?
А Филифьонка спокойно ответила:
– Садитесь за стол.
Кухонный стол был накрыт на шесть персон, и Онкельскруту было отведено самое почетное место. Филифьонка знала: он все время стоял у окна и беспокоился, что сделают с его рыбой. И вот Онкельскрута впустили в кухню.
– Обед – это хорошо! – сказала Мюмла. – А то сухарики ванильные никак не идут к огурцам.
– С этого дня, – заявила Филифьонка, – кладовая закрыта. В кухне распоряжаюсь я. Садитесь и ешьте, пока пудинг не остыл.
– А где моя рыба? – спросил Онкельскрут.
– В пудинге, – ответила Филифьонка.
– Но я хочу ее видеть! – жалобно сказал он. – Я хотел, чтобы она была целая, я съел бы ее один!
– Фу, как тебе не стыдно! – возмутилась Филифьонка. – Правда, сегодня день отца, но это не значит, что можно быть таким эгоистом.
Она подумала, что иногда нелегко угождать старикам и следовать всем добрым традициям.
– Я не стану праздновать день отца, – заявил Онкельскрут. – День отца, день матери, день добрых хомс! Я не люблю родственников. Почему бы нам не отпраздновать день больших рыб?
– Но ведь пудинг очень вкусный, – сказал Хемуль с упреком. – И разве мы не сидим здесь как одна большая счастливая семья? Я всегда говорил, что только Филифьонка умеет так вкусно готовить рыбные блюда.
– Ха-ха-ха! – засмеялась польщенная Филифьонка. – Ха-ха-ха! – И взглянула на Снусмумрика.
Ели молча. Филифьонка суетилась между плитой и столом: подкладывала еду на тарелки, наливала сок, добродушно ворчала, когда кто-нибудь проливал сок себе на колени.
– Почему бы нам не прокричать «ура!» в честь дня отца? – вдруг спросил Хемуль.
– Ни за что, – отрезал Онкельскрут.
– Как хотите, – сказал Хемуль, – я только хотел сделать всем приятное. А вы забыли, что Муми-папа тоже отец? – Он серьезно поглядел на каждого из сидевших за столом и добавил: – У меня есть идея: пусть каждый сделает приятный сюрприз к его возвращению.
Все промолчали.
– Снусмумрик может починить мостки у купальни, – продолжал Хемуль. – Мюмла может выстирать одежду, а Филифьонка сделает генеральную уборку…
Филифьонка даже уронила тарелку на пол.
– Ни за что! – закричала она. – Я больше никогда не буду делать уборку!
– Почему? – удивилась Мюмла. – Ведь ты любишь наводить чистоту.
– Не помню почему, – ответила Филифьонка.
– Совершенно верно, – заметил Онкельскрут, – нужно забывать обо всем, что тебе неприятно. Ну, я пойду порыбачу и, если поймаю еще одну рыбу, съем ее один. – И пошел, не сняв с шеи салфетку.
– Спасибо за обед, – поблагодарил хомса и шаркнул лапкой.
А Снусмумрик вежливо добавил:
– Пудинг был очень вкусный.
– Я рада, что тебе понравилось, – сказала Филифьонка рассеянно. Она думала о другом.
Снусмумрик зажег свою трубку и медленно направился вниз к морю. В первый раз он почувствовал себя одиноким. Подойдя к купальне, он распахнул узкую рассохшуюся дверь. Пахнуло плесенью, водорослями и летним теплом. Запах наводил тоску.
«Ах вы, дома! – подумал Снусмумрик. Он сел на крутую лесенку, ведущую к воде. Перед ним лежало море, спокойное, серое, без единого островка. – Может, не так уж трудно найти Муми-тролля и вернуть домой. Острова есть на карте. Но зачем? – думал Снусмумрик. – Пусть себе прячутся. Может, они хотят, чтобы их оставили в покое».
Снусмумрик больше не искал пять тактов, решив, что они придут сами, когда захотят. Ведь есть и другие песни. «Может быть, я поиграю немного сегодня вечером», – подумал он.
Стояла поздняя осень, и вечера были очень темные. Филифьонка не любила ночь. Нет ничего хуже – смотреть в полный мрак, это все равно что идти в неизвестность совсем одной. Поэтому она всегда быстро-быстро выставляла ведро с помоями на кухонное крыльцо и захлопывала дверь.
Но в этот вечер Филифьонка задержалась на крылечке. Она стояла, вслушиваясь в темноту. Снусмумрик играл в своей палатке. Это была красивая и странная мелодия. Филифьонка была музыкальна, хотя ни она сама, ни другие об этом не знали. Она слушала затаив дыхание, забыв про страх. Высокая и худая, она отчетливо выделялась на фоне освещенной кухни и была легкой добычей для ночных страшилищ. Однако ничего с ней не случилось. Когда песня умолкла, Филифьонка глубоко вздохнула, поставила ведро с помоями и вернулась в дом. Выливал помои хомса.
Сидя в чулане, хомса Тофт рассказывал: «Зверек притаился, съежившись, за большим горшком у грядки с табаком для Муми-папы и ждал. Он ждал, когда станет наконец большим, когда не надо будет огорчаться и ни с кем считаться, кроме себя самого. Конец главы».
14
Само собой разумеется, что ни в маминой, ни в папиной комнатах никто не спал. Окно маминой комнаты выходило на восток, потому что она очень любила утро, а папина комната была обращена на запад – он любил помечтать, глядя на вечернее небо.
Однажды в сумерках Хемуль прокрался в папину комнату и почтительно остановился в дверях. Это было небольшое помещение со скошенным потолком – прекрасное место для уединения. Голубые стены комнаты украшали ветки странной формы, на одной стене висел календарь с изображением разбитого корабля, а над кроватью была помещена дощечка с надписью: «Хайг. Виски». На комоде лежали забавные камешки, золотой слиток и множество всяких мелочей, которые оставляешь, когда собираешься в дорогу. Под зеркалом стояла модель маяка с остроконечной крышей, маленькой деревянной дверью и оградой из латунных гвоздей под фонарем. Тут был даже переносной трап, который Муми-папа сделал из медной проволоки. В каждое окошечко он вклеил серебряную бумажку.
Хемуль внимательно разглядывал все это, и все попытки вспомнить Муми-папу были напрасными. Тогда Хемуль подошел к окну и поглядел на сад. Ракушки, окаймлявшие мертвые клумбы, светились в сумерках, а небо на западе пожелтело. Большой клен на фоне золотого неба был черный, будто из сажи. Хемулю представлялась такая же картина в осенних сумерках, что и Муми-папе.
И тут же Хемуль понял, что ему надо делать. Он построит для папы дом на большом клене! Он засмеялся от радости. Ну конечно же – дом на дереве! Высоко над землей, где будет привольно и романтично, между мощными черными ветвями, подальше от всех. На крышу он поставит сигнальный фонарь на случай шторма. В этом домике они с папой будут сидеть вдвоем, слушать, как зюйд-вест колотится в стены, и беседовать обо всем на свете, наконец-то бе-се-до-вать. Хемуль выбежал в сени и закричал: «Хомса!»
Хомса тотчас вышел из чулана.
– Когда хотят сделать что-то толковое, – пояснил Хемуль, – то всегда один строит, другой носит доски, один забивает новые гвозди, а другой вытаскивает старые. Понятно?
Хомса молча смотрел на него. Он знал, что именно ему отведена роль «другого».
В дровяном сарае лежали старые доски и рейки, которые семья муми-троллей собирала на берегу. Хомса начал вытаскивать гвозди. Посеревшее от времени дерево было плотное и твердое, ржавые гвозди крепко сидели в нем. Из сарая Хемуль пошел к клену, задрал морду вверх и стал думать.
А хомса, не разгибая спины, продолжал вытаскивать гвозди. Солнечный закат стал желтый, как огонь, а потом стал темнеть. Хомса рассказывал сам себе про зверька. Он рассказывал все лучше и лучше, теперь уже не словами, а картинками. Слова опасны, а зверек приблизился к очень важному моменту своего развития – он начал изменять свой вид, преображаться. Он уже больше не прятался, он оглядывал все вокруг и прислушивался. Он полз по лесной опушке, очень настороженный, но вовсе не испуганный…
– Тебе нравится вытаскивать гвозди? – спросила Мюмла за его спиной. Она сидела на чурбане для колки дров.
– Что? – спросил хомса.
– Тебе не нравится вытаскивать гвозди, а ты все же делаешь это. Почему?
Хомса смотрел на нее и молчал. От Мюмлы пахло мятой.
– И Хемуль тебе не нравится, – продолжала она.
– Разве? – возразил хомса и тут же стал думать, нравится ему Хемуль или нет.
А Мюмла спрыгнула с чурбана и ушла. Сумерки быстро сгущались, над рекой поднялся туман. Стало очень холодно.
– Открой! – закричала Мюмла у кухонного окна. – Я хочу погреться в твоей кухне!
В первый раз Филифьонке сказали «в твоей кухне», и она тут же открыла дверь.
– Можешь посидеть на моей кровати, – разрешила она, – только смотри не изомни покрывало.
Мюмла свернулась в клубок на постели, втиснутой между плитой и мойкой, а Филифьонка нашла мешочек с хлебными корочками, которые семья муми-троллей высушила для птиц, и стала готовить завтрак. В кухне было тепло, в плите потрескивали дрова, и огонь бросал на потолок пляшущие тени.
– Теперь здесь почти так же, как раньше, – сказала Мюмла задумчиво.
– Ты хочешь сказать, как при Муми-маме? – неосторожно уточнила Филифьонка.
– Вовсе нет, – ответила Мюмла, – это я про плиту.
Филифьонка продолжала возиться с завтраком. Она ходила по кухне взад и вперед, стуча каблуками. На душе у нее вдруг стало тревожно.
– А как было при Муми-маме?
– Мама обычно посвистывала, когда готовила, – сказала Мюмла. – Порядка особого не было. Иной раз они брали еду с собой и уезжали куда-нибудь. А иногда и вовсе ничего не ели. – Мюмла закрыла голову лапой и приготовилась спать.
– Уж я, поди, знаю маму гораздо лучше, чем ты, – отрезала Филифьонка.
Она смазала форму растительным маслом, плеснула туда остатки вчерашнего супа и незаметно сунула несколько сильно переваренных мятых картофелин. Волнение закипало в ней все сильнее и сильнее. Наконец она подскочила к спящей Мюмле и закричала:
– Если бы ты знала то, что известно мне, ты не спала бы без задних лап!
Мюмла проснулась и молча уставилась на Филифьонку.
– Ты ничего не знаешь! – зашептала Филифьонка с остервенением. – Не знаешь, кто вырвался на свободу в этой долине. Ужасные существа выползли из платяного шкафа, расползлись во все стороны. И теперь они притаились повсюду!
Мюмла села на постели и спросила:
– Значит, поэтому ты налепила липкую бумагу на сапоги? – Она зевнула, потерла мордочку и направилась к двери. В дверях она обернулась: – Не стоит волноваться. В мире нет ничего страшнее нас самих.
– Она не в духе? – спросил Мюмлу Онкельскрут в гостиной.
– Она боится, – ответила Мюмла и поднялась по лестнице. – Она боится чего-то, что прячется в шкафу.
За окном теперь было совсем темно. Все обитатели дома с наступлением темноты ложились спать и спали очень долго, все дольше и дольше, потому что ночи становились длиннее и длиннее. Хомса Тофт выскользнул откуда-то как тень и промямлил:
– Спокойной ночи.
Хемуль лежал, повернувшись мордой к стене. Он решил построить купол над папиной беседкой. Его можно выкрасить в зеленый цвет, а можно даже нарисовать золотые звезды. У мамы в комоде обычно хранилось сусальное золото, а в сарае он видел бутыль с бронзовой краской.
Когда все уснули, Онкельскрут поднялся со свечой наверх. Он остановился у большого платяного шкафа и прошептал:
– Ты здесь? Я знаю, что ты здесь. – И очень осторожно потянул за дверцу. Она вдруг неожиданно распахнулась. На ее внутренней стороне было зеркало.
Маленькое пламя свечи слабо освещало темную прихожую, но Онкельскрут ясно и отчетливо увидел перед собой предка. В руках у него была палка, на голове шляпа, и выглядел он ужасно неправдоподобно. Он был без очков. Онкельскрут сделал шаг назад, и предок сделал то же самое.
– Вот как, стало быть, ты не живешь больше в печке, – сказал Онкельскрут. – Сколько тебе лет? Ты никогда не носишь очки?
Он был очень взволнован и стучал палкой по полу в такт каждому своему слову. Предок делал то же самое, но ничего не отвечал.
«Он глухой, – догадался Онкельскрут, – глухой как пень. Старая развалина! Но во всяком случае приятно встретиться с тем, кто понимает, каково чувствовать себя старым».
Он долго стоял и смотрел на предка. Под конец он приподнял шляпу и поклонился. Предок сделал то же самое. Они расстались со взаимным уважением.
15
Дни стали короче и холоднее. Дождь шел редко. Иногда выглядывало солнце, и голые деревья бросали длинные тени на землю, а по утрам и вечерам все погружалось в полумрак, затем наступала темнота. Они не видели, как заходит солнце, но видели желтое закатное небо и резкие очертания гор вокруг, и им казалось, что они живут на дне колодца.
Хемуль и хомса строили беседку для папы. Онкельскрут рыбачил, и теперь ему удавалось поймать примерно по две рыбы в день, а Филифьонка начала посвистывать. Это была осень без бурь, большая гроза не возвращалась, лишь откуда-то издалека доносилось ее слабое ворчанье, отчего тишина, царившая в долине, становилась еще более глубокой. Кроме хомсы, никто не знал, что с каждым раскатом грома зверек вырастал, набирался силы и храбрости. Он и внешне сильно изменился. Однажды вечером при желтом закатном свете он склонился над водой и впервые увидел свои белые зубы. Он широко разинул рот, потом стиснул зубы и заскрипел, правда, совсем немножко, и при этом подумал: «Мне никто не нужен, я сам зубастый».
Теперь Тофт старался не думать о зверьке – он знал, что зверек продолжает расти уже сам по себе.
Тофту было очень трудно засыпать по вечерам, не рассказав что-нибудь себе самому, ведь он так привык к этому. Он все читал и читал свою книгу, а понимал все меньше и меньше. Теперь шли рассуждения о том, как зверек выглядит внутри, и это было очень скучно и неинтересно.
Однажды вечером в чулан постучала Филифьонка.
– Привет, дружок! – сказала она, осторожно приоткрыв дверь.
Хомса поднял глаза от книги и молча выжидал.
Филифьонка уселась на пол рядом с ним и, склонив голову набок, спросила:
– Что ты читаешь?
– Книгу, – ответил Тофт.
Филифьонка глубоко вздохнула, придвинулась поближе к нему и спросила:
– Наверно, нелегко быть маленьким и не иметь мамы?
Хомса еще ниже напустил волосы на глаза, словно хотел в них спрятаться, и ничего не ответил.
Филифьонка протянула было лапу, хотела его погладить, но тут же отдернула ее.
– Вчера вечером я вдруг подумала о тебе, – сказала она искренне. – Как тебя зовут?
– Тофт, – ответил хомса.
– Тофт, – повторила Филифьонка. – Красивое имя. – Она отчаянно подыскивала подходящие слова и сожалела, что так мало знала о детях и не очень-то любила их. Потом спросила: – Ведь тебе тепло? Тебе хорошо здесь?
– Да, спасибо, – ответил хомса Тофт.
Филифьонка всплеснула лапами, попыталась заглянуть ему в мордочку и спросила умоляюще:
– Ты совершенно уверен в этом?
Хомса попятился. От нее пахло страхом.
– Может быть… – торопливо сказал он, – мне бы одеяло…
Филифьонка вскочила.
– Сейчас принесу! – воскликнула она. – Подожди немного. Сию минуту…
Он слышал, как она сбегала вниз по лестнице и потом поднималась снова. Когда она вошла в чулан, в лапах у нее было одеяло.
– Большое спасибо, – поблагодарил хомса и шаркнул лапой. – Какое хорошее одеяло.
Филифьонка улыбнулась.
– Не за что! – сказала она. – Муми-мама сделала бы то же самое. – Она опустила одеяло на пол, постояла еще немного и ушла.
Хомса как можно аккуратнее свернул ее одеяло и положил его на полку. Он заполз в бредень и попытался читать дальше. Ничего не вышло. Тогда он захлопнул книгу, погасил свет и вышел из дома.
Стеклянный шар он нашел не сразу. Хомса пошел не в ту сторону, долго плутал между стволов деревьев, словно был в саду первый раз. Наконец он увидел шар. Голубой свет в нем погас; сейчас шар был наполнен туманом, густым и темным туманом, почти таким же непроглядным, как сама ночь! За этим волшебным стеклом туман быстро мчался, исчезал, засасывался вглубь, кружился темными кольцами.
Хомса пошел дальше по берегу реки мимо папиной табачной грядки. Он остановился под еловыми ветвями возле большой топи, вокруг шелестел сухой камыш, а его сапожки вязли в болоте.
– Ты здесь? – осторожно спросил он. – Как ты чувствуешь себя, малыш нуммулит?
В ответ из темноты послышалось злое ворчанье зверька.
Хомса повернулся и в ужасе бросился бежать. Он бежал наугад, спотыкался, падал, поднимался и снова мчался. У палатки он остановился. Она спокойно светилась в ночи, словно зеленый фонарик. В палатке сидел Снусмумрик, он играл сам для себя.
– Это я, – прошептал хомса, входя в палатку.
Он никогда раньше здесь не был. Внутри приятно пахло трубочным табаком и землей. На баночке с сахаром горела свеча, а на полу было полно щепок.
– Из этого я смастерю деревянную ложку, – сказал Снусмумрик. – Ты чего-то испугался?
– Семьи муми-троллей больше нет. Они меня обманули.
– Не думаю, – возразил Снусмумрик. – Может, им просто нужно немного отдохнуть. – Он достал свой термос и наполнил чаем две кружки. – Бери сахар, – сказал он, – они вернутся домой когда-нибудь.
– Когда-нибудь! – воскликнул хомса. – Они должны вернуться сейчас, только одна она нужна мне, Муми-мама!
Снусмумрик пожал плечами. Он намазал два бутерброда и сказал:
– Не знаю, любит ли мама кого-нибудь из нас.
Хомса не промолвил больше ни слова. Уходя, он слышал, как Снусмумрик кричит ему вслед:
– Не делай из мухи слона!
Снова послышались звуки губной гармошки. На кухонном крыльце хомса увидел Филифьонку. Она стояла возле ведра с помоями и слушала. Хомса осторожно обошел ее и незаметно проскользнул в дом.
16
На другой день Снусмумрика пригласили на воскресный обед. В четверть третьего гонг Филифьонки позвал всех к обеду. В половине третьего Снусмумрик воткнул в шляпу новое перо и направился к дому. Кухонный стол был вынесен на лужайку, и Хемуль с хомсой расставляли стулья.
– Это пикник, – мрачно пояснил Онкельскрут. – Она говорит, что сегодня мы можем делать все, что нам вздумается.
Вот Филифьонка разлила по тарелкам овсяный суп. Дул холодный ветер, и суп покрывался пленкой жира.
– Ешь, не стесняйся, – сказала Филифьонка и погладила хомсу по голове.
– Почему это мы должны обедать на дворе? – жаловался Онкельскрут, показывая на жирную пленку в тарелке.
– Жир тоже нужно съесть, – приказала Филифьонка.
– Почему бы нам не уйти на кухню? – затянул опять Онкельскрут.
– Иногда люди поступают, как им вздумается, – отвечала Филифьонка, – берут еду с собой или просто не едят! Для разнообразия!
Обеденный стол стоял на неровном месте, и Хемуль, боясь пролить суп, держал свою тарелку двумя лапами.
– Меня кое-что волнует, – сказал он. – Купол получается нехорошим. Хомса выпилил неровные доски. А когда их начинаешь подравнивать, они получаются короче и падают вниз. Вы понимаете, что я имею в виду?
– А почему бы не сделать просто крышу? – предложил Снусмумрик.
– Она тоже упадет, – сказал Хемуль.
– Терпеть не могу жирную пленку на овсяном супе, – не успокаивался Онкельскрут.
– Есть другой вариант, – продолжал Хемуль, – вовсе не делать крышу. Я вот тут сидел и думал, что папа, может быть, захочет смотреть на звезды, а? Как вы думаете?
– Это ты так думаешь! – вдруг закричал Тофт. – Откуда тебе знать, что папа захочет?
Все разом перестали есть и уставились на хомсу.
Хомса вцепился в скатерть и закричал:
– Ты делаешь только то, что тебе нравится! Зачем ты делаешь такие громоздкие вещи?
– Нет, вы только посмотрите, – удивленно сказала Мюмла, – хомса показывает зубы.
Хомса так резко вскочил, что опрокинул стул, и, сгорая от смущения, залез под стол.
– Это хомса-то, такой славный, – холодно сказала Филифьонка.
– Послушай, Филифьонка, – серьезно заявила Мюмла, – я не думаю, что можно стать Муми-мамой, если вынесешь кухонный стол на двор.
И Филифьонка вскипела.
– Только и знаете: «Мама – то, мама – это!» – кричала Филифьонка, вскакивая из-за стола. – И что в ней такого особенного? Разве это порядочная семья? Даже в доме не хотят наводить чистоту, хотя и могут. И даже самой маленькой записочки не пожелали оставить, хотя знали, что мы… – Она беспомощно замолчала.
– Записка! – вспомнил Онкельскрут. – Я видел письмо, но куда-то его запрятал.
– Куда? Куда ты его запрятал? – спросил Снусмумрик.
Теперь уже все встали из-за стола.
– Куда-то, – пробормотал Онкельскрут. – Я, пожалуй, пойду опять ловить рыбу, ненадолго. Этот пикник мне не нравится. В нем нет ничего веселого.
– Ну вспомни же, – просил Хемуль. – Подумай. Мы тебе поможем. Где ты видел письмо в последний раз? Подумай, куда бы ты его спрятал, если б нашел сейчас?
– Я в отпуске, – упрямо ответил Онкельскрут, – и я могу забывать все, что хочу. Забывать очень приятно. Я собираюсь забыть все, кроме некоторых мелочей, которые очень важны. А сейчас я пойду и потолкую с моим другом – предком. Он то знает. Вы только предполагаете, а мы знаем.
Предок выглядел так же, как в прошлый раз, но сейчас у него на шее была повязана салфетка.
– Привет! – сказал Онкельскрут, покачав головой и притопывая. – Я ужасно огорчен. Ты знаешь, что они мне сделали? – Он немного помолчал. Предок тоже покачивал головой и притопывал. – Ты прав, – продолжал Онкельскрут, – они испортили мне отпуск. Я, понимаешь, горжусь тем, что мне удалось так много всего забыть, а теперь вдруг, извольте, велят вспомнить! У меня болит живот. Я так зол, что у меня заболел живот.
В первый раз Онкельскрут вспомнил про свои лекарства, но он забыл, куда их подевал.
– Они были в корзинке, – повторил Хемуль. – Он говорил, что лекарства у него в корзинке. Но корзинки в гостиной нет.
– Может быть, он забыл ее где-нибудь в саду, – сказала Мюмла.
– Он говорит, что это мы виноваты! – закричала Филифьонка. – При чем тут я? А я-то еще угощала его горячим смородиновым соком, который ему так нравится! – Она покосилась на Мюмлу и добавила: – Я знаю, что Муми-мама подогревала сок, когда кто-нибудь болел. Но я все-таки сварила его на всякий случай.
– Прежде всего я прошу всех успокоиться, – заявил Хемуль, – и я скажу, что каждому нужно делать. Стало быть, речь идет о бутылочках с лекарствами, бутылочке коньяку, письме и восьми парах очков. Мы разделим сад и дом на квадраты, и каждый из нас…
– Да, да, да, – поддакнула Филифьонка. Она заглянула в гостиную и с тревогой спросила: – Как ты себя чувствуешь?
– Неважно, – отвечал Онкельскрут. – Как можно себя чувствовать, когда тебе предлагают суп с жирной пленкой и не дают ничего спокойно забывать? – Он лежал на диване, укрывшись целым ворохом одеял, на голове у него была шляпа.
– Сколько тебе лет, собственно говоря? – осторожно спросила Филифьонка.
– Умирать я пока не собираюсь, – весело заявил он, – а тебе-то самой сколько лет?
Филифьонка исчезла. Повсюду в доме открывались и закрывались двери, из сада доносились крики и беготня. Все думали только об Онкельскруте.
«Эта корзинка может оказаться где угодно», – думал Онкельскрут беспечно. В животе у него больше не крутило.
Вошла Мюмла и примостилась к нему на край дивана.
– Послушай, Онкельскрут, – сказала она, – ты такой же здоровый, как я. Ничего у тебя не болит, сам знаешь.
– Возможно, – отвечал он. – Но я не встану до тех пор, пока мне не устроят праздник. Совсем маленький праздник для такого пожилого, как я, который справился с болезнью!
– Или большой праздник для Мюмлы, которая хочет танцевать! – тактично добавила Мюмла.
– Ничего подобного! Огромный праздник для меня и предка! Он уже сто лет ничего не праздновал. Сидит себе в шкафу и горюет.
– Если ты веришь этому, значит, можешь верить чему угодно, – сказала Мюмла, ухмыляясь.
– Нашел, нашел! – закричал за окном Хемуль. Двери распахнулись, все сбежались в гостиную, сгорая от любопытства. – Корзина была под верандой! – радостно объяснил Хемуль. – А лекарство стояло на другом берегу реки.
– Ручья, – поправил Онкельскрут. – Сначала подайте мне лекарство.
Филифьонка налила ему капельку в стакан, и все внимательно следили за тем, как он пьет.
– Может, ты съешь по одной таблетке из каждого пакетика? – спросила Филифьонка.
– И не собираюсь, – ответил Онкельскрут и со вздохом откинулся на подушки. – Только не вздумайте говорить мне неприятные вещи. Я все равно не смогу окончательно выздороветь, пока мне не устроят праздник…
– Снимите с него ботинки, – сказал Хемуль. – Тофт, сними с него ботинки. Это первое, что нужно сделать, когда болит живот.
Хомса расшнуровал Онкельскруту ботинки и снял их. Из одного ботинка он вытащил скомканную белую бумажку.
– Письмо! – закричал Снусмумрик. Он осторожно расправил бумажку и прочитал: – «Будьте добры, не топите кафельную печь, там живет предок. Муми-мама».
17
Филифьонка старалась не думать об удивительных существах, что жили в шкафу, и пыталась отвлечься, забыться за делами. Но по ночам она слышала слабые, еле различимые шорохи, иногда – как кто-то нетерпеливо скребется по плинтусу. А однажды у ее изголовья тикали часы, предвещавшие смерть.
Самый приятный момент за целый день наступал для нее, когда она ударяла в гонг, созывая всех к столу, и когда выставляла в темноте на крыльцо помойное ведро. Снусмумрик играл почти каждый вечер, и Филифьонка хорошо запомнила все его мелодии. Однако она насвистывала их, лишь когда была уверена, что ее никто не слышит.
Однажды вечером Филифьонка сидела на кровати и думала, какой бы ей найти предлог, чтобы не ложиться спать.
– Ты спишь? – спросила Мюмла за дверью и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. – Мне нужна дождевая вода – вымыть голову, – сказала она.
– Еще чего! – ответила Филифьонка. – По-моему, речной водой мыть ничуть не хуже. Возьми из среднего ведра. А это вода из источника. Выполощешь дождевой. Да не лей на пол.
– Я вижу, ты пришла в себя, – заметила Мюмла, ставя воду на огонь. – Между прочим, такая ты намного симпатичнее. Я явлюсь на праздник с распущенными волосами.
– На какой это праздник? – резко спросила Филифьонка.
– В честь Онкельскрута, – ответила Мюмла. – Разве ты не знаешь, что мы завтра устроим праздник в кухне?
– Вот оно что! Это для меня новость! – воскликнула Филифьонка. – Спасибо, что сказала! Стало быть, праздник, который устраивают, оказавшись вместе, отрезанные от мира, сметенные ветром жизни в один стог. А в самый разгар праздника гаснет свет, и, когда его зажигают снова, видят, что в доме одним гостем меньше…
Мюмла с любопытством уставилась на Филифьонку.
– Иногда ты меня удивляешь. Недурно сказано. А потом исчезают один за другим, и под конец остается лишь один кот, что сидит и умывает лапой рот на их могиле!
Филифьонка вздрогнула:
– Вода, должно быть, уже согрелась. А кота у нас нет.
– Его нетрудно раздобыть, – сказала, ухмыльнувшись, Мюмла. – Стоит только пофантазировать немного, и будет тебе кот. – Она сняла кастрюлю с огня и открыла дверь локтем. – Спокойной ночи, – сказала она, – и не забудь уложить волосы. Хемуль сказал, что ты сумеешь украсить кухню, что у тебя артистический вкус. – Тут Мюмла ушла, проворно закрыв дверь ногой.
Сердце Филифьонки сильно стучало. У нее хороший вкус! Хемуль сказал, что у нее артистический вкус. Какое прекрасное слово! Она повторила его много раз про себя.
Филифьонка взяла керосиновую лампу и отправилась в ночной тишине искать украшения в стенном шкафу над маминым гардеробом. Картонки с бумажными фонариками и лентами стояли на своем обычном месте на самом верху в правом углу. Они были нагромождены одна на другую и закапаны стеарином. Пасхальные украшения, старые поздравительные открытки «С днем рождения!». На них сохранились надписи: «Моему любимому папе», «Дорогой Хемуль, поздравляю тебя с днем рождения», «Мы крепко любим свою дорогую крошку Мю», «Сердечно желаем тебе, Гафса, успехов в жизни». Видно, Гафсу они не так сильно любили, как Мю. А вот и бумажные гирлянды. Филифьонка снесла их вниз в кухню и разложила на столике для мытья посуды. Она смочила волосы, накрутила их на бигуди. При этом она все время насвистывала один мотив, очень точно и правильно, о чем сама не подозревала.
Хомса Тофт слышал, как они говорили о празднике, который Хемуль называл вечеринкой. Он знал, что каждый должен будет выступить, и догадывался, что на вечеринке нужно быть общительным и приятным для всей компании. Он себя приятным не считал и хотел одного – чтобы его оставили в покое. Он пытался понять, отчего так разозлился тогда за воскресным обедом. Тофта пугало, что в нем жил какой-то совсем другой хомса, вовсе ему незнакомый, который может в один прекрасный день снова появиться и осрамить его перед всеми. После того воскресенья Хемуль один строил свой дом на дереве. Он больше не кричал на хомсу. И обоим им было неловко.
«Как это я мог так сильно разозлиться на него? – рассуждал Тофт. – Злиться было вовсе не за что. Ведь раньше я ничего подобного за собой не замечал. А тут злость поднялась во мне до краев и обрушилась водопадом. А ведь я всегда был таким добрым».
И добрый хомса отправился к реке за водой. Он наполнил ведро и поставил его у палатки. В палатке сидел Снусмумрик и мастерил деревянную ложку, а может, и ничего не делал, просто молчал с умным видом. Все, что Снусмумрик делал и говорил, казалось умным и рассудительным. Наедине с собой Тофт признавал, что ему не всегда понятно сказанное Снусмумриком, но идти к нему и спрашивать о чем-нибудь не решался. Ведь Снусмумрик иной раз вовсе не отвечает на вопрос, знай говорит себе про чай да про погоду. А то прикусит трубку и издаст неприятный неопределенный звук, и тебе начинает казаться, что ты сморозил какую-нибудь глупость.
«Не пойму, почему это они так им восхищаются, – думал хомса, направляясь в сад. – Конечно, то, что он курит трубку, выглядит внушительно. А может, на них производит впечатление, что он уходит, не говоря ни слова, и запирается в своей палатке. Но я ведь тоже ухожу и запираюсь, а это ни на кого не производит впечатления. Видно, потому, что я такой маленький. – Хомса долго бродил по саду в раздумьях. – Мне не нужны друзья, которые приветливы, хотя им нет до тебя дела и они просто боятся выглядеть нелюбезными. И трусливые друзья мне не нужны. Я хочу быть с тем, кто никогда ничего не боится, с тем, кто бы меня любил, я хочу, чтобы у меня была мама!»
Он не заметил, как подошел к большим воротам. Осенью они казались мрачными, здесь можно было спрятаться и ждать. Но хомса чувствовал, что зверька здесь больше нет. Он ушел своей дорогой. Поскрипел своими новыми зубами и ушел. А ведь это хомса Тофт дал зверьку зубы. Когда хомса проходил мимо Онкельскрута, тот проснулся и крикнул: «У нас будет праздник! Большой праздник в мою честь!»
Хомса попробовал было проскользнуть мимо, но Онкельскрут поймал его своей клюкой.
– Послушай-ка меня, – сказал он. – Я сказал Хемулю, что предок – мой лучший друг, что он не был на празднике целых сто лет и что его обязательно нужно пригласить! В качестве почетного гостя! Хемуль обещал. Но я говорю вам всем, что мне без предка праздника не надо! Тебе ясно?
– Да, – промямлил хомса. – Ясно. – Но сам думал о своем зверьке.
На веранде, освещенной слабыми солнечными лучами, сидела Мюмла и расчесывала волосы.
– Привет, хомсочка, – сказала она, – ты приготовил свой номер?
– Я ничего не умею, – уклончиво ответил хомса.
– Иди-ка сюда, – подозвала его Мюмла, – тебя нужно причесать.
Хомса послушно приблизился, и Мюмла принялась расчесывать его спутанные волосы.
– Если бы ты причесывался хотя бы десять минут в день, волосы у тебя были бы совсем неплохие. Они послушные, и цвет у них приятный. Так ты утверждаешь, что ничего не умеешь? Однако разозлиться ты сумел. Только потом залез под стол и все испортил.
Хомса не двигался, ему нравилось, что его причесывают.
– Мюмла, – робко спросил он, – куда бы ты отправилась, если бы ты была большим злым зверем?
Мюмла тут же ответила:
– Подальше от моря. В тот реденький лесок позади кухни. Они всегда ходили туда, когда были не в духе.
– Ты хочешь сказать, когда ты не в духе?
– Нет, я говорю про семью муми-троллей. Когда кто-нибудь из них злился или был в плохом настроении, то, чтобы его оставили в покое, отправлялся в этот лесок.
Хомса сделал шаг назад и закричал:
– Это неправда! Они никогда не злились!
– Стой спокойно! – сказала Мюмла. – Ты думаешь, я могу причесывать тебя, когда ты вот так прыгаешь? А еще я скажу тебе, что иной раз и папа, и мама, и Муми-тролль ужасно надоедали друг другу. Ну иди же сюда.
– Не пойду! – воскликнул хомса. – Мама вовсе не такая! Она всегда добрая и хорошая! – И выбежал, громко хлопнув дверью.
Мюмла просто дразнит его. Она ничего не знает про маму. Не знает, что мама никогда не бывает злой.
Филифьонка повесила последнюю гирлянду – синюю – и оглядела свою кухню. Это была самая закопченная, самая грязная на свете кухня, зато художественно украшенная. Сегодня они будут ужинать на веранде раньше обычного. Сначала она подаст горячую уху, а в семь часов – горячие сэндвичи с сыром и яблочный сок. Вино она отыскала в папином шкафу, а банку с сырными корочками – на верхней полке в кладовке. На банке была наклейка: «Для лесных мышей».
Тихонько насвистывая, Филифьонка изящными движениями разложила салфетки – каждая салфетка была сложена в виде лебедя (Снусмумрику она, разумеется, салфетку не положила, он ими не пользовался). На ее лоб падали крутые завитки, и было заметно, что брови у нее накрашены. Ничто не скреблось за обоями, ничто не скреблось за плинтусами, и таинственные часы перестали тикать. Сейчас ей было не до них, ей надо было думать о своей программе. Она устроит театр теней «Возвращение семейства муми-троллей». «Это будет очень интересно и всем понравится», – подумала она. Она закрыла дверь в гостиную, а кухонную дверь заперла на задвижку. Потом положила лист картона на кухонный стол и стала рисовать. Она нарисовала лодку, в которой сидело четверо: двое взрослых, один подросток, а третий совсем малыш. Самый маленький сидел у руля. Рисунок вышел не совсем такой, как хотелось бы Филифьонке, но переделывать она не стала. Все равно идея была ясна. Закончив рисунок, она вырезала его и прикрепила гвоздиками к палке от метлы. Филифьонка работала быстро и уверенно и при этом все время насвистывала, причем не песенки Снусмумрика на свои собственные мотивы. Между прочим, она насвистывала гораздо лучше, чем рисовала или прибивала свои рисунки к палке. Наступили сумерки, и она зажгла лампу. Сегодня ей не было грустно, она была полна приятных ожиданий. Лампа бросала на стену слабый свет, Филифьонка подняла метлу с силуэтом семьи муми-троллей, сидящих в лодке, и на обоях появилась тень. А теперь нужно прикрепить на стену простыню – белый экран, на котором силуэт поплывет по морю.
– Открой дверь! – закричал Онкельскрут за дверью гостиной.
Филифьонка чуть приоткрыла дверь и сказала в щелочку: «Еще слишком рано!»
– У меня важное дело! – прошептал Онкельскрут. – Я пригласил предка, положи приглашение в шкаф. А вот это нужно поставить возле почетного места. – Он сунул в дверь большой мокрый букет – цветы с листьями и мхом.
Филифьонка глянула на увядшие растения и сделала гримасу:
– Чтобы никаких бактерий у меня на кухне!
– Но ведь это кленовые листья! Я их вымыл в ручье, – возразил Онкельскрут.
– Бактерии любят воду, – отрезала Филифьонка. – Ты принял лекарства?
– Неужели ты считаешь, что в праздник нужно принимать лекарства? – воскликнул Онкельскрут с презрением. – Я забыл про них. А знаешь, что случилось? Я опять потерял свои очки.
– Поздравляю, – сухо заметила Филифьонка. – Предлагаю тебе послать букет прямо в шкаф, это будет вежливее.
И она хлопнула дверью, правда, не очень громко.
18
И вот фонарики зажглись, красные, желтые и зеленые, они мягко отражались в черных оконных стеклах. Гости собрались в кухне, торжественно здоровались друг с другом и усаживались за стол. А Хемуль, стоя у спинки своего стула, сказал:
– Сегодня у нас праздник в честь семьи муми-троллей. Прошу вашего позволения открыть его стихотворением, которое я написал по этому случаю и посвятил его Муми-папе.
Он взял листок бумаги и с большим чувством прочел:
Скажи мне, что есть счастье – тихая река, пожатье лапы или мирный вечер? Выплыть из тины, ила, тростника морскому ветру свежему навстречу? А что есть жизнь – мечта или волна? Большой поток иль туча грозовая? Вновь странной нежностью душа моя полна, но что мне делать с нею, я не знаю. Мир многолик, и он меня гнетет. Сжать твердо лапой руль – когда же сей счастливый миг придет? Хемуль, Муми-дален, декабрьВсе зааплодировали.
– «Сей миг», – повторил Онкельскрут, – как приятно. Помню, так говорили, когда я был маленький.
– Одну минутку! – сказал Хемуль. – Это не мне нужно аплодировать. Давайте помолчим полминуты в знак благодарности к семье муми-троллей. Мы едим их припасы, вернее, то, что они оставили, бродим под их деревьями, дышим воздухом снисходительной дружбы и жизнелюбия. Минута молчания!
– Ты сказал: полминуты! – пробормотал Онкельскрут и стал считать секунды.
Все встали и подняли рюмки, момент был торжественный.
«Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, – считал Онкельскрут, у него в тот день немного устали ноги. – Эти секунды должны бы быть моими собственными, ведь праздник-то во всяком случае мой, а не семьи муми-троллей. Им-то хорошо, у них живот не болит». Он был недоволен, что предок опаздывал.
В то время как гости стояли, застыв на минуту в честь семьи муми-троллей, снаружи, откуда-то вроде бы с кухонной лестницы, донеслось странное шуршание, словно кто-то крался, шаря руками по стене дома. Филифьонка бросила быстрый взгляд на дверь – она была заперта на щеколду – и встретилась глазами с хомсой. Они оба подняли мордочки и молча принюхались.
– Я предлагаю тост! – воскликнул Хемуль. – Выпьем за хорошую дружбу!
Гости отпили вино из рюмочек, рюмки были малюсенькие и очень красивые – на ножках, с полосочкой по краям. Потом все уселись.
– А теперь, – сказал Хемуль, – программу продолжает самый неприметный из нас. Последний будет выступать первым, не правда ли, это справедливо, а, хомса Тофт?
Хомса открыл книгу почти в самом конце и начал читать. Он читал довольно тихо, делая паузы перед длинными словами. «Стр. 227. То, что форма существования вида, который мы пытаемся реконструировать, сохраняет характер травоядного в чисто физиологическом плане и одновременно его отношение к внешнему миру становится все более агрессивным, можно считать явлением исключительным. Что касается обострения внимания, быстроты движений, силы и прочих охотничьих инстинктов, сопровождающих обычно развитие плотоядных, то таких изменений не произошло. На зубах наблюдаются тупые жевательные поверхности, когти чисто рудиментарные, зрение слабое.
Размеры его, однако, увеличились поразительно, что, говоря откровенно, может причинить неприятности особи, в течение тысячелетий дремавшей в укромных щелях и пустотах. В данном случае мы, к нашему изумлению, наблюдаем форму развития, соединяющую в себе все признаки вегетарианца с чертами ленивого простейшего, наделенного слабо выраженной и абсолютно необъяснимой агрессивностью».
– Какое там последнее слово? – спросил Онкельскрут. Он все время сидел, приложив лапу к уху. Со слухом у него было все в порядке, пока он знал, что будет сказано.
– «Агрессивностью», – довольно громко ответила Мюмла.
– Не кричи, я не глухой, – машинально сказал Онкельскрут, – а что это такое?
– Когда кто-нибудь очень злится, – пояснила Филифьонка.
– Ага, – сказал Онкельскрут, – тогда мне все ясно. Нам еще что-нибудь прочитают или, наконец, начнутся выступления? – Он начал волноваться за предка. «Может, у него ноги устали, может, ему по лестнице не спуститься? Может, он обиделся, а может, просто уснул? Во всяком случае что-то стряслось, – сердито думал Онкельскрут. – Эти старики просто невозможные, когда им перевалило за сто. И невежливые к тому же…»
– Мюмла! – протрубил Хемуль. – Позвольте представить Мюмлу!
Мюмла ступала по полу застенчиво, но с большим достоинством. Ее распущенные волосы доставали до колен, видно было, что она вымыла их прекрасно. Мюмла быстро кивнула Снусмумрику, и он заиграл. Он играл очень медленно, Мюмла подняла руки и закружилась, делая маленькие неуверенные шажки. Шуу-шуу-тиделиду – выводила губная гармошка, незаметно звуки слились в мелодию, зазвучали веселее, и Мюмла закружилась быстрее, кухня наполнилась музыкой и движениями, а длинные рыжие волосы казались летающим солнцем. Какое это было великолепное зрелище! Никто не заметил, что огромный и тяжелый зверь бесцельно ползал вокруг дома – один круг, другой, третий… не зная, что ему здесь надо. Гости отбивали такт и пели: тиделиду-тиделиду. Мюмла скинула сапожки, сбросила на пол свой платок, бумажные гирлянды покачивались над теплой плитой, все хлопали лапами. Вот Снусмумрик громко вскрикнул, и номер закончился.
Все закричали: «Браво! Браво!», а Хемуль даже с искренним восхищением сказал: «Огромное спасибо».
– Не за что! – Мюмла смеялась, гордая и довольная. – Меня всегда тянуло к танцам. Я не могу без них. И вам надо было ко мне присоединиться.
Филифьонка встала.
– «Не могу» и «надо» – разные вещи, – сказала она.
Все взялись за свои рюмочки, думая, что за этим последует тост. Но обошлось без тоста, и все стали кричать, чтобы Снусмумрик сыграл еще. Только Онкельскрута больше ничто не интересовало, он сидел и сворачивал свою салфетку, она становилась все более твердой и маленькой. Скорее всего, предок обиделся. Почетного гостя нужно привести на праздник, прежде так было принято. Да, они поступили скверно.
Вдруг Онкельскрут поднялся и ударил лапой по столу.
– Мы поступили очень плохо, – сказал он. – Начали праздник без почетного гостя, не помогли ему спуститься с лестницы. Вы слишком поздно родились и не имеете никакого понятия об этикете. Вы за всю свою жизнь не видели ни одной шарады! Я спрашиваю вас, что за вечер без шарад? Слушайте, что я вам говорю! На таком вечере каждый должен показать самое лучшее, на что он только способен. И я сейчас покажу вам предка. Он не устал. Ноги у него не больные. Но он рассержен!
Пока Онкельскрут говорил, Филифьонка успела потихоньку подать каждому горячие бутерброды с сыром. Онкельскрут проводил взглядом каждый бутерброд, поглядел, как он шлепался в тарелку, и громко крикнул:
– Ты мешаешь мне выступать!
– Ах, извини, – сказала Филифьонка, – но ведь они горячие, только что из духовки…
– Да берите свои бутерброды, – нетерпеливо продолжал Онкельскрут, – только держите их за спиной, чтобы еще сильнее не обидеть предка, и поднимите бокалы, чтобы выпить за него.
Филифьонка подняла выше бумажный фонарик, а Онкельскрут открыл дверцу шкафа и низко поклонился. Предок ответил ему таким же поклоном.
– Я не собираюсь представлять их тебе, – сказал Онкельскрут. – Ты все равно забудешь, как их зовут, да это вовсе не так важно. – Он протянул к нему свою рюмку, и она зазвенела.
– Ничего не понимаю! – воскликнул Хемуль.
Мюмла наступила ему на ногу.
– Теперь вы чокнитесь с ним, – сказал Онкельскрут и отошел в сторону. – Куда он подевался?
– Мы слишком молодые, чтобы чокаться с ним, – заявила Филифьонка, – он может рассердиться…
– Давайте крикнем «ура!» в его честь! – воскликнул Хемуль. – Раз, два, три… Ура! Ура! Ура!
Когда они возвращались в кухню, Онкельскрут повернулся к Филифьонке и сказал ей:
– Не такая уж ты молоденькая.
– Да, да, – рассеянно отвечала Филифьонка.
Она подняла свою длинную мордочку и принюхалась. Затхлый запах, отвратительный запах гнили. Она взглянула на Тофта, а он отвернулся в сторону и подумал: «Электричество».
Как приятно снова вернуться в теплую кухню!
– А сейчас я бы хотел поглядеть на фокусы, – заявил Онкельскрут. – Может кто-нибудь из вас достать кролика из моей шляпы?
– Нет, сейчас будет мой номер, – с достоинством сказала Филифьонка.
– А я знаю, что это будет! – воскликнула Мюмла. – Ужасная история про то, как один из нас выйдет из кухни и его съедят, потом другой выйдет и тоже будет съеден…
– Сейчас вы увидите театр теней, – невозмутимо объявила Филифьонка, – представление называется «Возвращение».
Она подошла к плите и повернулась к ним спиной. Повесила большую простыню на шест для сушеных хлебцев под потолком. После этого поставила лампу за простыней на дровяной ларь, обошла кухню и погасила один за другим фонарики.
– А когда свет снова зажгли, был уже съеден и последний, – пробормотала Мюмла.
Хемуль шикнул на нее. Филифьонка уже исчезла за простыней, белевшей в темноте. Все смотрели и ждали. Медленно и тихо, будто шепот, зазвучала музыка Снусмумрика. И вот по белому полотну поплыла тень, черный силуэт корабля. На носу корабля сидел кто-то маленький с прической, похожей на луковицу.
«Это Мю, – подумала Мюмла. – Очень похоже на нее. Здорово сделано».
Лодка медленно скользила по простыне, как по морю. Еще ни один корабль не плыл по воде так тихо и легко. Потом появилась вся семья: Муми-тролль, мама с сумкой, облокотившаяся на поручни, и папа. Он сидел на корме и правил. Они плыли домой. (Однако руль получился какой-то неудачный.) Хомса Тофт смотрел только на маму. Времени было достаточно, чтобы рассмотреть все подробно. Черные тени стали казаться разноцветными, силуэты будто бы зашевелились. Снусмумрик все время играл, и, когда музыка смолкла, все поняли, какая она была прекрасная. Семья возвратилась домой.
– Это был настоящий театр теней, – сказал Онкельскрут, – я видел много таких представлений и хорошо помню их, но это – самое лучшее.
Занавес опустился, представление окончилось. Филифьонка задула кухонную лампу, и в кухне стало темно. Все молча сидели в темноте и ждали с удивлением.
Вдруг из темноты послышался голос Филифьонки:
– Я не могу найти спички.
И сразу же стало неуютно. Было слышно, как свистит ветер, казалось, будто кухня расширилась, стены раздвинулись в стороны, и у зрителей начали мерзнуть ноги.
– Никак не могу найти спички! – резко повторила Филифьонка.
Стулья задвигались, кто-то что-то опрокинул, все вскочили, стали натыкаться друг на друга в темноте, кто-то запутался в простыне и опрокинул стул. Хомса Тофт поднял голову: теперь зверь был совсем рядом – кто-то тяжелый терся о стену возле кухонной двери. Послышался глухой раскат, загрохотал гром.
– Они уже здесь! – закричала Филифьонка. – Сейчас они вползут к нам!
Хомса Тофт приложил ухо к двери, прислушался, но ничего, кроме шума ветра, не услышал. Он толкнул задвижку и вышел, дверь бесшумно закрылась за ним.
Вот лампа снова зажглась – Снусмумрик нашел спички. Хемуль застенчиво засмеялся.
– Взгляните-ка, – воскликнул он, – я наступил лапой на бутерброд!
Кухня выглядела такой же, как всегда, но никому не хотелось садиться. И никто не заметил, как хомса ушел.
– Оставим все как есть, – нервно сказала Филифьонка, – пусть все так и стоит. Я вымою посуду завтра.
– Уж не собираетесь ли вы расходиться? – воскликнул Онкельскрут. – Сейчас предок лег спать и можно начинать веселиться!
Но ни у кого не было охоты продолжать празднество. Пожелав друг другу спокойной ночи, они поспешно и очень вежливо пожали друг другу лапы и тут же разошлись. Онкельскрут постучал тростью по полу, прежде чем уйти.
– Во всяком случае, я ухожу последним, – сказал он.
Выйдя на крыльцо, хомса остановился и замер в ожидании. Небо было чуть светлее гор, которые волнистым контуром выделялись вокруг Муми-дален. Зверь не подавал признаков жизни, но хомса чувствовал, что он смотрит на него.
– Нуммулит, – тихонько позвал он его, – милый радиолярий. Протозоша…
Но тот, видно, не понимал странных книжных названий. Скорее всего, зверь был растерян и не мог понять бормотания хомсы.
Тофт огорчился, его тревожило, что нуммулит мог отправиться куда глаза глядят, а ведь он был слишком большой и слишком злой и в то же время не привык быть таким злым.
Хомса неуверенно шагнул вперед и тут же почувствовал, что зверь отступил назад.
– Ты не уходи, – объяснил Тофт, – просто отойди чуть подальше.
Хомса пошел по траве. Зверь, неуклюжая, бесформенная громадина, стал пятиться назад, кусты под ним трещали и ломались. «Он стал слишком большим, – думал хомса. – Теперь он пропадет».
Вот затрещали кусты жасмина. Хомса остановился и зашептал:
– Не спеши, иди медленнее…
Зверь заворчал в ответ. Послышался слабый шелест дождя, гроза была очень далеко. Они двигались дальше. Тофт все время разговаривал со своим зверем. Вот они подошли к стеклянному шару, в этот вечер шар был ярко-синим и за стеклом играли бурные волны.
– Послушай, – сказал хомса, – давай не будем кусаться. Это ни к чему. Уж ты поверь мне.
Нуммулит не слушал хомсу, скорее, он только прислушивался к голосу хомсы. Хомса замерз, сапожки у него промокли. Потеряв терпение, он приказал:
– Сделайся опять маленьким и спрячься! А не то пропадешь!
И вдруг стеклянный шар потемнел. Бурные волны разверзлись, образовав глубокую пропасть, и снова сомкнулись. Стеклянный шар Муми-папы открылся для растерявшегося нуммулита. Зверь из отряда Протозоа сделался маленьким и вернулся назад в свою стихию.
Хомса Тофт возвратился в дом и прокрался к своему чуланчику. Он свернулся калачиком на рыболовной сети и сразу уснул.
Все ушли, а Филифьонка осталась стоять посреди кухни, занятая своими мыслями. Кругом царил беспорядок: гирлянды растоптаны, стулья перевернуты, повсюду капли стеарина.
Она подняла с пола бутерброд, по рассеянности надкусила его и бросила в помойное ведро. «Праздник удался на славу», – подумала она.
Дождь припустил снова. Она прислушивалась, но не услышала ничего, кроме падающей с неба воды. Насекомые ушли.
Филифьонка взяла со стола губную гармошку, которую оставил Снусмумрик, подержала ее в лапках, подождала. По-прежнему все было тихо. Филифьонка поднесла гармошку к губам, подула в нее и стала водить ее туда-сюда, прислушиваясь к звукам. Она села за кухонный стол. Ну-ка, как там это: тидели-тидели… Это было непросто, она стала осторожно искать нужные звуки, нашла первый, а второй нашелся сам собой. Мелодия то ускользала от нее, то вновь возвращалась. Очевидно, нужно было точно знать, а не искать. Тидели, тидели – вот уже их целая стайка, каждый звук точно на своем месте.
Не один час сидела Филифьонка за кухонным столом и играла на губной гармошке все уверенней и вдохновенней. Звуки сливались в мелодию, а мелодия становилась музыкой. Забыв обо всем на свете, Филифьонка играла песни Снусмумрика и свои собственные. Ей не было дела до того, слушает ее кто-нибудь или нет. За окном в саду было тихо, все эти ползучки исчезли, стояла обычная темная ночь, ветер крепчал.
Филифьонка так и заснула за кухонным столом, уронив голову на лапки. Она проспала до самого утра, пока часы не пробили половину девятого; тогда она проснулась, огляделась вокруг и сказала про себя: «Какой беспорядок! Сегодня будет генеральная уборка».
19
Тридцать пять минут девятого, когда утро еще было погружено в темноту, стали открываться окна – одно за другим; матрацы, покрывала и одеяла водружались на подоконники, по дому, поднимая густые облака пыли, гулял отличный сквозняк.
Филифьонка наводила порядок. Во всех котлах кипятилась на плите вода, щетки, тряпки и тазы вылетали, пританцовывая, из шкафов, а балконные перила разукрасились коврами. Из всех генеральных уборок эта была самая генеральная. Обитатели дома, стоя на пригорке, смотрели с удивлением на Филифьонку, а она, повязав голову платком и обмотавшись три раза огромным маминым передником, сновала из дома на балкон и обратно.
Снусмумрик вошел в кухню за своей губной гармошкой.
– Она лежит на полочке над плитой, – сказала Филифьонка мимоходом. – Я обращалась с ней очень осторожно.
– Если хочешь, можешь подольше подержать ее у себя, – неуверенно заметил Снусмумрик.
Но Филифьонка деловито ответила:
– Возьми. Я куплю себе новую. Да смотри не наступи на мусор.
До чего же приятно было снова заняться уборкой! Она знала точно, где прячется пыль. Мягкая, серая, довольная собой пыль пряталась в уголках и думала, что лежит в полной безопасности, ха-ха! Большая метла Филифьонки перевернула все вверх дном, вымела личинки моли, пауков, сороконожек и прочих ползучих, и прекрасные реки горячей воды с мыльной пеной унесли все это. Немало пришлось побегать с ведрами, но до чего же было весело.
– Люблю, когда женщины делают уборку, – заявил Онкельскрут. – Вы предупредили Филифьонку, чтобы она не трогала платяной шкаф предка?
Но платяной шкаф был уже вымыт, к тому же вдвое старательнее, чем все прочие вещи. Нетронутым оставалось только зеркало на внутренней стороне шкафа, и оно тускло светилось.
Постепенно все вовлеклись в уборку, кроме Онкельскрута. Носили воду, выколачивали ковры, натирали пол. Каждый взялся мыть по окну, а когда все проголодались, то пошли в кладовку и съели остатки вечернего пиршества. Филифьонка ничего не стала есть, она ни с кем не разговаривала, у нее не было на это времени и желания! Она то и дело насвистывала, легкая и гибкая, она носилась как ветер, ей хотелось как бы наверстать упущенное, восполнить то потерянное время, когда ею владели одиночество и страх.
«Что это было со мной? Я сама была каким-то большим серым клубком пыли… С чего бы это?» Этого она никак не могла вспомнить.
Итак, великолепный день генеральной уборки подошел к концу. К счастью, дождя в этот день не было. Когда спустились сумерки, все уже было расставлено по своим местам, все было чистым, блестящим, и дом удивленно смотрел во все стороны только что вымытыми оконными стеклами. Филифьонка сняла с головы платок и повесила на вешалку мамин передник.
– Вот так, – вздохнула она. – А теперь я поеду домой и наведу у себя порядок. Давно пора.
Они сидели на веранде все вместе, было очень холодно, но предчувствие скорого расставания, скорых перемен удерживало их, не давало расходиться.
– Спасибо тебе за уборку, – сказал Хемуль с искренним восхищением.
– Не за что меня благодарить, – ответила Филифьонка. – Иначе я и не могла поступить. И ты могла бы сделать то же самое. Я тебе говорю, Мюмла.
– Ведь вот что странно, – продолжал Хемуль, – иногда мне кажется, будто все, что мы говорим и делаем, все, что с нами происходит, уже было когда-то, а? Вы понимаете, что я хочу сказать? Все на свете однообразно.
– А почему все должно быть разнообразным? – спросила Мюмла. – Хемуль – всегда хемуль, и с ним случается всегда одно и то же. А с мюмлами иногда случается, что они быстренько уезжают, чтобы им не пришлось делать уборку! – Она громко засмеялась и похлопала себя по коленкам.
– Неужто ты никогда не переменишься? – спросила Филифьонка с любопытством.
– Да уж надеюсь! – ответила Мюмла.
Онкельскрут переводил взгляд с одной на другую. Он очень устал от уборки и от их пустой болтовни.
– Здесь холодно, – сказал он. Потом с трудом поднялся и пошел в дом.
– Вот-вот выпадет снег, – заметил Снусмумрик.
На следующее утро пошел первый снег. Маленькие и твердые снежинки выбелили все вокруг. Сильно похолодало. Филифьонка и Мюмла простились с остальными гостями на мосту. Онкельскрут еще не проснулся.
– Это было очень полезное время, – сказал Хемуль. – Я надеюсь, что мы когда-нибудь соберемся вместе с семьей муми-троллей.
– Да, да, – рассеянно ответила Филифьонка. – Во всяком случае скажите, что фарфоровая ваза от меня. Кстати, какой марки эта губная гармошка?
– «Гармония-2», – сказал Снусмумрик.
– Счастливого пути, – пробормотал хомса Тофт.
А Мюмла добавила:
– Поцелуй Онкельскрута в мордочку. Да не забудь, что он любит огурцы и что речку называет ручьем!
Филифьонка взяла свой чемодан.
– И следите за тем, чтобы он принимал лекарства, – строго приказала она. – Хочет он того или нет. Сто лет – не шуточки. Иногда можете устраивать вечеринки.
Филифьонка пошла вперед по мосту, не оглядываясь, не зная, идет ли за ней Мюмла. Они исчезли в снежной завесе, окутанные печалью и облегчением, которые всегда сопровождают расставание.
Снег шел весь день, стало еще холоднее. Побелевшая земля, отъезд Филифьонки и Мюмлы, чисто вымытый дом наложили на этот день отпечаток неподвижности и задумчивости. Хемуль стоял и глядел на свое дерево, потом он отпилил дощечку, положил ее на землю. Потом просто стоял и смотрел по сторонам. Несколько раз он входил в дом и постукивал по барометру.
Онкельскрут лежал на диване в гостиной и думал о том, как все переменилось. Мюмла была права. Он вдруг обнаружил, что ручей это не ручей, а извилистая, бурая река с заснеженными берегами. Он больше не хотел удить рыбу. Он положил себе на голову бархатную подушку и стал вспоминать о том веселом времени, когда в ручье водилось много рыбы, а ночи были теплые и светлые и когда все время случалось что-нибудь интересное. Приходилось бегать прямо-таки до ломоты в костях, чтобы успеть за всем уследить, а спать и вовсе было некогда, разве что прикорнуть ненадолго, а как весело он смеялся тогда… Онкельскрут встал, чтобы побеседовать с предком.
– Привет, – сказал он, открыв дверцу шкафа. – Снег идет. Почему это теперь нет ничего интересного, а только так, одни пустяки? Куда подевался мой ручей? – Онкельскрут замолчал, ему надоело говорить с тем, кто никогда не отвечает на вопросы.
– Ты слишком стар, – сказал Онкельскрут и постучал тростью. – А теперь, когда пришла зима, ты еще больше состаришься. Зимой всегда ужасно стареешь. – И Онкельскрут взглянул на своего друга и еще подождал.
Все двери верхнего этажа были распахнуты в пустые, начисто вымытые комнаты, воздух был чист и свеж, уютного легкого беспорядка как не бывало, ковры расположились строгими серьезными прямоугольниками, и на всем лежал отпечаток холода и снежного зимнего света.
Онкельскрут почувствовал себя всеми забытым и закричал:
– Что? Скажи хоть что-нибудь!
Но предок не отвечал, он стоял в своей не по росту большой пижаме и молча таращил на Онкельскрута глаза.
– Вылезай из своего шкафа, – строго сказал Онкельскрут. – Они тут все переделали по-своему, и теперь только мы с тобой знаем, как все выглядело сначала! – И Онкельскрут довольно сильно ткнул предка тростью в живот. Послышался звон разбитого стекла – старое зеркало треснуло и рассыпалось; только в одном длинном узком осколке Онкельскрут успел заметить озадаченное выражение лица предка, но и эта зеркальная полоска тут же упала, и на Онкельскрута глядел теперь лишь коричневый лист картона, который не мог ему сказать вовсе ничего.
– Вот оно что, – пробормотал Онкельскрут и пошел, не оглядываясь. Он был очень рассержен.
Онкельскрут сидел на кухне у плиты и, глядя на огонь, размышлял. За столом в кухне сидел Хемуль, а перед ним была разложена целая груда чертежей.
– Тут что-то не так со стенами, – сказал Хемуль. – Они получаются какие-то кривые и все время рушатся. Их просто невозможно приспособить к веткам.
«Может, он залег в спячку?» – думал о своем Онкельскрут.
– Собственно говоря, – продолжал Хемуль, – собственно говоря, не очень-то приятно быть запертым в четырех стенах. Просто так сидеть на дереве, пожалуй, приятнее, ночью можно озираться по сторонам и видеть, что творится вокруг, не правда ли?
– Наверное, важные события происходят весной, – сказал Онкельскрут сам себе.
– Что ты говоришь? – спросил Хемуль. – Правда, так будет лучше?
– Нет, – отвечал Онкельскрут, хотя не слышал, о чем говорит Хемуль.
Наконец-то он понял, что ему надо делать. Все очень просто – надо перепрыгнуть через зиму и сделать большой шаг прямо в апрель. Нечего расстраиваться, на это нет вовсе никаких причин! Надо лишь устроить себе уютную ямку для зимней спячки, и пусть себе все в мире идет своим чередом. А когда он проснется, все будет так, как и должно быть. Онкельскрут пошел в кладовую, поднял крышку с суповой миски, в которой лежали еловые иголки, он очень повеселел, и ему вдруг ужасно захотелось спать. Он прошел мимо погруженного в размышления Хемуля и сказал:
– Привет! Я залегаю в спячку.
– Привет, привет! – рассеянно ответил Хемуль. Он поднял мордочку, поглядел вслед Онкельскруту, потом снова принялся ломать голову над сложной задачей: как смастерить дом на ветвях клена.
В этот вечер небо было совсем чистое. Хомса шел по саду, и тонкий ледок трещал под его лапами. Долина наполнилась морозной тишиной, на ее склонах поблескивал снег. Стеклянный шар был пуст. Теперь он стал обыкновенным голубым стеклянным шаром. Но черное небо было полно звезд, они искрились и сияли миллионами алмазов, это были зимние звезды, излучавшие холод.
– Вот и зима пришла, – сказал хомса, входя в кухню.
Хемуль решил, что беседка без стен уютнее, будет просто один пол; он облегченно вздохнул, свернул свои бумаги и сказал:
– Онкельскрут погрузился в спячку.
– Он взял с собой свои вещи? – спросил хомса.
– На что они ему? – удивленно ответил Хемуль.
Хомса знал, что весной после долгой спячки Онкельскрут станет гораздо моложе, а сейчас ему нужно лишь, чтобы его оставили в покое. Но хомса подумал и о другом: ведь Онкельскруту будет важно узнать, что кто-то думал о нем, пока он спал. Поэтому он отыскал вещи Онкельскрута и сложил их рядом со шкафом. Потом накрыл Онкельскрута одеялом из гагачьего пуха и хорошенько подоткнул его – зима ведь может быть холодная. В шкафу чувствовался слабый аромат каких-то пряностей. В бутылочке оставалась капля коньяку – как раз хватит, чтобы освежиться в апреле.
20
После того как Онкельскрут устроился на зимнюю спячку в шкафу, в долине стало еще тише. Изредка раздавался стук молотка – Хемуль мастерил беседку в ветвях клена – или стук топора у поленницы. Но большей частью здесь было тихо. Все здоровались друг с другом и прощались, но разговаривать им не хотелось. Они ждали конца рассказа.
Проголодавшись, каждый шел в кладовую подкрепиться. Кофейник все время стоял на плите и не остывал.
По правде говоря, тишина в долине была приятная, успокаивающая, и они больше подружились теперь, когда встречались реже. Голубой шар был совсем пустой и готов был наполниться чем-то новым и неизвестным. Становилось все холоднее.
А однажды утром случилось нечто неожиданное: пол беседки с громким треском обрушился, и большой клен стал таким же, как прежде, до того, как Хемуль затеял это строительство.
– Как странно, – сказал Хемуль, – мне опять начинает казаться, что многое на свете повторяется, что со мною это уже было когда-то.
Они стояли под кленом, все трое, и смотрели на обломки дома.
– Может быть, – робко заметил Тофт, – может быть, папе больше нравится сидеть на ветке, а не в доме?
– Правильно говоришь! – согласился Хемуль. – Скорее всего, это в его вкусе, не правда ли? Я, конечно, мог бы вбить в дерево гвоздь для сигнального фонаря. Но, пожалуй, лучше просто повесить его на ветку.
И они пошли пить кофе. На этот раз они пили чинно, все вместе и даже чашки поставили на блюдечки.
– Подумать только, как несчастье объединяет людей, – серьезно заметил Хемуль, помешивая ложечкой. – И что же нам теперь делать?
– Ждать, – сказал хомса Тофт.
– Ну это ясно, а что же делать лично мне? – возразил Хемуль. – Тебе только и остается ждать их возвращения, со мной дело обстоит совсем иначе.
– А почему это? – спросил хомса.
– Не знаю, – ответил Хемуль.
Снусмумрик налил еще кофе и сказал:
– После двенадцати поднимется ветер.
– Вот ты так всегда! – возмутился хомса. – Речь идет о том, что мне делать и что со мною будет, меня это так пугает, а ты твердишь себе: будет снег или ветер, а то скажешь: «Дайте еще сахара»…
– Вот ты и опять разозлился, – удивился Хемуль. – И что это на тебя находит? Хорошо хоть, что ты злишься редко.
– Не знаю, – пробормотал Тофт. – Я вовсе не разозлился, просто…
– Я подумал о парусной лодке, – пояснил Снусмумрик. – Если после полудня поднимется ветер, мы с Хемулем могли бы покататься.
– Лодка течет, – сказал Хемуль.
– Нет, – возразил Снусмумрик, – я ее проконопатил. А в сарае нашел парус. Хочешь покататься?
Хомса опустил глаза и уставился на дно чашки, он чувствовал, что Хемуль испугался. Но Хемуль сказал:
– Это было бы просто прекрасно.
В половине первого подул ветер, правда, не сильный, но на море закудрявились белые барашки. Снусмумрик пришвартовал лодку к мосткам купальни, поставил шпринтовый парус и велел Хемулю сесть впереди. Было очень холодно, и они натянули на себя всю шерстяную одежду, какая была в доме. Небо было ясное, окаймленное у горизонта грядой зимних облаков. Снусмумрик взял курс на мыс, лодка резко накренилась и набрала скорость.
– Его величество море! – воскликнул Хемуль дрожащим голосом. Он побледнел и испуганно глядел на поручни на подветренной стороне, почти касавшиеся зеленой воды. «Так вот каково оно, – думал он. – Вот каково плыть под парусом. Весь мир накреняется и кружится, а ты висишь на краю бездны. Тебе холодно и страшно, ты раскаиваешься, что пустился в путь, но уже поздно. Хоть бы он только не заметил, как я трушу». Возле мыса парусник подхватила мертвая зыбь, которую принесло откуда-то издалека, Снусмумрик сделал поворот против ветра и продолжал путь.
Хемуля замутило. Тошнота подкралась медленно и коварно: сначала Хемуль стал зевать и глотать, потом вдруг как-то ослабел, почувствовал, что все его тело слабеет, и ему захотелось умереть.
– Теперь ты садись за руль, – сказал Снусмумрик.
– Нет, нет, нет, – прошептал Хемуль и замахал обеими лапами, эти движения вызвали новый приступ боли у него в животе, ему показалось, что несносное море перевернулось вверх дном.
– Возьми руль, – повторил Снусмумрик и перебрался к средней скамье. Руль беспомощно завертелся сам по себе, пока Хемуль, спотыкаясь и запинаясь о скамьи, добрался до кормы и вцепился в него посиневшими от холода лапами. Парус забился – сейчас наступит конец всему свету, а Снусмумрик сидел и спокойно глядел вдаль.
Хемуль повернул руль в одну сторону, потом в другую, парус хлопал, в лодку натекала вода, а Снусмумрик все смотрел на горизонт. Хемулю было так плохо, что он не мог сосредоточиться и правил наугад, и вдруг дело пошло на лад, парус наполнился ветром, и лодка уверенно заскользила вдоль берега по длинным волнам.
«Теперь меня не вытошнит, – думал Хемуль. – Я крепко-крепко держу руль, и меня не вытошнит».
Живот сразу успокоился. Хемуль не сводил взгляда с носа лодки, который то поднимался на волне, то опускался, то поднимался, то опускался. «Пусть парусник плывет хоть на край света, только бы мне опять не стало худо, только бы меня не вырвало…» Хемуль не смел шевельнуть ни одним мускулом, не смел изменить выражение мордочки, ни подумать о чем-нибудь другом. Он упорно смотрел на нос лодки, то взлетавшей, подгоняемой попутным ветром, то опускавшейся, и их уносило все дальше и дальше в море.
Хомса Тофт вымыл посуду и застелил кровать Хемуля. Потом собрал доски для пола, лежавшие под кленом, и спрятал их за дровяным сараем. После этого сел за кухонный стол и, прислушиваясь к ветру, стал ждать.
Наконец он услышал голоса в саду. Послышались шаги на кухонном крыльце, вошел Хемуль и сказал:
– Привет!
– Привет, привет! – ответил хомса. – Сильный ветер был на море?
– Почти шторм. Сильный, свежий ветер.
Мордочка у него все еще была зеленая, его знобило; он снял башмаки и носки и повесил сушиться над плитой. Хомса налил ему кофе. Они сидели друг против друга за кухонным столом, и обоим было неловко.
– Мне думается, – сказал Хемуль, – мне думается, не пора ли собираться домой? – Он чихнул и добавил: – Между прочим, я правил лодкой.
– Может, ты соскучился по своей собственной лодке? – пробормотал хомса.
Хемуль долго молчал, и когда наконец заговорил, хомса почувствовал в его голосе сильное облегчение.
– Знаешь что, – сказал Хемуль. – Я скажу тебе кое-что. Ведь я первый раз в жизни плавал по морю!
Хомса сидел, не поднимая головы, и Хемуль спросил:
– Ты не удивляешься?
Хомса покачал головой.
Хемуль поднялся и стал взволнованно ходить по кухне.
– Какой ужас плыть под парусом, – говорил он. – Веришь ли, меня до того укачало, что просто хотелось умереть и все время страшно было!
Хомса Тофт взглянул на Хемуля и сказал:
– Это, должно быть, ужасно!
– Точно! – с благодарностью подхватил Хемуль. – Но я и виду не подал Снусмумрику! Он сказал, что я хорошо правлю при попутном ветре и что хватка у меня правильная. А я теперь понял, что не стану плавать. Вот странно-то, верно? Я вот только сейчас понял, что никогда больше не захочу управлять лодкой!
Хемуль поднял мордочку и от души рассмеялся. Он с силой высморкался в кухонное полотенце и заявил:
– Ну вот я и согрелся. Как только ботинки и носки высохнут, отправлюсь домой. Воображаю, какая там неразбериха! Уйма дел накопилась.
– Ты что, будешь наводить чистоту? – спросил Тофт.
– Ясное дело, нет! – воскликнул Хемуль. – Мне нужно позаботиться о других. Ведь очень немногие могут сами разобраться в том, что им следует делать и как поступать!
Мост всегда был местом расставания. Ботинки и носки Хемуля высохли, и теперь он уходил. Шторм все еще не унимался, и редкие волосы Хемуля развевались на ветру. Его стал одолевать насморк, а может, он просто растрогался.
– Вот мое стихотворение, – сказал Хемуль и протянул Снусмумрику листок бумаги. – Я записал его на память. Ну это: «Скажи мне, что есть счастье…», ты знаешь. Будь здоров, привет семье муми-троллей. – Он поднял лапу и пошел.
Хемуль уже прошел мост, когда хомса Тофт нагнал его и спросил:
– Что ты собираешься делать с лодкой?
– С лодкой? – повторил Хемуль и, подумав немного, сказал: – Подарю ее. Подожду, пока не найду кого-нибудь подходящего.
– Ты хочешь сказать, того, кто мечтает плавать под парусом?
– Вовсе нет! – отвечал Хемуль. – Просто того, кому нужна лодка. – Он снова помахал лапой, пошел дальше и исчез в березовой роще.
Хомса глубоко вздохнул. Вот и еще один ушел. Скоро долина опустеет и будет принадлежать только семье муми-троллей и ему, хомсе Тофту. Проходя мимо Снусмумрика, он спросил:
– А ты когда уйдешь?
– Посмотрим, – ответил Снусмумрик.
21
Впервые вошел хомса Тофт в мамину комнату. Она была белая. Он наполнил умывальник водой и поправил вязаное покрывало. Вазу Филифьонки он поставил на ночной столик. На стенах здесь не было никаких картин, и на комоде не было ничего, кроме блюдечка с иголками, резиновой пробки и двух круглых камешков. На подоконнике хомса нашел складной нож. «Она забыла его, – подумал он, – этим ножом она вырезала лодочки из коры. А может быть, у нее есть еще один ножик?» Хомса раскрыл лезвия – и большое, и маленькое, они совсем затупились, а шило сломалось. У ножа были еще и маленькие ножницы, но ими она редко пользовалась. Хомса пошел в сарай, наточил нож, потом положил его назад на подоконник.
Погода вдруг стала мягче, и ветер сменил направление на юго-западное. «Это ветер муми-троллей, – подумал Тофт. – Я знаю, им больше всего нравится юго-западный ветер».
Темные тучи медленно поднялись над морем, небо стало тяжелым, и было видно, что облака наполнены снегом. Через несколько дней все вокруг укутает белая зима, долины долго ждали ее, и вот она наконец пришла.
Снусмумрик, стоя возле своей палатки, почувствовал перемену погоды и готов был отправиться в путь. Долину пора было закрывать.
Медленно и спокойно вытащил он из земли колышки палатки и свернул брезент. Погасил угли в костре. В этот день спешить ему было ни к чему.
Теперь здесь было совсем чисто и пусто, только квадрат пожухлой травы указывал на то, что на этом месте кто-то жил. На следующее утро и это пятно засыплет снегом.
Он написал письмо Муми-троллю и опустил его в почтовый ящик. Набитый рюкзак стоял на мосту.
Как только стало светлеть, Снусмумрик отправился искать свои пять тактов и нашел их на берегу моря. Он перебрался через гряду водорослей и прибитых морем щепок, остановился на песке и подождал. Они пришли к нему сразу и были проще и красивее, чем он ожидал. Потом вернулся назад к мосту – песенка о дожде шла за ним, подходила к нему все ближе и ближе; он взгромоздил рюкзак на спину и зашагал к лесу.
В тот же вечер в стеклянном шаре засветился маленький немигающий огонек. Семья муми-троллей, повесив штормовой фонарь на верхушку мачты, держала путь к дому, чтобы залечь в зимнюю спячку. Зюйд-вест все не унимался, темные лучи поднялись высоко и закрыли небо. Пахло снегом, холодом и чистотой.
Хомса не удивился, найдя место, где стояла палатка, пустым. Наверно, Снусмумрик понял, что не кто иной, как Тофт должен встретить семью муми-троллей, когда она вернется домой. Возможно, у Снусмумрика было еще кое-что на уме, мелькнуло у хомсы в голове, но он тут же забыл об этом и стал думать о самом себе. Желание встретить муми-троллей становилось нестерпимым. Каждый раз, когда он думал о Муми-маме, у него начинала болеть голова. Мечта о ней была такой прекрасной, нежной и утешительной, что стала просто невыносимой. Вся долина стала какой-то ненастоящей, дом, сад и река казались игрой теней на полотне, и хомса уже с трудом различал, что было на самом деле, а что ему только казалось. Ему пришлось ждать слишком долго, и это рассердило его. Он сидел на кухонном крылечке, обхватив лапами коленки и сильно зажмурясь. Большие незнакомые картины проносились у него в голове, и ему вдруг стало страшно. Он вскочил и побежал – мимо огорода, мимо помойной кучи прямо в лес; вокруг вдруг стало темно, он очутился на задворках усадьбы, в некрасивом, ни на что не годном лесу, именно в том, о котором рассказывала Мюмла. Здесь всегда царил полумрак. Деревья испуганно жались друг к другу, длинным, тонким ветвям было слишком тесно, и они сплетались у хомсы над головой. Земля здесь походила на сморщенную мокрую кожу. Лишь огненно-рыжая заячья капуста светила яркими огоньками, ее кустики поднимались из черной земли, словно маленькие ручки, а узловатые стволы деревьев были облеплены грибными наростами, похожими на белый и бежевый бархат. Это был какой-то чужой мир. Хомса Тофт никогда не представлял его себе, у него не было для него названия. Здесь не было ни единой тропинки, никто никогда не отдыхал под деревьями. Это был недобрый лес, здесь бродили лишь с мрачными мыслями. Тофт успокоился и стал внимательно смотреть по сторонам. Он вдруг с большим облегчением почувствовал, что все образы, мелькавшие до этого в его голове, исчезли. Его рассказ о долине и счастливой семье поблек и куда-то уплыл, уплыла куда-то и Муми-мама, стала далекой, чужой, он даже не мог представить себе, как она выглядит.
Хомса Тофт пошел дальше в лес, нагибаясь под ветками, то карабкался, то проползал, не думая ни о чем, и в голове у него было пусто, как в стеклянном шаре. По этому лесу ходила Муми-мама, когда была усталая, сердитая и хотела, чтобы ее оставили в покое; невесело бродила она наугад в этой вечной тени… Хомса вдруг представил Муми-маму совсем иной, и это вовсе не удивило его. Он вдруг подумал: отчего она могла расстроиться и чем ей можно было помочь?
Вот лес поредел, и показались высокие серые горы, прорезанные глубокими мокрыми впадинами, эти болота в лощинах тянулись почти до самых вершин. На мощных голых вершинах не было ничего, там гулял ветер. Небо было огромное, а по нему бежали большие снежные облака. Хомса Тофт обернулся – долина лежала позади маленькой тенью. И тут он увидел море – серое, громадное, испещренное белыми барашками до самого горизонта.
Тофт повернул мордочку к ветру. Теперь он наконец снова мог ждать.
Лодку муми-троллей подгонял попутный ветер, и она шла прямо к берегу. Она возвращалась с острова, на котором Тофт никогда не был. «Может, они сделают представление об этом острове, – думал он, – расскажут о нем сами себе, перед тем как залечь в зимнюю спячку».
Много часов подряд сидел хомса на горе и смотрел на море. Стало смеркаться, земля погружалась в темноту, но он все еще мог различить каждый гребень волны. Перед тем как скрыться за горизонтом, солнце бросило узкий холодный, по-зимнему желтый луч на гряду облаков, и весь мир стал вдруг неприветливым и пустынным.
Теперь хомса видел штормовой фонарь, который папа повесил на мачту. Фонарь горел ровно, излучая мягкий теплый свет. Лодка была еще очень далеко. И хомсе хватило времени, чтобы спуститься лесом вниз и пройти по берегу моря к лодочной пристани – как раз чтобы успеть принять носовой фалинь.
Сноски
1
Дочь Мюмлы так выросла, что все называли ее Мюмлой. – Примеч. перев.
(обратно)



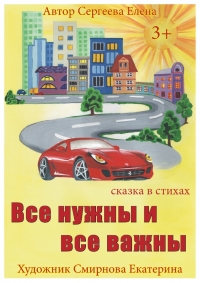
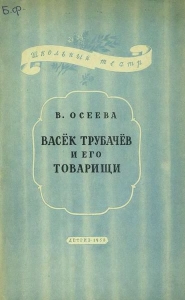





Комментарии к книге «В конце ноября», Туве Марика Янссон
Всего 0 комментариев