Джон Коннолли Белая дорога
Пролог
Они собираются.
Едут на своих грузовиках и лимузинах, над которыми вьются струйки синеватого дыма, хорошо видимые в чистом небе. Едут с женами и детьми, с родными и любимыми, болтают о сельском хозяйстве и будущих поездках, о церковных колоколах и воскресных школах, о свадебных платьях и именах еще не родившихся детях, о том, кто сказал то и кто сказал это, о делах малых и великих. Жизнь их городка не отличается от жизни тысяч таких же захолустных городков.
Они берут с собой еду и напитки, и запахи жареной курицы, свежеиспеченных пирогов заставляют их рты наполниться слюной. От них пахнет пивом, а под ногтями скопилась грязь, но на них надеты глаженые рубашки и модные платья; некоторые причесаны, некоторые нет. Они едут с радостью в сердце и местью на уме, и возбуждение свернулось змеей в их пупках.
Они едут посмотреть на горящего человека.
* * *
Двое остановились у заправки Цеберта Якена, «самой дружелюбной маленькой заправки на Юге», недалеко от берегов реки Огичи по дороге в Каину. В 1968 Цеберт сам нарисовал эту вывеску, взяв самые яркие краски — красную и желтую. Каждый год в первый день апреля он забирался на плоскую крышу и обновлял вывеску, так что солнце не успевало заставить потускнеть слова гостеприимства. Вывеска отбрасывала тень на чистую площадку, на клумбы с цветами и на ведра с водой, стоящие здесь, чтобы водители могли очистить ветровые стекла от разбившихся о них жуков. За бензоколонкой простирались невозделанные поля, и мерцающий воздух, согретый сентябрьским солнцем, создавал иллюзию, что травы колышутся в безветрии. Разноцветные бабочки, кружащиеся в беспорядке опадающих листьев, были похожи на паруса кораблей, застигнутых стихией врасплох.
Сидя на табуретке у окна, Цеберт высматривал проезжающие машины, и, если видел номера других штатов, мысленно готовился произнести слова теплого южного гостеприимства или продать немного кофе и соленых орешков, а может, и карты туристических маршрутов, сверкающие на солнце яркими обложками, словно предупреждая о собственной бесполезности.
Цеберт одевался просто: синий комбинезон с именем, вышитым на левой стороне груди, и кепка с рекламой кормов для животных, которая придавала ему задумчивый вид. У него были светлые волосы и длинные усы. Последние экстравагантно завивались над верхней губой, а их концы почти соприкасались под подбородком. За глаза говорили, что из-за них Цеберт выглядит так, будто ему на нос только что приземлилась птица. Его семья жила в этих местах на протяжении многих поколений, и Цеберт тоже не собирался никуда уезжать. Он размещал объявления о распродажах домашней выпечки и пикниках у себя на заправке и давал деньги на всякое благое дело. И, если иногда, чтобы продать побольше бензина и шоколадок, он прибегал к образу дедушки Уолтона, так в этом нет ничего дурного.
Над прилавком, за которым Цеберт сидел семь дней в неделю, разделяя обязанности с женой и сыном, висела доска объявлений с надписью: «Смотрите, кто заехал!». К ней были прикреплены сотни визитных карточек. Еще больше их было на стенах и оконных рамах, а также на двери в маленький офис Цеберта. Тысячи всяких Эйбов Нормальных и Бобов Средних, продающих картриджи для копировальных аппаратов или средства для ухода за волосами, вручали свои визитки старине Цеберту, чтобы оставить память о своем визите на «самую дружелюбную заправку на Юге». Он никому не отказывал, так что карточки скапливались у него с поразительной скоростью. По правде говоря, некоторые из них затерялись за холодильниками или еще бог знает где, но, тем не менее, если бы большая часть Эйбов и Бобов вернулась сюда снова в будущем, каждый с маленькими Эйбом и Бобом за спиной, они бы наверняка нашли свои карточки под сотнями других как своего рода реликты прошлой жизни и напоминание о том, кем они были.
Но те двое, что заплатили за полный бак и залили воду в дымящийся мотор своего разваливающегося «тауруса» около пяти пополудни, были не похожи на людей, оставляющих визитки. Цеберт понял это сразу, почувствовав, как захватило дух, когда они посмотрели на него. В их манере держать себя наравне с плохо скрываемой угрозой была какая-то потенциальная смертоносность, присущая заряженному пистолету или опасной бритве. Цеберт едва различимо кивнул им, когда эти двое вошли, и, понятное дело, не стал спрашивать у них никаких визиток. Эти люди не хотели, чтобы их помнили, и, будь вы столь же сообразительны, как многоопытный Якен, и вы приложили бы все усилия, чтобы забыть о них, как только они заплатят за бензин (наличными, конечно же) и пыль из-под колес их колымаги развеется.
Потому что потом, если вы захотите что-то вспомнить, предположим, когда придут полицейские и станут задавать вопросы, да еще дадите их описание, они могут об этом узнать и тоже вспомнить о вас. И, когда в следующий раз кто-нибудь из старых знакомых заедет к старине Цеберту, в руках у него будет пара гвоздик, а старина Цеберт уже не сможет с ним потрепаться о том о сем. Как говорится, в его доме будет играть музыка, но он ее не услышит.
Цеберт взял с них деньги и смотрел, как невысокий белый парень, только что заливший воду в радиатор, прогуливается вдоль полок с дешевыми компакт-дисками и книгами в мягких обложках. Второй, высоченный чернокожий тип в черной рубашке и фирменых джинсах, озабоченно оглядывал потолок и полки за кассой. Убедившись в отсутствии видеокамер, он достал бумажник и одетой в перчатку рукой достал из него две десятки, чтобы расплатиться за бензин и две банки содовой, а потом спокойно подождал, пока Цеберт выдаст ему сдачу. Их машина одиноко стояла у колонки. И номера и машина были перепачканы в грязи, так что Цеберт не мог различить ничего, кроме марки, цвета и виднеющейся на боку Мисс Либерти.
— Может, вам нужна карта? — спросил он с надеждой. — Или туристический справочник?
— Нет, спасибо, — ответил чернокожий.
Цеберт застыл на месте. Почему-то руки его стали трястись. Он понял, что заводит именно тот бессмысленный разговор, какого старался избежать. Он как бы со стороны смотрел, как старый дурак с длинными усами прокладывает себе дорогу в могилу своим языком.
— Вы к нам надолго?
— Нет.
— Значит, больше мы не увидимся...
— Может быть, нет.
Чернокожий сказал это таким тоном, что Цеберт оторвал взгляд от кассового аппарата и посмотрел на него; его ладони вспотели. Большим пальцем он подбросил четвертак и снова поймал его, прежде чем опустить в кассу. Высокий просто стоял по другую сторону стола, но в горле у Цеберта образовался ком, и он не мог понять почему. Казалось, перед ним не один человек в черной рубашке и с южным акцентом, а где-то за спиной есть еще незримый посетитель, перекрывший ему кислород.
— А может, мы как-нибудь заедем, — продолжал чернокожий. — Вы все еще будете здесь?
— Надеюсь, — пробормотал Цеберт.
— Как думаете, вы нас узнаете?
Вопрос был задан мягко, с тенью улыбки, но ничто не могло исказить его смысл.
Цеберт сглотнул.
— Мистер, — выдавил он, — я вас уже забыл.
Услышав это, высокий чернокожий парень кивнул и удалился вместе со своим компаньоном. Цеберт начал дышать только тогда, когда их машина скрылась из вида и тень от вывески вновь легла на пустую стоянку.
И, когда через пару дней приехали полицейские и стали задавать вопросы, Цеберт только качал головой и говорил, что ничего о них не слышал. Много людей проезжают здесь к 301-му шоссе или же по направлению к столице штата непрерывно, как в аттракционах Диснейленда. И, кроме того, все эти черные ребята на одно лицо, сами знаете. Он угостил полицейских кофе с печеньем и пожелал им счастливого пути. После чего, уже второй раз за неделю, вздохнул спокойно.
Цеберт окинул взглядом визитки, покрывающие почти всю поверхность стен, нагнулся и сдул пыль с одной из стопок. На карточке было имя — Эдвард Боутнер. Как свидетельствовала надпись на карточке, он продавал запчасти в Хаттисбурге, на Миссисипи. Если он когда-нибудь снова заедет сюда, сможет взглянуть на свою карточку. Так что она останется здесь, потому что старина Эдвард хотел, чтоб его помнили.
Но Цеберт не запоминал тех, кто этого не желал.
Конечно, он был дружелюбным человеком и законопослушным гражданином, но идиотом — никогда.
* * *
Черный дуб стоит на склоне на северной окраине зеленеющего луга; на фоне залитого лунным светом неба его ветви похожи на кости. Это очень старое дерево; кора его толстая и посеревшая, глубокие борозды испещряют ее по всей длине ствола. Все оно походит на окаменелый реликт давно ушедших времен. В некоторых местах внутренний слой коры стал виден; от них исходит горьковатый запах. Блестящие зеленые листья особенно густо растут именно там: уродливые, длинные и узкие, с частыми щетинками по краям.
Но это не настоящий запах черного дуба, что стоит на краю Адас-Филд. В теплую ночь, когда мир затихает и лунный свет бледно озаряет выжженную под кроной дерева землю, черный дуб издает другой запах, чуждый этому виду деревьев. Это запах бензина и горящей заживо плоти, человеческих испражнений и опаляющихся волос, плавящейся резины и хлопка. Это запах мучительной смерти, страха и отчаяния, последних минут жизни, прожитых в окружении смеющихся и глумящихся зевак.
Стоит подойти поближе, и можно увидеть, что нижние ветви потемнели и обуглились. Присмотритесь, и вы заметите на стволе раздвоенную отметину искусственного происхождения, которая теперь еле заметна, но раньше, очевидно, выделялась. Человека, который оставил эту отметину, последнюю в своей жизни, звали Уилл Эмбри; у него были жена и ребенок, работа в бакалейной лавке, где он получал один доллар в час. Его жену звали Лила Эмбри, урожденная Ричардсон. Тело ее мужа, принявшего страшную муку, когда его обутые в ботинки ноги с такой силой забились о ствол, что он сорвал с него кору и оставил на нем глубокую рану, так и не было ей возвращено. Его останки были сожжены, а обугленные кости толпа разобрала на сувениры, после чего жене послали фотографию умирающего мужа, где он с перекошенным от боли лицом взирал на поднимающееся по его ногам пламя. Впоследствии Джек Мортон из Нэшвилла напечатал пятьсот таких, чтобы использовать как открытки. Остатки плоти сожженного были сброшены в болото, на корм тамошним обитателям. Рана, нанесенная дереву Уиллом Эмбри, так и не заросла. Неграмотный человек, он оставил свою метку на единственном памятнике, и она выглядит так же неистребимо, как если бы ее вырезали на камне.
На этом старом дереве попадаются места, где уже никогда не вырастут листья. Бабочки не садятся на него, птицы не вьют гнезда в его ветвях. Желуди, падая на землю, не прорастают, а просто разлагаются. И даже вороны воротят нос от этого гнилья.
Ствол оплетен лозой. Ее листья широки, а из каждого уплотнения растет пучок цветов. Их запах отдает гниением, и при свете дня цветы покрыты мухами. Это Smilax herbacea — могильный цветок. Другого такого не найти на протяжении сотен миль. Как и черный дуб, оно единственное в своем роде. Два организма сосуществуют здесь, на Адас-Филд: сапрофит и паразит — один питает себя за счет дерева, другой — за счет дав но умершего человека.
Песня, которую поет в ветвях ветер, переполнена жалостью, болью и смертью. Она взывает к невозделанным полям и однокомнатным хибарам, сквозь акры кукурузы и белые облака хлопка. Она взывает к живым и мертвым, и старые привидения неторопливо откликаются на ее мотив.
А сейчас виднеются огни на дороге. Сейчас 17 июля 1964 года, и они собираются.
Они едут посмотреть на горящего человека.
* * *
Верджил Госсард вышел на парковку позади таверны Малыша Тома и звучно рыгнул. Тучи сгущались у него над головой, освещенные желтым диском луны. К северо-западу был виден хвост созвездия Дракона, ниже — Малая Медведица, выше — Геракл, но Верджил не принадлежал к тем людям, которые смотрят в ночное небо, — его взгляд был устремлен вниз, туда, где можно было волей случая найти десятицентовую монету. Так что мир звезд оставался для него неведомым. Из кустов раздавался стрекот полевых сверчков, звучавший в ночи сиротливо, не потревоженный ни шумом проезжающих машин, ни голосами людей из близлежащих домов, потому что большинство давно разъехались, поселившись в более приличных условиях. Цикад уже не было слышно, скоро леса погрузятся в зимнюю тишину. Верджил ожидал ее с нетерпением: он не любил насекомых. Сегодня нечто похожее на зеленоватую корпию проползло по его руке, пока он лежал в постели, и он почувствовал укол, когда невидимый охотник, ползающий по простыням, укусил его. Через секунду тот был уже мертв, но укушенное место все еще чесалось. Помнится, тогда Верджил хорошо запомнил время, когда пришли эти люди — зеленые цифры на электронных часах показывали 21:15, — и рассказал об этом полиции.
На стоянке стояли всего четыре машины, по количеству постояльцев. Остальные все еще сидели в баре — смотрели повтор трансляции хоккейного матча, но Верджил Госсард никогда особенно не интересовался хоккеем. Его зрение было далеко не идеальным, и он не мог уследить за шайбой. Да и вообще, Верджилу было сложно долго наблюдать за чем-либо, — так уж оно повелось. Верджил не отличался умом, хотя, возможно, тот факт, что он это осознавал, делал его умнее, чем ему самому казалось. Было много парней, которые считали себя Альфредами Эйнштейнами и Бобами Гейтсами, но только не Верджил. Он знал, что глуп, так что держал рот на замке, а глаза открытыми, — так и жил.
Он почувствовал позывы в мочевом пузыре и вздохнул. Конечно, прежде чем выйти, нужно было заглянуть в туалет Малыша Тома, но там воняло хуже, чем от самого его хозяина, а уж от старика Томми несло так, будто он уже начал умирать, причем мучительной смертью. Черт возьми, сейчас все начинают умирать еще при жизни, но это не мешает нормальным парням принимать ванну хотя бы с такой регулярностью, чтобы на них не садились мухи. Но Малыша Тома Раджа это не касалось: когда он собирался помыться, вода начинала течь по трубам в обратную сторону.
Верджил ухватился за пах и переступил с ноги на ногу. Ему не хотелось возвращаться назад, но, если Малыш Том поймает его писающим у себя на стоянке, Верджил отправится домой с ботинком Тома в заднице, а у него без того хватает проблем, и такая «клизма» ему ни к чему. Он мог бы отлить у дороги, но чем больше он думал об этом, тем больше ему хотелось сделать все прямо сейчас. Он чувствовал, что сейчас польется из ушей, и если придется терпеть еще хоть чуть-чуть...
Но, черт возьми, Верджил не собирался терпеть! Он расстегнул ширинку, покопался в штанах и облегчился прямо на стену заведения Малыша Тома, успев вывести свое имя, насколько позволяли узкие рамки его образования. Когда давление начало спадать, он глубоко вздохнул и закатил глаза в экстазе.
Что-то холодное коснулось его за левым ухом, и Верджил, вздрогнув, распахнул глаза. Он не шевелился. Все его внимание сфокусировалось на ощущении металла на коже, журчании на дереве и камне и на присутствии высокой фигуры за спиной. Фигура изрекла:
— Предупреждаю, чмо: если хоть одна капля твоей хреновой мочи упадет на мои туфли, тебе придется приделывать новый череп, прежде чем положить в ящик.
Верджил судорожно сглотнул:
— Я этот процесс не контролирую...
— А я и не прошу тебя остановиться. Я тебя вообще ни о чем не прошу. Я предупреждаю: не пролей ни капли своей грязной мочи мне на туфли.
Верджил всхлипнул и попытался отвести струю вправо. Он выпил всего три пива, но было похоже, что сейчас из него изливается целая Миссисипи. Пожалуйста, хватит, думал Верджил. Он осторожно взглянул направо и увидел черный пистолет в черной руке. Черный рукав куртки заканчивался черным плечом, черным лацканом, черной рубашкой и частью черного лица.
Пистолет сильнее надавил ему на череп, понуждая смотреть вперед, но Верджил все равно почувствовал приступ негодования. Грязный ниггер с пистолетом на парковке у таверны Малыша Тома! В жизни было немного аспектов, по которым Верджил Госсард имел вполне осмысленное мнение, и одним из них были ниггеры с пистолетами. Проблема заключалась в том, что в стране было не так много пистолетов, но слишком уж много их находились в руках неправильных людей, и совершенно определенно этими неправильными людьми были ниггеры. Верджил полагал, что белым пистолеты были нужны, только чтобы защитить себя от всех этих ниггеров с пистолетами, в то время как нигтерам — чтобы палить в таких же ниггеров и, если приспичит, в белых. Так что единственным выходом было бы отобрать у ниггеров пистолеты, и тогда станет меньше белых парней с пистолетами, потому что им нечего будет бояться, плюс ниггеры будут меньше друг в друга стрелять, так что уровень преступности понизится. Все просто: ниггеры — это не те люди, которым можно давать в руки оружие. Вот сейчас, как понимал Верджил, один из этих ниггеров наставил один из попавших не в те руки пистолетов на него, и Верджилу это никак не нравилось. Это как раз подтверждало ту же мысль: ниггерам оружие ни к чему...
Пистолет вопросительно надавил Верджилу на череп, и голос спросил:
— Ты хоть в курсе, что говоришь вслух?
— Черт! — ляпнул Верджил в сердцах и на этот раз себя услышал.
* * *
Первая машина поворачивает в поле и едет в гору, старый дуб отбрасывает в свете ее фар тень, которая разрастается на земле, подобно луже темной крови. Из машины выходит мужчина и открывает дверь для женщины. Им обоим за сорок, у них грубые лица, и они носят дешевую одежду, которую так часто чинили, что фабричная кожа затерялась среди бесконечных заплаток и швов. Мужчина достает из багажника соломенную корзину, ее содержимое аккуратно накрыто красной клетчатой салфеткой. Он передает корзину женщине, достает ветхую простынь и расстилает ее на земле. Женщина усаживается на нее, подобрав под себя ноги, и снимает салфетку. В корзине лежат четыре куска жареной курицы, четыре сливочных рулета, миска салата и две бутылки домашнего лимонада, а еще две тарелки и две вилки. Она протирает тарелки салфеткой и кладет их на простыню. Мужчина устраивается возле нее и снимает шляпу. Вечер выдался теплый, и комары уже вышли на охоту. Он прихлопывает одного и внимательно разглядывает на ладони то, что от него осталось.
— Вот сука! — досадливо восклицает он.
— Следи за собой, Эсу, — откликается женщина, поджимая губы, попутно раскладывая еду по тарелкам и убеждаясь в том, что мужу достанется лучший кусок, ведь он хороший, работящий мужик, хоть политесу и не обучен.
— Да ладно тебе, — говорит Эсу, принимая от нее тарелку с курицей и салатом, а она лишь растерянно качает головой, сожалея о манерах человека, за которого когда-то вышла замуж.
Позади них уже паркуются новые машины. В них и пары, и старики, и мальчишки лет пятнадцати-шестнадцати. Некоторые приезжают на грузовиках, другие на больших «бьюиках», «доджах», «фордах-мэйнлайнах» и даже старых добрых «кайзерах» — каждая из машин старше семи-восьми лет. Они делятся едой и пьют пиво, приветствуют друг друга рукопожатиями и хлопками по спине. Вскоре на Адас-Филд собираются больше сорока легковых машин и грузовиков, и все они освещают своими фарами старый дуб. Сейчас здесь уже около сотни людей, и они все прибывают.
Редко появляется возможность так вот собраться. Славные годы «негритянского барбекю» давно ушли, и старые законы не могут устоять перед влиянием извне. В этих краях еще можно найти людей, хранящих память о линчевании Сэма Хоса в Ньюмене в 1899, когда были организованы специальные туристические поезда, чтобы почти две тысячи человек со всей страны смогли лицезреть, как народ Джорджии расправляется с ниггерами-насильниками и ниггерами-убийцами. И совершенно не важно, что Сэм Хос никого не насиловал, а убил только плантатора Крэнфорда, и то в порядке самообороны. Его смерть должна была послужить назиданием для остальных. Они кастрировали его, отрезали пальцы и уши и содрали кожу с лица, прежде чем прибегнуть к маслу и факелу. Толпа дралась за его кости, растаскивая их на сувениры. Сэм Хос стал одной из пяти тысяч жертв публичных линчеваний. Некоторые из них, как говорили, были насильниками, некоторые — убийцами. А потом были те, кто просто много болтал или бессмысленно угрожал, когда должен был держать рот на замке. Подобные разговоры сулили большие проблемы. Они сопровождались ненужными спорами, а нет лучше способа заставить человека замолчать, чем канистра и спичка.
Да, славные были деньки.
Сейчас около половины десятого. Они слышат шум трех подъезжающих грузовиков, и оживленный ропот пробегает по толпе. Все головы разом поворачиваются, когда свет прорезает поле. В каждом грузовике, по крайней мере, шесть человек. В кузове центрального автомобиля — это красный «форд» — сидит высокий чернокожий человек со связанными руками. Его мускулы выступают, словно дыни в мешке, на лице кровь, а один глаз заплыл.
Он здесь.
Человек для «барбекю» здесь.
* * *
Верджил был уверен, что ему не жить. Длинный язык только что завел его в беду, скорее всего, последнюю в его жизни. Но милосердный Господь улыбнулся своему недостойному рабу, пусть не так широко, чтобы этот ниг... простите, бандит убрался. Вместо этого Верджил явственно ощутил дыхание чернокожего, когда тот заговорил, и даже запах его лосьона после бритья. Лосьон был дорогим.
— Еще раз произнесешь это — и ты покойник, так что, если хочешь последний раз с удовольствием помочиться, не теряй времени. Похоже, это будет последний раз.
— Простите, — выдавил Верджил.
Он старался вытравить оскорбительное слово из головы, но оно возвращалось назад еще настойчивее. Верджил взмок.
— Простите, — снова пробормотал он.
— Ну, ладно, ты все что ли?
Верджил кивнул.
— Тогда кончай с этим. А то филин подумает, что это червяк, и прихватит невзначай.
У Верджила возникло ощущение, будто его только что оскорбили, но он не стал углубляться в рефлексию — быстро запихал свое мужское достоинство в штаны и вытер руки о брюки.
— Оружие есть?
— Не-а.
— Спорю, что хотел бы иметь его сейчас под рукой.
— Ага, — признался Верджил в порыве неожиданной и, скорее всего, неуместной честности. Он почувствовал, как его обшарили руки, но пистолет остался на своем месте, плотно прижатый к его черепу.
«Значит, он не один, — мелькнуло в голове у Верджила. — Черт, да у него за спиной может быть полГарлема!»
Он почувствовал, как на запястьях щелкнули наручники.
— Повернись направо.
Верджил повиновался. Перед ним расстилалось зеленое пространство до самой реки.
— Ответишь на мои вопросы, и я отпущу тебя вот в эти поля. Ясно?
Верджил тупо кивнул.
— Томас Радж, Уиллард Хоаг, Клайд Бенсон — они в баре?
Верджил относился к тому типу людей, кто инстинктивно лжет, о чем бы его ни спросили, даже если от этого нет никакой выгоды. Лучше соврать и прикрыть задницу в самом начале, чем сказать правду и сразу же нагрести себе на горбушку проблем. Оставаясь верен себе, он покачал головой.
— Уверен?
Верджил открыл было рот и приготовился подтвердить лживый жест. Вместо этого его зубы клацнули одновременно с ударом головой о стену, когда дуло пистолета уперлось ему в затылок.
— Видишь ли, — прошептал голос, — мы все равно туда войдем. Если мы туда входим и их нет, тебе не о чем беспокоиться, по крайней мере, до тех пор, пока мы снова не начнем про них спрашивать. Но если мы входим, а они там сидят прохлаждаются, то у покойников больше шансов завтра утром воскреснуть, чем у тебя выжить. Понял?
Верджил понял.
— Они там, — твердо заявил он.
— Сколько еще народу там?
— Никого, только они.
Темнокожий человек (как Верджил наконец заставил себя думать о нем) отвел пистолет от его головы и погладил по плечу.
— Спасибо... — произнес он прочувствованно. — Извини, не разобрал, как тебя кличут.
— Верджил.
— Ну, спасибо, Верджил, — и он снова приложил Госсарда по голове рукояткой пистолета. — Ты классный парень.
* * *
Под черным дубом поставили старый «линкольн». Рядом с ним остановился красный грузовик, и трое мужчин в капюшонах спустились из кузова, толкая чернокожего перед собой. Он упал ничком, лицом в грязь. Сильные руки рывком поставили его на ноги, и он уставился в дыры, проделанные в наволочках сигаретами. Он чувствовал запах дешевого спиртного.
Дешевого спиртного и бензина.
Его звали Эррол Рич, хотя ни камня, ни креста не появится на месте его упокоения. С того самого момента, как его вытащили из материнского дома под причитания матери и сестренки, он перестал существовать. А сейчас все следы его физического присутствия на этой земле будут стерты, останутся только воспоминания в памяти любивших его. И воспоминания о том, как он умирал у тех, кто собрался здесь этой ночью.
И почему он оказался здесь? Ему предстоит сгореть, потому что он отказался пресмыкаться, отказался преклонить колени, за неуважение к «лучшим» мира сего.
Ему предстоит умереть за разбитое стекло.
Он вел свой старый грузовичок, старый грузовик с потрескавшимся стеклом и облезшей краской, когда раздалось:
— Эй, ниггер!
И затем стекло разлетелось перед ним, осколки порезали лицо, руки, и что-то ударило его в переносицу. Он затормозил, чувствуя на себе запах разлившейся жидкости. На коленях лежал треснувший кувшин, из него вытекали остатки содержимого, проливаясь на его брюки, на сиденье.
Моча. Они втроем наполнили его и швырнули ему в лобовое стекло. Он отер лицо, рукава стали влажными от крови. Он посмотрел на троицу, стоящую у дороги, в нескольких шагах от бара.
— Кто бросил? — спросил он. Никто не ответил, но в глубине души они испугались. Эррол Рич был сильным, крепким парнем. Они думали, что он утрется и поедет себе дальше, а не станет останавливаться и выяснять отношения.
— Это ты швырнул, Малыш Том? — Эррол остановился напротив Тома Раджа, владельца бара, но тот отвел взгляд. — Потому что, если ты это сделал, то лучше скажи сейчас, не то я спалю твой дерьмовый сарай до земли.
И снова не последовало ответа. Тогда Эррол Рич, который никогда не терял выдержки, подписал себе смертный приговор: он вытащил из кузова доску и пошел на компанию мужчин. Они отпрянули, думая, что он нападет на них, но вместо этого он бросил ее, трехфутовую доску, в окно бара Малыша Тома, сел за руль грузовика и уехал.
А сейчас Эрролу Ричу предстояло умереть за кусок дешевого стекла, и весь город собрался поглазеть на это «аутодафе». Он взглянул на них, этих богобоязненных людей, на этих сыновей и дочерей земли Божьей, и почувствовал на себе жар их ненависти, как предощущение надвигающегося жара пламени.
"Я чинил разные вещи, — подумал он. — Я брал испорченную вещь и делал ее нормальной".
Мысли приходили в голову ниоткуда. Он пытался не обращать на них внимания, но они не давали покоя.
«У меня был дар. Я мог взять двигатель, радиоприемник, телевизор и починить их. Я не читал инструкцию, никогда не обучался специально тому, как это делать. У меня просто был дар, и скоро он исчезнет. Вместе со мной».
Он взглянул на толпу, на выжидательные лица. Вот подросток лет четырнадцати, его глаза горят от возбуждения. Эррол узнал его и мужчину рядом с ним. Мужчина приносил ему в починку радиоприемник и очень переживал, успеет ли Эррол починить его до начала скачек, — очень уж хотел послушать репортаж. Эррол справился, и мужчина поблагодарил его, заплатив доллар сверх договоренного за то, что Эррол так постарался для него.
Мужчина заметил, что Эррол смотрит на него, и отвел взгляд. Ему никто не поможет, для него не будет снисхождения от этих людей. Ему предстоит умереть за разбитое стекло, а они найдут кого-нибудь еще, кто будет чинить их двигатели и радиоприемники, хотя и не так хорошо и не так дешево.
Ему связали ноги, заставили впрыгнуть в «линкольн». Они потащили его на крышу, эти люди в масках, и они повязали веревку вокруг его шеи, когда он упал на колени. Он увидел татуировку на руке самого крупного из них: ангелы держали знамя, и на нем было слово «Кэтлин». Руки натянули веревку. По голове потек бензин, и он поежился.
Потом он поднял голову и произнес свои последние слова на этой земле.
— Не сжигайте меня, — попросил он. Он примирился со своей смертью, с неизбежностью своей кончины этой ночью, но не хотел гореть.
«Пожалуйста, Господи, не дай им сжечь меня!»
Мужик с татуировкой плеснул остатки бензина в глаза Эрролу, ослепив его. Потом спрыгнул на землю.
Эррол Рич начал молиться.
* * *
Невысокий белый вошел в бар первым. Устоявшийся кислый запах пролитого пива висел в воздухе. На полу пыль и окурки громоздились кучками вокруг стойки, куда их заметали, но не убирали. На столе выделялись почерневшие круги в тех местах, куда тысячу раз ставили кружки. Оранжевая краска на стенах горела, как воспаленная кожа. Картин не было, самые обшарпанные места прикрывали рекламные постеры с логотипами фирм — производителей пива.
Бар был совсем небольшой, где-то тридцать на пятнадцать футов. Стойка, по форме напоминающая лезвие конька, располагалась слева, изогнутым концом ближе к двери. С противоположной ее стороны находились небольшой офис и помещение склада. Туалеты размещались позади, рядом с черным ходом. Напротив четырех кабинок с правой стороны стояла пара круглых столов.
За стойкой сидели два белых мужчины и еще один на месте бармена. Всем им на вид было около шестидесяти. Те, что сидели за стойкой, были одеты с небрежностью сезонных работников: дешевые джинсы, на головах — поношенные бейсболки, из-под помятых хлопчатобумажных рубашек выглядывали такие же мятые футболки. У одного из них на поясе висел длинный нож, у другого под рубашкой угадывались очертания пистолета.
Глядя на бармена можно было предположить, что когда-то он был крепким парнем. В его плечах, грудной клетке, руках чувствовалась сила, задавленная слоем жира, а бугры на груди обвисли, как у старухи. Под мышками его белой рубашки с короткими рукавами желтели застаревшие пятна пота, а брюки висели на бедрах, что, возможно, было бы стильно для шестнадцатилетнего парня, но не для мужика на полвека старше. У него были светло-пшеничные волосы, все еще густые; лицо покрывала щетина недельной давности.
Троица смотрела хоккей по старому телевизору, но их головы одновременно повернулись, когда вошел новый посетитель. Он был небрит, одет в помятые брюки, кричащую гавайскую рубашку и грязные кроссовки. По его внешнему виду нельзя было сказать, что парень выбирался хоть раз за пределы Кристофер-стрит[1], хотя никто из присутствующих в баре и понятия не имел, где находится эта улица. Но они были знакомы с таким типом посетителей, о да, хорошо знакомы. Они это чувствовали. И не важно, какая там у него щетина и как он одет, — у этого парня на лбу было написано: «гомик».
— Пиво есть? — спросил он, переступая порог бара. Бармен не сразу шевельнулся, потом достал из холодильника бутылку бада и поставил на стойку.
Невысокий посетитель взял бутылку и уставился на нее так, словно видел впервые.
— Ничего другого нет?
— Есть такое же легкое.
— Ну-у, такой «богатый» выбор...
Бармен никак не отреагировал на колкость, назвав лишь цену:
— Два пятьдесят.
Это было такое заведение, где редко встретишь ценники.
Посетитель отсчитал из толстой пачки три купюры, добавил пятьдесят центов, чтобы получился доллар на чаевые. Вся троица не сводила глаз с его тонких, почти женских рук, когда он прятал деньги в карман. Затем они снова уставились на экран. Невысокий мужчина сел в кабинке позади пары посетителей. Он закинул ноги повыше, устроился в углу и тоже повернулся к телевизору. Все четверо оставались в таком положении минут пять, пока двери снова не открылись и в баре не появился еще один посетитель; в зубах он держал незажженную сигару. Он двигался так тихо, что на него обратили внимание, только когда он оказался в футах четырех от стойки. В этот момент один из мужчин бросил взгляд налево и присвистнул:
— Томми, да у тебя в баре черномазый пацан.
Малыш Том и другой посетитель на секунду оторвались от хоккейного матча и посмотрели на темнокожего мужчину, который уселся на табурет у дальнего конца стойки.
— Виски, пожалуйста, — произнес он низким спокойным голосом.
Малыш Том не пошевелился: сначала этот гомик, теперь ниггер, ну и вечерок. Он перевел взгляд на дорогую рубашку чернокожего, его тщательно отглаженные джинсы, двубортный щегольский пиджак.
— Ты не из нашего города, пацан?
— Можно сказать и так.
Он даже не моргнул в ответ на второе за последние тридцать секунд оскорбление.
— В паре миль отсюда есть заведение для ниггеров, — продолжал Малыш Том, — там выпьешь.
— Мне здесь нравится.
— Ну, а ты мне здесь не нравишься. Шевели задницей, пацан, пока я не вышел из себя.
— То есть мне здесь не нальют?
— Нет. А сейчас мотай отсюда, или мне самому заставить тебя убраться?
Слева от него двое мужчин зашевелились, готовясь к потасовке. Однако объект их внимания невозмутимо достал из кармана бутылку виски и отвинтил крышку. Малыш Том полез правой рукой под прилавок. Оттуда он достал «лузвиль».
— Ты не можешь здесь пить, пацан, — предупредил он.
— Жаль, — произнес чернокожий. — И не называй меня пацаном. Мое имя Луис.
Затем он опрокинул бутылку и стал смотреть, как ее содержимое растекается по бару. Тонкая струйка повернула вдоль стойки — бортик не дал жидкости пролиться на пол — и протекла между тремя мужчинами. Они с удивлением взглянули на Луиса, прикурившего латунной зажигалкой «зиппо».
Луис встал и выпустил струю сигарного дыма.
— Ну, держитесь, белые засранцы, — произнес он и бросил горящую зажигалку в виски.
* * *
Мужик с татуировкой резко стукнул по крыше «линкольна». Мотор взревел, и машина дернулась пару раз, прежде чем сорваться с места в облаке грязи, сухих листьев и выхлопных газов. Казалось, на мгновение тело Эррола Рича замерло в воздухе, потом распрямилось. Его длинные ноги бессильно забились в воздухе. С губ сорвался хриплый звук, глаза выпучились, а веревка впивалась в его шею все сильнее и сильнее. Его лицо налилось кровью, задергалось в конвульсиях, красные капли потекли по груди, подбородку. Прошла целая минута, а Эррол продолжал сопротивляться.
Под ним мужик с татуировкой берет ветку, обернутую тряпкой в бензине, поджигает спичкой и делает шаг вперед. Он держит факел так, чтобы Эррол видел его, затем подносит к ногам жертвы.
Эррол отвечает страшным ревом, и, хотя его горло стянуто, он вопит — высокий тонкий звук полон нестерпимой муки. За ним следует второй вопль, затем пламя охватывает его рот, и голосовые связки пылают. Он бьется, извивается, воздух наполняет запах жареного мяса, и, наконец, судороги прекращаются.
Сожженный человек мертв.
* * *
Бар запылал, пламя перекинулось на бороды, волосы, брови. Мужчина с пистолетом под рубашкой отпрянул, левой рукой он прикрывал глаза, правой потянулся к оружию.
— А-а, — раздался голос. Девятнадцатый «глок» появился в сантиметре от его лица, твердо удерживаемый рукой незнакомца в яркой гавайской рубахе. Рука мужчины замерла: оружие уже обнаружено. Невысокий тип — они никогда не узнают, что его зовут Эйнджел, — разоружил незадачливого завсегдатая баров, и теперь у него в руках оказались два пистолета. Около двери Луис, выхватив «СИГ», нацелился на человека с ножом. А за стойкой бара Малыш Том тем временем заливал пламя. Лицо его налилось краской, он запыхался.
— Какого хрена ты это устроил?!
Он уставился на чернокожего и на «СИГ», который сейчас изменил положение и сместился к центру его груди. В лице Тома что-то изменилось, огонек проснувшегося страха быстро уступил место природной агрессивности.
— А что, какие-то проблемы, что-то не так? — поинтересовался Луис.
— У меня проблемы.
Это произнес мужчина с ножом на поясе, почувствовавший себя увереннее ускользнув из-под прицела. У него странные, словно размытые черты лица: слабый подбородок переходит в худую шею, в глубоких глазницах схоронились голубые глазки, а скулы выглядят так, словно когда-то были сломаны, а потом выровнены. Эти тусклые глаза безучастно смотрят на ниггера, а руки остаются поднятыми — подальше от ножа, но все же довольно близко. Было бы неплохо лишить его этого ножа. Человек, который носит нож таким образом, весьма ловко с ним обращается. Один из двух пистолетов в руках Эйнджела описал дугу в воздухе и уставился на мужчину.
— Расстегни пояс, — приказал Луис.
Немного помедлив, мужчина повиновался.
— Теперь вытащи его.
Он схватил нож и потащил. Ремень расстегнулся, ножны освободились, и нож выпал на пол.
— Вот так лучше.
— У меня все равно проблема.
— Жаль это слышать, — ответил Луис. — Ты Уиллард Хоаг?
Бесцветные глаза ничего не отразили. Не мигая, они смотрели на вопрошавшего.
— Я тебя знаю?
— Нет, меня ты не знаешь.
Что-то мелькнуло в глазах Уилларда:
— Вы ниггеры для меня все на одно лицо.
— Я в тебе не ошибся. Человек за твоей спиной — Клайд Бенсон. А ты, — «СИГ» сместился в сторону бармена, — ты Малыш Том Радж.
Лицо Тома стало багровым не только от жара горящей жидкости. В нем самом бушевало пламя. Оно билось в его трясущихся губах, в сжимающихся и разжимающихся пальцах. От этого татуировка на руках хозяина забегаловки двигалась, будто кто-то размахивал знаменем со словом «Кэтлин».
И вся эта ярость была направлена против чернокожего человека, который угрожал ему в его собственном баре.
— Ты мне не скажешь, что здесь происходит? — не выдержал он.
Луис улыбнулся:
— Искупление греха, — вот что здесь происходит.
* * *
Десять минут одиннадцатого женщина встает. Они зовут ее бабушка Люси, хотя ей нет еще и пятидесяти и она все еще красива, с молодыми глазами и кожей, почти не отмеченной морщинами. В ногах у нее сидит мальчик лет семи-восьми, рослый не по годам. По радио передают «Блюз плачущей ивы».
На женщине лишь ночная сорочка и шаль, ноги босы. Но она встает, выходит из дому и спускается по ступенькам осторожными, размеренными шагами. Рядом с ней идет мальчонка, ее внук.
— Бабушка, что случилось?
Но она не отвечает. Это потом она расскажет своему маленькому Луису о множестве миров, о местах, где грань, разделяющая живых и умерших, так тонка, что они могут видеть, прикасаться, чувствовать друг друга. Она расскажет ему о дневных и ночных странниках, о тех заветах, которые ушедшие из жизни оставляют наследникам и которые не дают тем покоя.
А еще она расскажет о Дороге, по которой мы все идем, это наша общая дорога — для живых и умерших.
Но пока она только плотнее запахивает шаль на груди и продолжает идти к краю леса, где останавливается и ждет в безлунной ночи. Среди деревьев виднеется свет, будто с небес спустился метеорит, он все ближе и ближе к земле, вспыхивая и угасая, разгораясь и затухая. Жара не чувствуется, но в сердцевине света что-то полыхает.
И, когда мальчуган заглядывает в ее глаза, он видит в них горящего человека.
* * *
— Ты вспомнил Эррола Рича? — спросил Луис.
Ответа не последовало, но по лицу Клайда Бенсона прошла судорога.
— Я еще раз спрашиваю: Эррола Рича вспомнил?
— Да мы понятия не имеем, о чем ты говоришь, парень, — произнес Хоаг. — Ты не туда попал.
Мелькнул пистолет, глухо пролаял, и из отверстия с левой стороны груди Уилларда Хоага брызнула струйка крови. Он отпрянул назад, свалил табуретку и грузно повалился на спину. Его левая рука еще пыталась что-то нащупать на полу рядом с собой, но он почти сразу затих.
Клайд Бенсон заплакал, а потом все завертелось.
Малыш Том нырнул под стойку бара, стараясь нащупать под раковиной обрез. Клайд бросил табуретом в Эйнджела, метнулся к двери. Ему удалось добраться до мужского туалета, и в этот момент в его рубашке появились две дырочки. Спотыкаясь, он вывалился в заднюю дверь и исчез в темноте. Эйнджел, стрелявший в него, бросился за Бенсоном.
Сверчки вдруг умолкли, и в наступившей тишине появилось странное предчувствие спокойствия, как будто окружающий мир приготовился к неминуемому, к тому, что должно произойти в баре. Безоружный и истекающий кровью Бенсон почти добрался до края парковки, когда стрелок настиг его. Земля ушла у него из-под ног от неожиданного удара, и Клайд рухнул в грязь. Кровь обильно орошала землю вокруг него. Он пополз к высокой траве, словно надеясь найти в ней защиту. Удар ботинком в грудь перевернул Бенсона на спину, волна ослепляющей боли накрыла его, Клайд непроизвольно зажмурился. Когда он снова открыл глаза, над ним стоял мужчина. Его пистолет был нацелен в голову Бенсона.
— Не делай этого, — взмолился он, — пожалуйста.
Выражение лица человека в гавайской рубашке не изменилось.
— Пожалуйста, — канючил Бенсон, всхлипывая. — Я раскаялся в своих грехах. Я пришел к Христу.
Палец на крючке напрягся, и стрелок произнес:
— В таком случае тебе не о чем беспокоиться.
* * *
В темноте ее зрачков пылал человек, пламя плясало на нем, покрывая с головы до ног, оно пожирало его лицо, глаза, рот. Не было ни кожи, ни волос, ни одежды. Было только пламя в виде человека, и была боль в виде пламени.
— Бедный ты, бедный мой, — прошептала женщина.
Из глубины колодцев ее глаз выступили слезы и потекли по щекам. Пламя взметнулось и стало затихать. Рот горящего человека открывается, из безгубой ямы вырываются слова, которые расслышала только эта женщина. Пламя замирает, из белого становится желтым, от него остается только силуэт, черное на черном, а потом не остается ничего — только деревья и слезы, да ощущение руки женщины на руке мальчика:
— Пойдем, Луис, — говорит она и ведет внука назад, домой.
Горящий человек мертв.
* * *
Малыш Том поднялся с обрезом и обнаружил пустую комнату и мертвого мужчину на полу. Он проглотил слюну, переместился налево, до конца прилавка. Он сделал шага три, когда на уровне его бедра дерево разлетелось на щепки и в его тело вонзились пули, прошив правое бедро и левую голень. Малыш Том рухнул и завопил, когда простреленные ноги ударились о пол, но все же ему удалось выпустить оба заряда. Они разнесли в щепки деревянную стойку и обрушили град битого стекла. Малыш Том чувствовал запах крови, пороха, пролившегося виски. В ушах у него звенело, из всего грохота остался звук растекающейся жидкости и рухнувшего дерева.
А еще звук шагов.
Он посмотрел налево и увидел возвышающегося над ним Луиса. Ствол «СИГа» был направлен ему в грудь. Хозяин бара сглотнул остатки слюны. Кровь фонтаном била из бедренной артерии. Он пытался остановить струю рукой, но кровь растекалась меж пальцами.
— Ты кто? — прохрипел Малыш Том. Снаружи донесся звук двух выстрелов: в уличной грязи умер Клайд Бенсон.
— В последний раз спрашиваю: человека по имени Эррол Рич помнишь?
Малыш Том затряс головой и заскулил:
— Черт побери, да не знаю я его.
— А следовало бы знать: ты его сжег.
Луис приставил дуло пистолета к носу хозяина бара. Малыш Том поднял правую руку, закрывая лицо.
— Я помню! Помню! Я был там, но я не сделал ему ничего плохого.
— Лжешь! Не лги мне, скажи правду. Говорят, признание облегчает душу.
Луис опустил «СИГ» и выстрелил. Верхняя часть ступни Тома исчезла, став кровавым месивом. Он просто захрюкал от боли и ужаса, когда пистолет нацелился на его левую ступню, и слова посыпались из его нутра, как поток рвотных масс:
— Не надо, пожалуйста. Господи, как же больно! Ты прав, это мы сделали. Я раскаиваюсь в том, что мы сотворили. Мы тогда были молодые, ничего не понимали. Это было ужасно, сейчас я понимаю.
Его глаза умоляли саму Немезиду в лице высокого мускулистого чернокожего, который тридцать пять лет ждал этого часа. Все лицо Малыша Тома покрылось потом.
— Ты думаешь, был хоть день, когда бы я не думал об этом, о том, что мы сделали? Ты думаешь, был такой день, когда эта вина не давила бы меня?
— Нет, не думаю, — просто сказал Луис.
— Я найду способ расплатиться за то, что сделал, пожалуйста, — рука поднялась в умоляющем жесте.
— Я знаю способ, как ты можешь рассчитаться.
И после этого Малыш Том Радж перестал жить.
В машине они разобрали оружие, протерли каждую деталь чистой ветошью. Проезжая мимо полей и ручьев, они молча выбрасывали детали пистолетов. Заговорили, лишь отъехав на довольно значительное расстояние от бара.
— Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался Луис.
— Никак, — ответил Эйнджел, — только спина болит.
— Как насчет Бенсона?
— С ним мы ошиблись, но я все же прикончил его.
— Они это заслужили.
— Не пойми меня неправильно, — Эйнджел выглядел совершенно спокойным. — У меня нет проблем с тем, что мы сейчас сделали. Но, прикончив его, я не чувствую себя лучше, если ты меня об этом спрашиваешь. Я не его хотел убить. Когда я нажимал на курок, я видел перед собой не Клайда Бенсона, а преподобного. Я видел Фолкнера.
На какое-то время повисла тишина. Они ехали по темным полям, вдали мелькали в тумане очертания домов.
Эйнджел прервал молчание:
— Берду надо было покончить с ним, когда представился случай.
— Возможно.
— Не может быть никаких «возможно». Его надо было просто поджарить.
— Берди не такой, как мы. Он слишком много думает, слишком много чувствует.
Эйнджел глубоко вздохнул.
— Чувствовать и думать — разные вещи. Старый ублюдок никуда не исчезнет. Пока он жив, он остается угрозой для всех нас.
Луис молча кивнул в знак согласия.
— И он изуродовал меня, а я поклялся, что больше никто меня пальцем не тронет. Никто!
Спустя какое-то время его компаньон мягко произнес:
— Нам придется выжидать.
— Чего?
— Подходящей возможности, подходящего времени.
— А если оно не наступит?
— Наступит.
— Вот не надо мне только лапшу на уши вешать, — произнес Эйнджел, прежде чем повторить вопрос:
— А что если не наступит?
Луис протянул руку и мягко коснулся его лица:
— Тогда мы сами создадим такую ситуацию.
Вскоре они пересекли границу штата и направились в Южную Каролину, и их никто не остановил. Где-то далеко остались Верджил Госсард в полубессознательном состоянии и тела Малыша Тома Раджа, Клайда Бенсона и Уилларда Хоага. Эта троица издевалась над Эрролом Ричем, выдернула его из собственного дома, это они повесили его на дереве.
И на Адас-Филд, где горел живой факел, листья дуба стали коричневыми, живица с шипением сочилась из ствола, ветви, как кости горящей руки, распростерлись на бархате ночного неба, усеянном звездами.
Книга 1
Кто тот, что вечно следует за мной?
Меж нами он невидим, нам неведом,
Но ты вглядишься в Белую дорогу -
И вот он, в черном весь, до самых пят.
Он иль она? О, как тревожит душу
Тень за моим плечом...
Т.С. Эллиот «Бесплодная земля»Глава 1
Медведь сказал, что видел погибшую девушку.
Это было неделю назад, за неделю до происшествия в Каине, когда погибли трое мужчин. Солнечный свет пробивался сквозь слой облаков, грязных и серых, как дымок над подожженной мусорной кучей. В повисшей неподвижности разлилось предчувствие скорого дождя. Во дворе дворняга Блайтов тяжело распласталась на лужайке, голова лежала меж передних лап, в широко распахнутых глазах застыло беспокойство. Блайты жили на Дартмаус-стрит в Портленде, поблизости от Бэк-Коув и залива Каско. Обычно вокруг было много птиц — чаек, уток, зуйков, но сегодня их не было видно. Существовал целый мир, словно нарисованный на стекле и замерший в ожидании мгновения, когда стекло разлетится под ударом невидимой силы.
Мы молча сидели в маленькой гостиной. Медведь, вялый, безучастный, смотрел в окно, словно ожидая, когда первые капли дождя упадут на землю и подтвердят чьи-то невысказанные тревоги и страхи. На отполированном дубовом полу не было заметно никакого движения теней, даже наших собственных. До меня доносилось тиканье фарфоровых часов на камине, стоявших в окружении фотографий. На них были запечатлены моменты другой, более счастливой жизни. Я поймал себя на мысли, что разглядываю фото Кэсси Блайт на выпускном вечере, придерживающей рукой шапочку. Ее кисточка поднялась и распушилась на ветру, словно перышки у встревоженной птицы. У девушки были вьющиеся черные волосы, рот казался чуть великоват, а улыбка — слегка неуверенной, но в карих глазах разлилось умиротворение, и ни малейшей тени печали.
Медведь оторвался от созерцания солнечного света и попробовал встретиться взглядом с Ирвином Блайтом и его женой, но не смог и вместо этого уставился на пол. Моего взгляда он избегал с самого начала, стараясь никак не показать, что я тоже присутствую в комнате. Это был крупный мужчина в поношенном синем джинсовом комбинезоне, зеленой футболке и черном кожаном жилете, который со временем стал явно мал для его внушительной фигуры.
В тюрьме у него отросла длинная всклокоченная борода, немытые волосы висели неряшливыми космами. Со времени нашей последней встречи у Медведя появилось несколько татуировок, типичных для тех, кто побывал в заключении: на правом предплечье фигура женщины, а за левым ухом — кинжал. Он глядел на мир сонными голубыми глазами. Порой у него возникали трудности с выражением своих мыслей. В целом этот человек представлял собой душераздирающее зрелище несчастного, у которого все возможное будущее уже похоронено в прошлом.
Когда паузы в рассказе затягивались, его компаньон прикасался к нему рукой и продолжал говорить за Медведя, ненавязчиво продолжая историю, пока тот ни вспоминал следующий пункт в канве повествования. На спутнике Медведя был какой-то пыльный костюм синего цвета, под ним — белая рубашка с красным галстуком, узел которого поистине чудовищного размера напоминал нарост на горле. Портрет дополняли не сходящий круглогодичный загар и седые волосы. Он представился Арнольдом Сэндквистом, частным детективом. Этот джентльмен занимался расследованием дела Кэсси до тех пор, пока приятель Блайтов не посоветовал им пообщаться на эту тему со мной. Неофициально и, возможно, неэтично я посоветовал им отказаться от услуг господина Сэндквиста, которому они ежемесячно выплачивали полторы тысячи долларов под предлогом, что тот занимается поиском их дочери, бесследно пропавшей шесть лет тому назад, вскоре после окончания колледжа. Сэндквист был уже вторым по счету детективом, которого несчастные родители наняли для расследования обстоятельств исчезновения дочери, и трудно было подобрать для него более точное определение, чем паразит, который присосался к Блайтам. Сэндквист создавал впечатление такого скользкого и масленого, что, должно быть, когда он купался в море, у прибрежных птиц на перьях появлялся слой жира. Я так прикинул, что за пару лет ему удалось раскрутить Блайтов штук на тридцать пять за его так называемую розыскную работу. В Портленде не так много людей с постоянными приличными доходами. Ничего удивительного, что сейчас он пытался вернуть их доверие и их деньги.
Рут Блайт позвонила мне около часа назад, чтобы сообщить о приезде Сэндквиста, у которого, по его словам, были новости насчет Кэсси. Я как раз колол березовые и кленовые чурки, запасая на зиму дрова. У меня даже не было времени помыться и переодеться: на руках, на старых джинсах, на футболке «Сила в одиночестве» остались следы древесной смолы и какие-то мелкие щепки. Перед нами предстал Медведь, прямо из тюремного заведения Мул-Грик Стэйт Пен. По всем его карманам были распиханы дешевые пузырьки из аптек в Тиджуане. Благодаря досрочному освобождению он оказался дома и сейчас делился с нами рассказом о том, как он повстречал давно погибшую девушку.
Именно погибшую, потому что Кэсси Блайт не было в живых. Я знал это и предполагал, что ее родителям это тоже известно. В ту минуту, когда дочь погибла, они не могли не почувствовать, что она перестала существовать: что-то надорвалось в их сердцах, и они поняли, что с их единственным ребенком произошло нечто непоправимо страшное, и она больше никогда не вернется домой. Однако они регулярно, раз в неделю, убирались в ее комнате, дважды в месяц меняли постельное белье, чтобы оно всегда было свежим на случай, если она появится на пороге, переполненная невероятными историями, которые все объяснят в ее шестилетнем молчании. Пока им не скажут открытым текстом: ваша дочь умерла, всегда будет шанс, что Кэсси все же жива, хотя часы на камине каждый день убеждают их в обратном.
Медведь получил три года в калифорнийской тюрьме за скупку краденого. Он был туповатый парень, причем настолько нелепый простофиля, что мог бы украсть у самого себя. Он был слишком откровенным придурком, чтобы быть знакомым Кэсси Блайт по Дампстеру, но с упорством идиота припоминал, запинаясь и путаясь, все новые и новые подробности, которые, я был в этом уверен, его заставил выучить Сэндквист. Ехал он в Мексике после освобождения из тюрьмы, заглядывал в придорожные магазинчики, чтобы подзапастись кое-чем из лекарств, а то нервы совсем расшалились, ну и столкнулся с Кэсси Блайт: она сидела с каким-то немолодым мексиканцем в баре на бульваре Акуа-Калиенте, рядом с ипподромом; ну, а потом этот парень подвалил к нему и говорит, чтоб Медведь не лез не в свои дела и потащил Кэсси в машину. В баре кто-то сказал, что парня зовут Хектор, он живет у пляжа Розарито. У Медведя не было денег, чтобы за ними поехать, но он точно уверен, что эта женщина точно была Кэсси Блайт. Он запомнил ее по фотографиям в газетах: его сестра присылала ему разные газеты, чтобы он мог побыстрее скоротать время в тюрьме, ну а то, что Медведь не мог разобрать надписи на парковочном счетчике, не говоря уж о чтении газет, значения не имело. Она даже обернулась, когда он позвал ее по имени. Он бы не сказал, что у нее был несчастный вид или что ее удерживали силой. Но первое, что он сделал, когда вернулся в Портленд, это позвонил мистеру Сэндквисту, потому что мистер Сэндквист — частный детектив, о нем писали в газетных репортажах. А мистер Сэндквист сказал ему, что больше не занимается этим делом, что взяли другого сыщика. Но Медведь будет работать только с мистером Сэндквистом: он ему доверяет, он о нем много хорошего слышал. Нет уж, если Блайтам нужна помощь Медведя в Мексике, то пусть этим делом снова занимается мистер Сэндквист. При этих словах Сэндквист, который все время мягко покачивал головой, стоя рядом с рассказчиком, выпрямился и с осуждением посмотрел на меня.
* * *
Я не сводил с него взгляда.
— Я знаю тебя, Медведь, и не верю ни одному твоему слову. Не делай этого. Остановись сейчас, пока еще не поздно и дело не зашло слишком далеко.
Медведь, закончив рассказывать свою историю во второй раз, с облегчением перевел дух. Сэндквист мягко погладил его по спине, попутно изобразив на лице мину самой глубокой обеспокоенности, на которую был способен. В этих краях он обитал уже лет пятнадцать, и у него была вполне сносная репутация. Но в последние годы ей был нанесен некоторый урон: сперва развод, потом слухи об увлечении азартными играми. Блайты были для него дойной коровой, которую он никак не мог себе позволить потерять.
Ирвин Блайт продолжал молчать, хотя Медведь давно закончил свой рассказ. Первой заговорила его жена. Она протянула руку и прикоснулась к мужу:
— Ирвин, мне кажется...
Но он поднял руку, и Рут немедленно умолкла. У меня были смешанные чувства по отношению к Ирвину Блайту. Человек старой закалки, он порой обращался со своей женой, как с человеком второго сорта. В восьмидесятые он был главным управляющим в компании по производству бумаги в Джее и противостоял профсоюзу работников бумажной промышленности, когда тот затеял организовать рабочих в Северных лесах. Семнадцатимесячная забастовка с восемьдесят седьмого по восемьдесят восьмой год стала одной из самых ожесточенных в истории штата, во время нее лишились работы свыше тысячи рабочих.
Ирвин Блайт был самым стойким противником компромисса, и компания весьма щедро отблагодарила его, положив очень крупную пенсию своему главному управляющему, когда тот отошел от дел и вернулся в Портленд. Да, Блайт был жестким человеком, но это вовсе не значит, что он не любил свою дочь, и ее исчезновение состарило его за эти шесть лет на целую жизнь: он худел со скоростью воды, стекающей глыбы льда весной. Белая рубашка висела на согнутых плечах, воротник болтался вокруг шеи так, что там свободно поместился бы мой кулак. Брюки удерживались на талии лишь благодаря туго застегнутому ремню, и я не уверен, что старику не приходилось регулярно проделывать в нем новые дырки. Все в его внешности говорило о потерях и отсутствии в жизни чего-то важного.
Со стороны Сэндквиста послышалось:
— Полагаю, мистер Блайт, нам с вами следует побеседовать. Наедине, — добавил он, одарив Рут многозначительным взглядом, в котором ясно читалось, что это будет мужской разговор, которому не должны мешать женские эмоции и всплески чувств, какими бы искренними они ни были.
* * *
— Выйду-ка я покурить, мэм, — произнес он.
Рут Блайт в ответ кивнула, наблюдая как туша Медведя прошествовала мимо. Ее правая ладонь, сжатая в кулак, прикрывала губы, словно она все еще пыталась защититься от только что полученного удара. Это она настояла на том, чтобы муж отказался от услуг мистера Сэндквиста. Он согласился только потому, что расследование Сэндквиста не принесло фактически никаких результатов. У меня, впрочем, было чувство, что ко мне он тоже не испытывает никаких теплых чувств. Миссис Блайт была маленькая женщина, но это миниатюрность терьеров, у которых за незначительными размерами скрываются энергия и сила. Я вспомнил сообщения в новостях об исчезновения Кэсси Блайт, лица Ирвина и Рут, сидящих за столом; рядом с ними — заместителя начальника отделения полиции Портленда Эллиса Говарда. Руки Рут судорожно сжимают фотографию дочери. Когда я согласился посмотреть дело, она передала мне запись пресс-конференции, а также вырезки из газет, фотографии и невероятно тощий отчет о расследовании от Сэндквиста. Шесть лет назад я сказал бы, что Кэсси Блайт больше похожа на отца, чем на мать, но спустя эти годы понял, что она скорее напоминает свою маму (или мама дочку?). Они были похожи глазами, улыбкой, даже стричься Рут стала так же, как некогда стриглась дочь. Каким-то странным образом Рут Блайт менялась, все больше и больше напоминая собственную дочь, будто становясь для Ирвина и дочерью и женой, сохраняя в себе что-то от живой Кэсси, несмотря на то, что тень потери все неотвратимее накрывала их.
— Он говорит неправду, да? — спросила она меня, как только Медведь вышел.
На какое-то мгновение я сам был готов солгать, признаться, что я не уверен, что сразу невозможно определить, но не смог этого сделать. Она заслужила, чтобы ей не лгали. Но в то же время, она не заслужила и того, чтобы слышать, что надежды нет и ее дочка никогда к ней больше не вернется.
— Я так думаю.
— Зачем он это сделал? Зачем он пытался причинить нам боль?
— Вряд ли он хотел сделать вам больно, миссис Блайт, вряд ли это Медведь. Его просто ввели в заблуждение.
— Это Сэндквист, правда?
Что я мог ей ответить?
— Давайте я поговорю с Медведем.
Я уже подошел к двери, когда увидел отраженное в окне лицо Рут Блайт: нечеловеческая мука, борьба между отчаянным желанием ухватиться за призрачную надежду, подброшенную Медведем, и знанием того, что надежда эта рассыплется пеплом в ее руке, едва она дотронется до нее. Я толкнул дверь и вышел во двор.
На улице Медведь пыхтел сигаретой и пытался заигрывать с собакой Блайтов. Пес не обращал на него никакого внимания.
— Привет, Медведь.
Я помнил его еще со времен своей юности, когда он был ненамного меньше в размерах и почти такой же недотепа. Он жил в маленьком домике в Экорне вместе с матерью, двумя старшими сестрами и отчимом. Они были порядочные люди: мать работала в Вулуорсе, отчим занимался доставкой содовой. Их уже не было в живых, а сестры жили неподалеку, в Южном Уиндхаме. Это оказалось весьма удобно, пока Медведь проводил три месяца в исправительном заведении в Уиндхаме: он оказался там в возрасте двадцати лет за разбой. Это был его первый тюремный опыт, и ему повезло не преумножить его в последующие годы. Какое-то время он шоферил, потом уехал в Калифорнию; была какая-то разборка, в результате которой появились один покойник и один калека. Хотя сам Медведь в потасовке не участвовал, следовало ждать мести, и сестры уговорили его убраться восвояси. Навсегда. В Лос-Анджелесе он подрабатывал, убирая кухню в какой-то забегаловке, потом снова попал в плохую компанию и закончил в тюрьме Мул-Грик. По сути, злобы как таковой в нем не было, но от этого он не стал менее опасным. Он был слепым орудием в чужих руках, готовым на все ради денег, работы, а то и просто за компанию. Медведь видел мир не совсем таким, каким он был на самом деле. Сейчас он вернулся домой, но, судя по нему, так же, как и прежде, не мог найти себе места, казался потерянным и одиноким.
— Я не могу с тобой разговаривать, — сразу заявил он, едва я встал рядом с ним.
— Почему?
— Мистер Сэндквист предупредил меня, чтобы я не делал этого. Он сказал, что от тебя добра не жди.
— В каком смысле?
Медведь улыбнулся и погрозил мне пальцем:
— У-у, меня не проведешь.
Я шагнул на траву, присел на корточки и вытянул руки ладонями кверху. Пес немедленно приподнялся и, помахивая хвостом, не спеша приблизился ко мне. Подойдя, он обнюхал мои пальцы, затем ткнулся мордой в ладонь, и я стал чесать у него за ушами.
— А че он ко мне не подошел? — спросил Медведь. В его голосе прозвучала обида.
— Может быть, он тебя побаивается, — предположил я и сразу пожалел об этом, увидев гримасу огорчения на его лице. — А может, он чувствует запах другой собаки на моих руках. Да уж, ты боишься большого Медведя, приятель? Он не такой уж страшный.
Парень опустился на корточки рядом со мной, двигаясь настолько медленно и доброжелательно, насколько ему позволяла его громоздкая фигура. Он провел своими огромными пальцами против шерсти на голове пса. У того в глазах вспыхнул тревожный огонек, почувствовалось напряжение в теле, затем оно стало медленно проходить по мере того, как пес начал ощущать, что от большого человека не исходит никакой угрозы для него. От удовольствия собака закрыла глаза.
— Это была собака Кэсси Блайт, Медведь, — произнес я и заметил, как на мгновение замерла рука великана, до этого спокойно перебирающая собачий мех.
— Хороший пес, — заметил он.
— Да, хороший... Медведь, почему ты это делаешь?
Он ничего не ответил, но я заметил, в глубине его глаз появилось выражение вины, мелькнуло, как рыбка, которая тут же исчезла в предчувствии приближающегося хищника. Он хотел было убрать руку, но пес поднял морду и прижимался к его пальцам до тех пор, пока тот снова не начал ласкать его. Я предоставил ему заниматься этим в свое удовольствие.
— Я знаю, что ты никому не хотел причинять боль, Медведь. Помнишь моего деда? Он был помощником шерифа в округе Кумберленд.
Медведь молча кивнул.
— Он однажды сказал мне, что в тебе есть мягкость и нежность, даже если ты сам себе в этом не признаешься. Он говорил, что у тебя есть возможность стать хорошим человеком.
Медведь смотрел на меня ничего непонимающим взглядом, но я упорно продолжал.
— В том, что ты сегодня сделал, нет ни мягкости, ни доброты, Медведь, и в этом нет ничего хорошего. Родителям Кэсси будет больно. Они потеряли дочь, и им отчаянно хочется, чтобы она нашлась живой и здоровой в Мексике. Но и я и ты, Медведь, знаем, что этого не случится. Мы знаем, что ее там нет.
Какое-то время Медведь ничего не говорил, как будто надеясь, что я каким-то образом исчезну и перестану мучить его.
— Что он тебе предложил?
Его плечи чуть вздрогнули, но он, кажется, был рад возможности сознаться.
— Он обещал мне пять сотен и, возможно, подсказать насчет работы. Мне деньги нужны. И работа нужна. Это непросто — найти работу, если ты попадал в истории. Он сказал, что ты им ничем не можешь помочь, и что, если я расскажу эту историю, я им сильно помогу в общем-то.
Я почувствовал, как напряжение у меня между лопатками постепенно спадает, но при этом я ощутил и сожаление, слабое отражение того разочарования, которое ожидает Блайтов, когда я подтвержу им, что Медведь и Сэндквист солгали им насчет их дочери. Но я не мог найти в себе сил, чтобы обвинить одного Медведя.
— У меня есть кое-какие друзья, они могли бы помочь тебе насчет работы, — сказал я. — Им мог бы пригодиться помощник в Пайн Пойнт. Я могу замолвить за тебя словечко.
Он взглянул на меня:
— Сделал бы это, а?
— Я могу сказать Блайтам, что их дочь не в Мексике?
Он сглотнул:
— Мне так жаль. Я бы очень хотел этого. Я бы очень хотел, ну, повстречать ее. Ты им скажешь это?
Он был похож на большого ребенка, который даже не может представить себе, какую огромную боль причинил людям.
Что мне было ответить ему? Вместо слов я молча погладил его по плечу в знак признательности:
— Я позвоню тебе домой, сообщу насчет работы. Тебе нужны деньги на такси?
— Не-а. Я так, пешком, дойду. Тут недалеко.
На прощание он как следует потрепал собаку и отправился к дороге. Пес последовал за ним, тыкаясь носом в руку великана, пока Медведь не дошел до тротуара, затем улегся на землю и смотрел, как парень удаляется.
В доме Рут Блайт неподвижно сидела на диване. Она подняла глаза — в них теплился слабый огонек надежды, который мне предстояло погасить.
Я покачал головой и вышел из комнаты, а она встала и отправилась на кухню.
* * *
Я сидел на капоте «плимута» Сэндквиста, когда тот появился в дверях. Узел его галстука несколько съехал на сторону, на щеке отчетливо выделялось красное пятно — след от встречи с ладонью Рут Блайт. Он замер на краю лужайки и с тревогой посмотрел на меня:
— И что ты собираешься делать? — поинтересовался он.
— Сейчас? Ничего. Я не собираюсь бить тебе морду, если ты об этом.
Он вздохнул явно с облегчением.
— Но как частный детектив ты — покойник. Я об этом позабочусь. Эти люди достойны лучшего.
— Что, они достойны тебя? Знаешь, Паркер, ты многим в этих краях не нравишься. Они не считают тебя таким уж крутым парнем. Тебе надо было оставаться в Нью-Йорке, ты же чужак в Мэне.
Он обошел машину и открыл дверцу:
— В любом случае, я устал от этой гребаной жизни. По правде говоря, я даже рад убраться отсюда. Поеду во Флориду. Можешь оставаться тут, и мне плевать, замерзнешь ты тут или нет.
Я отошел от машины и переспросил:
— Значит во Флориду?
— Да, во Флориду!
Я кивнул и пошел к своему «мустангу». Посыпались первые капли дождя, оставляя пятнышки на груде из колючей проволоки и металла, лежавшей у обочины. В землю медленно просочилась струйка горючего, пока Сэндквист безуспешно пытался завести двигатель.
— Ну, здесь тебе не кататься.
Я догнал Медведя и подбросил его до Конгресс-стрит. Он направился к старому порту, толпа туристов ручейками растекалась перед ним, давая дорогу великану. Я вспомнил, что мой дед говорил про Медведя, и как собака провожала его до конца лужайки, с надеждой принюхиваясь к его ладони. В нем была мягкость и даже доброта, но слабость и глупость делали его игрушкой в злых руках. Он был как весы: невозможно предсказать, в какую сторону качнется чаша.
На следующее утро я позвонил в Пайн Пойнт, и вскоре Медведь приступил к работе. Больше я никогда его не встречал. А все же интересно, мое вмешательство хоть как-то повлияло ли на его жизнь? Одно я знал точно: где-то в потаенной глубине души, в той исконной доброте, в которой Медведь сам себе не мог признаться, его не изменишь.
Когда я смотрю на болото Скарборо из окна своего дома и вижу, как сквозь травинки пробиваются струйки, соединяясь друг с другом — для каждой одно и то же течение, тот же самый цикл, но при этом каждая из них находит свой собственный путь в море, — я понимаю что-то в этом мире, в природе, в том, как внешне разрозненные существования пересекаются, соединяются. По ночам в свете луны струйки отсвечивают серебром, и белые, тоненькие нити стекаются в огромную сверкающую равнину внизу. И я представляю себя на этой Белой дороге прислушивающимся к голосам, звучащим в камышах, когда меня несет в мир новых ожиданий.
Глава 2
Их было двенадцать, обычные полозы подвязочники. Они поселились в заброшенном сарайчике в дальнем конце моего участка, чувствуя себя вполне комфортно среди разваливающихся шкафов и гниющей древесины. Я заметил одну змейку из выводка через дырку в ступеньке полуразрушенного крыльца. Наверно, она возвращалась домой после утренней охоты. Раздвинув несколько досок в полу, я увидел остальных. Самая маленькая была не больше фута в длину, самая длинная — около трех. Они сплетались в клубок, подставляя головки солнечному лучу, который высвечивал желтые полоски на их спинах, словно неоновые трубки в сумерках. Некоторые даже стали разгибаться, словно подавая сигнал предупреждения. Я потыкал в ближайшую ко мне концом палки и услышал шипение. Сладковатый, неприятный запах стал подниматься из дыры в полу, когда змеи выпустили струю характерного мускусного аромата. Стоявший рядом со мной Уолтер, мой восьмимесячный золотистый лабрадор-ретривер, отпрянул и сморщил нос. Я погладил его за ушами, и он взглянул на меня, словно ожидая поддержки: это была его первая встреча со змеями, и он не совсем представлял, что от него ожидают.
— Лучше держи свой нос подальше от них, Уолт, — посоветовал я ему, — иначе одна из них вцепится тебе в пипку.
В Мэне много подвязочников. Это выносливые создания. Зимой они способны в течение месяца выдерживать минусовые температуры, а порой погружаются в воду в поисках стабильной температурной среды. Потом, обычно в середине марта, когда солнце начинает пригревать камни, они начинают просыпаться и приступают к поиску партнера. В июне-июле у них появляется потомство. Обычно в выводке десять — двенадцать детенышей. Иногда их может быть только три. Однажды был зафиксирован рекорд — восемьдесят пять змеенышей, а это само по себе изумительно, что бы вы ни думали об этих тварях. Подвязочники обосновались в моем сарае, видимо, из-за того, что поблизости почти нет хвойных деревьев. Хвойные закисляют почву, а это не нравится ночным пресмыкающимся, которые и есть любимое лакомство подвязочников.
Я положил доски на место и вернулся на солнечный свет, Уолтер не отставал от меня ни на шаг. Подвязочники — абсолютно непредсказуемые твари. Некоторые из них могут брать еду у тебя с ладони, а другие будут кусаться, причем до тех пор, пока им не надоест, или они не устанут, или их не прикончат. Здесь, в сарае, они вряд ли кому-то навредят, а местные обитатели — скунсы, крысы, лисы, еноты — очень скоро пронюхают об их существовании. Я решил оставить змей в покое до тех пор, пока обстоятельства не вынудят меня поступить иначе. А что касается Уолтера, что ж, ему придется научиться не лезть не в свои дела.
Сквозь деревья в низине поблескивает болото, и дикие птицы летают над его поверхностью: их очертания угадываются сквозь колышущуюся траву и камыши. Американцы-пионеры назвали это место Землей Разнотравья, но их уже давно нет, и для тех, кто живет сейчас, это просто болото, где реки Дунстан и Нансач сливаются вместе на пути к морю. К диким уткам, здешним постоянным обитателям, на летнее время присоединяются древесные и черные утки, шилохвостки, чирки, но вскоре визитеры покидают здешние места, будучи неспособными пережить местную суровую зиму. Их свист и крики наполняют воздух, к ним присоединяется жужжание насекомых — шум жизни, сопровождающий спаривание и кормежку, охоту и бегство от опасности. Я наблюдал за ласточкой, которая совершила резкий пируэт над гниющим бревном. Это лето выдалось сухое, и для ласточек было особое раздолье с пищей. Те, кто жили недалеко от болота, были особенно признательны этим птицам: они поприжали не только комаров, но и гораздо более противных слепней, которые своими сильными челюстями полосовали кожу, как бритвами.
Скарборо — старинное поселение, одна из первых колоний, появившихся на северо-западе Новой Англии. Оно было не просто временной рыбацкой деревушкой, а местом, которое стало домом для многих семейств в округе. Некоторые из них были выходцами из Англии, среди них и предки моей матери; другие перебрались из Массачусетса и Нью-Хемпшира, привлеченные благоприятными условиями для земледелия. Первый губернатор Мэна родился в Скарборо, хотя и покинул его в возрасте девятнадцати лет, когда стало понятно, что особых перспектив с точки зрения благосостояния и карьеры здесь нет. Как и большинство городов на побережье, Скарборо видел немало сражений и основательно омыт кровью. Федеральные магистрали изрядно подпортили местный пейзаж, но, несмотря на это, соляное болото выжило, и его поверхность отсвечивала в лучах заходящего солнца, как раскаленная лава. Пока болото не трогали, но постоянно продолжающаяся жилищная застройка Скарборо означала, что новые кварталы — не всегда привлекательного вида, а порой весьма неприглядные, — подступали все ближе и ближе к его границам: застройщиков привлекала и природная красота, и незримое присутствие прежних, уже не существующих поколений. Большой остроконечный дом, в котором я жил, появился в тридцатых годах. От дороги и болота его отделяла стена деревьев. С крыльца была видна водная гладь, и порой от этого вида я испытывал невероятное умиротворение, которое не посещало меня уже очень давно.
Но это состояние умиротворения мимолетно, оно исчезает, как только отводишь взгляд и твое внимание возвращается к насущным делам и проблемам: к тем, кого любишь и кто зависит от тебя, для кого ты живешь; к тем, кто чего-то хочет от тебя, но по отношению к ним ты ничего не чувствуешь; к тем, кто причиняет боль тебе и твоим близким. В данный момент мне предстояло разбираться со всеми тремя типами.
Мы с Рейчел перебрались сюда четыре недели назад, после того как я продал почтовому ведомству старый дедовский дом и прилегающий участок в двух милях от Лосиной дороги. В районе Скарборо предполагалось построить новый почтовый терминал, и мне заплатили приличную сумму за то, что я освободил территорию, которая пошла под вспомогательную площадку для почты.
Когда сделка была окончательно оформлена, я испытал острый приступ сожаления. В конце концов, это был дом, куда мы с матерью вернулись из Нью-Йорка после смерти отца, дом, в котором прошло мое отрочество, и куда я в свой черед вернулся после гибели жены и ребенка. Сейчас, спустя два с половиной года, я снова начинал жить. Было что-то очень нормальное в том, что мы поселились, как добропорядочная супружеская чета, в новом доме, который вместе выбрали, вместе обустроили, обставили мебелью, и где, я надеялся, станем вместе жить и стариться. Вдобавок ко всему, как заметил мой бывший сосед Сэм Эванс, когда оформление сделки близилось к завершению и он сам был готов отправиться к новому месту жительства на Юг, только сумасшедший хотел бы жить поблизости от тысячи почтальонов, которые представляют собой «ходячие бомбы отчаяния с тикающим часовым механизмом, готовым сработать в любую секунду и прогреметь взрывом жестокости и насилия».
— Не уверен, что они действительно так уж опасны, — заметил я.
Он скептически взглянул на меня. Сэм был первым, кто согласился на предложение о покупке дома и участка, и сейчас остатки его пожитков были загружены во вместительный грузовик, готовый отправиться в Виргинию. Мои руки были в пыли от коробок, которые я помогал ему носить из дома.
— Ты когда-нибудь видел этот фильм, «Почтальон звонит дважды»? — поинтересовался он.
— Нет, но слышал что фильм поганый.
— Да это просто сперма кита! Кевина Костнера надо было раздеть догола, вымазать в меду и посадить в муравейник за этот фильм, но дело не в этом. Ты знаешь, о чем этот «Почтальон»?
— О почтальоне?
— О вооруженном почтальоне, — уточнил Сэм, — вернее, о толпе вооруженных почтальонов. В общем, я готов поспорить с тобой на пятьдесят баксов, что, если тебе разрешат просмотреть журналы регистрации в пунктах видеопроката по всей Америке, знаешь, что ты обнаружишь?
— Порнуху?
— Ну, не совсем, — смутился Сэм. — Ты обнаружишь, что единственные, кто берет этот фильм больше одного раза, — другие почтальоны. Я клянусь! Проверь записи. Для этих парней это как призыв вооружаться. Я имел в виду, там такая Америка, в которой работники почты — единственные герои, они там всех просто урывают, кто им на дух не нравится. Они просто дрочат все вместе, наверно, на особо приглянувшихся эпизодах.
Я незаметно отступил от него, но Сэм наставил на меня палец:
— Запомни мои слова: «Почтальон» для почтовиков то же самое, что Мэрилин Мэнсон для об долбанных старшеклассников. Вот пойдут убивать направо-налево — припомнишь слова старины Сэма.
Да, этот старина Сэм был явно не в себе. Я так и не смог понять, серьезно он говорил или нет. Я представил себе Сэма, затаившегося у себя на ферме в Виргинии в ожидании конца света, устроенного почтальонами. Он пожал мне руку и направился к грузовику. Его жена и дети уехали раньше, и ему не терпелось оказаться наедине с дорогой. Он помедлил минутку, прежде чем захлопнуть дверцу машины и подмигнул:
— Не дай чокнутым ублюдкам добраться до тебя, Паркер.
— Раньше им это не удавалось.
На мгновение улыбка исчезла с его лица, и скрытый смысл слов пробился сквозь шутку:
— Это не значит, что они прекратят свои попытки.
— Знаю.
Он кивнул.
— Будешь когда-нибудь в Виргинии...
— Может, и занесет.
Он обнял меня на прощание и уехал; его выставленный напоследок средний палец красноречиво приветствовал место будущего пристанища почтового ведомства.
Рейчел появилась на крыльце и позвала меня, помахивая телефонной трубкой. Я поднял руку в знак того, что услышал. В лучах заходящего солнца и при виде ее я снова ощутил, как что-то у меня в животе сжалось. Мои чувства всколыхнулись, перемешались так, что в данную минуту невозможно было различить какое-то отдельное. Это была и любовь — в этом я был абсолютно уверен, — и благодарность, и желание, и страх: страх за нас, страх, что я могу каким-то образом подвести ее, накликать на нее беду, оттолкнуть ее от себя; страх за нашего будущего ребенка, страх за уже потерянного ребенка, чувство страха, многократно испытанное мною во сне — моя малышка ускользает, исчезает в темноте вместе со своей матерью, их кончина полна боли и мучений; и страх за Рейчел, что мне почему-то не удастся защитить ее, что, когда я повернусь спиной или отвлекусь, с ней случится что-то ужасное, и ее тоже вырвет из моей жизни.
И тогда я умру, потому что я не выдержу эту боль еще раз.
— Это Эллиот Нортон, — сообщила она, прикрыв трубку ладонью, — сказал, что старый твой друг.
Я кивнул и, взяв трубку, погладил Рейчел по попке. Она игриво подергала меня за ухо. Ну, мне хотелось бы думать, что игриво. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась в доме. Она по-прежнему дважды в неделю ездила в Бостон, где вела семинары по психологии, и сейчас большую часть подготовки проводила в маленьком кабинете, который мы устроили ей в одной из свободных спален: она подолгу сидела за работой, обычно положив левую руку на живот. Направляясь в кухню, она посмотрела на меня через плечо и соблазнительно качнула бедрами.
— Шлюшка, — промурлыкал я. Она показала мне язык и скрылась в дверях.
— Прости? — послышался в трубке голос Эллиота. Его южный акцент стал более заметным по сравнению с тем, как я помнил.
— Я сказал «шлюшка». Юристов я обычно приветствую по-другому. Для них я использую слова «проститутка» или «пиявка», если хочу избавиться от сексуального оттенка.
— Угу. Исключения бывают?
— Как правило, нет. Я встретил тут целый выводок твоих приятелей в глубине своего сада сегодня утром.
— Даже спрашивать не хочу кого. Как поживаешь, Чарли?
— Все хорошо. Давно не виделись, Эллиот.
Эллиот Нортон был помощником прокурора в отделе убийств окружной прокуратуры Бруклина, когда я служил там детективом. Мы довольно хорошо ладили и в профессиональных, и в личных отношениях, когда наши дороги пересекались, а потом он женился и переехал в Южную Каролину, где сейчас у него была юридическая практика в Чарлстоне. Я по-прежнему получал от него поздравительные открытки на Рождество. В прошлом году в сентябре мы обедали с ним в Бостоне, где у него были дела по продаже недвижимости в Белых горах, а до этого несколько лет назад я останавливался у него дома, когда мы с моей первой женой, едва поженившись, были проездом в Южной Каролине. Ему было сейчас ближе к сорока, он рано поседел, развелся с женой — женщиной по имени Элис, которая была настолько хороша собой, что и в дождливый день могла наделать переполох и остановить движение на дороге. Я не знал подробностей их развода, хотя, по моим прикидкам, Эллиот относился к такому типу мужчин, которые при случае не прочь выбиться из супружеской колеи. Когда мы с ним ужинали в прибрежном ресторанчике, при виде появляющихся в дверях девушек в открытых сарафанчиках его глаза чуть на лоб не вылезали, совсем как в мультиках.
— Да, мы, южане, народ замкнутый, все в себе, — затянул он с подчеркнутой медлительностью. — Да к тому же у нас, как бы и дел хватает.
— Это хорошо, когда есть хобби.
— Это точно. Ты все еще занимаешься частным сыском?
Как-то наша болтовня слишком неожиданно закончилась, мелькнуло у меня в мыслях.
— В некотором смысле.
— Ты сейчас как, в рабочем настроении?
— Зависит от того, что предлагают.
— У меня клиент под судом. Я бы не отказался от помощи.
— От Мэна до Южной Каролины порядочное расстояние.
— Поэтому я и звоню. Это такое дело, которое местных сыщиков не очень-то интересует.
— Почему?
— Потому что дело дрянь.
— И насколько?
— Девятнадцатилетний парень обвиняется в изнасиловании своей подружки, а также в нанесении тяжких телесных повреждений, результатом которых стала ее смерть. Арестованного зовут Атис Джонс. Он черный. Его подружка белая и из богатой семьи.
— Да, дело дрянь.
— Он говорит, что этого не делал.
— И ты ему веришь?
— И я ему верю, со всем своим уважением. Но, замечу, в тюрьме сидит полно народу, которые скажут, что не делали того, в чем их обвиняют.
— Знаю. Некоторых из них я помогал вытаскивать, притом я знал, что они как раз-таки сделали это.
— Здесь другой случай. Он невиновен. Я готов поспорить на свой дом. Буквально: мой дом выступает залогом освобождения его до суда.
— А что ты хочешь от меня?
— Мне нужно, чтобы кто-нибудь помог переправить парня в безопасное место, а потом разобраться в деле, проверить показания свидетелей; мне нужен кто-нибудь из других мест, кого не так легко напугать. Работы на неделю, плюс-минус пара дней. Послушай, Чарли, смертный приговор для этого парня будет готов еще до того, как он войдет в зал суда. Судя по обстановке, он вообще может не дожить до суда.
— Где он сейчас?
— В тюрьме округа Ричмонд, но мне не удастся долго его там продержать. Я принял дело от государственного защитника, и сейчас пошли слухи, что какие-то отморозки из организации скинхедов могут попытаться устроить бучу, если я вытащу парня. Поэтому я устроил освобождение под залог. Атис Джонс сейчас сидит, как мышь, в Ричмонде.
Я облокотился о перила крыльца. Подошел Уолтер с резиновой костью и стал тыкаться в мою руку. Ему хотелось играть. И я его понимал: отличный осенний денек, моя Рейчел светится счастьем от сознания того, что у нее внутри подрастает наш первенец, у нас все в порядке с точки зрения финансов. В такой ситуации хочется отключиться от всего на какое-то время и просто наслаждаться состоянием умиротворения, пока оно не кончится. Мне клиент Нортона был нужен как собаке пятая лапа, как зайцу стоп-сигнал.
— Не знаю, Эллиот. Каждый раз, когда ты открываешь рот, у меня появляется отличный повод закрыть уши.
— Ну, пока ты все же меня слушаешь, ты, возможно, услышишь и самое неприятное. Девушку звали Марианна Ларуз, она дочь Эрла Ларуза.
После этого я вспомнил кое-какие детали этой истории. Эрл Ларуз был одним из самых крупных промышленников и землевладельцев от Каролины до Миссисипи. Он владел плантациями табака, месторождениями нефти, шахтами, заводами. Ему принадлежала большая часть Грэйс-Фоллз — города, в котором он вырос. Только вряд ли вы прочитаете об этом господине на страницах газет, будь то светская или деловая хроника; не увидите вы его и рядом с кандидатами в президенты или конгрессменами. На него работало специальное PR-агентство, в задачу которого входило держать подальше от имени Эрла Ларуза и его дел всяких досужих журналистов и любопытствующую публику. Он дорожил своей частной жизнью и был готов платить немалые деньги за ее неприкосновенность, но смерть дочери невольно поставила жизнь его семьи под прицел фотообъективов. Жена Ларуза умерла несколько лет назад, но у него был еще сын — Эрл-младший, много старше Марианны. Странно, но никто из живых членов клана Ларуз не сделал никаких публичных комментариев по поводу смерти Марианны или приближающегося суда над ее убийцей.
А сейчас Эллиоту Нортону предстояло защищать человека, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве дочери Эрла Ларуза, и ход событий, по всей вероятности, грозил адвокату стать второй по степени непопулярности (после своего клиента) персоной в штате Южная Каролина. Любому человеку, оказавшемуся втянутым в водоворот этого дела, предстояло пострадать — это очевидно. Даже если Эрл сам не собирался взять в свои руки бразды правосудия, было предостаточно людей, готовых на это, потому что он был один из них, плоть от плоти, кровь от крови, потому что из его денег им платили зарплаты и потому что, возможно, всемогущий Эрл улыбнется всякому, кто окажет ему небольшую услугу и покарает того, кто, как он верил, погубил его маленькую девочку.
— Прости, Эллиот. Это не совсем то, во что бы я хотел впутываться прямо сейчас.
На том конце провода повисла тишина.
— Я в отчаянии, — наконец произнес он, и это явно слышалось в его голосе: усталость, страх, отчаяние. — Моя секретарша уволилась в конце прошлой недели, потому что она не одобряет список моих клиентов, и скоро мне придется ездить за продуктами в Джорджию, потому что никто в ближайших магазинчиках мне и дерьма шакала не продаст.
Он почти кричал:
— Так что не надо мне говорить, что ты не хотел бы связываться с этим, так как ты якобы занят выборами в Конгресс или чем-то еще в таком роде, потому что мой дом и, может быть, моя жизнь под угрозой и...
Он недоговорил. В конце концов, что еще можно было сказать после этого. Я расслышал его глубокий вздох.
— Прости, — произнес он, — не знаю, почему я все это сказал.
— Да ладно, все в порядке, — ответил я, но это было не так — ни для него, ни для меня.
— Слышал, что ты готовишься стать отцом, — вдруг сказал он. — Это хорошо после всего, что случилось. На твоем месте я, наверно, тоже бы остался в Мэне и забыл, что какой-то придурок вызвонил тебя из ниоткуда и пытается втянуть в свой кошмар. Береги себя, Чарли Паркер. Присматривай за своей малышкой.
— Постараюсь.
— Ага.
Он отсоединился. Я отбросил трубку на стул, закрыл ладонями лицо. Пес свернулся калачиком у моих ног, кость зажата между передними лапами. Он никак не мог расстаться с ней, все возюкал и грыз, как младенец погремушку. Солнце так же освещало поверхность водной глади, и птицы все еще перелетали неспешно над водой, перекликались скользя между стеблями рогоза, но сейчас непрочная, хрупкая природа, которую я наблюдал, казалось, придавила меня невидимой тяжестью. Я поймал себя на мысли, что смотрю в сторону заброшенного сарая, где гнездились змеи, поджидая, когда на их дорожке окажутся грызуны или мелкие птицы. Ты можешь отступить прочь, притворяясь, что они ничем тебе не навредили и нет никаких причин с ними связываться. Если ты оказался прав, то можешь никогда больше с ними не встретиться, или существа больше и сильнее их сделают тебе услугу и разберутся с ними вместо тебя.
Но, возможно, ты вернешься в тот же домик и поднимешь те же доски, и там, где была дюжина змеенышей, окажутся сотни, и никаких старых шкафов, гниющих досок и прочей рухляди не хватит, чтобы удержать их. Потому что проигнорировать их или забыть о них не значит избавиться от них.
Им просто становится проще размножаться.
Днем я оставил Рейчел дома, а сам поехал в Портленд. Спортивный костюм и кроссовки лежали в багажнике, и я собирался отправиться в спортзал и немного поразмяться, но вместо этого пошел бродить по улицам, заглянул в антикварный «Букинист» на Конгресс-стрит, а потом в музыкальный магазинчик в Старом порту. Я прихватил новый альбом «Pinetop Seven» Bringing Home the Last Great Strike, копию Heartbreaker Брайана Адамса, Leisure and Other Songs группы «Spokane», потому что их солистом был Рик Алверсон, который раньше пел с «Drunk». Он писал такую музыку, которую хочется слушать, когда тебя подводят старые друзья или где-то на улице тебе встречается твоя бывшая подружка: она идет рядом с каким-то типом, их пальцы переплелись, и смотрит она на него так, как никогда смотрела на тебя.
Вокруг по-прежнему было полно туристов: остатки летнего наплыва. Вскоре листья станут менять окраску, и следующая волна туристов нагрянет полюбоваться на полыхающий костер природы, распростершийся на север до самой границы с Канадой.
Я злился на Эллиота, а еще больше на себя. То, что он рассказал, походило на сложный случай, но сложные случаи были частью моей работы. Если бы я сидел и ждал легких и простых, я бы умер от голода или сошел бы с ума от скуки. Два года назад я рванул бы в Южную Каролину, ни на секунду не задумываясь. Но сейчас со мной была Рейчел, скоро я должен стать отцом. Мне выпал второй шанс, и не хотелось упустить его.
Незаметно для себя я оказался в машине. На этот раз я вытащил свою сумку со спортивной одеждой и провел час, выжимая вес так, как никогда. Я заставил мышцы поработать до такой степени, что пришлось сесть на лавочку, опустить голову вниз и выждать, пока пройдет дурнота. Но я по-прежнему чувствовал себя выбитым из колеи, когда возвращался в Скарборо, и выступивший на лице пот был потом больного.
* * *
Мы с Рейчел толком поговорили о звонке только за ужином. Мы были вместе около девятнадцати месяцев, а под общей крышей жили не больше двух. Были люди, которые сейчас по-другому смотрели на меня, как будто удивляясь, как такой человек, который потерял жену и ребенка всего три года назад, смог взять себя в руки и начать снова: жениться, зачать ребенка и попытаться найти место для него в мире, в котором плодятся убийцы, способные уничтожить мать и дитя.
Но если бы я не попытался, если бы я не потянулся к другому человеку и не построил бы этот хрупкий мостик наших отношений в надежде, что когда-нибудь мы станем ближе друг другу, значит, Странник, этот урод, что лишил меня моих любимых, выиграл бы. Я не мог изменить тот факт, что мы все пострадали от его рук, но я не желаю быть его жертвой всю оставшуюся жизнь.
А эта тихая женщина была абсолютно невероятна. Она разглядела во мне что-то достойное любви, спасения и начала восстанавливать это во мне откуда-то из страшной глубины, куда естество мое запряталось в попытке спасти себя от возможной новой боли. Она не была настолько наивной, чтобы верить, будто может спасти меня: она скорее заставила меня самого захотеть спасать себя.
Рейчел была в шоке, когда узнала, что беременна. В начале мы оба были поражены этой новостью, но даже тогда было ощущение, что это правильно, естественно и позволит нам смотреть в будущее с какой-то тихой уверенностью. Казалось, это решение — родить ребенка — было принято за нас какой-то Высшей силой, и все, что нам сейчас оставалось, это удержаться на гребне и наслаждаться ситуацией. Ну, возможно, Рейчел не сказала бы «наслаждаться»: в конце концов, это она испытывала странную тяжесть в движениях с того момента, как анализы подтвердили ее предположения; это она с тревогой смотрела в зеркало на свою фигуру по мере того, как стала прибавлять в весе; это ее застал я на кухне глухой августовской ночью всю в слезах под напором охвативших ее чувств — ужаса, печали и изнеможения; это ее рвало каждое утро с неизбежностью восхода; и это она сидела, приложив руку к животу, прислушиваясь к биению маленького сердца со страхом и благоговением, как будто могла расслышать, как медленно растет в ней новое живое существо. Первый триместр был очень тяжелым для нее. А сейчас, к исходу второго, она обрела какую-то новую энергию в первых толчках своего малыша, в подтверждении того, что стало из возможности реальностью.
Пока я тихонько рассматривал ее, Рейчел яростно расправлялась с куском говядины, рядом на тарелке высились горки гарнира из картофеля, моркови и цуккини.
— Ты почему не ешь? — поинтересовалась она, сделав короткую передышку.
Я прикрыл тарелку ладонью:
— Вот собака!
Слева от меня взметнулась голова Уолта, короткая вспышка недоумения мелькнула у него в глазах.
— Да не ты, — приободрил я его, и пес снова завилял хвостом.
— Это из-за сегодняшнего звонка. Я права?
Я кивнул и начал ковырять вилкой еду, потом рассказал ей новости от Эллиота.
— У него проблемы, — завершил я. — И у каждого, кто встанет на его сторону против Эрла Ларуза, тоже будут проблемы.
— Ты когда-нибудь с ним встречался?
— Нет. Единственная причина, почему я оказался в курсе, это потому, что раньше Эллиот кое-что мне рассказал.
— Что-то плохое?
— Ничего хуже того, что следует ожидать от человека, у которого денег больше, чем у девяноста девяти целых девяноста девяти сотых процента населения штата: запугивание, шантаж, коррупция, мошенничество с земельными участками, стычки с Управлением по охране окружающей среды из-за отравленных полей и изгаженных рек — обычные дела. Брось камень в заседающих конгрессменов — попадешь в защитника ему подобных. Но от этого боль отца, потерявшего дочь, не становится меньше.
Внезапно у меня в голове возник образ Ирвина Блайта. Я отмахнулся от этой мысли, как от назойливой мухи.
— И Нортон уверен, что его клиент не убивал девушку?
— Похоже на то. Во всяком случае, он принял дело от государственного защитника и внес залог за этого парня, а Эллиот не тот человек, кто станет рисковать своей репутацией или деньгами ради сомнительного дела. К тому же дело, в котором черный мужчина обвиняется в убийстве богатой белой девушки, для кого угодно может быть риском, если предположить, что кому-то взбредет в голову прославиться на чужом горе. По словам Эллиота, он или спасет своего клиента, или их похоронят вместе. Вот такие варианты.
— Когда суд?
— Скоро. Я просмотрел газетные сообщения и кое-какие материалы в Интернете. Ясно, что расследование дела с самого начала форсируют. Прошло несколько недель с гибели Марианны Ларуз, а в начале следующего года уже должен начаться суд. Закон не любит заставлять ждать таких людей, как Эрл Ларуз.
Мы посмотрели друг на друга через стол.
— Нам не нужны сейчас деньги, не до такой степени.
— Знаю.
— И тебе не хочется туда отправляться.
— Однозначно.
— Ну, вот.
— Ну, вот и все.
— Ешь свой ужин, пока я за него не принялась.
Я так и сделал и даже почувствовал вкус еды.
У этой еды был вкус пепла.
После обеда мы поехали в кафе «Лен Либи» у федерального шоссе №1, сидели за столиком на улице и ели мороженое. Раньше это заведение было недалеко от Спуруинк-роуд, по дороге к Хиггингс-Бич. Столики стояли под тентом, и все наслаждались ветерком. Кафе перебралось на новое место, ближе к автобану, несколько лет назад, и, хотя мороженое по-прежнему было хорошее, есть его и разглядывать четырехполосную магистраль с оживленным движением было не совсем то. Зато теперь рядом с прилавком стоял шоколадный лось, совсем как живой, — это, по всей видимости, означало некий прогресс.
Мы с Рейчел не разговаривали. Солнце садилось у нас за спиной, наши тени вырастали перед нами, как надежды и опасения за будущее.
— Видел сегодня газету? — спросила Рейчел.
— Нет, еще не успел.
Она взяла свою сумку, покопалась в ней, пока не нашла вырезку из «Пресс Джеральд», которую и протянула мне:
— Не знаю, почему я ее вырезала. Наверно, знала, что тебе придется ее увидеть когда-нибудь, но какая-то часть меня не хотела, чтобы тебе снова пришлось читать о нем. Я устала натыкаться на его имя.
Я развернул газету.
ТОМАСТОН. Преподобный Аарон Фолкнер останется под стражей до суда в государственной тюрьме Томастон, сообщил вчера представитель департамента исправительных учреждений. Фолкнер, осужденный некоторое время назад за участие в преступном сговоре и убийстве, был переведен в Томастон из другого исправительного учреждения месяц назад после неудавшейся попытки самоубийства.
Он был арестован в Любеке в мае этого года после столкновения с частным детективом Чарльзом Паркером. При этом были убиты, два человека: мужчина по имени Элиас Падд и неизвестная женщина. Тесты на ДНК показали, что фактически убитый мужчина являлся сыном Фолкнера Леонардом. А в женщине опознали Мюриэл Фолкнер, дочь преподобного.
Фолкнеру было предъявлено формальное обвинение в убийстве Арустукских баптистов, религиозной общины, которую он возглавлял и которая исчезла из своего поселения неподалеку от городка Орлиное Озеро в январе 1964 года. Также ему было предъявлено обвинение в сговоре с группой лиц с целью убийства как минимум четырех человек, среди которых был и экс-сенатор Джек Мерсъе.
Останки Арустукских баптистов были обнаружены в апреле этого года неподалеку от городка Орлиное Озеро. Уполномоченные органы в Миннесоте, Нью-Йорке и Массачусетсе также могут вернуться к расследованию ряда случаев, к участию в которых может быть причастен Фолкнер и члены его семьи, хотя пока никаких обвинений за пределами штата Мэн в адрес Фолкнера не выдвигалось.
По данным источника в прокуратуре штата Мэн, сотрудники Бюро по вопросам алкоголя, табака и оружия совместно с ФБР анализируют дело Фолкнера на предмет выдвижения против него обвинений федерального уровня.
Адвокат Фолкнера Джеймс Краймс вчера заявил репортерам, что его по-прежнему беспокоит состояние его подзащитного и он рассматривает возможность подать апелляцию в Верховный Суд штата, чтобы оспорить решение Верховного Суда Вашингтона об отказе в освобождении под залог. Фолкнер не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения и считает себя фактическим пленником своей семьи на протяжении сорока лет.
Между тем приглашенный следствием с целью описания коллекции насекомых и пауков, обнаруженных в помещении, которое занимал преподобный Фолкнер и его семья в Любеке, консультант-энтомолог сообщил вчера «Джеральд Пресс», что он почти закончил работу. В соответствии с заявлением представителя полиции, коллекция была собрана Леонардом Фолкнером, он же Элиас Падд, в течение многих лет.
По словам доктора Мартина Ли Говарда, было идентифицировано свыше двухсот различных видов пауков, а также около пятидесяти других видов насекомых. Он также заявил, что коллекция содержит несколько очень редких экземпляров, в том числе такие, которые коллективу экспертов пока еще не удалось идентифицировать.
Как сообщил доктор Говард, один из них относится к особо опасной разновидности пещерных пауков. Абсолютно ясно, что на территории США они в природе не встречаются. На вопрос, есть ли что-то общее между этими существами и удалось ли установить какие-либо закономерности их подбора, доктор Говард ответил, что единственным признаком, объединяющим различные виды насекомых и пауков, является их «общая отвратительность». Ученый подчеркнул, что работа с насекомыми и пауками — дело для него привычное, но даже он был вынужден признать, что в этой коллекции есть такие особи, которых он «не хотел бы обнаружить в своей постели».
Кроме того, доктор Говард добавил, что они увидели большое количество отшельников. То есть действительно большое количество. Кто бы ни собирал эту коллекцию, он явно испытывал особые чувства к этой разновидности пауков, а это не так часто встречается. Привязанность, пожалуй, последнее, что способен испытывать средний обыватель по отношению к паукам-отшельникам.
Я свернул газету и выбросил в мусорную корзину. Возможность подачи апелляции была тревожным сигналом. Прокурор в центральном офисе сразу обратился в гран-жюри, что считается распространенной практикой в делах, которые оставались нерасследованными на протяжении долгого времени. Жюри в составе двадцати трех членов было специально собрано в Кале, округ Вашингтон. Спустя двадцать четыре часа после задержания Фолкнера был выписан ордер на его арест по обвинению в убийстве, сговоре с целью убийства и склонении других к соучастию в убийстве. После этого штат потребовал слушаний Харниша, чтобы принять решение по поводу освобождения под залог. В прошлом, когда в штате Мэн еще существовала смертная казнь, обвиняемые в тяжких преступлениях не подлежали освобождению под залог. После отмены смертных приговоров в Конституцию были внесены поправки, отменяющие освобождение под залог лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, если существует «предъявленное доказательство и основание для предполагаемой вины подозреваемого». С целью предъявления доказательства штат мог потребовать организовать слушания, проводимые в присутствии судьи, в ходе которых обе стороны могли представить доказательства.
И я, и Рейчел, и следователь из полиции штата, ответственный за расследование гибели общины Фолкнера и убийства четверых людей в Скарборо, совершенных по приказанию преподобного, дали показания до слушаний. Заместитель министра юстиции Бобби Эндрюс заявил, что Фолкнер особо опасный преступник и представляет собой угрозу для свидетелей. Джим Краймс приложил все усилия, чтобы выискать слабые места в позиции прокурора, но со дня задержания прошло всего шесть дней, а Краймс продолжал темнить. В общем, этого было достаточно, чтобы судья принял решение отказать в освобождении под залог, но это было временное решение. Пока не нашлось весомых доказательств причастности Фолкнера к преступлениям, в которых его обвиняли, и на слушаниях было выдвинуто требование предъявить неоспоримые доказательства вины подследственного. А сейчас этот Джим Краймс публично заявлял о подаче апелляции, давая понять, что судья в высшем судебном органе может прийти к другому заключению по вопросу освобождения под залог. Мне не хотелось думать о том, что могло случиться, если Фолкнера выпустят.
— Мы могли бы посмотреть на эту проблему с другой точки зрения — с позиции свободного общества — сострил я, но шутка не получилась. — От этого невозможно избавиться, по крайней мере, до тех пор, пока его не упрячут навсегда, хотя, возможно, даже и тогда.
— Как я понимаю, для тебя это ключевой момент, — вздохнула Рейчел.
Я принял самый романтичный вид, на который только был способен, и сжал ее руку.
— Нет, — возразил я ей настолько проникновенно, насколько смог, — это ты для меня определяющий момент.
Она сделала характерный жест пальцами, проведя ими поперек горла, но при этом улыбнулась, и на время нависшая над нами тень Фолкнера отступила. Я потянулся и взял ее за руку, она поднесла мои пальцы к губам и слизала остатки мороженого с их кончиков.
— Поехали, — скомандовала она, и в ее глазах появился голодный огонек совсем другого характера. — Поехали домой.
Но, когда мы вернулись, в проезде стояла машина. Я узнал ее сразу же, едва заметив сквозь деревья очертания автомобиля: «линкольн» Ирвина Блайта. Едва мы подъехали, он открыл дверцу и вышел к нам; из салона доносились классические мелодии, медовым потоком заполнившие неподвижный воздух. Рейчел поздоровалась и пошла в дом. Я наблюдал, как в спальне включился свет и опустились жалюзи. Если мистер Блайт собирался помешать моей активной сексуальной жизни, он выбрал самый удобный момент.
— Чем могу помочь, мистер Блайт? — сам тон, которым я это произнес, красноречиво свидетельствовал, что в списке моих приоритетов желание помочь Блайту стояло где-то между стремлением послушать чокнутого Мэрилина Мэнсона и потребностью выпить стакан касторки. Его руки, сжатые в кулаки, оставались в карманах брюк, рубашка с короткими рукавами плотно заправлена под эластичный пояс. Его брюки были высоко поддернуты над линией того, что когда-то было животом, отчего ноги Блайта казались непропорционально длинными. Мы мало разговаривали с того момента, когда я согласился разобраться в обстоятельствах, связанных с исчезновением его дочери: в основном приходилось иметь дело с Рут. Я еще раз просмотрел отчеты полиции, начал беседовать с теми, кто видел Кэсси накануне ее исчезновения. Но с тех пор прошло слишком много времени для тех, кто помнил ее и мог бы добавить что-то новое. Некоторые вообще ничего не могли вспомнить. Никаких существенных данных у меня не появилось. Я отклонил предложенный аванс, похожий на те, что так долго радовали Сэндквиста, и сказал Блайтам, что выставлю им счет только за потраченные на это дело часы, и ни за что более. И, хотя Ирвин Блайт открыто не демонстрировал мне свою неприязнь, у меня все же оставалось чувство, что он предпочел бы, чтобы я вообще не брался за это дело. Я не знал, как события предыдущего дня повлияют на наши дальнейшие отношения. И вот, оказывается, именно Блайт решил вернуться к выяснению отношений.
— Вчера, там, в доме... — начал он и запнулся.
Я ждал.
— Моя жена считает, что я должен перед вами извиниться, — его лицо стало багровым.
— А вы сами что думаете?
На него было жалко смотреть.
— Полагаю, мне хотелось поверить Сэндквисту и этому великану, который пришел с ним. Вы были мне отвратительны, потому что разрушили надежду, которую они принесли с собой.
— Это была ложная надежда, мистер Блайт.
— Но теперь у нас нет даже ее...
Он вынул руки из карманов и начал растирать ладони, как бы пытаясь найти причину своей боли в них и удалить ее, как занозу. Я заметил полузажившие ранки на обратной стороне его руки и проплешины в волосах, обнажавшие кожу на голове, там, где он будто стер ее в отчаянии.
Наступил момент, когда нужно было прояснить ситуацию.
— По-моему, я вам сильно не нравлюсь, — предположил я.
Он взмахнул рукой, словно пытаясь выхватить свои чувства из воздуха и продемонстрировать их на ладони вместо того, чтобы облачить в слова.
— Не совсем так, — начал он. — Я уверен, что вы хорошо знаете свое дело, по крайней мере, это то, что я объективно знаю о вас. Я читал в газетах, что вы выясняли правду о людях, числившихся пропавшими без вести даже дольше, чем Кэсси. Проблема в том, мистер Паркер, что, как правило, эти люди оказываются мертвы, когда вы находите их.
Последние слова он произнес с надрывом:
— А я хочу увидеть свою дочь живой!
— И вы считаете, что, наняв меня, вы словно подписали ей смертный приговор?
— В общем, да...
Слова Блайта полоснули по незажившей ране. Да, были те, кого я не успел спасти, а еще больше тех, кто были уже давно мертвы, когда я только начинал догадываться, что с ними произошло. Но я уже выработал свой компромисс с прошлым: несмотря на то, что мне многих не удалось уберечь, включая жену и дочь, доля моей вины в их гибели была невелика. Сьюзен и Дженни забрала такая сила, что, даже если бы я проводил с ними двадцать четыре часа в сутки в течение девяноста девяти дней, она дождалась бы той минуты, когда на сотый день я отвлекусь, и пришла бы за ними. Сейчас мое сознание охватывало оба мира — мир живых и мир мертвых, — пытаясь привнести хоть немного равновесия в оба. Это все, чем я мог искупить свою вину. Но я не мог позволить, чтобы Ирвин Блайт судил меня со своей колокольни.
Я открыл перед ним дверцу его машины:
— Уже поздно, мистер Блайт. Сожалею, что не могу гарантировать вам той уверенности, какая вам сейчас необходима. Все, что могу обещать, я буду продолжать задавать вопросы, я буду пытаться узнать что-то о Кэсси.
Он кивнул и окинул взглядом болота, но не сдвинулся с места. Лунный свет отражался от поверхности воды, и, казалось, вид освещенных разливов заставил его еще глубже погрузиться в себя.
— Я знаю, что она мертва, мистер Паркер, — сказал он спокойно. — Я знаю, что больше она не войдет в мой дом. Все, чего я хочу, это найти ей тихое местечко где-нибудь неподалеку, чтобы мы с женой могли приходить к ней и оставлять цветы у ее ног. Вы понимаете, о чем я?
Я уже было подался вперед, чтобы дотронуться до него, но Ирвин Блайт был не тем человеком, который допускал подобные жесты. Вместо этого я сказал так мягко, как мог:
— Да, я понимаю. Счастливого пути. Я буду на связи.
Он тяжело опустился на сиденье автомобиля и больше не взглянул на меня. Но я разглядел его глаза в зеркале заднего вида и уловил в них досаду на то, что вынудил его произнести последние слова, разбередил его душу.
Я не сразу присоединился к Рейчел — все сидел на крыльце и смотрел на огни проезжающих автомобилей, пока злые комары, наконец, не заставили меня искать убежища в доме. К этому времени Рейчел уже спала, но все равно улыбнулась, когда я устроился рядом с ней.
Рядом с ними обоими.
* * *
В ту ночь машина подъехала к дому Эллиота Нортона в пригороде Грэйс-Фоллз. Эллиот услышал звук открываемой дверцы, а потом и быстрые шаги во дворе. Он уже тянулся за пистолетом на тумбочке, когда окно его спальни взорвалось и комнату охватило пламя. Горящий бензин попал Нортону на лицо и руки, и огонь перекинулся на волосы. Весь охваченный пламенем, он слетел вниз по лестнице, через входную дверь выбежал во двор и принялся кататься по траве, сбивая пламя.
Позже, он лежал на спине и смотрел, как горит его дом.
В то время, когда дом Эллиота был охвачен огнем далеко на Юге, я проснулся от шума приближающейся машины, который раздавался со стороны дороги. Рейчел мерно посапывала во сне. Я осторожно встал с кровати и подошел к окну. В лунном свете на мосту через болота стоял старый черный «кадиллак». Даже на расстоянии в свете луны были видны вмятины и царапины, погнутый передний бампер и паутина трещин на лобовом стекле. Я слышал шум работающего мотора, но не видел дыма из выхлопной трубы, а тонированные стекла не позволяли лунному свету проникать в салон.
Я раньше видел такую машину: ее водил Стритч, ужасный человек с бледным лицом. Но Стритч был мертв — в его груди зияла дыра, — а «кадиллак» давно сломан.
Вдруг задняя дверца открылась. Я ожидал, что кто-нибудь выйдет из нее, но этого не произошло. Машина просто постояла с открытой дверцей несколько минут, пока невидимая рука не закрыла ее со звуком, похожим на звук захлопывающейся крышки гроба. Потом «кадиллак» тронулся с места и развернулся на сто восемьдесят градусов по направлению к Оак-Хилл.
Я почувствовал движение позади себя.
— Что случилось? — спросила Рейчел.
Я повернулся к ней и увидел тени, скользящие по комнате в свете луны; они доплыли до нее и начали окутывать собой.
— Что случилось? — повторила Рейчел.
Я снова был в постели, только сейчас я сидел, обхватив ее, и простыни сбились в дальнем конце кровати. Теплые руки легли мне на грудь.
— Там была машина.
— Где?
— На улице. Там была машина.
Я поднялся и подошел к окну и отодвинул занавеску. Дорога была пуста.
— Там была машина, — повторил я еще раз.
Вот они, запотевшие следы моих пальцев на стекле: я оставил их, когда протягивал руку к машине.
— Иди спать, — усталой нежностью звучал в темноте ее голос.
Я вернулся к ней и обнимал, пока она снова не заснула.
И я смотрел на нее, не отрываясь, до самого утра.
Глава 3
Эллиот Нортон еще раз позвонил мне утром после пожара. У него были ожоги первой степени на лице и руках, и он считал, что ему сильно повезло. Пожар уничтожил три комнаты на втором этаже и оставил большую зияющую дыру в крыше. Местные подрядчики не хотели браться за ремонт, и он договорился с какими-то парнями из Мартинеса, что на границе с Джорджией.
— Ты уже разговаривал с полицией? — спросил я его.
— Да, они были первыми, кто пришел ко мне. У них нет недостатка в подозреваемых, но, если они сумеют сформировать дело, я прекращу адвокатскую практику и уйду в монастырь. Они знают, что это связано с делом Ларуз, и я это тоже знаю, так что мы нашли общий язык.
— У них есть кто-нибудь на примете?
— Они возьмутся за местных, но от этого будет мало толку. Если только кто-то особенно сознательный захочет открыто что-нибудь сообщить. Но многие считают, что мне не стоит ожидать чего-то вроде этого, учитывая, с чем я связался.
Повисла пауза. Я знал, он ждет, что я нарушу молчание. В конце концов я так и поступил, чувствуя, как неудержимо это дело захватывает меня.
— Что ты собираешься делать дальше?
— А что я могу делать? Бросить парня? Он мой клиент, Чарли. Я не могу так поступить. Я не могу дать им себя запугать.
Эллиот начинал перекладывать вину на меня, и я это понимал. Не могу сказать, что мне это нравилось, но, похоже, он не нашел другого выхода.
Однако не только его желание использовать нашу дружбу заставило меня напрячься: Нортон был порядочным адвокатом, но я никогда не замечал, чтобы мотив человеческого сострадания присутствовал в его делах. А сейчас он поставил под угрозу свой дом и даже жизнь ради почти незнакомого молодого человека, и это было не похоже на того Эллиота, которого я знал. Я понимал, что больше не могу отворачиваться от него, несмотря на свои сомнения, и должен хотя бы получить ответы, которые бы меня удовлетворили.
— Зачем ты делаешь это, Эллиот?
— Что? Работаю адвокатом?
— Нет. Работаешь адвокатом этого парня.
Я уже приготовился к речи о том, что иногда человек вынужден поступать не как хочет, а как должен, о том, что Эллиот просто не мог остаться в стороне, когда все отвернулись от парня, и смотреть, как ему вкалывают различные яды, пока не остановится его сердце. Но вместо этого он меня удивил. Возможно, сказалась усталость или события прошлой ночи, но, когда он заговорил, в его голосе послышалась боль, которой раньше не бывало:
— Знаешь, я всегда ненавидел здешние места, все эти суждения — в общем, менталитет маленького южного городка. Парням, жившим рядом со мной, не нужно было ничего: кроме как пить пиво и спать с женщинами, они ни к чему не стремились. На тысячу в месяц, получаемую на заправке, они могли себе это позволить. Они никуда не собирались отсюда уезжать. А я собирался.
— Поэтому ты стал адвокатом?
— Да. Престижная профессия, что бы ты ни думал.
— И ты поехал в Нью-Йорк?
— Да. Правда, его я ненавидел еще больше, но все равно мне нужно было кое-что доказать.
— Так что ты будешь представлять интересы парня и таким образом отомстишь им всем?
— Что-то вроде того. Но главное, Чарли, у меня чувство, что этот парень не убивал Марианну Ларуз. Возможно, ему не достает хорошего воспитания, но насильник и убийца... это не о нем. Я не могу себе позволить просто стоять и смотреть, как его казнят за то, чего он не совершал.
Я переваривал слова Нортона. Наверно, не мне стоило расспрашивать о чужом «крестовом походе», потому как меня самого нередко называли крестоносцем.
— Я перезвоню завтра, — сказал я. — Постарайся за это время не влипнуть в новые неприятности.
Он вздохнул над тем, что истолковал как луч света в кромешной тьме.
— Спасибо, я тебе признателен.
Повесив трубку, я увидел Рейчел: она облокотилась на косяк двери и смотрела на меня выжидательно.
— Ты ввяжешься в это, ведь так?
В ее голосе не было обвинения — просто вопрос.
— Возможно, — пожал я плечами в ответ.
— Кажется, ты чувствуешь себя обязанным этому человеку.
— Нет, не только ему.
Я не был уверен, смогу ли подобрать нужные слова, чтобы выразить свои причины, но подумал, что стоит попробовать объяснить их не только Рейчел, но и себе самому:
— Когда у меня были неприятности, когда я брался за действительно тяжелые дела, всегда находились люди, которые не бросали меня: ты, Эйнджел, Луис и другие, причем некоторые поплатились за это жизнью. А сейчас меня просят о помощи, и я не могу так просто отказать.
— Все возвращается на круги своя?
— Именно так. И, если со мной что-нибудь случится, нужно будет заняться некоторыми вещами в первую очередь.
— И какими же?
Я не ответил.
— Ты понял, что я хочу сказать, — едва заметные морщинки раздражения залегли у нее на лбу. — Мы это уже обсуждали.
— Скорее, я об этом говорил, а ты не желала слушать.
Я понял, что повышаю голос, и глубоко вдохнул, прежде чем продолжить.
— Послушай, я понимаю, носить пистолет ты не станешь, но...
— Я не собираюсь все это выслушивать, — сказала она, и взбежала по лестнице. Секундой позже я услышал, как хлопнула дверь ее кабинета.
Я встретился с сержантом Уоллесом Мак-Артуром из полицейского управления Скарборо в компании «Панера Брэд», неподалеку от магазина «Мэн». У нас с ним была размолвка во время событий, повлекших за собой захват Фолкнера, но мы ее уладили за обедом в «Бэк Бэй Грилл». Этот обед обошелся мне почти в двести долларов, включая вино, до которого Мак-Артур оказался большим охотником, но сам факт, что мы помирились, стоил значительно дороже.
Я заказал кофе и присоединился к нему в кафе. Он разламывал надвое теплый рулет с корицей так, что сахарная пудра оставляла следы на его руках, одежде и последнем выпуске еженедельника «Каско Бэй». Раздел частных объявлений был перенасыщен сообщениями от женщин, желающих обниматься у костра, отправляться в пешие зимние походы или заниматься экспериментальными танцами. Ни одна из них не подходила Мак-Артуру, обнять которого можно было с тем же успехом, что и огромный баобаб, а занятия спортом, если они требовали выбраться из постели, были ему чужды. Обладая метаболизмом тюленя и ведя холостяцкий образ жизни, он на исходе четвертого десятка благополучно существовал, не утруждая себя ни регулярными физическими упражнениями, ни здоровым питанием. Представление Мак-Артура о физкультуре ограничивалось зарядкой для пальцев: иногда он переключал кнопки на пульте дистанционного управления.
— Нашел интересную штучку? — спросил я.
Мак-Артур прожевал кусок рулета.
— Почему все эти женщины называют себя «привлекательными», «милыми» и «добродушными»? — спросил он. — В смысле, я холост, я смотрю по сторонам, но к женщинам, которых я встречаю, все вышесказанное не относится. Если эти дамочки на самом деле хорошо выглядят, то что они забыли на последней странице «Каско Бэй»? По-моему, все это чистая лапша.
— Может, тебе следует просмотреть объявления в следующем разделе?
Его брови испуганно приподнялись:
— Ты что, шутишь? Там же сплошные извращенцы. Я даже не понимаю, что означает большинство объявлений в этом разделе.
Он осторожно открыл нужную страницу, опасливо озираясь по сторонам, не видит ли кто. Дальше он говорил уже шепотом:
— Тут есть женщина, которая «ищет мужской заменитель своего душа». Что она имеет в виду? Я даже не представляю, о чем она может попросить. Починить ей душ? — его глаза испуганно округлились.
Я посмотрел на старину Уоллеса: в честных глазах мешались ужас и недоумение. Несмотря на двадцатилетний стаж работы в полиции, Мак-Артур оставался не просвещен относительно некоторых сторон жизни.
— Ну, так что? — спросил он.
— Ничего.
— Нет уж, скажи.
— Я просто думаю, что эта дамочка тебе не подойдет, вот и все.
— И я о том же. Даже не знаю, что лучше: понимать, что все эти люди имеют в виду, или пребывать в счастливом неведении. Боже, я просто хочу нормальных, открытых отношений. Такое ведь в принципе еще возможно, да?
На самом деле я не был в этом уверен, но понимал, о чем он. Детектив Уоллес Мак-Артур не собирался быть ничьим заменителем душа.
— Последнее, что я о тебе слышал, это то, что ты помогал вдове Эла Бакстона преодолеть ее горе.
Эл Бакстон был представителем округа Йорк, пока не слег от какой-то редкой болезни, превратившей его в мумию без бинтовых повязок. Мало кто оплакивал его уход. Он выглядел настолько неприятно, что по сравнению с этим опоясывающий лишай казался легким диатезом.
— Это продолжалось недолго. Как выяснилось, особенно большого горя-то и не было. Она как-то сказала мне, что переспала с его бальзамировщиком. Наверно, он даже руки не успел вымыть, как она уже была на нем.
— Может, она хотела выразить таким образом свою благодарность за отличную работу? В гробу Эл выглядел куда лучше, чем при жизни.
Мак-Артур рассмеялся, и слезы брызнули у него из глаз. Я только сейчас заметил, какие они у него красные и опухшие. Казалось, он плакал. Я подумал, что одиночество дается бедняге не так уж легко.
— Что с тобой? Ты похож на Бэмби, у которого только что умерла мама.
Он инстинктивно поднял правую руку, чтобы утереть глаза, которые начали слезиться, но передумал.
— Меня сегодня избили полицейской дубинкой.
— Не может быть! И кто же?
— Джеф Векслер.
— Детектив Джеф Векслер?! И что же ты сделал? Предложил ему встречаться? Знаешь, тот парень в «Сельских жителях» не пример для подражания.
Мак-Артур проигнорировал шутку.
— Ты закончил? Меня избили по распоряжению департамента: если ты носишь дубинку, то должен испытать ее на себе, чтобы впредь не торопиться применять против на кого-нибудь другого.
— Серьезно? Ну и как ощущения?
— Ужасно. Мне хотелось выйти на улицу и врезать какому-нибудь ублюдку по морде: может быть, тогда я почувствовал бы себя лучше. Эта штука прямо-таки жалит.
Полицейская дубинка жалит. Кто бы мог подумать!
— Мне кто-то сказал, что ты работаешь на Блайтов, — заметил Мак-Артур. — Дохлое дело.
— Они не сдаются, несмотря на то, что полиция уже сдалась.
— Это не так, Чарли, и ты это знаешь.
Я поднял руку в знак извинения.
— Ко мне вчера приезжал Ирвин Блайт. Мне пришлось сказать ему, что первая за несколько лет надежда, появившаяся у него и его жены, оказалась ложной. И не могу сказать, что мне было приятно это сообщить. Они страдают, Уоллес. Шесть лет прошло, но они все равно продолжают страдать. Об их горе забыли. Я знаю, полицейские в этом не виноваты. Знаю, что дело дохлое, но только не для Блайтов.
— Думаешь, она мертва? — тон, которым Мак-Артур спросил, не оставлял сомнений, что он сам именно так и считает.
— Надеюсь, нет.
— Да, надежда умирает последней, — он криво усмехнулся. — Я бы не стал читать раздел частных объявлений, если бы тоже так не думал.
— Я не сказал что оставляю надежду узнать что-то, но и безрассудным оптимизмом не страдаю.
Мак-Артур показал мне средний палец.
— Ты для этого пригласил меня сюда? Между прочим, ты опоздал, и мне пришлось самому купить этот рулет, а он, надо сказать, дорогой.
— Ну, извини. Слушай, мне нужно будет уехать из города на неделю. Рейчел не любит, когда я проявляю излишнюю заботу о ее безопасности, и не собирается носить пистолет.
— Тебе нужно, чтобы кто-то незаметно приглядывал за ней?
— Только до моего возвращения.
— Будет сделано.
— Спасибо.
— Это из-за Фолкнера?
— Ну да, — я пожал плечами.
— Его людей больше нет, Паркер. После смерти сына и дочери он остался один.
— Возможно...
— Что-то заставляет тебя думать по-другому?
Я покачал головой. Меня не покидало ощущение, что Фолкнер так просто не оставит гибель своих людей.
— Ты живешь, как заговоренный, Паркер. Ты знаешь об этом? Из прокуратуры поступил приказ не трогать тебя: тебя не преследовали за запутывание расследования, никаких обвинений против тебя и твоего приятеля за те смерти в Любеке. Я, конечно, не говорю, что ты убил тех рабочих, но все же.
— Да, я понимаю, — сказал я резко. Мне не хотелось это обсуждать. — Ну так как, ты поручишь кому-нибудь приглядывать за ней?
— Конечно. Я и сам могу этим заниматься, когда будет время. Как думаешь, она согласится установить сигнализацию?
Я думал об этом. Скорее всего, это потребует дипломатических переговоров на уровне ООН, но, возможно, ее удастся убедить.
— Не знаю. У тебя есть на примете кто-нибудь, кто бы ее установил?
— Есть один парень. Позвони, когда с ней договоришься.
Я поблагодарил его и поднялся, собираясь уходить. Я отошел на три шага, когда его голос остановил меня.
— Слушай, а у нее нет одиноких подруг?
— Да есть, наверно, — ответил я, прежде чем понял истинный смысл его вопроса. — Я тебе что, брачное агентство?
— Да ладно тебе. Это самое малое, что ты можешь для меня сделать, — улыбнулся Мак-Артур.
Я покачал головой.
— Спрошу, конечно, но ничего не обещаю.
Я оставил Уоллеса с улыбкой на лице и сахарной пудрой на одежде.
До полудня я занимался бумажной работой, кое-что проверил в записях, отправил счета двум клиентам и пересмотрел свои скудные заметки относительно Кэсси Блайт. Пообщался с бывшим парнем, с ее ближайшими друзьями, коллегами по работе и сотрудниками кадрового агентства в Бангоре, куда девушка обращалась незадолго до исчезновения. Ее машина была в ремонте, так что она отправилась туда на автобусе, выехав с вокзала в Грейхаунде, что на углу Конгресс— и Сент-Джордан-стрит, около восьми утра. В соответствии с полицейскими отчетами и наработками Сэндквиста, водитель вспомнил, как обменялся с ней парой слов. Она около часа провела в офисе агентства на площади Вест-Маркет, прежде чем зайти в книжный магазин Маркса. Там она спросила подписанные книги Стивена Кинга.
А потом Кэсси Блайт исчезла. Ее обратный билет не был использован, а новых билетов на ее имя не было зарегистрировано ни в одной автобусной компании. Ее кредитной карточкой ни разу не воспользовались с момента исчезновения. Оставалось все меньше людей, которым можно было задать вопросы, а я так ни к чему и не пришел.
Казалось, я не найду Кэсси Блайт ни живой, ни мертвой.
* * *
Черный «лексус» показался из-за дома около трех. Я был наверху: распечатывал статьи по поводу убийства Марианны Ларуз. Большинство из них были абсолютно бесполезными, кроме короткой заметки в «Стэйт», освещающей тот факт, что Эллиот Нортон принял своего подзащитного Атиса Джонса у государственного защитника по имени Лэйрд Райн. Не было никаких упоминаний о затруднениях, возникших с этой заменой, а значит, Райн добровольно передал Эллиоту дело. В коротком интервью Нортон прокомментировал этот факт так: несмотря на то, что Райн хороший юрист, Джонс предпочел государственному защитнику собственного адвоката. Райн никак на это не отреагировал. Материал был опубликован пару недель назад. Я как раз распечатывал его, когда подъехал «лексус».
Из машины со стороны пассажирского сидения вышел человек, одетый в синие джинсы и хлопчатобумажную рубашку. Все это до самых кроссовок было запачкано краской, и сам тип напоминал модель, сбежавшую с собрания дизайнеров-оформителей, если допустить, что в качестве модели они выбрали грабителя-гея, давно отошедшего от дел.
Чернокожий водитель был, по крайней мере, на фут с лишком выше своего напарника. Он уже донашивал летний комплект одежды, состоящий из легких туфель цвета бычьей крови, черных щегольских джинсов и коричневой льняной рубашки. Коротко стриженные курчавые волосы и небольшая бородка, обрамляющая сжатые губы, — парень явно не был любителем буйной растительности.
— А это место кажется куда более милым, чем та дыра, которую ты когда-то называл своим домом, — заметил Луис, когда я вышел ему навстречу.
— Если тебе там так не нравилось, зачем тогда ты туда приезжал?
— Потому что это тебя злило.
Я протянул ему руку и удивился, когда его сумка оказалась у меня в ладони.
— Я не даю чаевых, — сказал он.
— Я понял это, когда ты не решился раскошелиться, чтобы купить билет на самолет и заехать на выходные.
Он растерянно поднял бровь:
— Послушай, я работаю на тебя бесплатно, сам обеспечиваю себя оружием и патронами. Я думаю, что могу себе позволить не лететь сюда самолетом.
— А ты все еще хранишь у себя в багажнике арсенал?
— Тебе что-то понадобилось?
— Не то чтобы. Но, если в твою машину вдруг попадет молния, я не буду удивляться, куда подевалась моя лужайка.
— Нельзя быть слишком осторожным. Мир вокруг таит много опасностей.
— Знаешь, как называют людей, которые уверены в том, что все настроены против них? Параноики.
— Ну да. А знаешь, как называют тех, кто так не считал? Покойники.
Он прошел мимо меня и нежно обнял Рейчел, которая стояла чуть позади. Рейчел была, пожалуй, единственным человеком, по отношению к которому Луис открыто проявлял симпатию. Ну, может, он иногда позволял себе потрепать по голове Эйнджела — как-никак уже шесть лет вместе.
Я заметил подошедшему Эйнджелу:
— По-моему, с возрастом он становится все милее и милее.
— Я думаю, даже пара клыков, восемь ног и жало на конце хвоста вряд ли сделали бы его менее милым, чем он есть сейчас, — ответил он мне в тон.
— Надо же, и все это принадлежит тебе.
— Да. Я просто самый счастливый человек на свете!
Казалось, Эйнджел сильно постарел за последние месяцы. Вокруг глаз залегли морщины, а волосы тронула седина. Он даже ходить стал медленнее, как будто опасался оступиться. Луис рассказывал, что спина все еще беспокоит его после экзекуции, которую устроила ему семейка Фолкнеров. Пересаженные ткани прижились, но шрамы причиняли ему боль при каждом движении. Помимо всего прочего, им с Луисом пришлось жить в вынужденной разлуке. Прямое участие Эйнджела в событиях, связанных с поимкой Фолкнера, привело к тому, что полиция заинтересовалась его персоной. Сейчас Эйнджел жил за десять кварталов от Луиса, чтобы тот не попал под подозрение: прошлое Луиса не выдержало бы пристального внимания со стороны блюстителей закона и порядка. Парни серьезно рисковали, приехав сюда вместе, но Луис сам был инициатором этой идеи, и я не спорил с ним. Возможно, он подумал, что Эйнджелу пойдет на пользу пребывание среди тех, кто его любит и заботится о нем.
Эйнджел, видимо, понял, о чем думаю, и грустно улыбнулся:
— Неважно выгляжу, да?
Я улыбнулся ему в ответ:
— А когда-то было по-другому?
— Это точно. Ладно, пойдем внутрь, а то я уже начинаю чувствовать себя калекой.
Рейчел прикоснулась губами к его щеке и прошептала что-то на ухо. Он рассмеялся, впервые с того момента, как приехал. Но, когда она посмотрела на меня через его плечо, ее глаза были печальны.
Мы пообедали в «Катадине», на пересечении Спринг— и Хай-стрит в Портленде. Интерьер этого заведения несколько экстравагантен, но мы с Рейчел обожаем его. К сожалению, не мы одни: нам пришлось подождать в уютном баре, пока освободится столик, слушая разговоры местных жителей; похоже, они пришли сюда поболтать, а не поесть.
Эйнджел и Луис заказали бутылку шардонне, и я не сумел отказаться от бокала вина. С тех пор как погибли мои жена и дочь, я очень долго не прикасался к алкоголю. Ту ночь я провел в баре, а после того испробовал множество всевозможных способов самобичевания за то, что не оказался там, где был им нужен. После этого я редко выпивал кружку пива или, по особым случаям, бокал вина у себя дома. Не могу сказать, что я скучал по выпивке. Моя любовь к алкоголю серьезно ослабла.
Наконец, нас посадили за столик в углу, и мы приступили к еде, начав с фирменных сливочных рулетов. Поговорили о беременности Рейчел, обсудили нашу мебель и немного поспорили о том, что лучше: нью-йоркская морская кухня или лондонский бифштекс.
— Твой дом полон всякой старой рухляди, — заметил Луис.
— Антиквариата, — поправил я. — Все эти вещи принадлежали еще моему деду.
— Да хоть самому Моисею, все равно это просто хлам. Ты прям как эти придурки из он-лайн аукционов, которые покупают всякое барахло через Интернет. Когда ты заставишь его купить новую мебель, подруга?
Рейчел подняла руки, как бы говоря: «Я здесь ни при чем», как раз тогда, когда официантка подошла выяснить, все ли в порядке. Девушка улыбнулась Луису, немало удивив его тем, что не боится его. Дело в том, что большинству людей Луис внушал безотчетный страх, но официантка была сильной, привлекательной женщиной, которую не так просто запугать. Вместо этого она подала ему еще рулетов и одарила взглядом, каким собака смотрит на сахарную косточку.
— По-моему, ты ей понравился, — беззаботно сказала Рейчел.
— Я голубой, но не слепой.
— Но ведь она не знает тебя так хорошо, как мы, — подхватил я. — Давай ешь, тебе понадобятся силы, когда будешь отсюда убегать.
Луис нахмурился. Эйнджел продолжал упорно молчать. Он немного приободрился, когда разговор коснулся Вилли Брю, который держал автомастерскую в Куинсе и обслуживал мой «Босс-302».
— Какая-то девчонка забеременела от его сына, — сообщил он мне.
— От Лео?
— Нет, от другого — Никки. Который похож на чокнутого профессора. Только он не профессор...
— Есть надежда, что он примет правильное решение?
— Ага, уже. Он сбежал в Канаду. Отец девчонки очень разозлися. Его имя Пит Драконис, но все называют его Пит Джерси. Знаешь, по-моему, разумный человек свяжется скорее с Драконом, чем с мужиком, у которого имя как название штата, кроме, разве что Вермонта. Человек по имени Вермонт, по крайней мере, может заставить тебя заботится о сохранении популяции китов и пить зеленый чай. Хоть какая-то польза для здоровья.
За кофе я рассказал им об Эллиоте Нортоне и его клиенте. Эйнджел озабоченно покачал головой.
— Южная Каролина, — пробормотал он. — Не самое мое любимое место.
— Ну да, официальный гей-парад проходит не там, — подтвердил я.
— Откуда, ты говоришь, этот парень? — уточнил Луис.
— Из городка Грэйс-Фоллз. Это неподалеку от...
— Я знаю, где это, — перебил он меня.
Что-то в его голосе заставило меня замолчать. Даже Эйнджел озадаченно уставился на него. Мы просто смотрели, как Луис перекатывал кусочек рулета между большим и указательным пальцами.
— Когда ты собираешься ехать? — спросил он меня.
— В воскресенье.
Мы с Рейчел обсудили это и решили, что моя совесть позволит мне отправиться туда на пару дней. Я не хотел, чтоб беседа приняла такой оборот и перевел разговор на свою встречу с Мак-Артуром. Она на удивление быстро согласилась и на дежурства, и на сигнализацию, пообещав к тому же, что поможет Мак-Артуру с подругой.
Луис, похоже, сверился со своим внутренним расписанием и сообщил:
— Тогда я встречу тебя уже на месте.
— Мы встретим тебя на месте, — поправил Эйнджел.
Луис посмотрел на него.
— У меня есть кое-какие дела по дороге.
— У меня ничего не запланировано, — ответил Эйнджел абсолютно нейтральным голосом, смахивая со стола крошки.
Похоже, разговор принимал какой-то странный оборот, но я не просил разъяснений. Вместо этого я попросил счет.
— У тебя есть какие-нибудь соображения, с чем это было связано? — тихонько спросила Рейчел, когда мы направлялись к машине. Впереди маячили спины Эйнджела и Луиса.
— Нет, — ответил я. — Но, по-моему, кто-то сильно пожалеет, что эти двое покинули Нью-Йорк.
Надеюсь, этим кем-то буду не я.
В ту ночь я проснулся от шума внизу. Когда, накинув халат, я оставил спящую Рейчел и спустился вниз, оказалось, что входная дверь приоткрыта. На крыльце сидел Эйнджел, одетый в спортивные штаны и потрепанную футболку. Он вытянул вперед босые ноги и со стаканом молока в руках обозревал залитые лунным светом болота. С запада раздавались крики совы, то пронзительные, то приглушенные. Я знал, что птицы гнездились на кладбище Блэк Пойнт. Иногда в ночи фары проезжающей машины выхватывали из темноты силуэты птиц, спускающихся к верхушкам деревьев; нередко в их когтях можно было разглядеть все еще бьющуюся мышь.
— Что, совы не дают уснуть?
Он глянул на меня через плечо, и что-то от прежнего Эйнджела мелькнуло в его улыбке.
— Мне не дает уснуть тишина. Как ты вообще спишь в такой тишине?
— Могу пойти подудеть в свой рог или поругаться по-арабски, если это тебе как-то поможет.
— Да ладно...
Комары кружились вокруг нас, выжидая момент, чтобы напиться крови. Я взял с подоконника спички, поджег уголек, чтобы отпугнуть их, и сел рядом с ним. Он предложил мне стакан.
— Будешь?
— Нет, спасибо, я пытаюсь бросить.
— И правильно. Кальций сведет тебя в могилу.
Он сделал небольшой глоток.
— Волнуешься насчет нее?
— Ты о Рейчел?
— Ну, да. Не буду же я спрашивать о Челси Клинтон.
— Она в порядке. Кстати, я слышал, что Челси неплохо справляется в колледже, так что у нее тоже все путем.
Эйнджел улыбнулся, и лицо его словно на миг озарилось.
— Ты понимаешь, о чем я.
— Понимаю. Иногда бывает, волнуюсь. Порой мне становится так страшно, что я выхожу сюда, сижу в темноте, глядя на болота, и молюсь за нее. За нее и за малыша. Честно говоря, я думаю, что мы уже достаточно натерпелись. Пора бы и передохнуть немного.
— Здесь в такую ночь можно на это надеяться, — сказал он. — Тут очень мило. Спокойно.
— Ты начинаешь подумывать о том, чтобы удалиться на покой в эти края? В таком случае мне пора паковать вещи.
— Да нет, я слишком люблю город. Но здесь можно отдыхать.
— У меня в сарае водятся змеи...
— У всех нас свой гадючник. И что ты собираешься с ними делать?
— Оставлю в покое. Может, когда-нибудь они уйдут, или что-нибудь с ними случится.
— А если нет?
— Тогда придется самому с ними разобраться. Не хочешь сказать, что ты здесь делаешь?
— Спина болит, — ответил он просто. — И бедра тоже — там, где они содрали с меня кожу.
Ночные тени настолько отчетливо отражались в его глазах, будто стали частью его, как если бы частички темного мира нашли свое пристанище в его душе.
— Знаешь, я все еще вижу их, этого чертова проповедника и его сынка. Он держал меня, пока остальные резали. Он шептал мне на ухо, ты знаешь об этом? Этот Падд, гореть ему в аду, шептал мне, гладил по голове, мол, все в порядке, все образуется. А в это время его папаша резал меня. Каждое мое движение напоминает о холодной бритве, о его шепоте, и это возвращает меня назад, к ним. И, когда это происходит, ненависть переполняет меня. Никогда раньше я не испытывал такой ненависти.
— Это пройдет, — сказал я тихо.
— Разве?
— Да.
— Но не совсем.
— Нет, не совсем. И это чувство будет принадлежать тебе, и ты сделаешь с ним то, что должен.
— Я хочу убить кого-нибудь, — он сказал это так же, как если бы сообщил, что собирается принять прохладный душ жарким днем.
Луис был убийцей, я так думал. Неважно, что он убивал не ради денег или власти, что он не был безразличен и что людей, которых он убивал, не слишком оплакивали. Он мог забрать жизнь и не терзаться при этом по ночам, это было у него в крови.
Но Эйнджел — другое дело. Лишь попадая в ситуации, когда либо ты, либо тебя, он мог отнять жизнь. И это волновало его. Но всегда лучше волноваться на земле, чем беззаботно лежать в ней; у меня были личные причины благодарить Эйнджела за такую позицию. И вот Фолкнер уничтожил часть его, маленькую плотину, которую он сумел выстроить в глубине своей души, дабы удерживать страдания, гнев и боль, накопившиеся за всю жизнь. Я не знал и сотой доли того, что выпало ему испытать: оскорбления, голод, непонимание, насилие, — но только сейчас я действительно осознал всю значимость последствий этих невзгод.
— Однако ты не будешь давать против него показания в суде, если тебя попросят, — сказал я.
Я знал, что окружной прокурор хотел вызвать его на слушание и даже собирался прислать повестку. Но Эйнджел не любил лишний раз появляться в суде.
— Из меня не получится полезного свидетеля.
По правде сказать, он был прав, но мне не хотелось рассказывать, насколько слабым было дело против Фолкнера. Я даже опасался, что без более серьезной доказательной базы оно просто развалится. Как написали в одной газете, Фолкнер утверждал, будто на протяжении сорока лет фактически был узником сына и дочери, будто они одни виновны в гибели его паствы и ряде нападений на группы и отдельных лиц, чьи взгляды отличались от их собственных, и что дети приносили ему кости и лоскуты кожи, дабы он хранил их как напоминание. Типичная защита из разряда «во всем виноваты те, кто уже умер».
— Ты знаешь, где находится Каина? — спросил Эйнджел.
— Нет.
— В Джорджии. Луис родом из тех мест. По пути в Южную Каролину мы остановимся там ненадолго. Просто довожу до твоего сведения.
И в глазах его вспыхнул огонек. Я сразу разглядел его, потому что раньше он горел и в моих глазах. Эйнджел поднялся и направился к двери.
— Это ничего не решит, — сказал я.
Он остановился.
— Ну и что?
* * *
Утром за завтраком Эйнджел был немногословен и ни разу не обратился ко мне. Наш разговор на крыльце не способствовал сближению. Наоборот, он отразил существующий между нами разрыв, о котором странным образом прямо перед отъездом догадался Луис.
— У вас вчера было что-то вроде серьезного разговора? — спросил он.
— Да, вроде того.
— Он считает, что тебе надо было убить проповедника, когда представилась возможность.
Мы смотрели, как Рейчел и Эйнджел тихо разговаривают. Голова Эйнджела была опущена вниз, и он иногда кивал, но я почти чувствовал волны беспокойства, исходящие от него. Время разговоров уже прошло.
— Он винит меня?
— Для него все не так просто.
— А ты?
— Нет. Эйнджел был бы уже дважды покойник, если бы ты не сделал того, что сделал. Я не в обиде на тебя. А Эйнджел — он просто запутался.
Эйнджел наклонился и поцеловал Рейчел в щеку, нежно, но поспешно, а потом направился к машине. Он посмотрел на нас, кивнул мне и забрался в машину.
— Я поеду туда сегодня, — сказал я.
Луис слегка напрягся:
— В тюрьму?
— Да, в тюрьму.
— Могу я поинтересоваться, зачем?
— Фолкнер попросил о встрече со мной.
— И ты согласился?
— Им нужна любая помощь, а от Фолкнера ее не дождешься. Они думают, что ничего плохого из этого не выйдет.
— Они ошибаются.
Я не ответил, заметив лишь:
— Они все еще могут прислать Эйнджелу повестку.
— Пусть сначала его найдут.
— Его показания могут помочь засадить Фолкнера за решетку до конца его дней.
Луис уже двинулся вперед.
— А может, он не нужен нам за решеткой, — бросил он. — Может, мы хотим, чтоб он остался на свободе, где нам легче до него добраться.
Я смотрел, как их машина проехала по Блэк Пойнт-роуд, по мосту и скрылась в направлении Олд Каунти. Рейчел стояла рядом и держала меня за руку.
— Знаешь, — сказала она. — Мне бы хотелось, чтобы ты никогда не слышал об Эллиоте Нортоне. После его звонка все пошло наперекосяк.
Я крепко сжал ее руку — жест, который сочетал в себе уверенность и согласие. Она была права. Каким-то образом в нашей жизни происходили события, не имеющие к нам отношения. Но нельзя просто так от них сбежать, только не сейчас.
И мы стояли вместе, я и она, в то время как в болотах Каролины человек соприкоснулся со своим темным отражением, и оно поглотило его.
Глава 4
Человек по имени Лэндрон Мобли остановился и прислушался, его палец соскользнул с предохранителя охотничьего ружья. У него над головой с листьев хлопкового дерева сорвались крупные капли дождя, оставляя следы на массивном стволе. Справа от него, откуда-то из-под земли, послышались глубокие, резонирующие звуки — квакала лягушка-вол; красновато-коричневая сороконожка суетливо перемещалась вокруг носка его левого ботинка в поисках паука или другой снеди, в то время как парочка жуков-броненосцев беззаботно поедала свою добычу, не замечая надвигающейся угрозы. Некоторое время Мобли наблюдал за ней, с удивлением отмечая, как убыстрились движения сороконожки в последний момент: ее конечности и усики слились в одно пятно, а броненосцы, стремясь защититься, превратились в серые шарики. Сороконожка облепила одного из них всем телом и пристроила свои челюсти в том месте, где головка соединялась с тельцем, выискивая уязвимое место, чтобы впрыснуть яд. Результатом короткой борьбы, естественно, стала смерть броненосца, и Мобли вернулся к более насущному занятию.
Он прижал к плечу ореховый приклад своего «voere», сморгнул набежавшую капельку пота, припал правым глазом к оптическому прицелу; синеватая сталь дула винтовки тускло отсвечивала в позднем дневном свете. Справа снова раздалось кваканье, за ним последовал резкий клекот. Мобли вздохнул, описал винтовкой небольшую дугу, пока она не уставилась в заросли вяза и клена, с которых, подобно змеиным шкуркам, свисали засохшие лозы дикого винограда. Когда с вершины дерева взмыл коршун — его длинный черный хвост напоминал по форме вилку, белый окрас подбрюшья, лап и головы резко контрастировал с чернотой оперения крыльев, — охотник опять глубоко вдохнул, затем выдохнул, и мрачная тень накрыла птицу, неся с собой неминуемую смерть.
Его грудь взорвалась кровью и перьями, когда пуля 38-го калибра разорвала коршуна на взлете; секундой позже он рухнул в заросли ольшаника. Мобли опустил приклад и освободил патронник. Пятый заряд добавил птицу к другим его трофеям: еноту, виргинскому опоссуму, соловью, каймановой черепахе, которой он снес голову одним выстрелом, когда она вылезла на бревно и выставила ее погреться на солнышке всего в двадцати футах от того места, где стоял Мобли.
Он пошел к ольшанику и пошарил под деревьями, пока не нашел тушку птицы — ее клюв был приоткрыт, отверстие в центре его зияло багрово-черной раной. Он почувствовал удовлетворение, которое не испытывал прежде, почти сексуальное возбуждение, охватившее его от того что он совершил: не просто оборвал жизнь созданья, но словно вычеркнул часть красоты из мира, которому она принадлежала. Мобли прикоснулся к птице дулом винтовки, и ее теплое тело поддалось давлению, перья зашевелились, словно в тщетной попытке прикрыть рану, повернуть время вспять, заставить кровь наполнить сосуды, расправить простреленную грудь, чтобы коршун снова взмыл в поднебесье, поднялся до того момента, когда толчок стал бы мгновением сотворения, а не разрушения.
Мобли присел на корточки и аккуратно перезарядил ружье, затем опустился на ствол упавшей березы и достал из рюкзака бутылочку «Миллера». Он сдвинул кепку на затылок, сделал долгий глоток из горлышка. Его глаза не отрывались от того места, где лежал мертвый коршун, как будто охотник и в самом деле ожидал, что он оживет, окровавленный взмоет в небеса. В темной глубине своего нутра Лэндрон Мобли желал, чтобы птица была только ранена. Тогда бы он раздвинул листья и увидел бы ее, бьющуюся в агонии на земле: крылья напрасно трепещут в грязи, кровь льется из груди. Тогда бы он смог опуститься на колени, левой рукой обхватить горлышко птицы, вставить палец в пулевое отверстие, размыкать плоть, пока жертва еще бьется в руках, чувствовать ее тепло, раздирать мясо пальцем, пока, наконец, она не дернется в последний раз и не затихнет окончательно. Мобли сам стал бы тогда пулей, пронзающей тушку, силой, несущей смерть.
Он открыл глаза.
На его пальцах была кровь. Мобли взглянул вниз. Коршуна разнесло на куски, перья покрывали землю, в невидящих глазах отражались бегущие по небу облака. Лэндрон рассеянно поднес испачканные пальцы к губам, прикоснулся языком и ощутил запах коршуна, затем яростно заморгал, вытер руки о штаны дочиста, ощущая одновременно и смущение, и возбуждение от совершенного и вожделенного. Эти приливы накрывали его так внезапно, что он иногда даже не замечал ни их приближения, ни начала отливов, даже не всегда мог полностью испытать наслаждение.
Какое-то время он находил выход обуревающим его страстям на работе. Он мог прихватить какую-нибудь женщину из камеры и запустить пальцы в ее плоть, зажав рукой рот и раздвигая с силой ноги. Лэндрон Мобли был одним из полусотни сотрудников, которых Департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина уволил в прошлом году за «противозаконные отношения» с заключенными. Противозаконные отношения! Мобли просто обсмеялся. Такими словами Департамент прикрылся в средствах массовой информации, пытаясь завуалировать то, что творилось на самом деле. Ну, понятное дело, были и такие бабы, которые по своей воле отдавались, кто из одиночества, кто от похоти или за пару пачек сигарет, «косяк» или кое-что посильнее. Это было, по сути, беспределом — не важно, как они это там назвали. Лэндрон Мобли был не из тех, кто церемонился с бабьем. И в женской исправительной колонии на Коламбиа Брод Ривер-роуд были те, кто смотрели на него не только с уважением, но и с ужасом, после того как он показал им, что может произойти, если они вздумают перечить или ослушаются старину Лэндрона. Лэндрона с его пустыми, холодными глазами, который стремился заполнить их пустоту отраженными эмоциями жертвы — будь то боль или удовольствие. Он не делал различия между двумя крайностями: чувства других не имели для него никакого значения; но больше всего, если уж говорить начистоту, его привлекала борьба и сопротивление, а потом принудительная, неминуемая капитуляция. Лэндрона, шастающего из камеры в камеру, высматривающего среди этих свернувшихся под жалкими покрывалами комочков ту, что послабее. Лэндрона, переполненного ядом, склоняющегося над худой, темной тенью, с силой отрывающего прижатую к груди голову, обездвиживающего жертву массой опускающегося на нее тела. Лэндрона, который стоит сейчас под дождем, среди надрывного кваканья лягушек. Кровь коршуна еще не остыла на его пальцах, ощущения кристаллизуются и залегают в памяти.
А потом одна из местных газетенок разузнала о некой Мирне Читти, над которой надругались, когда она отбывала шестимесячный срок за кражу кошелька. И тут началось расследование. Она и выложила все: как он заглядывал время от времени к ней в камеру, бросал на койку, потом раздавался звук расстегиваемого ремня, а затем наступала боль... Господи, какая ужасная боль! На следующий же день фамилии Лэндрона уже не было в платежной ведомости — уволили, а через неделю он уже получил уведомление об увольнении, но на этом дело не кончилось. На 3 сентября в Комитете по предупреждению правонарушений были запланированы слушания по делу, к тому же пошли слухи, что против Лэндрона и пары других охранников будут выдвинуты обвинения в изнасиловании. В общем, началась заваруха, и Мобли понял, что, если все пойдет таким чередом, ему крышка.
В этой ситуации было очевидно: Мирна Читти никак не должна дать показания в деле об изнасиловании. Он-то знал, что случается с тюремными охранниками, получившими срок: то, что он проделывал с женщинами, вернется ему стократно, а такая перспектива Мобли совсем не улыбалась. Если в суде прозвучат показания Мирны Читти, это фактически будет смертным приговором для Лэндрона, и его приведут в исполнение каким-нибудь черенком лопаты или длинной ручкой швабры. Мирну должны были выпустить 5 сентября — за сотрудничество со следствием ей скостили срок, — так что Лэндрон подкараулит ее, когда она притащит пожитки в свой дерьмовый домишко. А затем они поболтают немного, и, возможно, он напомнит ей, что она потеряла с тех пор, как старина Лэндрон перестал заглядывать к ней в камеру или таскать ее в душ для обыска на предмет контрабанды. Нет уж, рука Мирны Читти не коснется Библии, она не назовет его насильником, не то просто умрет на месте.
Он еще раз глотнул как следует из бутылки и изо всей силы пнул ботинком холмик земли. У Лэндрона Мобли было не так много друзей. Безмерно жадный в пьяном состоянии, он, надо отдать ему должное, и в трезвом виде щедростью не отличался, так что никто не мог подозревать в нем скрытой добродетельности. Уж такой он был — отщепенец, чужак, нелюдим. Его презирали за необразованность, склонность к жестокости, за миазмы его извращенной сексуальности, которые заполняли пространство вокруг него, как вонючий смог. Но особенности его натуры, с другой стороны, привлекали к нему тех, кто признавали в Мобли существо, благодаря которому они могли бы окунуться в мир порока, не утонув в нем целиком, — достаточно было только использовать полную извращенность этой твари как средство удовлетворения своих желаний без видимых последствий.
Но последствия наступали всегда, потому что Мобли был как плотоядное растение, которое завлекает жертвы соблазном сладких соков, а затем буйно расцветает, пока жертвы медленно погружаются в пучину того, чего они так вожделели. Порочность Мобли могла передаться в слове, в жесте, в обещании, она использовала слабость человеческой натуры, как вода, пробивающая трещину в бетоне, расширяя и углубляя ее, и тогда душа человека неминуемо низвергалась в тартарары.
Когда-то у Лэндрона была жена, ее звали Линетт. Она не была ни красавицей, ни умницей — жена как жена. И он мучил ее годами, как мучил и остальных женщин. Однажды он вернулся с работы, а ее не оказалось дома. Она ушла практически безо всего, прихватив только чемодан с самым необходимым, да немного наличности, которую Лэндрон держал в старом щербатом кофейнике на всякий непредвиденный случай. Он до сих пор помнил взметнувшуюся в нем волну гнева, чувство покинутости и предательства, когда его одинокий голос гулким эхом разносился в пустоте их аккуратного домика.
Впрочем, он добрался до нее. Мобли как-то предупредил ее, что произойдет, если она вздумает уйти от него, а в таких делах Лэндрон был человеком слова. Он разыскал ее в каком-то занюханном мотеле на окраине Макона, в Джорджии, ну, а потом они славно провели время. По крайней мере, он уж точно. Впрочем, Мобли не сказал бы этого про Линетт: когда он закончил с ней разбираться, она и сама ничего не могла толком сказать. Да и вообще, пройдет много времени, прежде чем какой-нибудь мужик взглянет на Линетт Мобли, не испытав при этом рвотных позывов.
Порой Лэндрон погружался в свой собственный мир фантазий: мир, в котором все эти линетты знали свое место и не пускались в бега, стоило мужу отвернуться; это был мир, где он по-прежнему носил форму и мог вытащить любую тварь из ее камеры, чтобы немного поразмяться; мир, в котором Мирна Читти все пыталась скрыться от него, а он настигал, настигал, настигал и хватал ее, разворачивал к себе лицом так, чтобы видеть эти карие глаза, полные ужаса, пока он заламывал ее ниже, ниже...
* * *
Топь Конгари вокруг него, казалось, куда-то отступила, ее границы стали размытыми, вокруг заклубился серо-зелено-черный туман, и только падающие на землю капли и крики птиц доносились до слуха Мобли. Но вскоре даже эти звуки перестали существовать для него, и в своем темном мире Лэндрон отдался собственному ритму.
Но Лэндрон Мобли не покинул Конгари. Отсюда он не уйдет никогда.
Топь Конгари была очень старой. Она уже была старой, когда доисторические охотники добрались сюда; древней, когда Эрнандо де Сото проходил здесь в 1540; и совершенно древней, когда местные индейцы вымерли во время эпидемии оспы в 1698. В сороковых годах восемнадцатого века поселенцы-англичане наладили здесь первую паромную переправу. Но только в 1786 году Исаак Хугер начал строительство системы паромов, с помощью которых можно было регулярно переправляться через топь. На ее северо-западных и юго-западных границах в грязи и расщелинах полегло немало рабочих, занятых на строительстве плотин, которые возводили в начале девятнадцатого века. А в конце его «Сент-Ривер Сайпрес Ламбер Компани» Фрэнсиса Бедлера начала вести в здешних местах заготовку леса, которая прервалась в 1915 году, но возобновилась полвека спустя. В 1969 интерес к этому делу снова проснулся, и вырубки продолжались до 1974, в результате чего среди местных жителей возникло движение за спасение окружающих земель, на части которых никогда не производили вырубок, и они представляли собой нетронутые остатки прежних лесов. В настоящий момент около 22 000 акров были отведены под Национальный заповедник, половина территории представляла собой древние леса, простирающиеся от Миерс Грик и Олд Блафф-роуд на северо-востоке до границ округов Ричленд и Калхаун на юго-востоке, где они вплотную подходили к железной дороге. Только один небольшой участок размером две на полмили остался в частном владении.
Он был как раз неподалеку от того места, где сейчас сидел Лэндрон Мобли, погрузившись в грезы о женских слезах. Конгари была его прибежищем. То, что он проделывал здесь в прошлом, среди деревьев, в грязи, никогда не беспокоило его. Наоборот, он наслаждался всем этим, память о том времени обогащала его сегодняшнее тусклое существование. Здесь время терялось, в нем оживали прошлые наслаждения. Нигде Лэндрон Мобли не был самим собой настолько, как здесь.
Неожиданно глаза Мобли открылись, но он не шевельнулся. Медленно, почти незаметно, он повернул голову налево, и его взгляд наткнулся на мягкий карий взор белохвостого оленя. Рыжевато-коричневый, пять футов в холке, с белыми полукольцами на горле и вокруг ноздрей и глаз. Его хвост ходил вперед-назад от возбуждения, открывая белизну подшерстка.
Мобли догадывался, что в округе водились олени. На расстоянии примерно с милю от реки ему попадались следы копыт, он замечал на тропах катышки их испражнений; погрызенные ветви кустарников или неровные зазубрины, оставленные оленьими рогами на стволах деревьев, лишний раз подтверждали, что в этих заповедных лесах они водятся, но Лэндрону никак не удавалось повстречаться с ними. Он почти утратил надежду, что за эту вылазку ему удастся подстрелить оленя, и вот он, прекрасный самец, уставился на него из-за могучей сосны. Не сводя с оленя глаз, Мобли протянул правую руку за ружьем.
Его рука нащупала пустоту. Озадаченный, он посмотрел направо. Ружье исчезло, небольшая вмятина на земле была единственным подтверждением того, что оно здесь действительно лежало. Мобли стремительно выпрямился и услышал, как олень издал свистящий тревожный храп, прежде чем скрыться в лесной чаще, мелькая поднятым хвостом. Но Лэндрон остался безучастным к его прыжку: «voere» было, пожалуй, самым ценным из всего его имущества, а сейчас его умыкнули, пока он развлекался со своим членом до состояния отключки.
Мобли в бешенстве сплюнул на землю и принялся рассматривать следы. Они обнаружились справа от него и привели к густому кустарнику, а дальше потерялись. На почве остались зигзагообразные узоры: судя по всему, вор был тяжелым человеком.
— Проклятье, — прошипел он. Затем повторил, громче:
— Будь ты проклят!
Он взглянул на следы еще раз, и внезапно на смену злости в его душу стал медленно заползать липкий страх. Он находится в лесах близ Конгари один и без оружия. Возможно, вор удалился в сторону болота, а может быть, оставался где-то поблизости и наблюдал за реакцией Лэндрона. Мобли пробежался взглядом по деревьям, по земле, но не обнаружил присутствия другого человеческого существа. Поспешно и настолько бесшумно, насколько возможно, он прихватил рюкзак и направился к реке.
Обратная дорога к тому месту, где он оставил лодку, заняла минут двадцать. Его продвижение порой замедлялось: Лэндрон старался избегать лишнего шума, к тому же он иногда неожиданно останавливался, чтобы ухватить хоть какие-то признаки возможной Слежки. Пару раз ему, казалось, удавалось приметить мелькнувшую среди деревьев фигуру, но, едва он замирал, замирал и мир вокруг него, а единственным звуком было непрерывное капанье воды, стекающей с листьев и веток. Но не обман зрения нагнетал страх в душе Мобли.
Птицы замолкли.
По мере приближения к реке он зашагал шире, его ботинки захлюпали, как от ходьбы по грязи. Он оказался в зарослях подлеска, ограниченного поваленными деревьями и остатками мертвых деревьев, которые стали прибежищем для дятлов и мелких млекопитающих. Часть этих завалов была следствием сокрушительного урагана «Хьюго», который в 1989 скосил значительную часть леса, но, тем самым дал импульс росту новых побегов. За последним рядом молодых деревцев Лэндрон Мобли разглядел темную поверхность реки Конгари, полноводной благодаря разливу Пидмонта. Он рванул сквозь невысокие заросли и очутился на берегу. Бородатый испанский мох, свисая с кипарисовых веток, щекотал затылок Мобли, пока он стоял как вкопанный недалеко от того места, где оставил лодку.
Его лодки теперь тоже не было на месте.
Но он заметил нечто другое.
Это была женщина.
Она стояла к нему спиной, поэтому Мобли не мог разглядеть ее лица. Белое покрывало окутывало незнакомку с ног до головы. Она стояла на мелководье, и края одеяния теребило течение. Мобли наблюдал за тем, как она склоняется, опускает руки в воду, зачерпывает ее ладонями, поднимает руки и дает воде пролиться ей на лицо. Он заметил, что под покрывалом на ней нет одежды. Это была грузная женщина. Когда она присаживалась на корточки, под натянутой тканью явственно обозначалась темная ложбинка между ягодицами; кожа выглядела шоколадом на фоне белоснежной глазури ее накидки. Мобли было даже испытал приступ сексуального возбуждения, только...
Только он не был уверен, можно ли назвать то, что было под тканью, кожей. Она вся была словно искромсана и напоминала собой не то чешую, не то коросту: будто из нее извлекли какую-то субстанцию или, наоборот, что-то налепили на нее, так что кое-где ткань покрывала даже прилипла. Это делало женщину похожей на невиданную рептилию, и сходство с хищником заставило Мобли слегка отпрянуть. Вот он пытается разглядеть ее руки, но сейчас они скрыты под водой. Медленно женщина продолжает наклоняться все ниже, теперь под водой не только ладони, но и запястья, локти, она низко наклонилась над водой. Ему слышно, как она выдыхает, словно от удовольствия.
Это первый звук, который издала странная женщина. Ее молчание сначала настораживали Лэндрона, затем начали злить. Он наделал больше шума, чем перепуганный олень, когда ломился через заросли к берегу, но женщина, кажется, не заметила или решила не подавать вида, что заметила его присутствие. Мобли, несмотря на плохое предчувствие, решил с этим покончить.
— Эй! — окликнул он ее.
Женщина не ответила, но ему показалось, что ее спина напряглась.
— Эй! — повторил он. — Я с тобой разговариваю.
На этот раз женщина разогнулась и встала в полный рост, но не обернулась. Мобли чуть прошел вперед, пока его ноги не оказались у самой воды.
— Я ищу лодку. Ты не видела?
Женщина стояла не шевелясь. Ее голова, подумал Мобли, кажется ему слишком маленькой по сравнению с крупным телом, пока до него не дошло, что голова абсолютно лысая. Под накидкой он видел остатки коросты на ее черепе. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к ней.
— Я сказал...
Мобли почувствовал сильное давление со стороны левой ноги, вдруг она подогнулась под его весом, и лишь тогда до него дошел звук выстрела. Он свалился на бок, оказавшись наполовину в воде, наполовину на берегу, и уставился на остатки того, что было его коленом. Пуля снесла кость коленной чашечки, обнажив красно-белое месиво. Его кровь хлынула в реку.
Стиснутые зубы разомкнулись, и Мобли взвыл от боли. Он оглянулся. Поискал глазами стрелка.
В этот момент раздался еще один выстрел.
Вторая пуля, прошла сквозь его позвоночник в области поясницы. Мобли отбросило в сторону, он лежал на земле, наблюдая, как темное пятно расплывается вокруг его ног. Хотел шевельнуть ногой, но не смог: тело ниже поясницы больше не слушалось его. Лэндрон понял, что его парализовало, но при этом продолжал чувствовать боль, которая стремительно заполняла собой каждую клеточку его организма.
Мобли расслышал приближающиеся шаги и скосил глаза. Он открыл рот, чтобы в который раз выругаться (все неприятности, крупные и мелкие он встречал ядреным словцом), но что-то острое пронзило его плоть, распороло подбородок: крюк прошел через мягкие ткани, проколол язык и верхнее нёбо. Боль была ужасная, а наступившая агония превзошла огненную муку в нижней части туловища и в левой ноге. Он попытался закричать, но сейчас крюк удерживал его рот закрытым. Хриплый, надтреснутый звук — все, что вырвалось из его глотки. Давление, а с ним и боль усилились, когда его голова запрокинулась, и Мобли медленно поволокли к лесу.
Странно, сколько раз в жизни он причинял боль, но всю безмерность Боли понял только сейчас. С каждой секундой, она становилась сильнее и сильнее, хотя, казалось бы, сильнее некуда. Она держала его в сознании, как палач жертву, и Мобли в последние минуты жизни воспринимал мир вокруг себя едва ли не яснее, чем когда-либо.
Он видел перед собой сталь крюка, чувствовал языком его вкус, зубами — его твердость. Он попытался поднять руку, чтобы ухватиться за крюк, но сил уже не было, и пальцы едва скользнули по металлу, прежде чем рука обмякла и опустилась. Блестящий кровавый след оставался за ним на листве, на земле. С небес, словно темный саван, стал опускаться на него полог. Лес начал смыкаться вокруг него, и в последний раз он взглянул в сторону реки, где женщина сбросила свое покрывало и, обнаженная, повернулась к нему.
И глубоко внутри него, в темноте нутра Лэндрона Мобли, вожделеющего боли и мучений других, тьма женщин, покрытых коростой, опустилась на него, а он закричал из последних сил...
Книга 2
«Он не принес покоя никому и никого не спас. Он плыл по воле волн под лунным светом».
Ричард ДарренГлава 5
Оглядываясь назад, я вижу определенную закономерность в том, что произошло: странное совпадение различных обстоятельств, ряд возникших связей между внешне разрозненными событиями, происшедшими в прошлом. Мне припомнились соты, образованные несовершенными историческими слоями, сходство между прошлым и тем, чему принадлежит настоящее, и я стал что-то понимать. Мы заложники не только нашей истории, нашей судьбы, но и судеб тех, с кем мы избрали разделить свою долю. Нет ничего удивительного, что наше прошлое — Эйнджела и Луиса, Эллиота и мое — оказалось переплетено не меньше, чем наши связи в настоящем; власть его была столь сильной, что фактически прошлое начало преобладать, стало основной движущей силой событий в настоящем, пятная и невиновных и виноватых, затягивая их в мутные воды, раздирая в трясине Конгари.
И в Томастоне обнаружилась первая ниточка, которой было суждено появиться.
Большинство строений в Томастоне, штат Мэн, выглядели для тюрьмы весьма внушительно, надежно. Или, по крайней мере, обнадеживающе в глазах постороннего наблюдателя. Каждый, кто появлялся в Томастоне с перспективой провести в заключении немало лет, скорее всего, ощущал упадок духа при первом же взгляде на тюрьму. Его встречали высокие, мощные стены и та особая солидность, которая появляется после того, как здание несколько раз горело и столько же раз восстанавливалось с тех пор, как было построено, а случилось это в двадцатых годах девятнадцатого века. Томастон выбрали для постройки государственной тюрьмы, поскольку он был близок к побережью и до него можно было доставлять заключенных по воде, но сейчас ресурс здания был практически исчерпан. Исправительное учреждение штата Мэн (Супермакс) открыли в 1992 году в нескольких милях от старого Томастона. Оно было предназначено для содержания наиболее опасных преступников, в том числе и пожизненного, а также для уголовников с серьезными проблемами и отклонениями в поведении. Новая государственная тюрьма в недалеком будущем должна быть открыта неподалеку. А до тех пор Томастон остается приютом для четырехсот человек; одним из его узников после попытки самоубийства стал преподобный Аарон Фолкнер.
Я вспомнил слова Рейчел, когда она услышала о том, что Фолкнер, вероятно, пытался покончить с собой.
— Очень странно, — заметила она. — Он принадлежит к другому типу.
— Тогда почему он так поступил? Вряд ли это был вопль души.
Она прикусила губу.
— Если он предпринял эту попытку, значит, у него была какая-то цель. Из газетных репортажей можно понять, что раны на руках были глубокие, но не представляли немедленной угрозы жизни. Он перерезал вены, а не артерии. Человек, который действительно хочет умереть, поступает по-другому. По каким-то причинам он хотел выбраться из Супермакса. Вопрос — почему?
По всей видимости, у меня будет возможность задать вопрос ему самому.
Я отправился в Томастон после того, как Эйнджел и Луис уехали в Нью-Йорк. Оставив машину на парковке для посетителей, я вошел в приемную и назвал старшему дежурному свое имя. Позади него, за металлическим детектором, виднелась стена из тонированного стекла. За ней размещался пункт наблюдения за посетителями, видеокамеры, система сигнализации. Ком-вата для досмотра располагалась перед комнатой для свиданий. В других обстоятельствах для личного свидания с одним из обитателей заведения меня проводили бы именно туда. Только сейчас были особые обстоятельства, а преподобный Аарон Фолкнер не был обычным заключенным.
Подошел другой охранник, чтобы сопровождать меня. Я прошел сквозь детектор, прикрепил к пиджаку пропуск, и меня проводили к лифту на третьем этаже, где находилась администрация. Эту часть тюрьмы называли «мягкий сектор»: здесь заключенные могли появляться, но только в сопровождении охраны; от «жесткого сектора» его отделяла система двойных стеклянных дверей: они не могли открываться одновременно, так что, если бы даже преступнику удалось преодолеть первую дверь, вторая осталась бы запертой.
Начальник службы охраны, полковник, и начальник тюрьмы уже ждали меня. За последние тридцать лет режим содержания заключенных в этой тюрьме несколько раз менялся: от строгого, даже сурового, до недопустимо либерального, что всячески осуждалось охранниками старой закалки. В конце концов был установлен некий промежуточный вариант. Другими словами, заключенные больше не могли плеваться в посетителей, и можно было спокойно ходить среди обитателей, что, с моей точки зрения, было абсолютно приемлемым.
Раздался звук сирены, что означало окончание прогулки, и я увидел через окно, как заключенные в синих комбинезонах направляются через двор в свои камеры. Томастон занимал территорию размером в восемь-девять акров, включая Халлер-Филд, где зеки занимались спортом в окружении отвесных каменных стен. В дальнем его конце не отмеченное никаким знаком находилось место, где раньше приводили в исполнение смертные приговоры.
Начальник тюрьмы предложил мне кофе, а сам нервно вращал свою чашку, предварительно поспешно опустошив ее. Полковник, очень внушительного вида мужчина, подстать заведению, охрану которого он возглавлял, оставался молчаливым и неподвижным все время нашего разговора. Если он и испытывал тревогу, подобно начальнику тюрьмы, то никак этого не показывал. Его звали Джо Лонг, и его лицо было безучастным, как у индейца в сигарной лавке.
— Вы понимаете, что это чрезвычайно необычно, мистер Паркер, — произнес начальник тюрьмы. — Все посещения проходят в специальном помещении, предназначенном для этого, а не перед решеткой тюремной камеры. К нам редко обращается представитель прокуратуры с просьбой организовать подобную встречу.
Он остановился и ждал, что я отвечу.
— По правде говоря, я бы предпочел здесь не появляться. Я не хотел бы встречаться с Фолкнером снова, до суда во всяком случае.
Они переглянулись:
— Ходят слухи, что с судом могут возникнуть сложности: дело разваливается, — произнес начальник тюрьмы. На его лице были написаны усталость и отвращение.
Я ничего не сказал, чтобы заполнить молчание, и он продолжал:
— Наверно, поэтому прокурор настаивал на вашем разговоре. Думаете, он что-нибудь расскажет?
Выражение его лица ясно показывало, что он уже знает ответ, но я все же озвучил его предположения:
— Он слишком умен для этого.
— Тогда зачем вы здесь, мистер Паркер?
Настал мой черед вздыхать:
— Откровенно говоря, не знаю.
Ни полковник, ни сопровождающий нас сержант не проронили ни слова, пока мы шли по корпусу №7. Мы миновали лазарет, где старикам в инвалидных колясках раздавали лекарства, необходимые для продления их пожизненного срока. В пятом и седьмом корпусах находились престарелые, больные заключенные. Они размещались в многоместных камерах, украшенных надписями типа «Привыкай!», «Кровать Эда». В прошлые годы сюда могли определить пожилых заключенных особого типа, таких как Фолкнер, отправив их сюда или в административное отделение в камеру к остальным, ограничив их передвижения до решения по делу. Но теперь главный корпус для них находился в заведении Супермакс. Там не было психиатрической службы, а попытка суицида требовала изучения поведения Фолкнера с точки зрения психиатра. Предложение перевести его в психиатрическую клинику Огасты было отклонено прокуратурой: там не хотели, чтобы у будущих присяжных до суда возникло мнение о возможном психическом нездоровье преподобного. Это предложение также отклонили адвокаты Фолкнера, которые опасались, что штат таким образом получит возможность под благовидным предлогом поместить их клиента в условия более строгого наблюдения, чем где бы то ни было. В конечном итоге в качестве компромиссного варианта выбрали Томастон.
Фолкнер попытался вскрыть себе вены с помощью острого керамического осколка, который спрятал в переплете Библии перед тем, как его перевели в Супермакс. Он воздерживался от его применения почти три месяца своего заключения. Его тело обнаружил ночной дежурный во время очередного обхода; он едва успел вызвать медицинскую помощь, как Фолкнер потерял сознание. В результате преподобного перевели в отделение по стабилизации психического состояния заключенных в западном крыле тюрьмы Томастон, где его сначала поместили в специальный коридор. С него сняли обычную одежду, надели нейлоновую рубаху. За ним велось постоянное скрытое видеонаблюдение. Кроме того, все его действия и разговоры фиксировал в журнале специально для этого выделенный охранник. Параллельно велась запись разговоров с помощью электронного оборудования. После пяти дней в боксе Фолкнера перевели в другое помещение, заменили рубаху на обычный синий комбинезон заключенного, разрешили горячее питание, посещение душа, средства гигиены, кроме бритвы и принадлежностей для бритья, доступ к телефону. С ним начал работать тюремный психолог, а также психиатры, выбранные его адвокатами, но он по-прежнему хранил молчание. Затем он потребовал разрешить ему сделать телефонный звонок, связался со своими юристами и попросил устроить разговор со мной. Его требование провести встречу, не покидая камеру, возможно, к его удивлению, было удовлетворено.
Когда я прибыл в корпус, охранники приканчивали бургеры с цыпленком, доставшиеся им от ланча заключенных. Едва я появился в общей комнате, где местные обитатели проводили свободное время, все прекратили свои занятия и уставились на меня. Приземистый горбун пяти футов роста с прилизанными длинными волосами приблизился к решетке и, не говоря ни слова, окинул меня оценивающим взглядом. Я поймал его взгляд — мне совсем не понравилось мое ощущение при этом, — и взглянул на него еще раз. Полковник и сержант присели на край стола и смотрели мне вслед, когда я в сопровождении охранника шел по коридору к камере Фолкнера.
Я почувствовал озноб на расстоянии десяти футов от него. Сначала я подумал, что меня знобит от внутреннего сопротивления, от нежелания предстоящей встречи со стариком, но потом заметил, что охранник рядом со мной тоже как-то поеживается.
— Что-то не в порядке с отоплением? — поинтересовался я.
— Работает вовсю, — ответил он. — В этом здании тепло исчезает, как вода в решете, не нагреешься, но такого еще никогда не было.
Он остановился, когда мы еще не достигли того места, где обитатель камеры мог нас заметить. Голос охранника понизился:
— Это он. Проповедник. Его камера просто выстыла вся. Мы пробовали поставить рядом два обогревателя, но они каждый раз выходили из строя, — он неуклюже переминался с ноги на ногу. — Это как-то связано с Фолкнером. Он просто каким-то образом снижает температуру вокруг. Его адвокаты вопят об ужасных условиях содержания, но мы ничего не можем поделать.
При его последних словах что-то белое промелькнуло справа от меня. Прутья решетки находились почти на линии моего взгляда, и казалось, что возникшая передо мной рука, прошла сквозь прочную стальную стену.
Длинные белые пальцы ощупывали воздух, шевелясь, подергиваясь, словно они могли не только осязать, но и имели способность слышать и видеть.
А затем раздался голос, напоминающий звук падающих на бумагу металлических опилок.
— Паркер, — произнес он, — ты пришел.
Медленно я приблизился к камере. Ее стены были покрыты влагой. Капли поблескивали в искусственном свете, сверкая тысячами серебристых глазков. От камеры и от человека, стоящего в ней, исходил запах сырости.
Он казался меньше ростом, по сравнению с тем, как его я помнил, длинные седые волосы острижены почти до корней, но в глазах с той же неистовостью горел огонь. Фолкнер остался таким же истощенным: он не прибавил в весе, как происходит с некоторыми заключенными на тюремной еде. Я сразу понял почему.
Несмотря на холод в камере, от Фолкнера волной исходил жар. Он был словно бы раскален изнутри, лицо побагровело, тело сотрясали конвульсии, но на лице не выступило ни капельки пота, и он не испытывал видимых признаков дискомфорта. Его кожа стала сухой и напоминала бумагу; казалось, еще немного — и он вспыхнет, безжалостное пламя поглотит его и оставит от старика только пепел.
— Подойди ближе, — произнес он.
Охранник рядом со мной покачал головой.
— И так сойдет.
— Ты что, боишься меня, грешник?
— Нет, если ты еще не научился проходить сквозь стальные прутья решетки.
При этих словах мне вдруг вспомнилась рука, материализовавшаяся из воздуха, и я услышал свой судорожный глоток.
— Мне нет нужды в дешевых трюках. Я и так скоро отсюда выйду.
— Ты так думаешь?
Он наклонился вперед и прижал лицо к прутьям решетки.
— Я знаю.
Он улыбнулся, его бледный язык высунулся изо рта и облизал сухие губы.
— Что тебе надо?
— Поговорить.
— О чем?
— О жизни. О смерти, или, если ты предпочитаешь, о смерти после жизни. Они все еще посещают тебя, Паркер? Пропавшие, умершие, — ты все еще видишь их? Я вижу. Они приходят ко мне, — он улыбнулся и сделал длинный вдох; у него даже перехватило дыхание, словно из-за начинающегося сексуального возбуждения. — Очень многие из них. Они спрашивают о тебе, те, которых ты убил. Они интересуются, когда ты к ним присоединишься. У них есть кое-какие планы насчет тебя. Я говорю им: скоро. Очень скоро он окажется рядом с вами.
Я не стал отвечать на его насмешки. Вместо этого я спросил, почему он порезал себя. Он поднял свои руки в шрамах перед моим лицом и посмотрел на них почти с удивлением.
— Может быть, я хотел избежать расплаты.
— Не очень-то у тебя вышло.
— Как сказать. Я больше не в том месте, модернизированном аду. У меня есть связь с остальными, — его глаза засветились, — не исключено, что мне удастся спасти несколько заблудших душ.
— Имеешь в виду кого-то конкретно?
— Ну, уж не тебя, грешник, это точно. Тебе не спастись, — он негромко рассмеялся.
— И все же ты попросил встречи со мной.
Улыбка стала затухать, затем исчезла совсем.
— Я хочу предложить тебе сделку.
— Тебе нечего поставить на кон.
— У меня есть твоя женщина, — раздался низкий, испепеляющий голос, — я могу торговаться с тобой из-за нее.
Я и шага ни сделал, но он неожиданно отступил от решетки, словно сила моего взгляда отшвырнула его, будто я толкнул его в грудь.
— Что ты сказал?
— Я предлагаю тебе безопасность твоей женщины, твоего нерожденного ребенка. Жизнь, свободную от страха возмездия, кары.
— Старик, ты сейчас будешь бороться с государством. Лучше попридержи свои сделки для суда. А если ты еще раз вспомнишь о моих близких, я...
— Что ты? — он явно издевался, получая давно забытое удовольствие. — Убьешь меня? У тебя был шанс, и ты не воспользовался им, а больше такого не представится. Ты что, не помнишь: ты убил моих детей, мою семью, ты и твои дружки-извращенцы. Что ты сделал с человеком, который прикончил твою малышку, Паркер? Ты не охотился за ним? Ты не прикончил его, как бешеного пса? А почему ты думаешь, что я не отвечу тем же за гибель моих детей? Или ты думаешь, что для тебя одни правила, а для всех остальных другие? — он театрально вздохнул. — Но я не такой, как ты. Я не убийца.
— Чего ты хочешь, старик?
— Я хочу, чтобы ты вышел из игры, не появлялся в суде.
Я замер на мгновение.
— А если нет?
Он пожал плечами:
— В таком случае как я могу отвечать за те действия, которые, возможно, они предпримут против тебя или против них? Это буду не я, конечно: несмотря на всю мою злобу по отношению к тебе, я не собираюсь причинять тебе или твоим близким вред. Я за всю жизнь никому не сделал больно и не собираюсь начинать это делать сейчас. Но ведь могут быть и другие, кое-кто может сделать это вместо меня, если им передадут, что я этого хочу.
Я повернулся к охраннику:
— Вы это слышали?
Он кивнул, но Фолкнер лишь медленно перевел свой невозмутимый взгляд на него:
— Я всего лишь предложил вариант избавления тебя от кары, но в любом случае мистер Энсон вряд ли сможет оказать помощь. За спиной своей жены он развлекается с малолетней шлюшкой. Что хуже — за спиной ее родителей. Сколько там ей, мистер Энсон? Пятнадцать? Государство строго блюдет законы против насилия над малолетками, доказано оно или нет.
— Будь ты проклят! — Энсон метнулся к решетке, но я схватил его за руку. Он оглянулся на меня, и на минуту мне показалось, что сержант готов ударить меня, но он совладал с собой и отмахнулся от моей руки. Я посмотрел направо и заметил, что к нам направляются коллеги Энсона. Он поднял ладонь, в знак того, что все нормально, и они остановились.
— Я уж думал, ты не опустишься до трюков.
— Кто знает, что дьявол затаил в сердце человеческом? — он негромко рассмеялся. — Дай мне уйти, грешник. Отойди в сторону, и я тоже отойду. Я невиновен в том, в чем меня обвиняют.
— Наша встреча окончена.
— Нет, она только началась. Ты помнишь, что наш общий друг сказал перед смертью, грешник? Помнишь слова Странника?
Я не ответил. Было много того, что угнетало меня в Фолкнере, и много того, чего я не понимал, но его осведомленность о событиях, о которых он не мог ничего знать, беспокоила меня больше всего. Каким-то неизвестным мне способом он вдохновил того, кто убил Сьюзен и Дженни, укрепив его на том пути, что был им выбран, на пути, который привел его к двери нашего дома.
— Неужели он ничего тебе не говорил про ад? Что вот то был ад, и мы побывали в нем. Он во многом заблуждался, порочный, несчастный человек, но насчет этого он был прав. Когда восставшие ангелы пали, их отправили именно туда. Они были сокрушены, лишены своей красоты и обречены скитаться сюда. Неужели ты не боишься ангелов тьмы, Паркер? А следовало бы. Им про тебя известно, и вскоре они начнут действовать против тебя. Все, что было до этого, — ерунда по сравнению с тем, что тебе предстоит. Перед ними я ничтожен — пехотинец, которого выслали вперед расчистить дорогу. То, что на тебя надвигается, — НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛЫ.
— Ты повредился рассудком.
— Нет, — прошептал Фолкнер, — я проклят за поражение, за неудачу, но ты будешь проклят вместе со мной за соучастие в этом. Они проклянут тебя. Они уже ждут.
Я потряс головой. Энсон, другие охранники, тюремные решетки и стены как-то растворились. Остались только старик и я, одурманенный. На моем лице выступил пот под влиянием исходящего от Фолкнера жара, словно я заразился от него.
— Не хочешь узнать, что он сказал, когда пришел ко мне? Не хочешь ли узнать о разговоре, результатом которого стала смерть твоих жены и дочурки? Неужели где-то в глубине себя тебе не хочется знать, о чем мы говорили?
Я прокашлялся. Когда я заговорил, слова, как будто усаженные гвоздями, раздирали мне горло:
— Ты даже не знал их.
Он засмеялся:
— А мне и не надо было знать. Но ты... О, мы говорили о тебе. Благодаря ему я пришел к пониманию тебя до такой степени, что ты сам так не понимаешь себя. В общем-то, я доволен, что у нас появилась эта возможность встретиться. Хотя... — его лицо потемнело, — мы оба заплатили высокую цену за то, что наши судьбы переплелись. Отступи сейчас от себя, от всего этого, и между нами исчезнет конфликт. Но, если пойдешь дальше, я не смогу предотвратить то, что может произойти.
— До свиданья.
Я сделал движение в сторону, но из-за столкновения с Энсоном оказался на таком расстоянии, что Фолкнеру удалось дотянуться и схватить меня за лацкан пиджака и притянуть меня к себе, воспользовавшись моим замешательством. Я инстинктивно повернул голову, мои губы разомкнулись в крике предупреждения.
И в этот момент Фолкнер плюнул мне в рот.
Пронеслось мгновение, прежде чем я понял, что произошло, и я бросился на него, а Энсон теперь уже вцепился в меня, оттаскивая от старика. К нам побежали другие охранники, и пока меня выводили, я все время пытался избавиться от вкуса его слюны во рту, а он продолжал завывать мне вслед:
— Это тебе подарок, Паркер! — кричал он. — Это мой дар тебе, чтобы и ты мог видеть то, что вижу я!
Я оттолкнул охранников, протер рот изнутри. Низко наклонив голову, я быстро пошел через помещение для отдыха, где из-за решеток меня провожали взгляды тех, кто, казалось, не может причинить вред ни себе, ни обществу. Если бы я шел с поднятой головой, а внимание мое сосредоточилось бы на чем-нибудь другом, а не на преподобном и том, что он только что сделал со мной, то, возможно, я бы заметил, что сутулый темноволосый карлик смотрит на меня более пристально, чем остальные. А когда я ушел, человек по имени Сайрус Найрн улыбнулся, его руки выпрямились, его пальцы зашевелились, образуя бесконечный поток слов, пока на него не взглянул охранник, и он замер, снова прижав руки к телу.
Охранник знал, что делает Сайрус, но не стал обращать на это внимания. В конце концов, Сайрус был глухонемым, а все глухонемые так делают.
Они передают знаки.
* * *
Я уже почти был у машины, когда расслышал за собой шелест гравия под чьими-то ногами. Это был Энсон. Он неловко переминался.
— Вы в порядке?
Я кивнул. В комнате охранников я взял у кого-то ополаскиватель и тщательно промыл рот, но у меня по-прежнему было такое чувство, что какая-то частица Фолкнера бродит внутри меня, заражая весь организм.
— То, что вы там услышали... — начал он.
— Твоя личная жизнь — твое дело. Меня это не касается, — прервал я его.
— То, о чем он говорил, это не совсем так, как выглядит на первый взгляд.
— Это всегда выглядит не так.
У него на шее появилась красная сыпь и стала быстро распространяться по лицу, как при кори.
— Ты что, шутки шутишь со мной?
— Я же сказал, это твое дело. У меня есть только один вопрос. Если боишься, можешь проверить, есть ли на мне «жучок».
Он минуту поразмышлял, потом приблизился.
— То, что сказал проповедник, правда? Мне наплевать на закон или на причины, почему ты это делаешь. Все, что мне нужно знать, это: он прав в подробностях?
Энсон не ответил. Он посмотрел себе под ноги и просто кивнул.
— Кто-то из охранников мог проболтаться?
— Нет. Никто об этом не знает.
— Может, кто-то из заключенных? Кто-то из местных, кто мог пустить слух?
— Нет, вряд ли.
Я открыл дверцу. Энсону, как настоящему ковбою, захотелось оставить последнее слово за собой. Как и во всем другом, он, похоже, не считал необходимым сдерживать свои порывы.
— Если кто-нибудь об этом узнает, тебе придется несладко, — предупредил он.
Пустой звук. Он и сам это понимал. Я определил это по красным пятнам, выступившим у него на коже, и по тому, с каким усилием ему приходилось напрягать мышцы шеи, чтобы она воинственно выступала из ворота рубашки. Я позволил ему почувствовать себя победителем в этой небольшой словесной перепалке и наблюдал, как он подался назад, к двери, как тогда, когда старался держаться от Фолкнера на максимальном расстоянии.
Тень скользнула по его фигуре, словно большая птица спускалась, описывая в небе круги. Над стенами тюрьмы парили и другие твари. Они были огромные и черные, в ленивых взмахах их крыльев было что-то чуждое природе. Они скользили по небу, но в их движениях отсутствовали грация и красота птичьего полета: их тонкие тела не гармонировали с широкими крыльями. В борьбе с силой притяжения они лениво позволяли туловищу почти коснуться земли, но за секунду до этого начинали учащенно бить крыльями, возвращаясь на безопасную высоту.
Затем одна из фигур оторвалась от стаи и стала по спирали снижаться, с приближением все увеличиваясь и увеличиваясь. Когда она уселась отдохнуть на одной из сторожевых вышек, и я понял, что это никакая не птица. Я уже знал, кто это.
Тело темного ангела было истощено. Темная кожа на его руках обтягивала кости; его лицо было хищно вытянуто; глаза — черны и всезнающи. Он оперся когтистой лапой о стекло, и его крылья, оперенные тьмой, слегка подрагивали. Вскоре к нему присоединились остальные, усевшись на стены и вышки, пока, наконец, не показалось, что они заполонили своей чернотой всю тюрьму. Они не приближались, но я ощущал их враждебность. И что-то еще. Какое-то чувство, что их предали. Словно когда-то я был одним из них, а потом оставил их...
— Вороны, — услышал я голос неподалеку. Это была пожилая женщина. В руках она несла коричневый бумажный пакет, набитый какими-то вещами для одного из заключенных — может, для сына, а может, для мужа, одного из тех, что в седьмой общей камере. — Никогда не видела столько сразу, да еще таких больших.
Теперь они казались воронами: два фута в длину, с обычными лапами, которые были хорошо видны, когда они перебирались с места на место, перекрикиваясь друг с другом.
— Никогда не думал, что они собираются в таких количествах, — заметил я.
— Обычно нет, — сказала она, — но кто скажет, что сегодня обычный день?
Она двинулась дальше. Я забрался в машину, начал отъезжать, но черные птицы в зеркале заднего вида не уменьшались в размере. Напротив, они все увеличивались, даже когда я отъехал от тюрьмы; я чувствовал на себе их взгляд, в то время как частица проповедника распространялась в моем организме, словно рак.
Это мой дар тебе, чтобы и ты мог видеть то, что вижу я!
Помимо тюрьмы и магазина, торгующего предметами, сделанными руками заключенных, достопримечательностей в Томастоне не было, но в северной части города можно было неплохо поесть: домашние пироги и аппетитно дымящийся пудинг, которые подавали местным или тем, кто после тюремного свидания решил поговорить с родными или друзьями за столиком или под тентом. Я купил в аптеке еще одну бутылку с раствором для полоскания и долго освежал им рот на стоянке, прежде чем отправиться обедать.
Маленькое кафе с разнокалиберной мебелью пустовало. В нем скучали только двое стариков, молчаливо провожающих взглядом проезжающие машины, и мужчина лет тридцати пяти в дорогом костюме, сидевший у стены. Его плащ висел на спинке соседнего стула, вилка лежала рядом с тарелкой, на которой были остатки крема и крошки, а рядом с ней — номер «Ю-Эс-Эй Тудэй». Я заказал кофе и присел рядом.
— Неважно выглядишь, — заметил он.
Я поймал себя на том, что перевел взгляд в сторону окна. Отсюда не было видно тюрьмы. Я тряхнул головой, избавляясь от видений темных существ, выжидающих на стенах тюрьмы. Это была лишь галлюцинация. Обычные вороны. Я плохо себя чувствовал после встречи с Фолкнером.
Просто галлюцинация.
— Отличный костюм, Стэн, — сказал я, чтобы отвлечься.
Он показал мне ярлычок.
— Армани. Купил со скидкой и на всякий случай сохранил чек: вдруг меня обвинят в коррупции.
Официантка принесла мне кофе и удалилась за стойку читать журнал. Радио издавало звуки тошнотворной дорожной песни — просто дикий шум и какофония.
Стэн Орнстэд был помощником окружного прокурора, членом команды, сформированной, чтобы вести дело Фолкнера. Именно он убедил меня встретиться с Фолкнером, при полном согласии прокурора Эндрюса, который и устроил наше свидание в камере, чтобы я мог лицезреть условия, которые, похоже, тот сам себе создал. Стэн был на пару лет моложе меня и подавал большие надежды. Он делал карьеру, но недостаточно быстро. Орнстэд надеялся, что дело Фолкнера поможет изменить эту ситуацию, если только оно, как заметил начальник тюрьмы, не превратится во что-то весьма неприятное и не утянет всех в него вовлеченных на дно.
— Ты выглядишь как-то встревоженно, — заметил Стэн после того, как я сделал несколько ободряющих глотков.
— Да, у Фолкнера есть свойство влиять на людей подобным образом.
Стэн был не особенно разговорчив. Я застыл над чашкой кофе, а он просто развел руками, мол, а что поделать.
— Они прослушивают камеры для особо опасных преступников? — спросил я.
— Они нет, если ты имеешь в виду тюремное начальство.
— Но кто-то этим занимается.
— За камерой наблюдают. Официально нам больше ничего неизвестно.
Это «наблюдают» означало, что слежка велась без одобрения суда. Почти любую подобную операцию ФБР характеризует именно так.
— Федералы?
— Они не доверяют нам. Считают, что Фолкнер обведет нас вокруг пальца, так что они пытаются заполучить как можно больше информации, пока могут, на случай федерального расследования или повторного предъявления обвинения. Все его разговоры с адвокатами, врачами и даже с персональной Немезидой — это я о тебе, если ты не понял, — записываются на пленку. Они рассчитывают, что он проговорится, и это позволит им выйти на таких же, как он, или каким-то образом помочь обвинению. Все это, конечно, неприменимо в суде, но полезно для следствия.
— А он проговорится?
Орнстэд пожал плечами.
— Ты же знаешь, что он твердит: его десятилетиями держали в изоляции, он не имеет никакого отношения к тому, что происходило, и понятия не имел о преступлениях, которые совершало Братство и те, кто был с ним связан. Прямых улик его причастности к убийствам нет, а в том подземном убежище на комнатах действительно есть запоры снаружи.
— Он был в моем доме, когда они пытались убить меня.
— Это заявляешь ты, но ты был не совсем адекватен, сам мне говорил, что четко не видел.
— Рейчел его видела.
— Это так, но ее только что перед этим ударили по голове, и ее глаза заливала кровь. По ее собственным словам, она не помнит многого из того, что говорила, а потом его уже там не было.
— На Орлином озере обнаружили яму с останками семнадцати тел, членов его общины.
— Он сказал, что между семьями начались стычки. Они набросились друг на друга, затем на его семью, убили его жену. Его дети стали отвечать на насилие. Он утверждает, что в тот день был на острове.
— Он убивал Эйнджела.
— Фолкнер это отрицает. По его словам, это делали его дети, они заставили его смотреть. В любом случае, твой приятель сказал, что он не даст показаний, и, даже если мы вызовем его в суд повесткой, любой мало-мальски нормальный адвокатишко разделает его под орех. Он ненадежный свидетель. И, при всем моем уважении, ты тоже.
— Это еще почему?
— К тебе не стали придираться из-за твоей пушки, но, если обвинения не были выдвинуты, это не значит, что про оружие забыли. Будь уверен, шайка юристов Фолкнера знает о тебе все. Они будут пробивать идею, что ты туда ворвался, устроил пальбу и несчастному старику едва удалось спастись бегством.
Я оттолкнул свою чашку:
— Ты поэтому меня сюда пригласил — разнести дело в клочья?
— Здесь или в суде, какая разница? У нас проблемы. И, возможно, появятся другие заботы.
Я выжидал.
— Его юристы подтвердили, что готовят прошение в Верховный Суд о пересмотре решения об освобождении под залог в течение ближайших десяти дней. Мы полагаем, что судьей может быть Уилтон Купер, и это нехорошая новость.
Уилтону Куперу оставалось всего несколько месяцев до пенсии, но он по-прежнему сидел бельмом на глазу министра юстиции. Своевольный, непредсказуемый, упрямый Купер имел личную неприязнь к министру, источник которой скрывался в тумане прошлого. Вообще же он вполне был в состоянии защищать права обвиняемого ценой попрания прав общества в целом. Воистину, лучшего судьи адвокатам Фолкнера и желать не приходится.
— Если дело будет рассматривать Купер, его действия непредсказуемы, — продолжал Орнстэд. — Заявления Фолкнера — вранье, но нам нужно время, чтобы собрать доказательства и опровергнуть их, а это может растянуться на годы. Ты ведь видел камеру: да мы могли засунуть его в жерло вулкана, и все равно там было бы холодно. Его адвокаты приглашали независимых экспертов, которые заявили, что дальнейшее пребывание Фолкнера в заключении вредит его здоровью, и, если его не выпустить, он умрет. Если мы переведем его в Огасту, то, даю голову на отсечение, мы напоремся на иск об оправдании на почве душевного расстройства. Для него нет подходящих условий в Супермаксе, а куда мы его переведем из Томастона? В окружную тюрьму? Вряд ли. Таким образом, на сегодняшний день ситуация такова: приближается суд, и у нас нет надежных свидетелей, конкретных доказательств и улик по делу, а еще у нас есть обвиняемый, который может не дожить до суда. Старина Купер будет просто в восторге.
Я неожиданно обнаружил, что сжимаю ручку чашки с такой силой, что на левой ладони остались отпечатки. Я ослабил хватку и смотрел, как кровь снова приливает к побелевшим участкам.
— Если его выпустят под залог, он испарится, — произнес я, — он не станет дожидаться суда.
— Наверняка мы этого не знаем.
— Нет, знаем!
Мы одновременно склонились над столом, и, похоже, этим обратили на себя внимание. Старики у окна, обернувшись, смотрели на нас, привлеченные возникшим между нами напряжением. Я выпрямился, потом взглянул на них. Они вернулись к созерцанию потока машин за окном.
— В любом случае, — начал Орнстэд, — даже Купер не установит залог меньше семизначной цифры, и нам кажется, что у Фолкнера и его сторонников нет возможности внести такую сумму.
У помощника окружного прокурора были основания так думать: все счета Братства были заморожены, и следствие пыталось установить всю цепочку перетекания денег по счетам, но пока оставалось много неясного. Кто-то ведь оплачивал работу адвокатов Фолкнера, был открыт фонд в поддержку преподобного, в который регулярно поступали поражающие воображение вливания со счетов сумасбродов, придерживающихся ультраправых или экстремистско-религиозных взглядов.
— А известно, кто организовал фонд поддержки? — задал я вопрос.
— Официально, за фонд отвечала юридическая фирма «Мьюрей энд Ассошиэйт» из Саванны, штат Джорджия, но это была незначительная контора. Их должно быть гораздо больше, чем шайка темных дельцов-южан. Собственная команда юристов Фолкнера, которую возглавлял Грим Джим Граймс, работала отдельно. Отбросив условности, надо отдать ему должное, он один из лучших юристов Новой Англии. Он вытащит из любого безнадежного случая, но его услуги и обходятся недешево.
Орнстэд тяжело вздохнул.
— А вот еще одна плохая новость. К Мьюрею пару дней назад заходил некий посетитель, Эдвард Карлайл. Запись телефонных разговоров свидетельствует о том, что они контактируют каждый день с самого начала этого дела, а Карлайл входит в число основателей фонда и имеет там счет до востребования.
— Это имя мне ничего не говорит.
Орнстэд выбил пальцами неторопливую дробь на столешнице.
— Эдвард Карлайл — правая рука Роджера Боуэна. А Роджер Боуэн...
— ...ничтожество, — закончил я, — и расист.
— И неонацист, — добавил Орнстэд. — Да уж, на его календаре, похоже, тридцать девятый год. Тот еще тип. Наверняка, имеет долю в бизнесе с газовыми печами на случай, что те еще пригодятся как «окончательное средство» для решения национального вопроса. Насколько нам известно, именно Боуэн стоит за фондом. В последние годы он затаился, сидел и помалкивал, но, видимо, что-то заставило его выползти наружу. Он произносит речи, появляется на митингах, привлекает средства. Сдается мне, он очень хочет вернуть Фолкнеру свободу.
— Почему?
— А вот это мы и пытаемся установить.
— База Боуэна в Южной Каролине, так?
— Он перемещается между Каролиной и Джорджией, но большую часть времени проводит где-то в верховьях реки Чатооги. А что, планируешь навестить те места?
— Не исключено.
— А если я спрошу, зачем?
— Приятелю надо помочь.
— Час от часу не легче. Ну, будешь в тех краях — можешь при случае поинтересоваться у Боуэна, почему Фолкнер так важен для него, хотя я бы не советовал. Хочется надеяться, ты не из тех, с кем он горит желанием повстречаться.
— Да, пожалуй.
Орнстэд встал и погладил меня по плечу:
— Ты надрываешь мне сердце.
Я проводил его до двери. Его машина была припаркована прямо у выхода.
— Ты все слышал, правда? — спросил я. Я предполагал, что Стэн прослушал весь разговор между мной и Фолкнером.
— Ага. Ты имеешь в виду охранника?
— Энсона.
— Меня это не интересует. А тебя?
— Она несовершеннолетняя. Не думаю, что Энсон хорошо на нее влияет. В любом случае, сексуальная связь со взрослым мужиком не то, что каждый из нас пожелал бы своей младшей сестренке или дочери-подростку.
— Я тоже так полагаю. Мы можем организовать, чтобы кто-нибудь разобрался в этом деле.
— Я был бы благодарен.
— Договорились. У меня к тебе тоже есть вопросик. Что там произошло? Был такой звук, словно стычка или драка.
Несмотря на кофе, я все еще ощущал вкус ополаскивателя во рту.
— Фолкнер плюнул мне в рот.
— Вот дерьмо! Тебе надо сдать анализы?
— Вряд ли, но мне хочется выпить кислоты, чтобы выжечь его следы внутри себя.
— Зачем он это сделал? Чтобы разозлить тебя?
Я покачал головой:
— Нет, он сказал, что этот дар от него поможет мне видеть все отчетливо.
— Видеть что?
Я промолчал, хотя знал ответ. Он желал, чтобы я увидел, что ожидает его и приближается ко мне. Он хотел, чтобы я стал видеть, как он.
Глава 6
Воинственное расистское движение никогда не было многочисленным. Его ядро насчитывало не более 25 000 членов. Было еще около 150 000 сочувствующих и, возможно, до 400 000 «летунов», которые не помогали ни финансами, ни личным участием, но всегда были готовы сообщить об угрозе для белой расы, которая исходит от цветных и евреев, если перед этим угостить их стаканчиком-другим. Примерно половина активного состава была выходцами из Ку-Клукс-Клана, а остальные представляли собой смесь из скинхедов, разного типа нацистов и т.п. Уровень сотрудничества между группами был невысокий, зачастую оно перерастало в соперничество между группировками, граничащее с неприкрытой агрессией. Постоянных членов было немного, но во главе каждой группы стоял пожизненный активист, и, даже если менялись названия движений или между ними возникали распри и они подразделялись на какие-то более мелкие группки, лидеры оставались те же самые. Они были миссионерами, фанатиками, борцами за дело распространения учения нетерпимости, ораторами на всех ярмарках в штате, на митингах и конференциях, авторами газет и брошюр, участниками ночных ра-диошоу.
Из них всех Роджер Боуэн считался настоящим долгожителем, и при том самым опасным. Боуэн родился в семье баптистов в Гаффни, Южная Каролина, у подножия Блю Ридж. Он занимал самые разнообразные посты всех уровней в различных организациях правого толка, включая и самые известные неонацистские группировки за последние двадцать лет. В 1983 году в возрасте двадцати четырех лет Боуэн стал одним из троих молодых людей, которых допрашивали без предъявления обвинения по делу о причастности к деятельности «Порядка» — секретной организации, которая была создана расистом Робертом Мэтьюсом и связана с «Арийскими Нациями». В течение 1983 и 1984 годов эта организация предприняла несколько вооруженных ограблений, чтобы получить средства для финансирования своих операций, а среди них были и взрывы, и нападения, и изготовление фальшивых денег. «Порядок» оказался причастен к убийству ведущего ток-шоу Алана Берга в Денвере и человека по имени Уолтер Уэст, который входил в состав организации и был заподозрен в предательстве. Вскоре все члены организации были схвачены, за исключением Мэтьюса, погибшего в перестрелке с агентами ФБР в 1984. Так как причастность Боуэна к этим событиям не была установлена, ему удалось избежать правосудия, а с гибелью Мэтьюса данные об этих связях канули в небытие. Несмотря на относительную малочисленность движения, борьба с ним вовлекла в операции четверть всех кадровых ресурсов ФБР. Малочисленность «Порядка» в данном случае играла этой организации на руку: федералам практически не представлялось возможным внедрить туда посторонних и информаторов, за исключением несчастного Уолтера Уэста. Это был такой урок, который Боуэн никогда не забывал.
Затем некоторое время Боуэн был не у дел, дрейфовал, пока не примкнул к одному из клановских движений, хотя к тому времени благодаря разведывательной деятельности ФБР их активность поумерилась: престиж упал, балахоны вышли из моды, средний возраст членов стал уменьшаться, по мере того как более старшие деятели стали уходить из жизни или отстранялись от дел. В результате Клан, который обычно очень сдержанно относился к неонацистским организациям, стал менее разборчивым, новая поросль не имела предубеждений против такого союза, по сравнению со старшим поколением. Боуэн присоединился к «Невидимой империи» Билла Уилкинсона, члены которой называли себя рыцарями Ку-Клукс-Клана, но к тому времени, к 1993 году, «Невидимая империя» была распущена, а Боуэн уже организовал свое подразделение Клана — «Белых конфедератов».
Только Боуэн никогда не вербовал новых членов, как делали в других подразделениях Клана, и даже само название Клана было не более чем удобным прикрытием для развертывания особой деятельности. В «Белых конфедератах» никогда не состояло больше дюжины членов, но они имели власть и влияние, намного превосходящие их реальную численность. Они внесли серьезный вклад в процесс проникновения пронацистских настроений в ряды Клана, что привело к дальнейшему сближению ку-клукс-клановцев и неонацистов.
* * *
Боуэн также не исключал геноцид, эта идея ему даже нравилась — сама возможность уничтожения людей, запланированная и хорошо организованная, в невиданных прежде размерах. Именно это, а не какие-то моральные колебания и сомнения привели к тому, что Боуэн отдалился от обычных преступлений, связанных со случайными выплесками жестокости, что было характерно для движения в целом. На ежегодном митинге у Стоун-Маунтин в Джорджии он даже публично признался в одном преступлении — в Северной Каролине до смерти был забит чернокожий по имени Билл Пирс: группе пьяных клановцев стукнуло в голову заставить его промычать с платформы. С тех пор Боуэн избегал появляться в этом месте. Никто его не понял, да они и не были нужны ему, хотя он продолжал свою деятельность, не высовываясь вперед: поддерживал и организовывал отдельные марши клановцев в городках на границе Джорджии и Южной Каролины. И, хотя зачастую они собирали лишь горстку участников, угроза появления процессии была достаточным поводом, чтобы занять публикациями и репортажами первые страницы местных газет и вызвать возмущенное блеяние либералов, подогреть атмосферу неуверенности и страха, необходимую для того, чтобы Боуэн мог работать дальше. «Белые конфедераты» служили прикрытием, выполняя роль волшебной палочки в руках фокусника, взмахи которой отвлекают внимание от секрета фокуса. Настоящие фокусы были скрыты от взглядов публики, и движения палочки не только не были связаны с ней, но и не имели к сути дела ни малейшего отношения.
А суть в том, что всеми силами Боуэн, пытался залечить старые раны, нанесенные враждой. Боуэн пытался восстановить связи, навести мосты между «Христианскими патриотами» и «Арийцами», между скинхедами и клановцами. Боуэн, который обращался к наиболее громким, экстремальным членам правых христианских организаций. Боуэн, который ясно понимал важность единства, общения, расширения финансовой базы. Боуэн, для которого стало очевидно, что, взяв сейчас под свою защиту проповедника, он сможет убедить тех, кто купится на историю Фолкнера, перенаправить их деньги к нему. За год до ареста Фолкнера Братству удалось аккумулировать свыше 500 000 долларов. Это была незначительная, но для Боуэна и ему подобных довольно приличная сумма. Боуэн отслеживал, какие суммы поступали в фонд поддержки: уже собрались средства, необходимые для внесения десяти процентов от семизначной суммы, которую требовал закон, а деньги все продолжали поступать. Но ни один поручитель в здравом уме не станет вносить полную сумму в случае пересмотра дела о залоге в пользу подсудимого. Если они все правильно устроят, Фолкнер может выйти на свободу и исчезнуть еще до конца месяца, а если слухи о том, что это Боуэн помог ему бежать, будут продолжать распространяться, что ж, так даже лучше. Фактически в дальнейшем будет уже неважно, жив он или мертв. Вполне достаточно, если он останется где-то невидимый и сможет действовать как в том мире, так и в этом.
Но Боуэн, кроме прочего, чувствовал и восхищение перед тем, чего достигли старик и его Братство: не прибегая к банковским средствам, как делала организация «Порядок», и с сотрудниками, число которых не превышало четырех-пяти человек, эти люди на протяжении тридцати пяти лет совершали убийства и наводили страх на малодушных, при этом блестящим образом заметая следы.
Даже сейчас у ФБР были проблемы с доказательством причастности членов Братства к убийству гинекологов, делавших аборты, гомосексуалистов, еврейских лидеров и прочих «уродов», которые не отвечали идеалам единоверцев Боуэна и уничтожение которых, как утверждали, санкционировал Фолкнер.
Странно, но Боуэну не приходила в голову мысль примкнуть к делу Фолкнера, пока не появился Киттим. Киттим был своего рода легендой среди радикально-правых кругов, народный герой. Он появился вскоре после ареста Фолкнера, и после этого идея участия в процессе над Фолкнером стала казаться Боуэну абсолютно естественной. А то, что он не мог точно припомнить, чем именно прославился Киттим или откуда он появился, не имело такого уж большого значения. С этими народными героями ведь всегда так: они только наполовину реальны, а наполовину вымышлены, но, когда рядом с ним появился Киттим, Боуэн приобрел новое чувство цели, почти непобедимости.
Оно было таким сильным, что практически затмевало страх, который Роджер испытывал в присутствии этого человека.
Восхищенное отношение Боуэна, воплощенное в конкретных действиях после прибытия Киттима, безусловно, нашло отклик у Фолкнера, и он передал через своих юристов готовность украсить мачту Боуэна своими цветными лентами, заключив с ним альянс. Он даже предложил через свои секретные счета, которые его преследователи не смогли обнаружить, финансовую поддержку, если Боуэн окажет содействие в его освобождении. Больше всего старик не хотел умирать в тюрьме. Он предпочел бы до конца своих дней скрываться от преследования, но не гнить за тюремными решетками. Фолкнер попросил еще об одной маленькой услуге. Боуэна это немного напрягло — он и так уж предложил содействие в укрывании Фолкнера от преследований со стороны закона, — но, когда Фолкнер рассказал, о чем идет речь, Боуэн расслабился. Это была мелочь, и она доставит Боуэну почти столько же удовольствия, сколько Фолкнеру.
Боуэну казалось, что в лице Киттима он нашел подходящего для дела человека. Но он ошибался.
По сути, это Киттим нашел его.
* * *
Грузовик Боуэна подъехал к расчищенной площадке перед деревянным строением у границы Южной Каролины и Теннесси. Постройка была из темной древесины, крыльцо, поднятое на четыре ступеньки, справа и слева от него — два узких окна. Здание производило впечатление хорошо подготовленного к обороне бункера.
Справа от двери в кресле-качалке сидел и курил сигарету мужчина. Это был Карлайл. Его короткие вьющиеся волосы начали выпадать, едва ему исполнилось двадцать, и мистическим образом перестали, когда ему стукнуло тридцать, оставив на голове нечто похожее на клоунский венчик вокруг лысого черепа. Он был в хорошей форме, как и все, с кем работал Боуэн, — почти не пил, и Боуэн не мог припомнить, чтобы он когда-либо до этого курил. Сегодня Карлайл выглядел каким-то потрепанным, и Боуэн уловил запах, исходящий от него: рвота.
— Ты в порядке? — спросил Боуэн.
Карлайл вытер рот рукой и посмотрел, не осталось ли на ней чего.
— А что? Я испачкался в дерьме?
— Нет, но от тебя дурно пахнет.
Карлайл сделал последнюю затяжку и аккуратно затушил сигарету о подошву ботинка. Убедившись, что окурок погас, он растер его и развеял по ветру то, что осталось.
— Откуда взялся этот парень, Роджер? — спросил он, когда закончил.
— Кто? Киттим?
— Да, Киттим.
— Он настоящая легенда, — сказал Боуэн, и это прозвучало, как молитва.
Карлайл провел ладонью по лысине.
— Я знаю. По крайней мере, думаю, что знаю. — Его лицо приняло задумчивый вид, а потом на нем отразилось явное отвращение. — Откуда бы он ни взялся... он просто псих.
— Он нам нужен.
— Как-то и без него справлялись.
— Все равно, он нам нужен. Вам удалось что-нибудь выбить из парня?
Карлайл покачал головой.
— Он ничего не знает.
— Ты уверен?
— Поверь мне, если бы он что-то знал, давно бы все нам рассказал. Но этот чертов психопат не слезает с него.
Боуэн не особенно верил в еврейскую тайную организацию. Конечно, среди жидов были богатые люди, но, если посмотреть на картину в целом, они были достаточно разрозненны. Однако, если верить Фолкнеру, какие-то гребаные цадики в Нью-Йорке пытались добиться его смерти.
Сейчас тот, кого послали жиды, мертв, но Фолкнер хотел узнать, кто за ним стоял, чтобы, когда придет время, он смог им отомстить, и Боуэн решил, что было бы неплохо разузнать обстановку. Вот почему они похитили парня, схватив его на улице в Гринвилле, после того как он привлек к себе внимание, задавая неправильные вопросы в неправильных местах. Потом его привезли сюда в багажнике машины и перепоручили Киттиму.
— Где он?
— Там, во дворе.
Когда Боуэн проходил мимо Карлайла, тот преградил ему путь рукой.
— Тебе удалось сегодня поесть?
— Не особенно...
— Тебе повезло.
Рука опустилась, освобождая проход. Боуэн обошел дом и увидел закрытый загон, где раньше держали свиней. Вокруг все еще можно было уловить их запах, как показалось Боуэну. Но он сразу все понял, едва увидел, что лежало на земле посередине загона: на самом деле запах исходил от человека.
Обнаженный молодой человек лежал на самом солнцепеке. У него была короткая, аккуратно подстриженная бородка; волосы слиплись от пота и грязи. Вокруг его головы был затянут кожаный ремень. Его зубы вцепились в него, потому что раны, которые он получил, сейчас бередили. Над ним склонился человек в комбинезоне и перчатках и пальцами исследовал раны, которые ранее нанес ножом, иногда останавливаясь и чувствуя, как жертва напрягается и тихо скулит, насколько позволял ремень, а затем снова принимался за работу. Боуэн не знал, как Киттиму удавалось сохранять в парне жизнь, тем более удерживать его в сознании, но, безусловно, Киттим обладал разнообразными талантами по этой части. Заслышав приближение Боуэна, он поднялся, расправляя свое тело, подобно потревоженному насекомому, и повернулся к нему.
Киттим был высокого роста, где-то шесть футов и два дюйма. Кепка и темные очки, которые он носил постоянно, почти скрывали его лицо; он сознательно одевался именно так, потому что с его кожей было что-то не в порядке. Боуэн точно не знал, с чем это связано, и никак не мог набраться храбрости, чтобы спросить, но лицо Киттима имело пурпурно-лиловый оттенок; редкие волосы клочкам торчали из-под кепки. Он напоминал Боуэну аиста марабу, питающегося падалью и умирающими животными. Его глаза, когда он их открывал, казались зелеными, как у кошки.
Под комбинезоном угадывалось крепкое, сильное, хотя и худое, тело. Его ногти были аккуратно подстрижены, а щеки чисто выбриты. От него пахло мясом и лосьоном после бритья.
А иногда горящей нефтью.
Боуэн взглянул через плечо на парня, затем повернулся к Киттиму. Карлайл точно был прав: Киттим — извращенец; из небольшой свиты Боуэна только Лэндрон Мобли, который и сам-то был не намного лучше бешеного пса, испытывал к нему симпатию и влечение. Нет, Боуэну были отвратительны не столько пытки, которые устроили этому еврею, сколько сама атмосфера похоти, окружающая их. Киттим испытывал сексуальное возбуждение. Комбинезон не мог этого скрыть, и Боуэн отчетливо это видел. На какой-то момент вспыхнувшая в нем злость затмила страх перед этим человеком.
— Наслаждаешься? — поинтересовался он.
Киттим пожал плечами:
— Ты просил меня узнать, что он знает.
Его голос был похож на звук, издаваемый метлой, когда прибираются в помещении с пыльным каменным полом.
— Карлайл сказал, что ему ничего не известно.
— Здесь решает не Карлайл.
— Это так, здесь я — главный, и я тебя спрашиваю, удалось ли вытащить из него что-либо полезное?
Киттим пристально посмотрел на него из-за очков, потом повернулся спиной к Боуэну.
— Оставь меня, — только и произнес он и опустился на колени, чтобы возобновить свое копошение в теле жертвы, — я еще не закончил.
Вместо того чтобы удалиться, Боуэн вынул из кобуры пистолет. Его мысли снова вернулись к этому странному, изуродованному человеку, к его призрачной природе, к его прошлому. Они словно настигли его, неожиданно пришли в голову, как будто были олицетворением страхов, злобы, абстракцией, ставшей явью. Он сам пришел и предложил свои услуги Боуэну, и знание о его сущности начало проникать в Боуэна, словно неперекрытый газ, который просачивается в комнаты. Полузабытые истории обретали новые подробности, создавая вокруг Боуэна другую реальность; он уже не мог никуда от нее деться. Что там говорил Карлайл? Он был легендой. Но почему? Что он совершил?
Похоже, он не разделял их взглядов: все эти ниггеры, педики и евреишки были для него и таких, как он, просто средством питать свою ненависть. Казалось, он, напротив, далек от всего этого, даже когда измывался над нагими жертвами. А сейчас Киттим вздумал приказывать ему убираться подальше, оставить его в покое, словно Боуэн был ниггером-слугой с подносом. Пора было взять под контроль ситуацию и показать, кто здесь главный. Он немного отступил, затем поднял пистолет и нацелился на парня, лежащего на земле.
— Нет, — мягко произнес Киттим.
Внезапно волна жара, казалось, охватила его, и все его тело запульсировало вслед за ней, и тотчас же он стал уже не просто Киттим, но и кто-то еще, какое-то темное существо с крыльями, с глазами мертвой птицы, которые отражают мир, не имея в себе уже никаких признаков жизни. Кожа обвисла, собралась в складки, отчетливо проступили кости, ноги слегка присогнулись, ступни вытянулись.
Запах нефти стал сильнее, и Боуэна внезапно озарило: его сомнения, его прорвавшаяся злость каким-то образом позволили ему узреть эту сторону Киттима, суть, до того скрытую от него.
Он очень стар — старше, чем выглядит, старше, чем кто-либо может вообразить. Ему приходится чудовищно напрягаться, чтобы удержаться. Вот почему у него такая кожа, вот почему он так медленно ходит, вот почему держится особняком. Ему приходится прикладывать все усилия, чтобы сохранить такую форму существования. Он не живое существо. Он...
Боуэн отпрянул, когда фигура преобразилась и приняла свой обычный вид, и перед ним снова предстал мужчина в комбинезоне и окровавленных перчатках.
— Что-то не так? — спросил Киттим.
Даже в том состоянии замешательства, в котором он пребывал, Боуэн понимал, что не стоит отвечать на этот вопрос откровенно. Да он и не смог бы сказать правду, даже если бы захотел, потому что его мозг принимал срочные меры по сохранению рассудка, и сейчас он не был уверен, что из видения было реальностью, а что — плодом воображения. Рассудок диктовал упрямо: Киттим не мог содрогаться; он не мог преображаться; он не мог быть тем, о чем подумал Боуэн, например птицеподобным существом, темным, с крыльями — омерзительной птицей-мутантом.
— Да так, ничего, — ответил Боуэн. Он непонимающе уставился на оружие в своей руке, затем отвел его в сторону.
— Так дай же мне заняться своим делом, — произнес Киттим, и последнее, что увидел Боуэн, была угасающая надежда в глазах парня, распростертого на земле, которого закрыла собой склонившаяся над ним фигура Киттима.
Возвращаясь к машине, Боуэн задел Карлайла.
— Эй, — Карлайл потянулся и приостановил его, но отпрянул, и его рука невольно упала, когда он увидел лицо Боуэна.
— Твои глаза, — только и произнес он. — Что случилось с твоими глазами?
Но Боуэн не ответил. Позже он расскажет Карлайлу об увиденном, ну, или о том, что он подумал, будто увидел, а впоследствии Карлайл расскажет следователям о том, что должно произойти. Но пока Боуэн держал все при себе, его лицо оставалось безучастным, пока он катил прочь. Выражение безучастности не изменилось, даже когда он взглянул в зеркало заднего вида и обнаружил, что капилляры в глазах полопались и зрачки превратились в черные дыры в бассейнах крови, заполнивших глазницы.
* * *
Далеко на севере Сайрус Найрн возвратился в темноту своей камеры. Здесь он чувствовал себя более счастливым, чем снаружи, где ему приходилось общаться с другими. Они не понимали его, не могли понять. Немой: этим словом большинство людей описывало Сайруса на протяжении всей его жизни. Тупой. Молчун. Шизик. Его не особенно волновало, что они говорят. Он знал про себя, что он умный. А еще в глубине души предполагал, что он необычный.
Сайрусу было девять лет, когда его бросила мать. Отчим мучил его до тех пор, пока в возрасте семнадцати лет парень впервые не попал в тюрьму. Он все еще помнил кое-что о своей матери: это не были воспоминания, окрашенные любовью или нежностью, нет, никогда. Он вспоминал ее взгляд, полный все нарастающего презрения к тому, кого она принесла в этот мир в результате тяжелых, сложных родов. Этот взгляд навсегда остался в его памяти.
Мальчик появился на свет уродцем-горбуном, он не мог прямо стоять, его колени были сведены, словно постоянно притягиваемые друг к другу неведомой силой. Слишком большой лоб над темными глазами с почти черными радужками, а на лице выделялись продолговатые ноздри, маленький, округлый подбородок и невероятно толстые губы — верхняя губа нависала над нижней. Вечно полуоткрытый, даже во сне, этот рот пугал окружающих: им казалось, что Сайрус того и гляди начнет кусаться.
А еще он был очень сильным. На руках, на груди перекатывались мощные мышцы, они треугольником сходились к талии, а затем расширялись по линии бедер и на ягодицах. Сила была его спасением. Будь он послабее, тюрьма давно бы сломала его.
Первый срок он получил за ограбление с отягчающими обстоятельствами, после того как вломился в дом к одной женщине в Хултоне, вооруженный самодельным ножом. Женщина заперлась у себя в комнате и вызвала полицию. Сайруса схватили, когда он пытался сбежать через окно в ванной. Знаками он показал им, что ему надо было немного денег, чтобы купить себе пиво, и ему поверили. Но все равно дали три года, из которых он отсидел полтора.
Во время осмотра в тюрьме психиатр впервые поставил диагноз «шизофрения» на основе явных, классических симптомов: галлюцинации, мании, нетипичный образ мышления и самовыражения, странные мысли, слышимые голоса. Сайрус прекрасно слышал, но особенности его состояния ему объясняли с помощью сурдопереводчика, при этом он утвердительно кивал головой. Он просто предпочел скрыть этот факт во многом из тех же соображений, из которых много лет назад решил замолчать.
Или, возможно, этот выбор был сделан за него. Сайрус до конца не был уверен.
Ему назначили лекарства — нейролептики и психотропные, но он возненавидел их побочный отупляющий эффект и быстро научился скрывать факт, что больше не принимает их. Но больше, чем побочный эффект, он ненавидел одиночество, наступавшее вслед за приемом лекарств. Он презирал тишину. Когда голоса вернулись, он обрадовался им, встретил с распростертыми объятиями, как старых друзей, вернувшихся откуда-то издалека с необычными историями. Когда его выпустили из тюрьмы, он с трудом разбирал в хоре слышимых голосов болтовню охранников, сопровождавших его до ворот: его распирало возбуждение от близости свободы и возможности осуществления планов, многократно озвученных в его голове.
На самом деле для Сайруса дело в Хултоне было провалом по двум соображениям: во-первых, его схватили, во-вторых, он забрался в дом не за деньгами.
Он пришел за женщиной.
Сайрус Найрн жил в маленькой хижине, расположенной на клочке земли, которая принадлежала семье его матери, неподалеку от реки Андроскогин, в десяти милях к югу от Уилтона. Раньше местные жители хранили овощи и фрукты в ямах, выкопанных на берегу: низкая температура достаточно долго сохраняла их свежими. Сайрус обнаружил эти старые углубления, укрепил их, замаскировал входы бревнами и кустарником. Они служили ему убежищем еще в те времена, когда он был мальчишкой, — там он прятался от всего остального мира. Порой ему казалось, что он специально создан для них, что они его естественный дом. Искривленная линия спины, короткая толстая шея, ноги, сведенные в коленях — все линии его тела будто созданы были для этого места под речным берегом. Сейчас эти стылые ямы прятали кое-что другое, и даже летом из-за вечного холода, царившего в них, ему приходилось спускаться на карачках и обнюхивать землю, прежде чем удавалось обнаружить приметы того, что лежало внизу.
После Хултона Сайрус стал осторожнее. Каждый самодельный нож он использовал только один раз, потом уничтожал: рукоятку сжигал, лезвие запрятывал подальше от места своего обитания. Вначале он мог продержаться год, а то и больше без очередной жертвы, удовлетворяясь тем, что заползал в холодное молчание своего прибежища, пока голоса не становились настолько громкими, что ему приходилось снова выходить на охоту. Затем, с возрастом, голоса становились все более настойчивыми, их требования — все более жесткими, пока он не попытался захватить женщину в Декстере. Она завопила, прибежали мужчины и побили его. Тогда он получил пять лет, сейчас срок близился к концу. В комитет по вопросам досрочного освобождения были представлены результаты экспертизы PCL-R, сделанной с применением методики, которую разработал профессор психологии из университета в Британской Колумбии. В настоящий момент это был общепризнанный метод, который с помощью специальных тестов позволял выявить симптомы, обуславливающие склонность к рецидивам, жестокости и вероятность улучшения состояния при терапевтическом вмешательстве. Комитет принял положительное решение. В течение ближайших дней Сайрус должен был оказаться на свободе. Он сможет вернуться к своей реке и любимым пещерам.
Вот почему он любил камеру, ее темноту, особенно по ночам, когда мог сомкнуть глаза и вообразить себя в другом месте, среди женщин и девушек, девушек, благоухающих духами.
В какой-то степени своим освобождением он был обязан врожденной сметливости. Если бы тюремный психиатр продолжил свои наблюдения и исследования натуры Сайруса, он смог бы найти подтверждение теории, что генетические факторы, обусловившие его развитие, также определили и ярко выраженную сообразительность. Но не так давно Сайрус получил помощь с неожиданной стороны.
В отделении психиатрической поддержки появился старик. Он заметил Сайруса из-за решетки, и его пальцы зашевелились.
— Привет.
Прошло так много времени с тех пор, когда Сайрус последний раз разговаривал на языке глухонемых с кем-то еще, кроме как с врачом, что он почти забыл, как это делается. Но сначала медленно, а потом все быстрее он стал делать знаки в ответ.
— Привет. Меня зовут...
— Сайрус. Я знаю, как тебя зовут.
— Откуда тебе известно мое имя?
— Я все про тебя знаю, Сайрус. Про тебя и про твою кладовочку.
Сайрус отшатнулся и вернулся в камеру, где до конца дня пролежал, скрючившись, на полу в углу, пока в голове у него бушевали голоса. Но на следующий день он снова подошел к самому краю зоны отдыха, и старик ждал его. Он знал. Он знал, что Сайрус снова придет к нему.
Сайрус начал делать знаки руками:
— Что тебе надо?
— Мне надо кое-что тебе отдать.
— Что?
Старик сделал паузу, потом изобразил знак, тот самый, который Сайрус сам показывал себе в темноте, когда почти не оставалось сил выносить все вокруг и ему нужна была хоть какая-то надежда, хоть что-то, за что можно ухватиться и к чему можно стремиться.
— Женщина. Я дам тебе женщину.
Всего на расстоянии каких-то метров от того места, где лежал Сайрус, в своей камере Фолкнер опустился на колени и стал молиться за успех. Он знал, что, появившись здесь, он найдет хоть кого-то, кого сможет использовать в своих целях. Обитатели прежней тюрьмы были для него бесполезны; там не содержали заключенных с большими сроками, а другие были ему не нужны. Поэтому он поранил себя, из-за чего пришлось перевести его в отделение психиатрической помощи, что приблизило его к более подходящему контингенту. Он думал, что все будет сложнее, чем получилось на самом деле. Он заметил Найрна практически сразу же, почувствовал его боль. Фолкнер плотнее сомкнул пальцы и стал молиться громче.
Охранник Энсон приблизился к камере практически бесшумно, замер, вглядываясь в стоявшую на коленях старческую фигуру. Его рука мелькнула в точном, отработанном движении, и над головой молящегося просвистел резиновый шнур. Затем, бросив мгновенный взгляд через плечо, Энсон соединил концы шнура и привлек извивающегося Фолкнера к решетке. Он подтянул его ближе и схватил старика за подбородок.
— Ты, ублюдок, — прошипел он, стараясь понизить голос из соображений безопасности: до того как в камеру перевели Фолкнера, там побывал некий специалист, и охранник не исключал, что в камере установлены средства слежения и прослушки. Он уже переговорил с Мэри и предупредил ее не заикаться об их отношениях, если его опасения подтвердятся и дело дойдет до расспросов. — Еще раз откроешь пасть, и я ее захлопну навсегда, понял? — Его пальцы вцепились в сухую, горячую кожу Фолкнера, он почувствовал хрупкие, незащищенные косточки. Ослабив хватку, охранник отпустил резиновый шнур, дал ему приспуститься, а затем с силой дернул на себя так, что голова старика сильно ударилась о решетку. — И повнимательней приглядывайся к тому, что жрешь, старый козел, потому что я буду за тобой следить, слышишь меня?
Затем он высвободил шнур и дал телу свалиться на землю. Преподобный медленно поднялся и, пошатываясь, побрел к своей койке, судорожно втягивая воздух и ощупывая отметину на шее. Он прислушался к удаляющимся шагам охранника, не меняя положения, и, держась подальше от решетки, возобновил молитвы.
Когда он сидел, что-то на полу, казалось, привлекло его внимание, и его голова повернулась в направлении движения. Какое-то время он наблюдал за существом, потом поднял ногу и со всего размаха наступил на паука, а затем очистил подошву от останков насекомого.
— Парень, — прошептал он кому-то, — я тебя предупреждал. Я предупреждал тебя насчет твоих тварей: присматривай за ними получше.
Откуда-то поблизости послышалось звук, напоминающий сипение пара или выдох существа, охваченного яростью.
А в своей камере, в полусне, ощущая запах сырой земли, заполняющий его ноздри, Сайрус Найрн зашевелился, когда к хору звучащих в его голове голосов добавился еще один. В последние недели он стал приходить к нему все чаще и чаще, с тех пор как преподобный и он стали общаться и разговаривать про свои жизни. Сайрус радовался появлению этого голоса, ощущая как он распрямляет свои усики-антенны в его мозгу, обосновываясь и подавляя все другие.
— Привет, — произнес Сайрус, различая в голове свой собственный голос, тот самый, который многие годы никто не слышал, и по привычке знаками дублируя звуки.
— Привет, Сайрус, — ответил гость.
Сайрус улыбнулся. Он не был уверен, как обращаться к гостю, потому что у того было много имен, старинных, которые Сайрус никогда прежде не слышал. Но было два из них, которые он произносил чаще остальных.
Иногда он называл себя Леонардом.
Но по большей части просто Паддом.
Глава 7
В тот вечер Рейчел молча смотрела на меня, пока я раздевался. Наконец она все же спросила:
— Ты не собираешься сообщить мне, что происходит?
Я лег рядом с ней и почувствовал, как она придвинулась ко мне, ее живот коснулся моего бедра. Я положил на него руку и постарался ощутить присутствие живого существа там, внутри.
— Как ты себя чувствуешь?
— Отлично. Утром только немножко рвало, — она улыбнулась и шутливо пихнула меня, — но потом я оклемалась и поцеловала тебя.
— Класс! Надо отдать должное твоей личной гигиене, я не почувствовал ничего неприятного, по сравнению обычным поцелуем.
Рейчел ущипнула меня весьма ощутимо, потом приподняла руку и растрепала мне волосы:
— Ну, ты так и не ответил на мой вопрос.
— Он хочет, чтобы я — то есть мы, как я понимаю, так как тебя тоже вызовут, — отстранились от следствия и отказались давать показания. В ответ обещал оставить нас в живых.
— Ты ему веришь?
— Нет, но, даже если бы и верил, это ничего бы не изменило. У Стэна Орнстэда есть сомнения, что я ценен в качестве свидетеля обвинения, но мне кажется, он просто нервничает, и эти сомнения уж точно не касаются тебя. Мы будем давать показания, хотим мы этого или нет, но у меня такое ощущение, что Фолкнер не особенно беспокоится по поводу наших показаний. Он, похоже, уверен, что выйдет под залог после пересмотра дела. Я не понимаю, почему он захотел увидеть меня, разве что еще раз помучить. Видимо, ему так скучно в тюрьме, что он надеялся найти развлечение в моем лице.
— Ну и как?
— Так, слегка удалось... но ему это нетрудно. Там есть еще кое-что любопытное: его камера промерзает, Рейчел. Как будто его тело вытягивает все тепло из окружающего пространства. И он прошелся по поводу одного из охранников, у которого интрижка с молоденькой девушкой.
— Сплетня?
— Нет. Охранник отреагировал так, будто его ударили по лицу. Не думаю, что он кому-нибудь об этом рассказывал. Фолкнер сказал, что девушка несовершеннолетняя, и тот парень потом мне это подтвердил.
— Что ты собираешься делать?
— Ты насчет девушки? Я попросил Стэна заняться этим. Это все, что я могу сделать.
— Ну, а как тебе Фолкнер? Похож на психа?
— Нет, только не на психа. Трудно подобрать слово, чтобы его описать. Прежде чем я ушел, он плюнул в меня. Вернее, плюнул мне в рот.
Я почувствовал, как она одеревенела. Буквально.
— Ага, и я почувствовал что-то в этом роде. Во всем мире не найдется столько ополаскивателя для рта, чтобы отмыться.
— Почему он это сделал?
— Сказал, что это поможет мне лучше видеть.
— Что лучше видеть?
Вот он, этот вопрос! Я почти был готов рассказать ей о черной машине, о тех созданиях на тюремных башнях, о моих прошлых видениях, в том числе о пропавших баптистах, их детях, о том, что откуда-то порой ко мне приходят Сьюзен и Дженнифер. Мне так сильно хотелось сделать это, но я не мог, и не мог понять, почему. Она что-то почувствовала, но предпочла не расспрашивать. А, если бы она спросила, что бы я ей ответил? Я и сам толком не понимал природы моего дара. Мне не хотелось думать, что во мне есть что-то такое, что притягивает ко мне потерянные души. Порой было проще думать, что это какое-то психологическое, а не психическое расстройство.
У меня даже появился соблазн позвонить Эллиоту и сказать ему, чтобы он сам разбирался со своими проблемами, что я не хочу иметь с этим ничего общего, но я уже дал ему слово. А, поскольку Фолкнер оставался за решеткой в ожидании суда и рассмотрения вопроса о внесении залога, я полагал, что Рейчел пока что будет в относительной безопасности. Я был уверен, что Фолкнер не предпримет ничего такого, что поставило бы под вопрос возможность его освобождения.
Черный «кадиллак» — это другое дело. Это не было ни сном ни реальностью. Просто словно на короткий момент, нечто, что обычно оставалось недоступным моему физическому зрению, появлялось перед глазами, будто на короткое время наступала незначительная смена угла зрения, позволявшая мне видеть то, что обычно ускользало от взора. И по причинам, которых я сам не понимал, такая смена угла зрения не представляла собой прямой угрозы моей психике. Почему это происходило, оставалось неясным, смысл происходящего — загадочным. Впрочем, возвращаясь к реальности, мысль, что полицейское управление Скарборо присмотрит за домом, придавала уверенности, хотя вряд ли в полицейских отчетах появится сообщение о появлении помятого черного «кадиллака».
Еще оставался Роджер Боуэн. Ничего хорошего от противостояния с ним получиться не могло, но мне не терпелось взглянуть на него, возможно, чуть порасспросить и посмотреть, что из этого выйдет. Я не очень-то верю в совпадения. Прошлое убедило меня, что если какая-то ситуация напоминает совпадение обстоятельств, то сама жизнь пытается доказать, что вы недостаточно внимательно смотрите на нее.
— Он верит в то, что умершие разговаривают с ним, — наконец произнес я. — Он верит в то, что над тюрьмой Томастон кружат падшие ангелы. Вот почему он хотел, чтобы я их увидел.
— Ну и как? Видел?
Я посмотрел на нее. На лице Рейчел не было и тени улыбки.
— Я видел воронов.
Она не улыбнулась.
— Я видел воронов. Стаи воронов. И, прежде чем ты решишь выгнать меня спать в соседнюю комнату, замечу, что я был не один такой.
— Меня это не удивляет, — сказала Рейчел. — Что бы ты ни рассказывал мне об этом старикашке, меня это не удивит. Даже когда он за решеткой, у меня мурашки по коже бегают.
— Я могу и остаться. Я не обязан куда-либо ехать.
— Я не хочу, чтобы ты оставался здесь, — заметила она, — ты не так понял. Скажи мне по-честному, существует ли реальная опасность для нас?
Я задумался.
— Не думаю. Ничего не должно случиться, пока его адвокаты не договорились о залоге. После этого можно начинать беспокоиться. Сейчас полиция Скарборо выполняет роль ангела-хранителя, и у них это получается, но, возможно, вскоре им потребуется поддержка.
Она было открыла рот, чтобы начать возражать, но я закрыл его рукой. В ее взгляде появился упрек.
— Послушай, это пойдет на пользу нам обоим. И потом, если что-то и случится, оно не произойдет неожиданно, — понимание этого позволит мне спать пусть не намного, но спокойней.
Я медленно убрал руку с ее рта и мысленно приготовился выслушать гневную тираду. Ее губы раскрылись в приглушенном вздохе, а плечи опустились в знак согласия. И я поцеловал ее в губы. Поначалу она не ответила на мой поцелуй, но потом я почувствовал, как ее язык осторожно коснулся моего. Затем ее рот открылся шире, и я привлек ее к себе.
— Ты всегда используешь этот трюк, Казанова, чтобы добиться своего? — спросила она. Ее дыхание стало прерывистым, когда я коснулся внутренней части ее бедра.
Я вскинул брови, шутливо имитируя обиду:
— Конечно, нет! Я же мужчина. А секс — это то, чего хочет мужчина.
Я ощущал ее смех у себя на губах, когда мы оказались в объятиях друг друга.
* * *
Я проснулся в темноте. Не спалось. Никакой машины не было, но дорога казалась только что опустевшей. Я притворил дверь спальни и осторожно начал спускаться вниз, на кухню. Стоя почти на последней ступеньке, я увидел Уолта, сидящего у двери в гостиную. Он навострил уши, а хвостом медленно молотил по полу. Пес удостоил меня взгляда и вновь сосредоточил внимание на чем-то, что находилось в комнате. Я потеребил его за ухом, но его глаза были прикованы к сгустку темноты в углу, более темному, чем должно быть — занавески, закрывающие окно, были достаточно тонкими, — словно дыра, образовавшаяся между мирами.
Что-то в этой темноте привлекло внимание собаки.
Единственным оружием, которое я нашел, был нож для вскрытия конвертов. Вооружившись им, я вошел в комнату, вдруг сообразив, что не одет.
— Кто здесь? — спросил я. Уолт, застывший у моих ног, тихо проскулил, но это было скорее признаком любопытства, чем страха. Я сделал шаг к необычному сгустку темноты.
И появилась рука.
Женская рука, очень белая. Три горизонтальные раны были так глубоки, что я мог разглядеть кости пальцев. Раны были старыми, серо-коричневыми внутри, а кожа по их краям загрубела. Крови не было. Рука подалась вперед; ладонь смотрела прямо на меня:
— Стой.
И я понял, что эти раны были только началом, что она подняла руки, заслоняясь от ножа, но, несмотря на это, он добрался до нее и оставил на теле девушки еще множество порезов, подобных этим, — некоторые до смерти, а некоторые уже после.
— Пожалуйста...
Я остановился.
— Кто ты?
— Ты ищешь меня.
— Кэсси?
— Я почувствовала, что ты ищешь меня.
— Где ты?
— Потерялась.
— Что ты видишь?
— Ничего... Темноту.
— Кто это сделал? Кто он?
— Он не один... Многие в одном...
Потом я услышал шепот, к ее голосам теперь присоединились другие.
— Кэсси, дай я скажу, дай поговорю с ним... Кэсси, поможет ли он нам, знает ли он мое имя, Кэсси... Может ли он назвать мое имя, Кэсси, Кэсси... Может ли он забрать меня отсюда, я хочу домой, я не знаю, где я... Кэсси, пожалуйста, я хочу домой...
— Пожалуйста...
— Кто они, Кэсси?
— Я не знаю... Я не вижу их, но они здесь. Он держит нас здесь...
Потом из-за спины к моему обнаженному плечу прикоснулась рука — рядом лежала Рейчел, прижавшись грудью к моей спине, под собой я чувствовал прохладные простыни. Голоса затихают, вот они уже почти не слышны, но все равно отчаянные и настойчивые.
— Пожалуйста...
Бровь Рейчел изогнулась, и она прошептала во сне:
— Пожалуйста.
Глава 8
Я вылетел из аэропорта Портленда следующим утром. Рейчел подвезла меня до двери терминала по относительно пустым дорогам: было воскресное утро. Я уже позвонил Уоллесу Мак-Артуру и сообщил о своем отъезде, оставив на всякий случай ему свой номер в отеле и номер сотового. Рейчел организовала ему свидание со своей подругой по имени Мэри Мэйсон, которая жила в Пайн Пойнт. Рейчел познакомилась с ней в местном отделении общества натуралистов имени Одюбона; она показалась ей подходящей кандидатурой для Мак-Артура. Уоллес не преминул воспользоваться полицейской базой данных, чтобы раздобыть ее фотографию, и остался ею доволен.
— Она отлично выглядит, — сказал он мне.
— Да? Но не будь слишком самоуверенным: она-то тебя еще не видела.
— А что ей может во мне не понравиться?
— У тебя слишком высокая самооценка, Уоллес. Некоторые могут усмотреть в этом самодовольство, но, тем не менее, я уверен, у тебя все получится.
Возникла достаточно долгая пауза, прежде чем он спросил:
— Серьезно?
Рейчел наклонилась и поцеловала меня в губы.
— Береги себя, — сказала она.
— И ты тоже. Мобильный телефон с тобой?
Она прилежно достала его из сумочки.
— И ты будешь держать его включенным?
Она кивнула.
— Всегда?
Сжала губы. Пожала плечами. Неохотно кивнула.
— Я буду звонить и проверять.
Она хлопнула меня по руке.
— Серьезно? — спросил я и подумал, что, возможно, у нас с Мак-Артуром гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.
— Ага. Тебе не стоит упускать ни одной возможности, — ответила она с улыбкой.
* * *
Луис как-то говорил мне, что современный Юг отличается от старого лишь тем, что все жители стали весить на десять фунтов больше. Конечно, он сгущал краски, плюс его никак нельзя было назвать фанатом Южной Каролины, которую многие считают штатом самых неотесанных деревенщин, после Миссисипи и Алабамы, несмотря на то, что здесь расовые проблемы решают более цивилизованным образом. Когда Харви Гэнт стал первым чернокожим студентом в колледже Клемсон в Южной Каролине, власти, невзирая на демонстрации протеста, пусть неохотно, признали, что времена изменились. Но, тем не менее, в Орэнджбурге, Северная Каролина, в 1968 три черных студента были убиты во время демонстрации недалеко от аллеи Звезд боулинга, вход на которую был разрешен только белым. Каждый житель штата старше сорока лет ходил в сегрегированную школу, и еще существовали люди, которые считали, что в столице должен развиваться флаг Конфедерации[2]. А сейчас они называли озеро именем Строма Тармонда[3], будто закона, отменяющего сегрегацию, не было вовсе.
Я добирался в международный аэропорт Чарлстона через Шарлотт, который производил впечатление выгребной ямы эволюции с его унылым урбанистическим пейзажем, изуродованным чрезмерным нагромождением предприятий химической промышленности.
Из музыкального автомата, установленного в кафе «Вкус Каролины», раздавались звуки «Флитфут Мак». В кафе сидели мужчины в футболках и шортах, явно страдающие избытком веса, и потягивали пиво в тумане сигаретного дыма, а женщины скармливали все новые и новые «четвертаки» игровым автоматам у стойки бара. Человек с татуировкой в виде черепа с сигарой в зубах одарил меня тяжелым взглядом со своего места, где сидел, согнув ноги за низким столом; его футболка промокла от пота. Я встретил и выдержал этот взгляд, пока незнакомец не потупился и не посмотрел с безразличным видом в другую сторону.
Из Шарлотта самолеты отправлялись в такие места, куда никто в здравом уме не полетит, куда нужно брать билет в один конец, чтобы оттуда отправиться куда-нибудь еще, не важно куда, лишь бы были билеты. Мы сели в самолет по расписанию; моим соседом оказался человек в кепке с эмблемой Департамента противопожарной безопасности Чарлстона. Он перегнулся через меня, чтобы посмотреть на военную технику и самолет, стоящие на бетонной площадке, и на маленький двухпропеллерный самолет компании «Эйрвей Экспресс», который двигался к взлетной полосе.
— Хорошо, что мы на этом большом реактивном лайнере, а не на том жужжащем самолетике, — сказал он.
Я кивнул, а он переключился на главное здание аэропорта.
— Помню, когда Шарлотт был всего лишь городком с аэропортом на две полосы, — продолжал он. — Черт, они все еще его строили. Я тогда был в армии...
Я закрыл глаза.
Это был самый долгий в моей жизни перелет на коротких авиалиниях.
* * *
Международный аэропорт Чарлстона был почти пуст, когда мы приземлились; переходы и магазины казались заброшенными. На северо-востоке в лучах солнца стоял напряженный перед полетом, словно саранча, серо-зеленый самолет авиабазы «Чарлстон».
Они встретили меня в зале получения багажа возле стойки оформления проката автомобилей. Их было двое. На толстом — рубашка яркой расцветки. Другой, постарше, с зачесанными назад темными волосами, был одет в футболку, жилетку и парусиновую куртку. Они внимательно следили за мной, пока я стоял у стойки, затем подождали у боковой двери в главный зал, пока я шел по стоянке к небольшому навесу, под которым меня ожидал мой «мустанг». К тому моменту, как я достал ключи, они уже сидели в большом «шевроле» и ждали меня у пересечения с главным выездом из аэропорта. Всю дорогу они держались на две машины позади меня. Я мог бы от них оторваться, но какой в том смысл? Я знал об их присутствии, и это главное.
Новый «мустанг», который я взял напрокат, вел себя на дороге не так, как мой «Босс-302». Когда я нажимал педаль, около секунды ничего не менялось, и лишь спустя мгновение, наконец, машина выполняла команду. Но, тем не менее, в ней был проигрыватель компакт-дисков, и мне удалось послушать «Джейхокс», пока я ехал по унылому участку шоссе №26.
«Я убегу», — прогремело в динамиках, когда я поворачивал на Митинг-стрит, и, наконец, двусмысленность медленной композиции заставила меня переключиться на радио, запомнив один куплет: что-то вроде того, что у нас был малыш, мы знали, что это ненадолго, наверно, все дело в моих мозгах, но я был полон решимости.
* * *
Митинг-стрит — одна из основных транспортных артерий в Чарлстоне. Она ведет не только в деловой и туристический центр города, но и в районы, которые не назовешь респектабельными. У дороги чернокожий мужчина продавал с машины аккуратно выстроенные в ряды арбузы; над ним располагалась афиша клуба для джентльменов «Дайамонд». «Мустанг» преодолел железнодорожный переезд, проехал мимо захламленных складов, опустевших аллей, привлекая внимание ребятишек, играющих на заросших зеленью участках, и стариков, сидящих в креслах у себя на крылечках; краска на фасадах их домов давно начала осыпаться, а в щелях между ступеньками нагло обосновались сорняки. Единственным зданием, которое выглядело новым, был построенный из красного кирпича офис городской администрации. Оно как бы провоцировало тех, кто жил неподалеку, пойти на приступ и вынести оттуда все ценное. «Шевроле» держался за мной на протяжении всего пути от аэропорта. Пару раз я притормаживал, сделал полный круг: от Митинг-стрит свернул на Калхун— и Хатсон-стрит, а потом снова вернулся на Митинг-стрит, только чтобы проверить ребят. Они следовали за мной, не отставая до самого отеля «Чарлстон Плейс» и только там оставили меня в покое.
На галерее гостиницы после проповеди собрались состоятельные белые и черные жители города, разнаряженные в пух и прах. Они прохаживались, болтали, смеялись — разминались после службы. Местами раздавались предложения пройти в зал ресторана: для некоторых воскресный бранч после службы был традицией. Я миновал толпу, по лестнице поднялся к себе в номер. В нем были две кровати королевских размеров, а из окна открывался вид на телемонитор возле банка на другой стороне улицы. Я уселся на ближайшую от окна кровать и позвонил Эллиоту Нортону, чтобы сообщить ему о своем приезде. В трубке послышался долгий вздох облегчения.
— Гостиница нормальная?
— Да, в порядке, — сказал я нейтральным голосом. «Чарлстон Плейс», естественно, был роскошным местом. Но чем больше отель, тем проще постороннему проникнуть в номера. Я не заметил никого, напоминающего представителей службы безопасности, хотя, возможно, так и было задумано. В коридоре никого не было, кроме горничной, которая толкала тележку с полотенцами и туалетными принадлежностями. На меня она даже не взглянула.
— Это лучший отель в Чарлстоне. Там есть спортзал, бассейн, — сказал Эллиот, — если предпочитаешь что попроще, я могу найти местечко, где тараканы составят тебе компанию.
— За мной была слежка от аэропорта.
— Угу.
Он даже не удивился.
— Думаешь, твой телефон прослушивают?
Возможно. Я как-то не удосуживался проверить. Но здесь трудно сохранить секреты. Я же говорил тебе, неделю назад от меня ушла секретарша, и она отчетливо дала мне понять, что кое-кто из моих клиентов — неподходящие особы. Одним из последних ее дел было заказать тебе номер в гостинице на случай, если ты все же решишь приехать. Не исключено, что информация просочилась куда надо.
Я не очень тревожился из-за «хвоста». Те, кто имели отношение к этому делу, в любом случае вскоре узнали бы о моем прибытии. Меня больше беспокоила возможность того, что наши планы насчет Атиса Джонса станут известны, а это вызовет ответные меры против нас.
— Ладно, на всякий случай: больше никаких звонков в или из гостиницы, твоего офиса или дома. Для обычных разговоров нам понадобятся два новых мобильника. Вечером куплю. Что-нибудь более серьезное подождет до личной встречи.
Сотовые телефоны тоже не были идеальным средством, но, если подключиться неофициально и пользоваться ими осторожно, возможно, и обойдется. Эллиот рассказал, как проехать к его дому. Он располагался в восьмидесяти милях на северо-запад от Чарлстона. Я пообещал подъехать попозже, где-то во второй половине дня. Прежде чем повесить трубку он добавил:
— У меня была еще одна причина, чтобы ты остановился в «Чарлстон Плейс», кроме твоего удобства.
Я выжидал.
— Ларузы появляются там на воскресном бранче — так, потусоваться, посплетничать, обсудить дела. Если сейчас спустишься вниз, наверно, увидишь их: Эрла, Эрла-младшего, может быть, кузенов, деловых партнеров. Я прикинул, что, возможно, ты бы не возражал против возможности присмотреться к ним, но, если за тобой был «хвост» от аэропорта, скорее всего, они в такой же степени интересуются тобой, как и ты ими. Извини, приятель.
Я оставил это замечание без комментариев.
Прежде чем спуститься вниз, я просмотрел телефонный справочник и позвонил в фирму по прокату автомобилей «Лумис». Договорился, что мне в течение часа на стоянку в гараж пришлют «неон». Должно быть, те, кто за мной следят, будут присматривать за «мустангом», а мне не хотелось чересчур упрощать им жизнь.
Я заметил группу Ларуза, когда они выходили из ресторана. Старика Эрла легко было узнать по знакомой из газетных фото фирменной экипировке — белый костюм, черный шелковый галстук, как у китайского плакальщика на похоронах. Это был мужчина около шести футов ростом, лысый, грузный. Рядом с ним стоял сын — мужчина примерно моих лет, более стройный, но очень близкий отцу по типу внешности, хотя в ней сквозило и нечто женственное, изнеженное, что отсутствовало в старшем Ларузе. Стройную фигуру Эрла-младшего скрывала белая рубашка свободного покроя, черные брюки слишком плотно облегали ягодицы и бедра, что делало молодого человека похожим на исполнителя фламенко. Очень светлые волосы почти скрывали брови, и я готов был поспорить, что ему приходится бриться не чаще одного раза в месяц. Пятеро их спутников — трое мужчин и две женщины — о чем-то оживленно беседовали на ходу. К группе быстро присоединился восьмой член, мужчина с зачесанными назад черными волосами. Он приблизился к Эрлу-младшему, что-то сдержанно сообщил ему на ухо и отошел в сторону. Эрл немедленно взглянул в мою сторону. Он что-то сказал отцу, затем отделился от группы и подошел ко мне. Я не знал чего ожидать, но в любом случае не предполагал увидеть протянутую навстречу руку и улыбку сожаления на лице Эрла-младшего, когда он приблизился.
— Мистер Паркер? — уточнил он. — Позвольте представиться — Эрл Ларуз, сын.
Я пожал его руку:
— У вас так принято — следить за всеми приезжими от самого аэропорта?
Его улыбка дрогнула, затем вернулась на место, на этот раз выражение сожаления стало еще более явным.
— Извините. Нам было просто интересно узнать, какой вы.
— Не понимаю.
— Нам известно, почему вы здесь, но мы понимаем. Мы не хотим, чтобы между нами возникли какие-то проблемы. Понимаем, что вам надо выполнять свою работу. Мы бы хотели, чтобы человек, виновный в гибели моей сестры, понес наказание в полном соответствии с законом. В настоящий момент мы считаем, что это Атис Джонс. Если будет доказано, что это не так, мы согласимся с доводами следствия. Мы давали показания полиции и рассказали все, что нам известно. Все, о чем мы вас просим, — это соблюдать конфиденциальность и проявить уважение и деликатность, не беспокоить нас. Нам больше нечего добавить к тому, что было сказано.
В его монологе сквозил оттенок заученности. Более того, я почувствовал в нем некую отстраненность, отчужденность что ли. Хотя сразу нельзя было определить, что за этим скрывалось. Издалека за нами наблюдал его отец. В лице Эрла-старшего отчетливо была заметна враждебность. По каким-то непонятным причинам, она, казалось, направлена на сына в такой же степени, что и на меня. Молодой человек повернулся и подошел к группе своих собеседников. Пока спутники шли по крытой галерее, а затем рассаживались по машинам, выражение враждебности сменилось беспристрастным. Мне ничего не оставалось, как вернуться к себе в номер. Я принял душ, съел сэндвич и стал ждать, когда пригонят машину. Когда позвонили из службы приема гостей, я спустился, подписал нужные бумаги и отправился на парковку. Надев темные очки, я выехал из гаража. Солнце светило в лобовое стекло. «Шевроле» поблизости не появился, не было заметно и кого-нибудь другого, кто проявлял бы интерес к моей машине или ко мне. По дороге из города я остановился у большого торгового центра и купил два новых мобильных телефона.
Эллиот Нортон жил в двух милях от Грэйс-Фоллз в скромном белом доме, построенном в псевдоколониальном стиле. По бокам главного входа возвышались две колонны, вдоль всего второго этажа тянулась веранда-галерея. Место выглядело так, словно здесь ничего не изменилось за последние лет двести. Большой кусок пластика, прикрывающий дыру в крыше, никак не нарушал атмосферу подлинной старины. Я нашел Эллиота позади дома. Он разговаривал с мужчинами в комбинезонах, которые стояли, прислонившись к грузовичку, и курили. Надпись на машине гласила, что это рабочие из «Дэйвз Констракшн энд Руфинг» из Мартинеса, штат Джорджия (это была их реклама «Хочешь сэкономить? Звони Дэйву»). Слева от них высилась груда настила, уже приготовленного так, чтобы на следующее утро можно было приступать к работе. Один из кровельщиков машинально поигрывал куском почерневшего, обгоревшего шифера. Когда я подошел, он прервал свое занятие и сделал движение подбородком в мою сторону. Эллиот поспешно оглянулся и бросился ко мне, протягивая руку:
— Боже, как же я рад тебя видеть!
Он улыбнулся. Часть волос слева на голове у него подпалилась, а то, что осталось, было коротко острижено. Левое ухо прикрывала марля, на щеке, подбородке и шее — следы от ожогов. Левая рука в специальной повязке была покрыта волдырями.
— Не сочти за комплимент, Эллиот, но выглядишь ты ужасно.
— Я знаю. Пожар сокрушил большую часть моего гардероба. Проходи, — он положил мне руку на плечо и повел к дому. — Угощу тебя чаем со льдом.
Внутри ужасно пахло гарью и сыростью. Вода протекла сквозь пол верхнего этажа, повредила штукатурку в комнатах внизу, и теперь коричневые пятна расплывались на белом потолке. Часть обоев уже начала отставать от стен, и я готов был побиться об заклад, что Эллиоту придется менять часть пола в коридоре. В гостиной виднелась разобранная постель, вешалки с одеждой были развешены по оконным карнизам, часть вещей была навалена на спинки стульев. Все это напоминало какое-то единое бедствие — пожар, потоп, переезд и обыск.
— Ты по-прежнему здесь обитаешь? — поинтересовался я.
— Ага, — ответил он, отмывая какие-то стаканы от пепла.
— В отеле, наверно, было бы безопаснее.
— Возможно, но тогда эти ребята вернутся и уделают мой дом до конца.
— Они могут вернуться по-любому.
Он покачал головой:
— Не-а, пока это все. Убийство не их масштаб. Если бы они хотели, они бы сразу со мной разобрались.
Он достал из холодильника кувшин с чаем и наполнил стаканы. Я стоял у окна, разглядывая двор и участок. В небе не было заметно птиц, окружающий участок лес тоже был безмолвен. Вдоль побережья появились первые перелетные птицы: древесные утки присоединялись к крачкам; соколы и певчие птицы вскоре последуют за ними.
Здесь, в глубине континента, их отлет был не так заметен, и даже местные обитатели не так бросались в глаза, как прежде; их брачные весенние песни закончились, на смену яркому летнему оперению постепенно приходили более мрачные зимние тона. Как будто стараясь компенсировать отсутствие птиц, их ярких расцветок, начали распускаться полевые цветы, наслаждаясь тем, что самая сильная летняя жара сошла. Бабочки мелькали среди астр, подсолнечника и золотых шаров, привлеченные костром оранжево-пурпурных тонов. А под листьями их поджидали полевые пауки.
— Итак, когда меня познакомят с Атисом Джонсом?
— Будет проще всего, если ты поговоришь с ним за пределами штата. Завтра во второй половине дня мы заберем его из Центра заключения округа Рич-ленд, пересадим во вторую машину на заднем дворе клуба «Кэмпбелл'с Кантри Корнер», чтобы подстраховаться от любопытных. Оттуда я отвезу его в безопасное место в Чарлстоне.
— А кто второй водитель?
— Сын того старика, что будет присматривать за нашим парнем. Он надежный человек, толк в этом знает.
— Почему бы не засунуть его куда-нибудь поближе к Колумбии?
— В Чарлстоне у нас больше шансов с точки зрения его безопасности, поверь мне. Ему будет лучше на востоке, в гуще негритянского окружения. Если кто с вопросами появится, мы тотчас же об этом узнаем, и у нас будет полно времени, чтобы его перепрятать, если понадобится. В любом случае это временно. Не исключено, что мы поместим его в более безопасное место или приставим телохранителя. Посмотрим.
— Ну, а что он сам говорит? — поинтересовался я.
Эллиот покачал головой, потер глаза грязными пальцами.
— Он говорит, что у него с Марианной была интрижка.
— Они были любовниками?
— Ничего серьезного. Атис думает, что она использовала его, чтобы позлить папочку и брата, и его это вполне устраивало, — он прищелкнул языком. — Чарли, мой клиент не суперобаяшка, если можно так выразиться. В нем двести фунтов веса, сверху — дырка рта, снизу — дырка ануса, и порой между ними нет большой разницы. По его словам, в ночь гибели девушки, они трахались в лесочке. Они поссорились, она побежала в чащу. Он пошел за ней, думал, что они потерялись, а потом нашел ее с пробитой головой.
— Оружие?
— Подручное средство: тяжеленный камень. Полиция арестовала его, при этом у него на руках и одежде были следы крови, частички пыли и осколки камня, совпадающие с орудием убийства. Он подтвердил, что прикасался к ее голове и телу, когда обнаружил ее и оттащил камень от нее. На его лице была кровь, но это совсем не те следы, которые могут появиться, пока ты кого-то уродуешь глыбой. У нее внутри не обнаружено следов спермы, хотя были признаки смазки презерватива, такой же презерватив был обнаружен у Атиса в портмоне. Похоже, секс был по обоюдному желанию, но опытный прокурор может представить дело как изнасилование. Ну, типа, они договорились, потом она передумала, а ему это не понравилось. Не думаю, что это выглядит убедительно, но уверен, что они попытаются протолкнуть свою версию любыми способами.
— Думаешь, найдутся факты, чтобы посеять семена сомнения у присяжных?
— Возможно. Я ищу опытного свидетеля, кто разбирается в характере следов крови. Обвинение со своей стороны будет подыскивать человека с прямо противоположными показаниями. Ведь здесь обвиняется черный мужчина в убийстве белой девушки из клана Ларузов. Здесь все вокруг этого крутится. Обвинение постарается пригласить в присяжные белых со средними доходами, немолодых или пожилых, для кого этот парень — страшилище. Самое лучшее, на что мы можем надеяться, это как-то разбавить состав, но...
Я так и знал! Всегда есть это «но». Не бывает сюжетов без «но».
— ...за всем этим есть старая история, этакий скелет в шкафу, самый худший, какой можно придумать.
Он щелкнул по стопке папок на кухонном столе. Я проглядел полицейские отчеты, показания свидетелей, расшифрованные стенограммы допросов Атиса Джонса в полиции, даже фотографии с места преступления. Но мне попадались и ксерокопии страниц из книг по истории США, вырезки из старых газет, книг по истории рабства и выращивания риса на Юге.
— Здесь мы имеем дело с кровной местью, — заключил Эллиот.
Глава 9
Сверху лежали папки синего цвета с материалами, собранными полицией сразу после гибели Марианны Ларуз, и показаниями свидетелей. В зеленой папке хранилась подборка исторических сведений, рядом лежала тонкая белая папка. Я открыл ее, внимательно рассмотрел фотографии и аккуратно закрыл. Я еще не был готов разбираться с отчетами о состоянии, в котором обнаружили тело девушки.
Однажды мне уже приходилось заниматься адвокатской работой, так что я довольно ясно представлял, что ждет меня впереди. Ключевым моментом здесь был, конечно, Атис Джонс, по крайней мере вначале. Обвиняемые часто рассказывают следователю то, что не всегда сообщают даже своему адвокату. Иногда это происходит из элементарной забывчивости, а иногда из-за того, что они больше доверяют следователю, чем адвокату, особенно если это модный спец, который перегружен делами и клиентами. А между тем основой основ является правило, что адвокату сообщается вся возможная информация — и благоприятная, и не очень. У Эллиота уже были показания тех, кто знал Джонса, в том числе школьных учителей и бывших работодателей. Они могли бы помочь сформировать положительный образ его клиента перед лицом присяжных заседателей, так что эта часть работы была сделана до меня. Мне придется проработать вместе с Джонсом отчеты полиции, ведь на их основе будет выстраиваться обвинение против него, но, кроме того, он сможет заметить возможные ошибки или вспомнить о свидетелях, с которыми следствие еще не контактировало. Полицейские отчеты также пригодятся, чтобы проверить показания: в них обычно есть телефоны и адреса всех, с кем беседовали полицейские. А после этого и начнется собственно работа: всех этих свидетелей придется опросить еще раз, потому что обычно в ходе предварительного дознания полицейские их допрашивают поверхностно, оставляя эту работу следователю или представителю прокуратуры. Придется получить показания, заверенные подписью, и если большинство свидетелей готовы что-то сообщить, то гораздо меньшее их количество будет готово поставить свою подпись под кратким изложением своих рассказов без дополнительных усилий с моей стороны. Вдобавок, скорее всего, представители прокуратуры уже с ними побеседовали, при этом у них всегда получается донести до свидетелей мысль о нежелательности предоставления информации следователю со стороны защиты, что создает дополнительные трудности. Принимая во внимание все это, у меня впереди будет немало работы, и вряд ли мне удастся сделать что-либо значительное до возвращения в Мэн.
Я придвинул к себе зеленую папку и пролистал ее. Часть материалов в ней относилась к восемнадцатому веку и ранней юности Чарлстона. Последние вырезки датировались 1981 годом.
— Где-то здесь может скрываться одна из причин, почему погибла Марианна Ларуз и почему Атиса Джонса будут судить за убийство, — сказал Эллиот. — На них лежало это бремя, и не важно, знали ли они об этом. Вот что разрушило их жизни.
Он что-то переставлял в кухонных шкафчиках, пока говорил, а к столу вернулся, сжимая что-то в кулаке.
— Но, по сути, — мягко произнес Эллиот, — вот из-за чего мы сегодня здесь.
И он разжал кулак — тонкая струйка желтого риса просыпалась на скатерть.
* * *
Эми Джонс
Возраст 98 лет, опрошена Генри Халдером в Ред Бэнк, Южная Каролина
Из сборника «Век рабства: интервью с бывшими рабами в штатах Северная и Южная Каролина», под ред. Джуди и Нэнси Букинхэм (Новая Эра, 1989 г.)
"Я родилась в округе Коллетон рабой. Папу звали Эндрю, маму — Виолеттой. Они принадлежали семье Ларузов. Господин Эдгар был хорошим хозяином своих рабов. У него было около шестидесяти семей, перед тем как появились янки и все порушили.
Старая хозяйка сказала всем черным, чтобы бежали. Она пришла к нам с мешком столового серебра, завернутого в покрывало, потому что янки отбирали все драгоценности. Она сказала, что больше не сможет защищать нас. Они взломали амбар, где хранился рис, и разделили его, но всем не хватало. Самые плохие ниггеры пошли за армией, но мы остались и смотрели, как умирали наши дети. Мы не были готовы к тому, что происходило. У нас не было ни скота, ни птицы, ни земли, ни образования. Янки пришли и забрали у нас все, что было, оставив взамен свободу. Они сказали, что мы теперь такие же свободные, каким был наш хозяин. Мы не умели писать, поэтому нам надо было просто сказать, какую фамилию мы хотим. Наш господин Эдгар давал нам одну треть того, что мы добывали своим трудом, теперь мы оказались свободны. Сначала папа умер, потом — мама. Они работали на плантации всю жизнь и умерли после того, как им дали свободу.
Но они мне рассказывали. Рассказывали о Старом Хозяине, о батюшке господина Эдгара. Они рассказывали мне, что он сделал..."
* * *
Понять итог — значит, понять историю, историю Золотой Каролины.
Рис здесь стали выращивать в шестидесятые годы девятнадцатого века, когда завезли его семена с Мадагаскара. Из-за отменного качества и цвета зерен его называли Золотая Каролина. Он принес богатство поколениям семей, которые выращивали его. Они были англичанами — Хэйворды, Дрэйтоны, Мидлтоны, Ла-Рузы.
Ларузы были потомками влиятельного семейства из Чарлстона, одного из немногих могущественных кланов, которые контролировали все стороны городской жизни, от вопросов членства в Обществе святой Сесилии до организации в городе светской жизни, которая начиналась в ноябре и продолжалась по май. Превыше всего эти люди дорожили своим именем и репутацией, что всячески поддерживалось и деньгами, и приобретенным влиянием. Они не могли и подозревать, что их огромное богатство и неоспоримая безопасность будут потеряны из-за действий одного раба.
Рабы трудились от первого до последнего луча солнца шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Чтобы созывать работников, использовался металлический гонг. Его звуки растекались по освещенным предзакатным солнцем рисовым полям; черные силуэты на этом фоне напоминали охваченных пожаром чучел. Тогда они распрямляли спины, поднимали головы и медленно шли к амбарам и хижинам. Они питались патокой, грушами, кукурузным хлебом, иногда мясом. В конце длинного дня они сидели в своих самодельных одеждах из золотистой соломы и белой ткани и разговаривали за едой. Когда прибывала новая партия обуви на деревянной подошве, женщины размачивали недубленую кожу в теплой воде и смазывали ее жиром или салом, чтобы обувь мягко облегала ступни; и запах прочно приставал к их пальцам, так что, когда они обнимали своих мужей на семейном ложе, вонь мертвых животных смешивалась с любовным потом.
Мужчины не учились ни читать ни писать: Старый Хозяин был очень строг по этой части. Их били кнутом равно за воровство, вранье и заглядывание в книги. Возле болота стоял глиняный домик, куда забирали больных оспой. Как правило, оттуда не возвращались. Еще в амбаре стоял «пони». Когда приходило время более серьезных наказаний, раба распластывали на нем, привязывали ремнями и избивали кнутом. Когда янки сожгли амбар, там, где стоял «пони» были видны следы крови, как будто сама земля покрылась ржавчиной.
Некоторые рабы из Восточной Африки принесли с собой знания, как правильно выращивать рис, что позволило плантаторам преодолеть проблемы, с которыми столкнулись английские колонисты. В связи с этим на многих плантациях была введена система, подразумевающая нормы выполнения труда, которая позволила опытным рабам трудиться отчасти независимо; они могли освободить время для других занятий: охоты, садоводства, по мере возможности улучшения быта своей семьи. Выращенные продукты или изделия могли быть потом обменены у хозяина на что-то необходимое, а также частично избавляли его от необходимости обеспечивать своих рабов.
Эта система стала причиной возникновения иерархии среди рабов. Начальником, занимающим самое высокое положение, был надсмотрщик, который являлся связующим звеном между плантатором и работниками. Ниже него стояли ремесленники: кузнецы, плотники и каменщики. Именно эти обученные работники были исконными лидерами рабского сообщества, и, следовательно, за ними нужно было следить, чтобы они не подстрекали других на беспорядки и не убежали.
Но самая важная должность была у ответственного за орошение: он держал в своих руках судьбу рисового зерна. Когда это было необходимо, рисовые поля затапливались пресной водой, хранящейся в резервуарах. Соленая вода с приливом проникала в глубь материка и заставляла пресную подниматься на поверхность прибрежных рек. Только тогда невысокие широкие воротца открывали, и вода устремлялась на поля. Именно эту дренажную технологию и привезли рабы из Восточной Африки. Малейшая поломка ворот или неисправность каналов привела бы к тому, что соленая вода могла устремиться на поля и рис бы погиб, так что ответственный за орошение, помимо открытия главных ворот, должен был следить за всей ирригационной системой и отвечать за ее нормальное функционирование.
Генри, муж Энни, был ответственным за орошение на плантации Ларузов. Его дед был захвачен в январе 1764 года и отправлен на фабрику «Барра Кунда» в Гвинее. Оттуда в октябре 1764 его перевезли в Джеймс Форт, что на реке Гамбии, главный пункт отправки рабов в Новый Свет. Он прибыл в Чарлстаун, ныне Чарлстон, в 1765 году, где его купила семья Ларузов. К тому времени как он умер, у него было шестеро детей и шестнадцать внуков, самым старшим из которых был Генри. Генри женился на молодой Энни за шесть лет до смерти деда, и к моменту его кончины уже имел троих детей. Из них только Эндрю дожил до совершеннолетия, имел собственных детей — эта линия так и продолжалась до конца двадцатого века, завершившись Атисом Джонсом.
Как-то в 1833 году они привязали ремнями к «пони» Энни, жену Генри, и пороли ее, пока не переломился кнут. Но к тому моменту кожа на ее спине была сорвана, так что они перевернули женщину и продолжили уже новым кнутом. В их намерения входило наказывать, но не убивать: Энни была слишком ценной вещью, чтобы ее убивать. Ее выследила команда человека по имени Уильям Радж, чей потомок сжег Эррола Рича перед толпой зевак на северо-востоке Джорджии и чьей жизни пришел конец на одре из подожженного виски и опилок от рук чернокожего. Радж был «охотником», он вылавливал сбежавших рабов. Энни сбежала, когда человек по имени Кулидж прижал ее к дереву и попытался изнасиловать, увидев, что она одна шла по размытой дороге, потому что должна была принести мясо коровы, убитой вчера по приказу Старого Хозяина. Когда Кулидж истязал ее, Энни схватила с земли ветку и воткнула ему в глаз. А потом она убежала, потому что никто бы не поверил, что она сделала это из самообороны, даже если бы, Кулидж не потрудился придумать что-нибудь вроде того, что нашел ниггершу, пьющую украденное спиртное на дороге, и она напала на него. «Охотник» и его люди догнали Энни и вернули ее Старому Хозяину, а затем ее привязали к «пони» и забили до смерти на глазах у мужа и детей.
Через три дня Генри, муж Энни и опытный ответственный за орошение, затопил поля Ларузов соленой водой, уничтожив весь урожай. Пять дней его преследовала группа хорошо вооруженных людей, потому что он захватил с собой ружье «марстон», а тот, кто окажется на линии огня этого оружия, имеет неплохие шансы встретиться с Создателем. Поэтому всадники держались позади, а вперед послали цепь рабов, пообещав нашедшему золотую монету. Они зажали его в угол у топей Конгари. Неподалеку от того места сейчас находится бар «Болотная крыса», где Марианну Ларуз видели в день смерти — в голосах настоящего слышно эхо прошлого. Раб, который нашел Генри, лежал мертвым: в его груди зияли раны, оставленные «марстоном».
Они взяли три мотыги, полые Т-образные устройства с острым наконечником для рыхления земли, и распяли Генри на кипарисе, засунув его гениталии ему в рот. Но прежде, чем он умер, Старый Хозяин подъехал к нему на телеге, в которой сидели дети Генри. Последним, что он увидел в своей жизни, было то, как Хозяин уводит его младшего сына Эндрю в заросли, и оттуда стали раздаваться детские крики.
Вот как началась вражда между Ларузами и Джонсами, между хозяевами и рабами. Урожай был богатством. Урожай был историей. Его нужно было беречь. Поступок Генри некоторое время сохранялся в памяти семьи Ларузов, но потом был забыт, но грехи Ларузов передавались от Джонса к Джонсу. Прошлое все время возвращалось и становилось настоящим, распространяясь по цепи поколений, словно ген вражды.
* * *
Свет начал тускнеть. Люди из Джорджии ушли. С большого дуба, стоящего у окна, в поисках комаров слетела летучая мышь. Некоторые из них проникли в дом и звенели у меня над ухом, выбирая момент чтобы укусить. Я отмахивался от них рукой. Эллиот выдал мне репеллент, и я распылил его на незащищенные участки тела.
— Но все равно некоторые Джонсы продолжали работать на Ларузов, несмотря на то, что случилось? — спросил я.
— Угу, — кивнул Эллиот. — Рабы умирали. Такое случалось и раньше. Люди вокруг них теряли родителей, детей, но не принимали это на свой счет. В семье Джонсов были и такие, кто считал, что сделанного не воротишь и пора обо всем забыть. Но были и те, кто так не считал.
Гражданская война разрушила жизнь чарлстонской аристократии, как и весь уклад жизни в городе. В какой-то мере Ларузов спасла их предусмотрительность (или же измена, потому что они хранили большую часть сбережений в золоте, а не в валюте Конфедерации и ее ценных бумагах). Но, тем не менее, им, как и другим побежденным южанам, пришлось созерцать, как уцелевшие солдаты 54-го Массачусетского полка, которых еще называли «шоу ниггеров», маршировали по улицам Чарлстона. Среди них был и Мартин Джонс, прапрадедушка Атиса Джонса.
И снова этим двум семьям было суждено столкнуться.
Той ночью всадники скакали в темноте, черные на фоне дороги, освещенной луной. Пройдет много лет, прежде чем человек с оливковым цветом кожи и отметинами раба на ногах открыто скажет, что видел их, а сейчас они кажутся силуэтами на негативе, черными на белом. Они пока не знают о том, что ждет их в будущем, их и их потомков. Верша историю, маленький отряд едет по своим делам на лошадях, драпированных тканями, с оружием и кнутами, глухо стучащими о седла.
Это Южная Каролина времен 1870-х, а не на пороге нового тысячелетия, и ночные всадники нагоняют ужас на эти места. Они едут по стране и, как им кажется, вершат правосудие над бедными неграми и республиканцами, поддерживающими их, не желая соглашаться с Четырнадцатой и Пятнадцатой поправками Конституции. Они являются символом страха белых перед черными, и многие белые поддерживают их. Своды Законов о черных, запрещающие неграм носить оружие, занимать положение выше слуги или фермера и даже покидать свои владения и принимать гостей без предварительного разрешения, уже представлены как альтернатива реформам.
Со временем Конгресс отстоит свои позиции с помощью Поправки о Реконструкции Юга, Принудительного Закона 1870 года и Закона о Ку-Клукс-Клане 1871 года. Губернатор Скотт создаст черное ополчение для защиты голосующих на выборах 1870 года, вызывая еще большее недовольство среди белого населения. Со временем будут вынесены предписания об арестах в девяти округах, что приведет к заключению под стражу сотен членов Клана, но пока закон разъезжал на драпированной лошади и нес с собой мщение, и действия Федерального правительства не спасут тридцать восемь жизней, не отменят ни акты насилия и избиения, ни поджоги ферм и полей.
Не помогут они и Мисси Джонс.
В 1870 ее муж Мартин, несмотря на угрозу насилия, ратовал за то, чтобы предоставить избирательные права черным. Он не отрекся от Республиканской партии и за это имел дело с кнутом. Потом он посвятил себя организации черного ополчения и промаршировал по городу вместе со своими людьми одним солнечным воскресным днем. И, хотя едва ли каждый десятый из них был вооружен, это был акт высокомерия по отношению к противникам равноправия.
Это Мисси услышала, что приближаются всадники; Мисси сказала мужу, чтобы тот бежал, потому что на этот раз, если они его найдут, то убьют. Они еще не тронули ни одной женщины в округе Нью-Йорк, и у Мисси, пусть она их и боялась, не возникло мысли, что они начнут с нее.
Но для нее сделали исключение.
Четверо мужчин изнасиловали Мисси Джонс, посчитав, что если не могут напрямую достать Мартина, то сделают это через его женщину. Они не совершили с ней ничего кроме этого, ей даже показалось, что они получили удовольствие. Но на самом деле это было так же прагматично, как если бы они заклеймили корову или зарезали курицу. Последний даже помог ей привести себя в порядок и усадил на стул в кухне.
— Скажешь ему, чтоб вел себя прилично, поняла? — сказал он. Он был молод и красив, и она распознала в нем черты его отца и деда. У него был типичный подбородок Ларузов и светлые волосы, как у всех них. Его звали Уильям Ларуз. — Нам бы не хотелось сюда возвращаться, — предупредил он.
Две недели спустя неподалеку от Дельфии Уильям Ларуз и двое его товарищей попали в засаду, устроенную вооруженными дубинками людьми. Его спутники сбежали, а он остался, свернувшись клубком, когда удары посыпались на него. В результате побоев его парализовало, и до конца своих дней он был способен двигать лишь правой рукой и употреблять только мелко перетертую пищу.
После того, что произошло с ней, Мисси Джонс почти не разговаривала с мужем, редко роняя одно-два слова. Она так и не вернулась в супружескую постель, а вместо этого спала в сарае вместе со скотиной — так она оценивала себя благодаря усилиям людей, изнасиловавших ее, чтобы причинить боль ее мужу; медленно, но неизбежно впадала в безумие.
* * *
Эллиот поднялся и вылил остатки кофе в раковину.
— Как я уже сказал, были те, кто хотел забыть прошлое, и те, кто о нем помнил.
Последние его слова повисли в воздухе.
— Думаешь, Атис Джонс принадлежит к последним?
Он пожал плечами.
— Думаю, какой-то части его души был мстительно приятен факт, что он спит с дочкой Эрла Ларуза, то есть в каком-то смысле имеет самого Эрла. Я даже не знаю, была ли Марианна в курсе истории двух семей. По-моему, Джонсы придавали ей большее значение, чем Ларузы.
— Но эта история известна всем.
— Ну да. В местных газетах были публикации на эту тему; писали их те, кому охота копаться в чужом грязном белье, вот и все. Но я буду удивлен, если кто-то из присяжных не знает об этом, и все эти факты могут всплыть на суде. Репутация для них все. Что бы они ни делали в прошлом, теперь они жертвуют на социальные нужды. Поддерживают благотворительные фонды для черных. Поддерживали совместное обучение. Не украшают свои дома флагом Конфедерации. Они искупили грехи предыдущих поколений, но, может быть, обвинение будет использовать вражду и заявит, что Атис Джонс гнет линию своей семьи и решил наказать их, забрав у них Марианну.
Он встал и потянулся.
— Если, конечно, мы не найдем того, кто действительно ее убил. Тогда начнется совершенно другая игра.
Я отложил копию фотографии Мисси Джонс, не дожившей до пятидесяти и лежащей в дешевом гробу, затем снова просмотрел материалы на столе, пока не нашел последнюю вырезку. Это был репортаж от 12 июля 1981 года, раскрывающий подробности исчезновения двух молодых чернокожих женщин, которые жили неподалеку от Конгари. Их звали Эдди и Мелия Джонс, и после того, как их видели вместе в местном баре, обе пропали без вести.
Эдди Джонс была матерью Атиса.
Я показал вырезку Эллиоту.
— Что это?
Он протянул руку и взял статью.
— Это последняя загадка для тебя. Мать и тетя нашего клиента исчезли восемнадцать лет назад, и никто их больше не видел.
* * *
В ту ночь я ехал обратно в Чарлстон с радио, настроенным на ток-шоу из Колумбии, но сигнал начал теряться, и появились помехи. Проигравший кандидат в губернаторы Морис Бэйсинджер, владелец сети ресторанов «Пигги Парк», докатился до того, что вывесил флаги Конфедерации у своих зданий. Он утверждал, что это символ южного наследия, и, возможно, так оно и было, только вот что именно считать этим наследием? В прошлом Бэйсинджер дважды участвовал в избирательной кампании кандидата в президенты Джорджа Уоллеса, был лидером "Национальной ассоциации защиты белых людей " и привлекался к суду из-за того, что нарушил Закон о гражданских правах 1964-го года, отказавшись обслуживать чернокожих в своих ресторанах. Он даже выиграл дело, но это только привело его в суд высшей инстанции. После этого он вернулся в Демократическую партию, но старые привычки нелегко бросить.
Глядя на темное шоссе, я думал о флаге, о семьях Джонсов и Ларузов и о значимости истории, которая, словно альпинистская связка, соединяя их, тянула вниз, в пропасть. Где-то в этой истории крылась разгадка смерти Марианны Ларуз.
Но здесь, в месте, кажущемся мне чужим, прошлое принимало странные формы. Оно было стариком, закутанным в красно-синий флаг и открыто выказывающим свое неповиновение под эмблемой с изображением свиньи. Прошлое было рукой мертвеца на лике жизни, призраком, обвитым гирляндой векового разочарования.
Прошлое, как мне предстояло выяснить, было женщиной, одетой в белое, со шрамами на коже.
Книга 3
"Казалось, в мире призраков-теней
Я сам стал тенью собственной мечты".
Альфред, лорд Теннисон «Принцесса»Глава 10
И вот, наконец, в тишине своего номера я открыл дело Марианны Ларуз. В темноте вокруг как-то ощутимо присутствовал свет, словно тени были вещественны. Я зажег настольную лампу и выложил на стол материалы, которые отдал мне Эллиот.
Но, едва я увидел фотографии девушки, острое чувство утраты овладело мной, а ведь я даже не знал ее и уже никогда не узнаю. Я подошел к двери и хотел изгнать тени, наполнив комнату ярким светом, но вместо этого они просто отступили и затаились под столом и за шкафом, терпеливо ожидая, когда свет погаснет.
И мне показалось, что мое существование раздвоилось: я стоял у стола в гостиничном номере и держал в руках свидетельство того, что Марианну Ларуз безжалостно выхватили из этого мира, и в то же время неподвижно сидел в гостиной Блайтов, а Медведь произносил слова намеренной лжи; Сэндквист, словно чревовещатель, стоял рядом с ним, манипулируя и отравляя атмосферу в комнате жадностью, злобой и напрасной надеждой, в то время как Кэсси смотрела на меня с выпускной фотографии, и робкая улыбка блуждала на ее лице, будто она точно не знала, стоит ли улыбаться этому миру. Я понял, что пытаюсь представить ее живой, ведущей новую жизнь, уверенной, что ее решение прервать течение прежней жизни было правильным. Но я не мог, потому что вместо нее мне виделась только рука, изувеченная глубокими ранами, тянущаяся из ниоткуда.
Кэсси Блайт не было в живых. То, что я узнал о ней, говорило мне: она не та девушка, которая могла бы обречь своих родителей на жизнь в боли и сомнениях. Кто-то вырвал ее из этого мира, и я не знал, смогу ли найти его. Но, даже если и смогу, поможет ли мне это узнать правду об ее исчезновении.
Я знал, что Ирвин Блайт прав: пригласить меня в свою жизнь означало признать поражение и уступить смерти, потому что я появлялся в жизни людей тогда, когда уже не было никакой надежды, предлагая только возможное разъяснение, которое повлечет за собой так много скорби и боли, что, право же, неведение следовало воспринимать как благословение. Утешением несчастным служило лишь сознание того, что после моего вмешательства свершится правосудие и можно будет жить с уверенностью, что боль, которую испытали их любимые, не испытают другие женщины — чьи-то сестры, дочери, жены.
В ранней молодости я стал полицейским. Я поступил так, потому что считал это своим долгом. Мой отец был полицейским, как и мой дед по матери, но отец закончил свою карьеру в позоре и отчаянии. Он отнял две жизни, прежде чем лишить себя собственной, по причинам, которые вряд ли когда-нибудь станут известны, и я по молодости лет чувствовал, что должен подхватить его ношу и донести ее до конца.
Но я был плохим полицейским: не тот характер, не хватало дисциплины. По правде говоря, у меня были другие способности: упорство, жажда открывать и познавать, — но этого было недостаточно, чтобы приспособиться к той обстановке. Помимо всего прочего, я не умел абстрагироваться. У меня не было защитных механизмов, которые позволяли моим товарищам смотреть на мертвое тело и видеть в нем не человека, а отсутствие бытия, отрицание жизни — просто труп. Любой полицейский прежде всего должен уметь дистанцироваться от чужих страданий и боли, чтобы исполнять свой долг с холодной головой. Отсюда знаменитые полицейские черный юмор и отчужденность: они позволяют относиться к найденному трупу как к человеческим отходам, простому объекту расследования (но только не в случаях, когда это павший товарищ, — тут уж абстрагироваться некуда), чтобы спокойно осмотреть повреждения и при этом не быть раздавленным сознанием бренности бытия. Полицейские служат живым — тем, кто за их спинами, а еще — закону.
А я так не могу, никогда не мог. Вместо этого я нашел способ притягивать мертвых, а они, в свою очередь, нашли путь ко мне. И вот сейчас в этом гостиничном номере, вдали от дома, когда я столкнулся со смертью еще одной девушки, исчезновение Кэсси Блайт снова взволновало меня. Мне захотелось позвонить Блайтам, но что я мог сказать? Находясь здесь, я ничем не мог им помочь, а оттого, что я думал об их дочери, им легче не станет. Мне хотелось быстрее уладить все здесь, в Южной Каролине: проверить показания свидетелей, убедиться в безопасности Атиса Джонса, какой бы ненадежной она ни была, — и вернуться домой. Больше я ничем не мог помочь Эллиоту. Но сейчас тело Марианны Ларуз настойчиво притягивало меня: я должен взглянуть на него, дабы понять, во что себя вовлекаю и каковы будут последствия.
Я не хотел смотреть. Я уже устал от этого.
Но все же посмотрел.
* * *
Печаль — ужасная, всеподавляющая, беспросветная печаль.
Иногда она идет от фотографии. Невозможно забыть. Образы остаются с вами навсегда. Поворачиваешь за угол, проезжаешь мимо заколоченной витрины магазина, может, мимо запущенного сада, а позади него дом, гниющий, словно больной зуб, потому что никто не хочет здесь жить; потому что запах смерти все еще царит в его стенах; потому что владелец нанял каких-нибудь рабочих-иммигрантов и заплатил по пятьдесят баксов каждому, чтобы они вычистили дом, а они использовали дрянные дешевые средства: просроченные порошки и грязные швабры, которые скорее распространяют, чем искореняют зловоние, превращая правильные по форме пятна крови в хаотичные следы полузабытого насилия, темные полосы на белых стенах. Потом они покрасили его дешевыми водоэмульсионными красками, проходясь по испачканным местам по два-три раза, но, когда краска высохла, все снова стало видно: кровавый отпечаток руки, проступивший на белом, кремовом и желтом фоне, въелся в дерево и штукатурку.
Так что владелец запирает дверь, заколачивает окна и ждет, пока люди не забудут или кто-нибудь отчаявшийся или безразличный не согласится платить значительно сниженную арендную плату. Таким образом, он хочет забыть, что произошло, поселив в дом новую семью с ее проблемами и суетой — альтернативный способ стереть то, с чем не справились иммигранты.
Вы можете зайти внутрь, если хотите. Можете показать жетон и объяснить, что это просто формальность, что старые нераскрытые дела перепроверяются через несколько лет в надежде на то, что со временем откроются новые обстоятельства. Но вам это не нужно. Вы видели, что от нее осталось на полу кухни или в саду, в кустах или в постели — там, где застигла несчастную смерть.
А потом вы увидите фотографию. Муж или мать, отец или любовник найдут ее для вас, и вот вы смотрите, как они пальцами перебирают снимки в коробке из-под обуви или перелистывают страницы альбома, и думаете: может, они виновны, они превратили живого человека в то, что вы только что видели, а может, вы в этом уверены — не можете объяснить, почему, просто уверены, — и эти прикосновения к напоминаниям о потерянной жизни выглядят как повторное убийство, и вы должны их остановить, схватив за руку, потому что не сумели сделать это в первый раз, и у вас появилась возможность исправить свою ошибку.
Однако вы не делаете этого. Вы ждете и надеетесь, что ожидание принесет доказательства или признание, и будут сделаны первые шаги к восстановлению справедливости, к установлению равновесия между нуждами живых и требованиями мертвых. Но все равно эти незваные образы вернуться к вам позже, и, если рядом с вами тот, кому можно доверять, можете сказать: «Я помню. Я помню, что случилось. Я был там. Я был свидетелем, а потом попытался стать кем-то еще. Я попытался достичь некой степени справедливости».
И, если вам это удалось, если наказание свершилось и соответствующая пометка появилась на папке с делом, вы можете испытать... нет, не удовольствие, но... Умиротворение? Облегчение? Возможно, у того, что вы почувствуете, нет и не должно быть названия. Может, это просто спокойствие совести: она не напоминает вам имя, не говорит, что нужно вернуться, достать дело и напомнить себе о страдании, о смерти и о том равновесии, которое должно быть восстановлено, пока время не прекратит свое течение и жизнь не исчезнет совсем.
«Дело закрыто», — разве не прекрасная фраза? В этих словах сквозит ложь, вы чувствуете ее, когда она слетает с ваших губ. Дело закрыто. Только вот не совсем. Пустота, образовавшаяся на месте человека, продолжает сказываться на людях, оставшихся жить, сказываться в сотнях тысяч моментах, которые о нем напоминают, заставляют считаться с этой пустотой, потому что любое существование, осмысленное или нет, не проходит бесследно. Ирвин Блайт, в чем бы он ни был виноват, понимал это. Не бывает закрытых дел. Самое главное — это жизнь, прерванная или продолжающаяся, со своими последствиями в каждом случае. По крайней мере, само существование не имеет больше значения, потому что мертвые навсегда остаются с нами.
И, может быть, вы раскладываете фотографии и думаете: я помню.
Я помню тебя.
Ты не забыта.
Ты не будешь забыта.
Она лежала на спине на примятых лилиях; умирающие белые цветы, словно вспышки звезд на бумаге, отображенные самим негативом в знак протеста против основной картины. Череп Марианны Ларуз был сильно поврежден, кожа на ее голове разорвана в двух местах, волосы и нити ткани перепутались в ранах. Третий удар пришелся на правую часть черепа — вскрытие выявило трещины, расходящиеся до основания черепа и внутреннего края левой глазницы. Ее лицо залила кровь, а нос был сломан. Ее веки были крепко сомкнуты, лицо искажено гримасой боли.
Я перешел к результату вскрытия. На теле не оказалось укусов или ссадин, несмотря на то, что, по версии обвинения, она подверглась сексуальному нападению, но инородные волоски были обнаружены у нее на лобке; как выяснилось, они принадлежали Атису Джонсу. В области ее гениталий наблюдалась краснота — результат недавнего сексуального контакта, — но не было зафиксировано следов избиения или рваных ран, хотя во влагалище были обнаружены следы смазки. Следы спермы Джонса остались на лобке, но внутри ее не было. Как сказал Эллиот, Джонс сообщил следствию, что они всегда использовали презервативы.
Тесты выявили нити одежды Ларуз на свитере и джинсах Джонса, а также синтетические нити с сиденья его машины у нее на блузке и юбке. В соответствии с заключением шансы, что они имели другое происхождение, малы.
Итак, улики не доказывали, что Марианна Ларуз была изнасилована перед смертью, но обвинение собиралось убеждать в этом не меня. Уровень алкоголя в ее крови был выше нормы, так что хороший прокурор мог утверждать, что она была не в состоянии оказать сопротивление сильному парню, каким был Атис Джонс. Помимо всего прочего он использовал презерватив в смазке, а это снижает физические повреждения у жертвы.
Что не может быть подвергнуто сомнению, это то, что кровь Марианны Ларуз была обнаружена на руках и лице Джонса, когда он вошел в бар, обратившись за помощью, и что с ней смешались частички камня, послужившего орудием убийства. Анализ пятен крови выявил, что ее капельки разбрызнулись как от удара средней силы — вверх и вниз относительно уровня ее головы и еще в сторону, откуда был нанесен последний, смертельный удар. Убийца должен был испачкать в крови нижнюю часть ног, руки и, предположительно, лицо и верхнюю часть тела. На ногах Джонса не было отдельных пятен (хотя его джинсы пропитались кровью, когда он наклонился к ней, — это могло скрыть более четкие отметины), и он слишком старался вытереть лицо, чтобы можно было определить конкретные брызги.
В соответствии с заявлением Джонса, они с Марианной встретились в девять вечера. К этому времени она уже пила пиво с друзьями в «Колумбии», а потом приехала в «Болотную крысу», чтобы присоединиться к нему. Свидетели утверждают, что видели, как они вместе разговаривали, а потом вышли рука об руку. Один свидетель, завсегдатай по имени Д.Д. Герин отметил, что отпускал в сторону Джонса расистские комментарии незадолго до того, как молодые люди покинули бар. Он определил время своих нападок как «около одиннадцати».
Джонс заявил полиции, что потом они имели сексуальный контакт на сиденье его машины, она была сверху. После этого произошла размолвка, причиной которой стали замечания Герина и выяснение, стыдно ли ей находиться рядом с ним. Марианна выбежала, но вместо того, чтобы направиться к себе в машину, побежала в лес. Джонс сообщил, что она начала смеяться и звать его к ручью, но он был зол на нее и не пошел. Только после того, как ее не было минут десять, Джонс последовал за ней. Он нашел ее в ста футах от машины на тропинке. Она была уже мертва. Он заявил, что ничего не слышал за время ее отсутствия: ни криков, ни звуков борьбы. Атис не помнил, дотрагивался ли до ее тела, но понял, что дотрагивался, раз уж на его руках была кровь. Он также упомянул, что, должно быть, брал камень, который, как он позже вспомнил, лежал возле ее головы. Его расспрашивали люди из Государственного отдела исполнения закона (ГОИЗ), безо всякого адвоката, потому что он не был арестован и ему не были предъявлены обвинения. После беседы его арестовали по подозрению в убийстве Марианны Ларуз. Ему был предоставлен государственный защитник, который уступил свое место Эллиоту Нортону.
И тут появился я.
Я нежно провел пальцами по ее лицу, ощущая неровности фотобумаги, словно поры ее кожи. Прости, подумал я. Я не знал тебя. Я не могу сказать, хорошим ты была человеком или не очень. Если бы мы встретились в баре или кафе, сошлись бы мы, пусть так, как ненадолго пересекаются две судьбы, чтобы потом как ни в чем ни бывало идти отдельно друг от друга каждый своей дорогой жизни? Думаю, что нет. Мне кажется, мы совсем разные. Но ты не заслуживала такой смерти, и, если бы это было в моих силах, я бы вмешался и предотвратил то, что произошло, даже рискуя собственной жизнью, просто потому что не смог стоять бы и смотреть как человек, пусть незнакомый, страдает. Сейчас я попытаюсь пройти по твоим следам, понять, что привело тебя туда, где ты обрела вечный покой среди в этих примятых лилий, в то время как ночные насекомые пили твою кровь.
Прости, что мне приходится это делать. Мое вмешательство причинит людям боль, а некоторые детали из твоего прошлого, которые ты хотела бы скрыть, станут известны. Я могу тебе обещать только то, что человек, который убил тебя, не останется безнаказанным.
И вместе со всем этим я буду помнить тебя.
Вместе со всем этим ты не будешь забыта.
Глава 11
На следующее утро я набрал номер телефона в Аппер, Вест-Сайд. Трубку взял Луис.
— Ты все еще собираешься сюда подъехать?
— Буду через пару дней.
— Как Эйнджел?
— Потихоньку. Как у тебя дела?
— Скриплю помаленьку.
Я только что разговаривал с Рейчел. Мне было достаточно услышать звук ее голоса, чтобы проснулись чувство одиночества и все мое беспокойство за нее, когда она так далеко.
— Хотел тебя кое о чем попросить, — сказал я.
— Валяй, вопросы можно задавать бесплатно.
— Ты не знаешь никого, кто мог бы побыть с Рейчел немного, по крайней мере до моего возвращения?
— Вряд ли ей это понравится.
— Может быть, ты пришлешь человека, который не станет обращать внимание на это?
Повисла пауза, пока Луис обдумывал проблему. Когда он наконец заговорил, я понял, что он улыбается.
* * *
Все утро я провел за телефоном, затем поехал в Уотери и побеседовал с одним из полицейских, которые первыми оказались на месте преступления в ночь гибели Марианны Ларуз. Это был довольно короткий разговор. Он подтвердил содержание своего отчета, но было абсолютно понятно, что он считает Атиса Джонса преступником, а мою попытку поговорить с ним об этом деле — нарушением норм правосудия.
После этого я провел некоторое время со спецагентом Ричардом Брюэром в штаб-квартире ГОИЗ. Сотрудники этого отдела расследовали убийство, поскольку в Южной Каролине всеми делами такого рода занимались именно они. Исключение составляли дела, попадавшие под юрисдикцию Управления полиции Чарлстона.
— Им там нравится воображать себя независимыми, — обронил Брюэр. — Мы их так и называем: «Республика Чарлстон».
Он был приблизительно моего возраста, волосы соломенного цвета, основательная крестьянская комплекция. Ричард носил обычную форму, какую носили сотрудники отдела: зеленые брюки, черная футболка с зелеными буквами аббревиатуры на спине и «глок» сорокового калибра на ремне. Он был чуть поприветливей, чем полицейский, но немногое мог добавить к тому, что я уже знал. Брюэр рассказал, что Атис Джонс не имел близких, не считая нескольких весьма отдаленных родственников, оставшихся в живых. У парня была работенка в «Пиггли Уиггли» — сборщик полок. Он жил в маленькой квартирке в доме без лифта в Кингвилле, которую сейчас занимала семья украинских иммигрантов.
— До этого случая о парне мало кто беспокоился, ну а сейчас и подавно.
— Вы думаете, это он убил?
— Пусть решают присяжные. Но, если между нами, я просто не вижу другой подходящей кандидатуры поблизости.
— Это вы разговаривали с Ларузами?
Среди материалов, которые мне достались от Эллиота, были их показания.
— С отцом и сыном, с прислугой в доме. У них у всех алиби. Мы тут в общем профессионально работаем, мистер Паркер. Все основные моменты проработали. Не думаю, что найдется много брешей в отчетах.
Я поблагодарил его. На прощание Ричард дал мне свою визитку на случай, если возникнут еще какие-нибудь вопросы. Когда я поднялся уходить, он заметил на прощание:
— Ну и работенку вы себе нашли. Готов побиться об заклад, что после этого дела репутация ваша основательно протухнет.
— Это будет новое для меня ощущение.
Он скептически поднял бровь:
— С трудом верится, знаете ли.
Вернувшись в отель, я поговорил с людьми в Пайн Пойнт насчет Медведя. Они подтвердили, что он позавчера пришел вовремя и работал настолько старательно, насколько возможно. В голосе у них все же сквозила некая обеспокоенность, поэтому я попросил, чтобы они передали трубку ему.
— Как дела, Медведь?
— Нормально, — он подумал и добавил. — Хорошо, у меня здесь все хорошо. Я получу работу на лодках.
— Рад это слышать. Послушай, Медведь, я должен это сказать: если ты облажаешься или у людей из-за тебя возникнут проблемы, я лично тебя достану и отволоку в полицию, понятно?
— Понятно.
В его голосе не было грусти или обиды. Я так прикинул, что Медведь привык к угрозам и предупреждениям. Вопрос был в том, прислушается он или нет.
— Ну и ладно, — сказал я.
— Я не облажаюсь, — подтвердил Медведь. — Мне по душе эти люди.
После разговора с Медведем я час провел в спортивном зале гостиницы, а затем проплавал до изнеможения. Приняв душ, я принялся перечитывать фрагменты дел, которые обсудил с Эллиотом накануне. Пришлось вернуться к двум моментам: копии исторической заметки о смерти смотрителя ирригационной системы Генри Джонса и заметке двухнедельной давности об исчезновении матери и тети Атиса Джонса.
С фотографии в газете на меня смотрели две сестры, навсегда застывшие в облике молоденьких женщин. Они исчезли, мир практически сразу забыл о них и только сейчас снова вспомнил.
Когда наступил вечер, я вышел из отеля и отправился в кафе «Пинкни» выпить чашечку кофе с пончиком. Поджидая Эллиота, я просмотрел забытый кем-то номер «Пост энд Курьер». Мой взгляд привлекла одна заметка: выписан ордер на арест бывшего тюремного охранника Лэндрона Мобли после того, как он не явился на слушания в связи с обвинениями в «неподобающих действиях» по отношению к женщинам-заключенным. Единственной причиной, из-за которой заметка привлекла мое внимание, был тот факт, что Мобли пригласил Эллиота представлять его интересы и на слушаниях в исправительном комитете и в суде, который будет рассматривать дело об изнасиловании. Когда через пятнадцать минут подъехал Эллиот, я рассказал ему о публикации.
— Старина Лэндрон — тот еще тип, ну да он должен объявиться.
— Не очень-то похож на клиента экстракласса, — обронил я.
Эллиот взглянул на заметку, затем отшвырнул газету, хотя чувствовалось, ему кажется, что нужны дополнительные объяснения.
— Я знал его еще в юности, поэтому, наверно, он обратился ко мне. И потом, любой человек может рассчитывать на адвокатскую помощь, независимо от степени своей виновности.
Он поднял палец и жестом попросил официантку принести чек, но было в этом жесте что-то поспешное, что выдавало нежелание развивать эту тему.
— Поехали, — поторопил он. — По крайней мере, я знаю, где находится один мой клиент.
* * *
Исправительный центр округа Ричленд находится в конце Джон Дайл-роуд, где-то в ста милях на северо-запад от Чарлстона. О приближении к нему можно было судить по обилию адвокатских контор на обеих сторонах улицы. Это был комплекс низких построек из кирпича, окруженный двойным забором с колючей проволокой поверху. Длинные, узкие окна выходили на парковку и лес. Внутренний забор был под током высокого напряжения.
Мы практически никак не могли воспрепятствовать утечке информации об освобождении Джонса в местные СМИ, так что ничего удивительного в том, что парковка оказалась забита журналистами, фотографами, операторами с камерами приличных размеров. Они распивали кофе из пластиковых стаканчиков, курили. Я поехал вперед и был на месте уже минут пятнадцать, когда показалась машина Эллиота. За это время не произошло ничего необычного, за исключением краткой интермедии: несчастная жена, особа хрупкого телосложения на высоких каблуках и в синем платье, прибыла за своим супругом, который некоторое время прохлаждался в камере. Когда, мигая от яркого света, он появился в дверях — в рубашке, забрызганной кровью, и брюках с пятнами от пива, — жена немедленно влепила ему оплеуху, а потом предоставила возможность зевакам в полной мере оценить ее богатый запас нецензурной лексики. По виду незадачливого муженька можно было сразу понять, что он готов вернуться в камеру, особенно когда, заметив толпу журналистов и телекамеры, на мгновение решил, что все собрались из-за него.
Но собравшиеся деятели СМИ разом налетели на Эллиота, как только тот захлопнул дверцу машины, а через двадцать минут попытались перегородить ему дорогу, когда Нортон вышел из туннеля с колючей проволокой, который вел в приемную зону тюрьмы. Он придерживал за плечи смуглого молодого парня, голова которого была низко опущена, а бейсболка натянута чуть ли не до самого носа. Эллиот даже не удосужился обронить дежурное «без комментариев». Вместо этого он решительно затолкал парня в машину и сразу рванул с места. Самые прыткие представители «четвертой власти» помчались к своим машинам и бросились его догонять.
Я уже был на месте. Дождавшись, когда Эллиот проедет мимо меня, я пристроился к нему вплотную и держался так до поворота, а потом дал по тормозам и резко вывернул, перекрыв обе полосы движения. Грузовик телевизионщиков завизжал в нескольких метрах от моей двери, и оператор в камуфляжном комбинезоне, распахнув дверь, заорал на меня, чтобы я убирался с дороги.
Я рассматривал свои ногти. Они очень красивые и коротко острижены. Я стараюсь держать их в порядке, слежу за ними. Нет, все-таки аккуратность — недооцененная добродетель.
— Ты меня слышишь?! Убирайся с дороги к чертовой матери! — вопил Вояка в камуфляже, все больше наливаясь кровью. За его спиной я разглядел еще несколько борзописцев. Они собрались в кучу, пытаясь разобраться в том, что случилось. Небольшая группа молодых чернокожих парней в штанах, болтающихся на бедрах, и модных футболках появилась из адвокатского офиса и подошла поглазеть на шоу.
Вояка-оператор, выдохшись от безрезультатного ора, бросился ко мне. Ему было далеко за сорок, он давно заплыл жиром и в своем камуфляже выглядел абсолютно нелепо, так что молодежь немедленно стала дразнить его:
— Эй, рядовой Джо, на какую войну собрался?
— Во Вьетнаме все кончилось, придурок. Расслабься. Ты же не можешь жить прошлым.
Вояка бросил на них взгляд, полный ненависти, остановился на расстоянии фута от меня и наклонился ко мне так, что наши носы почти соприкасались.
— Ты какого черта тут вытворяешь?
— Блокирую дорогу.
— Я вижу. Зачем?
— Чтобы ты не проехал.
— Ты со мной не умничай! Давай убирай колымагу, или я разнесу ее своим грузовиком.
Через его плечо мне были видны несколько тюремных охранников, показавшихся из здания: наверно, вышли узнать, из-за чего сыр-бор. Ну, что ж, можно отправляться. К тому времени, когда репортеры попадут на главную магистраль, будет уже слишком поздно искать машину Эллиота. А если они и обнаружат машину, добычи там не окажется.
— Ладно, — сказал я, — твоя взяла, ты выиграл.
От удивления Вояка отпрянул.
— Что, так просто?
— Ну да.
Он сокрушенно покачал головой, а я продолжал безразличным тоном:
— Между прочим...
Он взглянул на меня.
— ...там мальчишки уже что-то вытаскивают из грузовика.
* * *
Я пропустил колонну раздосадованных представителей СМИ, затем миновал объединенную церковь миллгрикских баптистов и методистов, проехал по Блафф-роуд до клуба «Кэмпбелл'с Кантри Корнер» на пересечении Блафф и Пайнвью. У бара была рифленая крыша, на окнах виднелись решетки, и в общем он не сильно отличался по внешнему виду от местной кутузки, за исключением того, что здесь можно было промочить горло и убраться восвояси в любой момент. Рекламный плакат обещал холодное пиво по низким ценам, по пятницам и субботам здесь устраивали турниры с индейками, и вообще это было популярное заведение для тех, кто начинал свой загульный вечер. Написанное от руки объявление предупреждало посетителей о том, что приносить пиво с собой запрещается.
Я свернул на Пайнвью, объехал бар, желтый кубик гаража и увидел здание, похожее на сарай, посередине заросшего двора. Позади сарая стоял белый джип «GMC», в который пересели Эллиот и Атис; за рулем машины Эллиота сидел другой водитель. Когда я подъезжал, джип как раз выруливал на дорогу. Я держался за ним, пропустив вперед пару автомобилей. Мы направлялись по Блафф-роуд к 26-му шоссе. По плану мы должны были отвезти Джонса сразу в Чарлстон, в надежное место. Для меня было неожиданностью, когда Эллиот свернул налево к заведению «Обеды у Бетти», даже не доехав до шоссе, остановился, вышел из машины и открыл дверь со стороны пассажира. Он пропустил Джонса перед собой, и они вошли в ресторанчик. Я тоже припарковался и последовал за ними, стараясь выглядеть спокойно и беззаботно.
Заведение представляло собой небольшую комнату, слева от двери был прилавок, за которым две чернокожие женщины принимали заказы, а двое мужчин готовили еду. Кругом стояли пластиковые столы и стулья, окна прикрывали жалюзи и решетки. Одновременно работали два телевизора, воздух был наполнен запахами жарившейся еды и масла. Эллиот и Атис сели за стол в глубине зала.
— Ты не хочешь мне объяснить свои действия? — поинтересовался я, подойдя к ним.
Эллиот выглядел смущенным.
— Парень сказал, что ему нужно поесть, — пробурчал он, — у него судороги. Сказал, что рухнет, если не поест. Даже угрожал выпрыгнуть из машины.
— Послушай, если ты выйдешь на улицу, то услышишь эхо закрываемой за ним двери камеры. Еще чуть-чуть, и парень снова отправится хлебать баланду.
Атис Джонс впервые подал голос. Он оказался более высоким по тембру, чем я предполагал, как будто перестал ломаться совсем недавно, а не лет пять назад.
— Да пошел ты, парень... Мне пожрать надо.
У него были нервные, бегающие глаза, а тонкое лицо настолько светлым для негра, что парня вполне можно было принять за испанца. Его лицо по-прежнему было низко опущено, и он взглянул на меня из-под кепки. Несмотря на внешнюю грубость, его дух был сломлен. На самом деле это была показная бравада: прижми его посильнее, и он обделается. Но все равно терпеть его выходки от этого не легче.
— Ты был прав, — сказал я, обращаясь к Эллиоту, — он просто само обаяние. Ты не мог выбрать для спасения кого-нибудь посимпатичнее?
— Я пытался, но дело сиротки Энни уже взяли.
— Черт...
Джонс был готов разразиться вполне предсказуемой тирадой. Я предупреждающе поднял палец:
— Остановись прямо сейчас. Еще раз начнешь ругаться, и эта солонка со всем содержимым будет твоим главным блюдом.
Он стушевался.
— Я ничего не жрал в тюрьме. Боялся.
Я почувствовал укол совести. Передо мной сидел перепуганный мальчишка, у него за плечами — погибшая подружка, он еще помнит ее кровь на своих руках. Его судьба сейчас в руках двух белых мужчин и присяжных, которых мягче всего можно описать как «враждебно настроенных». Принимая все это во внимание, можно сказать, что он неплохо держался уже потому, что сидел перед нами и не рыдал.
— Пожалуйста, мужик, просто дай мне поесть нормально.
Я вздохнул. Из соседнего окна мне была видна дорога, джип и каждый, кто пришел бы пешком. К тому же, если кому и пришло бы в голову поквитаться с Джонсом, вряд ли он стал бы это делать в ресторанчике. Мы с Эллиотом были единственными белыми во всем заведении, а многочисленные посетители, очевидно, игнорировали наше присутствие. А покажутся журналисты — я смогу увести эту парочку через заднюю дверь, если допустить, что здесь есть черный ход. Возможно, я зря так кипячусь.
— Как хочешь, — согласился я, только давай по-быстрому.
Было очевидно, что Джонс не очень-то много ел в тюрьме. Щеки и глаза у него ввалились, на лице и шее выступили пятна и фурункулы. Он опустошил тарелку с отбивными и белым рисом с зеленой фасолью, потом съел макароны с сыром, затем уничтожил кусок торта с клубничным кремом.
Эллиот ковырялся в порции жареной картошки, пока я цедил растворимый кофе. Когда с едой было покончено, я остался с Джонсом, а Эллиот пошел расплачиваться.
Левая рука Джонса лежала поверх стола, ее украшали дешевые часы. Правой рукой он вертел крестик на цепочке вокруг шеи. У креста Т-образной формы горизонтальная и вертикальная перекладины казались объемными. Я потянулся, чтобы потрогать их, но Атис отпрянул, и в его глазах мелькнуло что-то такое, что мне сильно не понравилось.
— Че делаешь?
— Просто хотел посмотреть крестик.
— Он мой. Я не хочу, что бы еще кто-то его трогал.
— Атис, — мягко-настойчиво попросил я, — дай мне посмотреть крест.
Он еще мгновение помедлил, затем выдохнул долгое «ч-ч-черт», снял цепочку и дал ей скользнуть мне на ладонь. Я подержал ее на пальце, затем попробовал повернуть перекладинки креста. Они разделились и упали — заостренные отрезки длиной около двух дюймов. Я сложил их на ладони в виде буквы Т, сжал кулак и направил торчащий между средним и указательным пальцами конец в сторону парня.
— Где ты это взял?
Солнечный луч заиграл на лезвии, солнечным зайчиком заплясал в глазах и на лице Джонса. Он затруднялся с ответом.
— Атис, — я старался говорить спокойно, — я тебя не знаю, но ты меня уже начал доставать. Отвечай на вопрос.
Он как-то театрально запрокинул голову и произнес:
— Священник дал это мне.
— Тюремный священник?
Джонс отрицательно покачал головой:
— Он приходил в тюрьму. Сказал, что тоже когда-то сидел, пока Господь не освободил его.
— Он объяснил, почему дает тебе это?
— Ну, типа, он узнал, что я попал в беду, слышал, что меня хотят убить. Еще сказал, что это меня защитит.
— Ты знаешь, как его зовут?
— Терезий.
— Как он выглядел?
Джонс впервые взглянул мне в глаза с той минуты, как я взял крест в руки.
— Он выглядел как я, — просто ответил он. — Как человек, который попадал в беду.
Я собрал крест, спрятал лезвия, затем после минутного замешательства вернул крест Атису. У того был удивленный вид, но он кивнул мне головой в знак благодарности.
— Если мы все сделаем правильно, он тебе не понадобится.
Вернулся Эллиот, и мы поднялись. Ни парень ни я не стали рассказывать Эллиоту о ноже. Потом мы ехали без остановок до самого Чарлстона и его пригорода Ист-Сайда. Нас никто не преследовал.
Ист-Сайд был одним из поселений, которые возникли поблизости от старого огороженного стенами центра. В нем всегда проживало смешанное население. Белые и черные соседствовали на участке, ограниченном с запада и востока улицами Митинг и Ист-Бэй, а с севера и юга — Кросстаун Экспресс— и Мэри-стрит. Даже в девятнадцатом веке здесь преобладало черное население. Рабочий люд с разным цветом кожи продолжал селиться в этих местах до Второй мировой войны, когда белые стали перебираться к западу от Эшли. С тех пор Ист-Сайд стал таким районом, где вам не хотелось бы задерживаться, если у вас светлая кожа. Нищета пустила здесь глубокие корни, а вслед за ней пришли наркотики, жестокость, насилие.
Но затем Ист-Сайд снова изменился. Территории к югу от улиц Калхун и Джудит, которые раньше полностью были заселены чернокожими, стали кварталами почти исключительно для белых и состоятельных жителей. Волна городского обновления и облагораживания добралась и до южных границ Ист-Сайда. Шесть лет назад средняя цена дома в этом районе не превышала 18 000 долларов. Сейчас на Мэри-стрит можно было встретить дома и по 250 000. Даже здания на Коламбус— и Амхерст-стрит, неподалеку от парка, где собирались торговцы наркотиками и откуда открывался вид на коричневые блоки и желто-оранжевые кварталы муниципальной застройки, продавались по цене в два-три раза больше той, что была еще лет пять назад. Но пока это по-прежнему был квартал с негритянским населением. Преобладали дома, выкрашенные светлыми красками, — наследство тех времен, когда еще не было кондиционеров. На углу Коламбус— и Митинг-стрит работал бакалейный магазинчик «Пиггли Уиггли», напротив него располагался ломбард, неподалеку — магазин, где торговали спиртным по сниженным ценам, — все говорило о том, что в этих местах еще не появились зажиточные белые, которые возвращаются на старые места.
Пока мы продвигались к нужному дому, нас настороженно ощупывали взгляды пожилых обитателей квартала, устроившихся на крылечках своих домов, и молодежи, стайками толпившейся на перекрестках: в первой машине сидели белый и черный мужчины, за ней следовал второй автомобиль с белым водителем за рулем. Было что-то зловещее в нашей процессии. На углу Американ— и Рэйд-стрит, на стене двухэтажного дома, высившегося рядом с неким художественным строением, кто-то написал: «Афроамериканец был наследником мифов о том, что лучше быть бедным, чем богатым, принадлежать к низам, чем к верхам общества, быть праздным, а не работящим. А также скорее расточительным, чем экономным, и лучше здоровым, чем умным».
Я не знал автора слов, как и Эллиот. Атис явно ограничился тем, что скользнул взглядом по надписи. Я так понимаю, все это он знал из своего опыта. В промежутке между разрушенным зданием на углу Дрейк-стрит и Армхерст-стрит и начальной школой на углу Коламбус-стрит перед нами предстала цветущая гортензия, а рядом с плотными посадками бамбука виднелось крыльцо аккуратного двухэтажного домика на Дрейк-стрит. Он был выкрашен в бело-желтую полоску. Окна на верхнем и нижнем этажах прикрывали ставни, и только ставни верхних окон были приоткрыты, пропуская в помещение свежий воздух. Эркер под верандой выходил на улицу, справа располагался вход, украшенный незатейливой деревянной резьбой. К нему вели пять ступеней.
Убедившись, что на улице все спокойно, Эллиот загнал джип во двор справа от двери. Я услышал, как открылась дверь, раздались шаги Эллиота и Атиса, которые вошли в дом с черного хода. На улице по-прежнему никого не было, за исключением детворы, которая играла в мяч за школьной изгородью. Они продолжали резвиться, пока не пошел дождь и капли не засверкали в свете только что загоревшихся фонарей, потом побежали под крышу. Я подождал минут десять, дождь резко барабанил по машине. Я не стал заходить в дом, пока не удостоверился, что за нами нет слежки.
Атис неловко присел у дешевого кухонного стола, сделанного из сосны, Эллиот разместился рядом с ним. У раковины пожилая седоволосая негритянка разливала лимонад по пяти стаканам. Ее муж, намного выше ростом, подносил стаканы, затем передавал их один за другим гостям. Его плечи согнулись под грузом лет, но в мышцах груди и рук еще осталась сила, о чем можно было судить по их выступающим под белой рубашкой контурам. Старику было далеко за шестьдесят, но, я так понимаю, он легко поборол бы Атиса в поединке. А возможно, и меня тоже.
— Дьявол с шшеной шшорятся, — сказал он, когда я стал отряхивать пиджак. Я, наверно, выглядел озадаченным, потому что он повторил фразу еще раз, а потом указал на грозу за окном, где сквозь пелену облаков еще мелькали солнечные лучи.
— Погожа, — проговорил он. — Ты прошоды, шадысь.
Эллиот улыбнулся, заметив полное непонимание, написанное у меня на лбу.
— Гулла, — объяснил он. Этим словом называли население прибрежных островов и диалект, на котором они говорили. Многие из них были потомками рабов, заселивших пустынные острова и заброшенные рисовые поля больше ста лет назад, после окончания Гражданской войны.
— Джинни и Альберт раньше жили на острове Йонджес, но потом Джинни заболела, и один из их сыновей, Сэмюэль, тот, который занимается моей машиной, настоял, чтобы они переехали в Чарлстон. Они здесь уже десять лет, но и я порой понимаю не все из того, что они говорят. Но они хорошие люди, знают толк в том, чем занимаются. Он приглашает тебя войти и сесть.
Я взял стакан с лимонадом, поблагодарил, потом дотронулся до плеча Атиса и провел его в гостиную. Эллиот, казалось, тоже хотел последовать за нами, но я дал ему понять, что хочу побыть пару минут наедине с его клиентом. Очевидно, Эллиот был не очень доволен, но остался на месте.
Атис присел на самый краешек дивана, как будто готов был в любое мгновение рвануть к двери. Он избегал смотреть мне в глаза. Я сел в заваленное каким-то барахлом кресло напротив.
— Тебе известно, почему я здесь?
— Типа, тебе за это заплатили, — он пожал плечами.
Я улыбнулся:
— Именно. Но главное, я здесь потому, что Эллиот не верит, что ты убил Марианну Ларуз. Но многие верят, так что это мне придется искать доказательства того, что они ошибаются. Я могу это сделать, только если ты мне поможешь.
Он облизал губы. На его лбу выступили капельки пота.
— Они убьют меня, — произнес он.
— Кто?
— Ларузы. Какая разница, сделают ли они это сами или заставят государство, — они все равно убьют меня.
— Вряд ли, если мы сможем доказать, что ты невиновен.
— Ну, и как мы сможем это сделать?
Пока еще у меня не было четкого плана, но этот разговор стал первым шагом к его разработке.
— Как ты познакомился с Марианной? — спросил я.
Он откинулся на диван, видимо, решившись наконец рассказать, что произошло.
— Она училась в Колумбийском университете.
— Что-то ты не похож на студента.
— В точку! Я продавал травку этим ублюдкам. Им нравилось приторчать.
— Она знала, кто ты такой?
— Да ни черта она обо мне не знала.
— А тебе было известно про нее хоть что-то?
— Ну да.
— Ты знал о вашем прошлом, о проблемах между вашей семьей и Ларузами?
— Да это все старое дерьмо!
— Но ты знал эту историю?
— Конечно.
— Ты с ней начал заигрывать или она с тобой?
Его лицо залилось румянцем, и на нем появилась глумливая ухмылка:
— Да ну тебя! Ну, знаешь, она там курила-торчала, я курил, ну и потом... все такое.
— Когда это началось?
— В январе, а может, в феврале.
— И вы все это время встречались?
— Нет, она уехала в июне. Я не видел ее с конца мая и снова повстречал, наверно, только за неделю или две до...
Его голос сорвался, парень судорожно сглотнул и умолк.
— Ларузы знали, что она встречается с тобой?
— Возможно. Она им ничего не говорила, но ведь шила в мешке не утаишь.
— Почему ты с ней встречался?
Атис не ответил.
— Из-за того, что она просто симпатичная девчонка? Или из-за того, что она белая? Потому что она из Ларузов?
В ответ только пожатие плеч.
— Может, из-за всего сразу?
— Пожалуй.
— Она тебе нравилась?
У него задергалась щека.
— Ага, очень...
Я не стал развивать эту тему.
— Что произошло в ту ночь?
Лицо Атиса преобразилось, в нем не осталось ни уверенности, ни гонора. Словно маска упала, и обнаружилось истинное чувство. Теперь я точно знал: он не убивал ее, потому что эта мука на лице была подлинной. И мне показалось, что отношения, которые начинались как полуосознанное желание поквитаться с давнишним врагом, переросли, по крайней мере с его стороны, в привязанность, а возможно, и во что-то большее.
— Мы покрутились в «Болотной крысе», неподалеку от Конгари, а потом трахались в моей машине. Там народу на все наплевать, если у тебя есть деньжата и ты не полицейский.
— Итак, вы занимались сексом?
— Ну да.
— Предохранялись?
— Она принимала пилюли, но ей все равно надо было, чтобы мы использовали резину.
— Тебя это задевало?
— Да ты че, парень, ваще тупой? Ты когда-нибудь в презервативе трахался? Это же совсем не то. Это все равно, что...
Атис пытался подобрать сравнение.
— ...лежать в ванне в туфлях, — поделился я своими ощущениями.
Он впервые улыбнулся, оценив удачный образ, и лед в наших отношениях чуть треснул.
— Ну да, типа того. Правда, у меня никогда не было нормальной ванны.
— Дальше.
— Мы начали ссориться.
— Почему?
— Потому что... короче, она меня стеснялась, не хотела, чтобы нас видели вместе. Знаешь, мы всегда трахались у меня в машине или на хате, если она напивалась до такой степени, что ей было наплевать. В остальное время она проходила мимо меня, словно меня и не существовало вообще.
— Эта ссора закончилась потасовкой?
— Нет, я никогда пальцем ее не трогал! Вообще. Но она начала орать, визжать, а потом убежала. Я хотел просто дать ей успокоиться и все такое. Потом пошел за ней, стал кричать, звать по имени. Потом я ее нашел...
Он с усилием сглотнул и заложил руки за голову. Губы его сжались. Еще немного, и он заплакал бы.
— Что ты увидел?
— Ее лицо, парень, оно было все размозжено. Нос... Это была одна кровь. Я попробовал ее поднять, убрать волосы с лица, но она уже не дышала. Я абсолютно ничего не мог для нее сделать! Она погибла...
И вот теперь он заплакал, его правое колено поднималось и опускалось, как поршень, словно все сдерживаемое до того горе и ярость толкали его.
— Мы почти закончили, — сказал я.
Он кивнул и резкими, неловкими движениями руки отряхнул слезы.
— Ты видел кого-нибудь, кого-то, кто мог сделать это с ней?
— Нет, парень, никого.
Впервые за все время он солгал. Я смотрел ему в глаза и видел, как он отвел взгляд в сторону на секунду, прежде чем ответить.
— Ты уверен?
— Да, точно.
— Я тебе не верю.
Он уже хотел было изобразить возмущение, но я наклонился к нему и предупреждающе поднял палец:
— Что ты видел?
Его рот дважды беззвучно открылся и закрылся, потом он произнес:
— Мне показалось, я что-то видел, но не уверен.
— Расскажи мне.
Он кивнул больше себе самому.
— Мне показалось, что я видел женщину. Она была вся в белом, передвигалась между деревьями. Но, когда я посмотрел повнимательнее, ничего не было. Наверно, это от реки, отсвет что ли какой-то.
— Ты сказал полиции? В отчетах не было упоминания ни о какой женщине?
— Они сказали, что я вру.
И он действительно врал. Даже сейчас он что-то скрывал, но я понимал, что сейчас от него большего не добиться. Я откинулся в кресле, передал ему папки с полицейскими отчетами. Некоторое время мы вместе просматривали их, но он не нашел ничего, что может вызвать вопросы у обвинения. Разве что принять во внимание негласную убежденность в его виновности.
Когда я собирал отчеты в папку, Атис поднялся:
— Мы закончили?
— Пока да.
Он сделал несколько шагов и замер, не доходя до двери.
— Они провезли меня мимо смертного дома, — тихо сказал он.
— Что?
— Когда меня везли в тюрьму, они повезли меня к Броад Ривер и показали здание, где приводят в исполнение смертные приговоры.
Главное помещение штата, где приводили в исполнение смертные приговоры, находилось в Исправительном учреждении Колумбии, неподалеку от центра приема и расследований. Заключенным, приговоренным к смерти за особо тяжкие преступления, с 1995 года позволялось выбирать между казнью на электрическом стуле и смертельной инъекцией — особо извращенный прием, сочетающий в себе психологическую пытку с демократическим подходом. Всех остальных казнили с помощью уколов, это же грозило и Атису. Если правосудию штата удастся убедить суд в том, что парень убил Марианну.
— Они сказали, что меня привяжут к стулу и вкатят мне яд и что я внутри сдохну, но ни кричать не смогу, ни пошевелиться. Они сказали, я просто медленно задохнусь.
Я промолчал.
— Я не убивал Марианну, — сказал он.
— Знаю.
— Но они все равно убьют меня.
От его отчаяния у меня все похолодело внутри.
— Мы можем это предотвратить, если ты поможешь нам.
Но он только покачал головой и побрел на кухню.
— Что ты обо всем этом думаешь? — спросил Эллиот шепотом.
— Он что-то скрывает, — ответил я. — Но со временем расскажет нам все.
— У нас нет столько времени, — отрывисто бросил Эллиот.
Следуя за ним на кухню, я обратил внимание, как ходят у него под рубашкой мускулы на спине, сгибаются и разгибаются руки. Он обратился к Альберту.
— Вам что-нибудь нужно?
— У наш вше ест.
— Я имею в виду не только продукты. Нужны деньги? Пистолет?
Женщина с грохотом поставила стаканы на стол и погрозила Эллиоту пальцем.
— Не довожи нам беда, — резко сказала она.
— Они думают, что пистолет в доме накличет на них беду, — заметил Эллиот.
— Возможно, они правы. А что они будут делать, если возникнут проблемы?
— С ними живет Сэмюэль, и, я так понимаю, у него нет предубеждения по части оружия. Я оставлю им номера всех телефонов. Если что-нибудь случится, они позвонят кому-нибудь из нас. Просто носи всегда с собой мобильник.
Я поблагодарил их за лимонад, затем проводил Эллиота до дверей.
— Вы меня здесь оставляете?! — закричал Атис. — С этими двумя?!
— Тот мал шик ест не воспитан, — заругалась женщина и погрозила Атису пальцем. — Тот малшик быть наказат за его грехы, за распутство. Если бы та детка жил...
— Да отвяжись ты от меня, — буркнул в отчаяньи Джонс.
— Веди себя хорошо, Атис, — сказал Эллиот. Посмотри телевизор, отоспись. Мистер Паркер завтра займется твоим делом.
Атис взглянул на меня с невероятной мольбой в глазах.
— Черт, — сказал он, — к завтрашнему дню эти двое уже, возможно, сожрут меня.
Выйдя, мы столкнулись с их сыном Сэмюэлем, который как раз возвращался домой. Он был высоким и стройным мужчиной примерно моего возраста или немного моложе, с большими карими глазами. Эллиот представил нас друг другу, и мы обменялись рукопожатием.
— Какие-то проблемы? — спросил Эллиот.
— Никаких. Я припарковался с наружной стороны вашего офиса. Ключи на верху правого заднего колеса. Эллиот поблагодарил его, и он направился к дому.
— Уверен, что он будет в порядке с ними? — спросил я Эллиота.
— Они умны, как и их сын, а народ здесь постоянно стережет их. Как только какие-то незнакомцы попытаются появиться в этом месте, чтобы что-то выведать, им тут же сядут на хвост. Пока парень здесь, если никто об этом не прознает, он будет в безопасности.
Те же самые люди следили за тем, как мы уходили прочь с их улиц, и я подумал, что, возможно, Эллиот был прав. Вероятно, они действительно следят за всеми посторонними лицами, появляющимися на их улицах.
Я просто не был уверен в том, что этого хватит, чтобы уберечь Атиса Джонса от беды.
Глава 12
Мы с Эллиотом обменялись еще парой фраз, прежде чем расстаться. На прощанье он протянул мне газету с заднего сиденья своей машины.
— Поскольку ты так тщательно изучаешь газеты, приходилось тебе когда-либо видеть что-то подобное?
История была отнесена в рубрику «Школа жизни» под заголовком «Благотворительность там, где трагедия». В статье сообщалось, что на следующей неделе Ларузы собираются устраивать благотворительный обед на землях старой усадьбы на западном побережье озера Марион — одной из двух усадеб, которыми владеет их семья. Список приглашенных гостей содержал имена по меньшей мере половины высокопоставленных персон штата.
"Тем временем, — гласила статья, — ко все еще оплакивающему смерть своей любимой дочери Марианны мистеру Ларузу обратился его сын Эрл Ларуз-младший, который, в свою очередь, сказал следующее: «Мы в ответе за тех, кто волей судьбы оказались менее счастливы, чем мы, и даже утрата Марианны не снимает с нас этой ответственности». Благотворительный обед в целях помощи в проведении научных исследований по обнаружению раковых заболеваний будет первым публичным мероприятием семьи Ларуз со дня убийства Марианны, которое произошло 19 числа минувшего месяца".
Я протянул газету обратно Эллиоту.
— Бьюсь об заклад, там обязательно будут судьи, прокуроры, возможно, даже управляющий, — сказал он. — Им просто следует провести судебное разбирательство прямо там, на лужайке, и покончить с этим.
Эллиот сообщил, что у него еще кое-какие дела в офисе, и мы договорились встретиться в ближайшие день-два, чтобы обсудить план дальнейших действий. Я следовал за его машиной почти до самой Чарлстон-стрит, затем немного поотстал и припарковался у отеля. Оказавшись в своем номере, я принял душ, а затем позвонил Рейчел. Она как раз собиралась в Портлендскую библиотеку. Она говорила мне об этом пару дней назад, но я, конечно же, забыл, и вспомнил только сейчас.
— Ты не представляешь, какая интересная история произошла со мной сегодня утром, — пробормотала она, едва я успел раскрыть рот и сказать «привет».
— Открываю я парадную дверь и вижу человека на лестничной площадке. Здорового парня. Очень здорового чернокожего парня.
— Рейчел...
— Ты же сам сказал, что необходимо быть благоразумной. На его майке была надпись: «Клан киллеров», прямо на груди.
— Я...
— И знаешь, что он сказал?
Я ждал.
— Он протянул мне записку от Луиса, в которой сообщалось, что парень этот страдает непереносимостью лактозы. И все на этом! Больше в записке ни о чем не говорилось. Непереносимость лактозы. Больше ничего. Он тоже едет со мной в Портленд. Все, что я смогла сделать, — заставила его сменить майку. Зато теперь его новая майка гласит: «Черная смерть». Я буду всем говорить, что это просто рэп-группа такая. Как ты думаешь, рэп-группа может так называться?
Про себя я подумал, что надпись означает скорее род его деятельности, но озвучить свою мысль не решился. Вместо этого я произнес единственную фразу, которую смог придумать:
— Может, купишь ему немного соевого молока?
Она отсоединилась, даже не попрощавшись.
Несмотря на то, что недавно прошел дождь, на улице все еще было душновато, когда я вышел из отеля в поисках чего-нибудь перекусить. Моя одежда вся пропиталась влагой, прежде чем я миновал несколько домов. Оставив позади здание Музея Федерации, все в лесах, я направился дальше в фешенебельный жилой квартал между Восточным заливом и Митинг-стрит, восхищаясь большими старыми домами, фонарями над их дверями, излучавшими мягкий свет. Было начало одиннадцатого, и туристы уже начали заполнять пивные бары на Восточном побережье. Молодые мужчины и женщины курсировали вверх-вниз по Броуд-стрит, весело и настойчиво, словно соревнуясь, выстукивая дробь каблуками. На радиоволне Фред Дарст, порочный президент звукозаписывающей компании, гордый отец и мультимиллионер, как раз рассказывал подросткам о том, как родители не понимали его поколение. Да уж, нет ничего более грустного, чем тридцатилетний детина в коротких штанишках, восстающий против мамочки и папочки.
Я как раз искал местечко, чтобы поесть, как вдруг увидел знакомое лицо в окне «Магнолии». Эллиот сидел напротив женщины с черными как смоль волосами и плотно сжатыми губами. Он ел, но страдальческое выражение его лица говорило о том, что он совершенно не получал удовольствия от еды, возможно, потому, что женщина была абсолютно несчастлива с ним. Она сидела неестественно прямо, ее ладони покоились на коленях, а глаза недобро горели. В конце концов Эллиот сдался, оставив попытку накормить самого себя, и сложил руки в манере «будь благоразумен», именно так, как делает мужчина, когда чувствует себя подавленным женщиной. По большей части такие жесты обычно не срабатывают, потому что ничто так не подливает масла в огонь в споре между мужчиной и женщиной, как стремление доказать друг другу собственное благоразумие и неправоту собеседника. Так, собственно, и произошло: женщина, видимо не желая больше ничего выяснять, резко встала и решительно направилась к двери. Эллиот не стал ее останавливать. На минуту он замер, глядя ей вслед, потом обреченно пожал плечами, взял в руки нож с вилкой и снова приступил к еде. Женщина, вся в черном, села в свой «эксплорер», припаркованный чуть поодаль, и растворилась в ночи. Она не плакала, ее злость словно выжигала все вокруг. Нечто большее, чем просто привычка, заставило меня запомнить номер ее машины.
Я сразу же решил присоединиться к Эллиоту, но не хотелось, чтобы он подумал, будто я мог видеть весь этот инцидент; к тому же я хотел немного побыть один.
Я зашел на Куин-стрит и поел в маленьком ресторанчике «Терраса Пугана», который считался излюбленным местом Пола Ньюмена и Джоанны Вудворд, хотя в то время банковский счет будущей знаменитости был пуст. Столы у Пугана стояли застеленные изысканными скатертями, на них сверкали чистотой бокалы, и пришлось немало потрудиться, чтобы выловить хоть кого-то из персонала и заказать немного воды со льдом — освежиться.
Утка у них выглядела отлично. Но, несмотря на голод, я лишь слегка поковырялся в ней. У этой утки почему-то был какой-то неправильный вкус, хотя повар тут явно не при чем. В памяти внезапно возник эпизод: слюна Фолкнера у меня во рту, его вкус у меня на языке. Я отодвинул тарелку прочь.
— Разве что-то не так с вашей едой, сэр?
Это был официант. Я взглянул на него, но не мог четко рассмотреть лица: оно расплывалось передо мной, как на фотографии начинающего любителя.
— Нет, — выдавил я. — Все в порядке. Просто пропал аппетит.
Мне почему-то хотелось, чтобы он ушел. Я не мог смотреть на его лицо. Оно напоминало мне картину медленного разложения.
Тараканы захрустели на тротуарах, когда я выходил из ресторана; останки тех, кто был недостаточно быстр, чтобы избежать человеческой ступни, лежали маленькими темными кучками, и муравьиные полчища уже жадно облепили их.
Позднее я обнаружил себя гуляющим по пустынным улицам и наблюдающим за огнями в окнах домов, словно в попытке поймать призрачные тени жизней, продолжающихся за драпировкой штор. Я тосковал без Рейчел, и мне так хотелось, чтобы она была со мной. Интересно, как она там ладит с «Кланом киллеров», теперь, очевидно, с «Черной смертью». Надо же было Луису прислать парня, который оказался более заметным, чем он сам! Но, по крайней мере, теперь я мог меньше волноваться за Рейчел. Я до сих пор еще не был уверен, насколько я нужен Эллиоту. Кроме того, меня беспокоил тюремный проповедник, который снабдил Атиса Джонса оружием под видом креста. Я словно плыл по воле волн мимо всего происходящего, поскольку еще не нашел такого способа, благодаря которому мог проникнуть в глубинную суть событий и изучить их. И уж, конечно, не вполне разделял уверенность Эллиота в способности престарелой пары и их сына браться за самые сложные ситуации и искать выход из них. Я нашел телефон-автомат и решил связаться с надежным домом, чтобы узнать, обстановку там. Трубку снял старик, и он уверял, что все хорошо:
— Шо засавяет вас так бесокоица? Не соит та переживати.
Я поблагодарил его и уже собирался повесить трубку, когда он заговорил снова:
— А паень все жа ни убиал деушку. Он всретил деушку.
Мне пришлось дважды попросить его повторить одну и ту же фразу, пока я в конце концов не понял, что именно он хотел мне сообщить.
— Он сказал вам, что не убивал ее? Вы говорили с ним об этом?
— Угу-у-у... Он увеяет мея, чито ни тогал ие.
— Он сказал вам что-нибудь еще?
— Да, казал. Казал, чито очин бойца.
— Боится чего?
— Де полиции. Де енщины.
— Какой женщины?
— Сашного пизака, каториго он всетил ночю на Конгари. Эта енщина пасаянна пуугаит иго.
Мне опять пришлось попросить его повторить сказанное. В итоге я понял, что он говорил о каких-то привидениях.
— Вы говорите мне о том, что существует призрак женщины на Конгари?
— Угу-у.
— И это та самая женщина, которую видел Атис?
— Я точа ни заю, но умаю, чито так.
— А вы знаете, кто она такая?
— Не, точа я ни магоу нисего казат, но заю, чито ана спит на «Божестенном акре».
«Божественный акр». Это кладбище.
Я попросил его постараться выяснить еще что-нибудь у Атиса, потому что у меня все еще оставалось впечатление, что парень знал больше, чем говорил. Старик обещал попытаться, но не был уверен, что у него это получится.
Теперь я оказался во французском квартале между Митинг-стрит и Ист-Бэй. Откуда-то издалека доносились шум машин и отдельные громкие голоса отдыхающих, но вокруг не было ни души.
А потом, проходя по аллее Юнити, я внезапно услышал пение. Кто-то пел очень милым детским голоском. Голосок напевал отрывок из старого номера Роба Стэнли «Дьявольская Мэри», но звучало это так, будто ребенок не знал всей песни целиком или, может быть, просто решил напеть свой любимый отрывок:
В молочной лавочке,
В молочной лавочке
Я встретил девушку,
Я встретил лапочку.
И губки крали, словно розы, рдели,
И звали кралю Дьявольская Мэри...
Пение прекратилось, и из темноты аллеи на свет вышла девочка.
— Эй, мистер, — протянула она. — Огоньку не найдется?
Я остановился. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать. Под короткой узкой черной юбчонкой никаких чулок. Ее голые ноги были слишком белыми, а из-под черной кургузой маечки виднелся пупок. Лицо, также очень бледное и грязное, уродовали непристойный макияж вокруг глаз и, словно рана, полоска слишком яркой красной помады на губах. Девочка покачивалась на высоченных каблуках, но все равно смотрелась не намного выше. Грязные каштановые волосы частично скрывали ее лицо. Темнота словно крутилась вокруг девочки так, как если бы она стояла под освещенным луной деревом, ветви которого тихонько колыхались, поддаваясь ночному ветру. Ее лицо казалось мне до боли знакомым. Так детская фотография несет отпечаток черт женщины, в которую превратится ребенок. У меня, однако, возникло ощущение, что сначала я видел женщину, а теперь мне словно позволили взглянуть на ребенка, которым она когда-то была.
— Я не курю, — сказал я. — Прости.
Еще несколько секунд я молча стоял и смотрел на нее, а потом пошел прочь.
— Куда ты? — спросила она. — Не хочешь немного поразвлечься? У меня есть местечко, куда мы можем пойти.
Незнакомка шагнула мне навстречу, и я увидел, что она еще моложе, чем я предполагал. Девочка начала двоиться у меня в глазах, и все-таки что-то было не так с ее голосом. Он звучал старше, чем должен бы. Намного старше.
Она приоткрыла рот и облизала губы. Зубы у нее были зелеными в тех местах, где соприкасались с деснами.
— Сколько тебе лет? — спросил я.
— А сколько тебе хотелось бы, чтобы мне было?
Она качнула бедрами, будто пытаясь изобразить похотливость, и завлекающий тон ее голоса стал еще откровенней. Правой рукой девочка указала мне на аллею:
— Пойдем туда, мой котик. Там есть местечко для нас.
Она медленно опустила руку и начала приподнимать подол своей юбки:
— Давай, я покажу тебе...
Я дотянулся до ее руки, и она улыбнулась шире. А потом похолодела, когда я больно сжал ее запястье.
— Может, тебя проводить в полицейский участок? — спросил я. — Они там придумают, как тебе помочь.
Но тут я почувствовал, что с ее рукой происходит что-то неладное: она словно превращалась из твердой субстанции в жидкость. Процесс перерождения сопровождался резким повышением температуры, так что мне стало горячо держать ее. Это напомнило мне проповедника, который тоже словно горел изнутри.
Девушка издала странный звук и с поразительной силой вырвалась.
— Не трожь меня! — прошипела она. — Я тебе не дочь!
На мгновение я словно остолбенел, чувствуя, что мне не выдавить из себя ни слова. Она побежала вниз по аллее, а я помчался за ней. Я думал без труда догнать ее, но она удалялась от меня с молниеносной быстротой, как в мире, где нарушено пространственно-временное соответствие. Она миновала ресторан Мак-Креди и остановилась на мгновение у Ист-Бэй-стрит.
Вскоре рядом с ней появилась машина — черный «кадиллак» с тонированными стеклами и трещиной на лобовом стекле. Передняя дверь пассажирского сиденья распахнулась перед девушкой, и из машины заструился свет, казавшийся черным. Он вытекал, словно нефть, и стелился по сторонам автомобиля.
— Нет! — закричал я. — Отойди от машины!
Она обернулась, потом взглянула в салон машины, затем снова на меня и улыбнулась. Ее черты казались мне расплывчатыми, исчезающими. Улыбка обнажила ряд мелких зеленоватых зубов.
— Давай, — снова заговорила она. — У меня есть славное местечко, куда мы можем поехать.
Не дождавшись ответа, девчонка запрыгнула в машину, которая тут же исчезла в ночи.
Но, прежде чем дверца захлопнулась, из нее выпало нечто, привлекшее мое внимание. Эти странные существа уже напали на таракана и, пока я пытался их рассмотреть, расползались по его плоти, окутывая головку насекомого, словно пытаясь вгрызться в его нутро. Я наклонился ниже и увидел отметину в форме скрипки на спине у одного из пауков.
Паутина. Весь таракан был уже опутан паутиной.
Комок подкатился к горлу. Я отшатнулся и стоял так, опершись о стену, обхватив себя обеими руками и борясь с накатившим приступом тошноты. Вскоре я снова почувствовал силы идти и поплелся к своему отелю, проклиная «кадиллак» на Ист-Бэй.
В номере я попил воды, стараясь прийти в себя, и понял, что у меня резко поднялась температура. Попытка смотреть телевизор ни к чему не привела: цвета расплывались, глаза болели. Но я все же дождался новостей, из которых узнал первые подробности убийства трех человек в баре под Каиной, штат Джорджия. Я лег, тщетно пытаясь заснуть: жар не спадал даже от лошадиной дозы аспирина. Кажется, у меня начался бред, когда в дверь постучали. Через дверную щель я разглядел маленькую девочку в черном, которая ждала меня.
— Эй, мистер, у меня есть местечко, куда мы можем пойти...
Попытавшись открыть дверь, я обнаружил, что держусь за хромовую ручку «кадиллака». Я почувствовал запах гниющего мяса, когда щелкнул замок и дверь со скрежетом отворилась.
А внутри была темнота.
Глава 13
Они добирались до отеля порознь: высокий чернокожий мужчина — на «лумине» трехлетней давности, белый, пониже ростом, подъехал позже на такси. Каждый занял стандартный номер на двоих на разных этажах: чернокожий — на втором, белый — на третьем. Они не общались друг с другом ни в этот день, ни на следующий вплоть до самого отъезда.
В своем номере белый внимательно осмотрел одежду, чтобы проверить, не осталось ли на ней следов крови, но не нашел ничего. Убедившись, что на одежде нет пятен, и с чувством удовлетворения бросив ее на кровать, он совершенно голый подошел к зеркалу в небольшой ванной и принялся медленно поворачиваться, выгибаясь, чтобы лучше рассмотреть в зеркале шрамы на спине и бедрах. Он уставился на них, стараясь проследить взглядом следы на коже. Он рассматривал себя в зеркале совершенно безучастно, как будто это было отражение не его собственное, а какого-то постороннего существа, которое жестоко пострадало и сейчас несло отметины не только физической, но и душевной боли. И все же этот человек в зеркале не был частью его самого. Он сам был безупречен, ничем не запятнан и ничем не затронут. Когда свет погас и комната погрузилась в темноту, мужчина наконец отошел от зеркала и оставил за спиной человека в шрамах, запомнив только выражение его глаз. Некоторое время спустя он позволил себе роскошь пофантазировать, затем спокойно завернулся в чистое полотенце, стоя в пятне света от телевизора, и вздохнул.
Было слишком много неудач в жизни человека по имени Эйнджел. Некоторые из них, как он полагал, могли быть записаны на счет его воровской натуры, поскольку когда-то он был совершенно убежден в том, что если какую-то вещь можно стащить и продать, то следует ожидать, что перемена владельца непременно состоится, и он, Эйнджел, сыграет в этом заметную, хотя и мимолетную роль. Этот человек был когда-то очень хорошим вором, но не самым выдающимся: великие воры не попадают в тюрьму, а Эйнджел провел достаточно времени за решеткой, чтобы понять, что недостатки его натуры никогда не позволят ему стать одной из живых легенд в славной когорте джентльменов удачи. К сожалению, в душе он был неистребимым оптимистом, так что персоналу тюрем в двух штатах пришлось изрядно потрудиться, дабы нагнать туч на его солнечную предрасположенность к преступлениям. И все же он избрал эту дорожку и воспринимал наказание, когда это было возможно, с известной долей самообладания.
Но были и другие сферы его жизни, которые Эйнджел был не в силах контролировать. Ему не было позволено выбрать себе маму, которая исчезла из его жизни, когда он еще передвигался на четвереньках. Ее имя не появилось в брачном свидетельстве, а ее прошлое было пустым белым листом и таким же неприступным, как стены тюрьмы. Она называла себя Марта — вот и все, что он знал о ней.
Еще хуже было то, что Эйнджел не мог выбрать себе папу, а его отец был плохим человеком: пьяница, мелкий воришка, лентяй, одиночка, который держал собственного сына в грязи, кормил его по утрам хлопьями и едой из фаст-фуда, если вообще вспоминал о нем, и усиленно изображал радость от процесса кормления чада. Плохой Человек. Эйнджел никогда не звал его отцом, даже про себя, а уж тем более папой.
Только Плохой Человек.
Они жили в доме без лифта на Дегроу-стрит, близ набережной у Коламбия-стрит в Бруклине. В конце девятнадцатого века это место стало домом для ирландцев, которые работали на ближайшем причале. В 1920 году к ним присоединились пуэрториканцы, и с этого момента Коламбия-стрит практически не менялась до окончания Второй мировой войны, но район ко времени рождения мальчика уже пришел в упадок. Открытие скоростной трассы между Бруклином и Куинсом в 1957 году отделило рабочий квартал Коламбия-стрит от более зажиточных районов Коббл-Хилл и Кэррол-Гарденс. Планы строительства коммерческого порта для контейнерной перевозки грузов в этом районе привели к тому, что многие жители, продав свои дома и квартиры, разъехались. Но порт так и не построили — напротив, все портовые службы переместились в Порт-Элизабет, Нью-Джерси, и в результате все это привело к тому, что на Коламбия-стрит, разразилась массовая безработица. Итальянские булочные и галантерейные лавочки начали закрываться, а пуэрториканские домики-каситас, напротив, заполонили все освободившееся пространство. Беспризорный мальчишка бродил по этим местам, устраивал себе жилище в заброшенных вагончиках, обшитых досками, или комнатах без крыш, стараясь не попадаться на пути Плохого Человека и избегать все более непредсказуемых вспышек отцовской злости. У Эйнджела было мало друзей, и он привлекал внимание наиболее жестоких своих ровесников так же, как уличные кобели, которых унижают им подобные до тех пор, пока их хвосты окончательно раз и навсегда не повиснут между лап, а уши не прижмутся к голове, и уже нельзя будет точно сказать, является ли отношение к ним результатом жестокости или они сами заслужили подобное обращение.
Плохой Человек потерял работу в 1958 году, после того как во время пьяной драки он напал на молодого активиста и оказался в черном списке. Через несколько дней к нему в квартиру пришли люди и избили его палками и обрывком стальной цепи. Ему повезло: он выбрался из переделки с несколькими переломами костей. Оказалось, что тот, на кого он набросился, был главой профсоюза только на словах и не особенно утруждал себя присутствием в офисе, носившем его имя. Женщина, одна из немногих, что прошли по жизни мальчика, как смена времен года, неся с собой запах дешевых духов и вонь сигарет, нянчилась с ним и уберегла его от худшего, она кормила его яичницей с беконом. Она ушла ночью после очередной громкой ссоры с Плохим Человеком, которая заставила соседей прильнуть к окнам, а полицию — постучаться в их дверь. После нее больше не было никаких женщин, Плохой Человек погрузился в отчаяние и нищету, увлекая за собой и сына.
Впервые Плохой Человек продал Эйнджела, когда тому было восемь лет. Покупатель вручил ему ящик «Уайлд Терки» в обмен на сына, а пять часов спустя привез его домой завернутым в одеяло. Ребенок всю ночь не мог уснуть в своей кровати, лежал, уставившись в стену, и боялся, что если он случайно моргнет, то в тот же миг, этот человек вернется. Он боялся пошевелиться, потому что боялся боли, которую чувствовал внизу.
Плохой Человек накормил его кусочками сухофруктов и детским питанием «Беби Рут» в качестве особого лакомства.
Даже сейчас, оглядываясь назад, Эйнджел не мог точно вспомнить, сколько дней прошло подобным образом. Все повторялось чаще и чаще, а число бутылок, в которое оценивался ребенок, становилось все меньше и меньше, пачка счетов — все тоньше и тоньше. К четырнадцати годам, после нескольких попыток побега, которые заканчивались жестоким наказанием со стороны Плохого Человека, Эйнджел влез в кондитерский магазин на Юнион-стрит, всего в нескольких кварталах от 74-го участка, и украл две коробки детского питания «Беби Рут», а затем жадно набивал им рот в тихом уголке на Хикс-стрит, пока его не начало рвать. Когда полиция нашла его, колики в животе были настолько жестокими, что он едва мог идти. Ограбление дало ему двухмесячную передышку в тюрьме для несовершеннолетних, куда мальчишка угодил за то, что разбил витрину, когда влезал в магазин, и потому, что судье хотелось примерно наказать кого-нибудь в свете растущей детской преступности. Когда, наконец, Эйнджела выпустили, Плохой Человек ждал его у ворот тюрьмы, а еще двое сидели и курили в их запущенной грязной квартире.
На сей раз не было никаких конфет.
В шестнадцать он ушел, сел в автобус, направлявшийся за реку, в Манхэттен, и почти четыре года провел на самом дне. Ему случалось спать в грязи, снимать комнату в многоквартирных домах с опасными соседями; он поддерживал себя, нанимаясь на любую работу и все чаще занимаясь воровством. Он помнил блеск ножей и звуки выстрелов, крики женщин, постепенно переходящие в стоны, когда они погружались в бессознательность или вечное молчание. Имя Эйнджел стало частью его побега, прикрытием его прежней личности, таким же, как новая кожа змеи, которая серебрится под сбрасывамой старой.
Но по ночам он все еще представлял себе, как придет Плохой Человек, проберется сквозь пустые коридоры, комнаты без окон, прислушается к дыханию своего сына и будет держать в руках ненавистные конфеты. Когда же, наконец, Плохой Человек умер — сгорел заживо в огне, который уничтожил его квартиру и тех, кто жил в квартире над ним, потому что уснул с сигаретой, — мальчик-мужчина узнал об этом из газет и расплакался, сам не зная почему.
В жизни, которая и так была полна неудач, боли и унижений, Эйнджел всегда оглядывался на день 8 сентября 1971 года, когда события развивались от плохого не просто к худшему, а к самому худшему. Именно в этот день судья приговорил Эйнджела и двух его сообщников к принудительным работам по добыче никеля в Аттике за участие в ограблении склада в Куинсе. Выбор места заключения был отчасти продиктован тем, что двое из обвиняемых напали на судебного пристава в коридоре после того, как он предложил, чтобы к концу дня их уложили лицом вниз на койки с завязанными ртами. Эйнджел, которому тогда было девятнадцать, оказался самым молодым из них троих.
Отправиться в исправительную колонию Аттики, в тридцати километрах к востоку от Буффало, уже само по себе плохо. Аттика была адом: ее переполняла жестокость, и с минуты на минуту эта бочка с порохом была готова взорваться. И она взорвалась 9 сентября 1971 года, на следующий день после того, как Эйнджел появился в тюремном дворе, и удача окончательно отвернулась от парня. Осада Аттики привела к тому, что заключенные захватили несколько блоков колонии, при этом погибли сорок три человека и еще восемьдесят были ранены. Большинство погибших и раненых пострадали от решения, принятого губернатором Нельсоном А. Рокфеллером, — отбить у заключенных тюремный дворик Д, используя все доступные средства и силы. Канистры слезоточивого газа пролились дождем на обитателей этого сектора, а затем начался обстрел, беспорядочная пальба по толпе из двенадцати сотен человек, в том числе по бойцам правительственных войск, вооруженным автоматами и дубинками, которые успели просочиться на территорию колонии. Когда дым и газ улеглись и рассеялись, одиннадцать охранников и тридцать два заключенных были мертвы. Последовавшая расправа была скорой и безжалостной. Заключенных избивали, заставляли есть грязь, им угрожали кастрацией. Человек по имени Эйнджел провел большую часть осады, скрываясь в своей камере, в ужасе от собственных сокамерников ничуть не меньшем, чем от неумолимого наказания, которое последует для всех, принявших участие в бунте, когда тюрьма будет отбита войсками. Его заставили ползти голым по двору, усыпанному осколками стекла, а охрана наблюдала за этим. Когда он остановился, не в силах терпеть боль в животе, руках, ногах, охранник Хайд подошел к нему. Стекло хрустело под его тяжелыми сапогами. Он встал обеими ногами на спину Эйнджелу...
Спустя почти 30 лет, 28 августа 2000 года, федеральный судья Майкл А. Телеска из Окружного федерального суда в Рочестере, наконец, разделил сумму в 8 миллионов долларов между пятью сотнями бывших заключенных Аттики и их родственниками — компенсацию за события, которые последовали за восстанием и осадой. Рассмотрение дела было отложено на 18 лет, но в конце концов некоторые из двухсот истцов сумели поведать свои истории на открытом слушании. В их числе был и Чарльз Б. Уильямс, которого избили так жестоко, что ему пришлось ампутировать ногу. Имени Эйнджела не было в списке подавших коллективный иск, потому что он никогда не верил, что от американского правосудия можно ожидать репараций. Следующий срок после Аттики, еще четыре года, он отсидел в Рикерсе. Когда он вышел после этой последней отсидки, он был совершенно разбит, в депрессии и на грани самоубийства.
А потом однажды жаркой августовской ночью он заметил открытое окно в квартире в Верхнем Вест-Сайде и воспользовался пожарным ходом, чтобы пробраться в здание. Квартира была роскошная, полторы тысячи квадратных футов, с персидскими коврами, постеленными прямо на голые доски пола. Небольшие африканские поделки были со вкусом расставлены на полках и столиках. Здесь оказалась и коллекция виниловых дисков и компактов с музыкой в стиле кантри. Все это вместе взятое заставило Эйнджела заподозрить, что он забрался в квартиру Чарли Прайда — известный притон наркоманов, употребляющих крэш.
Он прошелся по всем комнатам и не нашел никого, они были совершенно пусты. Позже он будет удивляться, как не заметил того парня. Действительно, квартира была огромная, но он внимательно обследовал ее. Он открывал шкафы, даже заглядывал под кровать и не нашел там пыли. Но, когда он уже собирался поднять телевизор и вынести его через черный ход, низкий голос за его спиной произнес:
— Парень, ты самый тупой из тупых грабителей со времен Уотергейта.
Эйнджел обернулся. С голубым банным полотенцем вокруг талии в дверях стоял самый высокий чернокожий, которого Эйнджелу когда-либо приходилось видеть вне баскетбольной площадки. Он был не меньше двух метров и пятнадцати сантиметров ростом и совершенно лишен растительности на груди и ногах. Его тело представляло собой сплошные валики мышц, без единой капельки жира. В правой руке чернокожий гигант держал пистолет с глушителем, но не оружие испугало Эйнджела — он пришел в ужас от взгляда этого парня. Это не были глаза психа, потому что Эйнджел повидал немало таких в тюрьме, чтобы точно знать, как они выглядят. Нет, в этом взгляде сквозили ум и наблюдательность, он был веселым и в то же время странно холодным.
Этот парень был убийцей.
Настоящим киллером.
— Я не хочу никаких неприятностей, — заверил Эйнджел.
— Как тебе не стыдно!
Эйнджел судорожно сглотнул:
— Допустим, я скажу тебе, что все совсем не так, как выглядит.
— Это выглядит так, будто ты пытаешься спереть мой телевизор.
— Я знаю, что это так выглядит, но...
Эйнджел остановился и решил, впервые в жизни, что честность в данный момент и в данном месте будет лучшей политикой.
— Действительно, это так, как выглядит, — признал он. — Я пытаюсь стащить твой телевизор.
— Нет, ты уже больше не пытаешься.
Эйнджел кивнул:
— Да уж, пожалуй, мне стоит опустить его.
И, действительно, телевизор стал казаться ему все тяжелее и тяжелее.
Чернокожий парень задумался на минуту.
— Нет, знаешь что, почему бы тебе не держаться за него? — сказал он наконец.
Лицо Эйнджела прояснилось:
— Вы считаете, что я могу забрать его?
Человек с пистолетом чуть не рассмеялся. По крайней мере, Эйнджел решил, что этот спазм лицевых мышц можно считать улыбкой.
— Нет, я сказал, что ты можешь держаться за него. Ты просто останешься здесь и будешь держать мой телевизор в руках. Но, если вдруг ты его уронишь, — его улыбка стала еще шире, — я убью тебя.
Эйнджел опять сглотнул. Ему вдруг показалось, что телевизор стал весить вдвое больше.
— Ты любишь музыку в стиле кантри? — спросил парень, подойдя к проигрывателю и включая его.
— Нет, — выдохнул Эйнджел, даже не пытаясь соврать.
Из динамиков полилась песня Грэма Парсонса «Мы смоем с себя пыль на рассвете».
— Ну, значит, тебе крупно не везет.
— Ну да, ты еще будешь рассказывать мне о невезении, — вздохнул Эйнджел.
Полураздетый мужчина устроился в кожаном кресле, тщательно расправил свое полотенце и нацелил пистолет на злополучного грабителя.
— Нет, — сказал он. — Это ты будешь мне рассказывать.
* * *
Человек по имени Эйнджел думал обо всем этом, о кажущихся беспорядочными событиях, которые привели его туда, где он сидит теперь в полутьме. Последние слова Клайда Бенсона, незадолго до того, как Эйнджел убил его, снова и снова звучали в его мозгу.
Я раскаялся в своих грехах. Я пришел к Христу.
Он просил милости, но не дождался ее.
В жизни Эйнджелу так часто приходилось рассчитывать на милость других: отца; человека, который затаскивал его в темные комнаты и пропахшие потом квартиры; охранника Хайда в Аттике; заключенного Вэнса в Рикерсе, который решил, что само существование Эйнджела для него уже невыносимое оскорбление.
Он сживал Эйнджела со свету до тех пор, пока кто-то посторонний не вошел в камеру и не убедился, что Вэнс больше никогда не будет представлять опасности ни для Эйнджела, ни для кого-либо еще.
А потом Эйнджел нашел человека, который сейчас сидит в комнате ниже этажом и с которого началась новая жизнь. Жизнь, где он больше не зависит от милости других, не является жертвой и уже почти совсем забыл о тех событиях, которые сделали его таким, каков он есть.
Пока Фолкнер не подвесил его на цепи к стальному рельсу и не начал вырезать кусок кожи у него со спины. Его сын и дочь удерживали подвешенного человека в определенном положении. Дочь Фолкнера слизывала пот, который струился и капал с бровей Эйнджела, сын мягко утешал его, когда он пытался кричать, несмотря на кляп во рту. Он помнил ощущение от ножа, его холод, его нажим и то, как он вспарывал кожу, когда добирался до мышц под ней. В тот момент все призраки прошлого, все забытые страдания и мучительные унижения прошлого обступили его, и Эйнджелу показалось, что он чувствует вкус леденцов во рту.
Кровь и конфеты.
Каким-то образом ему удалось выжить.
Но и Фолкнер все еще жив, и этого слишком много для Эйнджела, слишком много для того, чтобы он мог перенести это.
Фолкнер должен умереть, чтобы Эйнджел мог жить.
* * *
А что же тот, другой человек, тихий, осторожный черный мужчина с глазами убийцы?
Всякий раз, когда он наблюдал за тем, как его партнер одевается и раздевается, лицо Луиса оставалось нарочито безразличным. Эйнджел чувствовал, как мышцы Луиса напрягаются, когда из-под одежды появляются шрамы на спине и бедрах, когда Эйнджел делает паузу, чтобы утихла боль, перед тем как надеть рубашку или брюки. Всякий раз при этом мучительном занятии капли пота выступали у него на лбу. Вначале, в первые недели после возвращения из больницы, Эйнджел просто не снимал с себя одежду и целыми днями и предпочитал лежать на животе полностью одетым, пока не наставал момент, когда просто необходимо было переодеться. Он редко говорил о том, что произошло на острове проповедника, хотя именно эти события заполняли его мысли целыми днями и лишали сна по ночам.
Луис знал о прошлом Эйнджела гораздо больше, чем тот знал о его прошлом (Эйнджел лишь угадывал за немногословностью и сдержанностью друга какую-то тайну), но Луис понимал животным чутьем, какое чувство насилия испытывал сейчас Эйнджел. Насилие, страдание, боль, причиненная ему кем-то старшим по возрасту и более могущественным, должны были остаться в далеком прошлом за семью печатями воспоминаний, под спудом, где хранилась память о сильных руках и пригоршне леденцов. Теперь, казалось, печати сорваны и прошлое просачивается из-под крышки, как тлетворное зловоние, отравляющее настоящее и будущее.
Эйнджел был прав: Паркеру следовало сжечь проповедника, когда у него был шанс сделать это. Он же, наоборот, выбрал другой, менее надежный путь, пойдя путем законопослушного гражданина, в то время как некая часть его, та, что убивала в прошлом и будет, в чем Луис был совершенно уверен, еще убивать в будущем, осознавала: закон никогда не сможет наказать такого человека, как Фолкнер, потому что его действия вышли так далеко за пределы всего, что рассматривается законом, оказывая влияние на миры, которые уже ушли, и миры, которые все еще существуют.
Луис был уверен, что знает, почему Паркер действовал именно таким образом, знал, что он сохранил жизнь безоружному проповеднику, потому что был уверен: в противном случае он сам опустится до уровня старика. Чарли делал первые робкие шаги к некой форме спасения души вопреки своему желанию, и, возможно, вопреки необходимости, против желания своего друга, и в глубине души Луис не мог осудить Паркера. Даже Эйнджел не осуждал его: он всего лишь хотел, чтобы это было как-то иначе.
Но Луис не верил в спасение души, или же, если и верил, то шел по жизни, хорошо осознавая, что этот свет горит не для него. Если Паркер был человеком, которого пугало его прошлое, то Луис был тем, кто отказался от него, принимая реальность, а то и необходимость всего того, что он сделал, и условия, которые неизбежно приведут со временем к какой-то расплате. Время от времени он оглядывался на свое прошлое и пытался найти ту точку, в которой его жизненный путь подошел к развилке, момент времени, когда он воспринял чарующую красоту жестокости. Он вспомнил себя стройным мальчиком в доме, полном женщин с их смешками, чувственными заигрываниями, минутами погруженности в молитву, обожанием или покоем. А потом упала тень, и появился Дебер. И молчание опустилось на дом.
Луис не знал, как его матери удалось найти такого человека, как Дебер, но еще меньше он понимал, как она вообще могла выносить его присутствие, хотя и не постоянное, но очень длительное. Дебер был маленьким и злобным, темную кожу его щек навеки изрыли оспины — след ружейной дроби, пролетевшей по касательной у его лица, когда он был мальчиком. Дебер носил металлический свисток на цепочке и пользовался им, чтобы дать сигнал на перерыв или пересменку чернокожим рабочим, которыми управлял. Он использовал его и для того, чтобы повысить дисциплину в доме: позвать семью к ужину, вызвать мальчика для выполнения обычных дел по дому или наказания, или потребовать мать мальчика себе в постель. Слыша пронзительный звук, она бросала свое занятие и с опущенной головой следовала в спальню, а мальчик затыкал уши, чтобы не слышать их стоны, которые проникали даже сквозь стены.
Однажды, когда Дебера не было много недель подряд, некоторое спокойствие снизошло на дом. Но он приехал и увел маму мальчика с собой, и больше никогда они не видели ее живой. В последний раз мальчик видел лицо своей матери перед тем, как заколотили крышку гроба, и толстый слой грима не мог скрыть следы страшных побоев под глазами и около ушей. Как говорили, ее убил какой-то неизвестный, а дружки Дебера подтвердили его алиби. Дебер стоял у гроба и принимал соболезнования тех, кто слишком боялся показать свое лицо. Но мальчик знал правду.
И все же Дебер вернулся к ним спустя месяц и повел тетю мальчика в спальню, а мальчик лежал без сна и вслушивался в стоны и ругательства, которые вместе с плачем неслись из уст женщины, и один раз услышал пронзительный крик боли, который был тут же задушен подушкой, прижатой к ее лицу. И, поскольку светила полная луна, отбрасывая отсвет на воду перед домом, он, подкравшись к окну, увидел свою тетю, спускавшуюся к воде: вот она наклоняется и отмывает себя от мужчины, который сейчас спит в спальне наверху. Она опускается прямо в воду спокойного озера и плачет, плачет...
На следующее утро, когда Дебер ушел и женщины собирались приступить к своим делам по хозяйству, мальчик увидел скомканные простыни, перемазанные кровью, и сделал свой выбор, как он теперь понимал, на всю оставшуюся жизнь.
В то время ему было уже пятнадцать, и он знал, что нет таких законов, которые смогут защищать бедную черную женщину. Он был умен не по годам, а кроме того, в нем угадывалось еще что-то такое, что уже начинал ощущать Дебер, который сам был всего лишь тупым, примитивным отражением побуждений, управляющих им. Это была склонность к насилию, способность убивать, которая несколькими годами позже заставила старика на заправочной станции лгать полиции из опасений за свою жизнь. Мальчик, несмотря на то, что был очень привлекательным внешне и казался вполне безобидным, представлял растущую угрозу для Дебера, с которой ему еще предстояло иметь дело. Иногда, когда Дебер возвращался с работы и усаживался на ступеньки крыльца, обстругивая палочку своим ножом, мальчик пристально смотрел на него и по наивности отводил взгляд только тогда, когда Дебер сам перехватывал его и со смешком отворачивался, все еще держа нож в руке. Но костяшки его пальцев белели от того, как он сжимал этот нож.
Однажды Дебер остановился в тени деревьев и жестом подозвал его к себе. В руке у него блестел острый нож, а пальцы были в крови. Я поймал немного рыбы, объяснил Дебер, и нужна помощь, чтобы вычистить внутренности. Но мальчик не подошел, и лицо Дебера ожесточилось. Тогда мальчик убежал. Подхватив свисток, мужчина поднес его к губам и дунул. Это был вызов. Они все слышали его, все подчинялись ему в свое время, но теперь мальчик осознал: все, это конец. И не подчинился. Он убежал.
В ту ночь мальчик не вернулся домой, он спал среди деревьев и позволял комарам жалить себя, даже когда Дебер вышел на порог и продолжал вновь и вновь свистеть, нарушая покой ночи требованием возмездия.
На следующий день мальчик не пошел в школу, потому что был уверен, что Дебер появится там, чтобы разыскать его и увести туда, куда увел его мать, и на сей раз тело не найдут, чтобы похоронить. Не будет никаких похоронных гимнов у могилы, будут только зеленая трава и грязь, пение птиц и шаги зверей, пришедших полакомиться падалью. Нет, он спрячется, затаится среди деревьев и будет ждать.
Дебер пил. Мальчик почувствовал это сразу же, как только вошел в дом. Дверь в спальню была открыта, и он слышал храп Дебера. Я могу убить его сейчас, подумал он, перерезать ему горло, пока он спит. Но меня сразу найдут и накажут, а возможно, накажут еще и женщин. Нет, подумал мальчик, лучше осуществить свой прежний замысел.
Белки глаз казались в темноте еще больше, когда его тетя с обнаженной маленькой грудью молча смотрела на него. Он приложил палец к губам, затем указал на свисток, который лежал рядом с ней на прикроватном столике. Медленно, стараясь не потревожить спящего мужчину, она перегнулась через его тело и сгребла в руку цепочку. При этом раздался мягкий скребущий звук, но Дебер, погруженный в глубокий пьяный сон, не шевельнулся. Мальчик приблизился, и женщина осторожно опустила свисток ему в ладонь. Затем он ушел.
В ту ночь он влез в школу. В хорошую школу, по местным стандартам, неплохо оборудованную и поддерживаемую фондами из средств местных жителей, которые ладно устроились в городе. В школе были не только хороший спортивный зал и футбольное поле, но и небольшая научная лаборатория. Мальчик очень тихо проскользнул в лабораторию и устроился за столом, подбирая реактивы, которые собирался смешать для своих целей: большие кристаллы йода, концентрированный раствор гидрата окиси аммония, спирт — все основные элементы, которые были в большинстве школьных лабораторий. Он давно и подробно изучал их использование в криминальной практике. Мальчик медленно соединил гидроксид аммония и кристаллы йода — в результате получилась коричневато-красная смесь; затем профильтровал ее через бумагу и очистил сначала с помощью спирта, а затем — эфира. Наконец он аккуратно упаковал субстанцию и перелил ее в мензурку с водой. Это был ни-троген 3-йодид, простая смесь, состав которой он обнаружил в одной старой книге по химии, в публичной библиотеке.
Он воспользовался паром, чтобы разделить свисток на две половинки. Затем мокрыми руками затолкал нитроген 3-йодид в каждую половинку свистка, пока не заполнил его на четверть. Мальчик заменил шарик внутри свистка на комок наждачной бумаги. Затем он тщательно склеил две половинки свистка и вернулся в дом. Его тетя все еще не спала. Она протянула руку за свистком, но он помотал головой и аккуратно положил его на столик, почувствовав запах изо рта Дебера, когда наклонялся. Уходя, он улыбался самому себе. Это было, как он думал, предвкушение того, что должно было произойти.
На следующее утро Дебер поднялся рано, как обычно, и покинул дом, унося в руках коричневый бумажный пакет с едой, который женщины всегда оставляли для него. В тот день он проехал восемьдесят миль, чтобы начать новую работу, и нитроген 3-йодид был сухим, как пыль, когда он взял свисток в зубы в последний раз и дунул. Маленький комок наждачной бумаги под воздействием трения запустил механизм простейшего взрыва...
Они, конечно, допрашивали мальчика, но он тщательно убрал за собой в лаборатории и отмыл руки отбеливателем, а потом водой, чтобы уничтожить все следы субстанции, которую изготовил. И у мальчика было алиби — богобоязненные женщины, которые клялись, что мальчик был с ними весь предшествующий день, что он не выходил из дома ночью, потому что они бы услышали. Они утверждали, что Дебер потерял свой свисток несколько дней назад и мечтал вернуть его себе, считая его своим счастливым талисманом, тотемом. Полиция задержала мальчика на целый день, его небрежно поколотили, чтобы посмотреть, не расколется ли он, а потом отпустили, потому что на его место претендовали недовольные рабочие, ревнивые мужья и драчуны из местного бара.
В конце концов, это была миниатюрная бомба, изготовленная с таким умыслом, чтобы пострадал один Дебер. Это было делом не мальчика, но мужа.
Дебер с развороченным лицом умер в мучениях через два дня, что стало, как говорил черный народ, милостью для него.
* * *
В своем номере Луис безразлично наблюдал, как в последних новостях сообщали о том, что были обнаружены тела убитых в баре Каины, и сбитый с толку Верджил Госсард наслаждался своими пятнадцатью минутами триумфа. Его голова была забинтована, а на руках едва высохла моча. Пресс-секретарь полиции штата сообщила, что у них есть прямые улики и дала описание старой машины марки «форд». Брови Луиса слегка поднялись от удивления. Впрочем, они сожгли машину в поле к востоку от Алеендейла, а затем направились на север на «лумине», которая никак не была задействована в деле, а позже разделились на окраине этого городка. Даже если «форд» обнаружат и докажут причастность этой машины к убийствам, в ней не найдут никаких зацепок, поскольку он был собран из частей полудюжины автомобилей и специально подготовлен для немедленного использования и быстрого уничтожения. Луиса обеспокоило только одно: кто-то видел, как они уезжали, а значит, мог дать их описание. Эти опасения были несколько развеяны, но не исчезли полностью, когда пресс-секретарь сообщила только, что в связи с событиями разыскиваются высокий афроамериканец и, по крайней мере, еще одна неопределенная персона.
Верджил Госсард, подумал Луис. Им надо было убить его, когда представилась возможность, но, если он был единственным свидетелем и все, что он знает, это то, что один мужчина был черным, им нечего бояться. Впрочем, существовала вероятность того, что полиции известно больше, чем сообщила пресс-секретарь, и это смутно беспокоило его. Будет лучше, если они с Эйнджелом разойдутся на некоторое время. Это решение направило его мысли к человеку в комнате наверху. Луис лежал, думая о нем, пока шум улицы не стих, а затем покинул мотель.
Телефонная будка стояла в пяти кварталах к северу, около парковки перед китайской прачечной. Луис опустил в отверстие два доллара, набрал номер и услышал, как телефон трижды прозвонил, пока его не взяли.
— Это я. У меня есть кое-какая работа для вас. На заправочной станции вниз по Огичи, на шестнадцатой после Спарты. Вы не сможете миновать ее, потому что она выглядит так, будто ее украшали телепузики. Старику-хозяину надо напомнить, чтобы он забыл, что двое мужчин проезжали через его бензоколонку вчера. Он знает, о чем идет речь.
Он сделал паузу и выслушал то, что ответили на другом конце провода.
— Нет, пока это обстоит так, что моего внушения достаточно. Но все же убедитесь, осознает ли дед последствия, если вдруг ему захочется стать примерным гражданином. Объясните ему, что червям нет разницы, чье мясо обгладывать — хорошего или плохого человека. Затем разыщите придурка по имени Верджил Госсард, в данный момент местную знаменитость. Угостите его выпивкой, посмотрите, что ему известно о происшедшем. Проверьте, что он видел. Когда все сделаете и вернетесь, позвоните мне, затем следите за сообщениями на автоответчике всю следующую неделю. Возможно, вы мне понадобитесь для дела.
С этими словами Луис отключился, протер платком телефонную трубку, кнопки аппарата. Затем, опустив голову, направился обратно в мотель и пролежал без сна, пока проезжающие машины не стали совсем редкими. И на мир снизошла тишина.
Итак, эти двое остались в своих номерах, каждый сам по себе, но соединенные невидимой нитью, мимоходом вспоминая о людях, которые умерли у них на глазах этой ночью. Один дотянулся сознанием до другого и пожелал ему покоя, и этот покой был обретен на какое-то время, пришел вместе со сном.
Но подлинный мир требует определенной жертвы.
Хотя у Луиса уже была идея о том, как эта жертва может быть принесена.
* * *
А далеко на севере Сайрус Найрн наслаждался своей первой ночью на свободе.
Его выпустили из Томастона этим утром, все его имущество лежало в черном мешке для мусора. Одежда сидела на нем ничуть не лучше и не хуже, чем когда-либо, поскольку тюремное заключение не оказало особенного воздействия на согнутое годами и природой тело. Он стоял за стеной тюрьмы и смотрел на нее. Голоса молчали, но Сайрус знал: Леонард здесь, рядом с ним. И он не чувствовал страха при взгляде на существа, которые собирались в толпы вокруг тюремных стен, — с огромными крыльями на спине и с темными глазами, которые все видели. Он дотронулся до своей спины и представил, как за его спиной расправляются такие же мощные крылья.
Сайрус направился на центральную улицу Томастона и заказал в закусочной кока-колу и пончик, молча указав на желаемое. Парочка за ближайшим столиком уставилась на него, затем отвернулась, когда он поймал их взгляд. Манера поведения отдаляла Сайруса от людей ничуть не меньше, чем черный пакет для мусора у его ног. Он быстро поел и попил, потому что даже простая кока-кола казалась вкуснее вне стен тюрьмы, затем подал знак, чтобы ему налили еще, и подождал, пока закусочная опустеет. В данный момент он был в закусочной один, не считая женщины за стойкой, которая временами бросала озабоченные взгляды в его сторону.
Вскоре после полудня вошел мужчина и устроился за соседним с Сайрусом столиком. Он заказал кофе, прочел свою газету, затем ушел, оставив газету на столе. Сайрус взял ее и сделал вид, что читает первую страницу, затем опустил ее на свой столик. Конверт, спрятанный внутри, скользнул в его руку с легким тихим звяканьем и оттуда перекочевал в карман его куртки. Сайрус оставил четыре доллара за еду на столе и затем быстро вышел из закусочной.
Машина была двухлетней давности, «ниссан». В бардачке лежали карта, клочок бумаги с двумя адресами и телефонным номером, написанным сверху. Там был второй конверт, в котором оказались 1000 долларов старыми банкнотами и набор ключей для трейлера, стоящего в парке около Вестбрука. Сайрус запомнил адреса и номер телефона, затем уничтожил бумагу, свернув ее в комок и бросив в канаву, как ему было велено сделать.
Наконец он откинулся в кресле и стал шарить под пассажирским сидением. Он не обратил внимания на пистолет, который там лежал, а продолжал ощупывать найденный сверток пальцами один раз и два, пока не поднес их к носу и не принюхался.
Чистый, подумал он. Красивый и чистый.
Затем он развернул машину и направился на юг, как раз, когда голос настиг его.
— Ты счастлив, Сайрус?
— Счастлив, Леонард. Очень счастлив.
Глава 14
Я смотрелся на себя в зеркало.
Мои глаза были налиты кровью, на шее — красная сыпь. Я чувствовал себя так, будто пил всю ночь напролет: из-за нарушения координации движений я постоянно врезался в мебель. Меня все еще лихорадило, и кожа была липкой на ощупь. Я хотел заползти обратно в кровать и натянуть одеяло на голову, но не мог позволить себе такой роскоши. Вместо этого приготовил себе кофе и принялся смотреть новости. Когда начался утренний сериал, я опустил голову на руки и позволил своему кофе совсем остыть. Прошло довольно много времени, пока я почувствовал себя в состоянии позвонить по телефону.
По словам Рэнди Бурриса из Управления тюрьмами и исправительными заведениями Южной Каролины, исправительная колония округа Ричленд была одним из тех заведений, где приняли схему, согласно которой выпущенные на свободу заключенные исполняли молитвенные гимны за тех, кто все еще находился в тюрьме. Программа называлась ПиО (Прощение и обновление) и проводилась в Чарлстоне. Это был тот же самый правительственный проект, что и ИВБП (Истинное выздоровление с Божьей помощью), призванный оказать помощь заключенным на севере штата. Бывшие заключенные должны были убедить остальных в будущем не нарушать закон. В Южной Каролине около 30 процентов из десяти тысяч заключенных, выпускаемых на свободу ежегодно, попадают за решетку в течение последующих трех лет, так что в интересах штата оказать поддержку министерству любыми средствами, которые у них имеются. Человек по имени Терезий — известно только это его имя — был привлечен к работе в ПиО, и, по словам одного из администраторов, женщины по имени Ирен Йакаитис, он единственный из членов общества, который был избран министерством для миссии в Рич-ленде. Охранник в Ричмонде рассказал мне, что Терезий провел немало времени в тюрьме, консультируя Атиса Джонса. Теперь он проживал в доме гостиничного типа за Кинг-стрит, вплотную к «Ва Ча Лайк» — магазину духовной литературы и музыки. До этого Терезий жил в одном из городских благотворительных приютов и подыскивал себе работу. Дом находился в пяти минутах езды от моего отеля.
Когда я выехал на Кинг-стрит, она оказалась забита туристическими автобусами; кучка гидов старалась перекричать шум проезжающего автотранспорта. Кинг-стрит всегда была торговым центром Чарлстона. Ниже площади Чарлстона располагались миленькие магазинчики, предназначенные в большинстве своем для приезжих. Но, если вы направитесь на север, вы, вероятно заметите, что магазины становятся более практичными, рестораны — менее домашними и уютными. Здесь попадается все больше черных лиц и сорняков по обочинам. Я проехал «Ва Ча Лайк» и мастерскую по ремонту телевизоров и продаже музыкальных записей «Честный Джон». Трое молодых белых людей в серой униформе, кадеты из Цитадели, молча шагали по тротуару. Само их существование напоминало о прошлом города, потому что Цитадель обязана своим происхождением неудачному восстанию рабов из голландского поселения Весей и уверенности горожан в том, что хорошо оснащенный арсенал необходим для защиты от возможных в будущем восстаний. Я остановился, чтобы позволить кадетам пересечь улицу, затем свернул налево и припарковался напротив баптистской церкви на Моррис-стрит. Старик-негр следил за мной, сидя на ступеньках, ведущих к боковому входу в дом Терезия, и поедая что-то похожее на арахис из коричневого бумажного пакетика. Он протянул мне свой пакет, когда я приблизился к ступенькам.
— Хотите земляных орешков?
— Нет, спасибо.
— У вас что, аллергия?
— Нет.
— Вы следите за своим весом?
— Нет.
— Ну тогда, черт возьми, угощайтесь!
Я сделал то, что мне велели, хотя и не очень люблю арахис. Орехи были настолько горячими, что мне пришлось выпятить губы и втянуть в себя воздух, чтобы остудить их уже во рту.
— Горячие, — сказал я.
— А вы чего ждали? Я вас предупреждал, что это настоящие орешки.
Он уставился на меня, как на тупого. Наверно, он был прав.
— Мне нужен человек по имени Терезий.
— Его нет дома.
— Вы не знаете, где мне найти его?
— А зачем он вам нужен?
Я показал ему свое удостоверение.
— Далековато вас занесло, — сказал он, — очень далеко.
Он все еще не сказал мне, где я мог бы найти Терезия.
— Я не собираюсь причинять ему никакого зла и не хочу создавать ему проблемы. Он помог молодому человеку, моему клиенту. Что бы Терезий ни рассказал мне, это может помочь парню избежать смерти.
Старик некоторое время рассматривал меня снизу вверх. У него не было зубов, и, когда он давил арахис во рту, губы его издавали влажный шипящий звук.
— Да уж, вопрос жизни и смерти — это довольно серьезно, — сказал он с легкой насмешкой. Он был, возможно, прав, поддразнивая меня, как бы дергая за веревочку. Мои слова действительно звучали как реплики персонажа мыльной оперы.
— Это звучит слишком драматично?
— Ну, в общем, чересчур пафосно, — кивнул он.
— Как бы то ни было, дело обстоит именно так. Мне нужно поговорить с Терезием.
В этот момент скорлупка арахиса достаточно размякла, чтобы он мог вытащить из нее орех. Старик аккуратно выплюнул шкурку себе в руку.
— Терезий работает в центре города в одном из баров с девицами около Митинг-стрит, — сказал он с усмешкой, — так что его не раздевайте.
— Звучит обнадеживающе.
— Он там убирает, — продолжал старик, — смывает сперму с пола.
Старик издал кудахтающий смешок и шлепнул себя по бедрам, а затем сказал мне название клуба — «Лэп-Ленд». Я поблагодарил его.
— Я не настаиваю, но вы все еще можете высосать этот орешек, — сказал он, когда я готов был с ним проститься.
— Если честно, я не очень люблю арахис, — признался я.
— Я знал это, — сказал он, — я всего лишь хотел убедиться, что вы достаточно хорошо воспитаны, чтобы принять то, что вам предлагают.
Я тоже выплюнул арахис себе в ладонь и швырнул его в ближайшую урну, а потом оставил старика смеяться одного.
Городское спортивное общество Чарлстона закончило свои празднования в тот день, когда я появился в городе. В минувшие выходные закончился турнир Южной Каролины, в котором команда штата Нью-Мексико была побеждена с разгромным счетом 31:0 на глазах у почти восьмидесяти одной тысячи болельщиков, жаждавших победы. У них не было повода выпить более двух лет, с тех пор как «Боевые петухи» выиграли Кубок штата со счетом 38:20. Даже защитник Фил Петти, который весь прошлый сезон выглядел так, будто он в состоянии разве что вести группу стариков в хороводе, сделал два хороших броска и пробежал десять из восемнадцати ярдов. В те несколько дней сомнительные развлекательные заведения и стрип-клубы на Питсбург-авеню, вероятно, чуть не закончили свои дни под наплывом болельщиков. Один из клубов предлагал мытье машины обнаженной стриптизершей (вот здорово — практично и смешно!), в то время как другие разыгрывали пьесу «Только для vip-персон», запрещая входить всем, кто одет в джинсы или дешевые брюки. Впрочем, непохоже, чтобы в «Лэп-Ленде» были в чести такие строгости. Парковка возле клуба сверкала лужами, вокруг них сгрудилась дюжина машин, которые как будто сговаривались о том, как лучше пристроиться здесь, чтобы не потерять колесо в грязи. Клуб представлял собой одноэтажное бетонное здание, раскрашенное во все оттенки синего цвета, с черной стальной дверью посередине. Изнутри слышалась приглушенная песня Бахмана-Тернера из альбома «Измождение». Да уж, «Ты пока ничего не видишь» в стрип-клубе может свидетельствовать только о том, что у заведения большие трудности. В любом случае мне предстоит проверить, так ли безобразно это заведение, как представляется на первый взгляд, или еще безобразнее.
Внутри было темно, как в душе жертвователя на нужды Республиканской партии, не считая тонкой полосы розового света над стойкой бара и мигающих лампочек, которые украшали небольшую сцену в центре зала, где девушка бальзаковского возраста с цыплячьими ногами и целлюлитной коркой на бедрах пыталась раскачивать тем местом, на котором положено быть груди, перед дюжиной восторженных пьяниц. Один из них засунул долларовую банкноту в чулок «красотки», а затем воспользовался возможностью просунуть руку у нее между ног. Девушка отошла от него, но никто даже не попытался выставить нахала за дверь или дать ему подзатыльник за то, что он дотронулся до танцовщицы. «Лэп-Ленд» явно одобрял более тесные, чем принято, контакты между заказчиком и артистами.
Возле бара сидели две женщины, одетые в кружевные лифчики и трусики-стринг. Они потягивали минералку через трубочки. Пока я пытался избежать столкновения со столиками в полутьме, старшая из двоих, чернокожая гурия с большим бюстом и длинными ногами, направилась в мою сторону.
— Я Лорелея. Могу предложить тебе что-нибудь, мой сладкий?
— Минералка подойдет. И что-нибудь для тебя. Я вручил ей десять долларов и она удалилась, покачивая бедрами.
— Я сейчас вернусь, — обнадежила меня гурия.
Подтверждая свои слова, она материализовалась передо мной спустя минуту с теплой минеральной водой, своей собственной выпивкой и без сдачи.
— Дорогое местечко, правда? — сказал я. — Кто бы мог подумать!
Лорелея перегнулась через столик, положила руку мне на бедро с внутренней стороны и начала перебирать пальцами так, что тыльная сторона ее руки постоянно оказывалась у моей промежности.
— Ты получишь то, за что заплатил, — пообещала она, — а потом кое-что еще.
— Я ищу кое-кого, — сказал я.
— Мой сладкий, ты ее нашел, — с придыханием сказала она, и это прозвучало почти сексуально, в соответствии с суммой, которую я заплатил, — рай за десять баксов. Похоже, «Лэп-Ленд» заигрывает с проституцией и не гнушается ее. Она прижалась ко мне, позволяя разглядеть свой бюст повнимательнее, если мне захочется. Как стойкий бойскаут, я посмотрел в сторону и начал пересчитывать бутылки дешевых, разведенных водой спиртных напитков в баре.
— Ты не смотришь шоу? — спросила гурия.
— У меня повышенное давление. Врач не советует мне перевозбуждаться.
Она улыбнулась и провела ногтем по моей руке. На ней остался белый след. Я бросил взгляд на сцену и увидел танцовщицу в таком ракурсе, который даже гинеколога привел бы в состояние шока. Слегка обалдев, я не сразу отвел взгляд.
— Она тебе нравится? — промурлыкала Лорелея, указывая на танцовщицу.
— Выглядит очень веселой, — выдавил я.
— Я тоже могу быть очень веселой. Ты ищешь развлечений, сладенький?
Тыльная сторона ее ладони плотнее прижалась ко мне. Я кашлянул и решительно отвел ее руку. Пора было переходить к делу.
— Нет, я просто хороший мальчик.
— Здорово, а я — плохая.
Это становилось однообразным. Лорелея казалась механизмом с перекрученной заводной пружиной.
— Я действительно не самый веселый парень, — объяснил я ей, — если ты улавливаешь мою мысль.
Казалось, пара прозрачных шор опустилась на ее глаза. Теперь в них отражались не только низменные уловки женщины, идущей на любые хитрости в умирающем стрип-клубе; в них светились ум и живость. Мне стало интересно, как ей удается держать две половины своей натуры отдельно друг от друга так, что ни одна из них не просочилась на территорию другой и не уничтожила ее.
— Улавливаю. Ты кто? Ты не полицейский. Может тот, кто сводит счеты, а может быть... сборщик долгов. У тебя взгляд кого-то такого. Уж я-то знаю, я много их повидала.
— А что это за взгляд?
— Взгляд, который говорит, что ты несешь дурные новости для бедных ребят, — она замолчала и взглянула на меня иначе.
— Нет, со второго взгляда ты сам и есть дурная новость для любого, мне так кажется.
— Я же сказал, мне нужен кое-кто.
— А пошел ты!
— Я — частный детектив.
— Ой-ей-ей! Гляньте на этого злого дяденьку! Я не смогу помочь тебе, сладенький.
Она собралась уйти, но я мягко сжал ее запястье и положил еще две бумажки по десять долларов на стол. Она остановилась и кивнула бармену, который заподозрил что-то неладное и направился к охраннику у дверей, чтобы предупредить его. Парень вернулся к протиранию стаканов, но продолжал постоянно смотреть в сторону нашего столика.
— Вот это да, два гривенника, — протянула Лорелея. — Я смогу купить себе совершенно новый костюм.
— Даже два, если предпочитаешь такие, какой на тебе сейчас.
Я сказал это безо всякого сарказма, и усмешка пробила ледяное выражение ее лица. Я показал ей свое удостоверение. Она подняла его и тщательно изучила перед тем, как бросить его обратно на стол.
— Мэн. Похоже, что у тебя действительно дело. Поздравляю.
Она протянула руку к деньгам, но моя рука была быстрее.
— Ага! Сначала поговорим, а уж потом денежки.
Она бросила взгляд в сторону бара, затем неохотно опустилась на стул. Ее глаза буравили дырку в тыльной стороне моей ладони, под которой лежали банкноты.
— Я здесь не за тем, чтобы создавать проблемы. Я всего лишь хочу задать несколько вопросов. Мне нужен человек по имени Терезий. Ты не знаешь, он здесь?
— Зачем он тебе?
— Он помог моему клиенту. Я хочу поблагодарить его.
Она засмеялась.
— Ну да, конечно. Ты принес награду? Можешь вручить ее мне — я передам. Не пудри мне мозги, мистер! Я, может, и сижу здесь с голыми сиськами, но не надо считать меня полной дурой.
Я откинулся на спинку стула.
— Я не считаю тебя дурой, а Терезий действительно помог моему клиенту. Он говорил с ним в тюрьме. Я всего лишь хотел узнать, почему.
— Он нашел Бога, вот почему. Он даже пытался наставить на путь истинный некоторых мужиков, которые ходят сюда, пока Малютка Энди не пообещал расшибить ему голову.
— Малютка Энди?
— Он хозяин этого места.
Она сделала жест рукой так, будто хватает кого-то сзади за волосы.
— Ты понял меня?
— Понял.
— Хочешь устроить мужику еще больше неприятностей? Он уже расплатился за содеянное. Может, хватит?
— Нет проблем. Я только хочу поговорить.
— Тогда дай мне двадцать, выйди отсюда и подожди снаружи. Он выйдет довольно скоро.
На какой-то момент я поймал ее взгляд и попытался вычислить, врет она или нет. Я не был уверен, но все равно снял ладонь с бумажек. Она сгребла их, запихнула в лифчик и ушла. Я видел, как она обменялась несколькими словами с барменом. Затем прошла в дверь с надписью «Только для персонала». Я знал, что за ней: грязная раздевалка, ванная со сломанным замком и пара комнат со стульями, немного презервативов и коробка бумажных салфеток. Может быть, в конце концов, она не так умна.
Танцовщица на сцене закончила свой номер, затем собрала разбросанное по сцене нижнее белье и направилась к бару. Бармен объявил следующую танцовщицу, и место на сцене заняла маленькая темноволосая девушка с землистым цветом лица. Она выглядела лет на шестнадцать. Один из пьянчуг что-то одобрительно промычал, когда девица начала ломаться под какой-то хит Бритни Спирс.
На улице начинался дождь, капли искажали формы машин, цвет неба отражался в лужах на земле. Я прошел вдоль стены туда, где стояли баки, наполовину заполненные мусором, рядом с пустыми бочонками из-под пива и штабелями ящиков с пустыми бутылками. Я обернулся на звук шагов позади, чтобы увидеть здоровенного детину. Это был точно не Терезий — парень под два метра ростом с телосложением вышибалы или уличного бойца, с большой бритой головой и маленькими глазками. Ему было, наверно, около тридцати. Простое золотое колечко блестело в левом ухе, а на одном из толстых пальцев плотно сидело обручальное кольцо. Все остальное было скрыто под мешковатой голубой майкой и серыми тренировочными брюками.
— Кто бы ты ни был, у тебя десять секунд, чтобы убраться с моей территории к едрене-фене, — объявил он.
Я кивнул. Начинался дождь, и у меня не было ни зонта, ни плаща. Я стоял на парковке перед третьесортным заведением со стриптизом и выслушивал угрозы человека, избивающего женщин. В таких условиях оставалось только одно.
— Энди, — сказал я, — ты меня не помнишь?
Его брови от удивления полезли вверх. Я сделал один шаг вперед, держа руки на виду, и со всей силы врезал ему ногой в пах. Он не издал ни звука, если не считать сотрясение воздуха телом, рухнувшим на землю. Голова Энди коснулась земли, и его начало рвать.
— Теперь ты меня не забудешь.
Сзади за пояс у него был заткнут пистолет — новенькая стальная «беретта». Она выглядела так, будто ею никогда не пользовались. Я бросил ее в мусорный бак и помог Малютке Энди подняться на ноги, прислонив его спиной к стене. По бритой голове громилы стекали капли дождя, а брюки были мокрыми и грязными. Немного придя в себя, он уперся руками в колени и уставился на меня.
— Хочешь попробовать еще раз? — прошептал он.
— Нет, — ответил я, — это срабатывает только с первого дубля.
— А что ты делаешь на бис?
Я вытащил внушительного вида «смит-вессон» из кобуры и дал малютке Энди вдоволь полюбоваться на него.
— Бис. Finita la comedia.
— Ты, типа, большой дядя с пушкой?
— Вот именно. Посмотри на меня, сынок.
Он попытался выпрямиться, потому что ему казалось, что так будет лучше, но уронил голову вниз.
— Послушай, — сказал я, — не создавай лишних трудностей. Я поговорю и уберусь отсюда. И на этом все.
Он задумался.
— Терезий? — было похоже, что Энди трудно говорить. Я даже засомневался, не слишком ли сильно его ударил.
— Терезий, — подтвердил я.
— Это все?
— Угу.
— Потом ты уйдешь и никогда не вернешься?
— Возможно.
Энди, пошатываясь, отошел от стены и направился к задней двери. Он открыл дверь — звук музыки сразу же усилился. И, когда он уже готов был исчезнуть внутри, я остановил его, свистнув, и показал пистолет:
— Только позови его, а потом можешь погулять, — я указал в ту сторону, где за полосой зеленой травы и складов виднелся Питсбург. — Вот там.
— Дождь идет.
— Он кончится.
Малютка Энди покачал головой, потом крикнул в темноту:
— Терезий, двигай свою задницу сюда!
Он держался за дверь, когда тощий мужчина появился на ступеньке рядом. У него были черные негроидные волосы и темно-оливковое лицо. Было практически невозможно определить его расовую принадлежность, но причудливая комбинация черт выделяла его из толпы как представителя странных этнических групп, распространенных на Юге. «Брасс анкл», или аппалачские мелунджионы, — группы «свободных цветных людей» со смесью черной, британской, индейской, португальской и даже турецкой крови, которые, по общему мнению, еще больше усложняли этническую картину этих мест. Белая футболка плотно обтягивала мышцы на его руках и рельефные очертания мышц груди. Ему было не меньше пятидесяти, и он был выше меня, но нисколько не сутулился — никаких признаков слабости или немощи, если не считать тонированных очков, которые он носил. Подвернутые почти до колен штанины его джинсов обнажали ноги, обутые в пластиковые сандалии. В руках у Терезия была швабра, и за несколько метров чувствовалась вонь от нее. Даже Малютка Энди отступил на шаг.
— Опять гребаный туалет?
Терезий кивнул, перевел взгляд с Энди на меня, а потом опять на Энди.
— Этот человек хочет поговорить с тобой. Давай, не очень долго.
Я отошел в сторону, когда Энди медленно прошел мимо меня и направился к дороге. Он вытащил пачку сигарет из кармана и прикурил одну, с опаской оглядываясь назад и прикрывая огонек ладонью, чтобы защитить от дождя.
Терезий спустился со ступенек на залитый асфальтом дворик. Он выглядел спокойным и отрешенным.
— Меня зовут Чарли Паркер, — сказал я. — Я частный детектив.
Я протянул руку, но он не пожал ее, указав на швабру, чтобы объяснить свое поведение.
— Вряд ли вам хочется пожать мне руку сейчас, сэр.
— Где вы отбывали срок? — спросил я, указав рукой на его ноги.
Вокруг лодыжек этого человека были следы, ссадины, опоясывающие их так, будто кожа на этих местах когда-то была срезана. Я знал, что это за отметины, — только кандалы могли оставить их.
— Лаймстоун, — сказал он тихо.
— Алабама. Плохое место для отсидки.
Рон Джоунс, комиссар Алабамы по исправительным заведениям, ввел кандалы в практику в 1996 году: пять дней в неделю по десять часов с киркой на добыче известняка при пятидесятиградусной жаре; ночи, проведенные еще с четырьмя сотнями других заключенных в бараке, — переполненном загоне для скота, рассчитанном на двести человек. Первое, что должен был сделать всякий заключенный, прикованный к общей цепи, — это вынуть из ботинок шнурки и обвязать их вокруг кандалов, чтобы металл не врезался в кожу. Но кто-то стащил у Терезия шнурки и прятал их так долго, что этого времени хватило, чтобы следы на его ногах остались на всю жизнь.
— Почему они забрали у тебя шнурки?
Он посмотрел вниз на свои ноги.
— Я отказывался работать в бригаде. Я был заключенным и должен был делать работу заключенного, но не собирался быть рабом. Они приковывали меня к колышку с пяти утра до заката на жаре. Им приходилось тащить меня назад в барак №16. Я продержался пять дней. После этого не мог больше терпеть. Чтобы напомнить мне о том, что я сделал, охранник забрал у меня шнурки. Это было в девяносто шестом. А несколько недель назад я досрочно освободился. Я давно не ношу кандалов, но следы на ногах остались.
Он говорил по существу, не вдаваясь в детали, и при этом постоянно крутил в руках свой крест. Это была копия того, который он подарил Атису Джонсу. Интересно, есть ли в его кресте клинок, как у Атиса?
— Я работаю на адвоката Эллиота Нортона. Он представляет интересы молодого человека, с которым вы встречались в Ричленде, — Атиса Джонса.
При упоминании Атиса Терезий стал смотреть на меня иначе. Это напомнило мне женщину в клубе в тот момент, когда ей стало понятно, что я не собираюсь платить за ее услуги. Было понятно, что здесь я ничего не узнаю, даже не начиная расспросы.
— Вы знаете Эллиота Нортона? — спросил я.
— Я знаю о нем. Вы ведь не отсюда?
— Нет, я приехал из Мэна.
— Далеко. И как же вам удалось добраться прямо сюда?
— Эллиот Нортон — мой друг, и он не хочет, чтобы кто-нибудь посторонний влезал в это дело.
— Вы знаете, где находится парень?
— Он в безопасности.
— Нет, это не так.
— Вы подарили ему крест, такой же, как носите сами.
— Надо верить в Бога. Бог защитит вас.
— Я видел этот крест. Похоже, вы решили помогать Богу в одиночку.
— Тюрьма — опасное место для молодого человека.
— Вот почему мы вытащили его оттуда.
— Вам надо было оставить его там.
— В тюрьме мы не можем защитить его.
— Вы нигде не сможете защитить его.
— И что вы предлагаете?
— Отдайте его мне.
Я отфутболил ногой камешек и проследил, как он шлепнулся в лужу. Я видел свое отражение, искаженное дождем, который полил еще сильнее, и через мгновение я исчез в темной воде, а кусочки моего отражения все еще дрожали в дальнем конце лужи.
— Не думаю, что вы ожидаете положительного ответа, но мне бы хотелось знать, почему вы ходили в Ричленд. Вы ведь, ходили туда, исключительно чтобы встретиться с Атисом Джонсом?
— Я знал его маму и ее сестру. Я жил по соседству с ними, вниз по Конгари.
— Они исчезли.
— Да.
— Вы знаете, что с ними произошло?
Терезий не ответил. Вместо этого он разжал пальцы на кресте и подошел ко мне ближе. Я не стал отступать назад: мне ничто не угрожало со стороны этого человека.
— Вы задаете вопросы о живых, не так ли, сэр?
— Надеюсь.
— Какие вопросы вы задавали мистеру Нортону?
Я ждал. Обнаружилось что-то, чего я не понимал, какой-то провал в моих знаниях, который Терезий пытался заполнить.
— А какие вопросы мне надо было задать?
— Вам надо было спросить, что произошло с мамой и тетей мальчика.
— Они пропали. Эллиот показал мне вырезки из газет.
— Возможно.
— Вы думаете, они умерли?
— Вы начали не с того конца, сэр. Может быть, они умерли, но не исчезли.
— То есть?
— Может быть, они умерли, — повторил он, — но они не ушли с Конгари.
Я покачал головой. Уже второй раз за сутки кто-то рассказывает мне о привидениях на Конгари. Но привидения не берут в руки камни и не используют их, чтобы разбить голову молодой женщине.
Дождь вокруг нас прекратился, стало прохладнее. Слева я увидел, как Малютка Энди приближается к нам со стороны дороги. Он взглянул на меня, пожал плечами, затем закурил другую сигарету и направился обратно — туда, откуда пришел.
— Вы знаете о Белой дороге, сэр?
Я отвлекся на Энди, и теперь оказалось, что Терезий стоит прямо передо мной, лицом к лицу. Я чувствовал запах корицы в его дыхании. Инстинктивно я отодвинулся от него.
— Нет. А что это?
Он еще раз взглянул на свои ноги и шрамы на лодыжках.
— На пятый день, — сказал он, — после того, как они привязали меня к колышку, я увидел Белую дорогу. Асфальтовое шоссе заискрилось, и вдруг будто кто-то вывернул мир наизнанку. Черное стало белым, белое — черным. И я увидел перед собой Дорогу, и работающих людей, разбивающих камни, и охранников, сплевывающих изжеванные табачные листья в грязь.
Он теперь говорил как проповедник, читающий Ветхий Завет, его мысли были заполнены образами того, что он видел когда-то, будучи в состоянии близком к помешательству от палящих лучей солнца, с телом, привязанным к столбу веревками, врезающимися в его плоть.
— Но я видел и другое. Я видел фигуры, которые двигались между ними, — женщины и дети, старые и молодые, мужчины с петлями на шее и следами от пуль на теле. Я видел солдат, ночных всадников, женщин в очень-очень красивых платьях. Я видел их всех, сэр, живых и мертвых, вместе, плечом к плечу идущих по Белой дороге. Мы думаем, что они ушли, но они ждут. Они рядом с нами все время, и они не остановятся, пока не свершится справедливость. Вот это и есть Белая дорога, сэр. Это место, где правосудие свершилось, где мертвые и живые идут рядом.
С этими словами он снял свои темные очки, и я заметил, что его глаза изменились, возможно, из-за солнечного света: ярко-голубая радужка потускнела, покрылась белой сетью, как будто паук набросил на них свою сеть.
— Вы еще не знаете этого, — прошептал он, — но вы уже вступили на Белую дорогу, и вам лучше не сходить с нее, потому что то, что ждет в кустах по обочинам Дороги, намного хуже всего, что вы можете себе вообразить.
Это не давало мне никакой зацепки. Я хотел знать больше о сестрах Джонс и о причинах, почему Терезий обратился к Атису, но, по крайней мере, Терезий говорил со мной.
— А вы и их видели, этих тварей в кустах?
Казалось, он некоторое время изучал меня. Я думал, что он пытается понять, не смеюсь ли я над ним, но я ошибался.
— Я видел их, — сказал он, — они были как темные ангелы.
Больше он мне ничего не рассказал, по крайней мере, ничего полезного. Он знал семью Джонс, видел, как подрастали их дети, как Эдди забеременела в шестнадцать лет от бродяги, который спал с ее матерью и стал отцом Атиса. Имя этого бродяги было Дэвис Смут. Друзья прозвали его Сапогом за то, что он любил носить ковбойские сапоги. Но все это я уже знал, потому что Рэнди Буррис рассказал мне об этом, как рассказал и о том, что Терезий отсидел почти двадцать лет в Лаймстоуне за убийство Дэвиса Смута в баре в Гадсдене.
Крошка Энди возвращался, и на сей раз у него был такой вид, будто он не собирался совершать еще одну прогулку. Терезий поднял свои ведро и швабру, чтобы вернуться к работе.
— Почему вы убили Дэвиса Смута, Терезий?
Мне было интересно, появится ли на его лице выражение раскаяния, и услышу ли я покаянную речь, что он больше не тот человек, который отнимает жизнь у другого. Но он не сделал попытки объяснить свое преступление ошибками прошлого.
— Я просил его о помощи. Он отказал. Мы начали ругаться, и он вытащил нож. Потом я убил его.
— О какой помощи вы его просили?
Терезий поднял руку и помахал ею из стороны в сторону, отказываясь отвечать.
— Это осталось между нами и Богом. Спросите мистера Нортона, и, возможно, он будет в состоянии ответить вам, почему я стал разыскивать старого Сапога.
— Вы рассказали Атису, что убили его отца?
Он покачал головой:
— Нет, зачем мне делать такие глупости?
С этими словами он вернул очки на переносицу, пряча свои странные глаза, и оставил меня стоять под дождем.
Глава 15
Я позвонил Эллиоту из своего номера в тот же день. Его голос звучал устало. Должно быть, в этот момент он не испытывал ко мне горячей симпатии.
— Плохи дела на работе?
— У меня юридическая хандра. А у тебя?
— Просто плохой день.
Я не стал упоминать о Терезии в разговоре с Эллиотом в основном потому, что до сих пор не узнал от него ничего полезного, но я получил показания еще двоих свидетелей, после того как покинул «Лэп-Ленд». Один из них был вторым двоюродным братом Атиса Джонса, «богобоязненным» мужчиной, который не одобрял стиль жизни Атиса, его пропавших матери и тети, но при этом очень любил ошиваться вокруг дешевых притонов, уж конечно не затем, чтобы обсудить с гостеприимными девицами последнюю воскресную проповедь в местной церкви. Его сосед сказал мне, что он, скорее всего, в «Болотной крысе», там я его и разыскал. Он вспомнил, как Атис и Марианна Ларуз уходили, а он все еще оставался в баре, «усердно молясь за всех грешников», когда Атис вернулся с кровью и грязью на руках и лице.
«Болотная крыса» стоит в конце Цедар Крик-роуд, у самой границы Конгари. Здесь особенно не на что посмотреть ни внутри, ни снаружи — раздражающее взгляд сооружение из шлакоблоков и рифленого железа. Но в заведении хороший музыкальный автомат. Это тот сорт заведений, в который богатенькие детки отправляются, чтобы слегка позаигрывать с опасностью. Я прошел мимо деревьев, окружающих «Болотную крысу», и обнаружил небольшой участок, где погибла Марианна Ларуз. Ветер все еще трепал ленты, обозначающие место преступления, но больше не было ничего подтверждавшего, что здесь произошло страшное преступление. Я слышал журчание ручья Цедар Крик, протекавшего неподалеку. Я прошел вдоль него на запад, а затем направился назад, на север, надеясь найти тропинку, ведущую обратно к бару. Вместо этого я оказался у проржавевшей изгороди, на которой через равные промежутки были прикреплены таблички «Частная собственность», сообщающие, что эта земля принадлежит горнодобывающей компании «Ларуз Инкорпорейтед». Этот сектор прибрежной равнины был усыпан обломками известняка; в таких местах кислые подземные воды пробиваются сквозь известняк, вступают с ним в реакцию и растворяют его. В результате образуется что-то вроде карстового ландшафта, который я наблюдал сквозь дыры в заборе, с маленькими пещерками, отверстиями, канавками, пробитыми подземными водами.
Я пошел вдоль забора, но не нашел никакого лаза. Снова начался дождь, и до бара я добрался изрядно вымокшим. Бармен знал совсем немного о земле Ларуза, кроме того, что когда-то это были разработки месторождения известняка, которые прикрыли, едва начав. Правительство торговалось с Ларузом о продаже участка, чтобы увеличить территорию Национального парка, но дело не продвинулось дальше обсуждения.
Еще одним свидетелем была некая Эуна Шилега, которая играла на бильярде в пул, когда Атис и Марианна вошли в бар. Она вспомнила расистские нападки на Атиса и назвала время, когда парень с девушкой пришли и ушли. Миссис Шилега знала это точно, поскольку мужчина, гонявший с нею шары на бильярде, был человеком, с которым она встречалась за спиной своего мужа («Вы понимаете, что я имею в виду»). Женщина постоянно следила за временем, чтобы вернуться домой раньше, чем ее муж закончит вечернюю смену. У Эуны были длинные каштановые волосы, выкрашенные в цвет клубничного варенья, и небольшой слой жирка, выпирающий над поясом потертых джинсов. Она уже простилась со своими сорока годами, но в душе чувствовала себя лет на двадцать моложе и вдвое более привлекательной.
Эуна работала на полставки официанткой в баре около Хоррел-Хилл. Там мы и встретились. Парочка военных из Форт-Джэксона сидела в углу, посасывая пиво и потея от послеполуденного зноя. Они сидели, тесно прижавшись к кондиционеру, но тот был почти такого же возраста, как Эуна. Вояки чувствовали бы себя лучше, если бы дули друг на друга воздухом с горлышек своих холодных бутылок.
Эуна была одним из самых полезных свидетелей, по сравнению с теми, кого я опрашивал раньше: она старалась помочь. Может быть, ей просто было скучно, а я представлял собой некоторое развлечение. Я не знал ее и не думал, что мне это нужно, но предполагал, что ее бильярдист был просто способом развлечься, как и я в данный момент. В Эуне чувствовалось какое-то беспокойство, своего рода жажда, подстегиваемая чувством разочарования и неудовлетворенностью. Это проявлялось о том, как она держалась, когда говорила, в том, как ее глаза лениво блуждали по моему лицу и телу, как будто она прикидывала, какую часть можно использовать, а какую отбросить за ненадобностью.
— Вы встречали Марианну Ларуз раньше? — спросил я ее.
— Пару раз. Да и здесь я ее видела тоже. Она была богатенькая девочка, но ей нравилось иногда спускаться в трущобы.
— С кем она была?
— С другими богатенькими девочками. Иногда с богатенькими мальчиками.
Она слегка вздрогнула. Это могло быть проявлением и неприязни и чего-то гораздо более приятного.
— Вы бы взглянули на их руки! Покупая пиво, эти мальчики думают, что нехилые чаевые дают им определенные права... Вы меня понимаете?
— Я так понимаю, что не дают.
В ее глазах опять вспыхнул голодный блеск, затем взгляд заволокло воспоминаниями об удовлетворенном желании. Она глубоко затянулась и выпустила струйку дыма.
— Не всегда...
— Вы видели ее когда-нибудь с Атисом Джонсом до этого вечера?
— Один раз, но не здесь. Это было опять же в «Болотной крысе». Как вы понимаете, я там иногда бываю.
— Как они выглядели, на ваш взгляд?
— Они не касались друг друга и не делали ничего такого, но я точно могу сказать, что они были вместе. По-моему, и другие ребята это заметили.
Она сделала паузу, и последние слова повисли в воздухе.
— Были какие-то проблемы?
— Не тогда. На следующий вечер она снова была здесь, и брат пришел разыскивать ее. — Она опять вздрогнула, но на сей раз ее чувства были очевидны.
— Он вам не нравится?
— Я его не знаю.
— Но?..
Она обвела взглядом помещение вокруг, затем перегнулась через барную стойку, чтобы оказаться ближе ко мне. При этом ее блузка слегка разошлась на груди, продемонстрировав мне все дотоле скрытые прелести, покрытые россыпью веснушек.
— Ларузы дают работу многим ребятам здесь, но это не означает, что мы их любим, а уж Эрла-младшего — меньше всех. В нем есть что-то, как... как будто он извращенец... ну, не извращенец, а... Не поймите меня неправильно, я люблю всех мужчин, даже тех, кому я не нравлюсь, физически и вообще, но не Эрла-младшего. С ним что-то не так.
Она опять затянулась и почти докурила сигарету в три затяжки.
— Итак, Эрл-младший пришел в бар в поисках Марианны?
— Точно. Он схватил ее за руку и попытался вытащить на улицу. Она ударила его, а потом тот, другой парень подошел ближе, и вместе им удалось вытащить ее наружу.
— Вы помните, когда это произошло?
— За неделю до того, как ее убили.
— Вы думаете, они знали о ее отношениях с Атисом Джонсом?
— Ну, другие же ребята знали. Если они знали, то это быстро дошло бы до ее семьи.
Дверь за моей спиной открылась, и вошла группа мужчин с громким шумом и смехом. Начиналась вечерняя горячая смена.
— Мне пора, уважаемый следователь, — сказала Эуна. Она наклонилась, чтобы подписать показания.
— Еще всего один вопрос: вы разглядели человека, который был с младшим Ларузом в ту ночь?
Она на минуту задумалась.
— Конечно. Он был здесь один или два раза до этого. Это просто кусок дерьма. Его зовут Лэндрон Мобли.
Я поблагодарил ее и оставил двадцатку на стойке бара, чтобы заплатить за свой апельсиновый сок и ее время. Она проводила меня своей лучшей улыбкой.
— Не поймите меня превратно, — заметила Эуна когда я встал, чтобы уйти, — но парень, которому вы пытаетесь помочь, заслуживает того, к чему пришел.
— Многие люди думают так же.
Она выдохнула ровную струю дыма в воздух, слегка оттопырив нижнюю губу. Губа была немного припухшей, как если бы по ней недавно ударили. Дым рассеялся. Я смотрел, как он тает.
— Он изнасиловал и убил эту девушку, — продолжала Эуна. — Я знаю, вам надо делать свою работу, задавать вопросы и все такое, но надеюсь, что вы не найдете ничего, что позволит этому парню выйти сухим из воды.
— Даже если я узнаю, что он невиновен?
Она подняла свой бюст со стойки бара и загасила сигарету в пепельнице.
— Уважаемый, невиновных в этом мире нет, если не считать младенцев, но иногда я не уверена даже в них.
Все это я пересказал Эллиоту по телефону, добавив:
— Может быть, тебе следует поговорить с твоим клиентом Мобли, когда ты разыщешь его. Попытай, что он знает.
— Если я разыщу его.
— Ты думаешь, он удрал?
Последовала пауза.
— Я надеюсь, что он удрал, — Эллиот продолжал изъясняться намеками, но, когда я попросил его объяснить, что он имеет в виду, Нортон отделался шуткой:
— Я имел в виду, что Лэндрону угрожает большой срок, если дело дойдет до суда. С юридической точки зрения он допрыгался.
Но он имел в виду не то, что сказал.
И это вообще было не тем, что он имел в виду.
Я принял душ, затем поел прямо в номере. Позвонил Рейчел, мы немного поболтали. Мак-Артур держал свое слово и регулярно звонил. «Клан киллеров» оставался вне поля зрения, когда приближалась полиция. Если Рейчел и не простила меня за то, что я приставил к ней такого экзотического телохранителя, то, казалось, она вполне смирилась с его присутствием. Он был чистюля и не оставлял поднятым сиденье в туалете — оба эти момента имели решающий вес в представлении Рейчел о людях. Мак-Артур должен был уехать с Мэри Мэйсон этим вечером, но он обещал, что за Рейчел будут присматривать. Я сказал ей, что люблю ее, а она ответила, что если я люблю ее, то должен привезти ей шоколадных конфет. Иногда Рейчел кажется просто девчонкой.
После того как мы поговорили, я решил проверить, как там Атис. Мне ответила женщина и рассказала так, что я едва понял, что он «будь спок, ваще больше не бесится, подлюга». Проще говоря, она испытывала гораздо меньше сочувствия к положению, в котором оказался Атис, чем ее муж. Я попросил женщину дать трубку Атису. Вскоре я услышал звук шагов, и он ответил.
— Как дела? — спросил я.
— Думаю, о'кей, — он понизил голос. — Старуха просто убивает меня. Она очень суровая.
— Будь с ней приветливым. Тебе больше нечего мне сказать?
— Нет. Я рассказал тебе все, что мог.
— И все, что ты знаешь?
Атис молчал так долго, что я подумал, а не положил ли он трубку. Но тут он заговорил:
— Вы когда-нибудь чувствовали, что вас всю жизнь преследует какая-то тень, что постоянно рядом с вами находится кто-то, кого вы не видите, но вы чувствуете, что он здесь?
Я подумал о своих жене и дочери, об их незримом присутствии в моей жизни, о тенях и фигурах в темноте.
— Думаю, да, — ответил я.
— Женщина похожа на это. Я всю жизнь видел ее и даже не знаю, выдумал я ее или нет, но она здесь. Я знаю, что она здесь, даже если больше никто ее не видит. Вот и все, что я знаю. И не спрашивайте меня больше.
Я сменил тему.
— У тебя была когда-нибудь стычка с Ларузом-младшим?
— Нет, никогда.
— А с Лэндроном Мобли?
— Я слышал, что он искал меня, но не нашел.
— Ты знаешь, почему он тебя разыскивал?
— Чтобы выбить из меня все дерьмо. А зачем еще верный пес младшего Ларуза стал бы искать меня?
— Мобли работал на Ларуза?
— Он не работал на него, но, когда Ларузам и им подобным нужно было, чтобы кто-то сделал за них грязную работу, они шли к Мобли.
— Например?
Я услышал, как он сглотнул.
— Как этот парень, — сказал он. — Парень, у которого на роже написано: «Клан». Боуэн.
* * *
В эту ночь далеко на севере Аарон Фолкнер лежал без сна в своей камере с руками, сцепленными за головой, и слушал ночные звуки тюрьмы: храп, крики во сне, шаги охранников, всхлипывания. Он быстро научился отключаться от этого, заглушать звуки внешнего мира, превращая их в шумовой фон. Он теперь мог уснуть, когда хотел, но в эту ночь его мысли блуждали где-то далеко, ведь накануне был освобожден заключенный по имени Сайрус Найрн. Итак, Фолкнер лежал неподвижно на своей койке и ждал.
— Снимите их с меня! Снимите их с меня!
Тюремный надзиратель Дуайт Энсон проснулся в своей постели, пиная ногами и срывая с себя одеяло. Подушка под его головой была мокрой от пота. Он спрыгнул с кровати и принялся чесать свою голую кожу, пытаясь прогнать существ, которые, как ему казалось, ползали по его груди. Рядом с ним его жена Эйлин проснулась и включила ночник.
— Боже, Дуайт, тебе опять померещилось, — сказала она. — Это всего лишь сон.
Энсон тяжело дышал и пытался унять бешено колотящееся сердце, но все еще продолжал чесаться и смахивать что-то со своих волос и рук. Это был тот же сон, уже вторую ночь подряд: сон о том, как пауки ползают по его коже, кусая его, а он в это время вынужден лежать в грязной ванне посреди леса. Когда пауки кусают его, его кожа начинает гнить, мясо отваливается небольшими комками, оставляя следы в виде серых углублений в плоти. И все это время за ним из тени наблюдает странный, истощенный человек с рыжими волосами и тонкими белыми пальцами. Человек этот мертв, в свете луны Энсон видит его поврежденный череп и кровь на его лице. И все же глаза рыжеволосого оживают и с удовольствием наблюдают за тем, как его питомцы поедают попавшего в ловушку Энсона.
Энсон опускает руки на бедра и мотает головой.
— Ложись, Дуайт, — жена старается быть терпеливой, но он не двигается, и, когда проходит несколько секунд, в ее глазах появляется разочарование. Она отворачивается, притворяясь, что уснула.
Энсон уже почти готов протянуть руку, чтобы коснуться ее, но решает не делать этого. А девушка, которой он хотел бы коснуться, пропала.
Мэри Блэр исчезла по дороге с работы домой в Дейри Кувин за ночь до этого, и с тех пор о ней не было ни слуху ни духу. Некоторое время Энсон был готов к тому, что полиция доберется и до него. Но никто не знал о том, что было между ним и Мэри, или же никто не хотел знать, но всегда существовала возможность, что она выболтает все кому-нибудь из своих мерзких дружков, а, когда дело дойдет до разбирательства, они могут упомянуть его имя. Но пока ничего такого не случилось. Жена Энсона чувствовала его тревогу и знала, что мужа что-то беспокоит, но подробностей выяснять не стала, и это его очень устраивало. И все же он беспокоился о девушке. Он хотел вернуть ее не только ради удовлетворения своих эгоистичных желаний, но и ради нее самой.
Энсон оставил жену лежать неподвижно в постели наедине со своими догадками и спустился вниз на кухню. Только открыв дверцу холодильника и протянув руку за молоком, он ощутил порыв ледяного ветра у себя за спиной и почти сразу же услышал, как ударилась об оконную раму дверца противомоскитной ширмы.
Дверь кухни была распахнута настежь. Энсон предположил, что это ветер открыл ее, но он знал, что вряд ли такое возможно. Эйлин пришла в спальню после него, а она обычно проверяла, чтобы все двери были заперты. Непохоже, чтобы она забыла сделать это. Он задумался, почему они не слышали хлопанья двери раньше, до этого момента, потому что достаточно даже малейшего звука в доме, чтобы разбудить профессионального охранника. Он осторожно поставил обратно пакет молока и прислушался, но не услышал в доме ни звука. Лишь с улицы доносились свист ветра в кронах деревьев и отдаленный шум машин.
У Энсона на ночном столике всегда лежал «смит-вессон». Он мгновенно прикинул возможность взбежать за ним по лестнице, но решил поступить иначе. Энсон извлек из подставки нож и тихонько прокрался к двери. Посмотрел сначала направо, потом налево, чтобы убедиться, что никто не притаился снаружи, затем толкнул ее — дверь распахнулась. Он стоял на крыльце и осматривал пустой двор. Перед ним простирался аккуратный газон, огороженный деревьями, закрывающими дом со стороны дороги. Луна сияла над ним, подчеркивая четкие линии дома, поднимающегося за его спиной.
Энсон сошел со ступенек на траву.
Фигура отделилась от того места, где лежала возле ступенек крыльца, звук ее приближения заглушил ветер, очертания скрыла тень дома. Энсон даже не осознавал ее присутствия, пока что-то не схватило его за руку и он не почувствовал, что ему стиснули горло. Потом его пронзила боль, и он увидел, как кровь брызжет прямо во тьму. Нож выпал из его руки, и он обернулся, пытаясь прикрыть левой рукой рану на шее. Его ноги подкосились и он упал на колени. Кровь стала бить немного слабее, и с нею неумолимо уходила жизнь.
Энсон взглянул в глаза Сайруса Найрна и на кольцо, которое тот держал в ладони. Это было кольцо с гранатом, его подарок Мэри Блэр на пятнадцатилетие. Я узнал бы его где угодно, подумал он, даже когда оно не было надето на указательный палец Мэри. Затем Сайрус Найрн ушел, а ноги Энсона начали дрожать в последней конвульсии. Свет луны блеснул на лезвии ножа убийцы, когда тот шел к дому. Энсон вздрогнул и, наконец, умер, а Найрн обратил свои мысли к дремлющей Эйлин Энсон и месту, которое он подготовил для нее.
В своей камере Фолкнер закрыл глаза и погрузился в глубокий сон без сновидений.
Глава 16
Кладбище «Магнолия» расположено в конце Каннингтон-стрит, к востоку от Митинг-стрит. Каннингтон-стрит — это целый ряд разных кладбищ: здесь можно найти Старое методистское кладбище, кладбище Дружеского общества, Коричневого братства, «Гуманное» и «Приятное», «Объединенное» и «Дружба».
Некоторые находятся в лучшем состоянии, чем другие, но все служат для того, чтобы быть последним пристанищем мертвых — бедняков и богачей. И все они — места пиршества земляных червей.
Мертвые лежат в разных местах вокруг Чарлстона, их останки покоятся под ногами туристов и гуляк. Тела черных рабов погребены и скрыты под парковками и современными магазинами. Развилка Митинг— и Вотер-стрит отмечает расположение старого кладбища, где после казни были похоронены пираты Каролины. Место их последнего упокоения когда-то отмечало самый низкий уровень стояния воды на болоте, но с тех пор город разросся, и эти повешенные были давно забыты; их кости раздроблены фундаментами домов, которые выросли над ними.
Но на кладбищах Каннингтон-стрит о мертвых вспоминают, хотя и не слишком усердно, и самое большое кладбище на этой улице — «Магнолия». Первое, что вы видите, — это воды его озера, ленивые цапли, наблюдающие сквозь тростник, и бело-серые аисты, а также надпись, которая гласит, что вам грозит штраф за кормление аллигаторов в размере 200 долларов. Стайка любопытных гусей толпится на узкой дорожке, ведущей к офису Управления кладбищем «Магнолия». Вечнозеленые растения и восковые мирты отбрасывают тень на камни. Дубы, покрытые кровавыми точками лишайников, скрывают в своей листве певчих птиц.
Человек по имени Губерт приходил сюда уже два года. Иногда он оставался спать среди могильных камней с куском ржаного хлеба для пропитания и бутылкой для согрева души. Он изучил все дорожки кладбища, перемещения посетителей и местных служащих. Он не знал, они просто терпимо относятся к его присутствию или не замечают его, и не беспокоился по этому поводу. Губерт жил для себя и старался беспокоить окружающих как можно меньше в надежде, что его тихое существование будет продолжаться никем не потревоженное. Пару раз он пугался аллигаторов, но ничего худшего не происходило, хотя крокодилы не та компания, чтобы находиться с ними рядом в одиночку, можете поверить Губерту.
Когда-то у Губерта были работа, дом, жена. Потом он потерял работу, а затем в той же последовательности утратил дом и жену. Со временем он потерял и себя самого, пока не попал в больницу с ногами, заклеенными пластырем, после того как грузовик сбил его на обочине шоссе №1 где-то севернее Киллиана. С тех пор он старался быть более осторожным, однако так и не вернулся к своей прежней жизни, несмотря на стремление социальных работников устроить его в каком-нибудь постоянном жилище. Но Губерту совсем не нужен постоянный дом, потому что он достаточно мудрый человек, чтобы понимать: ничего постоянного в мире не бывает. В конце концов, Губерт всегда живет ожиданием, и не важно, где он это делает и почему так долго, — важно, чтобы он хорошо представлял себе, чего именно ждет. То, что суждено Губерту, разыщет его, где бы он ни был. Это вернет его самому себе, завернет его в свое темное холодное одеяло, и его имя будет вписано в список бедняков и нищих, похороненных в дешевых могилах за оградками из цепей. Вот и все, что знал Губерт, и только в этом он был уверен.
Когда погода становится холодной или сырой, Губерт направляется в мужской приют Чарлстонского министерства по чрезвычайным ситуациям на Митинг-стрит, 563, и, если там находится койка, он вылавливает из тайников своей несуразной одежды три мятые долларовые бумажки с мелочью за ночевку. Никто не уходит отсюда с пустыми руками, в самом худшем случае здесь всегда можно получить хороший ужин, помыться, если нужно, и даже получить одежду. В приюте берут письма и отправляют их по почте, хотя никто давно не посылал Губерту даже записок.
Прошло много недель, с тех пор как Губерт в последний раз оплачивал ночевку в приюте. Наступили сырые ночи, когда дождь пропитывал всю его одежду насквозь и заставлял целый день чихать, но он не возвращался на Митинг-стрит, 563 до той ночи, когда увидел человека с оливковой кожей и поврежденными глазами, которого сопровождало странное пляшущее пятно света, принимавшее необычные контуры.
Впервые он заметил этого человека в душевой. Губерт обычно никогда не смотрит на других мужчин в душе: это способ привлечь внимание и навлечь на себя неприятности, а Губерт не хочет проблем. Губерт не слишком высок ростом и не очень силен, он потерял все свое имущество в прошлом из-за человека более жестокого, чем он. Он научился убираться с дороги таких людей и не встречаться с ними взглядом — вот почему он всегда смотрит под ноги в душе, и это причина, по которой тот человек впервые обратил на себя его внимание.
Его лодыжки и шрамы вокруг них — Губерт никогда не видел ничего подобного. Казалось, ступни этого человека были сначала отрезаны от ног, а затем грубо приметаны так, что следы стежков остались как напоминание о том, что произошло. Только в тот раз Губерт нарушил свое неписаное правило и посмотрел на человека, который мылся рядом с ним, на его твердые мускулы, курчавые волосы и странные, завораживающие, словно выцветшие глаза, будто затянутые пеленою облаков. Он что-то напевал себе под нос, и Губерт подумал, что это, должно, быть какой-то гимн или один из старинных негритянских спиричуэлсов. Слова были непонятными, но Губерт уловил некоторые из них.
Идем со мной, брат,
Идем со мной, сестра,
И мы пойдем, мы пойдем
По Белой дороге... —
мужчина перехватил взгляд Губерта и в ответ уставился на него.
— Ты готов идти, брат? — спросил он.
И Губерт вдруг осознал, что отвечает ему. Его голос звучал странно для него самого, как будто эхом из глубокого колодца:
— Куда пойдем?
— На Белую дорогу. Ты готов пойти по Белой дороге? Она ждет тебя там, брат. Она ищет тебя.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал Губерт.
— Нет, ты знаешь, Губерт. Ты знаешь.
Губерт выключил краны душа и отвернулся, стаскивая с крючка полотенце. Он больше ничего не сказал, даже когда мужчина рассмеялся и окликнул его:
— Эй, брат, следи за каждым своим шагом, раз уж ты здесь. Ты не споткнешься и не упадешь. Ты не хочешь упасть на Белую дорогу, потому что парни на ней ждут тебя, ждут, что ты упадешь. Они собираются схватить тебя и разорвать на части!
И как только Губерт вышел из душа, песня началась снова:
Идем со мной, брат,
Идем со мной, сестра,
И мы пойдем, мы пойдем
По Белой дороге вместе.
В ту ночь Губерт заплатил за койку рядом с туалетами. Ему было все равно. Его мочевой пузырь иногда бывал расстроен, и приходилось вставать ночью по два-три раза, чтобы сбегать в туалет. Но в ту ночь он проснулся не из-за этого.
Он услышал не то детский, не то женский плач.
Губерт знал, что этого не могло быть. Приют для женщин находился на Волнут-стрит, 49 — там ночевали и женщины и дети. Не было такого, чтобы женщина попала в мужской приют. Но пути бездомных никому не ведомы, а Губерту не хотелось думать, что кто-то причиняет зло женщине, или, того хуже, ребенку.
Он поднялся с кровати и пошел на звук. Ему показалось, что плач слышен из душевой. Он узнал это по тому, как гулко звучал голос, напоминая ему звучание его собственного голоса и песню мужчины этим вечером. Губерт осторожно подошел к входу и остановился здесь, пригвожденный к месту. Мужчина с оливковой кожей стоял перед выключенными душами в хлопковых шортах и старой черной футболке спиной к двери. Перед ним что-то светилось, освещая лицо и тело, хотя сами души тонули в темноте, а лампы были выключены. Губерт поймал себя на том, что перемещается, подбирая место, откуда будет лучше видно источник света.
Перед мужчиной высился столб света что-то около двух метров высотой. Он двигался, как пламя свечи, и Губерту казалось, что внутри него или перед ним находится какая-то фигура, облитая светом.
Это была маленькая светловолосая девочка. Ее лицо искажала гримаса боли, голова раскачивалась из стороны в сторону с такой скоростью, что это было не под силу человеку. Он мог слышать звук ее плача, непрерывное стенание, полное страха, муки и гнева. Одежда на ней была изорвана в клочья, и ниже пояса она была совершенно голой. Ее израненное тело несло следы того, как ее тащило по дороге между колесами автомобиля.
Губерт знал, кто это. О да, Губерт знал. Руби Блентон — так ее звали. Прелестная маленькая Руби Блентон, убитая, когда парень, расстроенный сообщением на пейджере, сбил ее, переходившую улицу, и протащил ее еще 60 метров между колес своей машины. Губерт вспомнил ее голову, которая повернулась в последний момент, удар капота по детскому телу и последний взгляд ее глаз, перед тем как она исчезла под колесами.
О, Губерт знал ее. Он точно знал.
Человек, который стоял перед ней не делал никакой попытки дотронуться до нее или утешить. Вместо этого он напевал все ту же песню, что и раньше:
Идем со мной, брат,
Идем со мной, сестра.
И мы пойдем, мы пойдем... —
он обернулся, и что-то блеснуло в глубине его глаз, когда они заметили Губерта.
— Теперь ты на Белой дороге, брат, — прошептал он. — Ты пришел, чтобы посмотреть, что ждет тебя на Белой дороге?
Он отошел в сторону, и свет переместился на Губерта; голова девочки продолжала биться, глаза были закрыты, звук, который срывался с ее губ, теперь напоминал шум льющейся воды.
Ее глаза открылись, и Губерт заглянул в них. Его чувство вины отразилось в глубине этих глаз, и он почувствовал, что падает, падает на чистый кафельный пол, падает прямо в свое отражение.
Падает, падает на Белую дорогу...
Его обнаружили здесь позднее с разбитой при падении головой в луже крови, сочащейся из раны. Послали за доктором, тот спросил пострадавшего, не кружится ли у него голова, употребляет ли он алкоголь, и предложил Губерту подыскать постоянное жилище. Губерт поблагодарил его, потом собрал вещи и покинул приют. Человек с оливковой кожей к тому времени уже ушел, и Губерт больше его не видел, хотя и ловил себя на том, что оглядывается через плечо. Некоторое время он избегал ночевать на «Магнолии», предпочитая спать на улицах и аллеях, среди живых.
Но теперь он вернулся на кладбище. Это его место, и память о видении в душевой почти растаяла, напоминание о нем можно было списать на усталость, воздействие алкоголя и лихорадку, овладевшую им, начиная с той ночи в приюте.
Иногда Губерт спал около склепа Столлов, который был украшен фигурой плачущей женщины у подножья креста. Ее укрывали деревья, и отсюда виднелись озеро и дорога. Неподалеку находился плоский гранитный обелиск над могилой человека по имени Беннет Спре — сравнительно недавнее сооружение на старом кладбище. Участок находился во владении семьи Спре очень долгое время, но Беннет был последним в своем роду, и он, наконец, предъявил свои права на владение участком, отдав Богу душу в июле 1981 года.
Подойдя ближе, Губерт увидел какой-то силуэт, лежащий на могильном камне Беннета Спре. И вот, когда он совсем собрался уйти, чтобы не ругаться с другим претендентом на ночлег, что-то заставило его внимательнее присмотреться. В этот момент стало светлее: лунный свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, осветил фигуру. Губерт увидел, что она обнажена, и тени деревьев не скрывают ее.
На горле человека зияла рваная рана — странная дыра, будто что-то было просунуто в его рот сквозь мягкую кожу под подбородком. Тело и ноги казались черными от крови.
Но были еще две вещи, которые успел заметить Губерт, перед тем как отвернуться и убежать.
Первая — мужчина был кастрирован.
Вторая — инструмент, который был воткнут в грудь мужчины. Он заржавел и имел форму буквы Т. Им была приколота к груди записка, слегка забрызганная кровью из раны. На ней аккуратными буквами было написано: «Копайте здесь».
И они принялись копать. Вызвали судью и подписали протокол эксгумации, поскольку у Беннета Спре не было живых наследников, чтобы дать свое согласие на эту процедуру. День или два спустя из земли был извлечен проржавевший гроб. Его осторожно подняли на веревках, дабы он не развалился на части и останки Беннета Спре не смешались с землей.
На том месте, где прежде располагался гроб, они нашли тонкий слой земли, под которым оказались кости. Сначала появились ребра, потом череп, нижняя челюсть которого была разбита вдребезги. Череп оказался сильно поврежден, трещины расходились от рваных, пробитых в нем смертельными ударами.
И это все, что осталось от девушки, едва успевшей стать женщиной.
Это было, что осталось от Эдди — матери Атиса Джонса.
И ее сын умрет, так и не узнав места, где окончила свои дни женщина, давшая ему жизнь.
Книга 4
"Когда [ангелы] спускаются с неба,
Они облачаются в одежды этого мира.
Если они не облачатся в одежды,
Подходящие для этого мира,
Они не смогут вынести его,
А мир не сможет вынести их".
ЗогарГлава 17[4]
Наступил рассвет.
Сайрус Найрн полз, почти совсем голый, в темной дыре. Скоро ему придется покинуть это место. Они придут и будут искать его, сразу же заподозрив своего рода вендетту, ведь убит охранник Энсон, и обратят повышенное внимание на тех, кто недавно освободился из Томастона. Сайрусу было жаль уходить отсюда. Он так долго мечтал, как опять окажется здесь, ощущая запах сырой земли, чувствуя, как корни растений щекочут его по голой спине и плечам. Все равно, еще будут другие награды. Ему обещано так много. Правда, в уплату придется принести кое-кого в жертву.
Снаружи сюда проникали пение ранних птиц, мягкий тихий звук воды, текущей через отмели, писк последних ночных комаров, скрывающихся при свете наступающего дня, но Сайрус был глух к звукам жизни над этой ямой. Он замер и затаил дыхание, сосредоточившись только на звуках, идущих из глубины земли под ногами, наблюдая и ощущая легкое колебание, когда Эйлин Энсон билась под слоем грязи, но вот, наконец, затихла.
* * *
Меня разбудил телефонный звонок. На часах было 8:15 утра.
— Чарли Паркер? — спросил незнакомый мужской голос.
— Да. Кто это?
— У вас назначен завтрак через десять минут. Не заставляйте мистера Вимана ждать.
Он повесил трубку.
Мистер Виман.
Вилли Виман.
Босс Южного отделения мафии Чарлстона хочет позавтракать со мной.
Не самое лучшее начало дня.
Мафия Юга существовала в той или иной форме со времен Сухого закона — объединение самых отпетых бандитов, у которого были центры в большинстве городов Юга, и особенно много в Атланте, Джорджии и Билокси, штат Миссисипи. Они нанимали друг друга для работы за пределами своего штата: поджог в Миссисипи мог быть работой пиротехника из Джорджии, убийство в Южной Каролине — делом рук киллера из Мэриленда. Южане были чрезвычайно неразборчивы. Они занимались всем: наркотиками, игорным бизнесом, убийствами, вымогательством, ограблениями, поджогами. Правда, самым изощренным делом, уровень которого приближал их к элите мафии, было ограбление прачечной, но это не означало, что такую силу не стоит принимать во внимание. В сентябре 1987 года южная мафия совершила убийство судьи Винсента Шерри и его жены: они были застрелены. Ходили слухи, что Винсент Шерри был связан с незаконными операциями, проходившими через юридическую контору «Галат и Шерри». Его деловой партнер Питер Галат был позднее обвинен в рэкете и убийстве, связанном со смертью супругов Шерри, но причины, стоявшие за обоими преступлениями, оказались совершенно несущественными. Люди, убившие судью, опасны, потому что сначала действуют, а потом думают. Они не осознают последствий своих действий, пока не совершат их.
В 1983 году Пол Мазел, тогдашний босс чарлстонского отделения, был вместе с Эдди Мэриманом обвинен в убийстве Рикки Ли Сигривза, который захватил одну из партий наркотиков Мазела. С тех пор королем Чарлстона стал Вилли Виман. Ростом не выше метра семидесяти и весом около пятидесяти килограммов в мокрой одежде, он был злобным, хитрым зверем, способным на все, чтобы укрепить свое положение. В 8:30 он сидел за столиком у стены в центральном зале ресторана «Чарлстон Плейс» и поедал яичницу с беконом. У столика стоял еще один свободный стул. Рядом за соседними столиками попарно сидели четверо головорезов, постоянно наблюдая за Вилли, дверью и мной.
У Вилли были короткие очень темные волосы, дочерна загорелое лицо, казавшееся еще темнее на фоне ярко-голубой рубашки и голубых полотняных брюк. Рубашку украшали трогательные белые облачка. Когда я приблизился к столу, он поднял на меня взгляд и махнул вилкой, показывая, что я должен присоединиться к нему. Один из его людей собрался было обыскать меня, но Вилли, сделал знак, чтобы он ушел, потому что ему не хотелось привлекать внимание в общественном месте.
— Нам ведь не надо вас обыскивать, не так ли?
— Я без оружия.
— Хорошо. Не думаю, что публика в «Чарлстон Плейс» будет в восторге, если во время завтрака их столики изрешетят пулями. Вы закажете что-нибудь? Как хотите.
Он оскалил зубы, не собираясь смеяться.
Я заказал себе кофе, сок и тост. В это время Вилли закончил поедать свой завтрак и промокнул рот салфеткой.
— Теперь, — сказал он, — о деле. Я слышал, вы так саданули Энди Далитца по яйцам, что теперь он может нащупать их, засунув пальцы в рот.
Он ждал ответа. Учитывая обстоятельства, разумнее было подчиниться.
— "Лэп-Ленд" — ваше место? — спросил я.
— Одно из моих. Слушайте, я знаю, что Энди Далитц — кретин. Черт возьми, я и сам мечтаю засадить ему по яйцам с тех пор, как знаю его, но у парня теперь три адамовых яблока из-за вас. Не знаю, может он и заслужил это. Все, что я хочу сказать вам, это, если вы соберетесь посетить один из наших клубов, вам следует попросить разрешения, вежливо попросить. Бить управляющего так жестоко, что он чувствует вкус своих яиц на языке, не означает вежливо попросить. И я позволю себе заметить: если бы вы проделали это на людях, на глазах клиентов или девочек, мы бы сейчас беседовали совсем по-другому. Потому что, если вы делаете так, что Энди теряет лицо, это значит, и я тоже потерял лицо. Следовательно, среди моих парней найдутся такие, кто посчитает, что, возможно, пришло мое время и я должен уступить дорогу кому-нибудь другому. В таком случае у меня есть две возможности: либо я сумею убедить их в том, что они не правы, а потом мне надо будет найти место, где их зарыть, и мы потеряем целый день, разъезжая на машине с полным багажником свежих трупов, пока не найдем подходящее место; или же я самолично провоняю багажник, но, между нами говоря, это вряд ли произойдет. Мы поняли друг друга?
Принесли кофе, тост и апельсиновый сок. Я пригубил кофе и предложил Вилли повторить заказ. Он так и сделал и поблагодарил меня. Он был сама вежливость.
— Да, мы поняли друг друга, — заверил я его.
— Я все о вас знаю, — сказал он. — Вы готовы испоганить даже рай. Единственная причина, по которой вы все еще живы, это та, что даже Господь Бог не хочет иметь вас у себя под боком. Я слышал, вы работаете с Эллиотом Нортоном по делу Джонса. Есть что-нибудь, что мне следует знать, потому что это дело воняет, как подгузники моего беби? Энди рассказал, что вы хотели поговорить с полукровкой Терезием.
— А что, он действительно полукровка?
— А хрен его знает, я что, его племянник? — он немного успокоился. — Его народ пришел из Кентукки давным-давно — это все, что я знаю. Кто скажет, с кем они спаривались по дороге? В этих горах есть людишки, которые трахают козлов, потому что им приспичило в недобрый час. Даже черные не хотят иметь дел с Терезием или такими, как он. Урок окончен. Теперь ваша очередь: выкладывайте мне что-нибудь. У меня не было иного выбора, пришлось рассказать ему кое-что из того, что было мне известно.
— Терезий навещал Атиса Джонса в тюрьме. Я хотел узнать почему.
— Узнали?
— Я думаю, Терезий знал его семью. И плюс он обрел Бога.
Вилли сделал притворно-несчастное лицо.
— Это то, что он рассказал Энди. Полагаю, Иисусу следует быть более разборчивым с теми, кто Его ищет. Я знаю, вы не расскажете мне всего, что вам известно, но я не собираюсь делать из этого выводы, по крайней мере, не сейчас. Я бы предпочел, чтобы вы больше не появлялись в клубе, но, если вам действительно понадобится туда попасть, ведите себя учтиво и больше не бейте Энди Далитца по яйцам. В обмен на это я рассчитываю узнать от вас обо всем, чего мне следует опасаться. Вы понимаете?
— Понимаю.
Он кивнул с видимым удовлетворением, затем допил остатки кофе.
— Вы выследили проповедника, так? Фолкнера?
— Точно.
Он внимательно рассматривал меня. Казалось, он забавляется.
— Я слышал, Роджер Боуэн пытается вытащить его.
Я не звонил Эллиоту с тех пор, как Атис Джонс рассказал мне о связи Мобли и Боуэна. Я не был уверен, насколько это согласуется с тем, что мне уже известно. Теперь, когда Вилли упомянул имя Боуэна, я постарался отвлечься от шума за соседними столиками и слушать только его.
— Вам интересно, что бы это значило? — продолжил Вилли.
— Очень.
Он откинулся назад и потянулся, демонстрируя пятна пота под мышками.
— Мы с Роджером когда-то имели общие дела, но не дружили. Он фанатик и никого не уважает. Я подумывал, не отправить ли мне его в круиз прямо на дно морское, но, если после этого какие-то психи примутся колотить ногами в мою дверь, это обещает стать круизом для всей компании, а мне не надо лишних проблем. Я не знаю, чего Боуэн хочет от проповедника: может, сделать из него украшение, а может, у старика что-то припрятано и Боуэн хочет получить это. Не знаю. Но можете задать ему этот вопрос сами: я скажу вам, где он будет сегодня.
Я ждал.
— Сегодня в Антиохе митинг. Говорят, Боуэн собирается там выступать. Там будет пресса, может, и телевидение. Боуэн обычно не слишком часто появляется на публике, но это дело Фолкнера заставило его вылезти из своей норы. Поезжайте поприветствуйте его.
— Зачем вы рассказываете мне это?
Он встал, остальные четверо немедленно поднялись.
— А почему только я должен страдать из-за того, что вы мне испоганили весь день? Если к вашим подметкам прилипло дерьмо, вы пачкаете им все вокруг. А у Боуэна уже неудачный день. Мне нравится сознавать, что вы сделаете его еще хуже.
— И чем же так плох сегодняшний день для Боуэна?
— Вам стоит заглянуть в газеты. Они нашли его питбуля Мобли на кладбище «Магнолия» прошлой ночью. Он был кастрирован. Я собираюсь пойти сказать Малютке Энди об этом: может быть, его порадует то, каким счастливчиком он оказался, — ему только раскололи его «орехи», а не отрезали их напрочь. Спасибо за завтрак.
Он оставил меня. Его голубая рубашка вздулась пузырем. Четверо головорезов потянулись за ним, как на буксире, словно большие дети за корабликом.
Эллиот не явился на встречу утром, как мы договаривались. Автоответчик был включен на прием сообщений и в его офисе, и дома. Его мобильные телефоны — оба: его собственный и тот, номер которого нигде не значился и которым мы пользовались для ежедневных переговоров, — были выключены. Между тем газеты пестрели сообщениями о находке на кладбище «Магнолия», но наиболее шокирующие детали были опущены. Согласно сообщениям, Эллиот Нортон не вступал ни в какие контакты, чтобы не давать комментариев по поводу смерти своего клиента.
Я провел все утро в поисках дополнительных свидетелей по делу — стуча в двери трейлеров и пугая собак в огромных дворах. К середине дня я забеспокоился. Проверил, как там Атис, и старик сказал мне, что с ним все в порядке, хотя он и начинает понемногу сходить с ума. Я поговорил с Атисом пару минут, но он отвечал злобно и нехотя.
— Когда я отсюда уйду, парень? — спросил он меня.
— Скоро, — пообещал я.
Это было полуправдой. Если опасения Эллиота небеспочвенны, я полагаю, нам придется перевезти его очень скоро в следующий надежный дом. До того как появиться в суде, Атису предстоит привыкнуть смотреть телевизор в незнакомых квартирах. Хотя очень скоро он перестанет быть объектом моего внимания. Я не слишком продвинулся с очевидцами.
— Ты знаешь, что Мобли умер?
— Да, слышал. Я весь истерзан.
— Но не настолько истерзан, как он. У тебя есть мысли, кто бы мог проделать с ним такое?
— Нет, ни одной, но, когда узнаете, сообщите мне. Я хочу пожать руку этому человеку. Правильно говорю?
Он повесил трубку. Я взглянул на часы. Было лишь двенадцать с небольшим. Мне нужно больше часа, чтобы добраться до Антиоха. Я мысленно подбросил монетку и решил ехать.
* * *
Кланы Каролины были разбросаны по всей стране и пребывали в состоянии полного упадка уже лет двадцать. Закат наступил в ноябре 1979 года, когда пятеро рабочих-коммунистов умерли в перестрелке с членами Клана и неонацистами из Гринсборо, штат Северная Каролина. Движение против кланов означало толчок к их разрушению. Члены Клана продолжали умирать и в тех случаях, когда выходили на улицы: их противников становилось все больше и больше. Большинство редких слетов организации в Южной Каролине проходили на базах Американских рыцарей Ку-Клукс-Клана в Индиане, пока местные рыцари Каролины не стали выражать нежелание участвовать в этих сборищах.
Но, несмотря на то, что было сделано все, чтобы они прекратили свое существование, сожжение тридцати черных церквей в Южной Каролине в 1991 году и причастность членов Ку-Клукс-Клана по крайней мере к двум случаям поджога в Вильямсбурге и Кларендоне свидетельствовали об обратном. Другими словами, бойцы Клана, возможно, и поутратили свой пыл, но воинствующие расисты, которых он представлял, все еще были живы и процветали. Теперь Боуэн пытался придать новый импульс движению. И, если верить сообщениям прессы, действовал он успешно.
Антиох не выглядел так, будто когда-либо знал лучшие времена. Он походил на предместья города, которого никогда не было: здесь были дома и улицы, которые кто-то взял на себя труд назвать, но не имелось ни одного крупного магазина. Наоборот, вдоль отрезка 119-го шоссе, которое проходило через Антиох, жались мелкие строеньица, как шляпки грибов, среди которых были пара заправок, магазин видеокассет, один-два крохотных магазинчика, бар и прачечная самообслуживания.
Похоже, я опоздал на парад, но в центре прохода вдоль ленты ограждения располагался зеленый квадрат, окруженный заборами из колючей проволоки и чахлыми деревьями. Машины были припаркованы рядом, всего их оказалось около шестидесяти, а в кузове грузовика была сооружена самодельная трибуна, с которой к толпе обращался какой-то мужчина. Около дюжины людей решили пофорсить в белых костюмах, но большинство пришли в обычных футболках и джинсах. Те, что в костюмах заметно потели в своем дешевом полиэстере. Толпа из 50 — 60 протестующих стояла несколько поодаль, отделенная от людей Боуэна шеренгой полицейских. Некоторые их них выкрикивали лозунги и свистели, но человек на сцене ни разу не сбился.
У Роджера Боуэна были большие усы и вьющиеся каштановые волосы. Складывалось впечатление, что он поддерживает себя в хорошей форме. На его красной рубашке, заправленной в синие джинсы, несмотря на жару, не было заметно следов пота. По обе стороны от вождя стояли двое человек, которые дирижировали вспышками аплодисментов, когда он произносил что-то особенно важное, что происходило, как мне показалось, каждые три минуты, судя по жестам его помощников. Каждый раз, когда они аплодировали, Боуэн смотрел себе под ноги и качал головой, демонстрируя, что взволнован их энтузиазмом и не хочет его сдерживать. Я заметил оператора ричлендского с телевидения, плотно притиснутого к сцене, и очаровательную репортершу-блондинку рядом с ним.
Когда я подъезжал к месту, в моей машине надрывался проигрыватель, включенный на максимальную громкость. Я специально подобрал диск по этому случаю: девушка Джоя Рамона отправилась в Лос-Анджелес и больше не вернулась, и Джой обвинял Ку-Клукс-Клан в том, что он отнял его девочку, как раз в тот момент, когда я сворачивал на парковку.
Боуэн прервал свою пламенную речь и уставился поверх голов в мою сторону. Часть толпы проследила за его взглядом. Парень с бритой головой, одетый в черную майку с надписью «Блицкриг» приблизился к машине и вежливо, но твердо попросил выключить музыку. Я отключил мотор, и музыка смолкла. Затем я вышел из машины. Боуэн продолжал смотреть в моем направлении еще секунд десять, а затем продолжил свою речь.
Возможно, он учитывал присутствие прессы, но, так или иначе свел свои выпады к минимуму. Правда, по ходу дела он кидался и на евреев, и на цветных, говорил о том, как иноверцы захватили контроль над правительством в ущерб белым людям, говорил о СПИДе как о Божьей каре, но старался держаться на расстоянии от худших расистских лозунгов. И только в самом конце своей речи он сказал, наконец, о главном:
— Есть один человек, друзья мои, очень хороший человек, настоящий христианин, Божий человек, который подвергся наказанию за то, что отважился сказать, что гомосексуализм, аборты и смешение рас противоречат воле Господа. Против него был сфабрикован процесс в штате Мэн, чтобы поставить его на колени, и у нас есть доказательства, друзья мои, серьезные доказательства, что его поимка была финансирована евреями.
Боуэн взмахнул какими-то бумагами, которые отдаленно напоминали документы.
— Его имя, и, я надеюсь, вы его уже знаете, — Аарон Фолкнер. Сейчас они говорят о нем всякие гадости. Они называют его убийцей и садистом. Они стараются очернить его имя, сбросить его вниз до того, как состоится суд над ним. Они делают это, потому что у них нет доказательств против него, и они стараются отравить мозги слабых людей, чтобы он был признан виновным еще до того, как получит шанс защитить себя. Миссия преподобного Фолкнера — это то, что все мы должны носить в своем сердце, потому что мы знаем, что это — правда. Гомосексуализм — против Заповедей Божьих. Убийство нерожденных детей — против Заповедей Божьих. Смешение кровей, подрыв института семьи и брака, усиление чуждых церквей, их возвышение перед лицом единственной подлинной веры в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, — это все противоречит Его воле. И этот человек, преподобный Фолкнер, выступает на переднем крае борьбы против всего этого. Теперь его единственная надежда на честный суд, где он сможет достойно защитить себя, а для этого ему нужны деньги. Ему нужен фонд, который поможет этому святому человеку выбраться из тюрьмы и оплатить услуги лучшего адвоката. И это то самое дело, которое вы, парни, можете поддержать: дайте, кто сколько сможет. Я насчитал нас здесь около сотни. Каждый из вас даст двадцать баксов — я знаю, что для некоторых из вас это большая сумма, — и мы соберем две тысячи долларов. Если кто-то из вас может дать больше — хорошо, это все пойдет на благое дело. Запомните мои слова: он не единственный, кто предстает перед неправедным судом. Это не только его жизнь. Это наша жизнь, наша вера, наша судьба, наше будущее, которые будут стоять перед судом вместе с ним! Проповедник Аарон Фолкнер представляет нас всех, и если он проиграет, то проиграем и мы вместе с ним. С нами — Бог! Бог даст нам силу! Хайль победа! Хайль победа!
Лозунги были подхвачены толпой, когда мужчины стали продвигаться внутри нее с ящиками для пожертвований. Я видел, как старые бумажки в десять, пять долларов нырнули внутрь, но большинство давали по двадцать, иногда по пятьдесят или даже сто. При строгом подсчете я прикинул, что Боуэн этим днем наберет около трех тысяч долларов. Согласно сообщению в сегодняшней газете, в которой был комментарий к предстоящему слету, люди Боуэна работали не покладая рук с первых минут после ареста Фолкнера, используя все возможности: от распродаж старых вещей до выездных пикников и лотереи с главным призом — грузовиком марки «додж», пожертвованным симпатизирующим им автодилером. Тысячи билетов уже были проданы по 20 долларов за каждый. Боуэну даже удалось заставить принимать участие в акциях тех, кто обычно не был связан с его делами — огромную аудиторию преданных Фолкнеру последователей, которые видели в нем Божьего человека, осужденного за веру, похожую, если не тождественную их убеждениям. Боуэн сумел подать арест Фолкнера и суд над ним как акт осуждения добродетели и поругания веры, борьбы между теми, кто боялся и любил Бога, и теми, кто отвернулся от Создателя и стал гонителем истинной веры. Когда был поднят вопрос о жестокости, Боуэн уклонялся от обсуждения, возражая, что вера Фолкнера была чиста и его нельзя считать виновным во всем, что сделали остальные, даже если его причастность во многих случаях была доказана. Расистские выпады приберегались для старой гвардии и для тех случаев, когда поблизости не было телекамер и микрофонов. Сегодня же он проповедовал для новообращенных или тех, кто собирался присоединиться к ним.
Боуэн сошел со сцены, люди обступили его, чтобы пожать ему руку. Сразу же за ограждением были установлены два стола на козлах так, чтобы женщины, которые находились там же, могли разложить на них вещи, привезенные для продажи: флаги Ку-Клукс-Клана, боевые знамена нацистов, украшенные орлами и свастикой, наклейки на автомобили, сообщающие, что водитель «Белый по рождению, южанин милостью Божьей». Здесь также были кассеты и лазерные диски с музыкой кантри и вестерн, хотя, я думаю, они были того сорта, который Луис вряд ли захотел бы иметь в своей коллекции. Очень скоро торговля у обеих женщин пошла очень бойко.
Рядом со мной появился человек, одетый в темный костюм и белую рубашку. Парадный прикид дополняла совершенно нелепая бейсболка. Лицо было красно-сизым и плохо выбритым. Кустики светлых волос торчали на скулах, как редкая растительность на неплодородной земле. Тени окружали его глаза. Я видел наушник в его левом ухе, присоединенный проводом к аппарату на поясе. Я моментально ощутил беспокойство и тревогу. Возможно, виной тому его странный вид, но от него определенно веяло чем-то нереальным, потусторонним. И еще я ощутил специфический запах, похожий на запах горящей нефти.
Запах медленного сожжения.
— Мистер Боуэн хочет поговорить с вами, — сказал он.
— Это была группа «Рамоны», — сообщил я. — Запись на диске. Я сделаю для него копию, если ему понравилось.
Он смотрел не мигая.
— Я же сказал, мистер Боуэн хочет поговорить с вами.
Я пожал плечами и последовал за ним сквозь толпу. Боуэн уже закончил пожимать руки своим бойцам и прошел в небольшую зону, отгороженную белой парусиновой занавеской, которая была натянута около грузовика. За занавеской стояли стулья, портативный холодильник и стол с переносным вентилятором посередине. Мне указали на Боуэна, который сидел на одном из стульев, потягивая пепси из банки. Мужчина в бейсболке остался, а остальные быстро вышли, чтобы оставить нас наедине. Боуэн предложил мне выпить. Я отказался.
— Мы не ожидали увидеть вас здесь сегодня, мистер Паркер, — сказал он. — Вы решили присоединиться к нашему делу?
— Я что-то не вижу здесь никакого дела, если не считать делом созыв простаков для вытряхивания из них мелочи.
Боуэн обменялся взглядом, выражающим разочарование, с тем, кто привел меня сюда, и его глаза налились кровью. Хотя Боуэн якобы занимал руководящий пост, казалось, он подчиняется человеку в костюме. Даже поза вождя подтверждала, что он опасается этого человека: он сидел вполоборота с опущенной головой и выглядел при этом как сторожевой пес.
— Я должен был представить вас, — сказал он. — Мистер Паркер, это мистер Киттим. Рано или поздно мистер Киттим собирается преподать вам суровый урок.
Киттим снял свои очки. Глаза оказались зелеными, пустыми, как необработанные изумруды с трещинами.
— Простите, что не пожимаю руки, — сказал я ему. — Вы выглядите так, будто сейчас рассыпетесь на кусочки.
Киттим не отреагировал на колкость, но запах бензина усилился. Даже нос Боуэна слегка сморщился. Пламенный вождь допил свою колу и выбросил жестянку в мусорное ведро.
— Зачем вы здесь, мистер Паркер? Если я поднимусь на сцену и объявлю публике, кто вы такой, полагаю, ваши шансы вернуться обратно в Чарлстон целым и невредимым будут нулевые.
Возможно, мне следовало удивиться, что Боуэну известно, где я остановился, но я не удивился.
— Вы следите за моими передвижениями, Боуэн? Я польщен. Кстати, это не сцена. Это грузовик. Не заноситесь. Вы хотите рассказать заблудшим, кто я, так пойдите и сделайте это. Телекамеры это с удовольствием скушают. А что касается того, почему я здесь, так я просто хотел взглянуть на вас, посмотреть, действительно ли вы такой дурак, каким кажетесь.
— Почему это я дурак?
— Потому что поставили себя в один ряд с Фолкнером. А если бы вы были умнее, вы бы заметили, что он сумасшедший, гораздо более сумасшедший, чем все ваши дружки.
Глаза Боуэна стрельнули в сторону другого человека.
— Я н-не считаю мистера Киттима... сумасшедшим, — выдавил он с таким видом, словно вынужден был сжевать лимон целиком.
Я проследил за его взглядом. Ошметки сухой кожи, застрявшие в островках волос на лице Киттима, пульсировали под давлением нахлынувшего на него гнева. Казалось, он вот-вот лопнет. Этот малый находился в критическом состоянии №22: чтобы так выглядеть и чувствовать себя так да при этом не сойти с ума, надо уже быть законченным психом.
— Отец Фолкнер — человек невинно осужденный, — заключил Боуэн. — Все, что мне нужно, это увидеть, как свершится правосудие, а правосудие — это его полное оправдание и освобождение.
— Фемида слепа, но не глупа, Боуэн.
— Иногда и то и другое вместе. — Он поднялся. Мы были почти одного роста, но он шире меня. — Преподобный Фолкнер скоро станет центральной фигурой для нового движения, объединяющей фигурой. Мы привлекаем все больше и больше сторонников в наши ряды. С людьми приходят деньги, сила и влияние. Это совсем несложно, мистер Паркер. Это все очень просто. Фолкнер — это средство. А я — альфа и омега нашего дела. Теперь я предлагаю вам уехать и полюбоваться видами Южной Каролины, пока вы еще в состоянии это сделать. У меня такое ощущение, что это ваш последний шанс. Мистер Киттим проводит вас до машины.
С Киттимом рядом я прошел через толпу. Команды телевизионщиков уже упаковали свои вещи и уехали. К празднованию присоединились дети, которые принялись бегать между ног своих родителей. Музыка раздавалась со стороны импровизированных столов, музыка кантри, в которой пелось о войне и мести. Были установлены жаровни для барбекю, запах свежезажареного мяса наполнял воздух вокруг. Стоя вплотную к одной из жаровен, человек с гладко зачесанными назад волосами жадно пожирал обжаренный хот-дог. Я отвернулся раньше, чем он успел перехватить мой взгляд. Я узнал в нем человека, который следил за мной от аэропорта до «Чарлстон Плейс» а позже показал меня Ларузу-младшему. Оба они — Атис Джонс и Вилли Виман подтвердили мне, что покойный Лэндрон Мобли, вдобавок к тому, что был клиентом Эллиота, был также одним из боевых псов Боуэна. Мобли, как оказалось, помогал также и Ларузам охотиться на Атиса, перед тем как погибла Марианна. Теперь прояснилась еще одна связь между Ларузами и Боуэном.
Возле машины я обернулся к Киттиму. Он опять снял очки, показывая свои глаза. Некий предмет лежал на траве между нами. Он указал пальцем на него.
— Вы что-то уронили, — сказал Киттим.
Это была черная ермолка, прошитая красной и золотой тесьмой. Она оказалась буквально пропитана кровью. Ее не было здесь, когда я парковал машину.
— Не думаю, что это мое, — заметил я.
— Я предлагаю вам взять ее с собой. Уверен, что вы знаете некоторых старых жидов, которые будут рады получить ее. Это поможет им ответить на некоторые вопросы, должно быть возникшие у них.
Киттим повернулся ко мне спиной, сделал из пальцев пистолет и выстрелил в меня на прощание через плечо.
— Еще увидимся, — пообещал он.
Я поднял с земли ермолку и смахнул с нее грязь. Внутри не было имени, но я знал, что она могла появиться только из одного источника. Я отъехал подальше к ближайшему пестрому магазинчику и позвонил в Нью-Йорк.
* * *
День подходил к концу, а я так и не смог связаться с Эллиотом, так что пришлось отправляться на его поиски. Я подъехал к дому Нортона, но рабочие не видели его со вчерашнего дня, и по их словам выходило, что хозяин не ночевал дома прошлой ночью. Тогда я вернулся в Чарлстон и решил проверить кодовый номер партнера Эллиота, с которым он обедал в начале недели. Вытащил свой ноутбук и, игнорируя сообщение, что поступила почта, подключился к Интернету. Я отметил зону поиска в Субтрейс и менее чем через час получил ответ. Эллиот поссорился с некой Адель Фостер, проживающей на Би Три-драйв, 1200 в Чарлстоне. Я нашел эту улицу в своем атласе Делорма и поехал туда.
Дом номер 1200 представлял собой классический образец шотландского пасторского дома, построенного больше ста лет назад, с фасадом из известняка и мрамора с включениями устричных раковин. В дом вело крыльцо с двумя лестницами и навесом, поддерживаемым тонкими белыми колоннами. Справа от него был припаркован внедорожник. Я медленно поднялся по центральной лестнице, остановился в тени навеса над крыльцом и позвонил в дверь. Звук разнесся; прозвучал эхом где-то в глубине дома и почти сразу был заглушен твердыми шагами по паркету; дверь открылась. Я почти ожидал увидеть этакую Хитти Мак-Дэниэл в белоснежном переднике, но вместо нее на пороге появилась женщина, которая ссорилась с Эллиотом Нортоном в ресторанчике. За ее спиной тень дерева протянулась сквозь пустую освещенную прихожую, как грязная вода сквозь снег.
— Да?
И вдруг я понял, что не знаю, что сказать. Я и сам-то не был вполне уверен в том, зачем сюда добрался, кроме того, что не могу найти Эллиота и что-то подсказывает мне, что ссора, свидетелем которой я был, значила больше, чем обсуждение деловых, профессиональных вопросов, что между ними нечто большее, чем простые взаимоотношения между клиентом и адвокатом. Впервые увидев ее рядом, я получил подтверждение своим подозрениям: на ней было платье вдовы. Все, что было нужно, чтобы довершить наряд, это шляпка и вуаль.
— Извините, что беспокою вас, — начал я. — Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив...
Я уже собрался было полезть в карман и предъявить свое удостоверение, но выражение ее лица остановило меня. Оно не смягчилось, но мимолетно изменилось. Так, ветка дерева, качнувшаяся от ветра позволяет лунному свету блеснуть сквозь нее и осветить землю вокруг.
— Вы его человек, не так ли? — мягко произнесла она. — Вы один из тех, кого он нанял.
— Если вы говорите об Эллиоте Нортоне, то тогда да, я — его человек.
— Это он прислал вас сюда? — в вопросе не было враждебности, в нем звучала какая-то жалоба.
— Нет, я видел, как вы говорили с ним в ресторане два дня назад.
Она усмехнулась:
— Я не уверена, что можно назвать «разговором» такое общение. Он рассказал вам, кто я?
— Честно сказать, я не говорил ему, что видел вас вместе, просто записал номер вашей машины.
Она надула губки:
— Как это дальновидно с вашей стороны. Это ваша обычная манера поведения — делать записи о женщинах, которых вы никогда не встретите?
Если леди думала, что заставит меня устыдиться, ее ждало разочарование.
— Иногда, — сказал я. — Стараюсь покончить с этим, но слаб человек.
— Итак, почему вы здесь?
— Мне надо знать, не видели ли вы Эллиота.
На ее лице появилось выражение озабоченности.
— Нет, с того вечера не видела. Что-то случилось?
— Не знаю. Могу я войти, миссис Фостер?
Она моргнула.
— Откуда вам известно мое имя? Нет, давайте я угадаю: вы узнали это таким же образом, что и адрес, правда? Боже, нет больше ничего личного.
Я ждал, подстраховавшись, чтобы дверь не захлопнулась у меня перед носом. Она сделала шаг в сторону и пригласила меня войти. Я прошел за ней следом в прихожую, и дверь мягко закрылась за моей спиной.
В холле не было мебели, не было даже вешалки для шляп. Передо мной наверх поднималась лестница на второй этаж и к спальням. Справа располагалась столовая — пустой стол, окруженный десятью стульями в центре комнаты. Налево — гостиная. Я последовал за ней туда. Она уселась на краешке бледно-золотистого дивана, а я устроился в кресле возле нее. Где-то тикали часы, но в доме было тихо.
— Эллиот пропал?
— Я этого не говорил. Я оставил ему сообщения на автоответчиках. Он пока не ответил.
Она обдумала информацию. Казалось, это ее не устроило.
— И вы предположили, что я могу знать, где он?
— Вы встретились с ним за обедом. Я предполагал, что вы друзья.
— Друзья какого рода?
— Того, что обедают вместе. Вы что-то хотите сказать мне, миссис Фостер?
— В общем, нет, и я мисс Фостер.
Я принялся извиняться, но она махнула рукой:
— Это не так важно. Полагаю, вы хотите узнать о нас с Эллиотом?
Я не ответил. К чему мне копаться в ее отношениях с Нортоном больше, чем это необходимо? Впрочем, если мисс Фостер чувствует потребность выговориться, я послушаю в надежде, что сумею узнать от нее что-нибудь.
— Черт, вы видели, как мы дрались? Могли бы додумать все остальное. Эллиот был другом моего мужа. Моего покойного мужа, — она теребила блузку, и это было единственным знаком того, что она волнуется.
— Мне жаль.
Она кивнула:
— Всем жаль.
— Могу я спросить, что произошло?
Она перевела взгляд с блузки на меня и сказала мне прямо в лицо:
— Он убил себя.
Женщина кашлянула, и мне показалось, что она не сможет продолжить. Она закашлялась. Я встал и прошел через всю гостиную на яркую современную кухню, которая располагалась в пристройке к дому, нашел стакан, налил воды из-под крана и принес ей. Она сделала глоток, потом поставила стакан на низкий столик перед собой.
— Спасибо. Я не знаю, почему это случилось. Мне все еще тяжело говорить об этом. Мой муж Джеймс покончил жизнь самоубийством месяц назад. Он заперся в машине и пустил выхлопной газ по трубке, присоединенной к выхлопному отверстию, прямо в салон через окно. Это не самый обычный способ свести счеты с жизнью, как мне объяснили.
Казалось, миссис (все-таки миссис) Фостер рассказывает о таких мелочах, как простуда или сыпь. Ее голос был совершенно спокойным. Она сделала еще один глоток.
— Эллиот был адвокатом моего мужа и его другом.
Я ждал.
— Мне не стоит говорить вам об этом, — добавила она. — Но если Эллиот ушел...
То, как она произнесла «ушел» заставило мой желудок содрогнуться от спазма, но я не стал ее прерывать.
— Эллиот был моим любовником, — сказала она наконец.
— Был?
— Это закончилось незадолго до смерти моего мужа.
— А когда началось?
— Почему вообще происходят такие вещи? — спросила она, пропуская вопрос мимо ушей.
Миссис Фостер хотела рассказать, и она расскажет об этом, но в привычном для себя темпе.
— Скука, неудовлетворенность, муж, слишком уставший на работе, чтобы заметить, что его жена сходит с ума. Вы понимаете?
— Ваш муж знал об этом?
Она помолчала, перед тем как ответить, как будто бы впервые задумалась об этом.
— Даже если и знал, он ничего не говорил. По крайней мере, мне.
— А Эллиоту?
— Он понял намеки... Их можно было понимать по-разному.
— И как же их понял Эллиот?
— Что Джеймс знает. Это Эллиот решил положить конец нашим отношениям. Мне не оставалось ничего другого, как смириться.
— Итак, почему вы поругались за обедом?
Она принялась разглаживать какую-то несуществующую складочку на юбке.
— Кое-что произошло. Эллиот знал, но делал вид, будто не знает. Они все притворяются.
Тишина в доме вдруг показалась зловещей. В таком доме должны быть дети, подумал я. Он слишком велик даже для двоих, а уж тем более для одного. Такие дома строят богатые люди в надежде, что здесь поселится их большая семья, но я не видел даже следов семьи. Здесь была только эта женщина во вдовьем платье, методично разглаживающая складки на своей юбке, как будто она могла разгладить рукой прошлые ошибки.
— Кто это «все они»?
— Эллиот, Лэндрон Мобли, Греди Труэт, Фил Поведа, мой муж и Эрл Ларуз-младший — вот кто.
— Ларуз? — я не мог сдержать удивления.
Снова на лице Адель Фостер появилась тень улыбки:
— Они росли вместе, все шестеро. Теперь что-то начало происходить. Смерть моего мужа была началом, Греди Труэта — продолжением.
— А что случилось с Греди Труэтом?
— Кто-то ворвался в его дом через неделю после смерти Джеймса. Греди привязали к креслу в его холостяцкой берлоге, а затем перерезали горло.
— И вы полагаете, что эти смерти связаны между собой?
— Вот что я думаю: Марианна Ларуз была убита десять недель назад. Джеймс умер через шесть недель после этого. Греди Труэта убили спустя неделю после смерти моего мужа. Теперь мертвым найден Лэндрон Мобли, а Эллиот пропал.
— Кто-нибудь из них был в близких отношениях с Марианной Ларуз?
— Нет, никто, если вы имеете в виду интимные отношения, но, я же сказала, они росли вместе с ее братом и хорошо знали ее окружение, да и сами входили в него. Хотя, может быть, за исключением Лэндрона Мобли. Но все остальные — наверняка.
— И что, как вы полагаете, произошло, мисс Фостер?
Она сделала глубокий вдох, ее ноздри дрогнули, голова поднялась, затем медленно опустилась. В этом движении была такая сила духа, еще более подчеркнутая ее вдовьим нарядом, что я понял, что могло привлекать Эллиота в ней.
— Мой муж убил себя, потому что боялся, мистер Паркер. Что-то, что он сделал когда-то, пришло, чтобы поймать его. Он рассказывал Эллиоту, но Эллиот ему не поверил. Муж не стал рассказывать мне о том, что это было. Напротив, делал вид, будто все идет нормально до того дня, когда пошел в гараж с куском желтого шланга и убил себя. Эллиот тоже старался делать вид, что все в порядке, но, я думаю, он знает больше, чем говорит.
— А чего, по вашему мнению, боялся покойный мистер Фостер?
— Не чего — он боялся кого-то.
— У вас есть какие-то соображения по поводу того, кто бы это мог быть?
Адель Фостер поднялась и движением руки попросила меня следовать за ней. Мы поднялись по лестнице наверх, прошли через то, что в прежние времена служило в качестве комнаты ожидания для пришедших с визитом, а теперь было превращено в роскошную спальню. Мы остановились перед запертой дверью, она повернула ключ, торчавший в замке, и отперла ее.
Эта комната служила когда-то небольшой спальней или гардеробной, но Джеймс Фостер превратил ее в кабинет. Здесь стояли компьютерный стол и кресло, а также чертежная доска и ряд шкафов вдоль одной стены, заполненных книгами и папками. Окно выходило во дворик перед домом; верхушка цветущего кизила была видна в нижнем его уголке, последние белые цветы увяли и осыпались. Сойка сидела на верхней ветке кизила, но наше движение за стеклом потревожило ее, и она внезапно исчезла, махнув на прощание голубым хвостом.
По сути, птица лишь на мгновение отвлекла мое внимание, от стен этой странной комнаты. Не могу сказать, в какой цвет они были покрашены, потому что краски не было видно под чешуйками листов белой бумаги, приклеенными к стенам. Комната как будто пребывала в постоянном движении, потому что листы трепетали на сквозняке. Листы были самых разных размеров: некоторые с почтовую открытку, другие больше чертежной доски Фостера. Одни были желтыми, другие темными; одни гладкими, другие разлинованными. Детали менялись от рисунка к рисунку. Моментальные наброски, сделанные короткими точными штрихами карандаша, соседствовали с тщательно прорисованными изображениями. Джеймс Фостер был почти художником, но, казалось, у него есть только одна тема, воплощенная в десятках рисунков.
Каждый рисунок изображал женщину с загадочным выражением лица. Ее тело закутано белой тканью с головы до ног. Ткань стекала с ее тела, как вода с ледяной скульптуры. Это не было ложным впечатлением, потому что Фостер старался показать, что ткань, в которую завернута незнакомка, мокрая. Белая ткань облекала ее ягодицы, ноги, грудь и узкие, тонкие, как клинки, пальцы рук: каждый сустав пальца отчетливо проступал сквозь ткань там, где женщина сжимала ее в кулаке.
Но что-то неправильное было в ее коже, что-то порочное и отвратительное. Казалось, вены на ее теле находятся не под слоем кожи, а располагаются поверх нее, образуя сеть пересекающихся каналов по всему телу, словно каналы на затопленных рисовых полях. В результате казалось, что женщина под вуалью как бы покрыта плотной чешуей, словно аллигатор.
Бессознательно вместо того, чтобы подойти ближе и лучше рассмотреть рисунки, я отступил назад от стены и почувствовал, как рука Адель Фостер мягко похлопала меня по плечу, успокаивая.
— Ее, — сказала она, — ее он боялся.
* * *
Мы перешли к кофе. Некоторые из рисунков лежали на кофейном столике перед нами.
— Вы показывали это полиции?
— Эллиот велел мне не делать этого, — покачала она головой.
— А он объяснил вам, почему?
— Нет. Он сказал только, что будет лучше не показывать им рисунки.
Я рассортировал наброски, откладывая изображения женщины в сторону, и обнаружил серию из пяти пейзажей. Каждый из них изображал одно и то же место: гигантскую яму в земле, окруженную деревьями, похожими на скелеты. На одном из рисунков из ямы поднимался столб огня, но и в нем легко угадывался силуэт женщины, обернутой языками пламени.
— Это место существует?
Миссис Фостер взяла у меня рисунок и принялась его изучать, потом вернула его мне, пожав плечами:
— Не знаю. Вам надо было бы спросить Эллиота. Он мог знать.
— Я не смогу сделать этого, пока не найду его.
— Боюсь, с ним что-то случилось, может быть, то же самое, что произошло с Лэндроном Мобли.
На сей раз, я услышал неприязнь в ее голосе, когда она произносила имя Мобли.
— Он вам не нравится?
Она нахмурилась.
— Лэндрон был скотиной. Я не знаю, почему они позволили ему оставаться с ними. Нет, знаю. Когда они были молодыми повесами, он мог доставать для них разные вещи: наркотики, спиртное, а может, и женщин. Он знал места, где это искать. Мобли был не такой, как Эллиот или другие. Не имел ни денег, ни внешности, ни колледжа за спиной, но всегда был готов отправиться в те места, куда благополучные мальчики ходить боялись, по крайней мере, в первый раз.
Нортон, довольно сильный адвокат, согласился представлять интересы Мобли в суде, несмотря на то, что это не принесло бы ему никаких доходов. А ведь это тот же Эллиот Нортон, который рос вместе с Ларузом-младшим, а теперь представлял интересы молодого человека, обвиняемого в убийстве его, Ларуза, сестры. Час от часу не легче.
— Вы говорили, что они совершили что-то, когда были молодыми, и теперь это что-то вернулось и охотится на них. У вас есть какие-нибудь мысли по поводу того, что бы это могло быть?
— Нет. Джеймс никогда не говорил об этом. Мы были не очень близки в последнее время. Он так сильно изменился: ничего общего с человеком, за которого я выходила замуж. Он опять начал якшаться с Мобли. Они вместе охотились на Конгари, потом Джеймс начал посещать стрип-клубы. Я думаю, он встречался и с проститутками.
Я аккуратно положил рисунки на стол.
— Вы знаете, куда именно он ходил?
— Я следила за ним два или три раза. Он всегда отправлялся в одно и то же место, потому что туда любил ходить Мобли, когда бывал в городе. Это «Лэп-Ленд».
* * *
Пока я беседовал с Адель Фостер, окруженный образами призрачной дамы, мужчина с растрепанными волосами в ярко-красной рубашке, синих джинсах и растоптанных башмаках брел по Нью-Йорку вверх по Норфолк-стрит, что в Нижнем Ист-Сайде, и остановился в тени Оренсанс-Центра — старейшей синагоги города. Был жаркий вечер, и он взял такси, чтобы доехать сюда, не страдая от жары и неудобств метро. Длинная цепочка детей, растянувшаяся между двумя женщинами, по виду членами еврейской общины, прошествовала мимо него. Одна из цепочки, маленькая девочка с темными кудряшками, улыбнулась незнакомцу, проходя мимо, и он улыбнулся в ответ, и вот уже она скрылась за утлом, повернув на соседнюю улицу.
Мужчина поднялся вверх по ступенькам, открыл дверь и вошел в здание синагоги. Он услышал шаги позади себя и обернулся, чтобы увидеть старика с веником в руках.
— Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросил уборщик.
— Мне нужен Бен Эпштейн, — сказал посетитель.
— Его здесь нет, — последовал ответ.
— Но он здесь бывает?
— Иногда.
— Вы ждете его сегодня вечером?
— Может быть. Он приходит и уходит.
Посетитель отыскал в углу стул, развернул его так, чтобы спинка была обращена к двери, и осторожно уселся на него верхом, немного поерзав и устроившись поудобнее. Он положил подбородок на сцепленные руки и начал внимательно разглядывать старика.
— Я подожду. Я очень терпелив.
Старик пожал плечами и начал подметать.
Прошло пять минут.
— Эй, — окликнул его посетитель. — Я сказал, что очень терпелив, но я же не каменный, черт возьми. Сходите и позовите Эпштейна.
Старик вздрогнул, но продолжал подметать.
— Ничем не могу помочь.
— А я думаю, что можете, — сказал посетитель, и от его тона старик буквально примерз к тому месту, где стоял. Посетитель не шелохнулся, но его добродушие, которое заставило маленькую девочку улыбнуться, теперь исчезло без следа.
— Скажите ему, что это насчет Фолкнера. Эпштейн придет.
Он закрыл глаза, а когда открыл их снова, на месте, где только что стоял старик, кружился столб пыли.
Эйнджел снова закрыл глаза и принялся ждать.
Было почти семь часов вечера, когда появился Эпштейн в сопровождении двух мужчин, чьи свободные рубашки навыпуск не могли скрыть оружия под ними. Увидев человека, сидящего на стуле, Эпштейн расслабился и показал своим охранникам, что они могут оставить его наедине с посетителем. Затем он тоже взял стул и сел напротив Эйнджела.
— Вы знаете, кто я? — спросил Эйнджел.
— Знаю, — кивнул Эпштейн. — Вас зовут Эйнджел. Странное имя, потому что я не вижу в вас ничего ангельского.
— Да и нет ничего ангельского, на что бы стоило смотреть. Зачем оружие?
— Нам угрожают. Мы полагаем, что только что потеряли одного из наших молодых людей. Теперь мы должны найти человека, который виновен в его смерти. Вас прислал Паркер?
— Нет, я пришел сюда сам. С чего вы взяли, что меня прислал Паркер?
Эпштейн выглядел удивленным.
— Мы недавно говорили с ним, незадолго до того, как узнали о том, что вы здесь. Мы предположили, что оба эти события связаны между собой.
— Да уж, воистину, великие умы мыслят одинаково.
Эпштейн вздохнул:
— Он однажды процитировал мне Тору. Я был потрясен. Вы же, я полагаю, несмотря на свой ум, не станете мне цитировать Тору. Или Каббалу.
— Точно, — подтвердил Эйнджел.
— Перед тем как прийти к вам, я читал Шефер Ха Бахир — Книгу Сияния. Я давно задумывался о ее значении, а теперь, после смерти моего сына, размышляю об этом гораздо чаще. Мне хотелось постичь смысл его страданий, но я недостаточно мудр, чтобы понять, что там написано.
— Вы полагаете, страдание должно иметь какой-то смысл?
— Все имеет смысл. Все в мире создано Богом.
— В таком случае, когда я предстану перед лицом Создателя, у меня найдется пара «теплых» слов для Него.
Эпштейн зябко, по-стариковски потер руки и грустно улыбнулся:
— Скажите им. Он всегда слушает, всегда наблюдает.
— Не верю. Вы думаете, Он слушал и наблюдал, как умирал ваш сын? Или, еще хуже, Он слушал и наблюдал, но решил ничего не предпринимать?
Старик невольно содрогнулся от боли, причиненной словами Эйнджела, но тот, казалось, не заметил реакции собеседника. Эпштейн подавил выражение ярости и горя на своем лице.
— Вы говорите о моем сыне или о себе? — мягко спросил он.
— Вы не ответили на вопрос.
— Он — Создатель: все на свете — плод Его творения. Я не пытаюсь изобразить, что мне ясен Божий промысел. Вот почему я читаю Каббалу. Я даже не понимаю всего, о чем там написано, но мне понемногу открывается ее великий смысл.
— И что же там написано в качестве объяснения мучений и смерти вашего сына?
На сей раз Эйнджел заметил, какую боль его слова причинили старику.
— Простите, простите меня! — сказал он, краснея. — Иногда я прихожу в ярость.
Эпштейн кивнул:
— Я тоже бываю зол. Наверно, это говорит о гармонии между верхним и нижним мирами, между видимым и невидимым, между добром и злом. Миром над нами и миром под нами с ангелами, которые перемещаются между ними. Настоящими ангелами, а не по названию только.
Он улыбнулся.
— И, после того как я прочел все это, я стал размышлять о сущности вашего друга Паркера. В Зогаре написано, что ангелы должны облачиться в земные одежды, когда они сходят в этот мир. Интересно, является ли одинаково справедливым для ангелов добра и зла, что они должны пребывать в нашем мире переодетыми. Об ангелах Тьмы говорится, что их пожирают другие создания — ангелы разрушения, приносящие мор, ненависть и ярость, которые выражают гнев Божий. Два воинства Господа сражаются друг с другом, потому что Всемогущий создал зло, которое служит Его целям, как и добро. Я должен верить в это, иначе смерть моего сына не имеет никакого смысла. Я должен верить, что его страдания — это часть общей картины, которую я не в состоянии охватить взглядом, жертва во имя более высокой цели подлинного добра.
Бен Эпштейн наклонился вперед:
— Может быть, ваш друг — один из этих ангелов, — заключил он. — Один из служителей Бога: разрушитель, в то же время восстанавливающий гармонию между мирами. Возможно, его подлинная природа скрыта от нас, а может, и от него самого.
— Не думаю, что Паркер — ангел, — усмехнулся Эйнджел. — Я полагаю, что и он так не думает. Если Берд начнет твердить, что он ангел, его жена заставит его доказать это делом.
— Вы уверены, будто все это — бредни старика? Возможно, так оно и есть. Стало быть, стариковские бредни, — он отмахнулся от своих слов изящным жестом руки. — Итак, что привело вас сюда, мистер Эйнджел?
— Мне хочется спросить кое о чем.
— Я расскажу вам все, что смогу: вы наказали того, кто отнял у меня сына.
— Верно, — сказал Эйнджел. — И теперь я собираюсь уничтожить того, кто послал его.
Эпштейн сморгнул.
— Он в тюрьме.
— Его собираются освободить.
— Если они его отпустят, придут другие люди. Они будут защищать его, и они спрячут его так, что вы не сможете до него добраться. Он очень важен для них.
Такого Эйнджел не ожидал. Он ошарашенно смотрел на старика.
— Не понимаю. Чем он для них так важен?
— Тем, что он собой представляет, — вздохнул Эпштейн. — Вы знаете, что такое зло? Это отсутствие сочувствия: отсюда проистекает все зло на Земле. Фолкнер — пустое место, существо, в котором нет никаких чувств, и он настолько близок к абсолюту, к абсолютному злу, насколько это вообще возможно в нашем мире. Но Фолкнер страшен не только этим: у него есть способность аккумулировать бесчувственность других людей. Он, как энергетический вампир, повсюду распространяет свою заразу. Потому что одно зло притягивает к себе другое, и людское и демоническое, — вот почему они постараются защитить его. А ваш друг Паркер страдает от любви к людям, у него слишком обостренные чувства. Он представляет собой полную противоположность Фолкнеру. Он, случается, разрушает, впадает в гнев, но это — праведный гнев, а не просто ярость, которая греховна по сути и действует наперекор воле Божьей. Я смотрю на вашего друга и вижу его колоссальные возможности в действии. Если и добро и зло — порождения Всевышнего, то зло посетило Паркера, отняв у него жену и ребенка, что и послужило инструментом для добра так же, как и смерть Джосси. Посмотрите, скольких адептов зла выследил ваш друг, и в результате был восстановлен мир для остальных — живых и мертвых, восстановлен баланс между мирами. В том, что Паркер чувствует себя ответственным за все, что ему пришлось пережить, я вижу промысел Божий. Эйнджел недоверчиво покачал головой:
— Стало быть, это своего рода испытание для него или для всех нас?
— Нет, не испытание — возможность доказать самим себе, что мы достойны спасения, возможность найти пути к спасению и, может быть самим обрести его.
— Меня больше заботит реальный мир, а не тот.
— Это одно и то же. Они оба реальны и не отделены друг от друга, между ними только тонкая черта. И ад и рай начинаются прямо здесь.
— Ну да, один из них — точно.
— Вы разгневанный человек, не так ли?
— Я пришел сюда за помощью, а выслушал еще одну проповедь. И я еще раз приду.
Эпштейн поднял руки, словно защищаясь и улыбнулся:
— Итак, вы здесь, потому что вам нужна наша помощь? Наша помощь в чем?
— Роджер Боуэн.
Улыбка Эпштейна стала шире.
— С превеликим удовольствием, — сказал он.
Глава 18
Я покинул Адель Фостер и направился обратно в Чарлстон. Ее муж стал навещать «Лэп-Ленд» незадолго до своей смерти, и это был тот самый клуб, в котором работал Терезий. Терезий намекнул мне что Эллиот знает больше, чем рассказал мне, об исчезновении матери и тети Атиса Джонса, а из того что удалось узнать Адель Фостер, стало ясно, что Нортону и группе его бывших друзей сейчас серьезно угрожает какая-то внешняя сила. В эту компанию входил младший Ларуз и трое уже погибших мужчин: Лэндрон Мобли, Греди Труэт и Джеймс Фостер.
Я снова попытался дозвониться Эллиоту, но безрезультатно, потом поболтался вокруг его офиса на перекрестке, который местные называли Угол Четырех Законов, поскольку церковь Святого Михаила архангела, Федеральный суд, здание суда штата и мэрия здесь смотрели окнами друг на друга. Контора Эллиота занимала место в доме еще с двумя юридическими фирмами, у всех был один общий вход с улицы. Я сразу же направился на четвертый этаж, но здесь за матовым стеклом двери не было никаких признаков жизни. Я снял свой пиджак, прижал его к двери и использовал рукоятку пистолета, чтобы пробить отверстие в стекле. Затем просунул руку в образовавшуюся дыру и открыл замок. Небольшая приемная со столом секретаря и шкафами с папками вела в офис Эллиота. Дверь оказалась не заперта. Внутри кабинета все ящики были выдвинуты и папки с делами разбросаны по креслам и столу. Кто бы это ни был, мужчина или женщина, он точно знал, что ищет. В кабинете не осталось ежедневника, книги с телефонами и адресами, а когда я попытался заглянуть в компьютер, то оказалось, что требуется ввести пароль для доступа. Я провел несколько минут, изучая расставленные в алфавитном порядке дела, но не смог найти ничего на Лэндрона Мобли и на Атиса Джонса, что бы не было мне известно. Я выключил свет, перешагнул через осколки стекла у двери и тихо прикрыл ее.
Адель дала мне адрес Фила Поведы, одного из быстро тающей компании друзей. Я подъехал к его дому в Хэмптоне в тот момент, когда высокий человек с длинными черными волосами с проседью и пестрой бородой закрывал дверь своего гаража. Когда я подошел к нему, он замер. Человек казался нервозным и расстроенным.
— Мистер Поведа?
Он не ответил.
Я вытащил свое удостоверение.
— Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив. Могу я поговорить с вами несколько минут?
Он все еще не отвечал, но, по крайней мере, дверь гаража оставалась открытой. Я воспринял это, как положительный знак. Я был не прав. Фил Поведа, который выглядел, как хиппующий компьютерный гений, нацелил на меня пистолет. Это был 38-й калибр, и он дрожал в руках Поведы, как желе, но все равно это был пистолет.
— Убирайтесь отсюда, — сказал он. Его рука все еще дрожала, но по сравнению с голосом она была тверда, как скала. Поведа буквально разваливался на части от страха. Я видел это по его глазам, по морщинам вокруг рта, по язвам на лице и шее. Дорогой я думал, не он ли виноват каким-то образом в том, что происходит. Теперь, увидев его полное разложение и ужас, я понял, что он был потенциальной жертвой, а не возможным убийцей.
— Мистер Поведа, я могу помочь вам. Я знаю, что-то происходит. Люди умирают, люди с которыми вы когда-то были близки: Греди Труэт, Джеймс Фостер, Лэндрон Мобли. Я полагаю, что и смерть Марианны Ларуз как-то связана с этим. Теперь пропал Эллиот Нортон.
Он моргнул.
— Эллиот? — Еще один маленький осколок надежды, казалось, рассыпался на кусочки в его мозгу и растворился в чувстве обреченности.
— Вам надо поговорить с кем-нибудь. Я думаю, что когда-то в прошлом вы со своими друзьями что-то сделали, а теперь последствия того дела вернулись, чтобы мучить вас. Курносый ствол тридцать восьмого калибра в трясущейся руке не спасет вас от того, что приближается.
Я сделал шаг вперед, но дверь гаража захлопнулась передо мной раньше, чем я успел подойти к ней Я забарабанил в нее.
— Мистер Поведа! — закричал я. — Поговорите со мной.
Никто не ответил, но я чувствовал, что он стоит в ожидании за дверью, прижавшись к металлической створке, в ловушке собственных страхов. Я вытащил из бумажника визитную карточку, частично просунул ее в щель под дверью и оставил несчастного там вместе с его грехами.
Когда я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на дверь гаража, карточки не было.
Терезия в «Лэп-Ленде» не оказалось, когда я зашел туда, а Крошка Энди, храбрость которого теперь была усилена двумя охранниками в черных пиджаках у дверей и присутствием бармена, был не в настроении помогать мне. Мне не удалось получить ответа и из комнаты, где жил Терезий: согласно сведениям старика, который постоянно проживал на крыльце дома, он ушел на работу утром и еще не возвращался. Все как всегда — чем больше нужно поговорить с человеком, тем сложнее его найти.
Я пошел по Кинг-стрит и зашел в «Южную кухню Дженнет». Это заведение оказалось реликтом прошлых времен, когда людям надо было брать подносы и стоять в очереди, чтобы получить жареного цыпленка, рис и свиную отбивную за прилавком. Я был единственным белым среди всех, но никто не обращал на меня особого внимания. Передо мной дымились цыпленок с рисом, но аппетита все еще не было. Я пил и пил один стакан лимонада за другим, чтобы освежиться, но это не помогло. Меня все еще лихорадило. Скоро здесь будет Луис, говорил я сам себе. Все встанет на свои места. Я отставил тарелку в сторону и отправился обратно в гостиницу.
Когда на город опустилась тьма, я вновь разложил на столе изображения женщины. Папка, в которой были фотографии с места убийства Ларуз и рапорты по делу, лежала у левой руки. Все остальное доступное пространство занимали рисунки Джеймса Фостера. На одной картине женщина была запечатлена в тот момент, когда она, обернувшись, смотрела через плечо. Место, где должно было находиться ее лицо, скрывали черные и серые тени; костяшки ее пальцев проступали сквозь ткань, облекавшую тело, которое выглядело как венозная сетка или чешуя, покрывающая кожу. Здесь, казалось, ощущалась какая-то сексуальная притягательность, смесь отвращения и вожделения, выраженная в художественной форме. Очертания ее ягодиц и ног были тщательно прописаны, как будто солнце просвечивало сквозь ткань; соски набухли. Она была похожа на коварную ламию из мифов, прекрасную женщину со змеиным хвостом, завлекающую путешественников своим чарующим пением, чтобы убить их, как только они приблизятся. На этом рисунке чешуя покрывала все тело незнакомки — мифологического персонажа, символизирующего мужские страхи перед агрессивной женской чувственностью. И именно это толкование нашло благодатную почву в воображении Фостера.
Был и второй постоянный мотив в его рисунках — яма, окруженная камнями и суровой бесплодной землей; тени тощих деревьев лежали на земле, как фигуры скорбящих над могилой. На одном рисунке яма была лишь темной дырой, напоминающей черты лица женщины; комки земли складывались в очертания губ и покрывало, обернутое вокруг лица. Но на другом столб огня вырывался из глубины земли, как будто бы в земле была прорыта скважина, уходящая в земную кору или в самый ад. Женщину в центре этого столба сжирало пламя, ее тела касались оранжевые и красные языки огня, ноги были раскинуты, а голова запрокинута назад в приступе боли или страсти. Здесь нужен бы скрупулезный психоанализ, но и без него совершенно ясно, что у Фостера была очень неуравновешенная психика. Это абсолютно точно.
Последняя вещь, которую его вдова позволила мне взять из кабинета Фостера, была фотография шести молодых парней, стоящих вместе перед баром. Неоновая реклама пива «Миллер» светилась за их спинами. Эллиот Нортон улыбался, в правой руке он держал бутылку пива «Бад», а левой обнимал за пояс Ларуза-младшего. Рядом с ним стоял Фил Поведа, который был выше всех. Он опирался о корпус автомобиля, скрестив ноги и с руками, сплетенными на груди, бутылка пива зажата под локтем слева. Следующим в ряду был самый низкорослый член компании с невыразительным лицом и кудрявыми волосами — мальчик-мужчина с начинающей пробиваться бородкой и ногами, которые казались слишком короткими для его тела. Он был снят в позе танцора: левая нога и левая рука вытянуты вперед, правая рука поднята высоко над головой, струйка текилы сверкает в неоновом свете, выливаясь из бутылки в его руке — покойный Греди Труэт. Рядом с ним мальчишеское лицо робко смотрит в объектив снизу вверх, голова опущена на грудь. Это и есть Джеймс Фостер.
Последний из парней не улыбался так широко, как остальные. Его усмешка казалась неловкой, одежда какой-то дешевой. На нем были джинсы и рубашка в клетку. Он стоял, неловко выпрямившись, посреди грязной парковочной площадки, посыпанной гравием, и выглядел как один из тех, кто не хочет, чтобы его фотографировали. Лэндрон Мобли — самый бедный из всех шестерых, единственный, кто не учился в колледже, не делал никаких успехов на каком-либо общественном поприще, единственный, кто никогда не выезжал за пределы штата Южная Каролина, чтобы как-то продвинуться в жизни. Но у Мобли была своя собственная сфера деятельности: Лэндрон мог раздобыть наркотики, он мог найти дешевых, неряшливых женщин, которые готовы были отдаться за бутылку пива. Большие кулаки Лэндрона могли поколотить всякого, кто бы решился поживиться за счет кучки богатеньких мальчиков, забравшихся на чужую территорию, наложивших лапу на чужих женщин, выпивающих в барах, где их не ждали. Лэндрон был пропуском в мир, благами которого эти пятеро представителей «золотой молодежи» хотели пользоваться и наслаждаться, но частью которого они не собирались становиться. Лэндрон был привратником. Лэндрон знал свое дело.
Теперь Лэндрон мертв.
По словам Адель Фостер, обвинения в недостойном поведении, выдвинутые против Мобли, для нее не были сюрпризом. Она знала, что собой представляет Лэндрон, знала, что он любит делать с девушками и даже, почему он систематически проваливался на экзаменах в колледж. И, хотя ее муж обещал порвать с ним всякие отношения, Адель видела, как они разговаривали с Лэндроном за пару недель до смерти Джеймса, видела, как Лэндрон похлопывает его по плечу и садится в его машину. Она видела, как муж дает ему небольшую пачку денег из своего бумажника. Она поругалась с ним в тот вечер только для того, чтобы в результате муж сказал ей, что Лэндрона покинула удача с тех пор, как он потерял работу, и Джеймс всего лишь дал ему денег, чтобы Мобли мог уехать и оставить его в покое. Она не поверила, а поездки Джеймса в «Лэп-Ленд» только усилили ее подозрения. Со временем пропасть между мужем и женой становилась все больше, и она рассказала мне, что вовсе не с Джеймсом, а с Эллиотом Нортоном она поделилась своими страхами по поводу Лэндрона Мобли, когда лежала рядом с ним в небольшой комнате над его офисом. В комнате, где он иногда оставался ночевать, когда работал над особенно сложным делом и которую теперь использовал для удовлетворения других, более насущных потребностей.
— Он просил у тебя денег? — спросила она Эллиота.
— Лэндрону всегда нужны деньги, — ответил Эллиот, глядя в сторону.
— Это не ответ.
— Я знаю Лэндрона очень давно, и, конечно, помогаю ему время от времени.
— Почему?
— Что значит «почему»?
— Я не понимаю, что вас может связывать. Он не похож на остальных из вашей компании. Нет, я могу понять, чем он мог быть полезен вам, когда вы были необузданными юнцами...
Он дотронулся до нее:
— Я все еще необуздан.
Но Адель мягко оттолкнула его руку.
— А теперь, — продолжала она, — какую роль может играть в вашей жизни такой человек, как Лэндрон Мобли? Вам давно пора оставить его в прошлом.
Эллиот сбросил с себя простыни и вскочил. Он стоял в лунном свете голым, спиной к ней, и его плечи были опущены так, будто на него вдруг обрушилось все и он не может выстоять под давлением обстоятельств.
А потом он произнес нечто странное:
— Есть вещи, которых мы не можем оставить в прошлом, — сказал он. — Они следуют за нами всю нашу жизнь.
Вот и все, что он сказал. Через минуту она услышала звук льющейся в душе воды и поняла, что ей пора уходить.
Это было их последнее любовное свидание.
Но лояльность Эллиота в отношении Лэндрона Мобли простиралась гораздо дальше простой помощи, когда тому нужна была некоторая сумма денег. Эллиот представлял интересы своего старого друга в том, что на поверку оказалось грязным делом, связанным с изнасилованием. Теперь оно было закрыто и аннулировано в связи со смертью Мобли. Вдобавок к этому Эллиот, казалось, стремился разрушить давнюю дружбу с Ларузом-младшим, взявшись защищать молодого чернокожего, с которым у Эллиота не было никакой видимой связи. Я выложил на стол все свои записи, которые сделал к этому времени, и начал штудировать их заново в надежде найти что-то, что мог проглядеть раньше. Только когда я разложил листочки друг рядом с другом, мне в глаза бросилась странная взаимосвязь: Дэвид Смут был убит в Алабаме всего за несколько дней до исчезновения матери и тети Джонса в Южной Каролине. Я снова вернулся к чтению заметок, которые набрасывал во время разговора с Рэнди Буррисом о событиях, сопровождавших смерть Смута, а также поиски и последующий арест Терезия. Согласно тому, что сам Терезий рассказал мне, он направился в Алабаму, чтобы получить помощь Смута, сбежавшего из Южной Каролины в феврале 1980. Это было через несколько дней после якобы имевшего место изнасилования Эдди Джонс. Смут скрывался в убежище до июля 1981 года, когда поссорился с Терезием, а затем был им убит. Терезий отрицал перед обвинителем, что его стычка со Смутом была каким-либо образом связана с разговорами о том, что Смут изнасиловал Эдди. Эдди Джонс же родила сына Атиса в начале августа 1980 года.
Здесь была какая-то ошибка.
Звонок мобильного телефона отвлек меня от размышлений. Я сразу же узнал номер на дисплее. Звонили из «надежного дома». Я ответил после второго звонка. В трубке молчали, только раздавался мерный стук, как будто кто-то размеренно стучал трубкой по земле.
Тук-тук-тук.
— Алло?
Тук-тук-тук.
Я схватил пиджак и выскочил в гараж. Интервалы между отдельными звуками становились длиннее, и я точно знал, что человек на другом конце провода в опасности, силы его убывают, и это единственный способ, которым он или она мог связаться с кем-либо.
— Я еду, — сказал я. — Держись. Просто держись.
* * *
Возле нашего надежного дома, переминаясь с ноги на ногу, стояли трое молодых чернокожих. Один из них держал нож и направил его на меня, когда я выбежал из машины. Но, увидев пистолет у меня в руке, парень поднял руки вверх, не сопротивляясь.
— Что случилось?
Он не ответил, но молодой человек постарше, стоящий рядом с ним, сказал:
— Мы услышали, как разбилось стекло. Мы ничего не делали.
— Вот и продолжайте в том же духе, только отойдите назад.
— А пошел ты, мужик! — последнее слово должно было остаться за ними, но они не сделали и движения по направлению к дому.
Входная дверь оказалась заперта, так что мне пришлось обойти дом, чтобы войти через черный ход. Его дверь была широко распахнута, но не повреждена. Кухня пустовала, но знаменитый кувшин для лимонада теперь валялся на полу. Мухи, жужжа, кружились над жидкостью, растекшейся по дешевому линолеуму.
Старика я нашел в гостиной. В его груди зияла кровоточащая рана, и он лежал, как подбитая птица, в луже крови, растекшейся в форме крыльев под его спиной. В левой руке Синглтон держал телефон, а пальцы правой царапали деревянный пол. В этом движении было столько отчаянной силы, что ногти были сорваны, из пальцев текла кровь. Он пытался придвинуться к своей жене. Я видел ее ногу в дверном проеме, тапок, который сполз с ее пятки. На ее ноге сзади была кровь.
Я встал на колени перед стариком и обнял его голову, пытаясь найти что-нибудь, чем можно было бы остановить поток крови из раны. Я стаскивал с себя пиджак, когда он схватился за мою рубашку, сжимая ее в кулаке.
— Я не дыра-рот! — прошептал он. Его зубы были розовыми от крови. — Я не откываа рот!
— Знаю, — сказал я и почувствовал, как мой голос срывается. — Я знаю, что ты не сказал ничего. Кто это сделал, Альберт?
— Платейе, — прошептал он. — Платейе.
Старик отпустил мою рубашку и снова потянулся к своей мертвой жене.
— Джинни, — его голос почти иссяк. — Джинни, — повторил он и умер.
Я опустил его голову на пол, встал и подошел к женщине. Она лежала лицом вниз, на ее спине были две огнестрельные раны: одна слева от позвоночника, вторая — прямо напротив сердца. Пульс не прощупывался.
Я услышал шум за спиной и оглянулся, чтобы увидеть, что один из парней с улицы стоит в дверях кухни.
— Не входи! — предупредил я. — Позвони 9-1-1.
Он бросил взгляд на меня, на тело старика, а потом пропал.
Сверху не раздавалось ни звука. Сын стариков Сэмюэль лежал голый и мертвый в ванне; занавеска была зажата в его руке, а вода из душа продолжала поливать лицо и тело мертвеца. Он получил две пули в грудь. Осмотрев все четыре комнаты наверху, я не обнаружил никаких следов Атиса, но окно в его комнате оказалось разбито, и на крыше кухни были раздавлены некоторые черепицы. Похоже, он выпрыгнул из окна, а это значит, что, возможно, Атис все еще жив.
Я спустился вниз и стоял во дворе, когда появилась полиция. Мой пистолет снова был убран в кобуру, и я держал в руках лицензию и разрешение на частную практику. Естественно, полицейские изъяли мой пистолет и телефон и заставили меня сидеть в машине, пока не появились детективы. К этому времени начала собираться толпа, и полицейские делали все возможное, чтобы оттеснить зевак. Мигалки на машинах выхватывали из толпы отдельные лица и дома вокруг. Собралось уже очень много машин, когда прибыла передвижная лаборатория, которая доставила еще пару детективов из отдела по расследованию убийств, которые решили, что хотят побеседовать со мной.
Я сказал им, чтобы они нашли Атиса Джонса, которого они, как оказалось, уже искали, но не как потенциальную жертву, а как подозреваемого в убийствах Марианны и Синглтонов. Они, конечно, были неправы. Я знал, что они неправы.
* * *
На заправочной станции в Южном Портленде около «ниссана» стоял, согнувшись, человек и заливал в бак бензин на двадцать долларов. Кроме «ниссана» на заправке был только один автомобиль, «Шеви С-10» 1986 года с помятым правым крылом, которое обеспечило новому владельцу скидку 1100 долларов с общей суммы, которую он должен был выплатить до конца года. Это была первая машина, которую Медведь смог купить за много лет, и он страшно этим гордился. Теперь вместо того, чтобы устроить себе очередную ходку в тюрьму, он каждое утро садился за руль и ехал на работу, включив музыку на полную громкость.
Медведь едва взглянул на человека, заправлявшего свой «ниссан». В тюрьме он повидал достаточно много странных людей, чтобы знать, что в их присутствии лучшее, что можно сделать, это заниматься своими делами. Он заправил машину на деньги, взятые в долг у сестры, проверил давление во всех камерах и уехал.
Сайрус сразу же заплатил за бензин работнику автозаправки и прекрасно осознавал, что молодой человек все еще разглядывает его, завороженный видом скрюченного тела незнакомца. И, хотя Сайрус уже привык к антипатии, которую он вызывал у людей, ему казалось, что слишком явно показывать это — признак дурных манер. Парню повезло, что он находился в безопасности за стеклом и что у Сайруса были другие дела в настоящий момент. Все равно, если у него будет время, он еще вернется сюда и объяснит мальчишке, что пялиться на человека неприлично. Сайрус повесил шланг, сел в машину и достал из-под сиденья свою тетрадь. Он всегда делал тщательные записи обо всем, что видел и делал, потому что было важно не забыть что-либо полезное.
Парень тоже попал в тетрадь вместе с другими наблюдениями Сайруса за этот вечер: передвижениями рыжеволосой женщины по дому и внезапным неприятным появлением высокого чернокожего, которое сделало Сайруса несчастным.
Сайрус не любил, когда кровь мужчин проливалась на него.
Глава 19
Чарлстонское полицейское управление располагалось в доме из красного кирпича на бульваре Локвуд, напротив стадиона Джо Рил и, и выходило фасадом на парк Бриттлбэнк и реку Эшли. В комнате для допросов посмотреть особо было не на что, если не считать физиономий сменяющих друг друга во время допроса взбешенных детективов, которые не первый час «мариновали» меня.
Чтобы понять, что такое Чарлстонское полицейское управление, надо понимать, кто такой его шеф — Рейбен Гринберг. Гринберг возглавлял его с 1982 года и вопреки такому долгому пребыванию в этой должности оставался очень популярным шефом полиции. За восемнадцать лет работы в качестве начальника он ввел целый ряд усовершенствований, которые постепенно привели к обузданию, а в некоторых районах к существенному сокращению уровня преступности. Он делал все, начиная с осуществления программы «Зерна и плевелы» в беднейших районах и до заказа кроссовок для офицеров, чтобы они могли эффективнее преследовать уголовников. Уровень особо тяжких преступлений за эти годы начал постоянно снижаться, что позволило Чарлстону служить примером для любого города на Юге того же размера.
К сожалению, смерть Синглтонов означала, что все надежды на то, что прошлогодние показатели по снижению уровня преступности будут перевыполнены, растаяли. Всякий, кто имел хотя бы отдаленное отношение к снижению хороших показателей по статистике убийств, был фигурой чрезвычайно непопулярной на бульваре Локвуд, 180.
Я был здесь просто persona non grata.
После часа, проведенного в запертой патрульной машине около дома Синглтонов, меня привели в комнату, раскрашенную в два отвратительных оттенка и обставленную корявой офисной мебелью. Чашка кофе, давно стоявшая передо мной, из горячей стала чуть тепленькой. Впрочем, детективы, которые допрашивали меня, тоже были уже чуть тепленькие.
— Эллиот Нортон, — в который раз повторил первый. — Вы сказали, что работаете на Эллиота Нортона.
Его фамилия была Адамс. Пятна пота проступили у него под мышками сквозь ткань голубой рубашки, лицо стало иссиня-черным, а глаза налились кровью. Я уже дважды повторил ему, что работаю на Эллиота Нортона, мы уже разбирали последние слова Альберта раз десять, но Адамс не видел причин, почему бы мне не повторить все это еще и еще раз.
— Он нанял меня для того, чтобы я собрал данные по делу Джонса, — устало повторял я. — Мы забрали Атиса из камеры предварительного заключения в округе Ричленд и привезли его в дом к Синглтонам. Это было надежное и безопасное место.
— Ошибка номер два, — сказал партнер Адамса. Его фамилия была Аддамс, и он был так же бледен, как его партнер — черен. Похоже, у кого-то в Чарлстонском управлении извращенное чувство юмора.
Это была лишь третья его реплика с начала допроса.
— А что тогда ошибка номер один? — спросил я.
— Влезть в дело Джонса, — ответил он. — Или, возможно, вы ошиблись уже тогда, когда сошли с борта самолета в Чарлстонском аэропорту. Смотрите-ка, теперь у вас набралось уже три ошибки.
Он улыбнулся. Я улыбнулся в ответ. Это была дань вежливости.
— Вас не смущает, что одного из вас зовут Адамс и другого тоже Адамс?
Мой собеседник нахмурился:
— Нет, слушай, я — Аддамс, с двумя д. А он — Адамс, с одним. Это просто.
Казалось, он относится к этому очень серьезно. Чарлстонское управление ввело особую шкалу повышения зарплаты и надбавок, в зависимости от уровня образованности, с 7 процентов для младших офицеров и до 22 процентов для магистров права. Я узнал об этом, читая и перечитывая бумаги на стенде над головой Аддамса. Полагаю, что фонд поощрения образования в случае с Аддамсом совершенно пуст, если только они не выдают ему по 5 центов в месяц за диплом колледжа.
— Итак, — сделал вывод его партнер, — вы забрали его, устроили в надежном доме, вернулись к себе в гостиницу...
— Почистил зубы, лег спать, встал, проверил, как там Атис, сделал несколько звонков...
— Кому вы звонили?
— Эллиоту, некоторым людям в Мэне.
— Что вы сказали Нортону?
— Ничего особенного. Мы всего лишь затронули некоторые вопросы. Он спросил меня, как продвигаются дела, и я ответил, что только начал.
— А что вы делали потом?
Мы снова подошли к тому месту, где тропинки правды и лжи расходятся. Я выбрал нечто среднее в надежде, что потом опять вернусь к правде.
— Я пошел на стриптиз.
Правая бровь Адамса недоверчиво поднялась вверх.
— Зачем вы это сделали?
— Да со скуки.
— Нортон платит вам за то, чтобы вы посещали стриптиз?
— Это был мой перерыв на обед, мое личное время.
— А потом?
— Вернулся обратно в гостиницу. Поужинал. Лег спать. Сегодня утром пытался дозвониться Эллиоту — не удалось; проверил показания свидетелей, вернулся в свой номер. Через час мне позвонили.
Адамс устало поднялся из-за стола и обменялся взглядом с партнером.
— Мне кажется, Нортон неразумно тратил свои деньги на вас, — сказал он.
Впервые я заметил, что он говорит о Эллиоте в прошедшем времени.
— Что вы имеете в виду, говоря «тратил»?
Они опять обменялись взглядом, но никто не ответил.
— У вас есть какие-нибудь материалы, относящиеся к делу Джонса, которые могут помочь в расследовании этого преступления? — спросил Аддамс.
— Я задал вам вопрос.
Голос Аддамса перешел в крик:
— Я тоже задал вам вопрос: у вас есть материалы, которые могли бы помочь следствию?!
— Нет, — соврал я. — Они все были у Эллиота.
Я поймал сам себя и поправился:
— Они все у Эллиота. А теперь расскажите мне, что произошло.
Заговорил Адамс:
— Дорожный патруль нашел его машину около шоссе №176, вниз от Сэнди-роуд. Она была в воде. Все выглядело так, будто он старался объехать что-то на дороге, резко вывернул руль и оказался в реке. Тело не нашли, но в машине есть кровь. BII, резус положительный, что соответствует группе и резусу Нортона. Мы знаем, что он принимал участие в донорских акциях, так что мы сравнили образцы из машины с теми, которые имелись на донорском пункте.
Я опустил голову на руки и сделал глубокий вдох. Сначала Фостер, затем Труэт и Мобли, а теперь Эллиот. Остаются только двое: Эрл Ларуз-младший и Фил Поведа.
— Я могу идти?
Я хотел вернуться в свой номер и убрать материалы от греха подальше. Я только надеялся, что Адамс и Аддамс не ходили за ордером на обыск, пока я сидел взаперти.
Прежде чем кто-либо из детективов успел ответить, дверь в комнату для допросов распахнулась. Вошедший был на пять-семь сантиметров выше и на двадцать лет старше меня. У него были коротко стриженные седые волосы, серо-голубые глаза, и нес он себя так, будто только что спустился с борта авианосца «Перрис Айленд», чтобы поймать нескольких морячков, убежавших в самоволку. Впечатление усиливалось его аккуратной формой с прикрепленным к ней бейджиком. На нем значилось лаконичное «С. Стилвелл». Подполковник Стилвелл был начальником оперативного отдела Чарлстонского управления полиции, и подчинялся непосредственно шефу полиции.
— Это тот человек, детектив? — рявкнул он.
— Да, сэр, — ответил Аддамс.
Он бросил на меня взгляд, который означал, что мои проблемы еще только начинаются и он предвкушает то, что последует дальше.
— Почему он здесь? Почему он еще не занял постоянное место жительства в камере с самым мерзким сбродом и самыми отвратительными отбросами общества, которые только может предложить этот прекрасный город?
— Мы допрашивали его, сэр.
— И он ответил на ваши вопросы удовлетворительно, детектив?
— Нет, сэр, не ответил.
— Что, действительно не ответил?
Стилвелл повернулся к Адамсу:
— Вы, детектив, хороший человек, разве не так?
— Я стараюсь, сэр.
— Не сомневаюсь, детектив. И разве вы не прикладываете все усилия для того, чтобы выглядеть как можно лучше рядом со своим напарником?
— Да, сэр.
— Я не ожидал от вас другого. Вы читаете Библию?
— Не так часто, как должен бы, сэр.
— Черт возьми, точно, детектив. Никто не читает Библию так часто, как следует. Человек должен жить по слову Господню, а не изучать его. Я прав?
— Да, сэр.
— И разве Библия не говорит нам о том, чтобы мы думали хорошо о своих ближних, чтобы мы давали им все шансы, которых они заслуживают?
— Не могу точно сказать, сэр.
— И я не могу, но уверен, что там есть подобное указание. А если подобного указания нет в Библии, то по недосмотру. Человек несет ответственность за то, что он сделал, и если он совершил ошибку, то он обязательно должен вернуться и исправить ее. Разве не так?
— Обязательно должен, сэр.
— Аминь. Итак, мы договорились, детектив, что вы предоставили мистеру Паркеру все возможности для того, чтобы он ответил на вопросы, которые ему были заданы. Вы, как богобоязненные люди, приняли во внимание возможное прямое указание в Библии считать все, что скажет мистер Паркер словами честного, порядочного человека; и все же вы все еще сомневаетесь в его искренности?
— Думаю, что так, сэр.
— Хорошо. Это определенно наиболее неприятный поворот событий.
Он впервые полностью переключил свое внимание на меня.
— Статистика, мистер Паркер. Давайте поговорим о статистике. Вы знаете, сколько людей было убито в чудесном городе Чарлстоне в год одна тысяча девятьсот девяносто девятый от Рождества Христова?
Я покачал головой.
— Я скажу вам: трое. Это был самый низкий уровень за более чем сорок лет. Итак, что это говорит вам о работе полиции в славном городе Чарлстоне?
Я не ответил. Он приложил левую ладонь к уху и наклонился ко мне, имитируя жест глуховатого старика.
— Не слышу тебя, сынок.
Я открыл рот, и это дало ему новый импульс, чтобы продолжить свою речь прежде, чем я успел сказать что-либо.
— Я объясню вам, что это говорит о работе полиции. Это говорит, что данное подразделение, состоящее из мужчин и женщин, не терпит убийств, что они активно препятствуют всем формам антиобщественной деятельности; что они обрушились на тех, кто совершил убийство, как две тонны дерьма из загона для слонов. Но ваш приезд в наш город совпал с шокирующим подъемом волны убийств. Это повлияет на наши статистические данные. Это оставит свой след на экране, и шеф Гринберг — прекрасный человек — должен будет пойти к мэру и объяснить этот несчастливый поворот событий. Мэр спросит его, почему это случилось, а шеф Гринберг спросит меня, и я скажу, что это из-за вас, мистер Паркер. Тогда шеф спросит меня, где вы находитесь, и я отведу его в самую глубокую и темную дыру, которая есть в нашем благословенном Чарлстоне для тех, кого город не выносит. А под этой дырой будет еще одна дыра, и в той дыре будете вы, мистер Паркер, потому что я хочу сунуть вас туда. Вы окажетесь так глубоко под землей, что официально уже никогда не сможете находиться под юрисдикцией города Чарлстона. Вы даже не будете находиться под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки. Вы будете под юрисдикцией Китайской Народной Республики, черт вас дери, и вам будет предложено нанять себе китайского адвоката, чтобы сократить расходы на поездку, понесенные вашим юридическим представителем! Вы думаете, что я вас запугиваю, мистер Паркер? Я не запугиваю вас. Я не запугиваю таких, как вы, мистер Паркер. Мне насрать на таких, как вы, и я берегу свое самое вонючее дерьмо для таких случаев, как этот! У вас есть еще что-нибудь, чем бы вы хотели поделиться с нами?
— Я не могу вам больше ничего рассказать.
Он встал.
— Тогда наше дело здесь завершено. Детективы, у нас есть камера для мистера Паркера?
— Думаю, что есть, сэр.
— И у него найдутся соседи из числа отбросов этого чудного города, пьяницы и сутенеры, люди с низкими моральными качествами?
— Мы это устроим, сэр.
— Тогда организуйте это, детектив.
Я сделал напрасную попытку заявить о своих правах:
— Могу я пригласить адвоката?
— Мистер Паркер, вам не нужен адвокат! Вам нужен катафалк дерьма, чтобы вывезти вас к чертовой матери из города! Вам нужен поп помолиться о том, чтобы вы не достали меня больше, чем вам уже удалось! И на твоем месте, сукин ты сын, я бы плакал кровавыми слезами и умолял бы: «Мамочка, роди меня обратно», потому что, если ты, ублюдок, вошь казематная, будешь чинить препятствия следствию, я выверну тебе жопу наизнанку и засуну тебя туда со всеми потрохами, мать твою!!! Пинкертон хр-р-ренов!!! Детектив, уберите этого человека с глаз моих!
Они запихнули меня в большую камеру до шести вечера, а потом, когда решили, что я уже достаточно долго парился, Аддамс пришел и выпустил меня. Когда мы направлялись к главному входу, его напарник встретил нас на полпути и наблюдал, как мы идем по коридору.
— Я ничего не нашел на Нортона и хочу, чтобы вы это знали, — сказал он.
Я поблагодарил его, и он кивнул.
— А еще я нашел, что значит «платейе». Мне пришлось спросить мистера Альфонса Брауна, человека, который устраивает экскурсии для черных по старым землям народа гулла. Он сказал, что это один из видов привидений: духи, которые могут менять форму. Может быть, все же старик пытался сообщить, что ваш клиент целился в них.
— Может быть, но у Атиса не было оружия.
Он не ответил, и его напарник подтолкнул меня.
Мое имущество было возвращено все, за исключением оружия. Мне дали квитанцию и сообщили, что пистолет они пока оставят у себя. Через стекла двери я видел, как заключенные собирались стричь газон и вычищать мусор на клумбах. Интересно, насколько сложно будет поймать такси.
— Вы собираетесь уехать из Чарлстона в ближайшем будущем? — спросил Аддамс.
— Нет, особенно после того, что произошло.
— Хорошо. Если соберетесь выехать куда-то, сообщите нам, понятно?
Я направился было к двери, но обнаружил, что рука Аддамса покоится на моей груди.
— Знайте, мистер Паркер, у меня нехорошее предчувствие на ваш счет. Я сделал несколько звонков, пока вы сидели здесь, и мне не понравилась одна вещь. Так вот, я не хочу, чтобы вы начинали один из своих «крестовых походов» в городе шефа Гринберга. Вы меня поняли? Воздержитесь от этого и убедитесь, что не забыли позвонить нам и предупредить о своем отъезде. А мы пока оставим ваш пистолет у себя до тех пор, пока не стартует ваш самолет, и лучше бы ему тут же врезаться во взлетную полосу. Тогда, возможно, мы вернем вам «пушку».
Рука опустилась, и Аддамс открыл передо мной дверь.
— Увидимся, — сказал он на прощанье.
Я остановился, изобразил замешательство и щелкнул пальцами.
— Как вас там?
— Аддамс.
— С одним д.
— С двумя д.
Я кивнул:
— Постараюсь запомнить.
* * *
Когда я вернулся в отель, у меня едва хватило сил на то, чтобы раздеться, прежде чем упасть в постель и проспать до десяти утра. Мне ничего не снилось, будто и не было никаких смертей прошлой ночью.
Но Чарлстон получил еще не все свои трупы. Пока тараканы разбегались по обочинам дорог, чтобы спрятаться от света наступающего дня, и последние ночные совы готовились ко сну, человек по имени Сесил Эксли шел по направлению к небольшой пекарне и кофейне на Ист-Бэй, владельцем которых он являлся. Ему надо было сделать кое-какую работу — испечь свежий хлеб и круассаны к завтраку, и, хотя короткая стрелка часов еще не добралась до шести, Сесил уже опаздывал.
На углу Франклин и Мэгэзин он слегка замедлил шаг. Громада старой чарлстонской тюрьмы возвышалась перед ним — свидетельство горя и безнадежности. Низкая белая стена окружала двор, заросший высокой зеленой травой, в центре которого стояла сама тюрьма. Красные кирпичи дорожек местами были выломаны и украдены, вероятно, теми, кто считал, что их насущные потребности гораздо важнее реликвий истории. Два одинаковых четырехэтажных здания с плоскими крышами, украшенными зубцами и сорняками, стояли по обеим сторонам от запертых ворот. Прутья ворот и решетки на окнах стали красно-оранжевыми от ржавчины. Бетон раскололся, и его куски вокруг рам выпали, обнажая кирпичную кладку. Старое здание постепенно разрушалось.
Рабы голландской колонии Весей и их союзники в неудавшемся восстании в 1822 года были прикованы цепью в сарае для порки негров на заднем дворе тюрьмы, перед тем как их казнили. Большинство из них шли на эшафот, заявляя о своей невиновности, а один из них, Бахус Хаммет, даже смеялся, когда ему на шею набрасывали петлю. Многие прошли через эти ворота прежде и после них. Сесил Эксли верил, что во всем Чарлстоне больше не найдется такого места, где прошлое и настоящее так тесно соприкасаются, где можно тихо стоять ранним утром и чувствовать, как содрогается земля от жестокости и кровавых казней прошлого. У Сесила была привычка время от времени останавливаться у ворот старой тюрьмы и мысленно читать короткую молитву за всех, кто томился здесь во времена, когда человек с цветом кожи, как у него, не мог сойти с корабля в Чарлстоне вместе с другими моряками, чтобы его немедленно не препроводили в камеру на все время стоянки.
Справа от Сесила стояла старая тюремная карета, прозванная Черной Люси. Прошло много лет, с тех пор как Люси в последний раз раскрыла свои объятия, чтобы принять новых пассажиров, но, когда Сесил присмотрелся, он заметил силуэт человека, стоящего у решетки заднего окна кареты. На секунду сердце Эксли перестало биться, он протянул руку к воротам, пытаясь опереться, чтобы не упасть. За последние пять лет у него уже были два инфаркта, и он не хотел покинуть этот мир из-за третьего. Но вместо того, чтобы поддержать его, ворота со скрежетом раскрылись внутрь тюремного двора.
— Эй, — окликнул Сэсил незнакомца и кашлянул. Его голос звучал так, будто сейчас сорвется. — Эй, — повторил он. — Вы там как, в порядке?
Фигура не шелохнулась. Эксли шагнул на территорию тюрьмы и с опаской начал приближаться к Черной Люси. Рассветное солнце осветило город, заливая первыми лучами стены тюрьмы, но фигура возле кареты все еще оставалась в тени.
— Эй, — еще раз позвал Сесил, но его голос тут же сорвался, и звук превратился в нечленораздельное мычание от того, что он увидел.
Атис Джонс был привязан к прутьям кареты. Его тело было избито, лицо окровавлено и почти неузнаваемо. Кровь потемнела и запеклась на груди. Кровью были пропитаны и белые шорты — единственная одежда, оставленная на нем. Голова свесилась на грудь, колени стягивала веревка, ноги скрещены. Не хватало только креста в виде буквы Т, но он и так походил на фигуру распятого Христа.
Старая тюрьма получила еще одно привидение.
Глава 20
Новость мне принес Адамс. Его глаза еще больше, чем раньше, налились кровью от недосыпа, когда он встретился со мной в холле «Чарлстон Плейс». Лицо детектива покрывала серо-черная щетина, которая уже причиняла ему неудобство и чесалась. Он постоянно расчесывал ее со звуком шипящего на сковороде бекона. От Адамса пахло сладким разлившимся кофе, травой, ржавчиной и кровью. Травинки прилипли к его брюкам и ботинкам. Вокруг его запястий сохранились следы, оставленные резиновыми перчатками, которые он надевал на месте происшествия, когда с трудом тащил что-то массивное.
— Мне жаль, — сказал он. — Я не могу сказать вам ничего хорошего о том, что произошло с этим парнем. Его смерть была ужасной.
Я почувствовал, как смерть Атиса тяжким грузом ложится на мои плечи, как будто мы вместе падаем, и его тело обрушивается на меня сверху. Мне не удалось защитить его. Нам всем не удалось защитить его, а теперь он умер в наказание за преступление, которого не совершал.
— Вы знаете время смерти? — спросил я Адамса, пока он намазывал кусочек тоста толстым слоем масла.
— Коронер предполагает, что к тому времени, как его нашли, он был мертв уже в течение двух или трех часов. Непохоже, что его убили на территории тюрьмы. В карете было не так много крови, а на стенах и земле у тюрьмы ее не было вообще, даже следов. Его убивали медленно и постепенно: начали с пальцев рук и ног, потом перешли к жизненно важным органам. Они кастрировали его перед смертью, но, вероятно, незадолго до нее. Никто ничего не видел. Я думаю, они поймали его раньше, чем он успел уйти достаточно далеко от дома, затем отвезли его в какое-то укромное место, где и обработали.
Я подумал о Лэндроне Мобли, о жестокости, с которой было истерзано его тело, и чуть было не проговорился. Но дать Адамсу больше, чем у него уже есть, означало дать ему все, а я не был готов сделать это. Здесь было слишком много такого, чего я сам не понимал.
— Вы собираетесь поговорить с Ларузами?
Адамс покончил со своим тостом.
— Я думаю, они узнали об этом тогда же, когда и я.
— Или раньше.
Адамс погрозил мне пальцем.
— Такого рода предположения непозволительны человеку, у которого проблемы.
Он подал знак официантке, что хочет еще кофе.
— Но, уж если вы подняли этот вопрос, зачем Ларузам убивать Джонса таким образом?
Я промолчал.
— Я имею в виду характер ранений: он свидетельствует о том, что люди, убившие Джонса, хотели что-то выяснить перед тем, как он умер. Вы думаете, они хотели, чтобы он сознался?
Я чуть не задохнулся от возмущения.
— Зачем?! Для успокоения его души? Нет. Если эти люди пошли на то, чтобы уничтожить его охранников, а затем замучили его, мне кажется, у них не было особых сомнений насчет того, почему они так поступают.
Хотя, была, конечно, вероятность того, что Адамс прав в своем предположении и последнее признание могло быть мотивом. Предположим, что люди, которые разыскали Атиса, были почти уверены в том, что он убил Марианну Ларуз, но быть почти уверенным недостаточно. Они хотели получить признание из его собственных уст, потому что, если он невиновен, тогда последствия были бы гораздо более серьезными: настоящий преступник мог ускользнуть. Последние сутки свидетельствовали о том, что какие-то люди были всерьез озабочены тем, что кто-то убил Марианну Ларуз по каким-то конкретным причинам. Кажется, настало время задать некоторые щекотливые вопросы Ларузу-младшему, но я не хотел бы делать этого в одиночестве. Завтра Ларузы устраивают прием, и я ждал, что ко мне в Чарлстоне присоединится один замечательный парень. У Ларузов будут два званых гостя, которые в конце концов разрушат мир их неограниченных возможностей.
В тот день я провел ряд изысканий в публичной библиотеке Чарлстона. Я поднял подшивки газет о смерти Греди Труэта, но там было немногим больше того, что рассказала мне Адель Фостер. Неизвестные люди пробрались в его дом, привязали его к стулу и перерезали бедняге горло. Отпечатки пальцев не были найдены, но группа, которая осматривала место происшествия, нашла нечто. Не бывает мест преступления, где бы не осталось никаких следов. Меня так и подмывало позвонить Адамсу, но если я сделаю это, то тем самым рискую выболтать все, что у меня есть. Я также нашел еще кое-что о платейе. Судя по книге Роджера Пинкни «Голубые корни», платейе были постоянными обитателями мира духов, потустороннего мира, хотя могли проникнуть в мир смертных, неся возмездие. У них была способность менять форму. Как и говорил Адамс, платейе были оборотнями.
Я покинул библиотеку и направился на Митинг-стрит. Терезий так и не возвращался в свою квартиру и не показывался на работе уже два дня. Никто ничего не мог сказать о нем. Стриптизерша, которая взяла мои двадцать долларов, а потом отправила меня на улицу к Крошке Энди, тоже не показывалась.
Наконец я позвонил в офис государственных защитников и мне сказали, что Лэйрд Райн защищает клиента в суде штата сегодня во второй половине дня. Я припарковал машину около своего отеля и направился к Четырем Законам, где нашел Райна в зале №3 за обсуждением дела женщины по имени Йоханна Белл, которая обвинялась в том, что нанесла мужу телесные повреждения холодным оружием во время ссоры. Предположительно, они с мужем проживали раздельно в течение трех месяцев, когда он вернулся домой и разразился скандал по поводу того, кому принадлежит видеомагнитофон. Ссора резко оборвалась, когда она пырнула его ножом. Мистер Белл сидел на два ряда впереди жены, изо всех сил жалея себя, любимого.
Райн держался очень хорошо, когда просил судью заменить ей освобождение под залог на освобождение под честное слово. Ему было чуть больше тридцати лет, но он не даром считался опытным адвокатом: привел убедительные доводы, подчеркивая, что миссис Белл прежде не была правонарушительницей; упомянул о том, что в период совместного проживания ей приходилось не раз вызывать полицию из-за разного рода угроз и психического давления со стороны мужа; что она не сможет оплатить залог и что ее нельзя помещать в тюрьму, поскольку у нее маленький сын. Райн выставил ее мужа полным ничтожеством, которому повезло, что ему всего лишь проткнули легкое, и судья согласился освободить Йоханну под честное слово, данное суду. После суда она обняла Райна и взяла на руки сына у пожилой женщины, которая стояла, ожидая ее, в коридоре.
Я поймал Райна на ступеньках здания.
— Мистер Райн?
Он остановился и что-то похожее на озабоченность промелькнуло на его лице. Как начинающий государственный защитник он сталкивался с самыми примитивными формами жизни и иногда был вынужден защищать тех, по ком плакала виселица. Я не сомневался, что в некоторых случаях жертвы его клиентов переносили свой гнев на адвоката.
— Да?
Вблизи он выглядел еще моложе: ни единого седого волоска, и голубые глаза прикрыты длинными мягкими ресницами. Я мельком показал ему свою лицензию. Он бросил на нее взгляд и кивнул.
— Чем могу помочь, мистер Паркер? Вы не возражаете, если мы поговорим по дороге? Я обещал жене сводить ее поужинать.
Я приноровился к его шагам.
— Я работаю с Эллиотом Нортоном по делу Атиса Джонса, мистер Райн.
Он запнулся, как будто сразу же утратил свою манеру держаться, потом пошел немного быстрее, я тоже ускорил шаги, чтобы нагнать его.
— Я больше не занимаюсь этим делом, мистер Паркер.
— С тех пор как умер Атис, это уже не дело. Точка.
— Я слышал, мне жаль.
— Не сомневаюсь. У меня есть к вам несколько вопросов.
— Я не уверен, что смогу ответить на какие-либо вопросы. Может быть, вам стоит спросить мистера Нортона?
— Я бы так и сделал, если бы Эллиот был поблизости, но мои вопросы весьма деликатного свойства.
Он остановился на перекрестке, пережидая красный свет и бросил на светофор вполне красноречивый взгляд, который давал понять, что Райн воспринимает его скромную роль своей жизни слишком близко к сердцу.
— Я же сказал, не знаю, чем могу помочь вам.
— Почему вы отказались от дела?
— У меня было много других дел.
— Но не таких, как это.
— У меня не такая большая клиентура, чтобы я мог выбирать, брать мне дело или нет, мистер Паркер. Мне дали дело Джонса. Оно должно было отнять у меня массу времени. Я мог бы завершить десять дел за то время, которое мне потребовалось, чтобы всего лишь ознакомиться с документами по этому делу. Мне не было жаль, что оно ушло от меня.
— Не верю.
— Почему?
— Потому что вы молодой государственный защитник. Вы, вероятно, амбициозны, и, как я понял, сидя в зале суда, эти амбиции вполне оправданы. Дело такого высокого уровня, как убийство Марианны Ларуз, попадается не каждый день. Если бы вы хорошо проявили себя, пусть даже проиграли бы дело, это открыло бы перед вами новые возможности. Я не думаю, что вы так легко расстались с ним.
На светофоре загорелся зеленый, и нас стали пихать со всех сторон люди, переходившие улицу. Но Райн все не двигался.
— Вы на чьей стороне, мистер Паркер, во всем этом?
— Я пока не решил. Хотя в конечном итоге полагаю, что я на стороне погибшей женщины и умершего мужчины, чего бы это ни стоило.
— А Эллиот Нортон?
— Друг. Он попросил меня приехать сюда. Я приехал.
Райн повернулся, чтобы посмотреть мне в лицо.
— Меня попросили передать дело ему, — сказал он.
— Через Эллиота?
— Нет. Он никогда не подходил ко мне. Это был другой человек.
— Вы знаете кто?
— Он сказал, что его фамилия Киттим. У него что-то не так с лицом. Он пришел ко мне в офис и сказал, что я должен позволить Эллиоту Нортону защищать Атиса Джонса.
— И что вы ответили?
— Я объяснил ему, что не могу этого сделать: нет никаких причин. И тогда он сделал мне предложение...
Я ждал.
— У всех нас есть скелеты в шкафу, мистер Паркер. Скажем так, он дал мне бегло взглянуть на себя самого. У меня жена и маленькая дочь. В начале нашей совместной жизни я сделал несколько ошибок, но потом не повторял их. Я не предполагал, что мою семью могут отнять за грехи, которые я пытался скрыть. В общем, пришлось объяснить Джонсу, что Эллиот Нортон более опытный юрист, который поведет его дело. Парень не возражал. Я ушел. С тех пор я не видел Киттима, и надеюсь больше никогда его не встретить.
— Когда он был у вас?
— Три недели назад.
Три недели назад... Примерно в это же время был убит Греди Труэт. Затем Джеймс Фостер, а еще раньше — и Марианна Ларуз. Как сказала Адель Фостер, что-то происходит, и, что бы это ни было, со смертью Марианны Ларуз оно стало набирать обороты.
— Это все, мистер Паркер? — спросил адвокат. — Я не в восторге от того, что сделал. И я бы не хотел пройти через это еще раз.
Спасибо, что согласились поговорить, мистер Райн.
— Мне действительно очень жаль Атиса, — сказал он.
— Я уверен, что ему там спокойнее, — ответил я.
Я вернулся в гостиницу. Там меня ждала записка Луиса, сообщавшего, что он приедет следующим утром немного позже, чем предполагалось. Отлично!
Этой ночью я стоял у окна гостиницы, привлеченный постоянно повторяющимся сигналом автомобиля. Напротив, через улицу перед банкоматом стоял черный «кадиллак» с разбитым лобовым стеклом и включенным двигателем. Пока я наблюдал, позади водительского сидения открылась дверца, и оттуда появилась девчонка-подросток. Она стояла у открытой двери и манила меня рукой, ее губы беззвучно двигались.
— Я нашла местечко, куда мы можем поехать.
Ее бедра двигались в такт музыке, слышной только ей. Девчонка задрала свою юбку, оказавшись совершенно голой, но лишенной признаков пола; кожа ее была мягкой на вид, как у резиновой детской куклы. Она облизнула губы.
— Спускайся.
Это странное существо водило рукой по своей мягкой коже.
— Я нашла местечко...
Она сделала попытку навязать себя мне еще раз, потом прыгнула обратно в машину, которая начала медленно отъезжать. Из-под полуприкрытой дверцы на дорогу посыпались пауки. Я принялся счищать несуществующую паутину со своего лица и волос, и мне пришлось принять душ, чтобы окончательно смыть ощущение, будто по мне ползут многоногие твари.
Глава 21
В начале десятого меня разбудил стук в дверь. Инстинктивно я потянулся за пистолетом, которого у меня больше не было. Я обернул полотенце вокруг талии, затем осторожно подкрался к двери и глянул в замочную скважину.
Нечто выше двух метров в изумительно подогнанном костюме и преисполненное республиканской гордости геев обрисовалось в вырезе замочной скважины.
— Я видел, что ты подглядываешь, — сказал Луис вместо приветствия, когда я открыл дверь. — Черт, ты что никогда не ходишь в кино? Парень стучит в дверь, герой с голой задницей выглядывает, и парень разряжает обойму голозадому в глаз.
Он был в черном льняном костюме, дополненном белой рубашкой без воротника. Аромат дорогого одеколона проследовал вслед за ним в комнату.
— От тебя несет за версту, как от французской проститутки, — сказал я ему.
— Даже если я французская шлюха, ты не можешь мне этого запретить. Кстати, мог бы кинуть на личико немного «штукатурки», раз уж пригласил меня к себе в номер.
Я остановился, увидел себя в зеркале на двери и отвел взгляд. Он был прав, я сам бы сошел за привидение: мертвенно-бледен, под глазами темные круги, губы потрескались и обветрились. К тому же этот невыносимый металлический привкус во рту.
— Я что-то подцепил.
— Вот дерьмо! Какого хрена ты там подцепил? Чуму? Краше в гроб кладут, полюбуйся на себя.
— Да что с тобой? Решил помолиться за упокой моей души?
Он поднял руки, отступая:
— Эй, ты вообще-то рад, что я приехал? Как мило, что ты так высоко ценишь меня.
Пришлось извиняться.
— Ты зарегистрировался?
— Угу, там какой-то мудак — извини, но он все-таки мудак — пытался сунуть мне свои чемоданы в дверях.
— И что ты сделал?
— Взял их, поставил в кабину лифта, дал мужику пятьдесят долларов и велел ему передать их на благотворительность.
— Класс!
— Мне тоже приятно так думать.
Я оставил его смотреть телевизор, а сам пошел принять душ и одеться. Потом мы направились в кафе «Диана» на Митинг-стрит выпить кофе и перекусить. Я съел половину сэндвича и отложил его в сторону.
— Надо поесть. Что, фигово тебе?
Я покачал головой:
— Уже все прошло.
— Когда все пройдет, ты умрешь. Итак, что там у нас на повестке дня?
— Как обычно: мертвецы, тайны, опять мертвецы.
— Кого мы потеряли?
— Мальчишку. Семью, которая его укрывала. Может быть, Эллиота Нортона.
— Черт, все это звучит так, как будто у нас никого не осталось. Тому, кто нанимает тебя, лучше сразу оговорить выплату гонорара в своем завещании.
Я посвятил его во все, что произошло за последнее время, не упомянув только о черном «кадиллаке». Не было нужды обременять его еще и этим.
— Итак, что ты собираешься делать?
— Сунуть палку в осиное гнездо и разозлить некоторых ос. У Ларузов сегодня вечеринка. Я думаю, мы можем воспользоваться их гостеприимством.
— Мы получили приглашение?
— Отсутствие оного нас когда-нибудь останавливало?
— Нет, но иногда мне хочется быть приглашенным — ты знаешь, о чем я говорю, — вместо того, чтобы вламываться куда-то, подвергаться угрозам, беспокоить милых белых людей, пугая их большим черным дядькой.
Луис помолчал. Казалось, он задумался о том, что только что сказал, затем его лицо прояснилось.
— Звучит здорово, не так ли? — сказал я.
— Действительно хорошо, — согласился он.
Большую часть пути в направлении плантаций Ларузов мы проделали в разных машинах. Луис припарковал свою в полумиле от ворот, перед тем как присоединиться ко мне. Я спросил его об Эйнджеле.
— У него какое-то дело.
— Что-то, о чем мне следует знать?
Он какое-то время смотрел на меня, взвешивая возможные варианты ответа.
— Не знаю. Возможно, не сейчас.
— Угу. Я смотрю, ты сам создаешь новости.
Луис пару секунд молчал.
— Эйнджел рассказал тебе что-то?
— Он всего лишь назвал город. Вы ждали очень долго, чтобы расплатиться по этому счету?
Он пожал плечами.
— Они заслуживали того, чтобы быть убитыми, но не того, что пришлось ехать за этим так далеко.
— И, поскольку ты занят здесь...
— Полагаю, что мне следует на этом остановиться, — закончил он. — Разрешите идти, шеф?
Я не стал продолжать расспросы.
У входа в поместье Ларузов высокий человек в форме помахал нам, чтобы мы остановились.
— Могу я взглянуть на ваше приглашение, джентльмены.
— Мы не получили его, — сказал я, — но я совершенно уверен, что кое-кто ждет нас.
— Ваши имена?
— Паркер. Чарли Паркер.
— Вдвоем, — беспомощно добавил Луис.
Охранник сказал что-то в свой переговорник, отойдя от нас так, чтобы не было слышно. Мы ждали, две или три машины выстроились в очередь за нами, пока охранник закончил разговор.
— Вы можете проезжать. Мистер Киттим встретит вас на парковке.
— Вот сюрприз так сюрприз! — воскликнул Луис. — Поэтому-то я и работаю детективом.
Меня вдруг поразило, что, невзирая на все мои опасения по поводу последствий «несчастного случая» в Каине, я почувствовал себя лучше с тех пор, как появился Луис. Оно и понятно: благодаря ему теперь у меня опять был пистолет, и я был совершенно уверен, что у Луиса в запасе есть еще хотя бы один ствол для себя самого.
Мы проехали полмили по аллее из дубов, пальметт и пальм, большинство из которых заросло испанским мхом. Цикады стрекотали в кронах деревьев, а капли дождя, начавшегося утром и теперь почти закончившегося, стучали по крыше и дороге, пока мы не выехали из тени деревьев на открытую лужайку. Другой охранник в белых перчатках и форме показал нам, где нужно оставить машину, — под одним из брезентовых тентов, натянутых, чтобы защитить автомобили от палящего солнца. Края брезента высоко вздымались от потоков воздуха, выдуваемых большими промышленными кондиционерами, расположенными на лужайке. По трем сторонам квадрата были расставлены длинные столы, накрытые хрустящими крахмальными скатертями. На них громоздилось огромное количество всевозможной еды; проворные официанты в свежайших белоснежных рубашках и черных брюках описывали круги вокруг столов, с нетерпением поджидая гостей. Остальные двигались в толпе, которая постепенно собиралась на лужайке, разнося шампанское и коктейли. Мы с Луисом переглянулись. Помимо слуг он был единственным цветным из всех присутствующих. И он был единственным гостем, одетым в черное.
— Тебе надо было хотя бы надеть белый пиджак, что ли — сказал я. — Ты выглядишь как восклицательный знак. Плюс мог бы заработать несколько баксов чаевых.
— Посмотри на этих братьев, — невпопад заметил Луис. — Здесь что, никто не слышал о Весей?
У моих ног над травой пролетела стрекоза, разыскивая добычу. Здесь не было птиц, которые, в свою очередь, могли бы поохотиться на нее, — по крайней мере, я не слышал и не видел ни одной. Единственным представителем животного мира оказалась цапля, стоящая к северо-востоку от дома в небольшом болотце, заросшем водорослями. Перед ним ровными рядами были высажены дубы и орехи пеканы, около которых находились остатки небольших строений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Их черепичные крыши разрушились, а кирпич и раствор выкрошились и за прошедшие полтора века рассыпались. Только я все равно смог угадать, что это было: руины бараков для рабов.
— Ты думаешь, им надо было снести их? — спросил я.
— Это наследие, — сказал Луис. — Именно здесь развевался флаг Конфедерации, и всегда под рукой были свежие пододеяльники для специального облачения.
Дом Ларузов был старинной усадьбой на фундаменте из красного кирпича. Он был построен в григорианском стиле виллы Палладио, относящемся к середине восемнадцатого века. Лестница из известняка, два марша, расположенные по обеим сторонам крыльца, вела под портик с мраморным полом. Четыре дорические колонны поддерживали свод галереи, которая проходила по фасаду здания. По обе стороны портика я насчитал по четыре окна на двух этажах. Элегантно одетая публика собралась в тени парадного входа, оживляя это претенциозное строение.
Наше внимание отвлекла группа белых мужчин, которые быстро пересекли лужайку. У всех наушники, и все они нещадно потели в своих темных костюмах, не спасали и кондиционеры. Единственным исключением был человек в центре группы: Киттим, должно быть, неплохо чувствовал себя в голубом блейзере поверх брюк цвета загара и грошовых ботинках. Его белая рубашка была застегнута на все пуговицы, голова и лицо в основном прикрыты бейсболкой и темными очками, но они не могли скрыть ножевого ранения на его правой щеке.
Атис! Вот почему креста в виде буквы Т не оказалось на его теле, когда беднягу обнаружили.
Киттим остановился примерно в полутора метрах от нас и поднял руку. Мгновенно мужчины вокруг него замерли, а затем окружили нас полукругом. Не было сказано ни слова. Внимание Киттима переключалось с Луиса на меня, а потом опять на Луиса. Словно приклеенная, улыбка не сошла с его лица, даже когда Луис произнес:
— Кто, черт возьми, вы такой?
Киттим не обратил на него внимания.
— Это Киттим, — объяснил я.
— Разве он не душка!
— Мистер Паркер, — сказал Киттим, все еще игнорируя Луиса. — Мы вас не ждали.
— Я надумал приехать в последнюю минуту, — ответил я. — Некоторые необычные смерти внесли коррективы в мой распорядок дня.
— М-м, — сказал Киттим. — Мне ничего не остается, как заметить, что вы и ваш коллега, кажется, вооружены.
— Вооружены? — я недоуменно посмотрел на Луиса. — Я же говорил тебе, это вечеринка совсем другого рода.
— Никогда не вредно прийти, заранее подготовившись. Ребята все равно не воспринимают нас всерьез, — сказал Луис.
— О, я отношусь к вам очень серьезно, — сказал Киттим, как будто впервые увидев его. — Настолько серьезно, что буду признателен, если вы последуете за нами в подвал, где мы сможем разрядить ваше оружие, не беспокоя остальных гостей.
Я уже успел заметить, что гости начинают бросать на нас любопытные взгляды. И, как по команде, струнный квартет начал играть на другом конце поляны. Они исполняли вальс Штрауса. Как трогательно!
— Никакого насилия, ребята, но мы не пойдем с вами ни в какой подвал, — глубокий низкий голос Луиса звучал абсолютно спокойно, даже с насмешкой, а бровь выжидающе-вопросительно поднялась вверх. — Так, что же вы собираетесь с нами сделать? Пристрелить на лужайке? Здесь будет та еще вечеринка, если вы это сделаете. О таком будут еще долго-долго вспоминать: «Эй, помните прием у Ларузов, когда эти потные парни и прокаженный мудак попытались отнять пистолеты у двух парней, которые приехали с опозданием? Они прикончили их, и кровь залила все платье Бесси Блюшип. Парни, как мы повеселились...»
Напряженность постепенно усиливалась. Люди Киттима ждали знака, что делать, но он не двигался. Его улыбка так и оставалась словно приклеенной на лице. Пожалуй, он так и умрет с ней и будет похоронен, с этой глумливой гримасой. Я почувствовал, как что-то скатилось вниз по позвоночнику, и понял, что не только охранники потеют.
Напряженность была снята голосом, который прозвучал от парадного входа:
— Мистер Киттим, не заставляйте наших гостей стоять на мокрой траве. Ведите их сюда.
Голос принадлежал Эрлу Ларузу-младшему, который выглядел очень элегантно в синем двубортном пиджаке и джинсах, с наглаженными стрелками. Его светлые волосы были зачесаны вперед, чтобы скрыть раннюю плешь, а губы казались еще более полными и женственными по сравнению с тем, как я его видел в последний раз. Киттим медленно повернул голову, показывая, что мы должны последовать этому предложению, а его люди заняли свои места вокруг нас. Для любого, кто способен соображать, было очевидно, что мы здесь такие же желанные гости, как тараканы в буфете, но гости вокруг старательно изображали, что не замечают нас. Даже слуги, и те не смотрели в нашу сторону. Нас провели через центральный вход в большой зал, выложенный сосновым паркетом. Две гостиные располагались по обе стороны зала, и изящная лестница из двух симметричных маршей вела на второй этаж. Двери за нашими спинами закрылись, и мы за считанные секунды были разоружены. Они изъяли у Луиса два пистолета и нож. На них это произвело впечатление.
— Смотри-ка, — присвистнул я, — два пистолета.
— И еще нож.
Киттим обошел всех вокруг, пока не оказался рядом с младшим Ларузом. В руках у него сверкал синий пистолет «таурус».
— Что вам здесь нужно, мистер Паркер? — спросил Ларуз. — Это закрытый прием, первый с тех пор, как умерла моя сестра.
— Почему бы не открыть шампанское по этому поводу? Вам есть что праздновать?
— Ваше присутствие здесь нежелательно.
— Кто-то убил Атиса Джонса.
— Я слышал. Вы простите меня, если я не пролью ни слезинки?
— Он не убивал вашу сестру, мистер Ларуз, но я подозреваю, что это вам известно и без меня.
— Почему вы это подозреваете?
— Потому что я думаю, мистер Киттим пытал Атиса перед тем, как убить его. Он хотел узнать, кто сделал это. Потому что вы, как и я, думаете, что тот, кто виновен в смерти Марианны, может быть, также виновен в смерти Лэндрона Мобли, Греди Труэта, самоубийстве Джеймса Фостера и, возможно, в смерти Эллиота Нортона.
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
Он не удивился, услышав имя Эллиота.
— Я также думаю, что Эллиот Нортон тоже пытался выяснить, кто это мог быть, вот почему он взял себе дело Джонса. И я начинаю склоняться к мысли, что он взялся за это дело с вашего одобрения, может быть, и не боа вашей помощи. Поскольку он недалеко продвинулся, вы взяли дело в свои руки после того как было обнаружено тело Мобли.
Я повернулся к Киттиму.
— Вы получили удовольствие от убийства Атиса Джонса, Киттим? Вам понравилось стрелять в спину старой женщине?
Я заметил его движение слишком поздно, чтобы вовремя отреагировать. Удар его кулака пришелся мне слева поддых и отправил меня в нокаут. Луис дернулся в какой-то момент, но снова замер, услышав за своей спиной щелчок пистолета.
— Вам следует поучиться хорошим манерам, мистер Паркер, — сказал Киттим. — Вы не можете приходить сюда и бросать обвинения такого рода, не вызвав в ответ никакой реакции.
Я медленно подтянулся на руках, встал на колени. Удар достиг своей цели. Я почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, а затем меня стошнило.
— О Господи, — простонал Ларуз. — Посмотрите, что вы наделали. Тоби, пришли кого-нибудь, чтобы убрали.
Нога Киттима появилась в поле моего зрения.
— Ты — кучка дерьма, Паркер.
Он наклонился так, чтобы я мог видеть его лицо:
— Мистер Боуэн тебя не любит. Теперь я вижу, почему. Не думай, что мы уже закончили. Я лично сильно удивлюсь, если ты вернешься живым из Южной Каролины. Если делать ставки, то перевес на одной стороне может быть весьма существенным, а я человек азартный, знаешь ли.
Дверь передо мной открылась, и вошел слуга. Он, казалось, не замечает пистолетов и напряженной атмосферы, царящей в комнате. Он просто присел и начал убирать, а я поднялся, качаясь на своих ногах. Вслед за слугой появился Ларуз-старший.
— Что здесь происходит? — спросил он.
— Незваные гости, мистер Ларуз, — ответил Киттим. — Они как раз собрались уходить.
Старик метнул на него косой взгляд. Было очевидно, что Ларуз не выносит Киттима и с трудом терпит его присутствие в доме, и все же Киттим находится здесь. Ларуз ничего ему не сказал, вместо этого он переключил свое внимание на сына, чья уверенность в себе начала стремительно таять в присутствии отца.
— Кто они такие? — спросил он.
— Это детектив, с которым я разговаривал в отеле. Он один из тех, кого нанял Эллиот Нортон, чтобы спасти от виселицы черного убийцу Марианны, — заикаясь, произнес Эрл-младший.
— Это правда? — спросил старик.
Я вытер тыльной стороной ладони рот.
— Нет. Я не верю, что Атис Джонс убил вашу дочь, но я найду того, кто это сделал.
— Это не ваше дело.
— Атис мертв. Убиты и люди, которые предоставили ему убежище в своем доме. Вы правы: выяснение того, что произошло, не мое дело. Это больше, чем просто дело. Это мой моральный долг.
— Я советую вам убираться со своим моральным долгом подальше. В этом случае он не приведет вас к гибели.
Он обернулся к своему сыну:
— Выдворите их из моих владений.
Ларуз-младший посмотрел на Киттима. Ему надо было выполнять этот приказ.
Немного помедлив, чтобы не уронить свой авторитет, Киттим кивнул своим людям, и они направились вперед, держа пистолеты наизготовку прижатыми к бедру так, чтобы они не бросались в глаза и не тревожили гостей, когда мы покидали дом.
— И, мистер Киттим, — добавил старый Эрл (Киттим обернулся, чтобы посмотреть на него), — на будущее, устраивайте свои экзекуции где-нибудь в другом месте. Это — мой дом. А вы не входите в штат моих слуг.
Он бросил на сына последний твердый взгляд, а затем вернулся на лужайку и присоединился к гостям.
Нас поместили в центр круга и препроводили к машине. Наши пистолеты лежали на капоте, но без патронов. Когда я готовился уезжать, Киттим наклонился к окну со стороны водителя. Запах горящей нефти был таким сильным, что меня чуть опять не стошнило.
— Следующая наша встреча будет последней, — сказал он. — Теперь бери свою дрессированную обезьяну и убирайся отсюда.
Он подмигнул Луису, стукнул по крыше кулаком и стал смотреть, как мы отъезжаем.
Я потрогал то место, куда попал кулак Киттима, и взвыл от боли.
— Ты можешь вести машину? — спросил Луис.
— Думаю, да.
— Похоже, Киттим у Ларузов чувствует себя как дома.
— Он там, потому что Боуэн хочет, чтобы он был там.
— Значит, у Боуэна есть что-то на Ларузов, если его парень распоряжается в их доме.
— Он обозвал тебя.
— Я слышал.
— Похоже, ты перенес это очень спокойно, принимая во внимание обстоятельства.
— Глупо из-за этого умирать. И вообще, мало что в этом мире стоит моей жизни. Киттим — это другое дело. Он сказал, мы еще встретимся? Ну, что ж, я подожду.
— Ты думаешь, что сможешь поквитаться с ним?
— Конечно. Куда ты направляешься?
— Получить урок истории. Я устал мило вести себя с людьми.
Луис, казалось, был слегка озадачен:
— А что ты имеешь в виду под «мило вести себя» в данный момент?
Глава 22
В гостинице меня ждало сообщение на автоответчике. Оно было от Фила Поведы. Он хотел, чтобы я позвонил ему. Его голос не был испуганным, в нем не чувствовалось паники. Я заметил даже какую-то расслабленную интонацию. Но сначала я, конечно, позвонил Рейчел. Брюс Тейлор, один из патрульных полицейских Скарборо, в это время как раз сидел у нее на кухне, пил кофе и поедал печенье. Я почувствовал себя лучше, узнав, что полицейские проведывают ее, как и обещал Мак-Артур, и что где-то там поблизости великан из «Клана киллеров» страдает, помимо прочего, от непереносимости лактозы.
— Уоллес тоже заходил несколько раз, — сообщила Рейчел.
— И как там наш мистер Одинокое Сердце?
— Он уехал за покупками во Фрипорт. Приобрел пару пиджаков в магазине «Ральф», прикупил несколько новых рубашек и галстуков. Он делает успехи, но у него еще большой потенциал. А Мэри, по-моему, действительно ему подходит.
— Безрассудная?
— Слово, которое ты пытаешься найти, — «общительная». Теперь пока. У меня тут симпатичный мужчина в форме, которым мне следует заняться.
Я повесил трубку и набрал номер Фила Поведы.
— Это Паркер, — сказал я, когда он взял трубку.
— Привет, — ответил он. — Спасибо, что позвонили.
Его голос звучал радостно, почти приветливо. Это был совсем не тот Фил Поведа, который угрожал мне оружием два дня назад.
— Я как раз заканчиваю улаживать свои дела. Ну, вы понимаете, завещание и всякое такое говно. Я, оказывается, довольно богатый человек, просто не знал об этом. Предположительно, мне следует сначала умереть, чтобы потом заработать на этом капитал, но это — круто.
— Мистер Поведа, вы хорошо себя чувствуете?
Это был глупый вопрос. Казалось, Фил Поведа чувствует себя лучше некуда. К сожалению, я предполагал, что он чувствует себя подобным образом благодаря тому, что ему просто заложило уши от излишней активности.
— Да, — сказал он, и впервые тень сомнений закралась в его голос. — Да, думаю, что так. Вы были правы: Эллиот мертв. Они нашли его машину. Об этом говорили в новостях.
Я не ответил.
— Как вы и говорили, в живых остались только я и Ларуз, но, в отличие от Эрла, у меня нет папочки и друзей-нацистов, чтобы защитить меня.
— Вы имеете в виду Боуэна?
— Угу. Боуэна и этого его арийского придурка. Но они не смогут защищать его вечно. Когда-нибудь он окажется в одиночестве, и тогда...
Он позволил себе оборвать фразу, а потом заключил:
— Я хочу только, чтобы все это закончилось.
— Что вы хотите, чтобы закончилось?
— Все: убийства, чувство вины... Черт возьми, больше всего — чувство вины. Если у вас есть время, мы могли бы поговорить об этом. У меня есть время. Хотя не много, не много. Мое время заканчивается. Наше время заканчивается.
Я сказал ему, что сейчас приеду. Я хотел к тому же попросить его не открывать свою аптечку, не пользоваться колющими и режущими предметами, но к тому времени сияние бурной деятельности, которое на время осветило его помраченный ум, утонуло в темных извилинах его мозгов. Он только сказал:
— Круто! — и положил трубку.
Я собрал свои сумки и выписался из гостиницы. Что бы ни произошло дальше, некоторое время я буду жить не в Чарлстоне.
Фил Поведа открыл дверь. На нем были шорты, шлепанцы и белая майка с изображением Иисуса Христа, который распахивает одежды, чтобы показать свое сердце.
— Иисус — мой Спаситель, — объяснил Фил. — Всякий раз, когда я смотрю в зеркало, я напоминаю себе об этом. Он готов простить меня.
Зрачки Поведы расширились, как у наркоманов. Что бы это ни было, это было очень сильное средство. Вы могли бы дать его ребятам с «Титаника» и наблюдать, как они тонут в волнах с лучезарными улыбками на лицах. Он подтолкнул меня к чистенькой кухне с мебелью из дуба, сварил кофе без кофеина. И за весь следующий час так и не притронулся к своей чашке. Очень скоро я тоже отставил свою.
А выслушав историю Фила Поведы до конца, я подумал, что мне больше никогда не захочется ни пить ни есть.
* * *
Бара «Оби» теперь уже нет. Это был придорожный кабак около Блаф-роуд, место в котором аккуратно стриженые мальчики из колледжа за пять долларов могли познать радости орального секса в компании бедной негритянки или еще более нищей белой девчонки, скрываясь в темноте где-нибудь под деревьями у отмелей Конгари. Потом богатые белые мальчики возвращались к своим дружкам, хлопая их по плечу в знак приветствия, а женщины в это время полоскали рот под струей воды из крана на дворе. Но теперь на этом месте стоит «Болотная крыса», где Атис Джонс и Марианна Ларуз провели последние часы вместе незадолго до ее смерти.
Сестры Джонс любили выпивать в «Оби», хотя одной из них, Эдди, было всего семнадцать, а ее старшая сестра Мелия по какой-то прихоти природы выглядела еще моложе. К тому времени Эдди уже родила сына Атиса — как оказалось, плод случайной связи с одним из множества ухажеров ее матери, покойным Дэвисом Смутом по прозвищу Сапог. Эту связь можно было бы расценить как изнасилование, если бы девчонка заявила об этом. Итак, Эдди начала растить мальчика вместе со своей бабушкой, потому что ее мать не могла вынести даже вида дочери. Очень скоро матери некого стало игнорировать и стыдиться. В один из вечеров следы Эдди и ее сестры были стерты с лица земли...
Они напились и качались, выходя из бара; свист и ругань неслись им вслед, пьяный ветер раздувал паруса их бесшабашности. Эдди споткнулась и шлепнулась на зад, а ее сестра со смехом свалилась прямо на нее. Она стала поднимать младшую, юбка задралась, под ней не было ничего, и, пока они, покачиваясь, стояли, пытаясь прийти в себя, они увидели, что за ними из машины наблюдают молодые люди. Один из них влез на колени другим, чтобы лучше видеть. Сконфуженные, но пока ничуть не испуганные, несмотря на свое состояние, девушки перестали смеяться и направились по дороге домой с опущенными головами.
Они прошли всего несколько метров, когда услышали звук мотора за своей спиной, и фары выхватили их фигуры, из камней и осыпавшейся хвои на дороге. Они оглянулись. Огромные горящие глаза фар были практически рядом с ними, потом машина свернула в сторону и одна из боковых дверей открылась. Оттуда высунулась рука и схватила Эдди. Эта рука разорвала на ней платье и оставила две глубокие царапины на ее руке.
Девушки побежали в перелесок у реки, ориентируясь на запах воды и гниющих листьев. Машина дернулась на обочине дороги, фары погасли. С воплями и боевыми криками началась охота.
* * *
— Мы называли их шлюхами, — сказал Поведа. Его глаза все еще возбужденно блестели. — Они ими и были. Или почти были. Лэндрон знал о них все. Вот почему мы разрешили ему прицепиться к нам, потому что Лэндрон знал все о девках, которые готовы были переспать за упаковку из шести банок пива, девках, которые не станут болтать, если вы их слегка поколотите. Именно Лэндрон рассказал нам о сестрах Джонс. У одной из них был ребенок, а ей не исполнилось и семнадцати, когда она родила. А другая, по словам Лэндрона, просто сходила с ума от этого и занималась этим везде, где могла. Черт, они даже не надевали трусики! Лэндрон говорил, это для того, чтобы мужикам было легче попасть куда надо. Да и вообще, что это за девушки, которые напиваются в баре и разгуливают безо всякого белья, да еще задирают юбки? Они всем своим видом предлагали себя, почему бы не за деньги? Может, они даже получили бы от этого удовольствие, если бы слышали, как мы болтаем о них. И мы могли им заплатить. У нас были деньги. Мы не хотели получить все даром.
Теперь все встало на свои места, он больше не был Филом Поведой, почти сорокалетним инженером-программистом с брюшком и закладными. Он снова был мальчишкой. Он снова был там вместе с другими, бежал, задыхаясь, сквозь высокую траву, чувствуя давление в паху.
* * *
— Эй! Стойте! — кричал он. — Стойте, мы денег дадим!
Вокруг все принялись громко ржать. Потому что это был Фил, а Фил знал, как хорошо провести время. Фил всегда мог их насмешить. Фил был смешной парень.
Они преследовали девушек на Конгари и вдоль течения Цедар Крик. Труэт споткнулся и упал в воду, Джеймс Фостер помог ему подняться на ноги. Они нагнали их там, где вода становилась глубже, прямо у корней больших кипарисов. Мелия упала, зацепившись ногой за корень, и, прежде чем сестра помогла ей подняться, парни набросились на них. Эдди ударила ближайшего к ней. Ее маленький кулачок угодил ему в глаз, и Лэндрон Мобли так треснул ее в ответ, что сломал девчонке челюсть, и Эдди рухнула на спину.
— Чертова сука! — выругался Лэндрон. — Гребаная, драная сука!
В его голосе было что-то такое, что заставило всех замереть, даже Фила, который пытался удержать Мелию. Они как-то сразу поняли, что детские шалости закончились и что пути назад нет. Эрл Ларуз и Греди Труэт удерживали Эдди, пока Лэндрон занимался ею, а остальные срывали одежду с ее сестры. Эллиот Нортон, Фил и Джеймс Фостер переглянулись, потом Фил толкнул Мелию на землю, и вскоре он, как и Мобли, принялся за дело; двое других тоже ритмично раскачивались рядом с ними, а ночные комары впивались в мужчину и женщину и пробовали на вкус кровь, которая начала стекать на землю.
В том, что случилось потом, был виноват только Фил. Он поднялся, тяжело дыша, отвернувшись от девушки и глядя на ее сестру и ее разбитое лицо. Смысл того, что они делали, стал постепенно доходить до него теперь, когда он удовлетворил свое желание. Он почувствовал удар и упал в сторону, шок от удара сменила жестокая боль в паху. Мелия вскочила на ноги и побежала от болота в сторону частного владения Ларузов и большого шоссе за ним.
Мобли первым рванул за ней, потом Фостер. Эллиот, разрываясь между девушкой, лежащей на земле, и тем, чтобы остановить ее сестру, некоторое время не двигался. А потом побежал вслед за остальными. Греди и Эрл толкали друг друга, шутя выясняя, кто следующий по очереди.
* * *
Покупка участка близ Конгари дорого обошлась семейству Ларузов, здесь они просчитались. Землю размывали подземные воды, оставляя в ней многочисленные ходы и пещеры, и Ларузы лишились грузовика, который провалился в карстовую воронку во время оползня, прежде чем узнали, что залежи известняка в этом месте столь невелики, что не окупят даже затрат на разработку. Тем временем в Кайсе, в двадцати милях выше по течению, и в Уиннсборо, по 77-й дороге близ Шарлотта, были открыты перспективные месторождения. А на Конгари прошли три демонстрации протеста против возможной угрозы существованию болот. Итак, Ларузы переключились на другое направление, оставив эту землю за собой как память о собственной ошибке.
* * *
Мелия миновала несколько упавших на землю загородок и надпись на щите «Прохода нет». Ее ноги были изранены и кровоточили, но она продолжала бежать. Возле карста были дома, она знала об этом. Там ей помогут, помогут ее сестре. Они придут за ними, и отведут их в безопасное место, и...
Девушка слышала, что за ней гонятся мужчины и вот-вот настигнут. Она оглянулась, продолжая бежать, и вдруг ее пальцы перестали ощущать твердую землю, и Мелия полетела в какую-то глубокую темную яму. Она уцепилась за край ямы, чувствуя запах гниющей, отравленной воды внизу, затем потеряла равновесие и упала вниз. Раздался громкий всплеск, и спустя несколько секунд девушка с кашлем вынырнула. Вода разъедала ее глаза и кожу. Она взглянула вверх и увидела на фоне неба и звезд три мужских силуэта. Мелия медленно поплыла к краю ямы. Она пыталась нащупать какую-нибудь опору для руки, но камни скользили под ее пальцами. Девушка слышала, как разговаривают мужчины, один из них исчез. Она медленно гребла руками и ногами, чтобы держаться на поверхности в холодной липкой воде. Все порезы и раны теперь горели огнем, и ей трудно было держать глаза открытыми. Сверху появился свет. Она взглянула вверх и увидела факел, а затем он начал падать, падать...
* * *
Известковые воронки со временем становятся местом, в котором скапливаются яды и едкие химические соединения. Нечистоты, загрязняющие воду, прибывают и медленно, постепенно просачиваются в саму Конгари по системе подземных ручьев. Многие из скопившихся в яме веществ опасны. Некоторые вызывают коррозию металла, другие уничтожают корни растений. Но у большинства из них есть общее свойство.
Они все легко воспламеняются.
* * *
Трое мужчин отскочили назад, когда столб огня вырвался из глубины ямы, освещая деревья, комья земли, брошенную технику и их лица с выражением шока и одновременно тайного наслаждения тем, что им удалось устроить.
Один из них вытер руки обрывками тряпки, которую изорвал на куски, чтобы смастерить факел, — пытался стереть с них остатки бензина.
— Чтоб ей! — сказал Эллиот Нортон. Он обернул тряпкой камень и швырнул его в ад. — Пошли.
* * *
Я некоторое время молчал. Поведа собирал какие-то крошки указательным пальцем с крышки стола. Эллиот Нортон, человек, которого я считал своим другом, участвовал в изнасиловании и сожжении молодой женщины. Я уставился на Поведу, но он был поглощен разглядыванием своих пальцев. Что-то сломалось у Фила внутри, что-то, что позволяло ему продолжать жить после содеянного, и теперь этого человека захлестывала волна нахлынувших воспоминаний, и он тонул в них.
А я наблюдал, как человек на глазах теряет разум.
— Продолжайте, — сказал я. — Заканчивайте.
* * *
— Прикончи ее, — велел Мобли. Он смотрел вниз на Эрла Ларуза, который стоял на коленях рядом с распростертой на земле женщиной, застегивая брюки. Брови Эрла взметнулись вверх:
— Что?!
— Прикончи ее, — повторил Мобли. — Убей ее.
— Я н-не могу эт-того сделать, — его голос звучал, как голос маленького мальчика.
— А трахать мог? Ты трахал ее довольно резво, — Мобли говорил спокойно и твердо, как о давно решенном. — Ты оставишь ее здесь, и кто-нибудь ее найдет, а потом она заговорит. Если мы отпустим эту черномазую сучку, она расскажет все. Вот, возьми.
Он поднял камень и сунул его Ларузу. Камень больно ударил Эрла по колену, и он вскрикнул, потом начал тереть это место.
— Почему я? — начал он ныть.
— А почему кто-то другой? — спросил Мобли.
— Я такое не делаю, — сказал Эрл.
Тогда Мобли вытащил откуда-то нож:
— Давай, — сказал он, — сделай это, или я сам тебя убью.
Внезапно они все поняли, на чьей стороне сила в их группе. Это всегда был Мобли, и только он: Мобли, который управлял ими; Мобли, который доставал травку и ЛСД; Мобли, который водил их к шлюхам; Мобли, который превратил их в ничтожества. Возможно, именно это и было самой главной целью, которой он упорно добивался с самого начала, думал Фил позже. Он хотел подставить группу богатеньких белых мальчишек, которые думали, что оказывают ему покровительство, сначала открыто презирали его, а потом пустили к себе под крылышко, когда увидели, что он готов снабжать их всем, пока им это не надоест. А из всей этой компании именно Ларуз был самым испорченным, избалованным, слабым, нечестным, поэтому именно ему выпал жребий убить девушку.
Ларуз начал плакать.
— Пожалуйста, — хныкал он. — Пожалуйста, не заставляй меня делать это.
Мобли, ничего не говоря, поднял лезвие вверх и смотрел, как отражает луну его поверхность. Медленно, дрожащими руками Ларуз поднял камень.
— Пожалуйста, — сказал он в последний раз. Справа от него Фил отвернулся и почувствовал, что рука Мобли разворачивает его лицо обратно:
— Нет, ты будешь смотреть. Ты — часть этого, ты должен увидеть конец. Давай.
Он опять смотрел на Ларуза:
— Приканчивай ее, ты, дерьмо собачье! Кончай с ней, гребаный милый мальчик, если не хочешь вернуться назад к своему папочке и рассказать ему, что ты сделал, поплакать на его плече, как маленький сраный гомик, молить его, чтобы он все загладил. Приканчивай ее! Кончай ее!
Ларуз, дрожа всем телом, поднял камень, потом опустил его вниз на лицо девушки, почти не прикладывая силу. Раздался хруст, и она застонала. Ларуз завыл, его лицо исказилось от ужаса, слезы текли по щекам, испачканным грязью, приставшей к нему, когда он насиловал девушку. Он поднял камень во второй раз, потом опустил его, ударив сильнее. Теперь хруст был более громким. Камень поднялся вверх еще раз, потом опустился быстрее, и Ларуз, издавая нечленораздельные крики бил ее снова и снова. Он впал в неистовство, был забрызган кровью, но все продолжал крушить ее кости, пока его не схватили за руки и не оттащили от тела Эдди с камнем, крепко зажатым в кулаке, с расширенными и побелевшими глазами на залитом кровью лице.
Девушка на земле давно умерла.
— Ты все хорошо сделал, — сказал Мобли. Нож исчез. — Ты прирожденный убийца, Эрл. — Он потрепал хнычущего парня по плечу. — Прирожденный убийца.
* * *
— Мобли забрал ее, — сказал Поведа. — Сказал, что люди придут, привлеченные огнем, и нам надо уходить. Старик Лэндрона был могильщиком в Чарлстоне. Он раскрыл свежевыкопанную могилу на «Магнолии», Мобли и Эллиот опустили ее туда и немного присыпали землей. На следующий день там хоронили какого-то мужика, прямо над ней. Он был последним в своем роду. Никто не собирался когда-нибудь копать здесь. — Он сглотнул. — Так и получилось, пока они не нашли тело Лэндрона.
— А Мелия? — спросил я.
— Она сгорела заживо. Никто не смог бы выжить в этом пламени.
— И никто об этом не узнал? Вы никому больше не рассказывали о том, что сделали?
Он покачал головой.
— Только мы знали об этом. Девушек разыскивали, но так и не нашли. Начались дожди и смыли все. Насколько мне известно, все решили, что они просто исчезли с лица земли. Но кто-то узнал, — заключил он. — Кто-то заставил нас платить. Джеймс сам расстался с жизнью. Греди перерезали горло. Мобли был убит, затем Эллиот. Почему-то убили Марианну. Кто-то преследует нас, наказывает. Я — следующий. Вот почему я привел свои дела в порядок.
Он улыбнулся:
— Я все оставляю на благотворительные цели. Вы думаете, я правильно поступаю? Я тоже так думаю. Пожалуй, это хорошее дело.
— Вы можете пойти в полицию. Вы можете рассказать им, что сделали.
— Нет, это не то. Мне надо ждать.
— Но ведь и я могу пойти в полицию.
Он пожал плечами:
— Можете, но я скажу, что вы сами все придумали. Мой адвокат вытащит меня через короткое время, они даже не успеют посадить меня. Потом я вернусь сюда и буду ждать.
Я встал.
— Иисус простит меня, — сказал Поведа. — Он простит всех нас. Разве не так?
Что-то промелькнуло в его глазах, последний отблеск его бурной деятельности по приготовлению к смерти, и пропало.
— Не знаю, — признался я. — Я не знаю, много ли прощения в нашем мире.
Потом я оставил его.
Конгари. Цепь недавних смертей. Связь между Эллиотом и Атисом Джонсом. Инструмент в форме буквы Т, торчащий из груди Лэндрона Мобли, уменьшенная копия такого же креста, висящая на шее мужчины с искалеченными глазами.
Терезий. Мне надо найти Терезия.
* * *
Старик все так же сидел на ступеньках перед домом и курил трубку, наблюдая за потоком машин. Я спросил у него номер квартиры Терезия.
— Восемь, но его здесь нет, — отозвался он.
— Знаете, мне кажется, что вы для меня — дурной знак, — предположил я. — Всякий раз, когда я прихожу сюда, Терезия нет, зато вы сидите на крыльце.
— Значит, вам должно быть приятно увидеть знакомое лицо.
— Да, лицо Терезия.
Я пошел за ним следом и поднялся по лестнице. Он смотрел, как я поднимаюсь.
Я постучал в дверь под номером восемь, но никто не ответил. Из квартир по обе стороны от восьмой слышались голоса и музыка; запахи еды разносились повсюду и пропитывали коврики у дверей и даже стены. Я нажал на ручку, и дверь открылась. За ней оказалась комната с неубранным односпальным диваном-кроватью и газовой плитой в углу. Между плитой и кроватью едва хватило бы места, чтобы худощавый человек с трудом мог протиснуться и выглянуть в маленькое, давно немытое окошко. Слева от меня располагались туалет и душевая кабинка, относительно чистые. В сущности, квартирка выглядела довольно обветшавшей, но не грязной. Терезий постарался сделать ее уютнее: новые занавески висели на пластиковом карнизе над окном, дешевая картинка с розами в вазе украшала стену. Здесь не было телевизора, радио, книг. Матрас валялся на полу в углу, вся одежда была раскидана по комнате, но я предположил, что, кто бы ни рылся здесь, он ничего не нашел. Все, что имело какую-нибудь ценность для Терезия, конечно, спрятано не здесь, а в том месте, которое и было его настоящим домом.
Я уже собрался уходить, когда дверь позади меня распахнулась. Я обернулся и увидел высокого необъятных размеров чернокожего в яркой рубашке, преградившего мне путь. В одной руке у него была сигарета, а в другой — бейсбольная бита. Рядом с ним стоял старик, покуривая свою трубочку.
— Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросил мужчина с битой.
— Вы смотритель?
— Я — хозяин, а вы вторглись в мои владения.
— Я искал кое-кого.
— Хорошо, его здесь нет, и у вас нет никакого права находиться в этом месте.
— Я частный детектив. Мое имя...
— Да мне плевать, как тебя зовут! Вали отсюда сейчас же, пока я не начал защищаться от неспровоцированного нападения.
Старик с трубкой хихикнул.
— Неспровоцированное нападение, — повторил он. — Звучит здорово! — он покачал головой от удовольствия и выпустил колечко дыма.
Я подошел к двери, и большой человек отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. Он все еще заполнял собой весь проем двери, и мне пришлось втянуть живот, чтобы проскользнуть, не задев его. От него разило средством для мытья сантехники и одеколоном «Олд Спайс». Я остановился на лестнице.
— Могу я задать вам вопрос?
— Что?
— Как случилось, что его дверь была не заперта? Мужчина выглядел озадаченным:
— Вы не открывали ее?
— Нет, она была открыта, когда я пришел сюда, и кто-то рылся в вещах Терезия.
Хозяин обернулся к старику с трубкой:
— Кто-нибудь еще спрашивал Терезия?
— Нет, сэр, только этот человек.
— Послушайте, я не собираюсь создавать вам проблемы, — продолжал я. — Мне всего лишь нужно поговорить с Терезием. Когда вы в последний раз видели его?
— Несколько дней назад, — сказал хозяин, смягчившись. — Что-то около восьми, когда он закончил работу в «Лэп-Ленде». Он нес какой-то сверток и сказал, что несколько дней его не будет.
— А дверь тогда была заперта?
— Я сам видел, как он запирал ее.
Итак, кто-то проник в здание уже после смерти Атиса Джонса и сделал то же, что и я: вошел в квартиру, чтобы найти то ли Терезия, то ли что-то связанное с ним.
— Спасибо, — поблагодарил я.
— Да не стоит.
— Неспровоцированное нападение, — снова повторил старик, посасывая трубку. — Вот смешно.
Вечерние посетители уже появились в «Лэп-Ленде» к тому времени, когда я туда приехал. Среди них был немолодой мужчина в разорванной рубашке, который потирал свою бутылку пива так, что сразу можно было догадаться, что он провел много времени в одиночестве, думая о женщинах. Здесь же сидел и человек средних лет в строгом деловом костюме со спущенным узлом галстука и пустым стаканом на столе. Его портфель лежал у ног хозяина. Он раскрылся, когда падал, и теперь стоял на полу с раскрытой пастью, абсолютно пустой. Интересно, когда он наберется храбрости, чтобы сообщить своей жене, что потерял работу, что проводит все дни, наблюдая за стриптизершами или сидя в дешевых кинотеатрах, что ей больше не надо гладить ему рубашки, потому что, черт возьми, ему больше не надо их носить. В общем-то, ему теперь не надо даже вставать по утрам, если не хочется.
Я заметил, что Лорелея сидит в баре, дожидаясь своей очереди на сцене. Она не слишком обрадовалась, увидев меня, но я к этому привык. Бармен сделал движение, чтобы преградить мне путь. Но я поднял вверх палец.
— Меня зовут Паркер. Если у вас возникли проблемы, позвоните Вилли. А если нет, — кругом, шагом марш.
Он отвернулся.
— Длинный вечер, — сказал я Лорелее.
— Они всегда длинные, — фыркнула она, отворачиваясь от меня и всем своим видом демонстрируя, что не желает разговаривать со мной.
Я предположил, что ей досталось от босса за то, что она слишком много болтала в последний мой визит, и ей не хотелось бы, чтобы видели, как она повторяет свою ошибку.
— Единственный доход от этих мужиков — мелкая монетка.
— Ну, тогда, наверно, вы танцуете из любви к искусству.
Она покачала головой и уставилась на меня через плечо. Это был далеко не дружеский взгляд.
— Думаешь, это смешно? Или, может, думаешь, что у тебя особый шарм? Вот что я тебе скажу: у тебя его НЕТ. Все, что у тебя есть, я вижу здесь каждый вечер в каждом кобеле, который сует мне баксы в задницу. Они приходят и думают, что они лучше меня. У них, может быть, даже появляются какие-то фантазии, которые я вижу на их физиономиях. И я не против того, чтобы брать с них деньги. Я могу, конечно, привести их домой и трахаться с ними, пока не погаснут фонари, но это вряд ли: я ничего не делаю даром. Мое внимание не будет бесплатным и для тебя, так что, если тебе от меня что-то нужно, гони бабки.
Ну что ж, логично. Я положил на стойку пятьдесят долларов и крепко прижал их пальцем.
— Будем считать это предосторожностью, — сказал я. — В последний раз, кажется, ты нарушила наш уговор.
— Ты собирался поговорить с Терезием, и что? Не поговорил?
— Да, но мне пришлось пробиваться через вашего босса. Буквально. Где Терезий?
Ее губы сжались:
— Ты и вправду пробился к этому парню? Еще не надоело давить на людей?
— Слушай, я бы сам предпочел быть не здесь. Я не хочу говорить с тобой в подобном тоне. Я не считаю себя достойнее тебя, но уж, определенно, я и не хуже, так что побереги слова. Тебе не нужны мои деньги? Отлично.
Музыка подошла к концу, посетители нестройно захлопали, когда танцовщица собрала свои вещи и отправилась в уборную.
— Твоя очередь, — сказал я, собираясь спрятать пятьдесят долларов. Но рука Лорелеи вцепилась в край стойки.
— Он не пришел сегодня утром. И предыдущие два дня тоже.
— Понятно. Где он?
— Есть одно место в городе.
— Он не появлялся там несколько дней. Мне нужно больше, чем только это.
Бармен объявил ее имя. Она состроила гримасу, затем сползла со стула. Пятьдесят долларов все еще лежали на стойке между нами.
— У него есть собственное местечко вверх по Конгари. Там чьи-то частные владения. Там он и находится сейчас.
— А где точно?
— Может, тебе еще карту нарисовать? Я не могу сказать точнее, но это единственный участок частной земли, в Национальном парке.
Я отпустил банкноту.
— В следующий раз мне будет не важно, сколько денег ты принесешь. Я не стану говорить с тобой. Лучше уж я заработаю пару долларов у этих жалких трахальщиков, чем тысячу, продавая тебе хороших людей. И вот еще кое-что бесплатно: ты не единственный, кто спрашивал о Терезии. Парочка парней приходила вчера, но Вилли выгнал их взашей и обозвал гребаными нацистами.
Я благодарно кивнул.
— И они мне понравились больше, чем ты, — добавила Лорелея.
Она поднялась на сцену, из проигрывателя зазвучали первые аккорды песни «Любовь — дитя». Танцовщица спрятала купюру в кулачке.
Очевидно, она планировала с завтрашнего дня начать новую жизнь.
* * *
Фил Поведа просидел на кухне за столом всю ночь, две чашки нетронутого кофе стояли перед ним, когда дверь за его спиной открылась и он услышал крадущиеся шаги. Фил поднял голову, и в его глазах заплясали огоньки. Он развернулся вместе с креслом.
— Я очень сожалею, — сказал он.
Петля захлестнулась вокруг его шеи, и в последние мгновения своей жизни Фил вспомнил слова Христа, обращенные к Петру и Андрею у моря Галилейского:
— Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков.
Губы Поведы дрогнули, когда он произнес:
— Это не будет больно?
И петля затянулась.
Глава 23
Я ехал в Колумбию в полной тишине, не включая музыку. Казалось, что я медленно дрейфую вдоль дороги И-26 северо-западнее Дорчестера, и округа Колхаун; огни немногочисленных машин, проносящихся по встречной полосе мимо меня, напоминали светлячков, летящих параллельно друг другу и постепенно меркнущих на расстоянии или исчезающих за поворотами дороги.
Повсюду здесь росли деревья, и в темноте за ними скорбела земля. Почему бы и нет? Она была отравлена собственной историей, переполнена телами мертвых, которые лежали под листьями и камнями: британцы и колонисты, конфедераты и унионисты, рабы и хозяева, захватчики и их жертвы. Если поехать на север, в Йорк и Ланкастер, там можно найти следы, оставленные когда-то ночными разбойниками, их лошадьми, скачущими галопом по грязи и воде под белыми попонами, забрызганными грязью. Всадники гонят их вскачь, уничтожая все вокруг; пробивают выстрелами новое будущее, оставляя свои души в грязи под копытами коней.
Кровь мертвых изливается в мир и облаками затуманивает реки, стекает с гор и лесов, с кленов и тополей, раскрашивает кизил, рыбок в реке, всасывается через их жабры. Речные выдры, которые вылавливают рыбу из воды, заглатывают вместе с ней и кровь людей. Кровь вливается и в майских жуков и мошек, которые темными роями носятся над Пидмонтским мелководьем — там, где мелкая рыбешка жмется ко дну, чтобы не стать добычей солнечников, которые охотятся на нее, скрываясь в тени листьев водяных лилий. И красота белых цветов маскирует уродливые паукообразные стебли.
Здесь, в этих водах, солнечный свет создает странные узоры на воде, не зависящие ни от течения реки, ни от ветра. Это мелкие серебристые рыбки, которые кружатся в потоке света. Он отражается от поверхности ручьев, ослепляя хищников и заставляя их видеть огромное чудище вместо легкой добычи. Эти болотистые места — райское место для мелкой рыбы, хотя пролитая когда-то кровь нашла ходы даже в эти места.
Не потому ли вы остались здесь, Терезий? Не потому ли маленькая квартирка номер восемь не носит следов вашего присутствия? Потому что вас нет в городе, нет того, что составляет вашу сущность. В городе вы всего лишь один из преступников, отбывших наказание; еще один бедняк, убирающий за более богатыми, чем он, наблюдающий за их растущими аппетитами и тихо молящийся своему богу за их спасение. Но это всего лишь фасад, не так ли? Ваше подлинное нутро совсем иного свойства. Ваша сущность чужда этому миру. Она проживает в мелких заболоченных озерках, тая от мира то, что вы стремились скрыть все эти годы. Это вы. Вы загнали их, разве не так? Ведь это вы их караете за то, что они совершили когда-то? Это ваше место. Вы узнали, что они натворили, и решили заставить их поплатиться за это. Но потом на пути встала тюрьма, и вам пришлось ждать, чтобы продолжить свое дело. Я не виню вас. Вряд ли человек может спокойно смотреть на то, что содеяли эти твари, и не испытывать жгучего желания наказать их любыми доступными средствами. Но это уже не подлинное правосудие, Терезий, потому что, совершая то, что вы делаете, нельзя добиться справедливого отмщения за преступление Мобли и Поведы, Ларуза и Труэта, Эллиота и Фостера. Подлинное правосудие не может быть осуществлено без раскрытия этой тайны.
И как быть с Марианной Ларуз? Ее несчастье заключалось только в том, что она родилась в этой семье и была отмечена печатью преступления своего брата. Не подозревая об этом, она взяла его грехи на себя и была за это наказана. Ее нельзя было наказывать. С ее смертью был сделан шаг в сторону, в то место, где справедливость и жестокость уже не отделимы друг от друга.
Значит, вас надо остановить и поведать, наконец, миру историю о том, что случилось на Конгари, потому что иначе женщина с покрытым чешуей лицом все так же будет бродить по ночам среди кипарисов и дубов тенью, которая иногда мерещится в темноте, но которую никто не видит. Она все так же будет разыскивать свою сестру, чтобы обнять ее, стереть кровь и грязь с ее лица и тела, смыть страдание и унижение, стыд, страх и боль.
Топи — я проезжал теперь совсем близко от них. Мою машину слегка занесло, затем я почувствовал, как она накренилась в сторону, выехала на обочину, подпрыгнула на неровной земле, потом снова выбралась на дорогу. Топи — это своеобразные предохранительные клапаны: они всасывают в себя паводковые воды, собирают дождевую воду и осадки и влияют на уровень влажности в прибрежной зоне. Но реки все продолжают течь через них, а следы крови все никак не исчезнут. Они смешиваются с водой, которая добирается до берега моря, здесь они попадают в темные воды у границы соляных озер и, наконец, вливаются в море. Вся земля, весь океан отравлены кровью. Одно-единственное преступление может пустить корни и оплести ими всю природу; и весь мир может измениться, неузнаваемо преобразиться под влиянием всего одной-единственной смерти.
Огни — свет фар ночных путников, горящие дома, тлеющие поля. Стук копыт лошадей, почувствовавших запах дыма и заметавшихся в панике; всадники, мечущиеся под дождем, пытаясь поймать и закрыть им глаза, чтобы животные не видели пламени. Но, едва свернув, они попадают в ямы — темные провалы с черной водой в глубине. Появляется еще больше огней, столбы огня, вспыхнувшего от выстрелов из глубины этих воронок; крик женщин тонет в реве огня.
Графство Ричленд — река Конгари течет на север, а я следую вдоль нее по дороге, с трудом продвигаясь вперед; мое внимание поглощено тем, что меня окружает. Я двигаюсь в сторону Колумбии, на северо-запад, приближаюсь к развязке, но не могу думать ни о чем, кроме девушки, лежащей на земле со сломанной челюстью. Она вот-вот потеряет сознание.
— Прикончи ее.
Она моргает.
— Прикончи ее.
Я уже больше не я.
— Убей ее.
Ее глаза расширяются. Она видит, как опускается камень.
— Убей ее.
Она мертва.
* * *
Я снял номер в «Клауссенс Инн» на Грин-стрит, в здании бывшей пекарни около площади Четырех Законов, неподалеку от университета Южной Каролины. Принял душ и переоделся, потом снова позвонил Рейчел. Мне нужно было услышать ее голос. Когда она ответила, ее голос звучал так, будто она немного выпила. Она приняла стаканчик «Гиннесса» — друга беременных женщин — с одной из своих подруг из общества имени Одюбона, и он сразу же ударил ей в голову.
— Это железо, — сказала она. — Мне это полезно.
— Так говорят обо многих вещах. Обычно это неправда.
— Что там у тебя происходит?
— Все по-старому, все по-старому.
— Я волнуюсь за тебя, — сказала она, и голос ее изменился. На сей раз он не был тягучим, и в нем не осталось и намека на то, что она выпила. Я понял, что Рейчел опять сыграла со мной шутку. Это была всего лишь маскировка, как будто законченное произведение искусства, написанное старым мастером, хотели замазать, дабы спрятать или сделать так, чтобы его не узнали. Рейчел хотела напиться. Она хотела быть счастливой и беззаботной, слегка навеселе от стаканчика пива, но все было не так, как должно быть. Она беременна, отец ребенка далеко на Юге, и вокруг него постоянно умирают люди. В то же время человек, который ненавидит нас обоих, пытается выбраться из тюрьмы (его проклятия и зловещие пророчества все еще раздавались у меня в мозгу).
— Все хорошо, — соврал я. — У меня все в порядке. Дела подходят к концу. Я уже во всем разобрался. Я, кажется, понял, что происходит.
— Расскажи мне, — попросила она.
Я закрыл глаза, и мне показалось, что мы лежим рядом в темноте. Я чувствую тонкий запах ее кожи, ее тело рядом с собой...
— Не могу.
— Пожалуйста. Поделись со мной, что бы это ни было. Мне нужно, чтобы ты со мной чем-нибудь делился, чтобы ты прикоснулся ко мне, был со мной хоть как-то.
И я рассказал ей.
— Они изнасиловали двух молодых женщин, Рейчел, двух сестер. Одна из них была матерью Атиса Джонса. Она забили ее камнями насмерть, а вторую сожгли заживо.
Она не отвечала, но я слышал, как она дышит.
— Эллиот был одним из них.
— Но ведь он вызвал тебя туда. Он просил тебя помочь.
— Просил.
— Все это была ложь?
— Нет, не совсем. Правда не всегда лежит на поверхности.
— Тебе надо уехать оттуда. Уезжай.
— Не могу.
— Пожалуйста.
— Я не могу, Рейчел, ты же знаешь, что не могу.
— Пожалуйста...
* * *
Я сидел в кафе «Вчера» на Девин-стрит. Звучала песня Эмили Харрис. Она пела, и надтреснутый голос Нила Янга сливался с ее голосом. Во времена Бритни Спирс и Кристины Агилеры было что-то утешающее и странно трогательное в голосах этих двух стариков. Они пели о любви и мечтах, о возможности одного последнего танца. Рейчел бросила трубку в слезах. Я не мог чувствовать ничего, кроме вины за то, что позволил втянуть себя в это, но отступить уже не мог.
Я поел в зале, потом подошел к бару и уселся на стул у стойки. Под плексигласом на стойке лежали фотографии и старые рекламки, выцветшие от времени. Полный мужчина в подтяжках кривлялся перед камерой. Женщина держала в руках щенка. Парочки обнимались и целовались. Мне стало интересно, помнит ли кто-нибудь их имена.
Возле бара мужчина с бритой головой, на вид лет около тридцати, увидел меня в зеркале, затем обернулся и тут же уставился на свое пиво. Наши глаза случайно встретились, он не смог скрыть, что узнал меня. Я продолжал сверлить взглядом его затылок, разглядывая мощные мускулы шеи и плеч, бугры мышц на спине, тонкую талию. Постороннему наблюдателю он мог бы показаться мелким, женственным, но он был жилистым. Такого трудно свалить ударом, а если и свалишь, он сразу вскочит. На его плече я заметил фрагмент татуировки — краешек, выступающий из-под рукава майки, но ниже на руке ничего не было. Бугры мышц и сухожилия напрягались и расслаблялись, когда он сжимал и разжимал кулаки. Я наблюдал за тем, как он бросил второй взгляд в зеркало, потом третий. Наконец он сунул руку в карман своих выцветших, слишком обтягивающих джинсов, швырнул на стойку несколько долларовых монеток и спрыгнул с высокого стула. Парень направился в мою сторону, все еще сжимая и разжимая кулаки, так что даже старик, сидевший рядом с ним понял, что происходит, и попытался остановить его.
— Я вам чем-то мешаю? — спросил он.
В кабинках по обе стороны от меня разговоры затихли, все вокруг смолкло. В левом ухе парня блестела серьга, изображающая индейца со сжатым кулаком; брови высоко поднялись, а голубые глаза на бледном лице метали молнии.
— А я полагаю, что это вы напрашиваетесь на знакомство со мной, судя по тому, с какой страстью вы разглядывали меня в зеркале, — парировал я.
Справа от меня какой-то мужчина прыснул в кулак. Бритоголовый тоже это услышал, потому что его голова дернулась в том направлении. Смешок тут же стих. Он снова посмотрел на меня. Теперь бритоголовый пристукивал ботинками все более воинственно.
— Не искушай меня, мужик... — это была уже явная угроза.
— Да и не думал даже, — невинно ответил я. — А вы хотите попробовать?
Я послал ему свою самую подкупающую улыбку. Лицо бритоголового покраснело, и казалось, он на меня сейчас набросится, как вдруг рядом с ним раздался тихий свист.
Появился человек постарше с зачесанными назад длинными темными волосами и твердо ухватил моего собеседника за плечо.
— Оставь его, — посоветовал он.
— Но он назвал меня гомиком! — запротестовал бритоголовый.
— Он всего лишь пытался разозлить тебя. Пошли.
Какое-то мгновение бритоголовый пытался вырваться из твердого захвата, потом в сердцах плюнул на пол и рванулся к двери.
— Я должен извиниться за моего юного друга. Он очень чувствительно относится к такого рода вещам.
Я кивнул, но не подал вида, что узнал человека, стоявшего передо мной, — агента младшего Ларуза, человека, который ел хот-дог на слете сторонников Роджера Боуэна. Он знал, кто я, и следил за мной. А значит, он знает, где я поселился, и, вероятно, подозревает, почему я здесь.
— Мы пойдем своей дорогой, — сказал темноволосый.
Он наклонил голову, прощаясь, затем повернулся, чтобы уйти.
— До скорой встречи, — ответил я.
Его спина замерла.
— С чего вы взяли? — спросил он, слегка повернув голову так, чтобы я мог видеть его профиль: прямой нос, продолговатый подбородок.
— У меня чутье на такие вещи, — объяснил я.
Мой собеседник в раздумье потер переносицу указательным пальцем.
— Вы забавный человек, — усмехнулся он, отбросив притворство. — Мне будет жаль, когда вы покинете нас.
Затем он вышел из бара вслед за бритоголовым.
Я вышел оттуда спустя двадцать минут вместе с кучкой студентов и оставался среди них, пока не дошел до угла Грин и Девин. Я не заметил и следа тех двоих, но, без сомнения, они где-то рядом. В фойе «Клауссенс Инн» джазовая музыка, включенная на полную мощность, перекрывала голоса людей. Я кивнул, пожелав спокойной ночи молодому человеку за стойкой. Он кивнул в ответ, оторвавшись от чтения учебника по психологии.
Я позвонил Луису из номера. Он ответил осторожно, не узнав номера на дисплее.
— Это я.
— Как дела?
— Не фонтан. Похоже, за мной «хвост».
— Сколько?
— Двое. — И я описал ему сцену в баре.
— Их нет рядом?
— Полагаю, что они где-то поблизости.
— Ты хочешь, чтобы я пришел?
— Нет, оставайся с Киттимом и Ларузом. Есть что-нибудь для меня?
— Наш друг Боуэн приходил сегодня вечером, провел некоторое время с Эрлом-младшим, а потом довольно долго говорил с Киттимом. Они, должно быть, считают, что сумеют схватить тебя там, где им захочется. Это была ловушка, с самого начала.
Нет, не только ловушка. Это было гораздо больше, чем просто ловушка. Марианна Ларуз, Атис, его мать и ее сестра — то, что случилось с ними, было реальным, ужасным и никак не связанным ни с Фолкнером, ни с Боуэном. Это и есть подлинная причина, по которой я был здесь, причина, по которой я остался. Все остальное не важно.
— Я буду на связи, — пообещал я и положил трубку.
Мой номер выходил окнами на фасад здания на Грин-стрит. Я снял матрас с постели и расстелил его на полу, беспорядочно набросав на него вещи. Затем разделся и улегся вплотную к стене под окном. На двери была цепочка, перед ней стоял стул, а мой пистолет лежал на полу возле подушки.
* * *
Она удалялась отсюда куда-то — белое сияние среди деревьев, пронизанное бледным светом луны. За ней река была украшена сверкающими звездами, которые проносились по течению мимо окружавших реку деревьев.
Белая дорога — везде. Это — все. Мы идем по ней, мы сходим с нее.
Пора спать. Пора спать и видеть во сне, как тени двигаются по Белой дороге. Спать и видеть девушек, которые падают и мнут белые лилии, умирая. Спать и видеть изуродованную руку Кэсси Блайт, появляющуюся из темноты.
Идти спать, не зная, где находишься, — среди потерянных или найденных, живых или мертвых.
Глава 24
Я поставил будильник на 4 часа утра и все еще до конца не проснулся, когда шел через холл к черному ходу. Ночной портье посмотрел на меня с любопытством, заметил, что я несу сумку, а затем вернулся к своей книге.
Если бы за мной следили, скорее всего, эти двое разделились бы: один бы караулил меня у центрального входа, другой — у черного. Задняя дверь вела прямо на парковку, с которой были выезды и на Грин— и на Девин-стрит, но я сомневался, что смогу уехать незамеченным. Я вынул носовой платок и выкрутил лампочку с внутренней стороны двери. Лампочка с наружной стороны с прошлой ночи была прикрыта подошвой моего же ботинка. Я приоткрыл дверь, выждал, затем просочился в темноту. Пришлось использовать ряды припаркованных машин, чтобы незаметно продвигаться за ними до самой Девин-стрит. Потом я вызвал такси из автомата за бензоколонкой и через пять минут уже направлялся к стойке проката автомобилей «Хертц» в международном аэропорту Колумбии; отсюда я направился в круговорот событий на Конгари.
* * *
Топи Конгари все еще почти недоступны. Главный туристический маршрут приводит посетителей к станции спасателей, а оттуда можно осмотреть некоторые участки болот, двигаясь пешком по дорожкам из деревянных настилов. Но, чтобы забраться глубже в Конгари, нужна лодка, и я решил, нанять небольшую лодку в десять футов длиной с невысокими бортами. Старик, который давал лодки напрокат, ждал меня на месте высадки, на шоссе №601, под автомобильным мостом Бейтс. Я отдал ему деньги, а он взял ключи от машины как залог. Потом я оказался на реке. Раннее утреннее солнце уже освещало коричневые воды и высокие кипарисы и дубы, бросавшие тень на речные отмели.
В дождливую погоду Конгари разливается и затопляет болота, вынося на берег плодородный ил. Потом здесь, вдоль берегов реки, вырастают огромные деревья, листва которых так густа, что со временем образует сплошной навес над течением, а вода под ним кажется совершенно темной. Ураган «Хьюго» выбрал несколько самых крупных деревьев себе в жертву, когда продирался через непролазные топи, но берега Конгари еще остались местом, что заставляет человека замереть при виде величия леса, через который лежит его путь.
По реке Конгари проходит граница округов Ричленд и Колхаун, ее извивы определяют границы власти местных администраций — всего, что влияет на повседневную жизнь тех, кто селится вблизи ее берегов. Я проплыл уже около 12 миль по реке, когда путь мне преградил огромный кипарис, упавший в воду и наполовину затопленный. Это, как говорил старый лодочник, знак, который отмечает границу государственных владений и частной собственности, участка топи длиной около двух миль. Где-то здесь, вероятно, прямо у реки, был дом Терезия. Я мог только надеяться, что его будет не так сложно отыскать.
Привязав лодку к кипарису, я спрыгнул на отмель. Хор кузнечиков рядом неожиданно смолк, а потом снова принялся за свое, когда я стал удаляться от этого места. Должно же здесь быть хоть какое-то подобие тропинки! Но ничего похожего не было. Терезий скрывал свое прибежище настолько основательно, насколько это вообще возможно. Даже если здесь существовали тропки до того, как он попал в тюрьму, они уже давно заросли травой, а он не прилагал никаких усилий, чтобы снова их расчистить. Я постоял на отмели, пытаясь найти островки суши, которые смогут выдержать мой вес, когда я буду возвращаться назад, к реке, а потом направился к топи.
Я втянул в себя воздух, надеясь уловить запах дыма, но почувствовал только запах сырости и разложения. Пришлось идти через лес из дубов, железных деревьев, пахнущих смолой, шелковиц, увешанных темными спелыми плодами. Ниже, у самой земли, здесь росли папайя и ольха, перемежавшиеся с зарослями американского падуба. Все было так заплетено растительностью, что я мог видеть только что-то зеленое и коричневое — влажную, скользкую от опавшей листвы землю. В одном месте я чуть не угодил в паутину, сплетенную вязальщиком, в центре которой восседал, как маленькая темная звездочка, сам паук — хозяин и правитель своей собственной галактики. Этот обитатель болотных лесов был не опасен, но здесь водились и другие пауки, опасные. А я в последние месяцы своей жизни достаточно пострадал от всяких пауков. Я поднял с земли ветку, чтобы ею раздвигать кусты и ветви деревьев, преграждавшие путь.
Я шел уже около двадцати минут, когда увидел дом. Это был старый коттедж, построенный по простому плану (гостиная, прихожая, две комнаты по фасаду и одна в глубине), дополненный высоким крыльцом и длинной узкой пристройкой позади дома. Тяжелые рамы несли следы недавнего ремонта, и дымоход не так давно переложили, но с фасада дом по-прежнему выглядел таким же, каким был построен изначально, вероятно, в девятнадцатом веке, когда рабы, которые возводили плотины, решили остаться здесь, на Конгари. Я не заметил никаких признаков жизни: веревка для белья, натянутая между двумя деревьями, была свободна, изнутри не раздавалось никаких звуков. В задней части дома располагалась небольшая пристройка, где, вероятно, находился генератор.
Я поднялся по грубо высеченным ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. Никто не ответил. Я подошел к окну и прижался лицом к стеклу. Внутри я увидел стол с четырьмя стульями, старый диван, легкий стул и небольшой закуток, служащий кухней. Одна дверь вела в спальню, вторая — в узкую пристройку. Эта дверь оказалась закрыта. Я постучал еще раз, потом обошел дом вокруг.
Где-то на болотах раздался выстрел, звук гулко разнесся во влажном воздухе. Должно быть, охотники, подумал я.
Окна в пристройке были замазаны краской. Сначала мне показалось, что они завешены темными занавесками, но, подойдя ближе, я увидел полоски, которые остались от кисти, водившей по стеклу. В конце стены была дверь. В последний раз я постучал и подал голос, перед тем как попытаться повернуть ручку двери. Дверь открылась, и я вошел в комнату.
Первое, на что я обратил внимание, запах. Похоже, пахло лекарством, хотя я различил и запахи каких-то трав и цветов, которые преобладали в нем над запахами фармацевтических продуктов и антисептиков. Казалось, он заполняет всю длинную комнату, в которой стояли койка, телевизор, несколько дешевых книжных полок, не обремененных ни единой книгой. Здесь пылились стопки старых журналов, посвященных сериалам, мыльным операм, и мятые, зачитанные журналы «Люди и знаменитости».
Все свободное пространство на стенах занимали фотографии, вырезанные из журналов. Это были модели и актрисы; в одном углу неизвестный устроил что-то подобное храму Опры. Большинство женщин на фотографиях были негритянки: я узнал Холли Берри, Анджелу Бассетт, солисток вокальных групп, Джаду Пинкетт Смит и даже Тину Тернер. Над телевизором висели три или четыре фотографии со страниц местной светской хроники. На каждой была одна и та же особа: Марианна Ларуз. Фотографии покрывал тонкий слой древесной пыли, но затемнение на окнах не дало им пожелтеть. На одной фотографии Марианна смеется, стоя в кругу прелестных молодых девушек во время выпускного вечера. На другой она снята во время благотворительной акции, на третьей — на приеме, устроенном Ларузами, чтобы увеличить фонды Республиканской партии. На каждом снимке красота юной Марианны Ларуз заметно выделяла ее среди всех.
Я подошел ближе к койке. Запах медикаментов здесь усилился, и белье было покрыто темными пятнами, как каплями кофе. Здесь были и более светлые пятна, некоторые из них напоминали кровь. Я осторожно дотронулся до простыни — пятна были влажными. Я отошел и разыскал небольшую ванную и источник запаха. Раковину заполняла плотная коричневая субстанция, имевшая консистенцию клея для обоев, которая стекала тягучими каплями с моих пальцев, когда я решил рассмотреть это и поднес руку к глазам. Здесь же оказалась отдельно стоящая ванна с поручнем, приделанным к стене, и вторым поручнем, который оказался привинчен к полу. Интерьер дополнял чистый туалетный столик, а пол был тщательно, мастерски отделан дешевой плиткой.
Зеркала в ванной не было.
Я вернулся обратно в комнату и проверил дверь в туалет, располагавшийся отдельно. То, что казалось белыми и коричневыми тряпками, лежало, покрытое пылью, на полу и шкафах, но и здесь я не нашел зеркала.
Снаружи опять послышались выстрелы, теперь ближе. Я совершил обзорный обход дома, отмечая мужскую одежду в шкафу в спальне и женскую, дешевую и устаревшую, которая была упакована в старый морской сундук; консервы на кухне; начищенные кастрюли и сковороды. В углу возле дивана я нашел раскладушку, но она была покрыта пылью: должно быть, ею не пользовались уже много лет. Все остальное оказалось чистым, без единого пятнышка. Здесь не было телефона, и, когда я попытался зажечь свет, он загорелся слабым огоньком, окрашивая комнату в оранжевые тона. Я снова выключил свет, открыл входную дверь и оказался на крыльце.
Три человека пробирались сквозь деревья. Двоих из них я узнал: это были люди из бара — бритоголовый и темноволосый, оба одеты все в ту же одежду. Возможно, они в ней и спали. Третьим был толстяк, которого я засек еще в чарлстонском аэропорту, когда прилетел из Мэна. Сейчас на нем была коричневая рубашка, а ружье закинуто на спину. Он первым заметил меня, поднял правую руку, и все трое остановились за деревьями. Некоторое время все молчали. Мне показалось, они ждут, чтобы я нарушил тишину.
— Думаю, вы, ребята, выбрали неподходящий сезон для охоты, — заметил я.
Старший из всех, человек, который приструнил бритоголового в баре, улыбнулся почти печально.
— На то, за чем мы охотимся, всегда сезон, — ответил он. — Есть кто-нибудь внутри?
Я покачал головой.
— Я предполагал, что вы так ответите, даже если там кто-то есть, — сказал он. — Между прочим, следует быть более осторожным с теми, у кого вы берете лодку, мистер Паркер. И платить им немного сверху, чтобы они держали рот на замке.
Он держал ружье дулом вверх, но я видел, как его палец играет с предохранителем.
— Спускайтесь сюда, — сказал он. — У нас есть к вам дело.
Я успел укрыться в коттедже, когда первая пуля угодила в раму двери. Пришлось отступать через черный ход пристройки, на бегу вытаскивая пистолет из кобуры. И тут последовал второй выстрел, который вырвал кусочек коры дуба справа от меня.
Вскоре я был в лесу, густой покров ветвей простирался надо мной на десятки метров. Я пробирался сквозь заросли деревьев и кустов с опущенной вниз головой. Один раз я поскользнулся на листьях и упал на бок. Я замер, но не услышал шума погони, зато увидел что-то коричневое примерно в тридцати метрах впереди меня, медленно пробирающееся сквозь заросли: толстяк. Он оказался в стороне только потому, что пробирался напрямую через зелень падуба. Остальные где-то близко и слышат меня. Они попытаются окружить меня, а потом схватят. Я сделал глубокий вдох, прицелился в коричневую рубашку, затем медленно нажал на курок.
Красная струйка взметнулась из груди толстяка. Он зашатался и тяжело рухнул в кусты ничком, ветки начали ломаться и трещать под его весом. Два выстрела раздались одновременно справа и слева от меня, за ними последовало множество других, и воздух вдруг наполнился обломками, щепками и падающими листьями.
Я побежал.
Я бежал вверх, туда, где росли железные деревья, стараясь избегать открытых участков. Пришлось застегнуть куртку, несмотря на жару, чтобы спрятать белую майку и останавливаться время от времени в попытках определить, где находятся мои преследователи. Но, кто бы они ни были, они оставались незаметными и бесшумными. Я почувствовал запах мочи — может быть, это был олень или рысь — и различил звериную тропу. Я не знал, куда иду, смогу ли найти тропинку, которая приведет меня назад, к станции спасателей, но это все равно заставит меня показаться перед людьми, следующими за мной. Итак, осталось признать, что я так и не нашел дороги. Ветер от Конгари дул на северо-восток, когда я направился к коттеджу, а теперь он слегка подталкивал меня в спину. Я придерживался звериной тропы, надеясь отыскать дорогу к реке. Если заблужусь, стану легкой добычей для этих людей.
Я старался двигаться скрытно, но земля была мягкой, я оставлял на ней глубокие, заполненные водой следы и ломал кусты. Примерно через пятьдесят минут я добрался до старого упавшего кипариса. Молния расколола его ствол надвое, и возник глубокий кратер, окруженный корнями. Кусты начали расти вокруг него и в глубине кратера, поднимаясь по корням и образовывая туннель. Я лег, стараясь отдышаться, потом снял куртку, повесил ее на ствол и стянул майку. Осталось заползти в туннель и просунуть майку вниз, запихнув ее в сплетение корней. Сделано. Затем я надел куртку и отступил в подлесок. Я лежал, распластавшись на земле, и ждал.
Первым появился бритоголовый. Я уловил отблеск его яйцеобразного черепа перед сосной, когда он высунулся, а затем быстро скрылся. Он заметил майку. Мне стало интересно, насколько он глуп.
Глуп, но не слишком. Он издал протяжный свист, и ветка ольхи качнулась, хотя не было видно человека, который вызвал это движение. Я стер пот с бровей подкладкой куртки, чтобы капли не попали мне в глаза. Снова возле ольхи произошло какое-то движение. Я прицелился и стер последнюю каплю пота, когда под бритоголовым взметнулась земля, и он упал замертво с удивленным выражением лица.
Его тотчас же свалили с ног, и он опрокинулся на спину. Это произошло так быстро, что я не был уверен в том, что видел. Я подумал было, что охотник поскользнулся, и почти ждал, вот сейчас он поднимется, но бритоголовый не поднимался. Из-под ольхи раздался свист, но никто не ответил. Компаньон бритоголового свистнул еще раз. Все было спокойно. К тому времени я уже ретировался, отползая на животе: только бы выбраться отсюда, от последнего охотника и от чего-то, что теперь преследовало нас обоих, глядя сквозь пронизанную солнцем листву деревьев вдоль Конгари.
Я прополз на брюхе, пятясь метров тридцать, когда решил, что уже можно подняться. Откуда-то сверху до меня долетало журчание воды. За спиной я слышал выстрелы, но не в моем направлении. Я не останавливался, даже когда сучок сломанной ветки прорвал мне рукав и оставил кровоточащий след на руке, — шел, запрокинув голову и тяжело дыша; нестерпимо кололо в боку. Вдруг я заметил белую вспышку справа от себя. Часть моего сознания пыталась успокоить меня тем, что это была птица, какая-нибудь белая цапля или детеныш серой цапли. Но было нечто странное в том, как Оно двигалось, запинаясь, рывками, что было отчасти попыткой замаскироваться, а отчасти следствием физической немощи. Когда я попытался вновь найти это среди зарослей, то не смог, но я понимал, что Оно где-то здесь. Я чувствовал, как Оно разглядывает меня.
Я пошел дальше.
Я видел, как вода просвечивает меж деревьев. Примерно в десяти метрах от меня была лодка — не моя лодка, но, по крайней мере, двое их тех, кто брал ее напрокат, уже мертвы, а третий где-то у меня за спиной боролся за свою жизнь. Я шагнул на островок, заполненный складками корней кипариса, странными коническими формами, торчащими из земли, как миниатюрные ландшафты из другого мира. Я пробрался между ними и был уже совсем возле лодки, когда темноволосый появился из зарослей деревьев слева от меня. У него больше не было ружья, но у него был нож, и он метнул его в меня, когда я поднял пистолет и выстрелил. Уклоняясь я потерял равновесие, и пуля попала ему в бок, замедлив продвижение преследователя, но не остановив его.
Прежде чем я успел выстрелить во второй раз, он напал на меня, его левая рука с силой отводила мою руку с пистолетом, в то время как я пытался остановить его нож. Я примерился, чтобы ударить его коленом в раненый бок, но он угадал мое движение и использовал его против меня, перебросив меня через спину и ударив по левой ноге. Я опрокинулся назад, когда его ботинок врезался мне в руку, выбивая из нее пистолет. Я снова ударил его ногой, когда он наклонился вперед, и попал ему прямо в больное место. Он сплюнул, его глаза расширились от удивления и боли, но, быстро оправившись, темноволосый встал коленями мне на грудь. Пришлось опять удерживать нож как можно дальше от цели. И тут я заметил, что мой преследователь чем-то удивлен, а рана в его боку кровоточит все сильнее. Я внезапно ослабил давление на его руки и, когда он упал вперед, стукнул его головой прямо в нос. Он вскрикнул, и я сбросил его с себя, затем поднялся и подсечкой снизу опрокинул его на спину со всей силой, которую смог собрать.
Раздался влажный хруст, когда он врезался в землю, и что-то разорвалось у него в груди, как будто одно из ребер раскололось и пробило кожу насквозь. Я отступил назад и смотрел, как кровь стекает по корням кипариса, пока человек, приколотый к нему, пытается встать. Он протянул руку и дотронулся до дерева, его пальцы окрасились кровью. Он поднял их вверх и показал мне, как будто пытаясь показать, что я наделал, потом его голова откинулась, и он умер.
Я вытер рукавом лицо; рукав от грязи, смешанной с потом, сразу промок. Я повернулся, чтобы взять свой пистолет, и увидел завернутую в ткань фигуру, которая наблюдала за мной из зарослей деревьев.
Это была женщина. Я видел очертания ее груди под тканью, хотя лицо оставалось скрытым. Нет, это не приведение. Я окликнул ее по имени:
— Мелия, не бойся.
Я повернулся к ней, и в этот момент темная тень упала на меня. Я оглянулся. В левой руке у Терезия был крюк. У меня хватило времени только на то, чтобы заметить в его правой руке грубо сработанную дубину, когда она швырнула меня в воздух. И наступила темнота.
Глава 25
Меня привел в чувство запах лекарственных растений, которые использовали, чтобы сделать мазь для кожи. Я лежал в закутке, служившем кухней в коттедже, со связанными руками и ногами. Я поднял голову, и мой затылок уперся в стену. Боль была нестерпимая. Плечи и спина ныли, а куртка пропала. Наверно, я потерял ее, когда Терезий затаскивал меня в этот угол. В голове мешались смутные воспоминания о том, что мы двигались мимо высоких деревьев и солнечный свет пробивался сквозь полог листвы и веток. Мой сотовый телефон и пистолет исчезли. Я лежал на полу, казалось, уже много часов.
Спустя какое-то время я заметил движение у дверей, и в лучах заходящего солнца появился Терезий. В руках он нес лопату, потом прислонил ее к стене, вошел в кухню и склонился надо мной. Я нигде не видел женщину, но ощущал ее присутствие и предполагал, что она сидит в задней, затемненной комнате, окруженная портретами красавиц, какой ей уже не суждено стать.
— С возвращением, брат, — сказал Терезий.
Он снял темные очки. Вблизи радужная оболочка его глаз казалась более ясной. Глаза Терезия напоминали мне глаза некоторых ночных животных, увеличенные для того, чтобы лучше видеть в темноте. Он налил в бутылку воды из-под крана, затем поднес ее к моим губам. Я пил долго, вода текла по груди. Я закашлялся и содрогнулся от боли, которой это действие отозвалось в голове.
— Я не ваш брат.
— Если бы ты не был моим братом, ты бы уже умер.
— Вы убили их всех?
Он наклонился ко мне:
— Эти люди получили урок. В мире все должно быть сбалансировано. Они взяли жизнь, разрушили еще одну. Они должны были узнать, что такое Белая дорога, должны были взглянуть на то, что их ожидает там, вступить на нее и стать ее частью.
Я взглянул в окно и увидел, что уже смеркается. Скоро станет совсем темно.
— Вы спасли ее? — спросил я.
Он кивнул:
— Я не мог спасти ее сестру, но мог спасти ее.
Я уловил сожаление в его голосе и нечто большее — любовь.
— Она была вся в ожогах, но осталась жива под землей. Подземная река вынесла ее оттуда. Я увидел, как ее швыряет и тащит по камням, подобрал ее, и мы с мамой выхаживали ее. Когда моя мама умерла, Мелии пришлось самой заботиться о себе целый год, пока я не вышел из тюрьмы. Теперь я вернулся.
— Почему вы просто не пошли в полицию и не рассказали им, что произошло?
— Такие дела так не улаживаются. Не важно, как это произошло. Но тело ее сестры пропало. Это была темная ночь, она испытывала жестокую боль. Она даже не могла говорить, ей пришлось написать мне их имена, да и если бы она смогла их назвать, кто бы поверил в то, что эти богатые белые мальчики могли сотворить подобное? Я даже не был уверен, сможет ли она когда-нибудь разумно мыслить: боль сводила ее с ума.
Но это не было ответом. Этого недостаточно, чтобы объяснить, что произошло, что он пережил и что заставил испытать других.
— Все дело в Эдди, да?
Он не ответил.
— Вы любили ее, может быть, задолго до того, как появился Дэвис Смут. Это был ваш ребенок, Терезий? Атис Джонс был вашим сыном? Она боялась рассказать остальным из-за того, что вы принадлежали к племени, на которое даже черные смотрят свысока. Ведь ваш народ — самые презираемые изгои из топей? Вот почему вы поехали разыскивать Смута, вот почему не рассказали Атису, из-за чего попали в тюрьму. Вы не рассказали ему, что убили Смута, потому что это было не так важно. Вы не верили, что Смут — его отец, и были правы. Даты не совпадают. Вы убили Смута за то, что он сделал с Эдди, затем вернулись обратно в тот самый момент, когда совершалось насилие над женщиной, которую вы любили, и ее сестрой. Но до того, как вы смогли отомстить Ларузу и его дружкам, полицейские схватили вас и отправили обратно в Алабаму, на суд. Вам повезло: вы получили только 20 лет срока, потому что нашлось множество свидетелей, которые подтвердили ваши слова о том, что это была самооборона. Я полагаю, как только старый Дэвис заметил вас, он сразу же схватил оружие, которое всегда держал под рукой, и у вас была причина убить его. Теперь вы вернулись, чтобы рассчитаться за потерянные годы.
Терезий не отвечал. С его стороны не прозвучало ни подтверждения, ни опровержения. Одна из его больших рук стиснула мое плечо и поставила меня на ноги.
— Время пришло, брат. Вставай, вставай.
Нож рассек веревки, связывавшие мои ноги. Я почувствовал боль, когда кровь, наконец, прилила к затекшим мышцам.
— Куда мы идем?
Он удивился, и только тогда я понял, насколько ненормальным он был. Он был сумасшедшим задолго до того, как его привязали к столбу на солнцепеке, психом, который все эти годы держал изуродованную женщину вдали от людей под защитой своей старой матери только для того, чтобы она могла послужить какой-то странной миссии.
— Обратно в западню, — сказал он. — Мы идем обратно в западню. Самое время.
— Самое время для чего?
Он осторожно подтолкнул меня в спину:
— Время показать им Белую дорогу.
У его небольшой лодки был мотор, но он развязал мне руки и заставил грести. Он боялся: боялся, что шум может привлечь к нему людей раньше, чем он будет готов. Боялся, что я могу наброситься на него, если он не найдет для меня занятия. Один или два раза во время пути я подумывал о том, чтобы броситься на него, но револьвер, который он теперь держал в руках, ни разу не шелохнулся. Всякий раз он кивал мне и улыбался, как только я переставал грести, будто мы были старыми друзьями, отправившимися на прогулку по реке в конце дня. День понемногу угас, и нас обступила темнота.
Я не знал, где находится женщина. Я только знал, что она ушла из дома раньше нас.
— Вы не убивали Марианну Ларуз? — спросил я, когда мы подплыли к дому, который был построен выше отмелей, и на нас залаял цепной пес.
Звяканье его цепи разнеслось в вечернем воздухе. Свет на крыльце дома погас. Я увидел, как с него сошел человек и принялся успокаивать собаку. Его голос не был сердитым, и я почувствовал к нему симпатию. Я видел, как он треплет собаку за ухом, а ее хвост в ответ мотается из стороны в сторону. Навалилась усталость. Я почувствовал, что приближаюсь к концу всего, как будто бы эта река была Стиксом и меня заставляли переплыть его без перевозчика. Казалось, как только лодка коснется берега, я погружусь в загробный мир и исчезну с лица земли. Я повторил свой вопрос.
— Это так важно? — спросил он в ответ.
— Да. Это важно для меня. Может быть, это было важно и для Марианны в момент ее смерти. Но вы не убивали ее. Вы еще были в тюрьме.
— Они говорили, что ее убил парень, а он уже не сможет опровергнуть их слова.
Я перестал грести и тут же услышал щелчок затвора: Терезий не шутил.
— Не заставляйте меня стрелять в вас, мистер Паркер.
Я бросил весла и поднял руки вверх.
— Это ведь она сделала? Мелия убила Марианну Ларуз, а в результате погиб ее племянник, ваш сын.
Он следил за мной все время, пока говорил:
— Она знает реку. Она знает топи. Она бродит по ним. Иногда ей нравится смотреть, как парни напиваются и развлекаются с девками. Я думаю, это напоминает ей о том, что она утратила, о том, что у нее отняли. Это было просто роковое стечение обстоятельств, что она увидела Марианну Ларуз, которая бегала среди деревьев в ту ночь, и ничего больше. Она узнала ее лицо, которое смотрело на нее со страниц светской хроники и газет. Ей нравилось смотреть на фотографии прекрасных женщин, и она воспользовалась шансом.
— Рок, судьба, — повторил он. — Вот и все.
Но, конечно, это было не все. История этих двух семей, Ларузов и Джонсов, пролитая кровь, искалеченные судьбы — все говорило, что дело здесь не просто в капризах судьбы или стечении обстоятельств. Около двухсот лет они отгораживались друг от друга, соблюдая соглашение о взаимном уничтожении, которое лишь отчасти осознавали с обеих сторон и которое подогревалось памятью о прошлом, когда один человек владел и распоряжался другим. Эта вражда разгоралась ярким пламенем от воспоминаний о нанесенных ранах и жестокой расплате за них. Их пути пересекались, сплетались друг с другом в критические моменты истории штата и самих семей.
— Она знала, что парень, который был с Марианной, ее собственный племянник?
— Она не встречалась с ним до того, как умерла девушка. Я...
Он помолчал, потом продолжил:
— Я не знаю, о чем она думает, но она немного умеет читать. Она видела газеты, и, полагаю, она приходила смотреть на тюрьму иногда поздно ночью.
— Вы могли бы спасти его, — сказал я. — Если бы вы пришли с ней, вы могли бы спасти Атиса. Нет такого суда, который обвинил бы ее в убийстве. Она безумна.
— Нет, я не мог этого сделать.
Он не мог этого сделать, потому что тогда он не смог бы продолжать карать насильников и убийц женщины, которую когда-то любил. В конечном счете ради мести он был готов пожертвовать жизнью своего собственного сына.
— Вы убили остальных?
— Мы оба, вместе.
Он спас ее и держал в безопасном месте, потом убивал ради нее и памяти о ее сестре. Он, таким образом, отказался от собственной жизни ради них.
— Все произошло так, как должно было случиться, — сказал он, как будто угадывая ход моих мыслей. — И это все, что я могу сказать.
Я снова принялся грести, оставляя на воде следы; капли падали обратно в реку в каком-то безжизненном ритме. Все это было похоже на то, что я как будто бы замедлил течение времени, растягивая каждый момент и делая его все длиннее и длиннее, пока, наконец весь мир не остановится. Весла застывали в момент, когда врезались в воду, как птицы, пойманные в момент взмаха крыльями. Комары казались соринками пыли, приклеившимися к рамке на картине. И казалось, что мы никогда не продвинемся вперед. Мы никогда не выберемся из этой темной ловушки, которая пахнет моторным маслом и отбросами. Память о вспыхнувшем тогда пожаре останется лишь в виде черных полос на камнях, лежащих вдоль русла реки.
— Их осталось только двое, — в какой-то момент сказал Терезий. — Лишь двое, и все будет кончено.
Я не мог понять, то ли он разговаривает сам с собой, то ли говорит это мне, то ли кому-то невидимому. Я взглянул на берег, ожидая увидеть, как она следит за нашим продвижением вперед, женщина, снедаемая болью. Или ее сестру с разбитой челюстью и головой, с дикими глазами, горящими огнем ярости при виде языков пламени, которые охватывают ее сестру.
Но здесь были только тени деревьев, темнеющее небо и вода, сверкающая в отдельных проблесках лунного света.
— Мы выйдем здесь, — прошептал он.
Я направил лодку к левому берегу. Когда она ткнулась в берег, послышался мягкий всплеск — это Терезий спрыгнул с лодки. Он подал мне знак, чтобы я двигался к деревьям, и я пошел. Мои брюки намокли, и грязная вода хлюпала в ботинках. Я был весь искусан комарами, лицо горело, а обнаженные спина и грудь нестерпимо чесались.
— Откуда вы знаете, что они будут здесь? — спросил я.
— О, они придут сюда, — сказал он. — Я пообещал им две вещи, которых они хотели больше всего: ответ на вопрос о том, кто убил Марианну Ларуз...
— И?
— И вас, мистер Паркер. Они решили, что вы живете уже слишком долго и в вас отпала необходимость. Этот мистер Киттим, как я прикидываю, собирается вас похоронить.
Я знал, что это правда. Похоже, Киттим планировал сыграть последний акт драмы, которую они задумали. Эллиот вытащил меня сюда, якобы чтобы я выяснил все об обстоятельствах гибели Марианны Ларуз с целью защитить Атиса Джонса. Но в действительности (и по договоренности с Ларузами), чтобы я выяснил, не связано ли убийство Марианны с тем, что происходит с шестью мужчинами, которые изнасиловали сестер Джонс, убили одну из них и подожгли другую. Мобли работал на Боуэна и, я предполагал, в какой-то момент проговорился. От него Боуэн узнал об этом давнем групповом преступлении, что и дало ему возможность использовать Эллиота и, вероятно, Эрла-младшего тоже. Эллиот меня заманил, а Киттим уничтожит. Если бы я сумел выяснить, кто стоит за убийствами до своей смерти, тем лучше. Если бы не узнал, то все равно бы не дожил до момента, когда смог бы получить свой гонорар.
— Но вы, конечно, не собираетесь отдать им Мелию, — предположил я.
— Нет, я собираюсь их убить.
— В одиночку?
Его белые зубы сверкнули.
— Нет, — сказал он. — Я же говорил, что не мщу один.
Здесь все было так, как описывал Поведа, несмотря на прошедшие годы. Вот поваленный забор, возле которого я был раньше, и надпись «Нет прохода». Вот ямы — некоторые замаскированы растительностью, другие настолько огромные, что в них лежат целые деревья, упавшие туда. Мы шли около пяти минут, когда я почувствовал в воздухе резкий химический запах, который и поначалу показался очень неприятным, а, когда мы подошли ближе к яме, он начал раздирать ноздри и вызывал слезотечение. Всякий мусор был навален на земле, и ни ветерка, чтобы хоть немного развеять эту вонь. Здесь стояли остовы деревьев; их стволы, серые и безжизненные, отбрасывали тонкие тени на известковые плиты. Сама яма была около двадцати футов шириной и такая глубокая, что ее дно исчезало в темноте. Корни и сухая трава, свисающие по краям, тянулись вглубь, в тень.
Двое стояли у дальнего края ямы, заглядывая в глубину: один — Эрл-младший, второй — Киттим. Киттим первым почувствовал наше приближение, несмотря на сгущающиеся сумерки. Его лицо казалось бледным, даже когда мы остановились и взглянули на них с другого края ямы. Киттим едва взглянул на меня и обратил все свое внимание на Терезия.
— Вы узнаете его? — спросил он младшего Ларуза.
Эрл-младший покачал головой. Киттим, по-видимому, был недоволен его ответом, тем, что не получил точной информации, чтобы оценить ситуацию.
— Кто вы такой? — спросил он.
— Меня зовут Терезий.
— Вы убили Марианну Ларуз?
— Нет, не я. Я убил остальных, и я видел, как Фостер прилаживает шланг к выхлопному отверстию своей машины, а затем протаскивает его в окно. Но я не убивал девушку из семьи Ларузов.
— Тогда кто это сделал?
Она была рядом. Я знал, что она здесь, чувствовал ее присутствие. Мне показалось, что Ларуз это тоже почувствовал, потому что я заметил, как его голова вдруг дернулась назад, как у раненого оленя. Его взгляд начал блуждать по деревьям, выискивая источник своего беспокойства.
— Я задал вопрос, — настаивал Киттим. — Кто убил ее?
Трое вооруженных людей появились из зарослей с обеих сторон от нас. Терезий тотчас бросил пистолет на землю, но я знал, что в его планы не входило отступать далеко от этого места. Двоих из этих людей я не знал. Третьим был Эллиот.
— Ты, кажется, не удивлен, что видишь меня, Чарли? — сказал он.
— Меня трудно чем-то удивить, Эллиот.
— Даже возвращением старого друга с того света?
— У меня было ощущение, что ты вскоре вернешься, — я слишком устал, чтобы демонстрировать свою злость. — Кровь в машине была милой деталью. Как ты собираешься объяснить свое воскресение? Чудом?
— Мы все подвергались угрозам со стороны какого-то бешеного негритоса, я сделал, то, что сделал, чтобы скрыться. В чем ты собираешься меня обвинить? В том, что полиция зря потратила время? В фальсификации самоубийства?
— Ты убил, Эллиот. Ты привел людей к смерти. Ты взял на поруки Атиса только для того, чтобы твои друзья смогли подвергнуть его пыткам и выяснить, что он знает.
Он вздрогнул:
— Твоя вина, Чарли. Если бы ты лучше делал свое дело и заставил его все рассказать, он, может, был бы сейчас жив.
Я содрогнулся. Он попал в самую точку, но я не собирался в одиночку нести вину за смерть Атиса Джонса.
— А Синглтоны? Что ты сделал, Эллиот? Ты сидел с ними на кухне, попивая их лимонад, и поджидал своих дружков, которые пришли и убили их, пока единственный человек, который смог бы их защитить, был в душе. Старик сказал, что на него напали оборотни, а полиция решила, что он имел в виду Атиса, пока не оказалось, что мальчишка умер под пытками. Но это был ты. Ты был оборотнем. Вы все были оборотнями. Посмотри, что в тебе осталось от самого себя, Эллиот, что от вас осталось. Посмотрите, во что вы превратились.
Эллиот вздрогнул.
— У меня не было выбора. Мобли все выболтал Бо-уэну по пьянке — правда, он в этом так и не признался — так что у Боуэна появилось кое-что против всех нас. Он воспользовался этим, чтобы заставить меня вызвать тебя сюда. Ну, а потом все это, — незанятой рукой он сделал жест, очерчивающий круг, имея в виду яму перед нами, топи, убитых мужчин, память об изнасилованных девушках, — все это стало происходить. Ты был хорош, Чарли, я должен это признать. Можно сказать, это ты привел нас всех к тому месту, где мы теперь. Ты сойдешь в могилу с чувством выполненного долга.
— Достаточно, — оборвал его Киттим. — Заставьте черномазого рассказать нам все, что он знает, и покончим с этим.
Эллиот поднял свой пистолет, указывая сначала на Терезия, потом на меня.
— Тебе надо было прийти на топи одному, Чарли.
Я улыбнулся ему:
— Прости, не смог.
В это мгновение пуля угодила Нортону прямо в переносицу и отбросила его голову назад с такой силой, что я, кажется, услышал, как хрустнула его черепная коробка. Люди по обе стороны от него почти не имели шанса среагировать: они тоже упали. Лишь Ларуз стоял, застыв от удивления. Но тут Киттим поднял свой пистолет, и я почувствовал, как Терезий толкает меня на землю. Раздались выстрелы — теплая кровь залила мне глаза. Я поднял голову вверх и заметил удивленное выражение лица Терезия перед тем, как он упал в яму, и глубоко внизу раздался громкий всплеск.
Я поднял его брошенный револьвер и побежал к кустам, ожидая, что один из выстрелов Киттима сразит меня в любой момент, но он в это время тоже пытался убежать. Я заметил краем глаза, как Ларуз скрывается за деревьями, а потом он исчез из вида.
Но только на минуту.
Он вновь появился, медленно пятясь от чего-то, находившегося среди деревьев. Я увидел, как она приближается к нему, облаченная в легкую ткань, — единственную одежду, которую могла носить, не испытывая мучительной боли.
Голову Мелии не покрывал капюшон. На черепе не было волос, все черты ее лица деформировались, словно слились в одно пятно, не имеющее ничего общего с прежней красотой. Только глаза оставались прежними, они сверкали из-под распухших век. Мелия протянула руку к Ларузу, и в этом жесте было что-то похожее на нежность, как будто отвергнутая возлюбленная в последний раз пытается коснуться мужчины, который повернулся к ней спиной. Ларуз издал сдавленный крик, потом отмахнулся от ее руки так, что у нее лопнула кожа. Инстинктивно он стал вытирать руку с выражением брезгливости об свою куртку, потом быстро пошел направо, стремясь обойти ее и спрятаться в лесу.
Но Луис вышел из тени и направил пистолет ему в лицо.
— Куда это ты пошел? — спросил он.
Эрл остановился и оказался между женщиной и пистолетом.
Потом она бросилась на него, они оба опрокинулись. Она оплелась телом вокруг него, когда они падали — он с криком, она молча — вниз, в темную воду. Мне показалось, что я вижу, как всплывает из-под воды ее светлая одежда, но потом они исчезли.
Глава 26
Мы пошли назад, к машине Луиса, но нигде не заметили следов Киттима.
— Теперь ты понимаешь? — спросил Луис. — Ты понимаешь, почему мы не можем позволить им уйти, не можем никого из них отпустить?
Я кивнул.
— Слушание по делу назначено через три дня, — сказал он. — Проповедника выпустят, и тогда никто из нас снова не будет в безопасности.
— Я в игре.
— Ты уверен?
— Уверен. Как насчет Киттима?
— А что с ним?
— Он сбежал.
Луис почти смеялся:
— Неужели?
* * *
Киттим быстро удалялся в сторону Блю Ридж, он добрался до цели ранним утром. У него еще будет шанс, будут другие возможности. Но в настоящий момент надо отдохнуть и подождать проповедника, чтобы переправить его в безопасное место. После этого он найдет подходящий момент.
Киттим толкнул дверь в коридор перед входом в квартиру, потом подошел к двери и отпер ее. Лунный свет проникал в окна, освещая дешевую мебель, некрашеные стены. Он падал и на мужчину, который сидел лицом к двери и держал наготове пистолет с глушителем. На нем были кроссовки, выцветшие джинсы и вульгарная шелковая рубашка, которую он купил на последней распродаже в подвале магазина «Филен». Его небритое лицо казалось очень бледным. Он даже не моргнул, когда пуля угодила Киттиму прямо в живот. Киттим упал и попытался вытащить из-за пояса свой пистолет, но незнакомец уже сидел на нем. Его пистолет уперся в правый бок Киттима, когда тот высвободил руку из-под ремня, и оружие было отобрано у него.
— Кто ты такой?! — заорал Киттим. — Мать твою, ты кто?!
— Я — Ангел, — последовал ответ. — А ты, мать твою, кто?
Теперь его окружили другие фигуры. Руки Киттима были заведены за спину, наручники на них защелкнулись раньше, чем он успел обернуться, чтобы увидеть тех, кто схватил его, — невысокого человека в плохо подобранной рубашке, двоих молодых людей, вооруженных пистолетами, и старика в черном облачении, который вышел из тени.
— Киттим, — задумчиво произнес Эпштейн, рассматривая человека, лежащего на земле. — Необычное, мудреное имя.
Киттим не двигался. Теперь он был весь внимание, несмотря на мучения, которые доставляла ему рана. Он уперся взглядом в старика.
— Я припоминаю, что киттим — это название племени, предназначенного для того, чтобы руководить последней битвой с сыновьями Света, агенты силы тьмы, живущие на земле, — продолжал Эпштейн. Он наклонился вперед так низко, что мог почувствовать запах изо рта раненого. — Вам следовало изучить ваши скрижали поподробнее, друг мой, в них говорится, что племя киттим недолговечно и что для сыновей тьмы не будет спасения.
Эпштейн сложил руки у себя за спиной. Теперь они стали видны, и свет отразился от металлического чемоданчика в его руках.
— У нас есть к вам вопросы, — сказал Эпштейн, вынимая шприц и выпуская струйку чистой жидкости в воздух.
Игла нацелилась в Киттима, и существо, которое скрывалось внутри него, начало бесплодную борьбу, стремясь избавиться от бренной плоти.
Я покинул Чарлстон поздно вечером на следующий день. В комнате для допросов я рассказал специальным агентам Адамсу и Аддамсу почти все, что мне было известно, соврав только в тех местах, где надо было выгородить Луиса. Я не стал рассказывать и о своей роли в смерти двух мужчин на Конгари. Терезий избавился от их тел, когда я связанный лежал в его лачуге, а топи много лет надежно скрывали останки мертвых. Их не найдут.
Что же до тех, которые были убиты перед ямой, я сказал, что они умерли от рук Терезия и женщины, потому что были застигнуты врасплох и не успели отреагировать. Тело Терезия всплыло на поверхность, но от женщины и Ларуза-младшего не осталось и следов. Сидя в комнате для допросов, я снова мысленно видел, как они падают, исчезая в темной воде, тонут, и женщина тянет мужчину вниз за собой к протокам, которые текут под камнями, удерживает его там. Он захлебывается, и оба они сливаются в смертельном объятии, и смерть не может разлучить их.
У здания чарлстонского аэропорта стоял лимузин с тонированными окнами, сквозь которые никто не мог увидеть тех, кто находился внутри. Когда я шел к дверям, стекло одного из окон медленно опустилось и Эрл Ларуз-старший взглянул на меня, ожидая, что я подойду.
— Мой сын, — только и произнес он.
— Погиб. Я уже все рассказал полиции.
Его губы задрожали, и он смахнул слезы с глаз. Но я не чувствовал к нему ни жалости, ни сострадания.
— Вы ведь все знали, — сказал я. — Вы с самого начала должны были знать, что натворил ваш сын. Когда он пришел домой в ту ночь, забрызганный ее кровью, разве он не рассказал вам обо всем, что сделал? Разве он не умолял вас спасти его? И вы помогли ему, чтобы спасти его самого и честь семьи. Вы держались за этот клочок бросовой земли в надежде, что все происшедшее там останется никому не известным. Но потом появился Боуэн и подцепил вас на крючок, и оказалось вдруг, что вы больше не контролируете ситуацию. Его люди заполонили ваш дом, и, я думаю, он вытряс из вас немало денег. Сколько вы дали ему, мистер Ларуз? Достаточно, чтобы внести залог за Фолкнера, или еще сверху?
Старик больше не смотрел на меня. Он мысленно вернулся в прошлое, погружаясь в горе и безумие, которые, наконец, поглотят его.
— Для этого города мы были семьей королевских кровей, — прошептал он. — Мы жили здесь с момента его рождения. Мы — часть его истории, наше имя будет жить в веках!
— Ваше имя очень скоро умрет вместе с вами, и вашему роду не будет продления, как не будет продления роду Джонсов.
Я пошел прочь. Когда я дошел до дверей, автомобиль уже не отражался в их стекле.
* * *
А в домишке на краю Каины, в Джорджии, Верджил Госсард проснулся, почувствовав тяжесть на своих губах. Он открыл глаза, когда пистолет просунули ему в рот.
Фигура перед ним была одета в черное, лицо скрыто под лыжной маской.
— Встать, — приказали ему, и Верджил узнал голос, который слышал ночью у забегаловки Малыша Тома.
Его схватили за волосы и вытащили из постели, с пистолета, когда его вынули изо рта, закапали слюна и кровь. Верджила, одетого только в пестрые трусы, подтолкнули в спину, чтобы он шел на кухню своего убогого домишки. Потом его подтолкнули к задней двери, ведущей в поля за домом.
— Открывай.
Верджил заплакал.
— Открывай!
Он открыл дверь и оказался на улице. Верджил шел в ночи босиком по двору, чувствуя холод земли под ногами; длинные листья разросшейся травы царапали ему кожу. Он слышал дыхание человека за своей спиной, когда подходил к деревянному забору, ограничивающему его владения. Низкая стена, высотой примерно в три кирпича, появилась у него перед глазами. Кусок заржавевшего железа лежал поперек нее — старый колодец.
— Убери крышку.
Верджил помотал головой:
— Нет, не надо, — сказал он, — пожалуйста.
— Давай!
Верджил присел на корточки и убрал лист в сторону, открыв колодец.
— Встань на колени на край.
Лицо Верджила исказилось от страха и слез. Он чувствовал во рту вкус соплей и крови, опускаясь на колени и вглядываясь в глубину колодца.
— Простите меня, — сказал он. — Что бы я ни сделал, простите меня.
Он почувствовал, как пистолет уперся в ямку на шее под затылочной костью.
— Что ты видел? — спросил человек.
— Я видел мужчину, — сказал Верджил. Он был готов упасть. — Я посмотрел вверх и увидел мужчину, черного мужчину. С ним был еще один мужчина. Белый. Я плохо рассмотрел его. Мне не надо было смотреть. Мне не следовало смотреть.
— Что ты видел?
— Я же говорил. Я видел...
Пистолет подняли вверх.
— Что ты видел, придурок ты этакий?
И Верджил, наконец, понял.
— Ничего, — выдохнул он. — Я ничего не видел. Я не узнаю этих ребят, если увижу их снова. Ничего. Вот и все. Ни-че-го!
Пистолет отодвинулся от его головы.
— Не заставляй меня опять приезжать сюда, Верджил, — глубокий низкий голос звучал проникновенно, словно увещевал заблудшего.
Все тело Верджила содрогалось от рыданий.
— Я не буду, — сказал он. — Обещаю.
— Сейчас останься здесь, Верджил. Не вставай с колен.
— Хорошо. Спасибо, спасибо.
— Да на здоровье, — ответил человек.
Верджил не слышал, как он ушел. Он все продолжал стоять на коленях до самого рассвета, а потом, весь дрожа, поднялся и пошел назад в свой маленький дом.
Книга 5
"И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что все другое было б легче им".
Данте «Ад», Песнь третьяГлава 27
В течение следующих двух дней они стекались в штат, группами и поодиночке, только автомобильным транспортом. Здесь были парочки, которые регистрировались в маленьком мотеле на окраине Сангервилла. На людях они целовались и ворковали, как молодые влюбленные, но спать ложились в разные кровати своих двухместных номеров. Внимательный наблюдатель обратил бы внимание на четверых мужчин, что торопливо поедали свой завтрак в «Мисс Портленд Диннер» на Маргинал Вэй: их взгляды постоянно возвращались к черному фургону, на котором они приехали. Эти люди заметно нервничали, как только кто-нибудь подходил к нему, и немного расслабляясь, когда любопытные проходили мимо.
Среди них был мужчина, который вел большегрузный автомобиль к северу от Бостона, избегая, насколько возможно, промежуточных стоянок, пока, наконец, не добрался до сосновых лесов и не увидел озеро, просвечивающее сквозь деревья. Он сверил свои часы — слишком рано — и направился назад, в сторону Долби-Понда и «Ла-Каса Экзотик Клаб». Это было, с его точки зрения, самое бездарное времяпровождение.
* * *
Самый слабый сценарий суда должен был пройти: член Верховного Суда Купер держал в руках тезисы для решения отказать в освобождении под залог Аарону Фолкнеру. За час, предшествовавший принятию решения, Бобби Эндрюс и его команда представили Куперу свои аргументы против освобождения, подчеркивая, что они уверены: существует опасность побега Фолкнера и того, что потенциальные свидетели могут стать объектами запугивания. Когда судья спросил их, есть ли у них какие-нибудь новые данные, чтобы передать ему, они заявили, что у них нет ничего.
В своем представлении Грим Джим Граймс заявил, что обвинение не представило убедительных доказательств, которые подтвердили бы, что Фолкнер совершал массовые убийства. Он также представил медицинское заключение от трех независимых экспертов о том, что здоровье Фолкнера сильно подорвано пребыванием в камере заключения. Со сторонними специалистами спорить не было смысла, поскольку и тюремные врачи заметили, что Фолкнер страдает от какой-то болезни, хотя и не могли сказать, от какой именно, но старик начал терять в весе, его температура, давление и пульс постоянно были повышенными. Защитник настаивал на том, что потрясение от заключения в тюрьму серьезно угрожает жизни его клиента, против которого обвинение не может даже выдвинуть полноценный обвинительный приговор. Он твердил, что негуманно и несправедливо держать его клиента в тюрьме, в то время как прокурор пытается набрать побольше свидетельских показаний в поддержку своего приговора по делу. Поскольку его клиент нуждается в постоянном серьезном медицинском наблюдении, и речи быть не может о реальной угрозе побега, а сумма залога должна быть установлена соответственно данным обстоятельствам.
Объявляя свое решение, Купер выпустил большую часть моих показаний, основываясь на том, что на меня нельзя положиться и что решение низшей инстанции не освобождать под залог было ошибочным, поскольку обвинение не представило достаточно серьезных доказательств того, что Фолкнер самолично совершил вышеназванные преступления. В дополнение он согласился с предположением Джима Граймса, что подорванное здоровье его клиента может угрожать вынесению судом справедливого решения и что острая необходимость в медицинском уходе делает его клиента неспособным к побегу. Он установил залог в 1,5 миллиона долларов. Граймс объявил, что сумма была получена. Фолкнер в наручниках сидел в смежной комнате под охраной чиновников и должен был быть немедленно освобожден.
К чести Эндрюса надо заметить, он предвидел возможность того, что Купер назначит залог, и, без особой, правда, охоты, обратился в ФБР. Он попросил, чтобы там выписали ордер на арест Фолкнера по обвинению в преступлении по федеральному уголовному праву на случай, если старика освободят. И не вина Эндрюса, что ордер был неправильно составлен: секретарша неправильно указала полное имя подсудимого, решив, что это неважно, и просто оставила вместо него пробел. Так что, когда Фолкнер покидал здание суда, не было никакого ордера на арест, чтобы его можно было предъявить.
В коридоре у зала суда №1 на свободной скамейке сидел мужчина в коричневом пиджаке и звонил по телефону. В десяти милях отсюда в руках Сайруса Найрна зазвонил сотовый телефон.
— Тебе пора, — сказал голос на другом конце линии.
Сайрус выключил телефон и забросил его в кусты у дороги, потом завел машину и поехал в сторону Скарборо.
* * *
Фотовспышки открыли огонь, как только Граймс появился на ступеньках суда, но Фолкнера с ним не было. «Ниссан» с Фолкнером, спрятанным под одеялом, свернул от здания суда налево и направился в сторону гаража в магазине «Паблик Маркет» на Элм-стрит. Над ним раздалось стрекотание вертолета. Рядом с «ниссаном» следовали еще две машины. Детище Эдварда Гувера не хотело, чтобы Фолкнер исчез в глубинах нашего благословенного мира.
Побитый желтый «бьюик» остановился за «ниссаном», когда тот оказался у въезда в гараж, заставив все машины позади него неожиданно остановиться. Внедорожнику не было необходимости останавливаться для покупки билета, потому что все было подготовлено заранее: автомат, выдающий билет на стоянку, был просто отключен с помощью небольшой дозы промышленного клея, а охранник отлучился, когда заметил пламя, взметнувшееся из мусорного бака. Гаражу пришлось держать открытыми шлагбаумы на въезде и выезде, пока устраняли неисправность.
«Ниссан» быстро проехал гараж насквозь, но «бьюик», последовавший за ним, застрял у въезда и перегородил его. Прошло несколько секунд, пока полиция в машинах сопровождения осознала, что произошло. Первая машина дала задний ход и быстро направилась к выезду, в то время как двое детективов из второй машины поспешили к «бьюику», вытащили водителя из машины и освободили дорогу остальным.
К тому времени как агенты настигли потерянный «ниссан», Фолкнер уже давно был далеко.
* * *
В семь часов вечера Мэри Мэйсон отправилась из своего дома в конце Сивей Лендинг на свидание с сержантом Мак-Артуром. Выходя из дома она бросила взгляд на болотистые берега и реку Скарборо, которая прокладывала себе путь вокруг указующего перста Нонсач Пойнт и стремилась к морю у Сако-Бэй. Мак-Артур был ее первым настоящим кавалером с тех пор, как она развелась три месяца назад, и она лелеяла надежды на продолжение их отношений. Она уже виделась с ним и, несмотря на его помятый вид, думала о нем как о милом, очень милом разгильдяе. Ничто во время их первого свидания не заставило ее снизить эту оценку. Он и правда оказался довольно обаятельным, а, когда позвонил ей вчера вечером, чтобы подтвердить, что состоится второе свидание, они проговорили целый час, к его большому удивлению, как она подозревала, и к не меньшему изумлению ее самой.
Мэри была уже почти у дверей машины, когда к ней подошел мужчина. Он вышел из-за деревьев, которые скрывали ее участок от взглядов соседей. Он был маленького роста и сгорбленный, с длинными темными волосами, которые доходили до плеч и свешивались ему на глаза. Странно, они были совершенно черными, как у мифических подземных обитателей. Почувствовав неладное, Мэри потянулась было за газовым баллончиком, который лежал у нее в сумочке, когда человек-гоблин ударил ее тыльной стороной руки по лицу и она упала. Он прижал коленями ее ноги, чтобы она не успела ничего сделать, и она почувствовала боль в боку, жгучую разрывающую боль от ножа, который вошел под ребра и начал прокладывать себе дорогу к ее желудку. Она попыталась закричать, но его рука закрыла ей рот, и все, что она могла сделать, это беспомощно извиваться, пока нож продолжал продвигаться дальше.
А потом, как раз тогда, когда она почувствовала, что больше не вынесет, что она умрет от боли, Мэри услышала голос и увидела через плечо нападавшего, как к ним приближается крупная неуклюжая фигура, позади которой стоял видавший виды «шеви» с включенным двигателем. Человек, заросший бородой, в кожаном жилете поверх майки больше всего напоминал огромного медведя. Прежде чем потерять сознание, Мэри заметила татуировку с изображением женщины на его предплечье.
— Эй, — сказал Медведь. — Какого хрена ты там делаешь, мужик?
Сайрус не хотел пользоваться пистолетом. Он хотел сделать все так тихо, как только возможно, но большой и странно знакомый мужик, который сейчас уже бежал сюда от дороги, не оставил ему выбора. Он поднялся с тела женщины раньше, чем успел закончить свою работу, достал пистолет и выстрелил.
Два белых фургона выехали через Мидвей с трассы И-95 и проследовали по шоссе №11 через Восточный Миллинокет по направлению к Долби Понду. В первом фургоне сидели трое мужчин и женщина, все вооружены. Во втором — женщина и мужчина, тоже вооруженные, и преподобный Аарон Фолкнер, который молча читал Библию, сидя на скамейке в задней части фургона. Если бы хоть один эксперт-медик оказался здесь, чтобы осмотреть проповедника, он бы обнаружил, что температура у старика совершенно нормальная, а все признаки его мнимой болезни исчезли.
Звонок сотового телефона нарушил тишину во втором фургоне. Один из людей ответил, быстро переговорил, а потом повернулся к Фолкнеру.
— Наш человек собирается приземлиться прямо сейчас, — объяснил он старику. — Он будет ждать нас, когда мы доберемся туда. Мы едем точно по расписанию.
Фолкнер кивнул, но не ответил. Он продолжал изучать злоключения Иова.
* * *
Сайрус Найрн сидел за рулем своей машины у «Блэк Пойнт Маркет» и попивал кока-колу: в такой жаркий вечер отчаянно хотелось прохлады. Кондиционер в машине был сломан, ну и черт с ним: раз женщина умерла, он может пустить автомобиль под откос и направиться на юг, и с этим будет покончено. Он ощущал некоторый дискомфорт, ведь в конечном итоге все произошло совсем не так, как должно было. Эта женщина не испытала и десятой доли того, что должна была пережить.
Он закончил пить колу, потом поехал в сторону моста и швырнул банку из окна в воду. Да, дело сразу пошло не по плану. Во-первых, женщина собиралась уходить, когда он появился, и полезла в сумочку за баллончиком, вынудив его зайти с другой стороны. Потом появился здоровенный мужик, и у Сайруса не осталось выбора, так что пришлось воспользоваться пистолетом. Он боялся какое-то время, что люди услышат выстрел, но ничего не случилось: не было ни крика, ни шума. И все же Сайрус был вынужден в спешке уехать, а он не любил торопиться во время работы.
Он посмотрел на часы, и его губы беззвучно задвигались, считая до десяти. Едва он досчитал до конца, послышался звук взрыва со стороны Пин Пойнта. Когда он выглянул в окно, дым уже начал подниматься над горящей машиной Мэри Мэйсон. Вскоре прибудет полиция, может быть, и пожарные тоже. Они найдут женщину и труп мужчины. Он бы предпочел оставить женщину умирающей, а не мертвой. Он хотел услышать сирену «скорой помощи», увидеть отчаяние полицейского Мак-Артура, даже рискуя тем, что она будет в состоянии дать его описание. Сайрус, правда, подозревал, что недостаточно порезал ее, что она, возможно, и выживет, скорее всего, выживет. Плохо. Он задумался, а вдруг он оставил ее слишком близко к машине. Что если она уже начала гореть? Он бы не хотел, чтобы возникли какие-нибудь сомнения при ее опознании. Это были мелочи, но они беспокоили Сайруса. Перспектива поимки, как ни странно, заботила его куда меньше. Сайрус умрет прежде, чем его отправят обратно в тюрьму. Сайрусу было обещано спасение, а спасенные не боятся ничего.
Справа от него дорога поднималась вверх и терялась в небольшой роще. Сайрус припарковал свою машину в незаметном месте, и его желудок сжался от предвкушения. Он поднялся на холм, расчистил дорожку среди деревьев и миновал развалившийся сарай слева от себя. Теперь перед ним сверкал белый дом: закатное солнце отражалось в его окнах. Вскоре и прибрежные болотца будут охвачены огнем, вода окрасится в оранжевый и красный цвета. В основном в красный.
* * *
Мэри лежала на спине в траве, уставясь в небо. Сознание вернулось, и она видела, как сгорбленный человек сунул какое-то устройство в ее машину и поджег шнур. Мэри догадалась, что это было, но чувствовала себя парализованной, неспособной поднять руки, чтобы остановить поток крови, не говоря уж о том, чтобы отползти от машины.
Она слабела.
Она умирала.
Она почувствовала, что кто-то трогает ее за ногу, и постаралась немного приподнять голову. Длинная полоса крови отмечала путь большого мужчины, который пытался подползти к ней. Он был почти рядом и продолжал подтягиваться на своих сломанных окровавленных ногтях. Наконец человек добрался до нее и сгреб ладонью ее руку, потом приложил ее к ране на боку. Она задохнулась от боли. Но он заставил ее прижать руку сильнее.
Потом очень медленно человек начал тащить ее за воротник блузки по траве. Она громко вскрикнула, но все равно старалась держать руку прижатой к ране, пока, наконец, он больше не смог тащить ее. Медведь лежал под старым деревом в ее дворе, голова Мэри покоилась на его ногах, а его рука лежала поверх ее руки, прижимая ее. Широкий ствол дерева защитил их обоих, когда машина взорвалась, засыпав стеклами пространство двора; волна жара прокатилась по лужайке и достигла пальцев ее ног.
— Держись, — хрипел Медведь. Его дыхание прерывалось. — Держись. Они должны скоро приехать...
* * *
Роджер Боуэн сидел в углу пивнушки Томми Кондона на Черч-стрит в Чарлстоне, потягивая пиво. На столе перед ним лежал мобильник. Боуэн ждал звонка с подтверждением, что проповедник находится в безопасном месте и на пути на север, в Канаду, и смотрел на часы. Когда двое мужчин лет тридцати пяти-сорока прошли мимо него, подшучивая, и толкая друг друга, тот, кто был ближе, споткнулся о стол Боуэна, сбросив его телефон на пол. Боуэн в бешенстве поднялся, но человек извинился и положил телефон обратно на стол.
— Ты, гребаная задница! — прошипел Боуэн.
— Полегче, мужик, — обиделся парень. — Я же извинился.
Они ушли, качая головами. Боуэн видел, как парочка забралась в машину и уехала.
Через две минуты телефон у него на столе зазвонил.
За секунду до того, как нажать на кнопку ответа, он удивился, что мобильник стал как будто тяжелее, чем обычно. Может, от падения на пол что-то в нем испортилось.
Он нажал на зеленую кнопку и приложил телефон к уху как раз тогда, когда тот взорвался, расколов его череп надвое.
* * *
Сайрус Найрн стоял перед домом, теребя в руках карту. Он выглядел удивленным. Сайрус был плохим актером, но полагал, что ему и незачем лицедействовать. В доме никого не было видно. Он подошел к стеклянной двери и уставился в коридор за ней. Петли двери оказались хорошо смазаны, и она открылась без шума. Он медленно вошел внутрь, осматривая комнаты, мимо которых проходил, убеждаясь, что в них ни души и опасаясь собаки, пока, наконец, не дошел до кухни.
Чернокожий великан стоял у кухонного стола и пил соевое молоко из пакета. На нем была майка с надписью «Клан киллеров». Человек удивленно посмотрел на Сайруса. Его рука уже протянулась за оружием на столе, когда Сайрус выстрелил, и пакет лопнул, устроив душ из молока вперемешку с кровью. Мужчина упал на спину, опрокинув стул. Сайрус встал над ним и смотрел, как пустота вливается в его глаза.
Откуда-то со стороны двора он услышал лай собаки. Собака была молодой и глупой, и единственное, что беспокоило Сайруса в связи с ней, это то, что своим лаем она сможет предупредить хозяйку. Он осторожно выглянул в окно кухни и увидел женщину, которая бродила по двору у самой кромки болота; возле нее скакала собака. Он подошел к задней двери и выскользнул наружу, как только убедился, что женщина его не видит. Затем, скрываясь за стеной дома и прижавшись к стене, он снова нашел ее взглядом. Рыжеволосая женщина шла по высокой траве, удаляясь от дома и собирая полевые цветы. Он видел, как раскачивается ее живот, и это избавило его от некоторых фантазий. Сайрус любил поиграться со своими жертвами перед тем, как убить их. Но он никогда не пробовал играть таким образом с беременной женщиной, и что-то внутри него подсказывало, что он не получит от этого удовольствия, но Сайрус всегда был открыт для новых ощущений. Женщина выпрямилась и потянулась, прижимая руку к пояснице; Сайрус снова спрятался в тень. Она была миленькой, с очень бледным лицом, которое словно светилось в ореоле рыжих волос. Сайрус счел ее очень хорошенькой. Он затаил дыхание и попытался успокоиться. Когда он выглянул еще раз, женщина уже бродила далеко среди высокой травы и отблесков закатного солнца. Собака трусила рядом с ней. Сайрус посовещался сам с собой, как лучше поступить: лучше бы, конечно, подождать, пока она вернется в дом, но он опасался, что кто-нибудь будет ехать вверх по дороге и заметит его машину, тогда он окажется в ловушке. Нет, снаружи тоже есть прикрытие: высокая трава, деревья, камыши скроют его, когда он займется ею.
Сайрус вынул свой нож и, плотно прижав его к бедру, последовал за женщиной.
* * *
Гидроплан «цессна» совершил посадку на отмель, потом сделал медленный разворот в сторону озера Амбайеус. Он слегка шлепнул по воде, когда приземлялся, но потом выровнялся и достиг старой пристани. Пилота «цессны» звали Герри Шелог, и плата, которую он должен был получить за этот перелет, равнялась цене израсходованного топлива. Его это устраивало, потому что Герри был верующим, а верующие делают то, что им велят или о чем их просят, не требуя ничего взамен. В прошлом самолет Шелога доставлял оружие, беженцев, а однажды даже тело женщины-репортера, которая совала свой нос куда не следовало и которая теперь лежит на дне отмели в Каролине. Шелог поселился на озере два дня назад, прилетев сюда с помощью авиаслужбы «Катардин», которая действовала на территории Спенсер Коув. Он изучил расписание их полетов, чтобы убедиться, что пилотов из «Катардина» не будет рядом, когда он приземлится.
«Цессна» остановилась, когда из-за одного из деревьев появился мужчина в синем комбинезоне. Это, должно быть, Фаррен, человек, отвечающий за организацию дела на этом участке. Шелог выбрался наружу из небольшого кубрика, затем спрыгнул на причал, чтобы встретить приближающегося человека.
Но остолбенел.
Человек, стоявший перед ним, был не Фаррен хотя бы потому, что Фаррен должен быть белым, а этот человек был черным. В руках у него блестел пистолет.
— Да, — сказал человек. — Вы правильно думаете: мы очень вовремя.
* * *
Сайрусу хватило нескольких минут, чтобы понять, почему женщина, как кажется, пребывает в своем собственном мире, иначе она не могла не услышать звука выстрела. Она остановилась у края воды и полезла в небольшую сумочку, висевшую у нее на шее, вынула оттуда плеер и стала выбирать, какую запись ей включить. Когда она нашла мелодию, которую искала, женщина вернула плеер на место и продолжила прогулку, задевая юбкой деревья. Крупный щенок-подросток бежал впереди нее. Пес остановился, один или два раза посмотрел в сторону Сайруса, который прокладывал себе путь в высокой траве, но ничего опасного в медленном движении за стеной зелени, видимо, не почувствовал, потому что признаков беспокойства не обнаружил. Ноги Сайруса и джинсы внизу были насквозь мокрыми. Это было, конечно, неприятно, но когда он подумал о тюрьме и застоявшемся запахе в его камере, то решил, что промокнуть еще не самое худшее.
Женщина прошла по краю островка из деревьев, и почти исчезла из вида, но Сайрус все еще видел ее светло-голубое платье, которое мелькало среди стволов и нижних веток. Деревья послужат ему прикрытием.
Подберемся ближе, подумал Сайрус. Самое время.
И голос Леонарда повторил его слова:
— Самое время.
* * *
Единственный транспорт, который попался на пути небольшого каравана Фолкнера, когда они направились вверх по Голден-роуд, был большой трейлер: шофер-дальнобойщик просигналил им со стоянки у Амбайеус. Человек за рулем трейлера поднял вверх три пальца, приветствуя водителей фургонов, затем начал выезжать на дорогу и перегородил трассу. Он следил в зеркало заднего вида за дорогой и увидел, как фургоны сворачивают на Файр-роуд, 17 и направляются к озеру.
Тогда водитель прервал маневр и дал задний ход.
* * *
Сайрус двигался быстрее; его короткие ножки пытались сократить расстояние, чтобы подобраться поближе к женщине. Теперь он хорошо видел ее. Она вышла из-под полога деревьев и направилась на открытое место, ее голова была опущена вниз, высокая трава расступалась в стороны, когда женщина проходила через нее, а потом снова стеной смыкалась за ее спиной. Собака, как он заметил, теперь была на поводке. В любом случае для Сайруса это не имело значения. Собака не сможет быстро ответить на угрозу, которую представлял собой Сайрус, если вообще успеет сделать хоть что-нибудь: лезвие ножа более 12 сантиметров, он перережет собаке горло с той же легкостью, что и женщине. Сайрус вышел из-под прикрытия деревьев и вступил на болото.
Файр-роуд утопала в осенней листве. Огромные валуны лежали по обеим сторонам дороги, за ними высились вековые деревья. Люди Фолкнера были уже в двух шагах от озера, когда боковое окно со стороны водителя рассыпалось на мелкие осколки. Пули отбросили водителя вбок и заставили машину резко вильнуть к обочине. Женщина в кабине попыталась перехватить руль и вывернуть вправо, но последовал еще один залп, изрешетивший борта фургона и лобовое стекло. Задняя дверь открылась, когда пассажиры фургона попытались убежать в лес, но умерли раньше, чем спустились на дорогу.
Водитель второго фургона быстро сообразил, что нужно делать. Он опустил голову и уперся в педаль газа, стараясь объехать потерявшую управление машину в облаке взметнувшихся листьев, столкнув ее на придорожные валуны. Он замер, спрятавшись за приборную доску, отпустил педаль и поднял голову точно в тот момент, когда первая пуля Луиса попала ему в грудь. Он повалился вперед, на руль.
Тем временем женщина в задней части фургона готовилась оказать сопротивление. Она взяла Фолкнера за плечо и объяснила ему, что он должен бежать к озеру, как только она откроет дверь. В руках она держала немецкий автомат Г-11. Женщина сосчитала в обратном порядке от трех до одного, затем прострелила замок на двери и принялась поливать все вокруг очередями. В то же мгновение невысокий полный мужчина отлетел назад, отброшенный автоматной очередью, и теперь лежал, скорчившись на дороге. За спиной женщины Фолкнер метнулся к деревьям и воде, которая поблескивала впереди. Женщина продолжала палить из автомата по сторонам дороги, теперь уже одиночными выстрелами, а затем обернулась, чтобы последовать за ним. Она почти поравнялась со стариком, когда почувствовала удар в левое бедро, сваливший ее на землю. Она перевернулась на спину, щелкнула затвором, вновь переводя оружие в автоматический режим и продолжала поливать свинцом приближавшихся людей, которые пытались укрыться за деревьями. Расстреляв весь запас, женщина отбросила автомат в сторону и выхватила из-за пояса свой пистолет. Она уже подняла его, когда кто-то мягко коснулся ее руки. Она повернула голову, ее рука на доли секунды замерла. Женщина едва успела заметить дуло пистолета, направленное ей в лицо, перед тем как жизнь ее оборвалась.
* * *
Мэри Мэйсон слышала вой сирен и возбужденные голоса своих соседей. Она протянула руку, чтобы дать знать Большому человеку, и почувствовала, что он уже остывает.
Она заплакала.
* * *
На другом участке дороги дальнобойщик развернулся и прибыл на место устроенной засады. Задние двери были открыты и оттуда спущен пандус, который позволил загнать внутрь оба фургона с телами мертвых разместили внутри фургонов, а двое мужчин с пылесосами на спине начали смывать с дороги кровь и разбитое стекло. Постепенно дорога приняла первозданный вид.
А старик все бежал, не обращая внимания на колючки, которые впивались в его ноги, и ветки деревьев, рвавшие на нем одежду. Он поскользнулся на мокрых листьях и уловил движение справа и слева от себя, когда попытался встать, сжимая в правой руке пистолет. Он поднялся на ноги сразу же, как только одна из фигур отделилась от деревьев и направилась ему наперерез. Фолкнер попытался повернуть на север, проскочить в просвет между деревьями, но откуда появилась вторая фигура, и старик остановился.
Фолкнер поморщился, потому что узнал этого человека.
— Помнишь меня? — спросил Эйнджел. В руке у него был пистолет, прижатый к бедру.
Справа от Фолкнера, медленно обходя камни, шел Луис. Он тоже держал пистолет прижатым к бедру. Фолкнер попытался сбежать, обернулся и увидел мое лицо. Он поднял пистолет. Вначале он нацелил оружие на меня, затем на Эйнджела, потом на Луиса.
— Начинайте, преподобный, — сказал Луис. Теперь его пистолет был направлен прямо на Фолкнера. — Ваш выбор.
— Они узнают, — сказал Фолкнер. — Вы сделаете из меня мученика.
— Они никогда не найдут вас, преподобный, — сказал Луис. — Самое большее, что узнают эти люди, что вы исчезли. Разве вы не этого хотели?
Я поднял свой пистолет. То же самое сделал Эйнджел.
— Но мы будем знать, — сказал Эйнджел. — Мы всегда будем знать.
Фолкнер попытался направить свой пистолет на себя, когда одновременно раздались три выстрела. Старик дернулся и упал. Он лежал на спине, глядя на небо. Тонкие ручейки крови потекли из углов его губ. Затем небо исчезло, и мы трое склонились над ним. Его рот открывался и закрывался, как будто он пытался что-то сказать. Он сглотнул и облизал кровь языком. Пальцы его правой руки беспомощно задвигались, когда он посмотрел на меня.
— Твоя... сучка... мертва, — прошептал он, и его глаза закрылись навсегда.
А, когда я взглянул вверх, на деревьях было полно воронов.
* * *
Во рту у Сайруса пересохло. Он был теперь так близко от нее, в десяти — пятнадцати метрах. Он провел пальцем по острию ножа и стал смотреть, как пес рвет поводок, стараясь убежать от своей хозяйки, привлеченный, как ему казалось, присутствием птиц или мелких грызунов, которые шевелились позади них в траве. Сайрус не мог понять, почему женщина держит собаку на поводке. Ее надо спустить, подумал он. Какой, к черту, вред это может нанести?
Теперь до нее оставалось метров десять. Всего несколько шагов. Женщина сделала шаг к группе деревьев, стоящих вокруг небольшого озерка с водой, — форпост большого леса, который накрывал болото тенью с севера, — и вдруг исчезла. Впереди себя Сайрус услышал звонок мобильного телефона. Он побежал. Его ноги, когда он подбежал к деревьям, дрожали. Первое, что он увидел, была собака. Привязанная за поводок к гниющему стволу упавшего дерева, она с изумлением посмотрела на Сайруса, а затем счастливо залаяла, увидев что-то у него за спиной.
Сайрус обернулся, и увесистое полено ударило его прямо в лицо, разбив ему нос и отбросив его за деревья. Он пытался поднять свой нож, но его снова ударили в то же место, и боль ослепила его. Он почувствовал пустоту под ногами, поднял руки, чтобы удержаться от падения, и тут же с громким всплеском упал в воду. Он вынырнул на поверхность и попытался плыть к берегу" но Сайрус не был создан для плавания. В действительности он едва мог держаться на воде. Паника охватила его, как только он почувствовал под собой глубину. Уровень воды в болотах Скарборо обычно не превышает полутора-двух метров, но затяжные дожди повысили уровень воды в некоторых местах до трех и даже пяти метров. Сайрус не мог достать ногами дно.
Последовал еще один удар по голове, и он почувствовал, как что-то внутри него сломалось. Энергия, казалось, покинула его тело, руки и ноги отказывались двигаться. Медленно он начал тонуть, опускаясь все ниже, пока все его тело не облепили водоросли и упавшие ветки, а ноги не зарылись глубоко в придонный ил. Воздух пузырьками выходил из его рта, и вид этих пузырьков заставил Сайруса сделать отчаянный рывок. Все его тело дернулось, а руки и ноги начали из последних сил двигаться, пытаясь вытолкнуть из воды уродливое тело. Поверхность приближалась: он начал подниматься.
Его подъем вверх внезапно был остановлен чем-то, вцепившимся в его ногу. Он посмотрел вниз, но увидел только водоросли и траву. Он попытался стряхнуть это с ноги, но его нога еще глубже увязла в тине, и остатках растений, словно чьи-то пальцы оплелись вокруг его лодыжек.
Руки. Руки были под ним. Голоса в его голове закричали, выкрикивая противоречивые приказания, но запас воздуха в легких иссяк.
Руки.
Ветки.
Это всего лишь ветки.
Но он чувствовал руки там, внизу. Он чувствовал, как они тянут его, затягивая все глубже, заставляя его присоединиться к ним. И он знал, что они ждут его там, внизу. Навеки потерянные женщины из ямы ждут его.
Тень упала поперек его тела. Кровь медленно струилась из раны на голове, из ушей и носа. Он взглянул вверх, а женщина смотрела на него вниз, стоя на берегу. Собака, склонив голову набок, тоже с любопытством смотрела на воду. На голове у женщины больше не было наушников, они висели, как ожерелье, на шее, и что-то подсказало Сайрусу, что музыка в них не звучала с того самого момента, когда она заметила его и начала заводить в болото. Он уставился вверх на женщину с мольбой и открыл рот, как будто пытаясь попросить о помощи, но вместо этого последние пузырьки воздуха уплыли вверх. Он тянул руки к женщине, но единственное движение, которое она сделала, — подняла правую руку и стала медленно и ритмично поглаживать свой живот, успокаивая неродившегося ребенка, как будто он понимал, что здесь произошло, и забеспокоился. Лицо женщины было опустошенным: ни жалости, ни стыда, ни чувства вины, ни сожаления. Не было даже гнева — только пустота, которая была хуже, чем любая ярость, с какой Сайрус когда-либо сталкивался.
Сайрус почувствовал, что его тянут вниз, и начал тонуть; вода заполнила его легкие. Боль в голове усилилась, потому что ему не хватало кислорода; голоса в его мозгу завопили, а затем медленно смолкли. Последнее, что он видел, — бледная безжалостная женщина мягко поглаживает свой живот, успокаивая будущего ребенка.
Эпилог
Реки текут. Чередуются приливы и отливы. Реки стремятся к морям. Прибрежные птицы собираются в стаи. Болота — место их отдыха на пути в арктическую тундру, где им предстоит строить гнезда. Отступающая вода оставляет для них обильную пищу. Они перелетают через протоки, их тени похожи на ручьи раскаленного серебра.
Только теперь, оглядываясь назад, я осознал, какую роль сыграла вода во всем, что произошло. Тела растерзанных женщин в Луизиане, замурованные в бочки для масла, немые и ненайденные, а вода все так же неслась над ними. Останки убитой семьи, спрятанные под листьями в пустом плавательном бассейне. Арустукские баптисты, захороненные возле озера и ожидавшие десятки лет, пока их найдут и освободят. Эдди и Мелия Джонс — одна убитая в двух шагах от реки, другая дважды умершая в отравленной воде известковой ямы.
И еще одна: Кэсси Блайт, которую нашли лежащей, свернувшись под землей, в яме у речной отмели, окруженную телами других жертв. Кости ее рук хранили следы ножа Сайруса Найрна.
Вода бесконечно течет в море. Реки с их обманчивым покоем откроют свои страшные тайны, и, когда живые найдут в себе силы сразиться со злом и восплачут над мертвыми, сострадая их мукам, вечный покой, снизойдет на всех.
* * *
Сайрус Найрн стоял среди длинных стеблей рогоза, Дорога виднелась впереди. Везде вокруг него все двигались, их продвижение было похоже на легкое прикосновение шелковой ткани к лицу. Их присутствие он ощущал в большей степени, чем видел, — огромный вал людей уже погрузился в море, где, наконец, их поглотит прибой. Их бледность сольется с его белизной, и они исчезнут. Он оставался неподвижен, как крепость, противостоящая их приливу, он стоял лицом к морю, и оно не звало его, как других, которые шли по Белой дороге через болота к океану. Вместо этого Сайрус увидел старую машину, которая стояла на черной дороге, извивавшейся вдоль побережья, с включенным двигателем; в лобовом стекле отражалось звездное небо. Дверца открылась, и он понял, что время пришло.
Он выбрался из болота, поднимаясь вверх по камням и металлу, и направился к ожидавшему его «кадиллаку», тонированные окна которого позволяли видеть только тени фигур, находившихся внутри. Когда Сайрус остановился у капота, окно со стороны водителя медленно опустилось, и он увидел человека за рулем — лысого мужчину с неестественно широкой улыбкой; красная рваная дыра зияла на его грязном плаще спереди, как будто бы он умер оттого, что его насадили на кол. Смерть будет вечно навещать Стритча, и, пока Сайрус рассматривал его, рана затянулась, а затем снова появилась, и в этот момент глаза мужчины в агонии выкатились из орбит. Но все же он улыбался Сайрусу и призывно махал ему рукой. Рядом с ним с трудом можно было заметить девочку в черном. Она пела, и Сайрус подумал, что ее голос был одним из самых чудесных звуков, которые он когда-либо слышал, — даром Божьим. Затем ребенок начал меняться и стал женщиной с пулевым ранением в изуродованное горло; пение прекратилось.
Мюриэл, подумал Сайрус. Ее зовут Мюриэл.
Он стоял у открытой дверцы. Сайрус положил руку на ее край и заглянул внутрь.
Человек, сидящий на заднем сиденье, был окружен паутиной. Маленькие коричневые пауки двигались вокруг него, непрерывно сплетая кокон, который удерживал его на месте. Его голова была разбита, разорвана на куски выстрелом, но Сайрус все еще видел клочья его рыжих волос. Глаза мужчины были едва видны сквозь паутину и складки кожи, окружавшие глаза, но Сайрус заметил в них боль, которая возобновлялась вновь и вновь, когда пауки впивались в него.
И Сайрус наконец понял, что своими поступками в земной жизни мы создаем себе ад, в котором будем пребывать в ином мире, и что его место теперь здесь. Навсегда.
— Прости меня, Леонард, — сказал он и впервые с тех пор, как был мальчишкой, услышал, насколько жалобно, неуверенно звучит его голос. Странно, здесь раздавался только его голос, все остальные молчали. И он знал, что этот голос всегда был среди тех, которые он слышал, но Сайрус предпочитал не слушать его. Это был голос, взывавший к совести и жалости, голос, к которому он был глух всю свою жизнь.
— Прости меня, Леонард, — снова повторил Сайрус. — Я проиграл.
Рот Падда открылся, из него полезли пауки.
— Поехали, — сказал он. — Нам очень далеко ехать.
Сайрус забрался в машину и сразу же почувствовал, как по нему ползают пауки. Началось плетение новой паутины.
Машина направилась по дороге, уходящей от моря вдаль, через болота и прибрежную траву, пока не затерялась в темноте на севере.
* * *
Здесь, у края могилы, выросла высокая трава. Корни ее закрепились в грязи и легко выдернулись. Я не был у них с лета. Служащий, который следил за небольшим кладбищем, болел, так что, хотя тропинки и были расчищены, сами могилы заросли сорняками. Я выдрал траву и побросал ее в одну кучу.
Вот теперь имя малышки Дженни было хорошо видно. Я стоял, водя пальцем по выбитым буквам, потом снова принялся за расчистку могилы.
На меня упала тень: женщина опустилась возле меня на корточки, расставив ноги, чтобы уравновесить свой живот. Я не смотрел на нее. Я плакал, хотя не понимал почему, ведь больше я не чувствовал ужасной, убийственной тоски, которая опустошала меня и сводила с ума. Я чувствовал облегчение и благодарность к Рейчел за то, что она в первый раз здесь рядом со мной, потому что это правильно и потому что мне необходимо, чтобы она была здесь, чтобы я смог, наконец, показать ей это. Но слезы все текли. Я чувствовал, что они застилают мне глаза, пока, наконец, она не взяла меня за руку, и мы принялись работать вместе, уничтожая все некрасивое и неприглядное, освобождая все прекрасное. Наши руки соприкасались, задевая друг друга, мы чувствовали их присутствие в легком дуновении ветерка, в журчании ручья, который тек рядом, — ребенка ушедшего и ребенка, который только должен родиться. Любовь, о которой помнят, и любовь, которая остается с нами. Потерянное и обретенное. Живое и мертвое. Вместе рука об РУку.
По Белой дороге.
Автор выражает благодарность
При создании этой книги я опирался на опыт и знания многих людей, в том числе авторов книг «Перед свободой» Белинды Хурменс (Ментор, 1990); «Рис и рабы: расовая принадлежность и торговля рабами в колониальной Южной Каролине» Дэниэла Ц. Литлфельда (Иллини Букс, 1991); «Самые известные судебные процессы Ку-Клукс-Клана в Южной Каролине в 1871 — 1872 годах» Лу Фолкнера Уильямса (Издательство университета Джорджии, 1996); «Гулла фу Оонах» Вирджинии Миксон Герати (Сандлэппер Паблишинг, 1997); «Голубые корни» Роджера Пинкни (Ллевелин Пабликейшнз, 2000); «Краткая история города Чарлстона» Роджера Росена (Издательство университета Южной Каролины, 1992); «Каббала» Кеннета Хэнсона (Каунсил Оак Бук, 1998); «Американские экстремисты» Джона Джорджа и Лайрда Уилкокса (Прометеус Букс, 1996); «Расистская идея» Рафаэля С. Эзекиеля (Пингвин, 1995).
К тому же немало людей великодушно позволили мне воспользоваться их знаниями и отнять у них время.
Я особенно признателен главному заместителю генерального прокурора Биллу Строуксу и помощнику генерального прокурора Чаку Доу из Главной прокуратуры штата Мэн; Джеффри Д. Мериллу, — начальнику тюрьмы Томастон штата Мэн, и ее персоналу, в особенности полковнику Дугласу Старберду и сержанту Элвину Виксу; Хью Е. Муну из Отдела по охране порядка Южной Каролины; лейтенанту Стефену Д. Райту из городского управления полиции Чарлстона; Дженис Кан — моему гиду по Чарлстону; Саре Йитс, когда-то работавшей в Музее естественной истории в Нью-Йорке; сотрудникам Национального парка «Топи Конгари».
Особенно хочется поблагодарить Сью Флетчер, Керри Худ и всех сотрудников издательства «Худдер и Стоутон»; моего агента Дарли Андерсона и его сотрудников; мою семью, и особенно Рут, которой я многим обязан; и, с опозданием, доктора Яна Росса, который познакомил меня с Россом Макдоналдом; Эллу Шанахан, финансировавшую меня, когда немногие были готовы это сделать.
Примечания
1
Улица в Нью-Йорке, где расположен знаменитый бар «Stonewall Inn» — излюбленное место сбора представителей сексменьшинств. 27 июня 1969 года здесь произошло историческое столкновение гомосексуалистов и лесбиянок с бесчинствующей полицией, положившее начало открытой борьбе представителей сексменьшинств за свои права. В память об этом событии в разных концах планеты ежегодно отмечается День Кристофер-стрит. — Здесь и далее прим. ред.
(обратно)2
Бывший в годы Гражданской войны в США флагом конфедератов-южан, сторонников рабства, он и сейчас символизирует для одних приверженность консервативным взглядам, подразумевающим расовую дискриминацию и сегрегацию как норму жизни, для других — неприкрытый, оголтелый расизм и попрание прав цветного населения.
(обратно)3
Старейший сенатор США (1902 — 2003). С 1947 на протяжении почти полувека был губернатором штата Южная Каролина. В 50-е годы выступал как убежденный сторонник расовой сегрегации. В 1956 г. в своем «Южном манифесте» Тармонд опротестовал закон Верховного Суда США, отменявший расовую сегрегацию.
(обратно)4
Главная книга Каббалы, представляющей собой часть Устной Торы. По преданию, Зогар был написан Шимоном бар Йохаем со слов пророка Элиягу, а обнародован кастильским раввином Моше де Леоном в XIII в. Последнего ряд исследователей считает истинным автором книги.
(обратно)

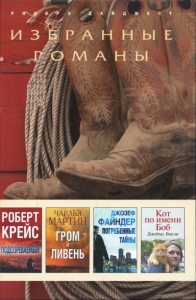
Комментарии к книге «Белая дорога», Джон Коннолли
Всего 0 комментариев