Джонатан Келлерман Частное расследование
У каждого из нас есть свое собственное чудовище, притаившееся в засаде.
Хью УолполМоим детям, которым всегда все виднее
1
Работа врача не кончается никогда.
Этим я не хочу сказать, что больные не выздоравливают.
Просто та связующая нить, которая образуется во время проведенных за закрытыми дверями сорокапятиминутных сеансов, то общение, которое возникает, когда глаза врача заглядывают во внутренний мир пациента, — оно не может прерваться, исчезнуть без следа.
Одни пациенты действительно уходят и больше не возвращаются. Другие не уходят никогда. Многие представляют собой нечто среднее: время от времени — в приступе гордыни или в отчаянии — они опять цепляются за спасительную нить.
Попытки предугадать, кто попадет в какую группу, — занятие бесперспективное, и шансов преуспеть в нем не больше, чем в Лас-Вегасе или на фондовой бирже. После нескольких лет работы я от них отказался.
Поэтому я почти не удивился, когда однажды июльским вечером, вернувшись домой с прогулки, узнал, что мне звонила Мелисса Дикинсон.
Первый раз за… сколько же лет? Должно быть, прошло лет десять или около того с тех пор, как она перестала посещать мой кабинет. Я тогда практиковал в одном безликом, холодном многоэтажном доме в восточной части Беверли-Хиллз.
Одна из моих «долгосрочников».
Уже по одной этой причине она могла бы врезаться в память, но там и без того было много всего…
Детская психология — идеальное поле деятельности для тех, кому нравится чувствовать себя героем. Дети склонны выздоравливать относительно быстро, и лечить их легче, чем взрослых. Даже в разгаре моей лечебной практики мне редко приходилось назначать маленькому пациенту более одного сеанса в неделю. Но с Мелиссой я начал с трех. Из-за масштаба ее проблем. И уникальной ситуации, в которой она находилась. Через восемь месяцев мы сократили сеансы до двух, а к концу первого года занимались один раз в неделю.
За месяц до окончания второго года лечение было прекращено.
На последних сеансах девочку стало не узнать; я даже чуточку поздравил сам себя, но у меня хватило ума не впасть в эйфорию. Ведь та семейная структура, которая породила ее проблемы, совершенно не изменилась. Ее поверхность не была даже поцарапана.
Несмотря на это, у меня не было причин настаивать на продолжении лечения против ее воли.
Мне девять лет, доктор Делавэр. Я уже могу сама со всем справляться.
Я отпустил се с миром и ждал, что она скоро мне позвонит. Прошло несколько недель, звонка от нее все не было, я позвонил ей сам, и мне было сказано вежливым, но неожиданно твердым для девятилетней девочки тоном, что чувствует она себя отлично, спасибо и что позвонит сама, если я буду ей нужен.
И вот она позвонила.
Долго же пришлось ждать у телефона.
Десять лет. Значит, ей должно быть девятнадцать. Надо выкинуть все из памяти и приготовиться к встрече с незнакомкой.
Я взглянул на оставленный ею номер телефона.
Код 818. Сан-Лабрадор.
Я прошел в библиотеку, немного покопался в историях болезни с пометкой «закрыто» и наконец нашел ее карту.
Первые три цифры те же, что и в тогдашнем домашнем номере, а четыре последние — другие.
Поменялся номер или она не живет больше дома? Если переехала, то не слишком далеко.
Я посмотрел на дату ее последнего сеанса. Девять лет назад. День рождения у нее в июне. Ей исполнилось восемнадцать месяц назад.
Интересно будет посмотреть, что в ней изменилось и что осталось прежним.
Интересно, почему она не позвонила раньше.
2
Трубку сняли после двух звонков.
— Алло? — Незнакомый молодой женский голос.
— Это Мелисса?
— Да, я.
— Это доктор Алекс Делавэр.
— О, здравствуйте! Я не… большое спасибо, что позвонили, доктор Делавэр. Я не ждала вашего звонка раньше завтрашнего дня. И вообще не знала, позвоните вы или нет.
— Интересно, почему?
— Под вашей фамилией в телефонной книге… Извините. Подождите минутку, пожалуйста.
Трубку прикрыли рукой. Приглушенный разговор.
Через минуту снова послышался ее голос.
— В телефонной книге под вашей фамилией нет служебного адреса. Вообще никакого адреса. Просто ваша фамилия, без степени — я не была уверена, что это тот самый А. Делавэр. Так что я не знала, продолжаете ли вы практиковать. Ваша телефонная служба ответила, что практикуете, но работаете по большей части с адвокатами и судьями.
— Это в общем так и есть.
— Вот как. Тогда, наверное…
— Но я всегда в распоряжении своих бывших пациентов. И рад, что вы позвонили. Как у вас дела, Мелисса?
— Хорошо, — быстро сказала она и засмеялась, но тут же оборвала смех. — В таком случае логично спросить, зачем я звоню вам через столько лет, не правда ли? Отвечу, доктор Делавэр, что дело на этот раз не во мне. Я звоню из-за мамы.
— Вот как.
— Вы не подумайте, ничего ужасного не случилось. О Господи, подождите еще минуту. — Она опять прикрыла трубку ладонью и стала говорить с кем-то в комнате. — Извините, доктор Делавэр, просто сейчас мне немного неудобно разговаривать. Можно мне прийти поговорить с вами?
— Конечно. В какое время вам удобно?
— Чем скорее, тем лучше. Я теперь практически свободна. Занятий нет. Я окончила школу.
— Поздравляю.
— Спасибо. Здорово чувствовать себя на свободе.
— Еще бы. — Я справился по своему ежедневнику — Как вам завтра в двенадцать?
— Прекрасно. Я вам правда очень признательна, доктор Делавэр.
Я рассказал ей, как меня найти. Она поблагодарила и повесила трубку прежде, чем я успел с ней попрощаться.
И узнал я гораздо меньше, чем обычно, когда мне звонят, чтобы записаться на прием.
Умная молодая женщина. Четко формулирует мысли, немного возбуждена. Чего-то недоговаривает?
Я помнил, какая она была ребенком, и не нашел во всем этом ничего удивительного.
Я звоню из-за мамы.
Тут предположить можно было все, что угодно.
Наиболее вероятно, она наконец решила всерьез заняться болезнью матери — в важном для себя аспекте. Может, ей надо было дать себе ясный отчет в собственных чувствах, а заодно получить для матери направление к специалисту.
Значит, завтрашний визит будет, скорее всего, первым и последним. И на этом все кончится. Еще на девять лет.
Я закрыл историю болезни, довольный своей способностью предсказывать дальнейший ход событий.
С таким же успехом я мог бы сразиться с игральными автоматами в Вегасе. Или купить дешевые акции на Уолл-стрит.
* * *
Следующую пару часов я трудился над своим последним проектом — монографией для одного из журналов по психологии о моей работе с целой школой детей, которых осенью прошлого года терроризировал снайпер. Писать оказалось более мучительно, чем я ожидал: тесные рамки научного подхода не давали простора для живого изложения материала.
Я тупо уставился на вариант номер четыре — пятьдесят две страницы вызывающе нескладной прозы, — пребывая в уверенности, что никогда не смогу внести ни крупицы человечности в это вязкое месиво из профессионального жаргона, научных ссылок и сносок, о создании которого у меня в голове не осталось ясного воспоминания.
В половине двенадцатого я отложил ручку и откинулся на спинку кресла, так и не найдя своей волшебной ноты. Мой взгляд упал на историю болезни Мелиссы. Я открыл се и стал читать.
18 октября 1978 года.
Да, осень 1978 года. Я помнил, что она была жаркой и неприятной. Голливуд со своими грязными улицами и тлетворным воздухом уже давно плохо переносил осеннее время. Я только что закончил лекцию в Западной педиатрической клинике, и мне не терпелось вернуться в западную часть города, где за остаток дня рассчитывал провести полдюжины сеансов с пациентами.
Я думал, что лекция прошла хорошо. Бихевиоральный подход к страхам и тревогам у детей. Цифры и факты, диапозитивы и слайды — все это казалось мне в то время впечатляющим. Лекционный зал, заполненный педиатрами, большинство из которых занимались частной практикой. Пытливая, сориентированная на практику аудитория, жадная до всего, что дает результаты, и не очень склонная терпеть академический педантизм.
За четверть часа я ответил на вопросы и направлялся к выходу из лекционного зала, когда меня остановила молодая женщина. Я узнал ее: она чаще других задавала вопросы, хотя я видел ее и где-то еще.
— Доктор Делавэр? Я Айлин Уэгнер.
У нее было приятное полное лицо в обрамлении подстриженных каштановых волос. Хорошие черты лица, тяжеловатая в нижней части фигура, легкое косоглазие. На ней была белая блузка почти рубашечного покроя, застегнутая до самого горла, юбка из твида до колен и добротные туфли. В руках у нее был черный кожаный саквояж, у которого был вид только что купленного. Я вспомнил, где видел ее раньше: среди проживающего при больнице персонала. Работает третий год. Степень доктора медицины одного из старейших университетов Новой Англии.
Я сказал:
— Доктор Уэгнер.
Мы обменялись рукопожатием. Ее рука оказалась мягкой, с короткими пальцами, без украшений. Она сказала:
— В прошлом году я была на лекции о страхах, которую вы читали для персонала Четвертой Западной. По-моему, это было здорово.
— Спасибо.
— Сегодняшняя мне тоже очень понравилась. И у меня есть для вас пациент, если это вас интересует.
— Конечно.
Она взяла саквояж в другую руку.
— Знаете, у меня сейчас практика в Пасадене, главным образом в Мемориальной больнице Кэткарта. Но ребенок, о котором идет речь, не из числа моих постоянных пациентов, просто телефонный звонок в Кэткарт по номеру для обращений за помощью. Там не знали, что с этим делать, и сообщили мне, потому что за мной значится интерес к бихевиоральной педиатрии. Когда я узнала, в чем суть проблемы, я припомнила прошлогоднюю лекцию и подумала, что это как раз по вашей части. А когда прочла расписание цикла лекций «Грэнд раундз», то подумала: превосходно.
— Я был бы рад помочь, но моя приемная находится в противоположном конце города.
— Это ничего. Они сами будут приезжать к вам — средства у них есть. Я знаю, потому что ездила туда несколько дней назад повидаться с ней — речь идет о маленькой девочке. Семи лет. Собственно говоря, сегодня я здесь именно из-за нее. Надеюсь узнать что-нибудь, что помогло бы мне помочь ей. Но, послушав вас, я поняла, что ее проблемы так просто не решишь. Ей нужен врач, специализирующийся в этой области.
— Тревожные страхи?
Энергичный кивок.
— Она просто погибает от страхов. У нее множество фобий и высокий уровень общего беспокойства. Причем оно ее буквально пронизывает.
— Вы сказали, что ездили туда, значит, это был вызов на дом?
Она улыбнулась.
— Я и не знала, что такая вещь еще существует. Нас учили называть это «домашними визитами». Нет, вообще-то у меня нет такой привычки. Я бы хотела, чтобы они сами приезжали ко мне на прием, но с этим как раз и проблема. Они никуда не выезжают. Вернее, не выезжает мать. Она страдает агорафобией[1] и много лет не покидала дома.
— Сколько лет?
— Она не уточняла, сказала просто «много лет», и было видно, как трудно дается ей даже эта встреча, так что я не настаивала. Она действительно была совершенно не готова к тому, что кто-то будет задавать ей вопросы. Поэтому мой визит был кратким, я ограничилась тем, что непосредственно относилось к девочке.
— Разумно, — сказал я. — И что она вам рассказала о ребенке?
— Только то, что Мелисса — так зовут девочку — боится всего. Темноты. Громких звуков и яркого света. Боится оставаться одна. Боится любых новых ситуаций. Часто выглядит напряженной, вздрагивает от каждого пустяка. Отчасти это, должно быть, присуще ей генетически. Или, возможно, она просто подражает матери. Но я уверена, что причина в том, как она живет, — там очень странная ситуация. Большущий дом, просто огромный. Один из этих несуразных особняков к северу от бульвара Кэткарта в Сан-Лабрадоре. Классический сан-лабрадорский дом — целые акры земли, огромные комнаты, преданные слуги, все за закрытыми дверями. А мать сидит у себя в комнате наверху, словно какая-нибудь викторианская леди, страдающая приступами меланхолии.
Она остановилась, кончиком пальца коснулась губ.
— Скорее, как викторианская принцесса. Она по-настоящему красива. И это несмотря на шрамы, сплошь покрывающие одну сторону лица и легкую лицевую гемиплегию — еле заметное обвисание, в основном когда она разговаривает. Если бы она не была так красива — так симметрична, — то можно было бы вообще ничего не заметить. Келоидных рубцов нет совсем. Просто сетка из тонких шрамов. Я бы могла поспорить, что много лет назад ей были сделаны искуснейшие пластические операции на высшем уровне хирургической техники по поводу какого-то действительно серьезного повреждения. Вероятнее всего, ожога или глубокого ранения мягких тканей. Возможно, в этом и есть корень ее проблем — я не знаю.
— А что представляет собой девочка?
— Я фактически с ней не встречалась, видела ее лишь мельком, как только вошла в дом. Миниатюрная, худенькая, миловидная, очень хорошо одетая — типичная маленькая девочка из богатой семьи. Когда я попыталась с ней заговорить, она убежала. Подозреваю, что на самом деле она пряталась где-то в комнате матери — или скорее в ее апартаментах, потому что, в сущности, это целый ряд комнат. Пока мы разговаривали с матерью девочки, я все время слышала какие-то тихие шорохи, которые тут же прекращались, как только я останавливалась и прислушивалась. Мать ни разу не прокомментировала этого обстоятельства, и я ничего не сказала. Сочла, что мне и так крупно повезло — удалось встретиться с ней и поговорить.
Я сказал:
— Это несколько напоминает картинку из готического романа.
— Да. Именно такое впечатление это и производило. Нечто готическое. Немного пугающее. Нет, не мать, конечно. Она, в сущности, очаровательна. Мила. В ней есть что-то ранимое.
— Типичная викторианская принцесса, — заметил я. — Она совсем не выходит из дома?
— Так она сказала. Призналась, что ей стыдно за себя. Но и чувство стыда не убедило ее попробовать выйти из дома. Когда я предложила ей подумать, сможет ли она посетить мой кабинет, она по-настоящему занервничала. У нее буквально затряслись руки. Зато согласилась показать Мелиссу психологу.
— Странно.
— Странное — это ведь ваш хлеб, не так ли?
Я усмехнулся.
Она сказала:
— Возбудила ли я ваш интерес?
— Вы считаете, что мать на самом деле просит о помощи?
— Для девочки? Говорит, что да. Но всего важнее то, что стимул исходит от самой девочки. Ведь это она позвонила по номеру службы помощи.
— Семилетний ребенок позвонил сам?
— Дежурная телефонистка тоже не могла в это поверить. Служба помощи не предназначена для детей. Иногда к нам звонит какой-нибудь тинэйджер, и они направляют его в службу подростковой медицины. А Мелисса, должно быть, видела один из рекламных роликов по телевизору, записала номер телефона и позвонила. Причем из-за этого она долго не ложилась спать — звонок поступил вечером в начале одиннадцатого.
Она подняла саквояж на уровень груди, открыла его, щелкнув замком, и достала кассету.
— Я знаю, что это звучит странно, но доказательство как раз у меня с собой. Они записывают все, что поступает к ним на линию. Я попросила сделать для меня копию.
Я сказал:
— Она, должно быть, развита не по возрасту.
— Наверное. Жаль, что у меня нет возможности провести с ней какое-то время. Какая славная девчушка — решилась на такой поступок. — Она помолчала. — Как ей, должно быть, тяжело. Во всяком случае, прослушав запись, я набрала номер, который она оставила, и поговорила с матерью. Она не имела и понятия о звонке Мелиссы. Когда я все ей рассказала, она не выдержала и разрыдалась. Но когда я пригласила ее прийти ко мне на консультацию, она сказала, что больна и не может. Я подумала, что речь идет о каком-то физическом недостатке, и потому вызвалась приехать к ним сама. Отсюда и мой «готический» визит на дом.
Она протянула мне кассету.
— Если хотите, можете это послушать. Это действительно нечто. Я обещала матери поговорить с психологом и взяла на себя смелость назвать вас. Но вы не чувствуйте себя никоим образом обязанным.
Я взял кассету.
— Спасибо за то, что подумали обо мне, но я, честно говоря, не знаю, смогу ли наносить визиты на дом в Сан-Лабрадоре.
— Она может приезжать хоть на другой конец города — я имею в виду Мелиссу. Кто-нибудь из прислуги будет ее привозить.
Я покачал головой.
— В подобном случае не обойтись без активного участия матери.
Она нахмурилась.
— Знаю. Это не оптимальный вариант. Но, может быть, вы владеете методами, которые хоть сколько-нибудь помогут девочке и без вовлечения в это дело матери? Просто чуточку понизят у нее уровень беспокойства? Да и вообще, любое ваше мероприятие может уменьшить для нее риск стать совсем чокнутой. С вашей стороны это было бы по-настоящему добрым делом.
— Возможно, — сказал я. — Если мать не будет сводить на нет все лечение.
— Не думаю, что она станет это делать. Она со странностями, но, видимо, по-настоящему любит девочку. Сознание вины в этом случае нам на руку. Подумайте, какой несостоятельной она должна себя чувствовать, зная, что девочка обратилась за помощью к чужим людям. Она понимает, такая обстановка не подходит для воспитания ребенка, но не может вырваться из пут собственной патологии. Она должна чувствовать себя ужасно. Как мне кажется, сейчас самое подходящее время этим воспользоваться. Если девочке станет лучше, то и мамочка, возможно, кое-что уразумеет и попросит помощи для себя самой.
— А отец в этой картине как-то фигурирует?
— Нет, она вдова. Кажется, это случилось, когда Мелисса была совсем крошкой. Сердечный приступ. У меня такое впечатление, что он был намного старше.
— Похоже, вы немало узнали за столь краткий визит.
Ее щеки порозовели.
— Приходится стараться. Послушайте, я не призываю вас перекраивать всю вашу жизнь и ездить туда регулярно. Но даже если бы нашелся специалист ближе к их дому, от этого ничего бы не изменилось. Мамуля вообще никуда не выезжает. Для нее расстояние в километр все равно что до Марса. И если они решатся попробовать лечение и из этого ничего не получится, то вряд ли можно рассчитывать на вторую попытку. Так что здесь нужен человек компетентный. Послушав вас, я убедилась, что вы как раз подходите для данного случая. Я была бы вам крайне признательна, если бы вы согласились взяться за это дело при таких — не самых благоприятных — условиях. Я постараюсь это компенсировать в будущем — буду направлять к вам пациентов с оптимальным раскладом. Ну как, идет?
— Идет.
— Я знаю, что кажусь слишком заинтересованной, и, может быть, так оно и есть, но сама мысль о семилетней девчушке, которая вот взяла и позвонила… И этот дом. — Она подняла брови. — Кроме того, я предполагаю, очень скоро моя практика станет настолько плотной, что у меня не будет времени уделять кому бы то ни было столь индивидуальное внимание. Так что мне лучше понаслаждаться жизнью, пока можно, правда?
Она опять порылась в саквояже.
— Во всяком случае, вот относящиеся к делу сведения. — Она вручила мне листок бумаги — бланк какой-то фармацевтической компании, на котором было написано печатными буквами:
Пациент: Мелисса ДИКИНСОН, РОД. 21.6.71
Мать: Джина ДИКИНСОН
И номер телефона.
Я взял его и положил в карман.
— Спасибо, — сказала она. — По крайней мере, получение гонорара не будет затруднительным, они-то уж не пользуются бесплатной медицинской помощью.
Я спросил:
— Вы их лечащий врач или они ходят к кому-то другому?
— По словам матери, у них есть семейный доктор в Сьерра-Мадре, у которого Мелисса время от времени бывала в прошлом — прививки, обычные школьные медосмотры, ничего особенного. Физически она очень здоровая девочка. Но он здесь вообще не фигурирует, и очень давно. Она не хотела к нему обращаться.
— И почему же?
— Ну, все это лечение. Пятно на репутации. Честно говоря, мне пришлось потрудиться, чтобы «продать» вас. Ведь мы говорим о Сан-Лабрадоре, здесь все еще сопротивляются двадцатому веку. Но она будет сотрудничать с вами — я заставила ее взять твердое обязательство. Что касается того, стану ли я их постоянным врачом, это пока неизвестно. Как бы там ни было, если вы захотите проинформировать меня, то я буду рада узнать о ее делах.
— Конечно, — сказал я. — Вы только что упомянули школьные медосмотры. Значит, несмотря на свои страхи, она регулярно посещает занятия?
— Посещала до недавнего времени. Ее привозили и увозили, а беседы с учителями велись по телефону. Может, там у них это и не кажется таким уж странным, но девочке наверняка было не очень приятно, что мать никогда ни на чем не присутствовала. Тем не менее Мелисса учится потрясающе, у нес кругом «отлично». Мать специально показала мне ее табели.
Я поинтересовался:
— Что вы имеете в виду, говоря «до недавнего времени»?
— Недавно у нее начали проявляться кое-какие определенные симптомы школьной фобии — неясные жалобы на самочувствие, слезы по утрам, заявления, что ей страшно идти в школу. Мать позволяла ей оставаться дома. Для меня это огромный, жирный предостерегающий знак.
— Разумеется, — сказал я. — Особенно если учесть, какая перед ней ролевая модель.
— Именно. Все та же старая биопсихосоциальная цепочка. Полистайте истории болезни — одни цепочки.
— Цепочки для плетения кольчуг, — сказал я. — Крепкая броня.
Она кивнула.
— А вдруг нам удастся на этот раз пробиться сквозь нее? Вот было бы здорово, правда?
* * *
Весь остаток дня я занимался с пациентами, закончил обработку целой стопки карт. Прибираясь у себя на столе, я слушал запись.
Взрослый женский голос: Кэткарт, служба помощи.
Детский голос (еле слышно): Алло.
Взрослый голос: Служба помощи. Чем я могу вам помочь?
Молчание.
Детский голос: Это (шумно дышит, говорит очень тихо)… больница?
ВГ: Это служба помощи больницы Кэткарта. Что у тебя случилось?
ДГ: Мне нужна помощь. Я…
ВГ: Да-да, говори.
Молчание.
ВГ: Алло? Ты еще тут?
ДГ: Я… я боюсь.
ВГ: Чего ты боишься, детка?
ДГ: Всего.
Молчание.
ВГ: Там, рядом с тобой, сейчас есть кто-то или что-то, что тебя пугает?
ДГ:…Нет.
ВГ: Совсем никого нет?
ДГ: Нет.
ВГ: Тебе грозит какая-то опасность, малышка?
Молчание.
ВГ: Ответь, детка.
ДГ: Нет.
ВГ: Совсем никакой опасности?
ДГ: Нет.
ВГ: А ты можешь сказать мне, как тебя зовут, малышка?
ДГ: Мелисса.
ВГ: Мелисса? А дальше?
ДГ: Мелисса Энн Дикинсон (начинает диктовать по буквам).
ВГ: (Перебивает.) Сколько тебе лет, Мелисса?
ДГ: Семь.
ВГ: Ты звонишь из дома, Мелисса?
ДГ: Да.
ВГ: А ты знаешь свой адрес, Мелисса?
Плачет.
ВГ: Тебя кто-то или что-то пугает? Вот сейчас, в эту минуту?
ДГ: Нет. Я просто боюсь… всегда.
ВГ: Ты всегда боишься?
ДГ: Да.
ВГ: Но сейчас, прямо сейчас, тебя что-нибудь беспокоит или пугает? Тут, у тебя дома?
ДГ: Да.
ВГ: Тут что-то есть?
ДГ: Нет. Здесь нет ничего такого. Я… (плачет).
ВГ: В чем же дело, малышка?
Молчание.
В Г: Раньше никто у вас дома не тревожил, не беспокоил тебя ничем?
ДГ: (Шепчет.) Нет.
ВГ: А мама знает, что ты звонишь, Мелисса?
ДГ: Нет (плачет).
ВГ: Она рассердится, если узнает, что ты звонила?
ДГ: Нет. Она…
ВГ: Говори, Мелисса.
ДГ:…хорошая.
ВГ: Твоя мама хорошая?
ДГ: Да.
ВГ: Значит, маму ты не боишься?
ДГ: Нет.
ВГ: А как насчет папы?
ДГ: У меня нет папы.
Молчание.
ВГ: Ты боишься кого-то другого?
ДГ: Нет.
ВГ: А ты знаешь, чего ты боишься?
Молчание.
ВГ: Мелисса?
ДГ: Темноты… воров… и вообще.
ВГ: Так, темноты и воров. И вообще. А ты можешь мне объяснить, малышка, что такое это «вообще»?
ДГ: Ну, вообще… всякое, разные вещи! (Плачет.)
ВГ: Ладно, дружочек, держись. Мы обязательно тебе поможем. Только не клади трубку, хорошо?
Сопение.
ВГ: Все в порядке, Мелисса? Ты слушаешь?
ДГ: Да.
ВГ: Умница. Ну, Мелисса, а ты знаешь свой адрес — как называется улица, на которой ты живешь?
ДГ: (Скороговоркой.) Десять, Сассекс-Ноул.
ВГ: Повтори это еще раз, пожалуйста.
ДГ: Десять. Сассекс. Ноул. Сан-Лабрадор. Калифорния. Девять-один-один-ноль-восемь.
ВГ: Очень хорошо. Значит, ты живешь в Сан-Лабрадоре. Это совсем недалеко от нас — от больницы.
Молчание.
ВГ: Мелисса?
ДГ: У вас есть доктор, который может мне помочь? Без уколов.
ВГ: Конечно, есть, Мелисса, и я как раз собираюсь договориться с ним о тебе.
ДГ: (Очень тихо, невозможно расслышать.)
ВГ: Что ты говоришь, Мелисса?
ДГ: Спасибо.
Послышался треск помех, потом все прекратилось. Я выключил магнитофон и набрал номер, который дала мне Айлин Уэгнер. Ответил высокий мужской голос: «Дом Дикинсонов».
— Попросите, пожалуйста, миссис Дикинсон. Это доктор Делавэр, по поводу Мелиссы.
На другом конце провода прокашлялись.
— Миссис Дикинсон не может подойти, доктор. Но она просила передать, что Мелисса может приезжать к вам на прием в любой день недели, с трех до половины пятого.
— Она не говорила, когда сможет принять меня для разговора?
— Нет, боюсь, что нет, доктор Делавэр. Но я сообщу ей о вашем звонке. Удобно ли вам это время?
Я сверился с расписанием сеансов.
— Может быть, в среду? В четыре часа.
— Хорошо, доктор. — Он повторил мой адрес и спросил: — Правильно?
— Правильно. Но мне хотелось бы побеседовать с миссис Дикинсон перед сеансом.
— Я сообщу ей об этом, доктор.
— Кто будет привозить Мелиссу?
— Я, сэр.
— А вы…
— Датчи. Джейкоб Датчи.
— И ваше отношение к…
— Я служу у миссис Дикинсон, сэр. Относительно вашего гонорара, какую форму оплаты вы предпочитаете?
— Чек меня вполне устроит, мистер Датчи.
— А сумма гонорара?
Я назвал ему цифру своей почасовой оплаты.
— Хорошо, доктор. До свидания, доктор.
* * *
На следующее утро посыльный принес ко мне в приемную большой желтый конверт. Внутри оказался розовый конверт меньшего размера, а в нем — сложенный пополам листок розовой почтовой бумаги и чек.
Чек был на три тысячи долларов, и на нем стояла надпись: «На лечение Мелиссы». По моим расценкам семьдесят восьмого года, этой суммой можно было оплатить более сорока сеансов лечения. Деньги были сняты со счета в банке «Ферст фидьюшиери траст» в Сан-Лабрадоре. В верхнем левом углу чека было отпечатано:
Р.П. Дикинсон, опекун
Доверительная собственность семьи Дикинсон, 5.11.71
10, Сассекс-Ноул, Сан-Лабрадор, Калифорния 91108.
Почтовая бумага была плотная, дорогая, с водяными знаками.
Я развернул сложенный пополам листок.
В верхней части — тиснение черными буквами:
РЕДЖИНА ПЭДДОК ДИКИНСОН.
Ниже мелким, изящным почерком написано:
Дорогой доктор Делавэр,
Благодарю вас за Мелиссу.
Буду держать с Вами связь.
Искренне Ваша,
Джина Дикинсон.Бумага пахла духами. Смесь старых роз и альпийского воздуха. Но это не делало слаще содержавшуюся в послании пилюлю:
Не звони нам, плебей. Мы сами позвоним. Вот тебе жирный чек, чтобы заткнуть рот.
Я набрал номер Дикинсонов. На этот раз трубку сняла женщина. Средних лет, французский акцент, голос более низкий по сравнению с Датчи.
Голос другой — песня та же: мадам подойти не может. Нет, она совершенно не знает, когда мадам сможет подойти.
Я назвал свое имя, положил трубку и посмотрел на чек. Ну и ну. Лечение еще даже не началось, а я уже потерял контроль над ситуацией. Так дело не пойдет, это не в интересах пациентки. Но я связал себя обязательством перед Айлин Уэгнер.
Магнитофонная лента меня связала.
…Доктор, который может мне помочь. Без уколов.
Я долго все это обдумывал и в конце концов решил, что продержусь какое-то время и попытаюсь найти хотя бы маленькую зацепку. Посмотрю, удастся ли добиться взаимопонимания с девочкой, какого-то прогресса — достаточного для того, чтобы произвести впечатление на викторианскую принцессу.
Доктор Спасение.
Потом начну выдвигать требования.
Во время перерыва на ленч я получил по чеку деньги.
3
Датчи был лет пятидесяти, среднего роста, полный, с гладко зачесанными, очень черными волосами, разделенными с правой стороны пробором, румяными щеками и ртом, похожим на разрез бритвой. На нем был двубортный костюм из синего сержа[2] хорошего, но старомодного покроя, крахмальная белая рубашка, завязанный виндзорским узлом флотский галстук и начищенные до зеркального блеска черные ботинки на чересчур высоких каблуках. Когда я вышел из кабинета, они с девочкой уже стояли посреди приемной; она смотрела вниз, на ковер, а он разглядывал предметы искусства. По выражению его лица было ясно, что мои эстампы не получают проходного балла. Это выражение не изменилось, когда он повернулся ко мне.
От него веяло ледяным ливнем Монтаны, но девочка цеплялась за его руку так, будто это была рука Санта-Клауса.
Для своего возраста она была маловата ростом, но черты ее лица казались вполне зрелыми, сформировавшимися. Девочка была из тех детей, кого природа раз и навсегда наделяет индивидуальностью, чтобы больше уже к этому не возвращаться. Овальное личико, чуточку не дотягивающее до хорошенького, под челкой цвета скорлупы грецкого ореха. Волосы длинные, почти до пояса, и сверху их перехватывала розовая цветастая лента. У нее были большие, круглые, серо-зеленые глаза, светлые ресницы, вздернутый, обрызганный веснушками нос и мило заостренный подбородок под маленьким, робким ртом. Ее одежда была слишком нарядной для школы: платье в розовый горошек с рукавами фонариком и белым атласным поясом, который был завязан сзади бантом, розовые носочки с кружевной отделкой по краю и белые лаковые туфли с пряжками. Совсем как Алиса из сказки Кэрролла в момент встречи с Червонной Дамой.
Эти двое просто стояли там, не двигаясь. Словно виолончель и малая флейта, которым предстояло сыграть некий странный дуэт.
Я представился, наклонившись и улыбнувшись девочке. В ответ она уставилась на меня. К своему удивлению, я не обнаружил никаких признаков страха.
Совершенно никакой реакции, кроме явно оценивающего взгляда. Если учесть причину, которая привела ее ко мне, то дела мои шли лучше некуда.
Ее правая рука пряталась в мясистой левой руке Датчи. Чтобы не заставлять девочку отпустить ее, я снова улыбнулся и протянул свою руку Датчи. Этот жест его явно удивил, он пожал ее с неохотой и отпустил, одновременно высвободив и пальцы девочки.
— Ну, я пошел, — объявил он нам обоим. — Сорок пять минут — верно, доктор?
— Верно.
Он сделал шаг к двери.
Я смотрел на девочку, внутренне готовясь к сопротивлению с ее стороны. Но она так и осталась стоять на месте, уставившись на ковер под ногами, плотно прижав руки к бокам.
Датчи сделал еще один шаг и остановился. Жуя свою щеку, он вернулся и погладил девочку по голове. Она в ответ улыбнулась ему — как мне показалось, ободряюще.
— Пока, Джейкоб, — сказала она. Высокий голос с сильным придыханием. Точно как на пленке.
Розовый оттенок со щек Датчи разлился по всему лицу. Он еще немного пожевал изнутри щеку, деревянно опустил руку и что-то пробормотал. Бросив на меня последний пристальный взгляд, он вышел.
После того как за ним закрылась дверь, я сказал:
— Похоже, Джейкоб — твой хороший друг.
Она сказала:
— Он слуга моей мамы.
— Но он и за тобой присматривает.
— Он за всем присматривает.
— За всем?
— За нашим домом. — Она нетерпеливо постучала ногой. — У меня нет отца, а мама не выходит из дома, так что Джейкоб делает для нас много всего.
— Что, например?
— Домашние дела: говорит Мадлен и Сабино, и Кармелс, и всем слугам, и людям, которые нам все привозят, что делать. Иногда он готовит еду — закуски и то, что можно есть руками. Если не очень занят. Мадлен готовит горячие блюда. И он водит все машины. Сабино водит только грузовик.
— Все машины, — сказал я. — У вас их много?
Она кивнула.
— Много. Папа любил машины и покупал их до того, как умер. Мама держит их в большом гараже, хотя сама их не водит, и Джейкоб должен их заводить и ездить на них, чтобы у них в моторе ничего не слиплось. Еще есть компания, из которой приезжают мыть их каждую неделю. Джейкоб наблюдает, чтобы они хорошо делали свою работу.
— Похоже, Джейкоб — занятой человек.
— Очень. А у вас сколько машин?
— Всего одна.
— А какая?
— «Додж-дарт».
— «Додж-дарт», — сказала она, задумчиво поджав губы. — У нас такой нет.
— Она не очень шикарная. Скорее, довольно потрепанная.
— У нас есть одна такая. «Кэди-работяга».
— «Кэди-работяга», — сказал я. — Не думаю, что мне приходилось когда-либо слышать о такой модели.
— Это та, на которой мы приехали сегодня. Сюда. «Кадиллак-флитвуд-работяга» 1962 года. Она черная и старая. Джейкоб говорит, что это рабочая лошадка.
— Тебе нравятся автомобили, Мелисса.
Она пожала плечами.
— Не особенно.
— А как насчет игрушек? У тебя есть любимые?
Она снова пожала плечами.
— Не знаю.
— У меня в кабинете есть игрушки. Пойдем посмотрим?
Она в третий раз пожала плечами, но позволила мне проводить ее в кабинет. Как только она оказалась внутри, ее глаза вспорхнули и полетели, останавливаясь на письменном столе, книжных полках, шкафу с игрушками, и вернулись обратно к письменному столу, ни на чем подолгу не задерживаясь. Она сплела пальцы рук, разняла их и стала как-то странно разминать и крутить, будто месила в них комочек теста.
Я прошел к шкафу с игрушками, открыл его и показал ей его содержимое.
— Здесь у меня много всякой всячины. Настольные игры, куклы, пластилин для лепки. Бумага и карандаши тоже есть. И цветные мелки, если тебе нравится рисовать в цвете.
— Почему я должна это делать? — спросила она.
— Делать что, Мелисса?
— Ну, играть или рисовать. Мама сказала, что мы будем разговаривать.
— Мама правильно тебе сказала. Мы будем разговаривать, — сказал я. — Но иногда детям, которые сюда приходят, хочется поиграть или порисовать перед тем, как разговаривать. Так они привыкают к здешней обстановке.
Ее руки задвигались быстрее. Она опустила глаза.
— А потом, — продолжал я, — когда дети играют и разговаривают, им бывает легче рассказать о том, что они чувствуют, то есть легче выразить свои чувства.
— Я могу выразить свои чувства говорением, — сказала она.
— Чудесно, — согласился я. — Давай говорить.
Она уселась на кожаную кушетку, а я опустился в свое кресло, стоявшее напротив. Она еще немного посмотрела по сторонам, потом положила руки на колени и стала смотреть прямо на меня.
Я сказал:
— Ну вот. Давай начнем разговор с того, кто я такой и почему ты здесь. Я психолог. Ты знаешь, что означает это слово?
Она помяла пальцы и стукнула по кушетке пяткой.
— У меня есть проблема, а вы такой доктор, который помогает детям, у которых проблемы, и вы не делаете уколов.
— Прекрасно. Все это рассказал тебе Джейкоб?
Она покачала головой.
— Мама. Доктор Уэгнер рассказала ей о вас — она дружит с мамой.
Я вспомнил, что говорила мне Айлин Уэгнер о кратком разговоре — о девчушке, которая бродит и прячется в большом, пугающем доме, — и задумался над тем, что этот ребенок называет дружбой.
— Но ведь доктор Уэгнер встретилась с твоей мамой из-за тебя, Мелисса, не так ли? Из-за твоего звонка в службу помощи.
Ее тело напряглось, а руки замесили быстрее. Я заметил, что подушечки пальцев у нее розовые и чуть-чуть шелушатся.
— Да, но ей нравится мама.
Она отвела глаза и уставилась на ковер.
— Ну хорошо, — отступился я. — Доктор Уэгнер действительно была права. Относительно уколов. Я никогда не делаю уколов. Даже не умею их делать.
Это не произвело на нее никакого впечатления. Она смотрела на свои туфли. Потом вытянула ноги вперед и стала болтать в воздухе ступнями.
— И все же, — продолжал я, — даже если идешь к доктору, который не делает уколов, иногда бывает страшновато. Оказываешься в новой ситуации, не знаешь, как все будет.
Она резко вскинула голову, зеленые глаза смотрели с вызовом.
— Вас я не боюсь.
— Прекрасно. — Я улыбнулся. — И я тебя тоже не боюсь.
Она взглянула на меня чуточку озадаченно, но в основном с пренебрежением. Знаменитое делавэровское остроумие на этот раз не достигло цели.
— Я не только не делаю уколов, — сказал я, — но и вообще ничего не делаю детям, которые сюда приходят. Я просто работаю вместе с ними. Как одна команда. Они рассказывают мне о себе, и, когда мы хорошенько познакомимся, я показываю им, как перестать бояться. Ведь боязнь — это что-то такое, чему мы научаемся. А раз так, то можно и разучиться бояться.
В глазах девочки промелькнула искорка интереса. Ноги ее расслабились. Но месить она продолжала, причем быстрее, чем раньше.
Она спросила:
— Сколько еще детей приходят сюда?
— Много.
— Сколько много?
— От четырех до восьми в день.
— А как их зовут?
— Этого, Мелисса, я тебе сказать не могу.
— Почему же?
— Это секрет. Точно так же я никому не могу сказать, что сегодня приходила ты, — без твоего на это разрешения.
— Почему?
— Потому что дети, которые приходят сюда, рассказывают о вещах, которые касаются лично их, и не хотят, чтобы об этом узнал кто-нибудь еще. Это их частная жизнь — ты понимаешь, что я имею в виду?
— Частная жизнь, — сказала она, — это когда идешь в туалет, как взрослая молодая леди, совершенно одна, и закрываешь за собой дверь.
— Правильно. Когда дети рассказывают о себе, они иногда говорят мне такие вещи, о которых никогда никому не говорили. Одна из сторон моей работы — это умение хранить секреты. Поэтому все, что происходит в этой комнате, секретно. Секретны даже имена людей, которые сюда приходят. Вот почему здесь есть эта вторая дверь. — Я показал ей. — Она выходит в холл. Это для того, чтобы пациенты могли уйти отсюда, не заходя в приемную и не встречаясь с другими людьми. Хочешь посмотреть?
— Нет, спасибо.
Я ощутил возросшую напряженность.
— Мелисса, тебя сейчас что-нибудь беспокоит?
— Нет.
— Хочешь, мы поговорим о том, что тебя пугает?
Молчание.
— Мелисса?
— Все.
— Тебя пугает все?
Пристыженное выражение лица.
— Как насчет того, чтобы начать с чего-то одного?
— Воры и бродяги. — Это было продекламировано без колебаний.
Я сказал:
— Тебе кто-нибудь говорил, о чем я буду спрашивать тебя сегодня?
Молчание.
— Джейкоб, да?
Кивок.
— И мама?
— Нет. Только Джейкоб.
— И как отвечать на мои вопросы, Джейкоб тоже сказал?
Нерешительность.
Я продолжал:
— Если он это сделал, то все в порядке. Он хочет помочь. А я просто хочу, чтобы ты обязательно рассказала мне, что чувствуешь ты. Ведь звезда в нашем шоу — это ты, Мелисса.
Она сказала:
— Он велел мне сидеть прямо, говорить четко и рассказывать правду.
— Правду о том, что тебя пугает?
— Угу. И тогда вы, может быть, сможете мне помочь.
С ударением на «может быть». Я почти слышал голос Датчи.
Я сказал:
— Прекрасно. Датчи, очевидно, очень умный человек и с большой заботой относится к тебе. Но когда ты приходишь сюда, то становишься самой главной. И можешь говорить, о чем захочешь.
— Я хочу говорить о ворах и бродягах.
— Ладно. Тогда именно этим мы и займемся.
Я подождал. Она ничего не говорила.
Я спросил:
— А как выглядят эти воры и бродяги?
— Это не настоящие воры, — сказала она опять пренебрежительным тоном. — Они в моем воображении. Понарошку.
— Как они выглядят в твоем воображении?
Снова молчание. Она закрыла глаза. Руки яростно месили свой комок теста, тело начало слегка раскачиваться, а лицо сморщилось. Казалось, она вот-вот расплачется.
Я наклонился ближе к ней и сказал:
— Мелисса, нам не обязательно разговаривать об этом прямо сейчас.
— Большие, — сказала она, не открывая глаз. Но слез не было видно. Я понял, что напряженное выражение лица было не предвестником слез, а свидетельством интенсивной попытки сосредоточиться. Ее глаза под закрытыми веками бегали с невероятной быстротой.
Погоня за образами.
Она сказала:
— Он большой… в такой большой шляпе…
Внезапное прекращение движения под веками.
Ее руки расцепились, плавно поднялись вверх и стали описывать широкие круги.
— …и в длинном пальто, и…
— И что еще?
Руки перестали описывать круги, но остались в воздухе. Рот слегка приоткрылся, не издав, однако, ни звука. Лицо приобрело расслабленное выражение. Сонное.
Гипнотическое.
Спонтанная гипнотическая индукция?
Встречается нередко у детей ее возраста: маленькие дети с легкостью пересекают границу между реальностью и фантазией, причем наиболее смышленые из них часто являются наилучшими субъектами гипноза.
Добавьте к этому одинокое существование, которое описывала Айлин Уэгнер, и я мог себе представить, как она регулярно смотрит кино у себя в голове.
Только иногда там показывают фильмы ужасов…
Ее руки упали обратно на колени, нашли друг друга и вновь начали катать и месить свой комок теста. На лице осталось выражение человека, находящегося в трансе. Она молчала.
Я сказал:
— На воре большая шляпа и длинное пальто. — Бессознательно я заговорил тише и медленнее. Подлаживаясь под нее. Лечение — это тоже парный танец.
Напряженность. Никакого ответа.
— Что-нибудь еще? — мягко спросил я.
Она молчала.
Сработала моя интуиция. Что-то вроде научной догадки, возникшей на почве множества других сорокапятиминутных сеансов.
— У него есть еще что-то, помимо шляпы и пальто? Так, Мелисса? Он что-то держит в руке?
— Мешок. — Едва слышно.
Я сказал:
— Да. У вора с собой мешок. Для чего он?
Ответа нет.
— Чтобы класть туда вещи?
Ее глаза резко распахнулись, а руки шлепнули по коленям. Она опять начала раскачиваться, все сильнее и быстрее, держа голову напряженно, словно ее шея была лишена подвижных сочленений.
Я наклонился и коснулся ее плеча. Птичьи косточки под хлопчатобумажной тканью.
— Ты хочешь поговорить о том, что он кладет в этот мешок, Мелисса?
Она закрыла глаза и продолжала раскачиваться. Потом вздрогнула и обхватила себя руками. Слезинка прокатилась у нее по щеке.
Я снова дотронулся до ее плеча, достал бумажную салфетку и вытер ей глаза, наполовину ожидая, что она отпрянет. Но она позволила мне промокнуть ей глаза.
Первый сеанс прошел драматически, настоящий фильм недели. Но, пожалуй, пока хватит, нельзя торопить события — так можно поставить под угрозу все лечение. Я попромокал еще немного, размышляя, как бы спустить все на тормозах.
Она зарубила эту идею одним-единственным словом:
— Детей.
— Вор сажает в мешок детей?
— Угу.
— Значит, на самом деле это не вор, а похититель детей?
Она открыла глаза, встала, повернулась лицом ко мне и протянула руки, сложенные как бы для молитвы.
— Он убийца! — выкрикнула она, содрогаясь при каждом слове. — Это Микокси с кислотой!
— Микокси?
— Микокси с кислотойкотораяотрава! Жгучая отрава! Микокси облил ее, и он опять придет и опять сожжет ее и меня тоже!
— Кого он облил отравой, Мелисса?
— Маму! А теперь он вернется!
— А где сейчас этот Микокси?
— В тюрьме, но он выберется оттуда и опять сделает нам больно!
— Но зачем ему это делать?
— Затем, что он не любит нас — сначала мама ему нравилась, но потом разонравилась, и он плеснул в нее ядовитой кислотой и хотел ее убить, но яд только обжег ей лицо, и она все равно была красивая и могла выйти замуж и родить меня!
Она стала ходить взад и вперед по кабинету, держась за виски, ссутулившись и что-то бормоча, словно маленькая старушка.
— Когда все это случилось, Мелисса?
— До того, как я родилась. — Она раскачивалась, повернувшись лицом к стене.
— Тебе об этом рассказал Джейкоб?
Кивок.
— А мама тоже говорила с тобой об этом?
После небольшого колебания она отрицательно покачала головой.
— Она не любит говорить об этом.
— А почему?
— Ей от этого становится грустно. Она раньше была веселая и красивая. Люди ее фотографировали для кино. Потом Микокси сжег ее лицо и ей пришлось делать операции.
— У Микокси есть еще какое-нибудь имя? Как его еще зовут?
Она повернулась и посмотрела на меня по-настоящему озадаченно.
— Я не знаю.
— Но ты знаешь, что он в тюрьме.
— Да, но он скоро выйдет, и это нечестно и несправедливо!
— Он скоро выходит из тюрьмы?
Еще большее замешательство.
— Это Джейкоб сказал тебе, что он скоро выходит?
— Нет.
— Но он говорил с тобой о справедливости.
— Да!
— А как ты понимаешь справедливость?
— Это когда все по-честному!
Она посмотрела на меня с вызовом и уперлась руками в то плоское место, где потом у нее будут бедра. От напряжения сморщилась полоска лба, видимая под челкой. Губы ее скривились, и она погрозила пальцем.
— Это было нечестно и глупо! Надо было все сделать по честной справедливости! Надо было его убить этой кислотой!
— Ты очень сердита на Микокси.
Еще один недоверчивый взгляд на этого идиота в кресле.
Я сказал:
— Это хорошо. То, что ты по-настоящему на него разозлилась. Раз ты на него злишься, значит, не боишься его.
Обе ее руки были сжаты в кулаки. Она разжала их, уронила, вздохнула и посмотрела на пол. Потом опять начала месить и катать ком теста.
Я подошел к ней и опустился на колени, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, если она захочет поднять свои.
— Ты очень умная девочка, Мелисса, и ты мне очень-очень помогла, потому что не побоялась говорить о страшном. Я знаю, как тебе хочется больше никогда не бояться. Я уже помог многим другим детям, смогу помочь и тебе.
Молчание.
— Если тебе хочется поговорить еще немного о Микокси или о ворах, или о чем-то другом, то давай поговорим. Но если не хочешь, то и не надо. У нас с тобой еще осталось время до возвращения Джейкоба. Мы можем провести его так, как ты хочешь.
Ни движения, ни звука. Секундная стрелка на часах в виде банджо на противоположной стене комнаты обежала половину круга. Наконец она подняла голову. Обвела глазами всю комнату, избегая смотреть на меня, потом вдруг взглянула мне прямо в глаза и прищурилась, будто хотела, чтобы я был в фокусе.
— Я порисую, — сказала она. — Но только карандашами, а не мелками. Они сильно пачкают.
* * *
Она медленно водила карандашом, высунув кончик языка с одной стороны рта. Ее художественные способности были выше среднего уровня, но законченное творение поведало мне лишь о том, что на первый раз с нее довольно: она нарисовала улыбающуюся девочку рядом с улыбающимся котом перед красным домом и дерево с толстым стволом, усыпанное яблоками. А надо всем этим — огромное золотое солнце с лучами в виде рук.
Закончив рисунок, она подтолкнула его через стол и сказала:
— Возьмите это себе.
— Спасибо. Потрясающая вещь.
— Когда я приду в следующий раз?
— Как тебе дня через два? В пятницу?
— А почему не завтра?
— Иногда бывает лучше, если дать детям какое-то время подумать о том, что произошло, а потом уж продолжать.
— Я думаю быстро, — сказала она. — И я не все еще рассказала.
— Ты правда хочешь прийти завтра?
— Я хочу вылечиться.
— Ну что ж, ладно. Мы могли бы встретиться в пять часов. Если Джейкоб сможет тебя привезти.
— Он сможет, — сказала она. — Он тоже хочет, чтобы я выздоровела.
Я пошел проводить ее через отдельный выход и заметил идущего по коридору Датчи с бумажным пакетом в руке. Увидев нас, он нахмурился и посмотрел на часы.
Мелисса сказала:
— Джейкоб, мы должны опять приехать к нему завтра, в пять часов.
Подняв брови, Датчи сказал:
— Я как будто бы вовремя, доктор.
— Вы точны, — сказал я. — Я просто показывал Мелиссе отдельный выход.
— Чтобы другие дети не увидели меня и не узнали, кто я, — сказала она. — Это частная жизнь.
— Понятно, — сказал Датчи, посмотрев в обе стороны коридора. — Я вам кое-что принес, юная леди. Чтобы дотерпеть до обеда. — Верхняя половина пакета была аккуратно сложена гармошкой. Он открыл пакет кончиками пальцев и достал оттуда овсяное печенье.
Мелисса радостно пискнула, взяла у него печенье и приготовилась откусить.
Датчи кашлянул.
Мелисса застыла с печеньем в руке.
— Спасибо, Джейкоб.
— На здоровье, юная леди.
Она повернулась ко мне.
— Хотите печенья, доктор Делавэр?
— Нет, Мелисса, спасибо. — Я почувствовал себя поступающим в «школу обаяния».
Она облизнула губы и приступила к поглощению печенья.
Я сказал:
— Мне хотелось бы поговорить с вами одну минуту, мистер Датчи.
Он снова взглянул на часы.
— Движение на шоссе… чем дольше мы задерживаемся…
Я перебил его.
— В ходе сеанса кое-что выяснилось. Кое-что важное.
Он сказал:
— Право же, это совсем…
Я заставил себя терпеливо улыбнуться.
— Если я хочу сделать свою работу, то мне потребуется помощь, мистер Датчи.
У него на лице появилось такое выражение, словно я испортил воздух на посольском обеде. Он еще раз кашлянул, сказал: «Подожди минутку, Мелисса» и отошел на несколько шагов дальше по коридору. Мелисса с набитым ртом проводила его глазами.
Я улыбнулся ей.
— Мы всего на одну секунду, малышка. — И присоединился к нему.
Он посмотрел в обе стороны коридора и сложил руки на груди.
— Что случилось, доктор?
При ближайшем рассмотрении он оказался гладко выбритым, и от него пахло лавровишневой водой и свежевыстиранным бельем.
Я сказал:
— Девочка говорила о том, что случилось с ее матерью. О каком-то человеке по имени Микокси.
Он вздрогнул.
— Право же, сэр, это не в моей компетенции.
— Это важно, мистер Датчи. И явно связано с ее страхами.
— Лучше, если ее мать…
— Правильно. Но дело в том, что я звонил несколько раз и просил передать ее матери, чтобы она связалась со мной, но так и не дождался звонка. Обычно я не соглашаюсь даже просто встретиться с ребенком без непосредственного участия родителей. Но Мелиссе явно нужна помощь. И немалая. Я берусь ей помочь, но для этого мне необходима информация.
Он так долго и так старательно жевал щеку, что я испугался, как бы он не прогрыз ее насквозь. Стоя в отдалении, Мелисса уплетала печенье и пристально смотрела в нашу сторону.
Наконец он сказал:
— Это все случилось еще до рождения девочки.
— Хронологически это, может быть, и так. Но не психологически.
Он долго изучающе смотрел на меня. Капелька влаги выступила у него в уголке правого глаза; она была не больше бриллиантика на дешевом обручальном кольце. Он мигнул, и капелька исчезла.
— Право же, я в крайне неловком положении. Я служу в этом доме…
Я не стал настаивать.
— Хорошо, я не хочу ставить вас в затруднительное положение. Но прошу вас передать от моего имени, что кто-то должен со мной поговорить в самое ближайшее время.
Мелисса пошаркала ногами. Печенье исчезло. Датчи посмотрел на нее серьезным, но удивительно нежным взглядом.
Я сказал:
— И я действительно жду ее завтра в пять.
Он кивнул, подошел ближе еще на шаг, так что мы почти соприкасались, и прошептал мне на ухо:
— Она произносит «Микокси», но этого проклятого негодяя звали Макклоски. Джоэль Макклоски.
Он опустил голову и выдвинул ее вперед, словно выглядывающая из своего панциря черепаха. Ждал, как я на это отреагирую.
Ждал, что мне что-то известно.
Я сказал:
— Это ни о чем мне не говорит.
Голова вернулась в обычное положение.
— Вы жили десять лет назад в Лос-Анджелесе, доктор?
Я кивнул.
— Об этом писали в газетах.
— Я еще учился. Мое внимание целиком поглощали учебники.
— Март 1969 года. Третьего марта, — уточнил он. Его лицо исказила болезненная гримаса. — Это… это все, что я могу сейчас сказать вам, доктор. Возможно, в другой раз…
— Ладно, — сказал я. — Жду вас завтра.
— В пять часов. — Он выдохнул воздух, выпрямился и, потянув себя за лацканы пиджака, откашлялся. — Возвращаясь к настоящему, хочу надеяться, что сегодня все шло по плану.
— Да, прекрасно.
Мелисса направлялась в нашу сторону. Белый атласный пояс развязался и волочился по полу. Датчи поспешил к ней и завязал бант, отряхнул платье от крошек, выправил ей плечи и велел стоять прямо, потому что «кривой позвоночник никуда не годится, юная леди».
Она улыбнулась, смотря на него снизу вверх.
Выходя из здания, они держались за руки.
* * *
Через несколько минут пришел другой пациент, и мне удалось следующие три четверти часа не думать о виолончели и малой флейте. Выйдя из офиса в семь вечера, я отправился в библиотеку Беверли-Хиллз, до которой минут пять езды на машине. Читальный зал был заполнен отставниками, проверявшими последние котировки акций, и подростками, выполнявшими домашние задания или делавшими вид, будто заняты этим делом. В семь пятнадцать я сидел за прибором для просмотра микрофильмов со вставленной в него катушкой материалов газеты «Таймс» за март 1969 года. Вот и 4 марта. То, что я искал, находилось вверху слева.
АКТРИСА СТАЛА ЖЕРТВОЙ НАПАДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИСЛОТЫ
(Голливуд.) Тихий район на склоне холма выше Голливудского бульвара стал сценой жуткого нападения, совершенного рано утром на бывшую манекенщицу, работающую теперь по контракту со студией «Апекс». Соседи жертвы гадают о причине ужасного преступления.
Двадцатитрехлетняя Реджина Мари Пэддок, проживающая по адресу: Бичвуд-драйв 2103, квартира 2, была разбужена у себя дома звонком в дверь в половине пятого утра. Звонил мужчина, назвавшийся посыльным телеграфной компании «Уэстерн юнион».
Когда она открыла дверь, этот мужчина взмахнул пузырьком и выплеснул его содержимое ей в лицо. Она с криком упала, а нападавший, которого описывают как чернокожего мужчину ростом свыше 180 сантиметров и весом около 75 килограммов, убежал.
Пострадавшую с ожогами лица третьей степени отправили в Голливудский пресвитерианский госпиталь, где ей была оказана врачебная помощь. Представитель госпиталя назвал ее состояние «серьезным, но стабильным. Жизнь ее вне опасности, но она испытывает сильную боль из-за обширного поражения тканей левой стороны лица. Ее глаза чудом остались целы».
Представитель студии «Апекс» выразил их общее потрясение и глубокое сожаление в связи с этим злобным, бессмысленным нападением на талантливую Джину Принс (сценический псевдоним мисс Пэддок). «Мы будем всеми доступными нам средствами содействовать властям в скорейшем задержании лица, совершившего это подлое преступление».
Пострадавшая родилась в 1946 году в Денвере, штат Колорадо, переехала в Лос-Анджелес в девятнадцатилетнем возрасте, получила работу фотомодели и манекенщицы в престижном агентстве «Флэкс» и быстро завоевала место на разворотах в журналах «Глэмор» и «Вог». После «Флэкса» она какое-то время работала в ныне не существующем агентстве «Бель-вю», но потом окончательно рассталась с профессией модели, поступила в агентство «Уильям Моррис» и получила актерский контракт в «Апексе».
Она еще не снялась ни в одном фильме, но представитель студии заявил, что ее кандидатура рассматривалась на «несколько важных ролей». Это очень талантливая и красивая молодая женщина. «Мы сделаем все возможное, чтобы ее карьера не пострадала в результате этого трагического случая».
Полиция ведет активный поиск нападавшего и просит любую информацию направлять детективам Сэвиджу или Флоресу в Голливудское отделение Полицейского управления Лос-Анджелеса.
В центре статьи была помещена фотография (возможно, уменьшенная) с обложки журнала «Вог»: овальное лицо на длинной, стройной шее, обрамленное прямыми светлыми волосами, длинными, уложенными в сложную прическу, весьма изысканную по тем временам. Крутые арки бровей, широкие скулы, огромные светлые глаза, пухлые губы. Затененное совершенство, как на этюде Аведона или кого-то почти равного ему по мастерству.
Я подумал о том, что может сделать с совершенством кислота, отшатнулся от этой мысли и попытался посмотреть на эту фотографию отвлеченно.
Черты лица, если брать их по отдельности, были почти идентичны чертам Мелиссы, но все вместе выстраивались в нечто гораздо большее, чем просто хорошенькое личико. Интересно, станет ли Мелисса, когда повзрослеет, такой же красивой, как мать?
Я повернул ручку аппарата. На следующий день в газете появилось краткое резюме о состоянии здоровья Джины Принс, которое уже называлось просто стабильным. Никаких развернутых подзаголовков. Еще одно послание с выражением сочувствия от имени студии, подкрепленное объявлением награды в пять тысяч долларов за информацию, которая поможет в поимке преступника. Но уже без обещаний неиспорченной карьеры.
Я продолжал крутить ручку. Двумя неделями позже:
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАПАДЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИСЛОТЫ АРЕСТОВАН ПОСЛЕ АНОНИМНОГО ЗВОНКА В ПОЛИЦИЮ
(Лос-Анджелес.) Полиция объявила об аресте подозреваемого в совершенном рано утром 3 марта нападении с применением кислоты на актрису Джину Принс (Реджина Мари Пэддок), в результате которого пострадавшая осталась навсегда с обезображенным лицом.
О том, что в Южном Лос-Анджелесе арестован Мелвин Луис Финдли, 28 лет, объявил на состоявшейся в 11 часов вечера в Паркеровском центре пресс-конференции командир отряда Голливудского отделения полиции Брюс Доннемейстер, который сказал, что Финдли — известный уголовник, недавно освобожденный условно из мужской колонии в Чино, где отбыл полтора года из полученных трех за вымогательство. Ранее Финдли неоднократно арестовывался и был осужден, в том числе за вооруженное нападение, грабеж и крупную автомобильную кражу.
«Вещественные улики, которыми мы располагаем, дают нам основание считать, что мы сможем доказать вину подозреваемого», — заявил Доннемейстер. Он отказался сообщить, опознала ли Финдли пострадавшая, и не привел никаких подробностей ареста, а лишь сказал, что полицию вывел на Финдли анонимный телефонный звонок и что «последовавшее за этим расследование подтвердило правильность сообщенной нам информации».
Мисс Принс выздоравливает в Голливудском пресвитерианском госпитале, где состояние ее здоровья характеризуется как «хорошее». Созывается консилиум специалистов по пластической хирургии, которые будут советоваться относительно восстановления ее лица.
Тремя днями позже:
ПРЕЖНИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ АКТРИСЫ АРЕСТОВАН В СВЯЗИ С ДЕЛОМ О НАПАДЕНИИ НА НЕЕ
(Лас-Вегас.) Бывший работодатель и партнер пострадавшей Джины Принс (Реджина Мари Пэддок) был арестован вчера вечером полицией Лас-Вегаса как главный подозреваемый в совершенном 3 марта нападении с применением кислоты, в результате которого бывшая манекенщица и актриса получила обширные ожоги лица.
Джоэль Генри Макклоски, 34 лет, был арестован в своем номере в гостинице «Фламинго», где зарегистрировался под вымышленной фамилией, и взят под стражу полицией Лас-Вегаса в соответствии с ордером, выданным криминальным отделом лос-анджелесского суда высшей инстанции.
Брюс Доннемейстер, начальник Голливудского отделения полиции (Полицейское управление Лос-Анджелеса), заявил, что информация, которую сообщил другой подозреваемый по этому делу, Мелвин Финдли, 28 лет, арестованный 18 марта, изобличила Макклоски. «Пока можно высказать мнение, что Финдли был наемным исполнителем, а Макклоски тем лицом, которое его наняло».
Доннемейстер добавил, что в 1967 году Финдли работал у Макклоски в качестве сторожа, но отказался комментировать это обстоятельство со ссылкой на то, что следствие еще не закончено.
Макклоски родился и вырос в Нью-Джерси, пел в ночных клубах и приехал в Лос-Анджелес в 1962 году в надежде стать актером. Когда его надежды не оправдались, он открыл агентство для фотомоделей «Бель-вю». По сведениям из голливудских источников, переманив мисс Принс из более крупного и более известного агентства «Флэкс», он пытался стать ее агентом в кинематографе.
Ходят слухи, что между Макклоски и мисс Принс возникли отношения личного свойства, которые прервались, когда мисс Принс покинула «Бель-вю» и, стремясь поменять профессию манекенщицы на «звездную» карьеру в кино, подписала контракт с агентством «Уильям Моррис». Вскоре после этого дела «Бель-вю» пошли из рук вон плохо, и 9 февраля сего года Макклоски объявил о своем банкротстве.
В ответ на вопрос о том, не являлась ли месть мотивом этого нападения, начальник полиции Доннемейстер заявил: «Мы не можем высказывать никаких комментариев, пока подозреваемый не будет допрошен по всем правилам».
Мисс Принс остается на излечении в Голливудском пресвитерианском госпитале, где ее готовят к серии восстановительных операций.
Этот материал также сопровождался фотографией: невысокого, темноволосого, худощавого мужчину вели двое детективов, по сравнению с которыми он казался карликом. На нем был пиджак спортивного покроя, свободные брюки и белая рубашка с открытым воротом. Голова была опущена, и довольно длинные волосы скрывали верхнюю половину его лица. То, что можно было рассмотреть в нижней части лица, имело вид угловатый, мрачный, напоминало Джеймса Дина и нуждалось в бритве.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти заключительную часть дела. Передача Макклоски из одного штата в другой и предъявление ему обвинения; согласие Мелвина Финдли признать себя виновным и дать показания против Макклоски в обмен на осуждение за простое нападение; возбуждение против Макклоски уголовного дела по обвинению в покушении на убийство, в заговоре с целью убийства и в нанесении увечья. Процедуры привлечения к суду, потом трехмесячная пауза до суда.
Судебный процесс не затянулся. Обвинитель раздал присяжным сначала несколько фотографий из профессионального альбома Джины Принс, а потом крупноплановые снимки ее изуродованного лица, сделанные в палате неотложной помощи. Краткое появление пострадавшей, забинтованной и плачущей. Свидетельство медицинских экспертов, из которого следовало, что шрамы останутся у нее на лице на всю жизнь.
Мелвин Финдли показал, что Макклоски нанял его «попортить рожу этой (нецензурное) девке, да так, чтобы она на дух никому была не нужна, а если подохнет, то он и это переживет без (нецензурное) проблем».
Обвинение представило записанное на пленку признание, которое защита безуспешно пыталась отклонить. Запись воспроизвели в открытом заседании: Макклоски со слезами признавался, что нанял Финдли, чтобы изуродовать Джину Принс, но отказывался сообщить причину.
Защита не оспаривала факты, а попыталась вести линию на установление невменяемости подзащитного, однако Макклоски отказался разговаривать со специально нанятыми психиатрами. Психиатр, выступавший со стороны обвинения, заявил в своих показаниях, что наблюдал Макклоски в тюрьме округа и нашел его «неконтактным и подавленным, но в здравом уме и не страдающим никаким серьезным душевным заболеванием». Присяжным потребовалось два часа, чтобы признать подсудимого виновным по всем пунктам обвинения.
На заседании, где должен был быть вынесен приговор суда, судья назвал Макклоски «отвратительным чудовищем, одним из самых презренных обвиняемых, с которыми ему довелось иметь дело за все двадцать лет работы в суде», и объявил приговор к тюремному заключению в Сан-Квентине на срок, составивший по совокупности двадцать три года. Казалось, все были удовлетворены. Даже Макклоски, который уволил своих адвокатов и отказался подавать апелляцию.
После суда журналисты пытались взять интервью у присяжных. Те поручили своему старшине высказаться от их имени, и он был краток:
«Нам удалось восстановить лишь какое-то подобие справедливости, — сказал Джейкоб П. Датчи, 46 лет, исполнительный помощник компании «Дикинсон индастриз», Пасадена. — Жизнь этой молодой женщины уже никогда не вернется в прежнее русло. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы Макклоски понес самое суровое наказание из возможных в рамках закона».
Микокси с кислотой.
Двадцать три года в Сан-Квентине.
Хорошим поведением этот срок можно скостить наполовину. Запоздалая апелляция может «состричь» с него еще сколько-то. Значит, вполне возможно, что Макклоски вот-вот освободят — если это уже не произошло.
Датчи, без сомнения, узнает точную дату его освобождения — это на него похоже, он будет пристально следить за ходом дела. Интересно, как он и мать девочки объяснили все это Мелиссе?
Датчи. Интересный человек. Осколок другой эпохи.
Из присяжных — в прислуги. Любопытно было бы проследить эту эволюцию, но у меня так мало шансов удовлетворить свое любопытство. Мне повезет, если удастся узнать, что же произошло с моей маленькой пациенткой на самом деле.
Я размышлял о преданности Датчи и его умении хранить секреты. Джина Дикинсон обладала несомненной способностью располагать к себе людей. Может, дело здесь было в производимом ею впечатлении беспомощности, хрупкости («принцесса-в-беде»), из-за чего и Айлин Уэгнер нанесла свой «домашний визит»?
Как сказывается на ребенке жизнь с такой матерью?
Мужчины с мешками…
То же самое я слышал и от многих других детей, почти дословно. От детей, которых я вылечил.
Но я чувствовал, что с этим ребенком все будет не так. Легкого успеха не получится. Я шикарно поужинал в заведении «Нейт'н Эл» на Беверли-драйв: бутерброды из консервированной говядины на ржаном хлебе под нескончаемый треп голливудских типов о предстоящих сделках, потом поехал домой и позвонил по застрявшему у меня в голове сан-лабрадорскому номеру.
На этот раз автоответчик голосом Джейкоба Датчи проинформировал меня, что дома никого нет, суховато предложил мне наговорить на пленку то, что я хочу передать.
Я повторил, что мне настоятельно необходимо поговорить с хозяйкой дома номер 10 на Сассекс-Ноул.
4
Ответного звонка я не дождался ни в тот вечер, ни на следующий день и ближе к пяти часам свыкся с мыслью, что придется опять выкачивать информацию из Датчи — и плевать я хотел на его удобства и неудобства.
Но он не появился. Вместо него Мелиссу сопровождал мексиканец лет шестидесяти, широкий и приземистый, крепкий и мускулистый, несмотря на возраст, с тонкими седыми усами, крючковатым носом и руками, которые напоминали кору кедра — такие же шероховатые и коричневые. На нем была рабочая одежда цвета хаки и башмаки на резиновой подошве, а в руках перед собой, на уровне застежки на штанах, он держал пятнистую от пота бежевую парусиновую шляпу.
— Это Сабино, — сказала Мелисса. — Он ухаживает за нашими растениями.
Я поздоровался и представился. Садовник неловко улыбнулся и пробормотал: «Хернандес, Сабино».
— Сегодня мы на грузовике, — сказала Мелисса, — и смотрели на всех сверху вниз.
Я спросил:
— А где Джейкоб?
Она пожала плечами.
— Что-нибудь делает.
При упоминании Датчи Хернандес вытянулся.
Я поблагодарил его и сказал, что Мелисса освободится через сорок пять минут. Потом я заметил, что на руке у него не было часов.
— Посидите пока, если хотите, — сказал я, — или можете уйти и вернуться без четверти шесть.
— О'кей. — Он остался стоять.
Я показал на стул.
Он сказал «ох-х» и сел, не выпуская из рук шляпы.
Я прошел с Мелиссой в кабинет.
* * *
Целителю всегда приходится начинать с себя: мне понадобилось усилие, чтобы отрешиться от раздражения на тот хоровод, который водили вокруг меня взрослые, и сосредоточить внимание на девочке.
А сосредоточиться было на чем.
Она начала говорить, как только уселась, и, не глядя на меня, стала без остановки пересказывать свои страхи монотонным голосом информатора, из чего я заключил, что она прилежно готовилась к сеансу. Она закрыла глаза и продолжала говорить, все время повышая и повышая голос, пока почти не перешла на крик; потом остановилась и вздрогнула от ужаса, словно вдруг представила себе что-то невообразимо огромное.
Но прежде чем я успел что-то сказать, она снова затараторила, переходя с крика на шепот, словно радиоприемник со сломанным регулятором громкости.
— Чудовища… большие и плохие.
— Кто большие и плохие, Мелисса?
— Не знаю… плохие, и все.
Она опять замолчала, прикусила нижнюю губу и стала раскачиваться.
Я положил ей руку на плечо.
Она открыла глаза и сказала:
— Я знаю, что они воображаемые, но все равно их боюсь.
— Воображаемые вещи могут быть очень страшными.
Я сказал это успокаивающим тоном, но она уже затащила меня в свой мир, и у меня в мозгу замелькали картинки моего собственного производства: верещащие на непонятном языке орды клыкастых и лохматых не то теней, не то тварей, прячущихся в темноте ночи. Потайные двери, отпирающиеся при угасании света.
Деревья, превращающиеся в ведьм, кусты, становящиеся омерзительно скользкими горбами, и луна — как огромный, ненасытный костер.
Сила сопереживания. Но не только. Память о других ночах, которые были давным-давно; мальчик в постели прислушивается к ветрам, которые со свистом несутся по миссурийским равнинам… Я оторвался от этих видений и стал слушать, что она говорит:
— …вот почему я ненавижу спать. Когда спишь, то бывают эти сны.
— Какие сны?
Она снова вздрогнула и покачала головой.
— Я заставляю себя не спать, но потом больше не могу и засыпаю, и тогда приходят эти сны.
Я взял ее пальцы в свои и заставил их остановиться прикосновением и целебным бормотанием.
Она замолчала.
Я спросил:
— Тебе каждую ночь снятся плохие сны?
— Да. И не один. Мама говорила, один раз их было семь.
— Семь плохих снов за одну ночь?
— Да.
— А ты их помнишь?
Она высвободила руку, закрыла глаза и отгородилась от меня бесстрастным тоном. Семилетний клиницист, излагающий свою точку зрения на совещании. Описывающий случай одной безымянной девочки, которая просыпалась вся в поту на своем спальном месте в ногах материнской кровати. Просыпалась рывком, с колотящимся сердцем, цепляясь за простыни, чтобы спастись от бесконечного и неуправляемого падения в огромную черную пасть. Цепляясь, но не в силах удержаться, и чувствуя, как окружающее уплывает от нее все дальше и дальше, словно бумажный змей, у которого оборвалась нитка. Она вскрикивает в темноте и ползет, тянется, рвется туда, к теплому телу матери, словно нацеленный на любовь снаряд. Ей навстречу бессознательно протягивается материнская рука и подтягивает ее ближе.
Она лежит, окоченев, уставившись на потолок, и пытается убедить себя, что это просто потолок и ей только кажется, будто там что-то двигается, на самом деле там ничего нет, ничего не может быть. Она вдыхает аромат духов матери, слышит ее легкое посапывание. Убедившись, что мать крепко спит, она протягивает руку и трогает атлас и кружево, мягкую плоть руки. Потом поднимается вверх, к лицу. К здоровой стороне… почему-то она всегда оказывается рядом со здоровой стороной.
Она снова замирает, произнеся во второй раз «здоровая сторона».
Ее глаза открылись. Она бросила панический взгляд на отдельный выход.
Словно заключенный, который оценивает степень риска, думая о побеге из тюрьмы.
Слишком много для нее и слишком рано.
Наклонившись ближе, я сказал ей, что у нее все прошло хорошо и мы можем в оставшееся время опять порисовать или поиграть в какую-нибудь игру.
Она сказала:
— Я боюсь своей комнаты.
— Почему?
— Она большая.
— Слишком велика для тебя?
У нее на лице промелькнуло виноватое выражение. Виноватое смятение.
Я попросил ее рассказать немного подробнее об этой комнате. Она в ответ нарисовала еще несколько картинок.
Высокий потолок с нарисованными на нем дамами в изящных платьях. Розовые ковры, розово-серые обои с изображением ягнят и котят — мама их выбирала специально для нее, когда она была совсем маленькая и спала в детской кроватке. Игрушки. Музыкальные шкатулки, миниатюрная посуда и стеклянные фигурки, три отдельных кукольных домика, целый зоопарк мягких зверей. Кровать с пологом, привезенная откуда-то издалека, она забыла откуда, с подушками и пухлым одеялом из гусиных перьев. Кружевные занавески на окнах, которые вверху закруглялись и доходили почти до самого потолка. Окна со вставленными в них кусочками цветного стекла, от которых на коже рисовались цветные картинки. Сиденье перед одним из окон, откуда видно траву и цветы, за которыми целый день ухаживает Сабино; ей хотелось окликнуть его и поздороваться, но она боялась подходить слишком близко к окну.
— Похоже, это огромная комната.
— Там не одна комната, а целая куча. Есть спальня и ванная, и комната для одевания с зеркалами и лампами вокруг них, рядом с моим стенным шкафом. И игровая комната — там почти все игрушки, только мягкие звери в спальне. Джейкоб называет спальню детской, то есть комнатой для малыша.
Она нахмурилась.
— Джейкоб обращается с тобой, как с малышкой?
— Нет! Я уже с трех лет не сплю в детской кроватке!
— А тебе нравится, что у тебя такая большая комната?
— Нет! Я ее ненавижу! Я никогда туда не вхожу.
Виноватое выражение вернулось на ее лицо.
До конца сеанса оставалось две минуты. Она так и не сдвинулась со стула с тех пор, как вошла в кабинет и села.
Я сказал:
— Ты прекрасно работаешь, Мелисса. Я очень много для себя узнал. Давай сейчас остановимся, ты не против?
Она заявила:
— Мне не нравится быть одной. Никогда.
— Никому не нравится долго быть одному. Даже взрослые этого боятся.
— Мне это не нравится никогда. Только после дня рождения, когда мне исполнилось семь лет, я стала ходить в туалет одна. Когда закрываешь дверь и тебя никто не видит.
Она откинулась на спинку стула и смотрела на меня с вызовом в ожидании неодобрения.
Я спросил:
— А кто ходил с тобой до того, как тебе исполнилось семь лет?
— Джейкоб и мама, и Мадлен, и Кармела — до того, как мне исполнилось четыре года. Потом Джейкоб сказал, что я теперь уже большая девочка и что со мной должны быть только женщины, и перестал ходить. Потом, когда мне стало семь лет, я решила пойти туда одна. От этого я плакала, и у меня болел живот, и один раз меня вырвало, но я это сделала. Сначала дверь была закрыта немного, потом совсем, но я ее все-таки не запирала. Никак не могла.
Я сказал:
— Ты сделала все очень хорошо.
Она нахмурилась.
— Иногда мне все равно там страшно и хочется, чтобы кто-нибудь был — не смотреть, а просто так, за компанию. Но я никого не прошу.
— Очень хорошо, — заметил я. — Ты боролась со своим страхом и победила его.
— Да, — согласилась она. И удивилась. Явно впервые тяжкое испытание оборачивалось для нее победой.
— А твоя мама и Джейкоб говорили тебе, что ты сделала хорошее дело?
— Угу. — Она махнула рукой. — Они всегда говорят приятное.
— Но ты и правда сделала хорошее дело. Победила в трудном бою. Это значит, что ты можешь победить и в других боях — можешь побороть и другие страхи. Один за другим. Мы можем работать вместе: выбирать те страхи, от которых ты хочешь избавиться, и составлять план, как мы будем это делать, шаг за шагом. Не спеша. Так, чтобы тебе никогда не было страшно. Если хочешь, мы можем начать в следующий раз, когда ты придешь, — в понедельник.
Я встал.
Она осталась сидеть.
— Я хочу еще немного поговорить.
— Мне бы тоже этого хотелось, Мелисса, но наше время кончилось.
— Ну, совсем немножечко. — Это прозвучало с намеком на плаксивость.
— Нам в самом деле пора закончить на сегодня. Встретимся в понедельник, ведь это только…
Я коснулся ее плеча. Она сбросила мою руку, и ее глаза наполнились слезами.
Я сказал:
— Извини, Мелисса. Жаль, что мы не…
Она вскочила со стула и погрозила мне пальцем.
— Если ваша работа — помочь мне, то почему вы не хотите помогать мне сейчас? — Она топнула ногой.
— Потому что наши с тобой занятия должны кончаться в определенное время.
— Почему?
— Думаю, ты сама знаешь.
— Потому что к вам придут другие дети?
— Да.
— Как их зовут?
— Я не могу обсуждать этого, Мелисса. Ты забыла?
— А с какой стати они важнее меня?
— Они не важнее, Мелисса. Ты очень важна для меня.
— Тогда почему вы меня выгоняете?
Я не успел ответить; она разрыдалась и направилась к двери, ведущей в приемную. Я пошел за ней, в тысячный раз подвергая сомнению святость этих трех четвертей часа, это языческое поклонение часовому механизму. Но я также понимал всю важность ограничений. Для любого ребенка, но особенно для Мелиссы, у которой их было, по-видимому, очень немного. Для Мелиссы, которая была обречена прожить годы, когда складывается личность ребенка, в ужасном, безграничном великолепии сказочного мира.
Нет ничего страшнее, чем сказки…
Когда я вошел в приемную, она тащила Хернандеса за руку, плача и повторяя: «Идем же, Сабино!» Он поднялся с испуганным и озадаченным лицом. Когда он увидел меня, выражение озадаченности сменилось подозрительностью.
Я сказал:
— Она немного расстроена. Передайте ее матери, чтобы она позвонила мне как можно скорее.
Непонимающий взгляд.
— Su madre, — пояснил я. — El telefono. Я приму ее в понедельник, в пять часов.
— Окей. — Он пристально посмотрел на меня и смял свою шляпу.
Мелисса дважды топнула ногой и заявила:
— Как бы не так! Я больше никогда не приду сюда! Никогда!
Она дернула его за шершавую коричневую руку. Хернандес стоял и продолжал изучающе смотреть на меня. В его слезящихся темных глазах появилось жесткое выражение, словно он обдумывал, какой карой мне воздать.
Я думал о том, сколько защитных слоев окружали этого ребенка, и о неэффективности всей этой охранной системы.
Я сказал:
— До свидания, Мелисса. До понедельника.
— Еще чего! — Она выбежала из приемной.
Хернандес надел шляпу и пошел за ней.
В конце дня я справился в своей телефонной службе. Никаких сообщений для меня из Сан-Лабрадора.
Хотел бы я знать, как Хернандес передал то, что видел. Я готовил себя к отмене сеанса в понедельник. Но никакого звонка по этому поводу не было ни вечером, ни на следующий день. Возможно, они не собирались оказывать такой любезности плебею.
В субботу я позвонил Дикинсонам, и после третьего гудка трубку снял Датчи. «Здравствуйте, доктор». Та же официальность, но без раздражения.
— Я хотел бы подтвердить, что приму Мелиссу в понедельник.
— В понедельник, — сказал он. — Да, у меня записано. В пять часов, правильно?
— Правильно.
— Вы никак не смогли бы принять ее пораньше? В этот час от нас трудно проехать…
— Ничего другого предложить не могу, мистер Датчи.
— Тогда в пять часов. Спасибо, что позвонили, доктор, и приятного вам вече…
— Секундочку, — перебил его я. — Я должен вам кое-что сказать. Мелисса в прошлый раз расстроилась, ушла от меня в слезах.
— Вот как? Мне показалось, она была в хорошем настроении, когда вернулась домой.
— Она что-нибудь говорила вам о том, что не хочет идти в понедельник?
— Нет. А что приключилось, доктор?
— Ничего серьезного. Она хотела остаться после того, как время сеанса истекло, и, когда я сказал ей, что нельзя, она расплакалась.
— Понятно.
— Она привыкла, что все делается так, как хочется ей, не правда ли, мистер Датчи?
Молчание.
Я продолжал:
— Говорю об этом, так как здесь, возможно, кроется часть всей проблемы — в отсутствии ограничений. Для ребенка это может быть все равно что дрейфовать в океане без якоря. Не исключено, что придется внести некоторые изменения в основные требования к дисциплине.
— Доктор, это абсолютно вне моей компетенции…
— Ну, конечно, я забыл. Пригласите-ка миссис Дикинсон к телефону прямо сейчас, и мы с ней это обсудим.
— Боюсь, что миссис Дикинсон сейчас не расположена…
— Я могу подождать. Или перезвонить, если вы дадите мне знать, когда она будет расположена.
Он вздохнул.
— Прошу вас, доктор. Я не в силах сдвинуть горы.
— Я и не подозревал, что прошу вас об этом.
Молчание. Датчи откашлялся.
Я спросил:
— Вы в состоянии передать то, что я вам скажу?
— Конечно.
— Передайте миссис Дикинсон, что создалась нетерпимая ситуация. Что хотя я полон сочувствия к ее состоянию, ей придется перестать избегать меня, если она хочет, чтобы я лечил Мелиссу.
— Доктор Делавэр, прошу вас — это просто невозможно, — нет, вы не должны отказываться лечить ее. Она так… такая хорошая, умная девочка. Это была бы такая ужасно бессмысленная потеря, если…
— Если что?
— Пожалуйста, доктор.
— Я стараюсь быть терпеливым, мистер Датчи, но я действительно затрудняюсь понять, в чем здесь великий смысл. Я же не прошу миссис Дикинсон выйти из дому; все, что мне нужно, это просто поговорить с ней. Я понимаю ее состояние — исследовал историю вопроса. Март 1969 года. Неужели у нее, ко всему прочему, еще и телефонобоязнь?
Пауза.
— Она боится врачей. Ей сделали столько операций — такие страдания. Они все время разбирали ее на части, словно картинку из мозаики, и снова складывали. Я не хочу бросить тень на медицинскую профессию. Ее хирург был просто волшебник. Он почти восстановил ее. Снаружи. Но внутри… Ей просто нужно время, доктор Делавэр. Дайте мне время. Я добьюсь, чтобы она поняла, насколько важно для нее быть в контакте с вами. Но прошу вас потерпеть еще немного, сэр.
Моя очередь вздохнуть.
Он сказал:
— Она не лишена способности понять свое… понять ситуацию. Но после всего, что этой женщине пришлось пережить…
— Она боится врачей, — заметил я. — Однако встречалась с доктором Уэгнер.
— Да, — сказал он. — Это вышло… неожиданно. Она не очень хорошо справляется с неожиданными ситуациями.
— Вы хотите сказать, что она как-то отрицательно отреагировала просто на то, чтобы встретиться с доктором Уэгнер?
— Скажем так: ей это было трудно.
— Но она это сделала, мистер Датчи. И выжила. Это могло само по себе оказать целительное воздействие.
— Доктор…
— Может быть, дело в том, что я мужчина? И ей было бы легче иметь дело с врачом женского пола?
— Нет! — воскликнул он. — Это совершенно не так! Дело совсем не в этом.
— Значит, вообще врачи, — сказал я. — Любого пола.
— Именно так. — Пауза. — Прошу вас, доктор Делавэр, — его голос приобрел мягкость, — потерпите, пожалуйста.
— Хорошо. Но тем временем кому-то придется сообщить мне факты. Подробности. Все, что касается развития Мелиссы. Сведения о семье.
— Вы считаете это абсолютно необходимым?
— Да. И это надо сделать как можно скорее.
— Хорошо, — сказал он. — Я возьму это на себя. В пределах своей компетенции.
— Что это значит? — спросил я.
— Ничего, совершенно ничего. Я сообщу вам исчерпывающие сведения.
— Завтра в двенадцать дня, — сказал я. — За ленчем.
— Вообще-то я не ем в это время, доктор.
— Тогда вы можете просто смотреть, как ем я. Тем более что говорить будете в основном вы.
* * *
Я выбрал место, которое счел достаточно консервативным на его вкус, на полпути между западной частью города и той, что ближе к нему — «Пасифик дайнинг кар» на Шестой улице, всего в нескольких кварталах к западу от центра города. Приглушенное освещение, панели из полированного красного дерева, красная кожа, льняные салфетки. Множество людей, похожих на финансистов, преуспевающих адвокатов и закулисных политиков, ели говяжью вырезку и разговаривали о зональных колебаниях, спортивных новостях, спросе и предложении.
Он пришел рано и ждал меня в одной из дальних кабинок; на нем был все тот же синий костюм или его двойник. При моем приближении он привстал и церемонно поклонился.
Я сел, подозвал официанта и заказал порцию «чиваса» без льда. Датчи попросил принести чаю. В ожидании напитков мы сидели молча. Несмотря на чопорные манеры, у него был растерянный и чуточку жалкий вид: человек из девятнадцатого столетия, перемещенный в отдаленное и вульгарное будущее, понять которое он даже и не надеялся. Оказался в неловком положении.
Со вчерашнего дня мой гнев успел улетучиться, и я дал себе слово избегать конфронтации. Поэтому для начала я сказал ему, как ценю то, что он нашел для меня время. Он ничего не ответил и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Светская беседа определенно исключалась. Интересно, называл ли его кто-нибудь когда-нибудь просто по имени?
Официант принес напитки. Датчи рассматривал свой чай с изначально неодобрительной миной английского пэра, потом все-таки поднес чашку к губам, отхлебнул и быстро поставил на стол.
— Недостаточно горячий? — спросил я.
— Нет, все в порядке, сэр.
— Давно вы работаете у Дикинсонов?
— Двадцать лет.
— Значит, вы работали у них еще до судебного процесса?
Он кивнул и снова поднял чашку, но к губам не поднес.
— Назначение в состав присяжных было таким поворотом судьбы, которому сначала я вовсе был не рад. Хотел просить об освобождении, но мистер Дикинсон пожелал, чтобы я принял назначение. Сказал, что это мой гражданский долг. Он был человеком с сильным гражданским чувством. — У него задрожала губа.
— Когда он умер?
— Семь с половиной лет назад.
Я был удивлен:
— Еще до рождения Мелиссы?
— Миссис Дикинсон ожидала Мелиссу, когда это… — Он вскинул глаза в испуге и резко повернул голову направо. Оттуда к нам приближался официант, чтобы принять заказ. С аристократическим видом и правильной речью, он был черен, как уголь; африканский кузен Датчи.
Я выбрал бифштекс с кровью. Датчи спросил, свежие ли креветки, и, услышав, что, конечно они свежие, заказал салат с креветками.
Когда официант отошел, я спросил:
— Сколько лет было мистеру Дикинсону, когда он умер?
— Шестьдесят два.
— Как он умер?
— На теннисном корте.
Его губа опять задрожала, но остальная часть лица сохраняла бесстрастность. Он повертел в руках чашку и плотнее сжал губы.
— Выполнение вами обязанностей присяжного имело какое-то отношение к тому, что они встретились, мистер Датчи?
Он кивнул.
— Именно это я и имел в виду, говоря о повороте судьбы. Мистер Дикинсон пришел со мной в зал заседаний суда. Сидел там во время процесса и был… очарован ею. Он следил за ходом дела по газетам еще до того, как я был включен в список присяжных. Несколько раз, просматривая утренние газеты, он говорил о глубине этой трагедии.
— До того он был знаком с миссис Дикинсон?
— Нет, ни в коей мере. Вначале его интерес был… тематическим. И человек он был добрый.
Я сказал:
— Не уверен, что понимаю, в каком смысле вы употребили слово «тематический».
— Скорбь о погибшей красоте, — сказал он тоном учителя, объявляющего тему для письменной работы. — Мистер Дикинсон был большой эстет. Коллекционер и ценитель. Немалую часть жизни он посвятил украшению своего мира, и порча красоты причиняла ему ужасную боль. Однако он никогда не позволял своему интересу выходить за этические рамки. Когда меня включили в жюри присяжных, он сказал, что будет сопровождать меня в суд, но что мы должны абсолютно добросовестно воздерживаться от обсуждения относящихся к этому делу вопросов. Он также был и честным человеком, доктор Делавэр. Диоген бы порадовался.
— Эстет, — сказал я. — А каким бизнесом он занимался?
Он посмотрел на меня свысока.
— Я говорю о мистере Артуре Дикинсоне, сэр.
Мне это опять ничего не говорило. У этого человека как-то так получалось, что я чувствовал себя нерадивым студентом. Не желая показаться в его глазах полным болваном, я сказал:
— Ну, конечно. Известный филантроп.
Датчи продолжал пристально смотреть на меня.
Я спросил:
— Ну и как в конце концов эти двое встретились?
— Судебный процесс повысил интерес мистера Дикинсона: он слышал ее показания, видел ее с забинтованным лицом. Он навещал ее в госпитале. По случайному совпадению, тот хирургический корпус, куда ее поместили, был построен на его пожертвования. Он посовещался с врачами и устроил так, чтобы ей был обеспечен самый лучший уход. Привлек лучшего специалиста в области пластической хирургии — профессора Албано Монтесино из Бразилии, настоящего гения. Он вел исследования по конструированию лица. Мистер Дикинсон устроил ему получение медицинских привилегий и предоставил ему в исключительное пользование одну из операционных.
Лоб Датчи заблестел от пота. Он вытащил носовой платок и несколько раз промокнул его.
— Такая боль, — сказал он, смотря мне прямо в лицо. — Семнадцать отдельных операций, доктор. Человек с вашим образованием может себе представить, что это значит. Семнадцать вмешательств, и все такие мучительные. Нужны месяцы, чтобы восстановить силы, долгие месяцы неподвижности. Легко понять, почему она предпочитает одиночество.
Я кивнул и спросил:
— Операции были успешными?
— Профессор Монтесино был доволен, объявил ее одним из своих грандиозных триумфов.
— Она согласна с ним в этом?
Он неодобрительно посмотрел на меня.
— Она не делилась со мной своим мнением, доктор.
— Сколько времени заняли операции в общей сложности?
— Пять лет.
Я произвел в уме кое-какие подсчеты.
— Значит, часть этого периода она была беременна.
— Да, вы понимаете… беременность нарушила ход хирургического процесса — гормональные изменения в тканях, физические факторы риска. Профессор Монтесино сказал, что она должна выждать, находясь под непрерывным наблюдением. Он даже предложил… прерывание. Но она отказалась.
— Эта беременность была запланированной?
Датчи оторопело замигал и опять по-черепашьи втянул голову, словно не веря своим ушам.
— Боже правый, сэр, я же не могу выспрашивать у хозяев мотивы их поступков!
Я сказал:
— Извините меня, если время от времени я буду забредать на не обозначенную на карте территорию, мистер Датчи. Я просто пытаюсь получить как можно более полную информацию. Ради Мелиссы.
Он прочистил горло.
— Тогда мы, может быть, поговорим о Мелиссе?
— Хорошо. Она рассказала мне довольно много о своих страхах. Я бы охотно послушал ваши впечатления.
— Мои впечатления?
— Ваши наблюдения.
— По моим наблюдениям, это ужасно напуганная девочка. Ее пугает все.
— Например?
Он немного подумал.
— Например, громкий шум. От него она буквально подскакивает. И даже если шум не очень громкий — временами кажется, что на нее действует сама внезапность, неожиданность звука. Зашелестит дерево, раздастся звук шагов или даже музыка — любой из этих звуков может заставить ее сильно расплакаться. Звонок в дверь. Мне кажется, это бывает, когда какое-то время она находится в состоянии необычного спокойствия.
— Сидит в одиночестве, грезит наяву?
— Да. Она часто грезит. Разговаривает сама с собой. — Он замолчал, ожидая моей реакции.
Я спросил:
— А яркий свет? Она когда-нибудь пугалась яркого света?
— Да, — сказал он удивленно. — Да, пугалась. Я припоминаю конкретный случай — несколько месяцев тому назад. Одна из горничных купила фотоаппарат со вспышкой и делала пробные снимки, бродя по всему дому. — На его лице опять появилось неодобрительное выражение. — Она застала Мелиссу за завтраком и сфотографировала ее. Звук и свет вспышки очень сильно подействовали на Мелиссу.
— В каком плане? Как она отреагировала?
— Слезы, крики, отказ от завтрака. У нее даже сильно участилось дыхание. Я заставил ее дышать в бумажный пакет, пока дыхание не вернулось в норму.
— Сдвиг по возбуждению, — сказал я скорее самому себе, чем ему.
— Простите, доктор?
— Внезапные изменения в возбуждении на ее психофизиологическом уровне сознания — они-то, видимо, и беспокоят ее.
— Да, наверное, так и есть. Что можно сделать в этом случае?
Я вытянул руку сдерживающим жестом.
— Она сказала мне, что ей снятся страшные сны каждую ночь.
— Это правда, — сказал он. — Часто больше одного раза за ночь.
— Опишите, что она делает, когда это случается.
— Не могу сказать, доктор. Когда это бывает, она находится с матерью…
Я нахмурился.
Он спохватился.
— Однако я припоминаю несколько случаев, когда видел ее. Она сильно плачет, кричит. Мечется и бьется, отталкивает тех, кто пытается ее утешить, отказывается снова ложиться спать:
— Мечется и бьется, — сказал я. — А она когда-нибудь рассказывает, что ей снилось?
— Иногда.
— Но не всегда?
— Нет.
— Когда она рассказывает, повторяются ли какие-нибудь темы?
— Чудовища, призраки и тому подобное. По правде говоря, я не очень обращаю на это внимание. Прилагаю все усилия к тому, чтобы успокоить ее.
— Так вот, заметьте себе на будущее, — сказал я. — Вы должны будете именно обращать внимание, и пристальное. Ведите записи того, что она говорит в этих случаях, и передавайте их мне. — Я вдруг понял, что говорю не терпящим возражения тоном. Хочу, чтобы теперь он почувствовал себя нерадивым студентом? Или собираюсь вести силовую борьбу с дворецким?
Но он в роли подчиненного был в родной стихии: «Очень хорошо, сэр», — сказал он и поднес к губам чашку.
Я спросил:
— Производит ли она впечатление совершенно проснувшейся после того, как ей приснился кошмар?
— Нет, не производит, — сказал он. — Не всегда. Иногда она сидит в постели с каким-то жутким, застывшим выражением на личике, безутешно плачет, кричит и размахивает руками. Мы, то есть я стараюсь разбудить ее, но это оказывается невозможным. Бывает даже, что она вылезает из постели и ходит по комнате, продолжая плакать и кричать, и разбудить ее невозможно. Мы просто ждем, пока она немного успокоится, и потом возвращаем ее в постель.
— В ее постель?
— Нет. К матери.
— Так она совсем не спит в своей постели?
Он покачал головой.
— Нет, она спит с матерью.
— Ладно, — сказал я. — Давайте вернемся к тем случаям, когда ее невозможно разбудить. Она кричит о чем-то конкретном?
— Нет, никаких слов там нет. Это просто какой-то чуткий… вой. — Он сморщился. — Это нельзя спокойно слушать.
— То, что вы описываете, называется ночными страхами, — сказал я. — Это не кошмары, которые снятся — как и все сны — во время фазы неглубокого сна. Ночные страхи возникают, когда спящий слишком быстро пробуждается от глубокого сна. Пробуждается, так сказать, грубо. Это расстройство механизма возбуждения, связанное с сомнамбулизмом и ночным недержанием мочи. Она мочится в постель?
— Иногда.
— Как часто?
— Четыре или пять раз в неделю. Иногда меньше, иногда больше.
— Вы что-нибудь предпринимали в связи с этим?
Он покачал головой.
— Ее волнует то, что она мочится в постель?
— Напротив, — сказал он, — такое впечатление, что она относится к этому довольно спокойно.
— Значит, вы с ней об этом говорили?
— Я только сказал ей — однажды или дважды, — что юным леди необходимо обращать больше внимания на личную гигиену. Она это проигнорировала, и я не настаивал.
— Как относится к этому ее мать? Как ее мать реагирует на мокрую постель?
— Говорит, чтобы сменили простыни.
— Ведь это ее постель. Неужели это ее не волнует?
— Очевидно, нет. Доктор, эти припадки, эти страхи — что все это значит? С точки зрения медицины?
— Вероятно, это связано с каким-то генетическим компонентом, — сказал я. — Ночные страхи бывают наследственной чертой. Как и ночное недержание мочи и сомнамбулизм. Все это, вероятно, как-то зависит от химии мозга.
Его лицо стало встревоженным.
Я продолжал:
— Но эти страхи не опасны, они просто чреваты вот такими срывами. И обычно проходят сами собой, без всякого лечения, когда ребенок подрастает.
— Ах, так, — сказал он. — Значит, время работает на нас.
— Вот именно. Но это не значит, что мы не должны обращать на них внимания. От них можно лечить. Кроме того, они являются еще и предостережением — дело не ограничивается чистой биологией. Стресс нередко делает приступы более частыми и более длительными. Она нам говорит, что ее что-то беспокоит, мистер Датчи. Говорит это и другими симптомами.
— Да, конечно.
Явился официант и принес заказанное. Мы ели в молчании, и хотя Датчи говорил, что ленч не в его привычках, он поглощал свои креветки с учтивым энтузиазмом.
Когда с едой было покончено, я заказал двойной кофе «эспрессо», а ему наполнили чайник свежим чаем.
Выпив кофе, я сказал:
— Возвращаясь к вопросу генетики, хочу спросить, есть ли у миссис Дикинсон еще дети — от предыдущего брака?
— Нет. Хотя предыдущий брак был. У мистера Дикинсона. Но детей нет.
— Что случилось с первой миссис Дикинсон?
Казалось, он был раздосадован.
— Она умерла от лейкемии. Такая славная молодая женщина. Этот брак просуществовал лишь два года. Тяжелое время было для мистера Дикинсона. Именно тогда он еще глубже ушел в собирание своей художественной коллекции.
— Что он коллекционировал?
— Живопись, рисунки и гравюры, антиквариат, гобелены. Он обладал чрезвычайно острым глазом на композицию и цвет, выискивал поврежденные шедевры и отдавал в реставрацию. Кое-что он реставрировал сам — научился этому ремеслу, когда был студентом. Вот это и было его истинной страстью — реставрация.
Мне в голову пришла мысль о том, как он реставрировал свою вторую жену. Словно прочитав мои мысли, Датчи остро взглянул на меня.
— Что еще, — спросил я, — помимо громкого шума и яркого света, пугает Мелиссу?
— Темнота. Пребывание в одиночестве. А временами и вообще ничто.
— Что вы хотите этим сказать?
— Она может закатить истерику и без всякого повода.
— Как выглядит эта «истерика»?
— Очень похоже на то, что я уже описывал. Плач, учащенное дыхание, метание из стороны в сторону с криком. Иногда она просто ложится на пол и колотит ногами. Или вцепляется в первого попавшегося взрослого и держится, как… репей.
— Эти припадки обычно случаются после того, как ей в чем-то отказывают?
— Необязательно, хотя и по этой причине, конечно, тоже. Ей не очень нравятся ограничения. Да и какому ребенку они нравятся?
— Значит, у нее бывают капризные вспышки, но эти припадки выходят за их границы.
— Я имею в виду настоящий страх, доктор. Панический страх. Который идет словно бы ниоткуда.
— Она когда-нибудь говорит, что именно ее пугает?
— Чудовища. «Что-то плохое». Иногда она утверждает, что слышит какие-то звуки. Или видит и слышит что-то.
— Что-то, чего не слышит и не видит никто, кроме нее?
— Да. — Голос его дрогнул.
Я спросил:
— Это вас беспокоит? Больше, чем все другие симптомы?
— Разные мысли приходят в голову, — тихо сказал он.
— Если вы волнуетесь относительно психоза или какого-то нарушения мышления, то успокойтесь. Разве только есть что-то еще, о чем вы мне не сказали. Например, саморазрушительное поведение или странная речь.
— Нет-нет, ничего такого, — сказал он. — Это, наверное, все часть ее воображения?
— Именно. У нее оно хорошее, но, судя по тому, что я видел, она в полнейшем контакте с действительностью. Для детей ее возраста это очень типично — видеть и слышать что-то, чего не видят и не слышат взрослые.
У него на лице отразилось сомнение.
Я пояснил:
— Это все — часть игры. Игра есть фантазия. Театр детства. Дети сочиняют драмы у себя в голове, разговаривают с воображаемыми партнерами по играм. Это нечто вроде самогипноза, который необходим для нормального развития.
Он ничего не сказал на это, просто слушал.
Я продолжал:
— Фантазия может быть целительной, мистер Датчи. Может фактически уменьшать страхи тем, что дает детям чувство власти над своей жизнью. Но у некоторых детей — нервных, легко возбудимых, интровертированных, живущих в стрессовой обстановке, — та же способность рисовать в уме картинки может привести к состоянию тревоги, беспокойства. Эти картинки просто становятся слишком яркими. И опять-таки, здесь может присутствовать конституциональный фактор. Вы говорили, что ее отец был отличным реставратором произведений искусства. Может, у него были и другие творческие способности?
— И еще какие! Он был архитектором по профессии и по-настоящему одаренным художником — когда был помоложе.
— Почему же он прекратил этим заниматься?
— Он убедил себя в том, что недостаточно талантлив, чтобы тратить на это время, уничтожил все свои работы, никогда больше не брался за кисть и начал коллекционировать. Путешествовать по миру. Свою степень в области архитектуры он получил в Сорбонне — очень любил Европу. Построил несколько чудесных зданий до того, как изобрел подкос.
— Подкос?
— Ну да, — сказал он, будто втолковывая азы. — Подкос Дикинсона. Это способ упрочнения стали, он применяется в строительстве.
— А миссис Дикинсон? — спросил я. — Она была актрисой. Не было ли у нее и других творческих отдушин?
— Об этом мне ничего не известно, доктор.
— Как давно у нее наблюдается агорафобия — боязнь выйти из дома?
— Она выходит из дома, — сказал он.
— Вот как?
— Да, сэр. Она прогуливается по участку.
— Выходит когда-нибудь за его пределы?
— Нет.
— Каковы размеры участка?
— Шесть и три четверти акра. Приблизительно.
— Когда она гуляет, то проходит по всему участку, из конца в конец?
Он прочистил горло. Пожевал щеку.
— Она предпочитает гулять ближе к дому. Хотите узнать что-нибудь еще, доктор?
Мой первоначальный вопрос остался висеть в воздухе; он уклонился от прямого ответа на него.
— Как давно она в этом состоянии — боится выходить за пределы участка?
— С самого… начала.
— С момента нападения на нее?
— Да-да. И это вполне логично, когда понимаешь всю цепочку событий. Когда мистер Дикинсон привез ее домой — сразу после свадьбы, — она находилась в самом разгаре хирургического процесса. Испытывала ужасную боль, была все еще сильно испугана — травмирована всем тем, что… что с ней сделали. Она никогда не выходила из своей комнаты; профессор Монтесино предписывал ей лежать неподвижно по многу часов подряд. Новая ткань должна была оставаться мягкой и чистой. Были установлены специальные фильтры для улавливания частиц, которые могли внести загрязнение. Медсестры находились при ней круглосуточно — делали процедуры, инъекции, умывания и ванны, причинявшие ей ужасную боль, от которой она кричала. Она не смогла бы уйти, даже если бы захотела. Потом беременность. Ей был предписан строгий постельный режим и непрерывно накладывались и снимались повязки. Когда она была на четвертом месяце беременности, мистер Дикинсон… скончался, и она… Дома она ощущала себя в безопасности. Она не могла уйти. Это же очевидно. Так что в определенном смысле все абсолютно логично, не правда ли? Я имею в виду ее состояние. Она нашла для себя защищенное место. Вы ведь понимаете это, доктор?
— Понимаю. Но наша цель состоит сейчас в том, чтобы узнать, как защитить Мелиссу.
— Да, — сказал он. — Конечно. — Он постарался не встретиться со мной глазами.
Я подозвал официанта и заказал еще чашку «эспрессо». Когда кофе принесли вместе с кипятком для Датчи, он обхватил чашку ладонями, но пить не стал. Я отхлебнул из своей чашки, и он сказал:
— Извините меня за смелость, доктор, но каков, по вашему просвещенному мнению, прогноз? Для Мелиссы.
— Если семья будет со мной сотрудничать, то, я бы сказал, прогноз неплохой. У нее есть стимулы, она сообразительна и обладает большой интуицией для ребенка ее возраста. Но потребуется время.
— Да, конечно. Как и на все стоящее.
Вдруг он подался вперед, неловко взмахнул руками, и его пальцы нервно задергались. Было странно видеть взволнованным этого уравновешенного человека. Я ощутил запах лавровишневой воды и креветок. На секунду мне показалось, что он собирается схватить меня за руку. Но он внезапно остановился, словно перед забором, через который пропущен электрический ток.
— Пожалуйста, помогите ей, доктор. Я обещаю делать все, что в моих силах, для успеха вашего лечения.
Его руки все еще были подняты. Он заметил это, и в его взгляде появилось выражение досады. Пальцы шлепнулись на стол, словно подстреленные утки.
— Вы очень преданны этой семье.
Он поморщился и отвел глаза, как будто я уличил его в каком-то скрытом пороке.
— Пока она будет приезжать ко мне, я буду лечить ее, мистер Датчи. Вы очень поможете лечению, если расскажете все, что мне необходимо знать.
— Да, разумеется. Вас интересует что-то еще?
— Макклоски. Что она знает о нем?
— Ничего!
— Она упомянула его имя.
— Он для нее не больше чем просто имя. Дети слышат определенные вещи.
— Да, слышат. И она слышала немало — знает, что он плеснул кислотой в лицо ее матери, потому что та ему не нравилась. Что еще ей говорили о нем?
— Ничего. Правда, ничего. Как я сказал, дети могут что-то подслушать. Но у нас в доме он не является темой для разговоров.
— Мистер Датчи, за неимением точной информации, дети измышляют свои собственные факты. Самым лучшим для Мелиссы было бы понимать, что произошло с матерью.
На его руках, охвативших чашку, побелели суставы.
— Что вы предлагаете, сэр?
— Чтобы кто-то сел и поговорил с Мелиссой. Объяснил ей, почему Макклоски организовал это покушение на миссис Дикинсон.
Он заметно расслабился.
— Объяснить причину. Да-да, я понимаю вашу мысль. Но здесь есть одна проблема.
— Что за проблема?
— Никто не знает, почему он это сделал. Этот негодяй так и не сказал ничего, и никто не знает причины. А теперь извините меня, доктор, но мне действительно пора уходить.
5
В понедельник Мелисса была в прекрасном настроении, выполняла все, о чем я просил, вела себя вежливо, не испытывала больше пределов дозволенного, никаких намеков на силовую борьбу, как в прошлый раз. Но держалась менее общительно, была не так расположена к разговору. Спросила, нельзя ли вместо этого порисовать.
Типичный пациент-новичок.
Как будто все происходившее вплоть до настоящего момента было чем-то вроде пробного испытания, а сейчас работа начиналась всерьез.
Она начала с таких же кротких произведений, как и те, что были мне подарены во время первого нашего сеанса. Но затем быстро перешла на более глубокие тона, появились небеса без солнца, клочья серого цвета, тревожные образы.
Она рисовала печального вида животных, анемичные садики, одиноких детей в статичных позах, перескакивая с сюжета на сюжет. Но ближе ко второй половине сеанса нашла тему, на которой и остановилась: ряд домов без окон и дверей. Громоздкие, пьяно накренившиеся строения из старательно изображенных камней, стоящие среди рощиц скелетообразных деревьев под мрачным, заштрихованным небом.
Несколькими листами позже добавились серые тени, приближавшиеся к домам. Серый цвет переходил в черный, а тени приобретали очертания человеческих фигур. Очертания мужчин в шляпах и долгополых пальто, с громоздкими мешками на плечах.
Она рисовала с такой яростью, что прорывала бумагу. И начинала сначала.
От карандашей и мелков оставались одни огрызки; они «съедались», словно растопка. Каждое оконченное произведение радостно кромсалось на куски. И таким образом она работала три недели подряд. Когда время сеанса истекало, она уходила из кабинета, ничего не говоря, маршируя, словно маленький солдат.
Когда пошла четвертая неделя, она стала отводить последние десять-пятнадцать минут для тихих настольных игр: «Горки и лесенки», «Безумные восьмерки», «Поймай рыбку». Мы не разговаривали. Она стремилась выиграть с большой решимостью, но особого удовольствия явно не получала.
Иногда ее привозил ко мне на прием Датчи, но постепенно все чаще это стал делать Хернандес, который все еще смотрел на меня с предубеждением. Потом начали появляться и другие сопровождающие: череда смуглых, худощавых юношей — молодых людей, от которых пахло трудовым потом и которые были так похожи между собой, что я не мог их отличить друг от друга. От Мелиссы я узнал, что это были пятеро сыновей Хернандеса.
По очереди с ними приезжала крупная, рыхлая женщина примерно одного возраста с Датчи, с прической из тугих кос и щеками, похожими на кузнечные мехи. Это она говорила по телефону низким голосом с французским акцентом. Мадлен, кухарка и горничная. Она всегда приезжала взмокшая от пота и с утомленным видом.
Они все исчезали, как только Мелисса переступала через порог, и возвращались за ней точно к концу сеанса. Их пунктуальность и стремление не встречаться со мной глазами говорили о том, что Датчи проводил с ними соответствующую работу. Те несколько раз, когда Датчи приезжал сам, он оказывался наиболее ловким из всех и сбегал, даже не заходя в приемную. Он так и не выполнил мою просьбу о сборе данных. Мне следовало бы возмутиться.
Но с течением времени это волновало меня все меньше и меньше.
Потому что Мелиссе, похоже, становилось лучше. Без него. Без них всех. Через десять недель после начала лечения это был совершенно другой ребенок — не отягощенный никаким бременем, заметно более спокойный; она перестала мять руки и ходить туда-сюда по комнате. Позволяла себе улыбаться. Расслаблялась во время игры. Смеялась моим шуткам из репертуара начальной школы. Вела себя как обычный ребенок. И хотя она по-прежнему не хотела говорить о своих страхах — и вообще ни о чем существенном, — ее рисунки стали менее неистовыми, а мужчины с мешками стали постепенно исчезать. На каменных фасадах домов, которые теперь стояли абсолютно прямо, стали возникать, словно раскрывающиеся почки, окна и двери.
Рисунки, которые она все дарила и дарила мне с гордостью.
Что это, прогресс? Или здесь просто семилетний ребенок, надевающий веселую маску, чтобы сделать приятное своему доктору?
Если бы я знал, как она ведет себя за стенами моего кабинета, то мог бы правильно оценить ситуацию. Но те, кто мог бы рассказать мне об этом, бегали от меня, как от чумы.
Даже Айлин Уэгнер куда-то пропала. Я звонил несколько раз к ней в офис и разговаривал с ее телефонисткой, хотя звонил именно в рабочее время. Видимо, не очень хорошо идут дела. Она, наверно, работает где-то еще, чтобы сводить концы с концами.
Я позвонил в отдел медперсонала Западной педиатрической клиники, чтобы узнать, не работает ли она где-нибудь еще, но у них ничего другого не значилось. Я опять позвонил к ней в офис, просил передать ей, чтобы она мне перезвонила, но ничего не дождался.
Это было странно, если учесть, с каким рвением она устраивала ко мне Мелиссу, но странным было вообще все связанное с этим делом, так что я уже привык.
Памятуя то, что говорила мне Айлин о бурно протекающей у Мелиссы школьной фобии, я узнал у девочки, как называется ее школа, нашел в телефонном справочнике номер телефона и позвонил туда. Назвавшись лечащим врачом Мелиссы и не уточняя профиля, когда секретарша машинально сочла меня педиатром, я сказал, что хотел бы поговорить с учительницей Мелиссы; некая миссис Вера Адлер подтвердила, что девочка действительно пропустила много занятий в начале полугодия, но с тех пор ее посещаемость стала безупречной, а общение со сверстниками явно улучшилось.
— А до этого у нее были проблемы с общением, миссис Адлер?
— Нет, я бы так не сказала. Я хочу сказать, доктор, что с ней вообще никаких проблем не было. Но она была довольно замкнутым ребенком, какая-то застенчивая, что ли. Пребывала в своем собственном мире. Теперь же она больше общается с другими детьми. Она что, болела тогда, доктор?
— Ничего особенного, обычное недомогание, — сказал я. — Я просто хотел справиться, как у нее дела сейчас.
— Ну, у нее все хорошо. Мы в самом деле начинали уже беспокоиться, когда она так много пропускала, но теперь все очень хорошо. Это приятная, очень умная девочка. Мы так рады, что у нее все устроилось…
Я поблагодарил ее и положил трубку, чувствуя себя ободренным. Мысленно послал к черту этих взрослых и продолжал делать свое дело.
На четвертом месяце лечения Мелисса вела себя в кабинете так, как если бы это был ее второй дом. Входила неторопливо, с улыбкой, и сразу устремлялась к столу для рисования. Она знала здесь каждый уголок, замечала, если какая-то книга стояла не на своем обычном месте, и незамедлительно водворяла ее обратно. Она все восстанавливала. У нее была необычайная способность видеть детали, и это согласовывалось с той перцептуальной чувствительностью, которую описывал Датчи.
Ребенок, чувства которого работают на полную мощность. Для нее жизнь никогда не станет скучной. Но сможет ли она когда-нибудь быть спокойной?
В начале пятого месяца она объявила, что готова снова разговаривать. Сообщила мне, что хочет работать вместе, одной командой, — так, как я предлагал в самом начале.
— Хорошо. С чего бы ты хотела начать?
— С темноты.
Я засучил рукава, готовый собрать воедино все до последней крупицы мудрости, накопленной за всю предшествующую жизнь. Сначала я научил ее распознавать физические признаки, сигнализирующие о наступлении состояния тревожного беспокойства, — что она чувствует, когда приходит этот беспричинный страх. Потом я обучил ее глубокому расслаблению, которое переходило в настоящий гипноз из-за того, что она очень легко перемещалась в мир воображаемого. Она научилась самогипнозу за один-единственный сеанс, могла впадать в транс за считанные секунды. Я показал ей сигналы, которые она могла подавать с помощью пальцев, пока находилась в трансе, и наконец начал процесс ее возвращения к нормальному психическому состоянию.
Усадив ее в кресло, я велел ей закрыть глаза и представить себе, что она сидит в темноте. В темной комнате. Увидев, как напрягается ее тело и как она сигнализирует поднятым указательным пальцем, я отвел напряжение внушением глубокого покоя и благополучия. Когда она опять расслабилась, я заставил ее вернуться в темную комнату. Мы повторяли это снова и снова, пока не добились, чтобы она выдерживала пребывание в этой воображаемой темноте. Примерно через неделю она научилась справляться с образом темноты и была готова встретиться с реальным противником.
Задергивая в кабинете шторы, я с помощью подсоединенного к выключателю реостата стал приучать ее к постепенному уменьшению освещенности. Растягивая время, в течение которого она сидела в частичной темноте, при признаках напряжения внушая необходимость расслабиться еще глубже.
Одиннадцать сеансов спустя я уже мог полностью задергивать светонепроницаемые шторы, погружая нас обоих в полную темноту. Отсчитывая вслух секунды и прислушиваясь к звуку ее дыхания, я был готов прийти на помощь при малейшем намеке на задержку или учащение, предотвратить сколько-нибудь длительное состояние тревоги и страха.
Каждый успех я вознаграждал щедрой похвалой и небольшими подарками в виде дешевых пластмассовых игрушек, которые закупал в большом количестве в мелочном магазинчике. Они приводили ее в восторг.
К концу месяца она уже могла сидеть в полной темноте — которая даже меня самого выводила иногда из равновесия, — на протяжении всего сеанса, совершенно не напрягаясь и болтая о школьных делах.
Наконец она превратилась в ночное существо не хуже летучей мыши. Я сказал, что нам, наверно, уже пора заняться ее сном. Она улыбнулась и согласилась.
Мне особенно не терпелось приступить к этой части работы, так как это был мой конек. Когда-то мне довелось заниматься несколькими детьми, страдавшими хроническими ночными страхами. Я был буквально потрясен той степенью разлада, которую они вносили в состояние детей и жизнь семьи. Но никто из психологов или психиатров, работавших в больнице, не знал, как лечить такое расстройство. Официально принятым для этих случаев считалось лечение транквилизаторами и седативными препаратами, воздействие которых на детский организм было непредсказуемым.
Я отправился в библиотеку больницы, покопался в ссылках на источники, обнаружил массу теоретических сведений и ничего о лечении. С чувством разочарования я довольно долго сидел и думал, и под конец решил испробовать кое-что необычное: кондиционирование с использованием условных рефлексов. Голая бихевиоральная терапия. Вознаграждать детей в тех случаях, когда они не испытывают страхов, и смотреть, что будет происходить.
Простенько, почти примитивно. С точки зрения теории смысла в этом не было. О чем и не преминуло сообщить мне мое больничное начальство, попыхивая трубками. Как можно сознательно управлять бессознательным поведением — процессом пробуждения от чрезвычайно глубокого сна? Чего можно добиться произвольным кондиционированием в случаях фиксированного отклонения от нормы?
Но недавно стали появляться данные исследований, которые указывали на то, что сознательно управлять функциями организма можно в большей степени, чем это представляли себе до сих пор: пациенты учились повышать и понижать температуру кожи, артериальное давление, даже притуплять сильную боль. На практической конференции по психиатрии я просил разрешения попытаться декондиционировать ночные страхи, аргументируя свою просьбу тем, что от этого никто ничего не терял. Было много покачиваний головами и расхолаживающих слов, но согласие все-таки дали.
И это сработало. У всех моих больных наступило стойкое улучшение. Старшие врачи начали применять мою методику в лечении своих больных и получили такие же результаты. Главный психолог сказал мне, чтобы я описал ее в статье для научного журнала, указав его в качестве соавтора. Я послал статью в редакцию, преодолел скептицизм рецензентов с помощью колонок цифр и статистических тестов, и статья была напечатана. В течение года другие психотерапевты начали подтверждать полученные мной данные. Ко мне стали поступать просьбы об оттисках статьи, пошли телефонные звонки из самых разных стран, меня приглашали читать лекции.
Я как раз читал одну из таких лекций в тот день, когда ко мне подошла Айлин Уэгнер. Это была лекция, которая привела меня к Мелиссе.
И вот теперь Мелисса была готова к тому, чтобы ее лечением занимался эксперт. Но здесь была одна проблема: методика — моя методика — работала только во взаимодействии с семьей. Необходимо было, чтобы кто-то вел точные наблюдения за течением сна пациента или пациентки, как в данном случае.
В пятницу вечером я ухватил Датчи за рукав, не дав ему возможности сбежать. Покорившись судьбе, он спросил:
— Что вы хотите, доктор?
Я вручил ему блокнот разлинованной бумаги и два остро заточенных карандаша и, напустив на себя вид заправского профессора, изложил ему свои требования. Перед тем как лечь спать, Мелисса должна практиковаться в расслаблении. Он не должен ни о чем просить или напоминать — это будет на ее совести. Его задача состоит в том, чтобы отмечать случаи ночных страхов и их частоту. За ночь, проведенную без страхов, на следующее утро полагается выдать девочке приз в виде одной из безделушек, которые она так любит. Ночи со страхами не должны вообще никак комментироваться.
— Но, доктор, — сказал он. — У нее их нет.
— Нет чего?
— Страхов. Вот уже несколько недель, как она спит совершенно спокойно. И постель остается сухой.
Я взглянул в сторону Мелиссы. Она пряталась за спиной Датчи. Выглядывала лишь половина мордашки. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть на ней улыбку.
Улыбку чистой радости. Она наслаждалась своей тайной, словно любимым лакомством.
Это было понятно. В обстановке, в которой она росла, секреты и тайны были расхожей монетой.
— Перемена в ней действительно… разительная, — говорил в это время Датчи. — Именно поэтому я и не считал необходимым…
Я сказал:
— Я очень горжусь тобой, Мелисса.
— А я горжусь вами, доктор Делавэр, — сказала она, с трудом сдерживая смех. — Мы — отличная команда.
Она выздоравливала быстрее, чем это могла объяснить наука. Она буквально перепрыгивала через мои клинические игровые планы.
Вылечивала сама себя.
«Это волшебство, — сказал как-то один из моих более мудрых наставников. — Иногда они выздоравливают, а ты не можешь объяснить причину. Выздоравливают прежде, чем ты успеваешь хотя бы начать делать то, что тебе представляется чертовски умным и необыкновенно научным. Не пытайся сопротивляться. Просто списывай это на волшебство. Такое объяснение ничуть не хуже любого другого».
Из-за нее я чувствовал себя волшебником.
Мы так и не приступили к обсуждению ни одной из тем, исследование которых казалось мне обязательным: смерть, увечье, одиночество. Микокси с кислотой.
Несмотря на частоту наших сеансов, ее история болезни была тоненькой — очень мало приходилось туда записывать. Мне в голову начала закрадываться мысль, что я функционирую просто как высокооплачиваемая приходящая няня, но я говорил себе, что есть профессии и похуже. И, оказавшись перед лавиной трудных случаев, усиливавшейся с каждым месяцем по мере того, как развивалась моя практика, я был рад этой возможности просто посидеть и почувствовать себя волшебником три дня в неделю, по сорок пять минут в день.
Через восемь месяцев она сообщила мне, что все ее страхи исчезли. Рискуя навлечь на себя ее гнев, я предложил сократить проводимое вместе время до двух сеансов в неделю. Она согласилась с такой готовностью, что я понял: она сама уже думала об этом.
Тем не менее я ожидал, что будет какой-то откат, когда она полностью осознает потерю и попытается претендовать на большее время и внимание. Но этого так и не произошло, и к концу года число сеансов сократилось до одного в неделю. Характер сеансов тоже изменился. Стал более непринужденным, менее формальным. Много игры, никакого драматизма.
Лечение завершается само собой. Полный успех. Я подумал, что Айлин Уэгнер будет наверняка рада узнать об этом, сделал еще одну попытку дозвониться до нее и получил записанный на пленку ответ, что номер отключен. Позвонил в больницу и узнал, что она закрыла свою практику, уволилась из штата и уехала, не оставив адреса, по которому следует пересылать корреспонденцию.
Странно. Но это не моя забота. И если придется писать одним отчетом меньше, то я нисколько не буду об этом сокрушаться.
Такой сложный был случай, а оказался в конце на удивление простым.
Пациент и врач вместе уничтожают демонов.
Что тут можно добавить?
Чеки из банка «Ферст фидьюшиери траст» продолжали приходить, каждый раз с трехзначной цифрой.
Прошла неделя, когда у нее был день рождения, ей исполнилось девять лет. Она явилась ко мне с подарком. Для нее у меня подарка не было — я давно решил никогда ничего не покупать своим пациентам. Но ее это явно не волновало; она вся светилась от удовольствия, которое ей доставил акт дарения.
Подарок был такой большой, что сама она донести его не смогла бы. Сабино внес его ко мне в офис.
Это была огромная корзина, наполненная завернутыми в тонкую бумагу фруктами, сырами, пробными бутылочками вина, банками и баночками икры, копченых устриц и форели, пасты из каштанов, консервированных фруктов и компотов из магазина деликатесов в Пасадене.
Внутри корзины была карточка:
ДОКТОРУ ДЕЛАВЭРУ С ЛЮБОВЬЮ ОТ МЕЛИССЫ Д.
На обратной стороне был нарисован дом. Самый лучший из всех нарисованных ею за время нашего знакомства — тщательно отретушированный, со множеством окон и дверей.
— Это замечательный подарок, Мелисса. Большое тебе спасибо.
— Пожалуйста. — Это было сказано с улыбкой, но ее глаза наполнились слезами.
— В чем дело, малышка?
— Я хочу…
Она отвернулась к одному из книжных шкафов и обхватила себя руками.
— Что ты хочешь сказать, Мелисса?
— Я хочу… Может, уже пора… и больше не надо…
Голос ее прервался, она замолчала. Пожала плечами. Помяла руки.
— Ты хочешь сказать, что больше не надо сеансов?
Она быстро закивала.
— Ничего плохого в этом нет, Мелисса. Ты поработала замечательно. Я действительно тобой горжусь. Так что если ты хочешь попробовать обойтись своими силами, я вполне тебя понимаю и считаю, что это здорово. И не беспокойся — я всегда готов тебе помочь, если будет нужно.
Она резко повернулась ко мне лицом.
— Мне уже девять лет, доктор Делавэр. Я думаю, что уже могу сама со всем справляться.
— Я тоже думаю, что можешь. И не бойся меня обидеть.
Она заплакала.
Я подошел к ней, прижал ее к себе. Она горько плакала, положив голову мне на грудь.
— Я знаю, это тяжело, — сказал я. — Ты беспокоишься, как бы не обидеть меня. Наверно, ты уже давно из-за этого переживаешь.
Непросохшие кивки.
— Я рад за тебя, Мелисса. Рад тому, что тебе не безразлично, что я чувствую. Но не волнуйся, со мной будет все в порядке. Конечно, мне будет не хватать тебя, но я всегда буду о тебе думать. И то, что ты перестанешь приходить на регулярные сеансы, еще не значит, что мы не можем поддерживать контакт. Например, по телефону. Или будем переписываться. Можешь и просто так зайти повидаться со мной, даже когда тебя ничто не беспокоит. Просто зайти поздороваться.
— А другие пациенты так делают?
— Конечно.
— А как их зовут?
Сказано с озорной улыбкой.
Мы оба засмеялись.
Я сказал:
— Самое важное для меня, Мелисса, это как здорово все у тебя получилось. Как ты взялась за свои страхи и справилась с ними. Я просто поражен.
— Я правда чувствую, что справлюсь.
— Уверен в этом.
— Да, я справлюсь, — повторила она, глядя на огромную корзину. — Вы когда-нибудь ели ореховую пасту? Она какая-то необычная, у нее вкус совсем не как у печеных каштанов…
На следующей неделе я позвонил ей. Подошел Датчи. Я спросил, как у нее дела. Он сказал:
— Очень, очень хорошо, доктор. Сейчас я вам ее позову. — Я не был уверен, но мне показалось, что он разговаривал дружелюбным тоном.
Когда Мелисса взяла трубку, она говорила со мной вежливо, но отстраненно. Сказала, что у нее все нормально и что позвонит, если ей понадобится прийти ко мне. Она так и не позвонила.
Я звонил еще пару раз. Голос ее звучал неспокойно, и она торопилась закончить разговор.
Несколько недель спустя я приводил в порядок свою бухгалтерию, дошел до ее листа и обнаружил, что мне переплатили авансом за десять сеансов, которых я не провел. Я выписал чек и отослал его в Сан-Лабрадор. На следующий день посыльный принес мне в офис конверт. Внутри оказался мой чек, аккуратно разорванный на три части, и лист надушенной бумаги.
Дорогой доктор Делавэр, я очень Вам благодарна.
Искренне Ваша,
Джина ДикинсонВсе тот же изящный почерк, каким она писала мне два года назад, обещая поддерживать со мной контакт.
Я выписал еще один чек на точно такую же сумму, на имя Западного педиатрического фонда игрушек, спустился в фойе и отправил его. Я понимал, что делаю это не только для детей, которые получат игрушки, но и для себя тоже, и говорил себе, что не имею никакого права думать, будто совершаю благородный поступок.
Потом я поднялся на лифте снова к себе в кабинет и приготовился к приему следующего пациента.
6
Был уже час ночи, когда я убрал историю болезни на место. Воспоминания — дело утомительное, и усталость охватила меня. Я доковылял до постели, погрузился в беспокойный сон, неплохо справился с пробуждением в семь часов и отправился под душ. Через несколько минут после того, как я кончил одеваться, в дверь позвонили. Я пошел открывать.
На террасе стоял Майло — руки в карманах, желтая спортивная рубашка с двумя широкими горизонтальными полосами зеленого цвета, светло-коричневые хлопчатобумажные брюки и баскетбольные кеды, которые когда-то были белыми. Его черные волосы были отпущены длиннее, чем мне приходилось их когда-либо видеть, — передняя прядь полностью закрывала лоб, а баки спускались почти до уровня нижней челюсти. Его неровное, в оспинах лицо местами поросло трехдневной щетиной, а зеленые глаза казались потускневшими — их обычный поразительно яркий оттенок поблек до цвета очень старой травы.
Он сказал:
— Хорошо, что теперь ты, по крайней мере, запираешь дверь. А плохо, что открываешь ее, не проверив, кого там черт принес.
— Откуда тебе известно, что я не проверил?
— Интервал между последним звуком шагов и поворотом замка. Детективные способности. — Он постучал себя по виску и направился прямо на кухню.
— Доброе утро, сыщик. Досуг тебе на пользу.
Он что-то буркнул, не останавливаясь.
Я спросил:
— Что случилось?
— А должно что-то случиться? — крикнул он в ответ, уже заглядывая в холодильник.
Еще один чисто случайный визит. В последнее время эти визиты участились.
Очередная хандра.
Прошла половина срока назначенного ему наказания — шесть месяцев отстранения от службы без сохранения содержания. Наказать его сильнее этого управление не могло — следующей мерой было бы уже увольнение. Начальство надеялось, что гражданская жизнь придется ему по вкусу и он не вернется. Но начальство тешило себя иллюзиями.
Он покрутился, поискал, нашел ржаной хлеб, паштет и молоко, достал нож и тарелку и занялся приготовлением завтрака.
— Ну, чего ты уставился? — спросил он. — Никогда не видел мужика на кухне, что ли?
Я пошел одеваться. Когда я вернулся, он стоял у кухонной стойки, ел поджаренный хлеб, намазывая его паштетом, и запивал молоком прямо из пакета. Он располнел — его живот арбузом вырисовывался под нейлоновой рубашкой.
— Ты очень занят сегодня? — спросил он. — Я подумал, может, смотаемся на ранчо и погоняем в гольф?
— Не знал, что ты играешь в гольф.
— Я и не играю. Но нужно же иметь какое-то хобби, верно?
— Извини, сегодня утром у меня работа.
— Да? Значит, мне уйти?
— Нет, работа не с пациентами. Я кое-что пишу.
— А, — сказал он, пренебрежительно махнув рукой. — Я имел в виду настоящую работу.
— Для меня эта работа настоящая.
— Что, все та же старая песня — блокировки-провалы-сдвиги-по-фазе?
Я кивнул.
— Хочешь, я сделаю это вместо тебя? — сказал он.
— Что сделаешь?
— Напишу твой доклад.
— Валяй.
— Нет, я серьезно. Настрочить что-то всегда было для меня раз плюнуть. Недаром я дошел до магистра — видит Бог, это лишь часть того академического дерьма, которым меня пичкали. Моя проза не отличалась большой оригинальностью, но была… добротной, хотя чуточку скучноватой. Говоря словами моего тогдашнего университетского наставника.
Он с хрустом откусил кусок поджаренного хлеба. Крошки посыпались ему на грудь рубашки. Он не сделал ни малейшей попытки стряхнуть их.
Я сказал:
— Спасибо, Майло, но я пока не созрел для того, чтобы иметь «негра». — Я пошел варить кофе.
— Ты-чего-это? — спросил он с набитым ртом. — Не доверяешь мне?
— Это научная писанина. Материал для журнала по психологии.
— Ну и что?
— А то, что речь идет о сухих цифрах и фактах. Может, страниц сто такого текста.
— Велика важность, — сказал он. — Не страшнее, чем основной протокол убийства. — Коркой хлеба он стал отстукивать у себя на пальце. — Римское один: резюме преступления. Римское два: изложение событий в хронологической последовательности. Римское три: информация о жертве преступления. Римское…
— Я тебя понял.
Он сунул корку в рот.
— Ключом к отличному написанию отчетов является изгнание из них всякого пыла, до последней капли. Используй добавочную — с «горкой» — порцию избыточно заумных тавтологических плеоназмов, чтобы сделать отчет умопомрачительно скучным. И тогда твои начальники, которым положено все это читать, быстренько выдохнутся, начнут перескакивать с пятого на десятое и тогда, может быть, не заметят, как ты, развив бурную деятельность с момента обнаружения трупа, так ни черта и не раскрыл. А теперь скажи мне, так ли это отличается от того, что делаешь ты?
Я рассмеялся.
— До сих пор я полагал, что ищу истину. Спасибо, что поправил.
— Не за что. Это моя работа.
— Кстати, о работе. Есть что-нибудь новенькое?
Он посмотрел на меня долгим, мрачным взглядом.
— Опять все то же. Конторские жокеи с улыбающимися рожами. На этот раз притащили психоаналитика из управления.
— Я думал, ты отказался консультироваться.
— Они обошли мой отказ, назвав это проявлением стресса. Условия наказания — читайте мелкий шрифт.
Он покачал головой.
— Все эти типы с сальными рожами разговаривали со мной ну исключительно тихо и медленно, как с маразматиком. Справлялись о моей адаптации. Об уровне стресса. Делились своей озабоченностью. Ты когда-нибудь замечал, как люди, которые говорят, что чем-то делятся, в действительности никогда этого не делают? Они также весьма заботливо дали мне понять, что все мои медицинские счета оплачивало управление — которое, стало быть, получало копии всех моих лабораторных анализов, — и что там высказывалось определенное беспокойство по поводу уровня моего холестерина, триглицеридов и чего-то там еще, и действительно ли я чувствую себя в силах вернуться к активной службе.
Он помрачнел.
— Как тебе нравятся эти деятели, а? Я в ответ тоже им улыбнулся и сказал, не забавно ли, что и мой стрессовый уровень и мои триглицериды были всем до лампочки, когда я мотался на задания.
— Ну и как они отреагировали на этот перл?
— Новой порцией улыбочек, потом таким жирным молчанием, в котором можно было жарить картошку, как во фритюре. Здорово действует на нервы. Наверняка эта задница, психоаналитик, предупредил их — не обижаться. Но таково военное мышление: уничтожить индивидуума.
Он посмотрел на пакет с молоком и сказал:
— А, с низким содержанием жира. Это хорошо. Да здравствуют триглицериды.
Я налил в кофеварку воды, засыпал в воронку несколько ложек кофе «Кениан».
— Одного у этих задниц не отнимешь, — сказал он. — Они становятся все напористее. На этот раз они пошли в открытую и заговорили о пенсии. О долларах и центах. С фактическими выкладками, откуда видно, как много получается всего, если прибавить проценты, которые я мог бы получить в случае удачного помещения денег. О том, как славно можно прожить на то, что мне полагается за четырнадцать лет. Когда я не распустил слюни и не схватил наживку, они отбросили морковку и взяли палку, и пошли намеки, что вопрос о пенсии отнюдь не является однозначно решенным, учитывая обстоятельства. И все такое прочее. Что правильный выбор момента имеет существенное значение. И тому подобное.
Он принялся за следующий кусок хлеба.
Я сказал:
— И чем же все кончилось?
— Я дал им повякать еще немного, потом встал, сказал, что у меня неотложная встреча, и ушел.
— Ну, — заметил я, — если ты все-таки решишь уволиться, то дипломатический корпус всегда к твоим услугам.
— Ты что, — сказал он, — я этим сыт вот докуда. — Он чиркнул пальцем по горлу. — Ну, отстранили на полгода, ладно. Ну, отобрали пушку, и значок, и зарплату, черт с вами. Но дайте мне отбыть срок в мире и покое, отвяжитесь с вашей хреновой заботой. Со всей этой фальшивой чувствительностью.
Он вернулся к еде.
— Конечно, на лучшее я, наверно, не могу рассчитывать, при таких обстоятельствах. — Он усмехнулся.
— «Отлично» с плюсом по результатам тестирования на контакт с реальностью, Майло.
Он сказал:
— Оскорбление действием старшего по званию. — Он еще шире улыбнулся. — Неплохо звучит, а?
— Ты забыл самую забойную часть. На ТВ.
Все еще улыбаясь, он хотел выпить молока, но улыбка мешала, и он опустил пакет.
— Какого черта, ведь мы живем в век средств массовой информации, верно? Шеф получает по морде, когда выпендривается перед репортерами. Я отвалил им парочку таких смачных звуковых кусочков, что век будут помнить.
— Это уж точно. А в каком состоянии Фриск?
— Говорят, что его пикантный носик зажил довольно хорошо. Новые зубы выглядят почти так же, как старые, — просто удивительно, какие чудеса творит сегодня восстановительная хирургия, а? Но все же его внешний вид чуточку изменится. Будет меньше Тома Селлека и больше… Карла Мальдена. А это совсем неплохо для старшего офицера, верно? Такой подпорченный вид, который предполагает мудрость и опыт.
— Он уже приступил к исполнению обязанностей?
— Не-е-т. Видимо, у нашего Кенни уровень стресса все еще довольно высок, уж он-то не откажется от длительного отдыха для восстановления сил. Но потом он вернется, обязательно. Его отфутболят наверх, где он сможет портачить на более высоком уровне и приносить вред систематически.
— Но он — зять заместителя начальника полиции, Майло. Это просто везенье, что тебя вообще оставили на службе.
Он отстранил пакет с молоком и пристально посмотрел на меня.
— Думаешь, если бы они могли выпереть меня, то не сделали бы этого? Они знают, что счет не в их пользу, поэтому-то и ищут подходы.
Он шлепнул своей большой рукой по столу.
— Этот гад использовал меня в качестве наживки, черт бы его побрал. Адвокат, с которым Рик заставил меня поговорить, сказал, что у меня есть основания возбудить крупный гражданский иск, что я мог бы отдать материальчик газетам и месяцами поддерживать к нему интерес. Такое пришлось бы ему по вкусу, этому сутяге. Он на этом деле сорвал бы немалый куш. Рик тоже хотел, чтобы я так поступил. Из принципа. Но я отказался, потому что дело совсем не в том, чтобы дать возможность шайке крючкотворов лет десять препираться из-за юридических тонкостей. Здесь все надо было решать один на один. Телевидение было для меня дополнительной гарантией — пара миллионов свидетелей, чтобы никто не мог сказать, что все было не так, а иначе. Вот почему я стукнул его после того, как он сказал, какой я великий герой, и объявил мне благодарность. Так что никто теперь не может сказать «зелен виноград». Управление у меня в долгу, Алекс. Они должны быть мне благодарны за то, что я всего-навсего подпортил ему рожу. И если у Фриска котелок варит, то он тоже будет мне благодарен — постарается не попадаться мне на глаза. Никогда. И в гробу я видал его семейные связи. Ему еще повезло, что я не выдрал у него внутренности и не запустил ими в телекамеру.
Его глаза прояснились, а лицо покраснело. Со свесившимися на лоб волосами и толстыми губами, он смахивал на рассерженную гориллу.
Я зааплодировал.
Он немного привстал, уставился на меня и вдруг засмеялся.
— Да, нет ничего лучше дозы адреналина, чтобы день показался прекрасным. Так ты действительно не хочешь сыграть в гольф?
— Извини. Мне правда надо закончить работу над докладом, а в полдень у меня пациент. И, честно говоря, гонять мячи по зеленой лужайке не соответствует моим представлениям об отдыхе, Майло.
— Знаю, знаю, — подхватил он. — Не улучшает кислородный обмен. Держу пари, что уж твои-то триглицериды — просто конфетка.
Я пожал плечами. Кофе был готов. Я налил две чашки и одну дал ему.
— Ну, — сказал я, — а что ты еще делаешь, как проводишь время?
Он сделал широкий жест рукой и заговорил с нарочитым ирландским провинциальным акцентом:
— О, просто великолепно, парень. Вышивка, папье-маше, выпиливание, вязание крючком. Маленькие шхунки и яхточки из палочек от мороженого, всякие безделушки — там целый чудесный мир ремесел, который только и ждет, чтобы ты начал его исследовать. — Он отпил кофе. — Дерьмово. Хуже, чем канцелярская работа. Сначала я думал заняться садоводством — побыть немного на солнышке, подвигаться — назад к земле, к своим корням, да славится Ирландия.
— Собирался выращивать картошку?
Он хмыкнул.
— Собирался выращивать все, что смогу и что сможет у меня расти. Да вот загвоздка: в прошлом году Рик приволок этого дизайнера ландшафтов и переделал весь участок под все эти юго-западные хреновины — кактусы, суккуленты, грунтовое покрытие низкой влагоемкости. Чтобы сократить потребление воды, жить экологически разумно. Так и не удалось мне стать фермером. Ну ладно, черт с ним, думал повозиться в доме — починить все, что требует починки. Раньше я был рукастый — когда получал азы строительства в колледже, научился всем специальностям. А когда жил один, то все абсолютно делал сам — чинил водопроводные трубы, электропроводку и что там еще было нужно. Домовладелец обожал меня. Но с этим планом тоже получилась загвоздка — чинить оказалось нечего. Я слишком мало бывал дома, чтобы врубиться, и, попилив меня с год или около того, Рик в конце концов позаботился обо всем сам. Нашел мастера на все руки — парень с Фиджи, его бывший пациент. Тот порезался мотопилой, чуть не остался без нескольких пальцев. Рик зашил его, спас ему пальцы и тем заслужил вечную благодарность. Парень работает у нас почти за так, приходит в любое время дня и ночи. Так что, пока он осторожен с пилой, мои услуги не требуются. Вот такие дела. Что же остается? Ходить за покупками? Готовить? Рик мотается между травмпунктом и Независимой клиникой, дома никогда не ест, так что я хватаю, что под руку попадет, и напихиваюсь. Иногда хожу в городской тир в Калвер-Сити и стреляю. Дважды переслушал свою коллекцию пластинок и прочитал больше плохих книг, чем хотелось бы думать.
— А добровольческой работой ты не пробовал заняться?
Он зажал уши ладонями и сморщился. Когда он отвел руки, я спросил:
— Что с тобой?
— Я это уже слышал. Каждый день, от этого альтруиста, доктора Сильвермана. Группа борьбы со спидом Независимой клиники, бездомные дети, миссия Скид-Роу и так далее. Найди какое-нибудь дело, Майло, и держись за него. Но вся штука в том, что я чувствую дьявольскую злость. Сжат, как пружина. И не дай Бог, если кто-то скажет мне худое слово — быстренько поцелуется с тротуаром. Это… ощущение, будто внутри у меня все горит, — иногда я просыпаюсь с ним, иногда оно просто накатывает внезапно, и не говори мне, что это посттравматический стрессовый синдром, потому что от названия легче не становится. Со мной уже такое было — после войны, и я знаю, что только время выцедит это из меня. А пока я не хочу общаться со слишком большим числом людей, особенно обремененных тяжкими несчастьями. У меня нет к ним сочувствия. Кончится тем, что я посоветую им подобрать сопли и привести жизнь в порядок, черт возьми!
— Время лечит, — сказал я, — но ход времени можно ускорить.
Он посмотрел на меня так, словно не верил своим ушам.
— Как? Ты даешь рекомендации?
— Бывают вещи и похуже.
Он ударил себя в грудь обеими руками.
— Ладно, вот он я. Давай, рекомендуй.
Я молчал.
— Правильно, — сказал он и посмотрел на стенные часы. — Ну, я пошел. Буду стучать по маленьким белым мячикам и думать, что это не мячики, а нечто другое.
Он стал выкатываться из кухни. Я вытянул перед ним руку, и он остановился.
— Как насчет ужина? — спросил я. — Сегодня. Я должен освободиться около семи.
Он сказал:
— Благотворительные обеды — прерогатива суповых кухонь.
— Обаяния в тебе хоть отбавляй, — сказал я и опустил руку.
— Неужели ты сегодня не идешь на свидание?
— Не иду.
— А Линда?
— Линда все еще в Техасе.
— Вот как! Разве она не должна была вернуться на-прошлой неделе?
— Должна была. Но ей пришлось остаться. Ее отец…
— Что, сердце?
Я кивнул.
— Ему стало хуже. Настолько, что она осталась там на неопределенный срок.
— Печально это слышать. Будешь с ней говорить, передай от меня привет. Скажи, я надеюсь, что он поправится. — Его гнев уступил место сочувствию. Я не был уверен, что это к лучшему.
— Ладно, передам, — сказал я. — Желаю тебе весело провести время на ранчо.
Он шагнул и остановился.
— Ладно. Тебе тоже приходится не сладко. Прости.
— У меня все хорошо, Майло. И это предложение никакая не благотворительность. Бог знает почему, но я подумал, что вместе поужинать было бы неплохо. Двое парней болтают разную чепуху, задираются по-дружески и все такое, ну, как в рекламе пива.
— Да, — сказал он. — Ужин. Ладно. Поесть-то я всегда готов. — Он похлопал себя по животу. — И если к сегодняшнему вечеру ты еще не закончишь свою писанину, приноси с собой черновик. Дядя Майло внесет мудрые редакторские коррективы.
— Отлично, — сказал я, — а пока суд да дело, почему бы тебе не подумать о каком-нибудь настоящем хобби?
7
После его ухода я сел писать. Без какой-либо видимой причины дело пошло как никогда гладко, и быстро наступил полдень, возвещаемый вторым за сегодня звонком в дверь.
На этот раз я заглянул в глазок. То, что смотрело на меня оттуда, было лицом незнакомки, но не совсем: остатки черт девчушки, которую я когда-то знал, сливались с лицом на фотографии из газетной вырезки двадцатилетней давности. Я вдруг понял, что в момент нападения ее мать была лишь немногим старше, чем сейчас Мелисса.
Я открыл дверь и сказал:
— Здравствуй, Мелисса.
Она от неожиданности вздрогнула, потом улыбнулась.
— Доктор Делавэр! Вы совсем не изменились.
Мы пожали друг другу руки.
— Входи.
Она вошла в дом и остановилась, сложив руки перед собой.
Трансформация девочки в женщину была почти завершена, и то, что получилось, свидетельствовало о плавном изяществе процесса. У нее были скулы манекенщицы под безупречно гладкой, слегка загорелой кожей. Ее волосы потемнели, стали каштановыми с отдельными выгоревшими на солнце прядками и свисали, совершенно прямые и блестящие, до самого пояса. Вместо прямой челки теперь был боковой пробор и зачес. Под естественно изогнутыми бровями светились огромные, широко расставленные серо-зеленые глаза. Юная Грейс Келли.
Грейс Келли в миниатюре. Она была ростом едва больше метра пятидесяти, с тонюсенькой талией и мелкими костями. Серьги в виде больших золотых колец украшали каждое похожее на раковинку ухо. В руках она держала небольшую кожаную сумочку. На ней была синяя блузка с застежкой донизу, джинсовая юбка чуть выше колен и темно-бордовые мокасины на босу ногу.
Я провел ее в жилую комнату и пригласил сесть. Она села, скрестила ноги в щиколотках, обхватила колени руками и осмотрелась.
— У вас очень хорошо дома, доктор Делавэр.
Я подумал о том, какое впечатление могли произвести на нее мои полторы сотни квадратных метров красной древесины и стекла на самом деле. В замке, где она росла, были, вероятно, комнаты побольше всего моего дома. Поблагодарив ее, я тоже сел и сказал:
— Рад видеть тебя, Мелисса.
— И я рада видеть вас, доктор Делавэр. И большое спасибо, что согласились так быстро встретиться со мной.
— Не стоит благодарности. Трудно было меня найти?
— Нет. Я воспользовалась томасовским справочником — совсем недавно узнала о его существовании. Он потрясающий.
— Да, верно.
— Просто удивительно, как много информации может уместиться в одной книге, правда?
— Правда.
— Я раньше никогда не бывала в этих каньонах. Здесь действительно красиво.
Улыбка. Застенчивая, но не растерянная. Такая, как надо. Настоящая молодая леди. Может, это все рассчитано на меня, и в компании друзей она превращается в нечто хихикающее и дурно воспитанное?
Она ходит гулять по улицам?
У нее есть друзья?
До меня вдруг дошло, что эти девять лет сделали ее совершенно мне незнакомой.
Придется начинать с нуля.
Я улыбнулся в ответ и, стараясь не слишком явно это показывать, стал изучать ее.
Держится прямо, может быть, чуть скованно. Это понятно, учитывая все обстоятельства. Но никаких явных признаков тревоги. Руки, которыми она обхватила колени, оставались неподвижными. Никакой «лепки теста», никаких следов опрелости кожи на пальцах.
Я сказал:
— Давненько же мы не виделись.
— Девять лет, — уточнила она. — Почти невероятно, правда?
— Правда. Я не жду от тебя полного отчета за все эти девять лет, мне просто любопытно знать, что ты поделывала.
— Ну, что обычно, — сказала она, пожимая плечами. — Училась в школе, в основном.
Она наклонилась вперед, выпрямила руки и еще крепче обняла колени. Плоская прядь волос скользнула ей на один глаз. Она отбросила ее и снова обвела глазами комнату.
Я сказал:
— Поздравляю с окончанием школы.
— Спасибо. Меня приняли в Гарвард.
— Потрясающе. Тогда поздравляю вдвойне.
— Я удивилась, что они меня приняли.
— А я больше чем уверен, что они ни секунды не сомневались.
— Очень мило с вашей стороны так говорить, доктор Делавэр, но я думаю, что мне просто повезло.
Я поинтересовался:
— Круглые «отлично» или около того?
Снова застенчивая улыбка. Руки остались на коленях.
— Кроме спортивной подготовки.
— Ай, какой стыд, юная леди!
Улыбка стала шире, но для ее поддержания явно требовались усилия. Она продолжала осматривать комнату, словно надеялась что-то найти.
Я спросил:
— Так когда ты едешь в Бостон?
— Не знаю… Я должна им сообщить в течение двух недель, приеду или нет. Так что надо, наверное, решать.
— Иными словами, ты думаешь не ехать?
Она облизнула губы, кивнула и посмотрела прямо мне в глаза.
— Об этом… об этой проблеме я и хотела с вами поговорить.
— Ехать или не ехать в Гарвард?
— О том, какие последствия может иметь мой отъезд в Гарвард. Для мамы. — Она опять облизнула губы, кашлянула и начала чуть заметно раскачиваться. Потом расцепила руки, подобрала с кофейного столика хрустальное пресс-папье и, прищурившись, стала смотреть сквозь него. Наблюдать, как преломляются в нем припудренные золотой пылью лучи южного света, льющиеся в окна комнаты.
Я спросил:
— Что же, мама против твоего отъезда?
— Нет, она… говорит, что хочет, чтобы я ехала. Она совершенно не возражала — напротив, всячески одобряла. Она говорит, что правда хочет, чтобы я ехала.
— Но ты все равно беспокоишься за нее.
Она положила пресс-папье на место, сдвинулась на самый краешек кресла и подняла руки ладонями кверху.
— Я не уверена, выдержит ли она это, доктор Делавэр.
— Разлуку с тобой?
— Да. Она… Это… — Она пожала плечами и вдруг стала ломать руки. И это огорчило меня больше, чем должно было.
Я спросил:
— Она все еще… Ее состояние не улучшилось? Я имею в виду ее страхи.
— Нет, все остается по-прежнему. Эта агорафобия. Но чувствует она себя лучше. Благодаря лечению. Я в конце концов смогла убедить ее пройти курс лечения, и это помогло.
— Прекрасно.
— Да. Это хорошо.
— Но ты не знаешь, достаточно ли помогло ей лечение, чтобы перенести предстоящую разлуку с тобой.
— Я не знаю, то есть как я могу быть уверена? — Она покачала головой выражением такой усталости, что показалась очень старой. Потом опустила голову и открыла сумочку. Покопавшись в ней, извлекла оттуда газетную вырезку и протянула мне.
Февраль прошлого года. Материал из колонки «Стили жизни» был озаглавлен: «НОВАЯ НАДЕЖДА ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ СТРАХАМИ: СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ВРАЧЕЙ ПРОТИВ ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ ФОБИЙ».
Она снова взяла пресс-папье и стала вертеть его в руках. Я стал читать дальше.
В статье рассказывалось о Лео Гэбни, практикующем в Пасадене психологе-клиницисте, который ранее работал в Гарвардском университете, и его жене, психиатре Урсуле Каннингэм-Гэбни, выпускнице и бывшей сотруднице этого почтенного заведения. На сопровождавшей статью фотографии оба врача сидели бок о бок за столом, разговаривая с сидящей напротив пациенткой. Был виден лишь ее затылок. Рот Гэбни был открыт, он что-то говорил. Его жена, казалось, искоса наблюдала за ним. На лицах у обоих было выражение крайней серьезности. Подпись под фотографией гласила: ДОКТОРА ЛЕО И УРСУЛА ГЭБНИ ОБЪЕДИНЯЮТ СВОИ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ С «МЭРИ», КОТОРАЯ СТРАДАЕТ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ АГОРАФОБИЕЙ. Последнее слово было обведено красным.
Я стал рассматривать фотографию. Я знал, кто такой Лео Гэбни, читал все, что он публиковал, но никогда с ним не встречался лично. Судя по фотографии, ему было лет шестьдесят или около того, у него была пышная седая шевелюра, узкие плечи, темные, полуприкрытые веками глаза за стеклами очков в массивной черной оправе и круглое, некрупное лицо. На нем были белая рубашка и темный галстук, рукава закатаны до локтей. Руки тонкие и худые, почти как у женщины. В моем воображении он рисовался как нечто более гераклоподобное.
Его жена была брюнетка, красивая, с несколько строгими чертами; в Голливуде ей предложили бы сыграть роль угнетенной старой девы, созревшей для пробуждения чувств. Она была в чем-то вязаном, в накинутой на одно плечо пестрой шотландской шали. Короткие волосы с перманентной завивкой красиво обрамляли ее лицо. Очки на цепочке висели у нее на шее. Она была так молода, что могла бы приходиться Лео Гэбни дочерью.
Я поднял глаза. Мелисса все еще вертела в руках хрусталь. Делала вид, что не может оторваться от игры света на гранях.
Защита с помощью безделушки.
Я совсем забыл об этой конкретной безделушке. Антикварная вещь, французская. Истинная находка, извлеченная с задних полок малюсенького сувенирного магазинчика в Левкадии. Мы с Робин… Защита в виде амнезии.
Я вновь обратился к чтению. Статья была написана в смущенно-хвалебном тоне пресс-релиза, претендующим на журналистское звучание. В ней подробно излагался передовой опыт Гэбни в области исследования и лечения расстройств, восходящих к беспричинному страху. Упоминались его «выдающийся успех в лечении солдат корейской войны от боевой психической травмы и стрессов, когда клиническая психология как наука была еще в пеленках, его передовые исследования душевных расстройств и состояний человека» и отслеживалась его карьера в Гарвардском университете на протяжении трех десятилетий по изучению животных и человека. Тридцать лет плодовитого научного писательства.
Об Урсуле Каннингэм-Гэбни говорилось как о бывшей студентке ее мужа и обладательнице двух докторских степеней — по психологии и медицине.
«Мы шутим, — сказал ее муж, — что она представляет собой парадокс».
Супруги Гэбни были штатными сотрудниками медицинского факультета Гарвардского университета, а два года назад переехали в Южную Калифорнию и основали Клинику Гэбни. Лео Гэбни объяснил их переезд «поисками менее напряженного стиля жизни, а также представившейся возможностью привнести в частный сектор наше объединенное богатство исследовательского и клинического опыта».
Далее он перешел к описанию духа взаимодействия, который характерен для подхода Гэбни:
«Медицинская подготовка моей жены особенно полезна при обнаружении физических расстройств, таких, как гипертиреоз, которые дают симптомы, сходные с симптомами расстройств на базе беспричинного страха. Она также обладает уникальной возможностью оценить и назначить некоторые из более эффективных седативных препаратов, которые сейчас появились».
«Несколько этих новых препаратов кажутся перспективными, — сказала в дополнение Урсула Каннингэм-Гэбни, — но ни один из них не является достаточным сам по себе. Многие врачи склонны рассматривать применение лекарств в качестве волшебной палочки и выписывают их, не давая себе труда тщательно сопоставить стоимость этих препаратов с их эффективностью. Наши исследования ясно показали, что наиболее эффективным лечением в случаях изнурительных расстройств на почве беспричинного страха является сочетание поведения и тщательно контролируемого приема лекарств».
«К сожалению, — добавил ее муж, — обычный психолог несведущ в лекарствах, а если и знает что-то, то не в состоянии назначить подходящее. Обычный же психиатр недостаточно подготовлен или совсем не подготовлен в области бихевиоральной терапии.
Лео Гэбни утверждает, что это привело к пререканию между специалистами и неудовлетворительному лечению многих больных, страдающих тяжелейшими расстройствами, такими, как агорафобия — патологическая боязнь открытых пространств.
Больные агорафобией нуждаются в комплексном лечении, которое было бы в то же время и творческим. Мы не ограничиваемся работой в кабинете. Идем к больным домой, на рабочее место — всюду, куда зовет нас реальная жизнь».
Здесь опять обведены красным слова «агорафобия» и «домой»
Остальная часть статьи состояла из историй болезни пациентов, настоящие имена которых были изменены. Эту часть я пропустил.
— Я прочел.
Мелисса положила пресс-папье.
— Вы о них слышали?
— Слышал о Лео Гэбни. Он весьма известен — ему принадлежит масса очень важных исследований.
Я протянул ей вырезку. Она взяла ее и положила обратно в сумочку.
— Когда я это увидела, — сказала она, — мне показалось, что это как раз для мамы. Я уже занималась поисками чего-нибудь подходящего. Знаете, мы ведь начали разговаривать, мама и я. О том, что ей надо что-то делать с этим… с ее проблемой. И представьте, проговорили несколько лет. Я начала заводить этот разговор в пятнадцать лет, когда стала достаточно большой, чтобы понимать, как это сказывается на ней. То есть я всегда понимала, что она… не такая, как все. Но когда вырастаешь с кем-то, знаешь лишь этот образ жизни и не имеешь понятия ни о каком другом, то поведение этого человека уже не кажется тебе странным.
— Это так, — согласился я.
— Но по мере того как я становилась старше, читала больше книг по психологии и больше узнавала о людях, я начала понимать, как ей, должно быть, трудно и что она по-настоящему страдает. И если я люблю ее, то мой долг — помочь. Поэтому я стала заговаривать с ней об этом. Сначала она не хотела обсуждать свои проблемы со мной, старалась перевести разговор на другое. Потом стала настаивать, что с ней все в порядке, а мне лучше просто заниматься своими делами. Но я продолжала гнуть свое — небольшими дозами. Например, когда мне случалось сделать что-то хорошее — получить по-настоящему хорошую оценку или принести домой какую-то школьную награду, — я заводила такой разговор. Давала ей понять, что заслуживаю серьезного к себе отношения. И в конце концов она стала по-настоящему разговаривать. О том, как ей трудно, как тяжело чувствовать себя ущербной матерью, о том, что ей всегда хотелось быть такой, как все другие матери, но каждый раз, как она пыталась выйти, ее охватывал страх. И не просто в психологическом плане. Настоящие, физические приступы. Когда невозможно дышать. Когда такое чувство, будто сейчас умрешь. Как от этого ей кажется, будто она в ловушке, как это заставляет ее чувствовать себя беспомощной и ненужной и винить себя за неспособность заботиться обо мне.
Она снова обхватила колени, покачалась, посмотрела на пресс-папье, потом опять на меня.
— Она заплакала, а я сказала ей, что это просто смешно. Что она потрясающая мать. Она сказала, что знает, что это не так, но что все равно из меня получился чудесный человек. Вопреки ей, а не благодаря. Мне было больно это слышать, и я заревела. Мы с ней обнялись. Она все повторяла и повторяла, как ей жаль, что все так получилось, и как она рада, что я настолько лучше, чем она. Что у меня будет хорошая жизнь, что я выберусь отсюда и увижу то, чего она никогда не видела, и буду делать то, чего она никогда не делала.
Она остановилась, втянула сквозь зубы воздух.
Я сказал:
— Должно быть, тебе было очень тяжело. Слышать такое. Видеть, как ей больно.
— Да, — выдохнула она и разразилась слезами.
Я вытянул из коробки бумажную косметическую салфетку, дал ей и подождал, пока она успокоится.
— Я сказала ей, — заговорила она, шмыгая носом, — что я вовсе не лучше нее, ни с какой стороны. Что я вышла в мир только потому, что получила помощь. От вас. Потому, что она беспокоилась обо мне и позаботилась, чтобы мне помогли.
Я будто снова слышал детский голос, записанный на пленку с телефона службы психологической помощи. Вспомнил надушенные письма-отписки, свои оставшиеся без ответа телефонные звонки.
— …Что люблю ее и хочу, чтобы ей тоже помогли. Она согласилась, что нуждается в помощи, но, по ее мнению, лечение ей уже не поможет, да и никто, наверное, не сможет ей помочь. Потом она еще сильнее заплакала и сказала, что боится врачей — знает, что это глупо и по-детски, но не может преодолеть свой страх. Что ни разу даже не поговорила с вами по телефону. Что я на самом деле вылечилась вопреки ей. Потому что я сильная, а она слабая. Я сказала ей, что сила — это не то, что просто есть у человека. Это то, чему он может научиться. Что она тоже по-своему сильная. Пережив то, что ей пришлось пережить, она осталась прекрасным, добрым человеком — она правда такой человек, доктор Делавэр! И даже если она никогда не выходила из дому и не делала того, что делали другие матери, я не сердилась на нее. Потому что она была лучше всех других матерей. Тоньше, добрее.
Я молча кивнул.
Она продолжала:
— Она чувствует себя такой виноватой, но на самом деле держалась со мной замечательно. Терпеливо. Никогда не раздражалась. Ни разу не повысила голос. Когда я была маленькая и не могла спать — до того, как вы меня вылечили, — она прижимала меня к себе, и целовала, и говорила мне снова и снова, что я чудесная и красивая, самая лучшая девочка на свете, и что будущее — это мое «золотое яблоко». Даже когда я не давала ей спать всю ночь. Даже когда я писалась в постель и портила ее постельное белье, она все равно прижимала меня к себе. На мокрых простынях. И говорила, что любит меня, что все будет хорошо. Вот какой она человек, и я хотела помочь ей — хоть немного отплатить за ее доброту.
Она уткнулась в бумажную салфетку. Та превратилась в мокрый комок, и я дал ей другую.
Через некоторое время она вытерла глаза и взглянула на меня.
— Наконец после многих месяцев разговоров, после того, как мы обе выплакались досуха, я добилась ее согласия на то, что если я найду подходящего врача, то она попробует. Врача, который будет приходить к ней домой. Прошло впустую еще какое-то время, так как я не знала, где найти такого врача. Я позвонила по нескольким телефонам, но те, кто перезвонил мне, сказали, что не посещают пациентов на дому. У меня было такое чувство, будто они не принимали меня всерьез из-за возраста. Я даже думала позвонить вам.
— Почему же не позвонила?
— Не знаю. Наверное, постеснялась. Глупо, правда?
— Ничуть.
— Как бы там ни было, тогда я и натолкнулась на эту статью. И мне показалось, что это именно то, что надо. Я позвонила к ним в клинику и поговорила с ней, с женой. Она сказала да, они могут помочь, но я не могу договариваться о лечении за другого человека. Пациенты должны звонить им сами и обо всем договариваться. Они настаивают на этом, принимают только тех пациентов, у кого есть сильное желание, стимул. Она говорила так, словно речь идет о поступлении в колледж — будто у них тонны заявлений, а принять могут лишь несколько человек. Ну, я поговорила с мамой, сказала, что нашла врача, дала ей номер телефона и велела позвонить. Она по-настоящему испугалась — начался один из ее приступов.
— Как это выглядит?
— Она бледнеет, хватается за грудь и начинает дышать очень сильно и часто. Хватает ртом воздух, словно никак не может вдохнуть. Иногда теряет сознание.
— Довольно жуткая картина.
— Да, наверно, — согласилась она. — Для кого-то, кто видит это в первый раз. Но, как я уже говорила, я выросла со всем этим, так что знала, что ничего с ней не случится. Вероятно, это звучит жестоко, но именно так обстоит дело.
Я сказал:
— Это не жестоко. Просто ты понимала, что происходит. Могла связать это со всеми остальными обстоятельствами.
— Да. Именно так. Поэтому я просто ждала, когда приступ пройдет — они обычно длятся не больше нескольких минут, а потом она чувствует сильную усталость, засыпает и спит пару часов. Но в тот раз я не дала ей заснуть. Я обняла ее и поцеловала, и стала с ней говорить — очень тихо и спокойно. О том, что эти приступы ужасны, что я знаю, как ей плохо, но разве ей не хочется попробовать от них избавиться? Чтобы больше никогда так себя не чувствовать? Она заплакала. И сказала да, хочется. Да, она попробует; она обещает, но только не сейчас, у нее просто нет сил. Я отстала от нее, и после этого несколько недель ничего не происходило.
В конце концов мое терпение кончилось. Я поднялась к ней в комнату, набрала номер в ее присутствии, попросила позвать доктора Урсулу и сунула ей трубку. И встала над ней. Вот так.
Поднявшись на ноги, она скрестила руки на груди и сделала строгое выражение лица.
— Наверно, я застала ее врасплох, потому что она взяла трубку и стала говорить с доктором Урсулой. Больше слушала и кивала, но под конец разговора условилась о визите.
Она уронила руки и снова села.
— Во всяком случае, именно так было дело, и вроде бы лечение ей помогает.
— Сколько уже времени она лечится?
— Около года — как раз будет год в этом месяце.
— Оба Гэбни занимаются с ней?
— Сначала они приезжали оба. С черным саквояжем и уймой всякого оборудования. Наверно, делали ей общее обследование. Потом приезжала только доктор Урсула, с одной записной книжкой и ручкой. Они с мамой часами сидели вместе в маминой комнате наверху — каждый день, даже в субботу и воскресенье. И так несколько недель. Потом они наконец спустились вниз и стали прогуливаться по дому. При этом они разговаривали. Словно приятельницы.
Она сделала ударение на слове «приятельницы» и едва заметно нахмурилась.
— О чем именно они говорили, я не могу вам сказать, потому что она — доктор Урсула — всегда заботилась о том, чтобы держать маму подальше от всех — от прислуги, от меня. Не то чтобы она прямо это говорила, просто у нее была манера так смотреть на тебя, что становилось понятно — ты здесь лишняя.
Она снова нахмурилась.
— Потом, примерно через месяц, они вышли из дома. Стали прогуливаться по участку. Занимались этим очень долго — несколько месяцев — без видимого невооруженным глазом прогресса. Мама и так всегда могла это делать. Сама. Без всякого лечения. Этот этап казался мне нескончаемым, и никто не говорил мне, что происходит. Я начала задавать себе вопрос, знают ли они… знает ли она, что делает. И правильно ли я поступила, приведя ее к нам в дом. Единственный раз, когда я попыталась справиться об этом, мне было очень неприятно.
Она замолчала и сжала руки.
Я спросил:
— Что же произошло?
— После очередного сеанса я догнала доктора Урсулу, когда она уже садилась в машину, и поинтересовалась, как идут дела у мамы. Она просто улыбнулась мне и сказала, что все прекрасно. Ясно давая мне понять, что я лезу не в свое дело. Потом она спросила, а что, меня что-то беспокоит? — но совсем не так, как если бы ей было не все равно. Не так, как спросили бы вы. Я чувствовала, что она раскладывает меня по полочкам, анализирует. По мне поползли мурашки. Я так и отскочила от нее!
Она повысила голос, почти кричала. Поняв это, вспыхнула и зажала рот рукой.
Я ободряюще улыбнулся.
— Но потом, позже, — продолжала она, — я не могла этого понять. Наверно. Необходимость в конфиденциальности. Я стала думать и вспоминать, как все было во время моего лечения. Я без конца задавала вам все эти вопросы — помните, о других детях? — просто чтобы посмотреть, нарушите вы тайну или нет. Испытывала вас. И когда вы не уступили, я потом чувствовала себя успокоенной, и мне было очень хорошо. — Она улыбнулась. — Это было ужасно с моей стороны, правда? Испытывать вас таким образом.
— Это было на все сто процентов нормально, — сказал я.
Она засмеялась.
— И вы выдержали испытание, доктор Делавэр. — Ее румянец стал ярче. Она отвернулась. — Вы мне очень помогли.
— Я рад, Мелисса. Спасибо, что ты так говоришь.
— Наверно, это приятное занятие — быть психотерапевтом, — сказала она. — Все время говорить людям, что с ними все в порядке. И не надо никому причинять боль, как другие врачи.
— Иногда все-таки бывает и больно, но в целом ты права. Это великолепная работа.
— Тогда почему же вы больше не… Простите. Это меня не касается.
— Ничего, — сказал я. — Нет никаких запрещенных тем, пока ты можешь мириться с тем, что не всегда получишь ответ.
Она засмеялась.
— Ну вот, вы опять в своем репертуаре. А говорите, что со мной все в порядке.
— А с тобой и есть все в порядке.
Она тронула пресс-папье пальцем и тут же убрала его.
— Спасибо вам. За все, что вы для меня сделали. Вы не только избавили меня от страхов, но и показали, что люди могут меняться — могут побеждать. Это иногда бывает трудно понять, когда увязнешь в середине чего-то. Я уже думала, не заняться ли мне самой изучением психологии. И может, стать психотерапевтом.
— Из тебя получился бы неплохой специалист.
— Вы правда так думаете? — спросила она, посмотрев на меня и явно приободрившись.
— Правда. Ты умная, толковая. Люди тебе не безразличны. И ты терпелива — из того, что ты мне рассказала, как пыталась заставить мать обратиться за помощью, я понял, что ты обладаешь огромным терпением.
— Ну, я люблю ее, — сказала она. — Не знаю, насколько мне хватило бы терпения по отношению к кому-то другому.
— Вероятно, это было бы еще легче, Мелисса.
— Да, наверно, так оно и есть. Потому что, честно говоря, я не чувствовала себя особенно терпеливой, когда это происходило — ее сопротивление, ее увиливание. Были такие моменты, когда мне даже хотелось накричать на нее, сказать, что ей просто пора вставать и начинать меняться. Но я не могла так поступить. Это ведь моя мама. Она всегда чудесно ко мне относилась.
Я сказал:
— Но теперь, после всех этих мучений, которых тебе стоило уговорить ее лечиться, тебе приходится наблюдать, как она и доктор Урсула месяц за месяцем прогуливаются по участку. И ничего не происходит. И это по-настоящему испытывает твое терпение.
— Вот именно! Я в самом деле начала относиться к этому скептически. Потом совершенно неожиданно кое-что стало происходить. Доктор Урсула вывела ее за ворота. Всего на несколько шагов, до края тротуара, и там ей стало плохо. Но все-таки она в первый раз вышла за пределы участка с тех пор, как… я впервые видела такое. И доктор Урсула не спешила из-за приступа вернуть ее в дом. Она дала ей какое-то лекарство — в ингаляторе, вроде тех, какими пользуются астматики, — и заставила остаться на месте, пока она не успокоилась. Потом они снова это сделали на следующий день, и на следующий, и каждый раз ей становилось плохо. Было в самом деле тяжело на это смотреть. Но в конце концов мама смогла постоять на краю тротуара, и ничего с ней не случилось. После этого они начали ходить вокруг нашего квартала. Рука об руку. И наконец, пару месяцев назад, доктор Урсула уговорила ее проехаться в автомобиле. В ее любимом — это маленький «роллс-ройс серебряная заря», выпуска 54-го года, но в превосходном состоянии. Сделан по специальному заказу. Мой отец заказал его по своим спецификациям, когда был в Англии. Один из первых автомобилей, имевших рулевой привод с усилителем. И тонированные стекла. Потом он подарил его ей. Ей всегда нравилась эта машина. Она любила иногда посидеть в ней, когда та была только что помыта, с выключенным мотором. Но никогда не водила ее. Должно быть, она что-то сказала доктору Урсуле о своем пристрастии, потому что, не успела я опомниться, как они вдвоем уже раскатывали на этой машине. По подъездной дорожке и прямо за ворота. Сейчас ситуация такова, что она может вести машину, если рядом с ней сидит кто-то еще. Сама ездит в клинику с доктором Урсулой или с кем-нибудь — это недалеко, в Пасадене. Может, это все звучит и не слишком впечатляюще. Но когда вспоминаешь, где она была год назад, то это кажется просто фантастикой, вы согласны со мной?
— Согласен. Как часто она ездит в клинику?
— Два раза в неделю. По понедельникам и четвергам, на групповую терапию. Вместе с другими женщинами, у которых та же проблема.
Она откинулась назад, с сухими глазами, улыбаясь.
— Я так горжусь за нее, доктор Делавэр. И боюсь, как бы все не испортилось.
— Тем, что поедешь в Гарвард?
— Вообще боюсь сделать что-то такое, что может все испортить. Я хочу сказать, что мысленно представляю маму как бы на чашке весов — знаете, такие весы с коромыслом. Страх перетягивает в одну сторону, счастье — в другую. Сейчас чаша весов склоняется в сторону счастья, но меня не покидает мысль о том, что любой пустяк может столкнуть ее в другую сторону.
— Ты считаешь маму довольно хрупкой.
— Она действительно хрупкая! Все, что ей пришлось пережить, сделало ее такой.
— Ты говорила с доктором Урсулой о том, каковы могут быть последствия твоего отъезда?
— Нет, — сказала она, сразу помрачнев. — Нет, не говорила.
— У меня такое ощущение, — сказал я, — что, хотя доктор Урсула немало помогла твоей маме, она все же не принадлежит к числу людей, которые тебе приятны.
— Это правда. Она очень… Она холодная.
— Тебе в ней еще что-нибудь не нравится?
— Ну, я же говорила. Как она меня анализирует… Думаю, что она чувствует ко мне неприязнь.
— Почему ты так думаешь?
Она покачала головой. На одну из ее сережек упал луч света, и она сверкнула.
— Просто что-то такое… от нее исходит. Я знаю, это звучит… неточно — просто в ее присутствии мне делается не по себе. И как она сумела тогда дать мне понять, чтобы я не совалась не в свое дело, хотя и не сказала ничего такого. Разве после этого я смогу обратиться к ней с чем-то личным? Она просто окатит меня ушатом холодной воды. Я чувствую, что она хочет отделаться от меня.
— А с мамой ты не пробовала об этом поговорить?
— Я говорила с ней о лечении пару раз. Она сказала, что доктор Урсула ведет ее со ступеньки на ступеньку, и она, хоть и медленно, но поднимается вверх по этой лестнице. Что благодарна мне за то, что я заставила ее лечиться, но что теперь она должна повзрослеть и сама о себе позаботиться. Я не стала спорить, боялась, как бы не сказать или не сделать чего-нибудь такого, что… все поломает.
Она помяла руки. Откинула волосы.
Я спросил:
— Мелисса, а не чувствуешь ли ты себя немного обойденной? В том, что касается лечения?
— Нет, совсем нет. Конечно, я хотела бы знать больше — особенно из-за интереса к психологии. Но не это для меня важно. Если для эффективного лечения нужно именно это — вся эта скрытность, — то и на здоровье. Даже если нынешнее состояние — предел, все равно это большой прогресс.
— Ты сомневаешься, пойдет ли этот прогресс дальше?
— Не знаю, — сказала она. — Если наблюдать изо дня в день, то дело продвигается ужасно медленно. — Она усмехнулась. — Видите, доктор Делавэр, я совсем не терпеливая.
— Значит, хотя твоя мама проделала большой путь, ты не убеждена, что этого продвижения будет достаточно, чтобы ты могла безболезненно для нее уехать?
— Вот именно.
— И ты испытываешь досаду и разочарование — тебе хочется больше узнать о мамином прогнозе, но ты не можешь, потому что доктор Урсула так с тобой обращается.
— Точнее не скажешь.
— А что доктор Лео Гэбни? Может, тебе было бы приятнее поговорить с ним?
— Нет, — сказала она, — его я совсем не знаю. Как я уже говорила, он появлялся только в самом начале и был похож на настоящего ученого — ходит очень быстро, все записывает, отдает распоряжения жене. У них в семье он — босс.
Выдав это проницательное замечание, она улыбнулась. Я сказал:
— Хотя твоя мать говорит, что хочет, чтобы ты поехала в Гарвард, ты не уверена, что с ней будет все в порядке после твоего отъезда. И чувствуешь, что тебе не у кого будет об этом спросить.
Она потрясла головой и слабо улыбнулась.
— Вот положение. Довольно глупо, правда?
— Ничуть не глупо.
— Вот и опять, — сказала она — Опять вы мне говорите, что я в норме.
Мы оба улыбнулись.
Я спросил:
— У вас там есть кто-нибудь еще, кто мог бы опекать твою маму?
— Прислуга. И еще Дон, наверно. Дон — это ее муж. Подбросив мне этот «самородок», она посмотрела на меня как ни в чем не бывало.
Но я не мог скрыть своего удивления.
— Когда же она вышла замуж?
— Всего несколько месяцев назад.
Руки принялись месить.
— Несколько месяцев, — повторил я.
Она поерзала и сказала:
— Шесть.
Наступило молчание.
Я спросил:
— Не хочешь рассказать мне об этом?
Ее вид говорил о том, что не хочет. Но она сказала:
— Его зовут Дон Рэмп. Он раньше был актером — ничего выдающегося, просто исполнитель мелких ролей. Играл: ковбоев, солдат — в таком плане. Теперь он содержит ресторан. Не в Сан-Лабе, а в Пасадене, потому что в Сан-Лабе не разрешается торговать спиртным, а у него подают всевозможные сорта пива и эля. Это его специальность. Импортное пиво. И неплохое мясо. «Кружка и клинок» — так называется его заведение. Там у него повсюду доспехи и мечи. Как в старой Англии. Немного вроде бы глупо, но для Сан-Лабрадора это экзотика.
— Каким образом они познакомились?
— Вы имеете в виду, потому что мама не выходит из дома?
— Да.
Руки начали месить быстрее.
— Это была моя… Я их познакомила. Была в «Кружке» с друзьями — что-то вроде школьного мероприятия для старшеклассников. Дон был там, он приветствовал посетителей, а когда узнал, кто я такая, то подсел ко мне и сказал, что был когда-то знаком с мамой. Много лет назад. Когда она работала на студии. У них обоих был там в это время контракт. Ну, он начал меня расспрашивать — как она да что. Потом стал без конца говорить, какой чудесный она была человек, такая красивая и талантливая. Сказал мне, что я тоже красивая. — Она фыркнула.
— А ты себя красивой не считаешь?
— Ну что вы, доктор Делавэр! Как бы там ни было, он показался мне приятным, и это был первый встреченный мной человек, который действительно раньше знал маму, когда она работала в Голливуде. Я имею в виду, что среди тех, кто поселяется в Сан-Лабрадоре, обычно не бывает людей, связанных с миром увеселений и зрелищ. По крайней мерю, никто в этом не признается. Однажды другой актер, настоящая кинозвезда — Бретт Раймонд, хотел сюда переехать, купить какой-нибудь старый дом, снести его и построить новый — так пошли все эти разговоры о том, что его деньги грязные, потому что кино — это еврейский бизнес, а еврейские деньги — это грязные деньги; что сам Бретт Раймонд в действительности еврей, только скрывает это — я даже не знаю, правда это или нет. Так или иначе, они — местные власти — до того замучили его допросами, ограничениями и всякими придирками, что он передумал я переехал в Беверли-Хиллз. И люди говорили: вот и хорошо, там ему и место. Так что вы понимаете теперь, почему мне не приходилось часто видеть людей из кино, и когда Дон стал говорить о прежних временах, то мне это показалось потрясающим. Словно я нашла связующее звено между настоящим и прошлым.
Я заметил:
— Но от этого до женитьбы как-то вроде далековато.
Она мрачно усмехнулась.
— Я пригласила его к нам — хотела сделать маме сюрприз. Это было еще до того, как она начала лечиться, и я хваталась за все подряд, чтобы сдвинуть ее с мертвой точки. Заставить общаться. И когда он приехал, у него в руках было три дюжины красных роз и большая бутылка шампанского. Мне бы тогда и сообразить, что он строит планы. Не зря же были розы и шампанское. Одно к одному. Он стал бывать у нас чаще. Во второй половине дня, до открытия «Кружки». Приносил ей бифштексы, и цветы, и уж не знаю что еще. Эти визиты стали регулярными, и я, наверно, к ним просто привыкла. И вот, полгода назад, примерно в то время, когда она стала постепенно выходить за ворота, они объявили, что собираются пожениться. Вот так просто. Привезли судью, и все свершилось, прямо в доме.
— Значит, он встречался с ней, когда ты пыталась уговорить ее лечиться?
— Да.
— И как он к этому отнесся? А к самому лечению?
— Не знаю, — сказала она. — Я его не спрашивала.
— Но воспрепятствовать он не пытался?
— Нет. Дон не боец.
— Кто же он?
— Очаровашка. Всем он нравится, — сказала она с неприязнью в голосе.
— А ты как к нему относишься?
Она сердито взглянула на меня, отвела со лба волосы.
— Как отношусь? Он мне не мешает.
— Он тебе кажется неискренним?
— Он мне кажется… пустым. Голливуд чистой воды.
Это было сказано с той же предубежденностью, которая только что осуждалась. Она поняла это и сказала:
— Я знаю, это звучит очень уж по-санлабрадорски, но, чтобы понять, что я имею в виду, надо его видеть. Зимой у него загар, он живет теннисом и лыжами и всегда улыбается, даже когда улыбаться нечему. Отец был человеком большой глубины. Мама заслуживает лучшего. Если бы я знала, как далеко все зайдет, никогда бы не начинала.
— У него есть свои дети?
— Нет. Он не был женат. До сих пор.
То, как она подчеркнула «до сих пор», заставило меня спросить:
— Тебя тревожит, что он мог жениться на твоей маме ради денег?
— Эта мысль приходила мне в голову — Дон не то чтобы бедняк, но он не в мамином классе.
Она махнула рукой, и жест вышел таким неровным и неуклюжим, что я невольно это отметил про себя.
Я спросил:
— Среди причин твоего конфликта по поводу Гарварда нет ли опасения, что мама нуждается в защите от него?
— Нет, просто я не считаю, что он сможет о ней позаботиться. Я все еще не могу взять в толк, почему она вышла за него замуж.
— А те, кто служат в доме? Можно на них рассчитывать в этом плане?
— Они славные люди, — сказала она, — но этого будет недостаточно.
— А что Джейкоб Датчи?
— Джейкоб, — произнесла она дрогнувшим голосом. — Джейкоб… умер.
— Прости, я не знал.
— Только в прошлом году, — сказала она. — У него оказалось какое-то раковое заболевание, он сгорел очень быстро. Он покинул наш дом сразу после того, как ему поставили диагноз, и переехал в заведение типа санатория. Но не сказал нам, где это находится. Не хотел, чтобы кто-то видел его больным. После того как… оттуда позвонили маме и сказали, что он… Не было даже похорон, просто кремация. Мне было очень больно — из-за того, что нельзя было ему помочь. Но мама сказала, что мы помогли уже тем, что дали ему устроить все так, как он сам хотел.
Еще слезы. Еще салфетки.
Я сказал:
— Я помню его как человека с сильной волей.
Она наклонила голову.
— По крайней мере, ему не пришлось долго мучиться.
Я подождал, не скажет ли она еще чего-нибудь. Но она молчала, и я сказал:
— Так много всего с тобой произошло, столько на тебя свалилось. Неудивительно, что тебе трудно разобраться, как надо поступить.
— О, доктор Делавэр! — воскликнула она и встала, подошла ко мне и обняла меня за шею. Собираясь сюда, она подушилась. Какой-то сильный цветочный аромат и слишком «старый» для нее. Такой подошел бы какой-нибудь незамужней тетушке. Я подумал о том, что она самостоятельно прокладывает себе дорогу в жизни. Путем проб и ошибок.
Меня охватило острое чувство жалости. Она крепко вцепилась в меня, и ее слезы капали мне на куртку.
Я бормотал какие-то слова утешения, казавшиеся не более осязаемыми, чем этот золотистый свет. Когда она перестала плакать на целую минуту, я легонько отстранился.
Она быстро отодвинулась, села на прежнее место с пристыженным видом. Принялась мять руки.
Я сказал:
— Ничего, Мелисса. Ты не обязана всегда быть сильной.
Рефлекс психотерапевта. Утешай, поддакивай.
Сказано именно то, что нужно. Но в данном случае соответствует ли это истине?
Она начала ходить взад и вперед по комнате.
— Не могу поверить, что я так раскисла. Это так неприятно… В моих планах этот визит должен был произойти по-деловому. Как консультация, а не как…
— Не как лечебная процедура?
— Да. Ведь это ради нее. Я правда думала, что со мной все в порядке и я не нуждаюсь в лечении. Я хотела вам показать, что у меня все хорошо.
— У тебя и в самом деле все хорошо, Мелисса. Просто сейчас невероятно напряженное для тебя время. Все эти изменения в жизни мамы. Потеря Джейкоба.
— Да, — сказала она рассеянно. — Он был славный.
Я выждал несколько секунд, потом продолжал:
— А теперь еще и эта ситуация с Гарвардом. Надо принять очень важное решение. Было бы глупо не относиться к этому серьезно.
Она вздохнула. Я сказал:
— Позволь мне задать тебе вот какой вопрос. Если бы все остальное было спокойно, ты бы хотела поехать?
— Ну… я знаю, что это большой шанс — мое «золотое яблоко». Но я должна… мне нужно чувствовать, что я поступаю правильно.
— Что могло бы тебе помочь это почувствовать?
Она покачала головой и взмахнула руками.
— Я не знаю. Хотела бы знать.
Она посмотрела на меня. Я улыбнулся и показал на кушетку.
Она вернулась на свое место.
Я спросил:
— Что могло бы по-настоящему убедить тебя, что с мамой все будет хорошо?
— Ее хорошее самочувствие. То, что она нормальна, как все остальные. Я говорю ужасные вещи, да? Как будто стыжусь ее. Но я не стыжусь. Я просто беспокоюсь за нее.
— Ты хочешь быть уверена, что она сама сможет о себе позаботиться?
— В том-то все и дело. Она может. У себя в комнате. Там ее территория. Только вот окружающий мир… Теперь, когда она выходит, пытается изменить свою жизнь… это страшно.
— Конечно, страшно.
Молчание.
Я сказал:
— Наверно, я буду зря сотрясать воздух, если стану напоминать тебе, что ты не можешь до бесконечности брать на себя ответственность за мать. Быть матерью для своей родительницы. Что это будет только мешать твоей собственной жизни, а ей ничего хорошего не принесет.
— Да, я знаю. Именно это он… конечно, это так и есть.
— Кто-то еще говорил тебе то же самое?
Она закусила губу.
— Только Ноэль. Ноэль Друкер. Это мой друг. Но не в том смысле… Просто мальчик, с которым я дружу. То есть я ему нравлюсь больше, чем просто как друг, но сама не уверена, как к нему отношусь. Я его уважаю. Он необычайно хороший человек.
— Сколько ему лет?
— Он на год меня старше. Его приняли в Гарвард в прошлом году, но он пока взял отпуск, чтобы работать и подкопить денег. У них нет денег — в семье только он и мать. Он работает всю жизнь и очень взрослый для своих лет. Но когда он начинает говорить и о моей маме, мне просто хочется сказать ему, чтобы он… замолчал.
— Ты когда-нибудь давала ему это понять?
— Нет. Он очень чувствительный. Я не хочу обижать его. И знаю, что он так говорит из добрых побуждений, — он думает обо мне.
— Уф, — сказал я, с шумом выдыхая воздух. — Ты печешься о массе людей.
— Наверно. — Она улыбнулась.
— А кто печется о Мелиссе?
— Я сама могу позаботиться о себе. — Сказано с вызовом, который вернул меня на девять лет назад.
— Знаю, что можешь, Мелисса. Но даже те, кто заботятся о других, иногда нуждаются в том, чтобы кто-то и о них позаботился.
— Ноэль пытается проявить заботу обо мне, но я ему не разрешаю. Ужасно, правда? Для него это такое разочарование. Но я должна все делать по-своему. И он просто не понимает, как все обстоит с мамой. Никто не понимает.
— Ноэль и твоя мама ладят между собой?
— Ладят — в том немногом, где им приходится иметь дело друг с другом. Она считает, что он славный мальчик. Он такой и есть. Все так думают. Если бы вы были с ним знакомы, то поняли бы почему. И он в принципе к ней хорошо относится. Но говорит, что я приношу ей больше вреда, чем пользы своей опекой. Что она выздоровеет, как только ничего другого ей не останется, — как будто это от нее зависит.
Мелисса встала и опять стала ходить по комнате. Она позволяла своим рукам опускаться на предметы, трогать их, исследовать. Делала вид, что вдруг заинтересовалась картинами на стенах.
Я спросил:
— Как мне лучше всего помочь тебе, Мелисса?
Она повернулась на одной ноге и посмотрела мне в лицо.
— Я думала, что вы, может быть, согласитесь поговорить с мамой. И сказать мне, что вы думаете.
— Ты хочешь, чтобы я оценил ее состояние? И высказал профессиональное мнение относительно того, действительно ли она сможет нормально пережить твой отъезд в Гарвард?
Она покусала губу, дотронулась до одной из сережек, откинула волосы.
— Я доверяю вашему суждению, доктор Делавэр. То, что вы для меня сделали, как помогли мне измениться, — было похоже на… волшебство. Если вы скажете, что я могу спокойно ее оставить, я так и сделаю. Так и сделаю.
Много лет назад я сам смотрел на нее как на волшебницу. Но сейчас говорить ей об этом было нельзя, она бы только испугалась.
Я сказал:
— Из нас с тобой получилась неплохая команда, Мелисса. Ты проявила тогда силу и мужество, точно так, как делаешь это сейчас.
— Спасибо. Так вы согласны?
— Я буду очень рад поговорить с твоей матерью. Если она не будет возражать. И если не будут возражать супруги Гэбни.
Она нахмурилась.
— А при чем тут они?
— Мне надо точно знать, что я не нарушаю их лечебный план.
— Ладно, — сказала она. — Будем надеяться, что она не создаст вам проблем.
— Доктор Урсула?
— Угу.
— Есть основания полагать, что она может попытаться?
— Нет. Просто она… Она любит всем руководить. Я не могу отделаться от мысли, что она хочет, чтобы у мамы были секреты. Не имеющие никакого отношения к лечению.
— Что за секреты?
— Я не знаю, — ответила она. — В том-то все и дело. Я ничем не могу этого подтвердить — просто я что-то чувствую. Знаю, что это звучит странно. Ноэль говорит, что я больна паранойей.
— Это никакая не паранойя, — возразил я. — Ты очень любишь свою маму, ты уже много лет заботишься о ней. Было бы противоестественно, если бы ты просто…
Ее напряжение улетучилось. Она улыбнулась.
Я шутливо заметил:
— Ну вот, я опять за свое, не так ли?
Она чуть не рассмеялась, но остановилась в смущении. И я предложил:
— Позвоню сегодня доктору Урсуле, и посмотрим, что она скажет. Согласна?
— Согласна. — Она подошла ближе и записала для меня номер телефона клиники.
Я сказал:
— Ты держись там, Мелисса. Мы с этим справимся.
— Я очень надеюсь. Вы можете звонить мне по личному телефону — номер у вас есть, вы мне вчера звонили.
Она вернулась к кофейному столику, торопливо подобрала свою сумочку и теперь держала ее перед собой, на уровне талии.
Дополнительная защита.
Я спросил:
— У тебя еще что-нибудь?
— Нет, — ответила она, бросив взгляд на дверь. — Вроде бы мы о многом успели поговорить, верно?
— Нам многое пришлось наверстывать.
Мы дошли до двери.
Она повернула ручку и сказала:
— Ну, еще раз спасибо, доктор Делавэр.
Голос звучит сдавленно. Плечи напряжены. Она уходит более скованной, чем пришла.
Я рискнул:
— Ты уверена, что больше ни о чем не хочешь поговорить, Мелисса? Спешить некуда. У меня масса времени.
Она пристально посмотрела на меня. Потом ее глаза захлопнулись, словно защитные шторки, а плечи опустились.
— Это из-за него, — сказала она очень тихим голосом. — Из-за Макклоски. Он вернулся, он в Лос-Анджелесе. Он абсолютно свободен, и я не знаю, что он собрался делать!
8
Я вернул ее в комнату и усадил.
Она сказала:
— Я собиралась упомянуть об этом с самого начала, но…
— Это придает совершенно иной аспект твоему страху перед отъездом.
— Да, но, честно говоря, я бы все равно беспокоилась, даже без него. Он лишь усиливает беспокойство.
— Когда ты узнала, что он вернулся?
— В прошлом месяце. По телевизору показали это шоу, что-то документальное по поводу билля о правах пострадавшего — как в некоторых штатах семья может написать в тюрьму, и оттуда сообщат, когда будет рассматриваться вопрос об условном освобождении преступника. Так что можно протестовать. Я знаю, что он вышел из тюрьмы — много лет назад — и куда-то уехал. Но все равно написала, хотела посмотреть, не удастся ли еще что-нибудь узнать, — наверно, сделала так все по той же причине. Пыталась помочь маме. Из тюрьмы долго не приходило никакого ответа, потом мне сообщили, чтобы я связалась с отделом условно-досрочного освобождения заключенных. Эта была дикая морока — переговоры не с теми, с кем надо, бесконечные ожидания у телефона. В конце концов пришлось отправить письменный запрос. И вот наконец я прорвалась и узнала фамилию его последнего куратора по условному освобождению. Здесь, в Лос-Анджелесе! Но тот больше за ним не наблюдал — Макклоски только что освободили совсем.
— Давно он вышел из тюрьмы?
— Шесть лет назад. Это я узнала от Джейкоба. Одно время я его теребила — хотела узнать, хотела понять. Он постоянно отбрыкивался, но я не сдавалась. Наконец, когда мне исполнилось пятнадцать лет, он признался, что все это время не выпускал Макклоски из поля зрения, узнал, что пару лет назад его освободили и он уехал из штата.
Она сжала маленькие белые кулачки и потрясла ими.
— Этот подонок отсидел тринадцать лет из тех двадцати трех, к которым был приговорен, — ему скостили срок за хорошее поведение. Как это отвратительно, правда? Никому нет никакого дела до жертвы. Его следовало отправить в газовую камеру!
— А Джейкоб знал, куда тот уехал?
— В Нью-Мексико. Потом в Аризону и, кажется, в Техас — работал с индейцами в резервации или что-то в этом роде. Джейкоб сказал, что он пытается надуть отдел досрочного освобождения, чтобы там подумали, будто он порядочный человек, и, что скорее всего, это ему удастся. И он оказался прав, потому что его действительно освободили, и он теперь может делать что хочет. Его куратор Бейлисс — неплохой человек, вот-вот должен уйти на пенсию. И все это вроде бы действительно ему небезразлично. Но он сказал, что очень сожалеет, но ничем помочь не может.
— Он считает, что Макклоски представляет угрозу для твоей матери — или еще для кого-нибудь?
— Он сказал, что доказательства этого у него нет, но вообще все может быть. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда речь идет о подобном человеке.
— Пытался ли Макклоски вступить в контакт с твоей матерью?
— Нет, но кто поручится, что и не будет пытаться? Ведь он сумасшедший — такое безумие за одну ночь не проходит, правда?
— Обычно нет.
— Значит, он несомненная и явная опасность, так?
Легкого ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Я сказал:
— Можно понять, почему ты встревожена. — И мне не понравилось, как это прозвучало.
Она сказала:
— Доктор Делавэр, как я могу ее оставить? А вдруг его возвращение — это знак? Что я не должна уезжать. Я хочу сказать, что хорошее образование можно получить и здесь. Я прошла и в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, и в Южнокалифорнийский университет. В конечном счете, какая разница, где учиться?
Заметное несоответствие с тем, что говорилось всего несколько минут назад.
— Мелисса, человек с твоей головой может получить хорошее образование где угодно. Кроме качества образования, у тебя есть еще какая-то причина думать о Гарварде?
— Не знаю… может, просто самолюбие. Да, скорее всего так и есть. Хотела доказать себе, что смогу.
— И больше ничего?
— Ну… еще Ноэль. Он очень хочет, чтобы я туда поехала, и я подумала, что… Я хочу сказать, ведь это действительно лучший университет в стране? Я подумала, почему бы не подать заявление? Фактически это было чем-то вроде забавной шутки. Я даже не думала, что попаду туда. — Она покачала головой. — Иногда мне кажется, было бы куда легче жить, если бы учиться на одни «уды». Меньше возможностей выбора.
— Мелисса, любой на твоем месте — принимая во внимание ситуацию с твоей мамой, — испытывал бы такую же борьбу противоречивых чувств. А теперь еще и Макклоски. Но жестокая правда состоит в том, что даже если он действительно представляет угрозу, ты никак не сможешь защитить от него мать.
— В таком случае, что же вы предлагаете? — гневно спросила она. — Чтобы я так просто отступилась?
— Я хочу сказать, что Макклоски определенно заслуживает того, чтобы в него заглянули. Это должен сделать профессионал. Надо узнать, зачем он вернулся и что затевает. Если его сочтут опасным, то можно будет принять кое-какие меры.
— Какие, например?
— Ордер на ограничение свободы действий. Меры предосторожности. Ваш дом хорошо охраняется?
— Наверно. Есть система сигнализации и ворота. И полиция все время патрулирует — в Сан-Лабрадоре бывает так мало преступлений, что полиция в основном просто что-то вроде службы проката полицейских. Вы думаете, нам следует сделать что-то еще?
— Ты сказала матери о Макклоски?
— Нет, что вы! Не хочу перепугать ее — особенно теперь, когда у нее так хорошо идут дела.
— А… мистеру Рэмпу?
— Нет. Никто ничего не знает. Никто и не спрашивает моего мнения ни о чем, а я по своей инициативе его не высказываю.
— Но Ноэлю ты сказала?
Она в замешательстве посмотрела на меня.
— Да. Он знает.
— И что он говорит?
— Советует просто не брать в голову. Но ему легко так говорить — ведь это не его мать. Вы не ответили на мой вопрос, доктор Делавэр. Есть что-то такое, чего мы не сделали, но следует сделать?
— Мне трудно судить. Есть профессионалы, которые специализируются в подобного рода вещах.
— А где их можно найти?
— Дай мне кое-что проверить. Возможно, с этим я тебе помогу.
— Ваши связи в суде?
— Что-то вроде этого. А пока давай-ка будем действовать, как наметили. Я свяжусь с обоими Гэбни и выясню, можно ли мне встретиться с твоей мамой. Если да, то я дам тебе знать, и ты договоришься о времени, когда мне нужно приехать. Если нет, мы еще раз рассмотрим наши варианты. В любом случае нам с тобой неплохо было бы продолжить разговор. Когда бы ты хотела?
— Как насчет завтра? — спросила она. — В это же время. Если оно у вас есть.
— Есть.
— Спасибо — и простите меня за несдержанность.
— Ничего, все нормально, — сказал я и проводил ее до двери во второй раз за сегодня.
— Спасибо, доктор Делавэр.
— Береги себя, Мелисса.
— Я постараюсь, — ответила она. Но при этом вид у нее был, как у ребенка, которому задали непомерно большое домашнее задание.
* * *
После ее ухода я стал думать о том, как она просыпала дорожку из важнейших фактов — брак матери, молодой человек в ее собственной жизни, смерть Датчи, возвращение Макклоски. И все это было сказано как бы между прочим. С небрежностью, которая буквально кричала о самозащите.
Но если принять во внимание, с чем ей пришлось справляться — потеря близкого человека, конфликт противоречивых чувств, необходимость принять важные решения, подрыв собственного влияния, — то ее стремление к самозащите представляется чертовски оправданным.
Вопрос влияния, должно быть, стоял для нее особенно остро. Преувеличенное ощущение личного могущества было логическим следствием всех этих лет, когда она опекала свою родительницу. И она пользовалась им, чтобы довести мать до черты, за которой начинались изменения.
Бюро знакомств. Служба записи к специалистам.
И все это, чтобы потерпеть поражение от своего же успеха. Быть вынужденной отступить на задний план и сдать позиции влияния психотерапевту. Делить материнскую любовь с отчимом.
Если к этому добавить обычные треволнения и сомнения, одолевающие человека в ранний период взросления, то жизнь может стать просто невыносимой.
Кто, в самом деле, заботится о Мелиссе?
Когда-то эту миссию взял на себя Джейкоб Датчи.
Хотя я едва знал его, мысли о нем опечалили меня. Верный слуга, всегда готовый прийти на помощь. Он создавал некий эффект… присутствия.
Для Мелиссы это было равносильно второй потере отца.
Как это обстоятельство сказалось на ее отношениях с мужчинами? Стала она доверчивей?
Если судить по ее замечаниям о Доне Рэмпе и Ноэле Друкере, то здесь все не так просто.
Теперь и эти люди из Кембриджа, штат Массачусетс, требуют нового послабления — маячит призрак еще одной капитуляции.
Кто действительно будет поставлен под удар?
Во всяком случае, ее опасения нельзя назвать безосновательными.
Микокси с кислотой.
Почему все-таки Макклоски вернулся в Лос-Анджелес, почти через десятилетия после того, как был осужден? Тринадцать лет тюремного заключения плюс шесть условного освобождения — ему сейчас пятьдесят три года. Мне приходилось видеть, что делают с человеком годы, проведенные в тюрьме. Может, теперь это просто бесцветный, уставший от жизни старый мошенник, ищущий утешения и покоя в обществе таких же, как он сам, неудачников, завсегдатаев третьесортных злачных мест.
Или, быть может, он потратил проведенное в Сан-Квентине время на то, чтобы разжечь свою злобу. Вынашивая фантазии, где фигурировали кислота и кровь, наполняя свою бутылку…
Меня начало грызть неприятное чувство неуверенности в своей правоте, то самое чувство непопадания в цель, которое я испытал девять лет назад, когда отошел от всех своих правил, чтобы лечить измученного страхом ребенка.
Чувство, что не ухватил по-настоящему суть проблемы.
Девять лет назад она, несмотря на это, вылечилась.
Волшебство, фокус.
Сколько еще кроликов осталось в шляпе фокусника?
* * *
В клинике Гэбни на мой звонок включился автоответчик, продиктовавший номера телефонов и коды экстренного вызова обоих докторов. Никакие другие сотрудники не упоминались. Я записал для Урсулы Каннингэм-Гэбни свое послание, назвавшись лечащим врачом Мелиссы Дикинсон, и попросил позвонить мне как можно скорее. В течение следующих нескольких часов мне звонили неоднократно, но из Пасадены ни одного звонка не было.
В десять минут восьмого явился Майло, в той же одежде, что была на нем утром, только с пятнами от травы на брюках и пота под мышками. От него пахло дерном, и он казался усталым.
Я спросил:
— Как успехи?
Он покачал головой, нашел в холодильнике бутылку «гролша», откупорил ее и сказал:
— Этот спорт не для меня, приятель. Беготня за маленьким белым мячиком по ползучим сорнякам выводит меня из себя.
— Выбивает тебя из себя. Раз уж мы говорим о гольфе.
Он усмехнулся.
— А я — просто набитый дурак, раз вообразил себя обитателем пригорода. — Запрокинув голову, он стал лить в себя пиво. Когда бутылка опустела, он спросил:
— Так где же мы ужинаем?
— Где захочешь.
— Ну, — сказал он, — ты меня знаешь, я всю жизнь помираю по высшему свету. Видишь, я даже оделся в расчете на успех.
* * *
Дело кончилось тем, что мы оказались на Пико недалеко от Двадцатой улицы, в плохой части Санта-Моники, где, сидя за исчирканным ножом складным столиком и вдыхая выхлопные газы уличного движения, ели тако — мягкие паровые лепешки с начинкой из крупно нарубленной свинины и маринованных овощей и пили кока-колу с колотым льдом из вощеных бумажных стаканчиков.
Киоск, где готовили тако, стоял на угловом пятачке раскрошенного асфальта, между магазином спиртных напитков и пунктом обмена чеков на наличные деньги. Вокруг слонялись и рыскали в поисках поживы бездомные бродяги и несколько типов, которые не стали бы жить дома, даже если бы он у них был. Парочка таких типов наблюдала за нами, пока мы получали у стойки еду и искали места. Под влиянием фантазии на тему попрошайничества или чего-нибудь похуже их тусклые глаза оживились и заблестели. Майло держал их на расстоянии своим «полицейским» взглядом.
Мы ели, оглядываясь через плечо. Он спросил:
— Достаточно ли солидно для тебя?
Прежде чем я успел ответить, он встал и пошел к стойке заказов, держа одну руку в кармане. Грязный, худой человек примерно моего возраста, со спутанной бородой тут же воспользовался моментом и приблизился ко мне, обнажив в ухмылке беззубые десны, бормоча что-то бессвязное и нелепо размахивая одной искривленной рукой. Другая рука была подтянута к самому плечу, согнута, словно куриное крыло, и совершенно неподвижна.
Я протянул ему доллар. Подвижная рука выхватила его с ловкостью клешни ракообразного. Он успел отойти, прежде чем вернулся Майло с картонной коробкой, полной пакетиков из желтой бумаги.
Но Майло все видел и, садясь, сердито на меня посмотрел.
— Зачем ты это сделал?
— У этого бедняги что-то не в порядке с головой.
— Или он симулирует.
— В любом случае он, должно быть, дошел до ручки, тебе не кажется?
Он покачал головой, развернул порцию тако и откусил кусок. Прожевав и проглотив пищу, он сказал:
— Все дошли до ручки, Алекс. Если ты не прекратишь, они облепят нас, как саранча.
Мне показалось, что три месяца назад он бы такого не сказал.
Я оглянулся, увидел, какими глазами смотрят на него остальные особи уличного люда, и возразил:
— Вряд ли нужно на этот счет беспокоиться.
Он показал на пакетики с едой.
— Приступай, тут и для тебя.
Я сказал:
— Может, чуть позже.
И стал пить кока-колу, которая уже потеряла всякий вкус.
Спустя минуту я спросил:
— Если бы тебе понадобилась информация об одном бывшем заключенном, как бы ты стал действовать?
— Какого рода информация? — вопросом на вопрос ответил он, пережевывая слова вместе со свининой.
— Как он вел себя в тюрьме, что затевает сейчас.
— Этот тип освобожден условно?
— Условный срок истек. Освобожден вчистую.
— Образец реабилитации, а?
— Вопросительный знак обязателен.
— Этот мистер Образец давно уже чист и свободен?
— Где-то около года.
— За что сидел?
— Нападение, попытка убийства, сговор с целью убийства — он заплатил одному типу, чтобы тот изуродовал человека.
— Заплатил, значит? — Он вытер губы.
— Заплатил с намерением нанести серьезный вред или даже хуже.
— Ну тогда можно спокойно полагать, что он так и останется мерзавцем.
— А если мне нужно что-то более конкретное?
— Зачем это тебе?
— Это касается одного пациента.
— То есть все должно быть сугубо секретно и конфиденциально?
— Пока да.
— Ну, — сказал он, — вообще-то это не так уж трудно. Ты — то есть полицейский, потому что гражданскому придется лбом стенку прошибать, чтобы хоть чего-то добиться, — ты отслеживаешь цепочку. Прошлое — это лучший предсказатель будущего, верно? Так вот, первое звено — его полицейское досье. Федеральное и местное. Ты говоришь с полицейскими, которые знали его в то недоброе старое время. Предпочтительно с теми, кто его арестовывал. Дальше ты закидываешь глаз в папку окружного прокурора — там будут рекомендации по избранию меры наказания, заключения психиатров или психоаналитиков, ну и все такое. Третий шаг — ты разговариваешь с тюремным персоналом — узнаешь, как он вел себя во время отсидки. Хотя на самом деле лучше всего его знают те задницы, которые мотали срок вместе с ним. Если ты возьмешь кого-то из них на крючок — тяни. Потом идешь к офицеру, который курировал его после условного освобождения. Проблема здесь в том, что они завалены делами и задавлены текучкой. В большинстве случаев они просто штампуют бумаги, и шансов выудить из них что-то стоящее очень мало. Конечный шаг — ты устанавливаешь его К.З. — круг знакомых, то есть тех подонков, с которыми он общался после выхода из тюрьмы. Конец. Ничего особенного, просто нагрузка на ноги. А в итоге вся информация тебе мало что даст. Так что если у тебя есть обеспокоенный пациент, я бы на твоем месте посоветовал ему или ей быть поосторожнее. Пусть купит большую пушку и научится ею пользоваться. Или заведет питбуля.
— Это отслеживание цепочки, которое ты только что описал, — его может провести частный адвокат?
Майло посмотрел на меня, не отрываясь от тако.
— Ты имеешь в виду обычного, среднего адвоката? Нет. Не может ни за какой приемлемый отрезок времени. Адвокат, заручившийся услугами хорошего частного детектива, мог бы провернуть такое дело, но и тогда частному сыщику потребуется время, и немалое, — разве только у него есть крупные связи в полиции.
— Скажем, как у отставного полицейского?
Он кивнул.
— Некоторые частные сыщики — бывшие полицейские. Все они работают с почасовой оплатой, а такое дело потребует немало часов. Так что совсем не мешает иметь богатого клиента.
— А тебя самого такое дело случайно не заинтересовало бы?
Он положил свое тако на стол.
— Что?
— Небольшая частная консультация, Майло. Настоящее хобби. Тебе разрешается подрабатывать, когда ты временно отстранен?
— Я такой же гражданин, как и все. Могу делать все, что захочу. Только почему, черт возьми, я должен захотеть?
— Это лучше, чем гонять мячики по ползучим сорнякам.
Он хмыкнул, подобрал свое тако, доел его и стал разворачивать следующее.
— Черт, — сказал он, — я даже не знаю, какую заломить цену.
— Значит, ты возьмешься?
— Я просто думаю. А твой пациент или пациентка — из пострадавших?
— Дочь пострадавшей, — ответил я. — Восемнадцать лет. Я лечил ее очень давно, когда она была еще ребенком. Ее приняли в университет в другом городе, а она не знает, ехать ей или нет, хотя, судя по всему, лучше этого для нее не придумаешь.
— Из-за того, что вернулся этот подонок?
— Там есть и другие причины, питающие ее сомнения. Но присутствие этого подонка не дает возможности устранить ни одну из них. Я не могу советовать ей, чтобы она уехала, когда этот тип маячит на горизонте, Майло.
Он кивнул и продолжал есть.
— У семьи есть деньги, — сказал я. — Вот почему я спросил насчет адвокатов — они могут позволить себе их целый батальон, а уж одного-то и подавно. Но если за дело возьмешься ты, у меня будет уверенность, что оно делается как следует.
— О, проклятье, — проворчал он и откусил еще несколько кусков тако. Потом поднял воротник рубашки и воровато огляделся. — Майло Марлоу, Майло Спейд — что звучит забористее, как ты думаешь?
— А если Шерлок Стерджис?
— Тогда кто же будешь ты сам? Ватсон Нашей Эры? Ладно, можешь сказать этим людям, что если они хотят идти таким путем, то я прощупаю того типа.
— Спасибо.
— No problema. — Он поковырял в зубах и посмотрел на свою пропитанную потом одежду. — Жаль только, что климат не дает прилично одеться.
Мы покончили с напитками и расправились еще с некоторым количеством еды. Когда шли к машине, к нам подошел еще один из попрошаек — грузный человек неопределенной расы и религии. На лице у него была заискивающая ухмылка, а тело содрогалось от параличной тряски, словно в каком-то жутком танце. Майло свирепо посмотрел на него, потом полез в карман и вынул горсть мелочи. Сунув деньги бродяге, он вытер руки о штаны, отвернулся, не слушая его невнятного благодарственного бормотания, и выругался, берясь за ручку дверцы. Но эпитеты на этот раз звучали как-то неубедительно — мне доводилось слышать от него и кое-что получше.
* * *
Доктор Урсула Каннингэм-Гэбни звонила в мое отсутствие и оставила номер телефона, по которому ее можно застать вечером. Я набрал этот номер, и мне ответил грудной, хорошо поставленный женский голос.
— Доктор Каннингэм-Гэбни?
— Я слушаю.
— Это доктор Делавэр. Спасибо, что ответили на мой звонок, доктор Гэбни.
— А это случайно не доктор Александр Делавэр?
— Да, он самый.
— А, — сказала она. — Я знакома с вашим исследованием о ночных страхах у детей. Мы с мужем включили эту работу в список литературы по расстройствам, вызванным беспричинным страхом, мы составили его в прошлом году для «Американского журнала по психиатрии». Статья очень стимулирует мысль.
— Благодарю вас. Я также знаком с вашими работами.
— Где вы практикуете, доктор Делавэр? Дети не наша специальность, и нам часто приходится направлять маленьких пациентов к врачам детского профиля.
— Я базируюсь на Западной педиатрической, но не занимаюсь лечением. Работаю в области судебной медицины. Кратковременные консультации.
— Вот как. Но из записи на автоответчике я поняла, что вы чей-то лечащий врач.
— Мелиссы Дикинсон. Я был ее врачом. Много лет назад. Я всегда остаюсь в распоряжении своих старых пациентов. На днях она ко мне приходила.
— Мелисса, — сказала она, — такая серьезная молодая женщина.
— У нее немало причин, чтобы быть серьезной.
— Да. Несомненно. Семейная патология имеет глубокие корни. Я рада, что она наконец обратилась за помощью.
— По-видимому, она главным образом волнуется за мать, — пояснил я. — В связи с предстоящей разлукой. Как она перенесет ее отъезд в Гарвардский университет.
— Мать очень гордится ею. И хочет, чтобы она уехала.
— Да, я слышал об этом от Мелиссы. И все же она беспокоится.
— Не сомневаюсь в этом. Но, кроме самой Мелиссы, ее отъезд больше ни у кого не вызывает беспокойства.
— Значит, у вас нет опасения, что в случае отъезда Мелиссы в состоянии ее матери произойдет рецидив?
— Вряд ли, доктор Делавэр. Напротив, я уверена, что Джина — миссис Рэмп — будет рада своей вновь обретенной свободе. Мелисса — умная девушка и любящая дочь, но иногда бывает несколько… утомительной.
— Это выражение матери?
— Нет, миссис Рэмп никогда так не скажет. Но она это чувствует. И поэтому я надеюсь, вы сможете сразу заняться амбивалентностью Мелиссы и справитесь достаточно быстро, чтобы она успела реализовать свой шанс. Я понимаю, что существует какой-то крайний срок. В Гарварде склонны проявлять нетерпение — я знаю это по опыту. Так что ей придется связать себя обязательствами. Будет жаль, если какая-то формальность помешает ей двигаться вперед.
Подумав о Макклоски, я спросил:
— Нет ли у миссис Рэмп каких-то других тревог, которые могли бы передаваться Мелиссе?
— Передаваться? Как при эмоциональной инфекции? Нет, я бы сказала, что все как раз наоборот — есть риск, что тревога Мелиссы скажется на ее матери. Случай миссис Рэмп — это один из самых тяжелых случаев фобии, с которыми нам приходилось иметь дело. А через наши руки прошло немало пациентов. Но прогресс миссис Рэмп можно назвать феноменальным, причем и дальше дело у нее пойдет так же. Если ей дать этот шанс.
— Вы хотите сказать, что Мелисса является угрозой ее прогрессу?
— У Мелиссы добрые намерения, доктор Делавэр. Я вполне могу понять ее беспокойство. То, что она росла при неполноценной матери, давало ей стимул к необычно быстрому взрослению. До какого-то уровня это не очень мешало. Но все меняется, и теперь ее опека лишь подрывает уверенность матери в себе, в собственных силах.
— И в чем же выражается эта опека?
— В том, что ее присутствие отвлекает внимание в самые критические моменты лечения.
— Я все еще не уверен, что понимаю, о чем идет речь.
— Хорошо, — сказала она, — я объясню. Возможно, вам известно, что лечение от агорафобии по необходимости проводится в натуре, то есть в реальном окружающем мире, где находятся и факторы, вызывающие страх. Ее мать и я, мы в буквальном смысле слова делаем шаги вместе. Выходим за ворота, идем вокруг квартала. Это медленный, но стабильный процесс, выверенный таким образом, что пациент испытывает минимальный страх. Мелисса поставила себе за правило присутствовать при лечении в самые важные его моменты. И наблюдать. Со скрещенными на груди руками и этим абсолютно скептическим выражением на лице. Это выглядит почти комично, но служит, несомненно, отвлекающим фактором. Дошло до того, что я стала строить всю работу вокруг нее — старалась планировать так, чтобы моменты лечения, нацеленные на крупные сдвига, приходились на время, когда она в школе. Теперь она закончила школу, и ее присутствие стало еще более… заметным.
— Вы говорили с ней об этом?
— Я пробовала, доктор Делавэр, но Мелисса не проявляет интереса к разговорам со мной.
— Странно, — заметил я. — Ей это представляется совсем иначе.
— Вот как?
— Она видит себя пытающейся получить от вас информацию, но получающей категорический отказ.
Пауза. Потом она сказала:
— Да, это на нее похоже. Но я вижу здесь невротически искаженное истолкование фактов. Я отношусь с определенным сочувствием к ее ситуации, доктор Делавэр. Ей приходится иметь дело со множеством внутренних противоречий — с сильным ощущением угрозы и чувством ревности. Уверена, что ей нелегко. Но мне необходимо сосредоточиться на своей пациентке. А Мелисса может прибегнуть к вашей помощи — или чьей-нибудь еще, если в ваши планы это не входит, — чтобы привести свои дела в порядок.
Я сказал:
— Она просила меня поговорить с ее матерью. Чтобы уточнить, как мать действительно ко всему этому относится, и решить наконец, как быть с Гарвардом. Я звоню, чтобы узнать, нет ли у вас возражений. Не хотелось бы мешать лечению.
— Очень разумно с вашей стороны. А о чем конкретно вы хотите говорить с миссис Рэмп?
— Только о том, как она отнесется к отъезду Мелиссы. Судя по тому, что вы мне рассказали, здесь все достаточно ясно. Услышав это из первых уст, я смогу развеять сомнения Мелиссы.
— И используете свою роль заступника, чтобы побудить ее двигаться вперед?
— Именно так.
— Ну, никакого вреда я в этом не вижу. Особенно если ваша беседа будет ограничена определенными рамками.
— Вы назовете какие-то конкретные темы, которых мне следует избегать?
— Пока, мне кажется, будет правильным исключить все, что не касается университетской карьеры Мелиссы. Постараемся обойтись без сложностей.
— Похоже, однако, что в данном случае как раз одни сплошные сложности.
— Верно, — сказала она с ноткой веселости в голосе. — Но тем и прекрасна психиатрия, не так ли?
* * *
Я позвонил Мелиссе в девять часов, и она сняла трубку после первого же гудка.
— Я поговорил со своим знакомым — он полицейский детектив, сейчас пока в отпуске, так что у него есть свободное время. Если ты все еще хочешь проверить Макклоски, то это можно сделать.
— Хочу, — сказала она. — Скажите ему, чтобы приступал к делу.
— Для этого расследования может потребоваться какое-то время, а частные сыщики обычно взимают почасовую плату.
— Это не проблема. Я возьму все на себя.
— Ты собираешься сама платить ему?
— Разумеется.
— В конечном итоге сумма может оказаться значительной.
— У меня есть свои деньги, доктор Делавэр, — я давно уже оплачиваю разные расходы. Я собираюсь оплатить ваш счет, так что почему бы…
— Мелисса…
— Никаких проблем, доктор Делавэр. Правда. Я очень хорошо умею распоряжаться деньгами. Мне уже восемнадцать, так что и юридически все законно. Если я собираюсь уехать и жить самостоятельно, то почему бы не начать прямо сейчас?
Почувствовав, что я колеблюсь, она сказала:
— Это единственный путь, доктор Делавэр. Я не хочу, чтобы мама узнала о том, что он вернулся.
— А Дон Рэмп?
— И его я не хочу ни во что посвящать. Это не его проблема.
— Ладно, — сказал я. — Мы обговорим детали, когда встретимся завтра. Да, кстати, я поговорил с доктором Урсулой, и она позволила мне повидать твою маму.
— Это хорошо. Я уже говорила с мамой, и она согласна встретиться с вами. Завтра — вот здорово, правда? Значит, мы можем отменить нашу с вами встречу и вместо этого назначить вашу встречу с мамой?
— Хорошо. Я буду у вас к двенадцати часам.
— Спасибо, доктор Делавэр. Я скажу, чтобы для вас приготовили ленч. Чего бы вам хотелось?
— О ленче не стоит беспокоиться, но все равно спасибо.
— Точно?
— Точно.
— Вы знаете, как нас найти?
— Я знаю, как попасть в Сан-Лабрадор.
Она проинструктировала меня, как найти ее дом.
Я все записал и сказал:
— Ладно, Мелисса, до завтра.
— Доктор Делавэр?
— Да, Мелисса?
— Мама волнуется. Из-за вас. Хотя я и рассказала ей, какой вы хороший. Она беспокоится, что вы о ней подумаете. Из-за того, как она обошлась с вами тогда, столько лет назад.
— Скажите ей, что я все понимаю и что рога у меня вырастают только в период полнолуния.
Она не засмеялась.
Я сказал:
— Я не собираюсь вести себя с ней грубо, совсем нет, Мелисса. Все будет хорошо.
— Надеюсь на это.
— Мелисса, часть того, с чем тебе приходится иметь дело, — причем гораздо более важная, чем умение распоряжаться деньгами, — это отход от прошлой жизни. Тебе предстоит найти свою дорогу и позволить маме делать все самой. Я знаю, что это трудно, — думаю, тебе потребуется много мужества, чтобы пройти весь этот путь. Просто позвонить мне — для этого тоже нужно было набраться мужества. У нас обязательно все получится.
— Я понимаю, — сказала она. — Просто это трудно. Когда кого-то так сильно любишь.
9
Начало отрезка шоссе, соединяющего Лос-Анджелес с Пасаденой, обозначено четырьмя тоннелями, входы в которые украшают изящные каменные фестоны. В наши дни такую вещь вряд ли утвердил бы какой-нибудь муниципальный совет, но этот кусочек прогресса был врезан в котловину давным-давно, он был для города первым, этот подземный путь для непрестанного движения, которое отождествлялось со свободой.
Сейчас это грязная и некрасивая асфальтовая лента. Три узкие полосы движения на уровне улицы, окаймленные уродливыми от выхлопных газов кленами и разношерстными по стилю домами. Психотические сооружения эстакад возникают без предупреждения. Бетонные пешеходные мосты, побуревшие от времени, — претензии Лос-Анджелеса на собственную патину — бросают жутковатые тени на асфальтовое покрытие. Каждый раз, выезжая на это шоссе, я думаю о Натаниеле Уэсте и Джеймсе Кейне — фигурах из истории Южной Калифорнии, которых, вероятно, никогда в действительности не существовало, но которых представляешь себе с каким-то мрачным удовольствием.
Я также думаю о Лас-Лабрадорас и о том, что места вроде аристократических частей Пасадены, Сьерра-Мадре и Сан-Лабрадора могли бы с таким же успехом находиться на луне — такова степень их общения и обмена с огромным человеческим муравейником, расположенным на другом конце шоссе.
Лас-Лабрадорас. Сельские Девушки.
Встреча с ними произошла у меня за много лет до того, как я познакомился с Мелиссой. В ретроспективе схожесть между прошлым опытом и нынешним показалась очевидной. Почему же я раньше не сообразил?
Это были женщины, называвшие себя девушками. Две дюжины женщин, которые в студенческие годы принадлежали к женским университетским общинам, потом весьма удачно повыходили замуж, смолоду вписавшись в «поместную» жизнь, отправили по парочке детей учиться и стали искать, чем бы заполнить время. Видя прибежище в общении, они сошлись вместе и образовали добровольное объединение — эксклюзивный клуб, как бы возродив дни студенческого землячества. Их штаб-квартира расположилась в одном из бунгало отеля «Кэткарт» — это «гнездышко», которое стоило 200 долларов в день, досталось им бесплатно, включая обслуживание, так как одному из их мужей принадлежал немалый кус этой гостиницы, а другой был владельцем банка, державшего закладную. После того как был разработан регламент и избраны должностные лица, женщины стали присматривать себе какой-нибудь смысл существования, raison d'etre. Очень привлекательной казалась работа в больнице, поэтому бóльшую часть своих усилий на первоначальной стадии они посвятили переделке и функционированию магазина подарков при больнице Кэткарта.
Потом у сына одной из этих дам оказалась редкая мучительная болезнь, и он был помещен в Западную педиатрическую клинику — единственное место в Лос-Анджелесе, где лечили это заболевание. Ребенок выжил, но болезнь перешла в хроническую форму. Мать ушла из клуба, чтобы уделять больше времени сыну. Лас-Лабрадорас решили предложить свои добрые услуги Западной педиатрической.
В то время я работал в ее штате третий год, вел программу психосоциальной реабилитации для тяжелобольных детей и их родителей. Главный врач вызвал меня к себе в офис и предложил найти нишу для «этих девушек», говоря о проблемах финансирования гуманитарных наук и подчеркивая необходимость «контактировать с позитивными силами внутри общества».
В один из вторников мая я облачился в тройку и поехал в отель «Кэткарт». Там отведал вареных креветок на ломтиках поджаренного хлеба и сандвичей со срезанными корками, выпил слабого кофе и познакомился с «девушками».
Их возраст приближался к сорока, все они были жизнерадостны, привлекательны и неподдельно очаровательны, от них веяло чувством долга с примесью некоторого смущения. Шестидесятые были их студенческими годами, и хотя это в общем означало четыре года жизни без тревог и забот в Южнокалифорнийском или Аризонском университете, или в каком-то другом месте, еще не охваченном недовольством и враждебностью, дыхание бурного времени коснулось даже защищенных сеньорит. Они знали, что они сами, их мужья и дети, то, как они живут и будут продолжать жить, — все это являло образ Врага. Бастиона избранных, к штурму которого яростно призывали все эти немытые радикалы.
В то время я носил бороду и ездил на «додже-дарт», который балансировал на грани смерти. Несмотря на костюм и только что сделанную стрижку, я предполагал, что в их глазах я должен был выглядеть как воплощение Радикальной Опасности. Но они приняли меня тепло, с напряженным вниманием слушали мою послеобеденную лекцию, не отрывали глаз от экрана во время демонстрации слайдов — больные дети в палатах, операционные. Такой показ мы, штатные сотрудники, в самые черные минуты называли «слезодавильным дневным сеансом».
Под конец у них у всех глаза были на мокром месте. И они еще никогда не были так уверены, что хотят помочь.
Я решил, что лучшим применением их талантов была бы работа с семьями только что продиагностированных пациентов. Такие ассистенты-социопсихологи могли бы прорубаться сквозь бюрократическую волокиту, которую больницы плодили еще быстрее, чем долги. Еженедельные двухчасовые дежурства в форменной одежде, сшитой по их собственным моделям, улыбки и приветствия и сопровождение экскурсий по этой юдоли страданий. Работа внутри системы, с тем чтобы смягчить некоторые из наиболее жестких ее граней, но без погружения в глубины травмы и трагедии, в кровь и внутренности. Главврач счел эту идею замечательной.
Девушки тоже так считали. Я составил программу обучения. Лекции, списки литературы, обходы больницы, беседы, дискуссионные группы, ролевые занятия.
Они оказались отличными слушательницами курсов, вели подробные записи, делали умные замечания. Полушутя спрашивали, не собираюсь ли я их тестировать.
По прошествии трех недель они окончили курс обучения. Главврач преподнес им дипломы, перевязанные розовыми ленточками. За неделю перед тем, как должен был вступить в действие график дежурств, я получил письмо, написанное от руки на бумаге ледяного цвета.
ЛАС-ЛАБРАДОР
БУНГАЛО В, ОТЕЛЬ «КЭТКАРТ»
ПАСАДЕНА, КАЛИФОРНИЯ 91125
Дорогой доктор Делавэр!
От имени Сестер и себя лично я хочу поблагодарить Вас за то внимание, которое Вы нам оказывали на протяжении этих последних нескольких недель. Мы все единодушны в том, что очень много узнали и что этот опыт был нам весьма и весьма полезен.
Однако мы, к своему сожалению, не сможем участвовать в программе «Добро пожаловать», так как такое участие создает некоторые проблемы стратегического свойства для некоторых членов нашей общины. Мы надеемся, что это не причиняет Вам чрезмерных неудобств, и взамен своего участия в Вашей программе вносим пожертвование в Рождественский фонд Западной педиатрической клиники.
Желаем Вам всяческих благ и искренне благодарим за огромную работу, которую Вы ведете.
Искренне Ваша,
Президент Лас-Лабрадорас
Нэнси БраунЯ нашел домашний телефон миссис Браун в справочнике и позвонил на следующий день в восемь утра.
— О, здравствуйте, — сказала она. — Как поживаете?
— Ничего, Нэнси, держусь. Только что получил ваше письмо.
— Да. Мне очень жаль. Знаю, это выглядело ужасно, но мы просто не можем.
— Вы упомянули о каких-то проблемах стратегического свойства. Не могу ли я чем-нибудь помочь?
— Нет, я сожалею, но… Это никак не связано с вашей программой, доктор Делавэр. Просто ваше… окружение.
— Мое окружение?
— Больницы. Окружающая обстановка. Лос-Анджелес. Голливуд. Многих из нас буквально поразило, насколько все скатилось вниз. Некоторые девочки считают, что им просто слишком далеко ездить.
— Слишком далеко или слишком опасно?
— Слишком далеко и слишком опасно. Многие мужья тоже против этих поездок.
— Но у нас никогда не было с этим никаких проблем, Нэнси. Вы бы приезжали сюда в дневное время и пользовались специальной парковочной площадкой.
Молчание.
Я сказал:
— Пациенты ездят туда-сюда каждый день, и ничего не случается.
— Ну… вы знаете, как это бывает.
— Да, наверно, — сдался я. — Что ж. Всего хорошего.
— Я знаю, для вас это звучит глупо, доктор Делавэр. И, честно говоря, самой мне эта реакция кажется чрезмерной — я пробовала им это высказать. Но у нас в уставе записано, что мы в чем-то либо участвуем всей группой, либо не участвуем вообще. Мы проголосовали, доктор Делавэр, и вот что получилось в итоге. Приношу вам свои извинения, если мы создали для вас проблемы. И мы искренне надеемся, что больница примет наш дар — он от чистого сердца.
— Не сомневаюсь, что больница именно так и поступит.
— До свидания, доктор Делавэр. Желаю вам удачного дня.
* * *
Записки на хорошей бумаге, денежные откупные, телефонные отговорки. Наверно, это и есть сан-лабрадорский стиль.
Я думал об этом на всем пути до конца шоссе, потом на Арройо-Секо, потом когда повернул на восток по Калифорнийскому бульвару, мимо Калифорнийского технического. Затем быстрая серия петляний по тихим улицам пригорода, и передо мной возник бульвар Кэткарта, по которому я продолжил свой путь на восток, в дебри Сан-Лабрадора.
Святой. Покровитель сельских тружеников.
Канонизация, прошедшая мимо внимания Ватикана.
Даже само происхождение этого места уходит корнями в откупные.
Бывший когда-то частным владением Кэткарта, наследника династии, которой принадлежала железнодорожная компания Восточного побережья, Сан-Лабрадор имел вид города старой застройки, но на картах значился городом лишь последние пятьдесят лет.
Кэткарт приехал в Южную Калифорнию в начале века на разведку коммерческих возможностей для семьи. То, что он здесь увидел, ему понравилось, он начал скупать рельсовые пути и гостиницы в деловой части города, апельсиновые рощи, бобовые фермы и скотоводческие земли к востоку от Лос-Анджелеса и набрал себе феод площадью в четыре квадратных мили в предгорьях хребта Сан-Гэйбриел. Построив подобающий особняк, он окружил его садом мирового класса и назвал имение Сан-Лабрадор — такое небольшое самовозвеличение, задавшее работу епископальным языкам.
Потом, в середине Великой депрессии, он обнаружил, что его средства не безграничны. Оставив себе триста с небольшим акров, он поделил остальное на участки. И сдавал их в аренду другим богатым людям — магнатам немного помельче, чем он сам, которые были в состоянии содержать участки от двух до семи акров. Причем обставлял все сделки ограничительными условиями, которые гарантировали, что он будет доживать остаток жизни в ничем не омрачаемой гармонии с природой и вкушая сладкие плоды западной цивилизации.
Остаток жизни оказался у него небольшим — в 1937 году он умер от инфлюэнцы, оставив завещание, по которому его владения переходили к городу Сан-Лабрадору, если таковой будет существовать до истечения двух лет. Магнаты-арендаторы быстренько составили соответствующий документ и протолкнули его через окружной надзорный совет Лос-Анджелеса. Особняк и сад Кэткарта превратились в принадлежащие округу, но финансируемые частным образом музей и ботанической сад, которые никто не посещал, пока не построили шоссе.
В послевоенные годы землю поделили на еще более мелкие участки — по пол-акра — для быстро развивающегося класса людей свободных профессий. Но ограничительные условия не были сняты: здесь по-прежнему не разрешалось селиться ни цветным, ни выходцам с Востока, ни евреям, ни мексиканцам. Никаких многоквартирных домов. Никакого алкоголя в общественных местах. Никаких ночных клубов, театров или мест «низменных развлечений». Размещение торговых заведений было ограничено территорией в восемь кварталов вдоль бульвара Кэткарта, причем ни одно здание не должно было быть выше двух этажей, его архитектурный стиль неизменно выдерживался в духе испанского Возрождения, а чертежи представлялись на утверждение в муниципалитет.
Законы штата и федеральное законодательство впоследствии аннулировали эти расистские ограничения, но остались лазейки, позволяющие обойти закон, и Сан-Лабрадор сохранился белым, словно лилия. Прочие ограничения выдержали испытание временем и судебными тяжбами. Возможно, это объяснялось их солидным юридическим обоснованием. Или какую-то роль играло и то, что многие судьи и по крайней мере два окружных прокурора жили в Сан-Лабрадоре.
Каковы бы ни были причины, но иммунитет округа к переменам оставался действенным. Проезжая сейчас по Кэткарту, я не замечал, чтобы что-то изменилось с тех пор, как я был здесь последний раз. Когда же это было? Три года назад. Выставка Тернера в музее, прогулка по библиотеке и парку. Вместе с Робин…
Движение на шоссе было редкое, но очень неторопливое. Бульвар рассекала широкая разделительная полоса зелени. По южной стороне тянулся все тот же набор магазинов, уютно устроившихся в похожих на шкатулки для драгоценностей зданиях в стиле испанского Возрождения и казавшихся еще меньше по соседству с тронутыми красноватым оттенком ржавчины фисташковыми деревьями, которые посадил в те давние времена сам Кэткарт. Врачи-терапевты, стоматологи… множество ортодонтистов. Магазины одежды для обоих полов, предлагающие такие модели, что по сравнению с ними «Брукс бразерс» покажутся представителями «новой волны». Изобилие химчисток, цветочных магазинов, художников по интерьеру, банков, брокерских контор. Три магазина канцелярских товаров на два квартала — я вдруг понял, почему так много. Почти на каждой вывеске красуются «эсквайр», «лтд.», псевдовикторианские изыски. Негде поесть, негде попить, негде отдохнуть. И на каждом шагу указатели, направляющие бродячего туриста в сторону музея.
Латиноамериканец в синем муниципальном комбинезоне толкал перед собой по тротуару пылесос промышленной мощности. Редкие седовласые фигуры обходили его стороной. В остальном на улицах было пустынно.
Так видится высшему обществу решение проблем бегства из больших городов в пригородные поселки. Почти как на картинке. Подкачало только небо, тусклое и закопченное, затянувшее дымкой предгорья. Ибо деньги и связи ничего не могли поделать с географией: ветры с океана сдували сюда смог, и он, оказавшись в образуемой холмами ловушке, оставался здесь надолго. Воздух Сан-Лабрадора был непригоден для дыхания сто двадцать дней в году.
Следуя указаниям Мелиссы, я проехал шесть кварталов после торговой зоны, повернул налево в первом же разрыве разделительной полосы и выехал на Котсуолд-драйв, затененную кронами сосен прямую дорогу, которая начала петлять и взбираться в гору уже почти через километр, туда, где царили прохладная тень и безмолвие, как после ядерной войны: характерный и обычный для Лос-Анджелеса дефицит человеческого присутствия был здесь особенно заметен.
Это из-за автомобилей — их просто не было. Ни одной машины у обочины. Надпись на табличках «ПАРКОВКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ» проводится в жизнь с помощью полицейского сапога и грабительских штрафов. Возвышаясь над пустынными улицами за покатыми лужайками, стояли большие дома с черепичными крышами. По мере подъема дома становились больше.
На вершине холма дорога разделялась: к западу она вела в Эссекс-Ридж, к востоку — в Сассекс-Ноул. Здесь никаких домов не было видно, только зелеными стенами высотой в два этажа росли мирты, можжевельник и фотинии с красными ягодами, а дальше за ними — лес из дуба, гингко и амбрового дерева.
Я сбросил скорость и ехал потихоньку, пока наконец не увидел того, что искал. Сосновые ворота ручной резьбы на толстых столбах, крытых патинированным железом — сосна того твердого, вощеного сорта, который видишь в буддийских храмах и на стойках восточных баров. К столбам примыкали чугунная ограда и почти четырехметровая живая изгородь. Цифра 1 стояла на левой створке ворот, а 0 на правой. Слева от цифры 1 располагались фотоэлемент и переговорное устройство.
Я остановил машину, высунул из окна руку и нажал кнопку устройства.
Из динамика послышался голос Мелиссы:
— Это вы, доктор Делавэр?
— Привет, Мелисса.
— Секундочку.
Послышался скрип и скрежет, и ворота открылись внутрь. Я поехал вверх по крутой каменной дорожке, которую только что полили, и в воздухе еще висела водяная пыль. Мимо посаженных в правильном порядке ладаноносных кедров и пустующей сторожки, в которой могла бы разместиться пара семей из среднего класса. Потом еще множество деревьев — целая роща монтеррейских сосен, за которой не видно было неба и которая тянулась несколько мгновений, прежде чем уступить место родственникам помельче: искривленным, похожим на карликовые деревья бонсай кипарисам и горному кизилу в окружении свободно растущих групп багряных рододендронов, белой и розовой японской камелии.
Темная дорожка. Тишина казалась угнетающей. Я подумал о Джине Дикинсон, о том, как она идет сюда, к воротам, совсем одна. По-новому взглянул на ее несчастье. И оценил ее прогресс.
Деревья наконец кончились, и взору открылась лужайка размерами с футбольное поле — трава на ней так великолепно выглядела, что могла показаться свежеуложенным дерном, — по краю ее были разбиты круглые клумбы бегонии и жасмина. В дальнем западном конце, среди кипарисов я увидел вспышки света. Движение, блеск металла. Двое — нет, трое мужчин — в одежде цвета хаки, но слишком далеко, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. Сыновья Хернандеса? Теперь мне стало понятно, зачем ему нужно было пятеро.
Садовники обрабатывали растения ручными садовыми ножницами, приглушенное лязганье которых почти не нарушало тишину. Никаких пневматических или моторных инструментов. Еще одно ограничительное условие? Или правила этого дома?
Дорожка окончилась безупречным полукругом, дугу которого украшали две финиковые пальмы. Между узловатыми стволами пальм — два пролета лестницы с широкими ступенями из букейканьонского камня и увитой глициниями каменной балюстрадой вели к дому; он был персикового цвета, трехэтажный, шириной с целый квартал.
То, что могло быть просто монолитно-грубым, было всего-навсего монументальным. И удивительно приятным для глаза, ибо визуальный полет направлялся причудливыми поворотами архитектурного карандаша. Тонкое смещение углов и подъемов, богатство деталей. Высокие освинцованные арочные окна защищены коваными решетками в неомавританском стиле, красивого ярко-зеленого цвета. Балконы, веранды, карнизы, обломы и средники вырезаны из известняка кофейного цвета. На восточном конце — известняковая колоннада. Испанская черепица уложена с мозаичной точностью. Вставки из цветного стекла в виде пятилистников размещены с полным пренебрежением к синхронии, но с безошибочным чувством гармонии.
Но сами размеры дома — и его безлюдье — производили тягостное и печальное впечатление. Словно пустой музей. Неплохо посетить такое место, но я бы не пожелал себе жить здесь, страдая фобией.
Я припарковался и вышел из машины. К клацанью садовых ножниц теперь добавились птичьи крики и шелест ветерка в листьях. Я поднялся по ступеням, безуспешно пытаясь представить себе, каково было бы расти здесь, будучи единственным ребенком.
Вход был достаточно велик, чтобы туда мог въехать автофургон. Двустворчатая дверь из лакированного дуба тоже отделана патинированным железом; каждая створка разделена на шесть выпуклых панелей. На панелях были вырезаны сценки из сельской жизни, живо напомнившие мне школьного Чосера. Я с интересом рассматривал их, нажимая кнопку звонка.
Два раза пропел баритоном дверной колокольчик, потом открылась первая створка и появилась Мелисса — в белой блузке с застежкой донизу, выглаженных синих джинсах и белых теннисных туфлях; она казалась еще более миниатюрной, чем раньше. Кукла в кукольном домике, построенном в слишком крупном масштабе.
Она пожала плечами и сказала:
— Ничего себе домик, правда?
— Очень красивый.
Она улыбнулась, успокоенная.
— Его проектировал мой отец. Он был архитектором.
Это самое большое высказывание об отце, какое я от нее услышал за девять лет. Интересно, что еще выплывет теперь, когда я пришел в дом.
Она мимолетно коснулась моего локтя и отступила.
— Входите же, — сказала она. — Я вам покажу дом.
Дом представлял собой огромное пространство, битком набитое сокровищами. Холл таких размеров, что можно играть в крокет, а в дальнем конце его красовалась изогнутая лестница из зеленого мрамора. За лестницей анфилада похожих на громадные пещеры комнат — специально построенные выставочные галереи, величественные и безмолвные, неотличимые друг от друга по назначению. Соборные потолки и потолки с кессонами, зеркально отполированные панели, гобелены, окна верхнего света из цветного стекла, восточные и обюссоновские ковры на полах из инкрустированного мрамора, расписанной вручную керамической плитки и французского орехового паркета. Столько блеска и роскоши, что моя нервная система не выдержала нагрузки и начала кружиться голова.
Я вспомнил, что однажды мне уже приходилось испытывать нечто подобное. Я был тогда студентом второго курса и совершал одиночный вояж по Европе, имея льготный железнодорожный билет второго класса и тратя четыре доллара в день. Вот я в Ватикане. Смотрю, вытаращив глаза, на покрытые золотом стены, на эти сокровища, собранные во имя Господа. Потом постепенно отхожу в сторону и начинаю наблюдать за другими туристами и итальянскими крестьянами, приехавшими из южных деревень, они тоже глазеют, разинув рты. Перед выходом из очередного зала крестьяне обязательно опускают монеты в ящик для пожертвований; такие ящики поставлены там у каждой двери.
Мелисса рассказывала и показывала, играя роль экскурсовода в своем собственном доме. Мы находились в заставленной книгами пятистенной комнате без окон. Она показала на подсвеченную картину, висевшую над каминной полкой.
— А это Гойя. Отец купил картину в Испании, когда искусство было гораздо более доступным. Его не интересовало то, что было в моде, — эта вещь считалась очень малозначительным произведением Гойи до совсем недавнего времени, еще каких-то нескольких лет назад; вообще портретная живопись, как слишком декоративная, была declasse[3]. А теперь аукционные фирмы все время пишут нам письма. У отца хватило прозорливости съездить в Англию и привести оттуда целые коробки прерафаэлитов, когда все другие считали, что это просто китч. То же самое и с прозрачной, как дымка, живописью пятидесятых, когда эксперты отмахивались от нее, считая несерьезной.
— А ты владеешь материалом, — сказал я.
Она порозовела.
— Меня учили.
— Джейкоб?
Она кивнула и посмотрела в сторону.
— Ладно. Наверно, на сегодня вы видели достаточно.
Повернувшись, она пошла к выходу из комнаты.
— А сама ты интересуешься искусством? — спросил я.
— Я не очень хорошо в нем разбираюсь — не так, как отец или Джейкоб. Мне действительно нравятся красивые вещи. Если это никому не вредит.
— Что ты хочешь этим сказать?
Она нахмурилась. Мы вышли из комнаты с книгами, прошли мимо открытой двери в еще один огромный зал с расписанными вручную ореховыми балками на потолке и высокими французскими дверями в противоположной стене. За стеклом была видна еще одна лужайка, еще лес и цветы, выложенные камнем тропинки, статуи, аметистового цвета плавательный бассейн, опущенная площадка под навесом из вьющихся растений, огороженная темно-зеленым теннисным брезентом. Издалека доносились гулкие удары отскакивающего мяча.
Метрах в шестидесяти в обратном направлении, левее корта, находилось длинное, низкое здание персикового цвета, напоминавшее конюшню: с десяток деревянных дверей, некоторые из них были приоткрыты, а перед ними широкий, мощенный булыжником двор, полный сверкающих, длинноносых старинных автомобилей. Булыжная мостовая была усеяна амебообразными лужицами воды. Склонившись над одним из автомобилей, кто-то в сером комбинезоне с куском замши в руке полировал горящее рубиновым цветом крыло этого великолепного образчика автомобилестроения. По раструбам воздуходувки я догадался, что это был «дюзенберг», и спросил Мелиссу, так ли это.
— Да, — ответила она, — это он и есть. — Смотря прямо перед собой, она повела меня обратно, через наполненные произведениями искусства пещеры, в переднюю часть дома.
— Я не знаю, — вдруг сказала она. — Просто кажется, что очень многое бывает сначала прекрасным, а потом оказывается отвратительным. Как будто красота может быть проклятьем.
Я спросил:
— Макклоски?
Она сунула руки в карманы джинсов и энергично кивнула.
— Я много о нем думаю в последнее время.
— Больше, чем раньше?
— Намного больше. После нашего разговора. — Она остановилась, повернулась ко мне, часто мигая.
— Зачем ему было возвращаться, доктор Делавэр? Что ему надо?
— Может быть, ничего не надо, Мелисса. Может быть, это все ровным счетом ничего не значит. И выяснить это лучше моего друга не сможет никто.
— Надеюсь, что это так, — сказала она. — Я правда надеюсь. Когда он сможет начать?
— Я устрою, чтобы он позвонил тебе как можно скорее. Его зовут Майло Стерджис.
— Хорошее имя, — сказала она. — Надежное.
— Он надежный парень.
Мы пошли дальше. Крупная полная женщина в белом форменном платье полировала столешницу, держа в одной руке метелку из перьев, а в другой тряпку. Открытая жестянка с полировальной пастой стояла у нее возле колена. Она слегка повернула лицо в нашу сторону, и наши глаза встретились. Мадлен. Хотя у нее прибавилось седины и морщин, она выглядела все еще сильной. Узнавание подтянуло ее лицо; потом она повернулась ко мне спиной и возобновила работу.
Мелисса и я вернулись в холл. Она направилась к зеленой лестнице, и, когда коснулась поручня, я спросил:
— Если говорить о Макклоски, ты волнуешься и за собственную безопасность?
— За свою безопасность? — удивилась она, поставив ногу на первую ступеньку. — А почему я должна за нее волноваться?
— Просто так. Ты только что говорила, что красота может стать проклятьем. Может, ты чувствуешь себя обремененной или в опасности из-за своей внешности?
— Я? — Она засмеялась слишком быстро и слишком громко. — Идемте же, доктор Ди. Нам наверх. Я покажу вам, что такое красота.
10
Верхняя площадка лестницы оказалась двухметровой розеткой из черного мрамора с инкрустацией в виде солнца с лучами, выполненной в синих и желтых тонах. У стен стояла мебель во французском провинциальном стиле — пузатая, на гнутых ножках, почти до неприличия украшенная инкрустацией маркетри. Картины эпохи Ренессанса сентиментальной школы — херувимы, арфы, религиозный экстаз — конкурировали с ворсистыми обоями цвета старого портвейна. От площадки расходились веером три коридора. Еще две женщины в белом пылесосили правый. Остальные два были темны и пусты. Скорее похоже на гостиницу, чем на музей. Печальная, бесцельная атмосфера курорта в мертвый сезон. Мелисса повернула в средний коридор и провела меня мимо пяти белых филеночных дверей, украшенных черными с золотом ручками из французской эмали.
У шестой она остановилась и постучала.
Голос изнутри произнес: «Да?»
Мелисса сказала:
— Пришел доктор Делавэр, — и открыла дверь.
Я был готов к новой мегадозе великолепия, а оказался в небольшой, простой комнате — в гостином уголке не более четырех метров в длину и в ширину, окрашенном в темно-серый голубиный цвет и освещенном единственным светильником из молочного стекла на потолке.
Четверть задней стены занимала белая дверь. Другие стены были голыми, если не считать единственной литографии: сцена с изображением матери и ребенка в мягких тонах, которая не могла быть ничем иным, кроме как работой Кассатт. Литография располагалась точно над центром обтянутого розовым с серой отделкой двойного сиденья. Сосновый кофейный столик и два сосновых стула создавали уголок для беседы. На столике кофейный сервиз твердого английского фарфора. На сиденье женщина.
Она встала и сказала:
— Здравствуйте, доктор Делавэр. Я Джина Рэмп.
Мягкий голос.
Она пошла мне навстречу, и ее походка представляла собой странное смешение грации и неуклюжести. Вся неуклюжесть была сосредоточена над шеей — она держала голову поднятой неестественно высоко и склоненной на одну сторону, словно отшатываясь от удара.
— Рад познакомиться с вами, миссис Рэмп.
Она взяла мою руку, быстро и несильно сжала ее и тут же отпустила.
Она была высокого роста — по крайней мере сантиметров на двадцать выше дочери — и все еще стройна, как манекенщица; на ней было платье до колен, с длинными рукавами, из блестящего серого хлопка. Застегнуто спереди до самой шеи. Накладные карманы. Серые сандалии на плоской подошве. Простое золотое обручальное кольцо на левой руке. В ушах серьги в виде золотых шариков. Больше никаких украшений. Никакого запаха духов.
Волосы светлые, с первыми проблесками седины. Они у нее были коротко подстрижены, прямые, с начесанной на лоб пушистой челкой. Вид мальчишеский. Почти аскетический.
Овал ее бледного лица словно был создан для кинокамеры. Четко очерченный прямой нос, твердый подбородок, широко расставленные серо-голубые с зелеными крапинками глаза. Пухлогубый шарм старой студийной фотографии уступил место чему-то более зрелому. Более спокойному. Чуточку размылись контуры, слегка расслабились швы. Лучики от улыбок, морщинки на лбу, намек на обвисание в том месте, где губы соединяются со щеками.
Сорок три года, как я узнал из старой газетной вырезки, она и выглядела на них ни на день не моложе. Но возраст смягчил ее красоту. Каким-то непостижимым образом подчеркнул ее.
Она повернулась к дочери и улыбнулась. Потом почти ритуально наклонила голову, демонстрируя мне левую сторону своего лица. Туго натянутая кожа, белая, словно кость, и стеклянно-гладкая. Слишком гладкая — словно нездоровый глянец испарины при лихорадке. Линии челюсти острее, чем можно было ожидать. Чуть заметнее проступают кости лица, словно здесь удален подкожный слой мышц и заменен чем-то искусственным. Ее левый глаз слегка, еле заметно провисал, а кожу под ним покрывала густая сеть белых нитевидных шрамов. Шрамов, которые казались плавающими сразу под поверхностью ее кожи.
На шее, непосредственно под челюстью, видны были три красноватые полосы — словно кто-то сильно ударил ее и следы пальцев остались. Левая сторона ее рта была противоестественно прямой, резко контрастируя с усталым глазом и придавая ее улыбке некоторую однобокость, которая создавала впечатление неуместной иронии.
Она снова повернула голову. Свет упал на кожу лица под другим углом, и она приобрела мраморный цвет яйца, которое окунули в чай.
Гештальт, нарушенный порядок. Поруганная красота.
Она обратилась к Мелиссе:
— Спасибо, родная, — и улыбнулась кривоватой улыбкой.
Левая сторона лица в улыбке почти не участвовала.
Тут до меня дошло, что на какой-то момент я забыл о присутствии Мелиссы. Я повернулся, спеша улыбнуться ей. Она пристально смотрела на нас с жестким, настороженным выражением на лице. Потом вдруг растянула уголки губ и заставила себя присоединиться к этому празднику улыбок.
Ее мать сказала:
— Иди-ка сюда, малышка. — И шагнула к ней, протягивая руки. Прижала Мелиссу к себе. Пользуясь своим преимуществом в росте, стала покачивать ее, гладить ее длинные волосы.
Мелисса отступила назад и посмотрела на меня с раскрасневшимся лицом.
Джина Рэмп продолжала:
— Со мной будет все в порядке, малышка. Ты беги.
Мелисса проговорила срывающимся голосом:
— Желаю приятной беседы. — Оглянувшись еще раз, она вышла из комнаты.
Дверь она оставила открытой. Джина Рэмп подошла и закрыла ее.
— Прошу вас, усаживайтесь поудобнее, доктор, — сказала она, снова наклонив голову так, чтобы видна была только здоровая сторона лица. — Хотите кофе? — Жест в сторону фарфорового сервиза.
— Нет, благодарю вас. — Я сел на один из стульев. Она вернулась на прежнее место. Села на самый край, держа спину прямо, скрестила ноги в щиколотках, руки положила на колени — точно в такой же позе вчера у меня дома сидела Мелисса.
— Ну вот, — сказала она и опять улыбнулась. Наклонилась вперед, чтобы поправить одну из чашек на столе, и занималась этим дольше, чем было нужно.
Я поспешил нарушить тишину.
— Приятно видеть вас, миссис Рэмп.
Выражение огорчения вступило в борьбу с улыбкой и победило.
— Наконец-то, да?
Прежде чем я успел ответить, она сказала:
— Я не такой уж невыносимый человек, доктор Делавэр.
— Конечно, нет, — подхватил я. Получилось слишком резко. Она вздрогнула и посмотрела на меня долгим взглядом. Что-то такое в ней — в этом доме — выбивало меня из колеи. Я откинулся на спинку стула и прикусил язык. Она переменила ноги и повернула голову, словно в ответ на указание режиссера. Теперь я видел только ее правый профиль. Она сидела напряженная и настороженно-вежливая, словно Первая Леди во время телеинтервью в прямом эфире.
Я сказал:
— Я пришел сюда не для того, чтобы судить вас. Нужно поговорить об отъезде Мелиссы в университет. Вот и все.
Она плотнее сжала губы и покачала головой.
— Вы так много помогли ей. Вопреки мне.
— Нет, — возразил я. — Благодаря вам.
Она закрыла глаза, втянула в себя воздух сквозь сжатые зубы и впилась ногтями в колени под серым платьем.
— Не беспокойтесь, доктор Делавэр. Я прошла долгий путь. Я могу выдержать и суровую правду.
— Правда, миссис Рэмп, состоит в том, что если Мелисса выросла в замечательную девушку, то это произошло в значительной мере благодаря тому, что дома ее очень любили и поддерживали.
Она открыла глаза и медленно покачала головой.
— Вы добры ко мне, но правда состоит в том, что, даже зная, что не выполняю свой материнский долг по отношению к ней, я не могла вытащить себя из… из этого. Кажется таким слабоволием, но…
— Я знаю, — перебил я. — Состояние тревоги может парализовать человека не хуже, чем полиомиелит.
— Состояние тревоги, — повторила она. — Как мягко сказано. Это больше похоже на смерть. Которая приходит снова и снова. Как будто живешь на улице Смерти, никогда не зная… — Она повернулась, и мелькнула полоска поврежденной плоти. — Я чувствовала себя, словно в мышеловке. Такой беспомощной, несостоятельной. И продолжала ничего не делать для нее.
Я молча слушал.
Она продолжала:
— Вы знаете, что за тринадцать лет я не была ни на одном родительском собрании? Не аплодировала школьным спектаклям, не сопровождала класс на экскурсии и прогулки, не встречалась с матерями тех немногих детей, с которыми она играла. Я не была ей матерью, доктор Делавэр. В истинном смысле этого слова. Она должна была за это на меня обидеться. Может, даже и возненавидеть.
— Она что, дала вам это понять когда-нибудь?
— Нет, что вы! Мелисса добрая девочка, да и чрезмерная почтительность мешала ей назвать вещи своими именами. Хотя я и пыталась вызвать ее на это.
Она снова наклонилась вперед.
— Доктор Делавэр, она напускает на себя храбрый вид — ей кажется, что она всегда должна быть взрослой, всегда вести себя, как подобает настоящей маленькой леди. И все это из-за меня, из-за моей слабости. — Она коснулась больной стороны лица. — Я заставила ее повзрослеть раньше времени, я украла у нее детство. Поэтому знаю, что обиды и гнева не может не быть. Они есть — закупорены глубоко внутри.
Я сказал:
— Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что вы дали ей идеальное воспитание. Или что ваши страхи не передавались ей. Они передавались, влияли на нее. Но все это время — судя по тому, что я видел, когда лечил ее, — она воспринимала вас как близкое и любящее существо, питающее ее любовью без всяких условий. Она и сейчас воспринимает вас так же.
Она наклонила голову, зажала ее в ладонях — словно похвала причиняла боль.
Я продолжал:
— Когда она мочилась вам на простыни, вы не сердились, а баюкали и утешали ее. Для ребенка это значит гораздо больше, чем родительское собрание.
Она подняла глаза и пристально посмотрела на меня. Обвисание лицевых тканей теперь стало заметнее. Изменив положение головы, она переключилась на вид в профиль. Улыбнулась.
— Я теперь вижу, в чем польза вашего подхода для нее, — сказала она. — Вы выдвигаете свою точку зрения с… силой, с которой трудно спорить.
— Нам с вами есть необходимость спорить?
Она закусила губу. Одной рукой опять быстро прикоснулась к изуродованной стороне лица.
— Нет. Конечно, нет. Просто я в последнее время отрабатываю… честность. Стараюсь видеть себя такой, какая я на самом деле. Это часть моего лечения. Но вы правы. Речь сейчас не обо мне. О Мелиссе. Что я могу сделать, чтобы помочь ей?
— Уверен, вам известно, какое двойственное чувство вызывает у Мелиссы вопрос об учебе в университете, миссис Рэмп. В данный момент оно выражается у нее в том, что она беспокоится за вас. Беспокоится, что если бросит вас на этой стадии лечения, то может свестись на нет весь достигнутый вами прогресс. Поэтому важно, чтобы она услышала от вас — совершенно недвусмысленно, — что с вами будет все в порядке. Что и без нее вы будете продолжать делать успехи. Что вы хотите, чтобы она уехала. Если вы действительно этого хотите.
— Доктор Делавэр, — сказала она, глядя мне в лицо, — конечно же, я этого хочу. И я ей уже говорила это. Я ей это говорила с тех пор, как узнала, что ее приняли. Я вне себя от радости за нее — это такой великолепный шанс. Она должна поехать!
Ее пыл застал меня врасплох.
— Я хочу сказать, — продолжала она, — что, как мне кажется, этот период является переломным для Мелиссы. Вырваться отсюда. Начать новую жизнь. Конечно, мне будет ее не хватать — очень. Но я наконец достигла такой стадии, что могу думать о ней так, как и должна была с самого начала. Как о моем ребенке. Я продвинулась чрезвычайно далеко, доктор Делавэр. Я готова сделать некоторые поистине гигантские шаги. Посмотреть на жизнь под другим углом зрения. Но я не могу убедить в этом Мелиссу. Знаю, что она говорит правильные слова, но своего поведения она не изменила.
— А чего бы вам хотелось?
— Она чересчур опекает меня. Продолжает наблюдать. Урсула — доктор Каннингэм-Гэбни — пробовала говорить с ней на эту тему, но Мелисса уклоняется от разговоров с ней. Кажется, у них межличностный конфликт. Когда я сама пытаюсь сказать ей, как хорошо идут у меня дела, она улыбается, гладит меня по плечу, говорит «Здорово, мам» — и уходит. Не подумайте, что я ее осуждаю. Ведь я сама столько времени позволяла ей играть роль родительницы. Теперь расплачиваюсь за это.
Она опять опустила глаза, подперла голову рукой и долго так сидела.
— Больше четырех недель у меня не было ни одного приступа, доктор Делавэр. Я вижу мир впервые за очень долгое время и чувствую, что могу с этим справиться. Словно я заново родилась. Я не хочу, чтобы Мелисса себя ограничивала из-за меня. Что я могу сказать, чтобы убедить ее?
— Похоже, вы говорите как раз то, что нужно. Просто, может быть, она еще не готова это услышать.
— Я не хочу вот так выйти и заявить, что не нуждаюсь в ней, — разве я могу когда-нибудь так ее обидеть? Да это и неправда. Она мне очень нужна. Так, как любой матери нужна любая дочь. Я хочу, чтобы мы всегда были близки друг другу И в моих словах нет ничего такого, что можно было бы истолковать двояко, поверьте. Мы с доктором Каннингэм-Гэбни работали над этим. Четкая формулировка того, что хочешь сообщить. Мисси просто отказывается слушать.
Я сказал:
— Часть проблемы состоит в том, что в ее внутреннем конфликте есть элементы, которые не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашему прогрессу. Любая восемнадцатилетняя девушка будет испытывать волнение, впервые покидая стены родного дома. Та жизнь, которую Мелисса вела до сих пор — сложившиеся между вами отношения, размеры этого дома, изоляция, — делает для нее отъезд еще страшнее, чем для среднего первокурсника. Фокусируясь на вас, она избегает необходимости разбираться с собственными страхами.
— Этот дом, — сказала она, разводя руки в стороны — Какой-то монстр, не правда ли? Артур коллекционировал вещи, вот и построил себе музей.
Это прозвучало с намеком на горечь. И она сразу же попыталась замаскировать его.
— Конечно, он это сделал не ради собственной персоны — не такой человек был Артур. Он поклонялся красоте. Украшал свой мир. И действительно обладал утонченным вкусом. У меня нет чутья на веши — я могу понять, что картина хорошая, если ее поставить передо мной, но никогда не смогла бы заниматься накопительством — это просто не в моем характере.
— Вам никогда не приходила в голову мысль о переезде?
Она слабо улыбнулась.
— Мне приходит в голову множество мыслей, доктор Делавэр. Когда дверь открыта, то очень трудно не перешагнуть через порог. Но мы — доктор Каннингэм-Гэбни и я — работаем вместе, чтобы сдерживать мои порывы, не давать мне забегать вперед. Мне предстоит еще долгий путь. И даже если бы я была готова бросить все и отправиться бродить по миру, я никогда бы не поступила так с Мелиссой — не выбила бы всякую опору у нее из-под ног.
Она потрогала фарфоровый чайник.
— Остыл. Вы правда не хотите, чтобы нам снизу принесли свежего? Или что-нибудь перекусить — как насчет ленча?
Я сказал:
— Я правда ничего не хочу, но все равно спасибо.
— Вы говорили, что, опекая меня, она уходит таким образом от собственных проблем. Если это так, то как же быть?
— Она будет осознавать улучшение вашего состояния естественным путем, постепенно, по мере того, как вы будете продвигаться все дальше и дальше вперед. По правде говоря, вам, может быть, и не удастся уговорить ее поехать в Гарвард до истечения срока подачи заявлений.
Она нахмурилась.
Я продолжал:
— Мне кажется, ситуацию осложняет и кое-что еще — ревность.
— Да, я знаю, — сказала она. — Урсула говорила мне, как она ревнует.
— У Мелиссы очень много причин для ревности, миссис Рэмп. За короткое время на нее обрушилась масса перемен, помимо вашего успешного лечения: смерть Джейкоба Датчи, ваше второе замужество. — Возвращение сумасшедшего, подумал я про себя. — Для нее ситуация усугубляется еще и тем, что она ставит себе в заслугу — или в вину — то, что инициатором большой части этих перемен была она сама. Она уговорила вас согласиться на лечение, она же познакомила вас с вашим мужем.
— Я знаю, — согласилась она. — И это правда. Это она заставила меня лечиться. Пилила меня до тех пор пока не добилась своего, да благословит ее Бог. И лечение помогло мне проделать окошко у себя в камере — иногда я чувствую себя такой идиоткой, что не сделала этого раньше, упустила столько лет… — Неожиданно она изменила позу, повернувшись ко мне всем лицом. Как бы выставляя его напоказ.
О своем втором замужестве она промолчала. Я не настаивал.
Она вдруг встала, сжала кулак, поднесла его к лицу и уставилась на него.
— Я должна как-то убедить ее, должна. — От напряжения изуродованная сторона ее лица побелела, опять стала похожей на мрамор, красные полосы на шее побледнели. — Я ведь ее мать, в конце концов!
Молчание. Отдаленное жужжание пылесоса.
Я сказал:
— То, что вы говорите сейчас, звучит довольно убедительно. Почему бы вам не позвать ее и не сказать ей этого?
Она подумала. Опустила кулак, но не разжала его.
— Да, — ответила она. — Хорошо. Я согласна. Давайте так и сделаем.
* * *
Она извинилась, открыла дверь в задней стене и скрылась в соседней комнате. Я услышал приглушенные шаги, звук ее голоса, встал и заглянул туда.
Она сидела на краю кровати под пологом в огромной кремовой спальне, где потолок был украшен росписью. Роспись изображала куртизанок в Версале, наслаждающихся жизнью перед потопом.
Она сидела, слегка согнувшись, больная сторона лица ничем не защищена, и прижимала к губам трубку белого с золотом телефона. Ее ноги стояли на темно-фиолетовом ковре. Кровать была застлана стеганым атласным покрывалом, телефон помещался на ночном столике в китайском стиле. Высокие окна с двух сторон обрамляли кровать — прозрачное стекло под сборчатыми занавесками с золотой бахромой. Зеркала в золотых рамах, масса кружев, тюля и картин в радостных тонах. Столько старинных французских вещей, что сама Мария-Антуанетта могла бы чувствовать себя здесь как дома. Она кивнула, сказала что-то и положила трубку на рычаг Я вернулся на свое место. Через минуту она вышла со словами:
— Она уже поднимается. Вы не возражаете, если мы поговорим здесь?
— Если не возражает Мелисса.
Она улыбнулась.
— Нет, она не будет возражать. Она вас очень любит. Видит в вас своего союзника.
Я сказал:
— А я и есть ее союзник.
— Конечно, — сказала она. — Мы все нуждаемся в союзниках, не правда ли?
* * *
Несколько минут спустя в коридоре послышались шаги. Джина встала, встретила Мелиссу в дверях, взяла ее за руку и втянула в комнату. Положив обе руки на плечи Мелиссы, она торжественно смотрела на нее, словно готовясь произнести благословение.
— Я твоя мать, Мелисса Энн. Я делала ошибки и плохо выполняла свой материнский долг, но все это не меняет того факта, что я — твоя мать, а ты — мое дитя.
Мелисса смотрела на нее вопросительно, потом резко повернула голову в мою сторону.
Я улыбнулся ей улыбкой, которая, я надеялся, была ободряющей, и перевел взгляд на ее мать. Мелисса последовала моему примеру.
Джина продолжала:
— Я знаю, что моя слабость возложила на тебя тяжкое бремя, малышка. Но все это скоро изменится. Все будет совсем иначе.
При слове «иначе» Мелисса напряглась.
Джина заметила это, притянула ее ближе, прижала к себе. Мелисса не сопротивлялась, но и не откликнулась на ее порыв.
— Я хочу, чтобы мы всегда были близки друг другу, малышка, но я так же хочу, чтобы каждая из нас жила и своей жизнью.
— Мы и живем так, мама.
— Нет, дорогая моя девочка, мы живем не так. Не совсем так. Мы любим друг друга и заботимся друг о друге. Ты самая лучшая дочь, какую любая мать может только пожелать себе. Но то, что нас с тобой связывает, слишком… запутанно. Нам надо это распутать. Развязать узлы.
Мелисса немного отстранилась и пристально посмотрела на мать.
— О чем ты говоришь?
— О том, что поездка на восток — это твой золотой шанс. Твое яблоко. Ты заслужила его. Я так горжусь тобой — тебя ждет впереди прекрасное будущее, и у тебя есть и ум, и талант, чтобы добиться успеха. Так что используй этот шанс — я настаиваю на этом.
Мелисса освободилась от объятий матери.
— Ты настаиваешь?
— Нет, я не пытаюсь… Я хочу сказать, малышка, что…
— А что, если я не хочу его использовать?
Это было сказано негромко, но неуступчиво. Обвинитель, готовящий почву для атаки.
Джина сказала:
— Просто я думаю, что ты должна поехать, Мелисса Энн. — Ее голос звучал уже не так убедительно.
Мелисса улыбнулась.
— Это замечательно, мама, но разве тебе не интересно, что думаю я?
Джина снова привлекла ее к себе и прижала к груди. Лицо Мелиссы ничего не выражало.
Джина сказала:
— Что думаешь ты — это очень важно, девочка, но я хотела бы убедиться в том, что ты уверена, на самом деле думаешь, что твое решение принято не под влиянием беспокойства за меня. Потому что у меня все хорошо, и я собираюсь сделать так, чтобы и впредь все было хорошо.
Мелисса снова посмотрела на нее снизу вверх. Ее широкая улыбка стала холодной. Джина отвела от нее глаза, не разжимая объятий.
Я сказал:
— Мелисса, твоя мама много думала над этим. Она уверена, что справится.
— Уверена?
— Да, уверена, — сказала Джина. Она повысила голос на пол-октавы. — И я ожидаю, что ты с уважением отнесешься к этому мнению.
— Я уважаю все твои мнения, мама. Но это не значит, что я должна вокруг них строить и свою жизнь.
Джина открыла и закрыла рот.
Мелисса взялась за руки матери и отцепила их от себя. Отступив назад, она продела большие пальцы в петли для ремня на своих джинсах.
Джина сказала:
— Прошу тебя, малышка.
— Я не малышка, мама. — Все еще с улыбкой.
— Нет. Ты не малышка. Конечно, ты не малышка. Прости, что я тебя так называю, — от старых привычек трудно отделаться. Об этом как раз и идет речь — об изменениях. Я работаю над тем, чтобы измениться, — ты ведь знаешь, как много я работаю, Мелисса. Это означает другую жизнь. Для всех нас. Я хочу, чтобы ты поехала в Бостон.
Мелисса с вызовом посмотрела на меня.
Я сказал:
— Говори с матерью, Мелисса.
Мелисса переключила внимание снова на Джину, потом опять на меня. Ее глаза сузились.
— Что здесь происходит?
Джина сказала:
— Ничего, ма… Ничего не происходит. Мы с доктором Делавэром очень хорошо побеседовали. Он помог мне еще лучше во всем разобраться. Я понимаю, почему он тебе нравится.
— Понимаешь?
Джина хотела ответить, но запнулась и остановилась.
Я пояснил:
— Мелисса, у вас в семье происходят очень важные изменения. Это трудно для всех. Твоя мама ищет правильный путь показать тебе, что у нее действительно все хорошо. Чтобы ты не чувствовала себя обязанной заботиться о ней.
— Да, — сказала Джина. — Именно так. У меня правда все хорошо, дорогая. Поезжай и живи своей жизнью. Принадлежи себе самой.
Мелисса не пошевельнулась. Ее улыбка исчезла. Она начала ломать руки.
— Похоже, взрослые уже решили, что лучше всего подходит для такой малютки, как я.
— Ну, что ты, дорогая, — сказала Джина. — Это совсем не так.
Я возразил:
— Никто ничего не решил. Самое важное — это чтобы вы обе продолжали разговаривать — держать каналы связи открытыми.
Джина подхватила:
— Конечно, мы так и сделаем. Мы это преодолеем, правда, девочка моя?
Протягивая руки, она сделала несколько шагов к дочери.
Мелисса попятилась от нее к двери и остановилась, ухватившись для опоры за дверную раму.
— Это здорово, — сказала она. — Просто здорово.
Ее глаза сверкали. Она показала на меня пальцем.
— От вас я этого никак не ожидала.
— Дорогая! — воскликнула Джина.
Я поднялся.
Мелисса затрясла головой и вытянула руки с выставленными вперед ладонями.
Я сказал:
— Мелисса…
— Разговор окончен. Нам не о чем больше говорить! Она содрогнулась от ярости и бросилась вон из комнаты.
Я высунул голову за дверь, увидел, как она бежит прочь по коридору — мелькают ноги, развеваются волосы.
Я подумал, не побежать ли за ней, но решил не делать этого и повернулся снова к Джине, пытаясь изобрести какое-нибудь глубокое высказывание.
Но она была не в состоянии меня слушать.
Ее лицо стало пепельно-серым, рукой она схватилась за грудь. Открытый рот ловил воздух. Тело начала бить дрожь.
Дрожь становилась все сильнее. Я кинулся к ней. Она попятилась от меня, спотыкаясь, качая головой, показывая, чтобы я не подходил ближе, в глазах у нее плескался ужас.
Сунув руку в карман платья, она стала шарить в нем и спустя очень долгое, как мне показалось, время вынула небольшой ингалятор из белого пластика в виде буквы L. Взяв короткий конец в рот, она закрыла глаза и попыталась плотно охватить его губами. Но зубы стучали по пластику, и ей трудно было удерживать ингалятор во рту. Мы встретились глазами, но ее взгляд был остекленевший, и я понял, что она была где-то далеко отсюда. Наконец ей удалось зажать мундштук в зубах и вдохнуть, нажав металлическую кнопку, расположенную сверху длинного конца аппарата.
Послышалось слабое шипение. Ее щеки оставались втянутыми. С изуродованной стороны больше. Она сжимала ингалятор одной рукой, а другой для устойчивости ухватилась за угол диванчика. Задержала дыхание на несколько секунд, потом вынула прибор изо рта и рухнула на сиденье.
Ее грудь бурно поднималась и опускалась. Я стоял там и наблюдал, как ритм дыхания замедлился, потом сел рядом с ней. Ее все еще колотила дрожь — она передавалась мне через подушки диванчика. Она дышала ртом, стараясь замедлить ритм дыхания. Закрыла, потом открыла глаза. Увидела меня и снова их закрыла. Ее лицо блестело от выступившей на нем испарины. Я коснулся ее руки. Она ответила слабым пожатием. Ее рука была холодной и влажной.
Мы сидели рядом, не двигаясь и не разговаривая. Она попыталась что-то сказать, но у нее ничего не вышло. Она откинула голову на спинку диванчика и стала смотреть в потолок. Ее глаза наполнились слезами.
— Это был несильный приступ, — сказала она слабым голосом. — Я с ним справилась.
— Да, я видел.
Ингалятор все еще был у нее в руке. Она посмотрела на него, потом опустила его опять в карман. Наклонившись вперед, она взяла мою руку и снова сжала ее. Выдохнула. Вдохнула. Выдохнула длинную, прохладную, пахнущую мятой струю воздуха.
Мы сидели так близко друг к другу, что мне было слышно, как бьется ее сердце. Но меня интересовали другие звуки — я прислушивался к шагам. Думал о Мелиссе — как она вернется и увидит нас в таком положении.
Когда ее рука расслабилась, я убрал свою. Еще через несколько минут ее дыхание пришло в норму.
Я спросил:
— Позвать кого-нибудь?
— Нет-нет, все в порядке. — Она похлопала себя по карману.
— Чем заряжен ингалятор?
— Мышечным релаксантом. Урсула и доктор Гэбни работали с ним. Он очень хорошо действует. Хотя и на короткий срок.
Ее лицо блестело от пота, прядки челки прилипли ко лбу. Больная сторона выглядела как надувной пластик.
Она выдохнула:
— Уф!
Я предложил:
— Принести вам воды?
— Нет-нет, я чувствую себя хорошо. Просто это выглядит страшнее, чем есть на самом деле. И приступ был слабый — впервые за… четыре недели… я…
— Это был трудный разговор.
Она приложила руку к губам.
— Мелисса!
Вскочив, она выбежала из комнаты.
Я поспешил за ней, следуя за ее тонким силуэтом по одному из темных коридоров к винтовой лестнице в задней части дома. Стараясь не отставать, чтобы не потеряться в огромном доме.
11
Эта лестница кончалась у короткого коридора прямо перед буфетной размерами с мою гостиную. Мы прошли через нее и оказались в кухне, по величине не уступавшей банкетному залу; стены здесь были выкрашены в цвет заварного крема, а пол выложен белой шестиугольной керамической плиткой. Две стены занимали холодильники и морозильники, разделочные столы; с чугунных скоб на потолке свисало множество медных горшков и кастрюль.
Никаких запахов готовящейся пищи. На одном из столов — блюдо с фруктами. Восьмиконфорочная плита промышленного вида была пуста.
Джина Рэмп вела меня дальше, мимо второй кухни меньшего размера, мимо комнаты, где хранилось столовое серебро, и облицованного панелями обеденного зала, в котором можно было бы принять целый съезд. Она смотрела то в одну сторону, то в другую и звала Мелиссу по имени.
Ответом было молчание.
Мы пошли обратно, повернули пару раз и оказались в комнате с расписанными потолочными балками. Через французские двери вошли двое мужчин в белых костюмах для тенниса, с ракетками в руках и перекинутыми через шею полотенцами. Полукружия пота выступали у них под мышками. Оба были крупные и хорошо сложенные.
Тому, что помоложе, на вид не было и тридцати. У него были густые спутанные волосы соломенного цвета, спускавшиеся ниже плеч. На длинном, худом лице доминировали узкие темные глаза и подбородок с такой глубокой ямкой, что в ней можно было спрятать бриллиант. Чтобы добиться такого загара, как у него, явно потребовалось не одно лето.
Второй выглядел лет на пятьдесят с небольшим. Плотного сложения, без признаков дряблости — пожизненный атлет, не теряющий формы. С тяжелой челюстью и голубыми глазами. Коротко подстриженные черные волосы, седые виски, седые усы, подстриженные точно по ширине рта. Здоровый румянец на лице, кое-где изборожденном морщинами. Человек с рекламы «Мальборо» в загородном клубе.
Он поднял одну бровь и сказал:
— Джина? Случилось что-нибудь? — Голос у него был сочный и звучный, из тех, что кажутся дружелюбными, даже если, по существу, это не так.
— Ты видел Мелиссу, Дон?
— Конечно, всего минуту назад. — Он перевел глаза на меня. — Что-нибудь случилось?
— Ты знаешь, где она сейчас, Дон?
— Она уехала с Ноэлем…
— С Ноэлем?
— Он занимался машинами, а она вылетела из дома, словно пушечное, ядро, что-то ему сказала, и они уехали. На «корвете». Что-нибудь не так, Джин?
— О Господи. — Джина бессильно поникла.
Человек с усами одной рукой обнял ее за плечи. Бросил на меня еще один изучающий взгляд.
— Что происходит?
Джина заставила себя улыбнуться и поправила волосы.
— Ничего, Дон. Просто… Это доктор Делавэр. Тот психолог, о котором я тебе говорила. Мы с ним попробовали поговорить с. Мелиссой об университете, а она расстроилась. Я уверена, что это пройдет.
Он взял ее за руку, сложил губы так, что его усы поднялись в середине, и опять поднял брови. Сильный и немногословный. Еще один из тех, кто рожден для кинокамеры…
Джина сказала:
— Доктор, это мой муж, Дональд Рэмп. Дон, доктор Алекс Делавэр.
— Рад познакомиться с вами. — Рэмп протянул крупную руку, и мы обменялись кратким рукопожатием. Молодой человек отошел в угол комнаты.
Рэмп сказал:
— Они не могли слишком далеко отъехать, Джин. Если хочешь, я могу поехать за ними и посмотреть, не удастся ли их вернуть.
Джина ответила:
— Нет, не надо, Дон. — Она коснулась его щеки. — Это издержки жизни с подростком в семье, дорогой. Ничего, я уверена, она скоро вернется, — может быть, они просто поехали заправиться.
Молодой человек рассматривал нефритовую вазу с таким напряженным увлечением, что оно вряд ли могло сойти за неподдельное. Он брал ее в руки, ставил на место, опять брал.
Джина повернулась к нему.
— Как идут сегодня дела, Тодд? — Ваза опустилась и осталась на месте.
— Прекрасно, миссис Рэмп. А у вас?
— Копошусь понемножку, Тодд. А как успехи у Дона сегодня?
Блондин улыбнулся ей так, будто рекламировал зубную пасту, и сказал:
— Движения у него есть. Теперь нужно только работать.
Рэмп со стоном потянулся.
— Эти старые кости бунтуют против работы. — Он повернулся ко мне. — Доктор, это Тодд Никвист. Мой тренер, инструктор по теннису и вообще Великий Инквизитор.
Никвист усмехнулся и одним пальцем коснулся своего виска.
— Доктор.
Рэмп сказал:
— Я не только страдаю, но еще и плачу за это.
Обязательные улыбки окружающих.
Рэмп посмотрел на жену.
— Ты уверена, что моя помощь не нужна, дорогая?
— Да, Дон. Мы просто подождем, они скоро должны будут вернуться. Ведь Ноэль еще не закончил?
Рэмп выглянул из дверей, посмотрел в сторону мощеного двора.
— Похоже, что нет. И «изотту», и «делахэя» пора полировать воском, а он пока еще только помыл.
— Ладно, — сказала Джина — Значит, скорее всего, они все-таки поехали заправляться. Они вернутся, и тогда мы с доктором Делавэром продолжим с того места, где остановились. А вы, мистер, отправляйтесь в душ. И ни о чем не беспокойтесь.
Напряженный голос. Они все держатся напряженно. Разговор выдавливается, словно фарш из мясорубки.
Натянутое молчание.
Я почувствовал себя так, будто случайно забрел в середину чужого диалога.
Джина предложила:
— Кто-нибудь хочет выпить?
Рэмп потрогал свою талию.
— Только не я. Я пошел в душ. Приятно было познакомиться, доктор. Спасибо за все.
Я ответил:
— Нет проблем. — Хотя и не совсем понял, за что он меня благодарит.
Он вытер лицо одним концом полотенца, подмигнул неизвестно кому и пошел было прочь. Но потом вдруг остановился, оглянулся через плечо на Никвиста.
— Продолжай в том же духе, Тодд. Увидимся в среду. Если обещаешь, что обойдется без пытки в тисках для пальцев.
— Будьте спокойны, мистер Р., — сказал Никвист, опять усмехнувшись. Потом обратился к Джине: — Я бы выпил пепси, миссис Р. Или что у вас есть, лишь бы было холодное и сладкое.
Рэмп все еще смотрел на него, словно раздумывая, не вернуться ли ему, потом удалился.
Никвист согнул и разогнул колени, вытянул шею, расчесал пальцами свою гриву и проверил натяжение сетки на ракетке.
Джина сказала:
— Скажу Мадлен, чтобы она приготовила вам что-нибудь.
Никвист воскликнул:
— Чудненько. — Но его улыбка пропала.
Оставив его стоять там, где он стоял, она повела меня в переднюю часть дома.
* * *
Мы сидели в мягких креслах в одной из «пещер», окруженные творениями гения и фантазии. Всякий не занятый искусством кусочек пространства был зеркальной поверхностью. Отражение превращало истинную перспективу в какую-то немыслимую шутку. Почти утонув в подушках, я чувствовал себя уменьшенным. Как Гулливер в Бробдингнаге.
Она покачала головой и сказала:
— Какое несчастье! Наверно, мне надо было вести разговор как-то иначе?
Я ответил:
— Вы все сделали правильно. Ей потребуется время, чтобы реадаптироваться.
— Но у нее нет столько времени. Надо будет в срок уведомить Гарвард.
— Как я уже говорил, миссис Рэмп, может оказаться нереальным ожидать, что она будет готова к какому-то произвольно назначенному сроку.
Она ничего не ответила на это.
Я продолжал:
— Допустим, она останется на один год здесь, наблюдая за тем, как улучшается ваше состояние. Привыкая к переменам. Она сможет перевестись в Гарвард, будучи и на втором курсе.
— Наверно, — сказала она. — Но я правда хочу, чтобы она ехала, — не из-за себя. — Она потрогала больную сторону лица. — Из-за нее самой. Ей необходимо выбраться. Из этого места. Это такое… это совсем особый мир.
Здесь у нее есть все, и самой не надо ничего делать. Это может нанести ей непоправимый вред.
— Похоже, вы боитесь, что если она не уедет сейчас, то не уедет никогда.
Она вздохнула.
— Несмотря на все это, — сказала она, обводя взглядом комнату, — на всю эту красоту, здесь может таиться зло. Дом без дверей. Поверьте мне, я знаю.
Это заставило меня вздрогнуть. Я думал, что она ничего не заметила, но она спросила.
— Что с вами?
— Фраза, которую вы только что произнесли, — дом без дверей. Когда я лечил Мелиссу, она часто рисовала дома без дверей и окон.
— О, — сказала она. — Боже мой. — Ее рука нащупала карман, в котором лежал ингалятор.
— Вы когда-нибудь говорили это в ее присутствии?
— Нет, не думаю — было бы ужасно, если говорила, да? Подсказала ей этот образ.
— Совсем не обязательно, — возразил я. Слушайте все, слушайте, грядет великий утешитель. — Это дало ей возможность иметь дело с конкретным образом. Когда она стала поправляться, то начала рисовать дома с дверями. Я сомневаюсь, что этот дом когда-нибудь станет длиннее тем, чем был для вас.
— Как вы можете быть в этом уверены?
— Я ни в чем не могу быть уверен, — мягко сказал я. — Просто я не считаю, что надо заранее исходить из того, что ваша тюрьма — это и ее тюрьма.
Несмотря на мягкость, это ранило ее.
— Да, конечно, вы правы — она личность, индивидуальность, и я не должна рассматривать ее как свое полное подобие. — Пауза. — Так вы думаете, ничего, если она будет жить здесь?
— Пока.
— Пока — это сколько?
— Столько, сколько ей будет нужно, чтобы свыкнуться с мыслью об отъезде. Судя по тому, что я видел девять лет назад, у нее очень хорошее чутье на протекание внутренних процессов.
Она ничего не сказала, устремив взгляд на трехметровые старинные часы, облицованные черепаховыми пластинками.
Я предположил:
— Может быть, они решили прокатиться?
— Ноэль не закончил работу, — возразила она. Как будто этим все было сказано.
Она встала, медленно прошлась по комнате, глядя себе под ноги. Я стал более внимательно рассматривать картины. Фламандцы, голландцы, итальянцы эпохи Возрождения. Картины, которые я, по идее, должен был бы определить. Но краски были ярче и свежее, чем на работах Старых мастеров, когда-либо виденных мной в музеях. Тут я вспомнил, что говорил мне Джейкоб Датчи об Артуре Дикинсоне с его страстью к реставрации. И понял, как сильно ощущалась в доме аура этого давно ушедшего из жизни человека.
Дом-памятник.
Мавзолей, родной мавзолей.
С противоположного конца комнаты она сказала:
— Мне ужасно неловко. Я ведь хотела поблагодарить вас. Сразу же, как только мы познакомились. За все, что вы сделали тогда, много лет назад, и за то, что делаете сейчас. Но из-за случившегося я забыла. Пожалуйста, простите меня. И примите мою благодарность, которая позорно запоздала.
Я ответил:
— Принято.
Она опять посмотрела на часы.
— Надеюсь, они скоро вернутся.
* * *
Они не вернулись.
Прошло полчаса — тридцать очень долгих минут, заполненных разговором о пустяках и ускоренным курсом фламандского искусства, который был прочитан хозяйкой дома с энтузиазмом робота. Все это время у меня в ушах звучал голос Датчи. Интересно, какой голос был у человека, который был его учителем?
Когда тема иссякла, она поднялась и сказала:
— Может быть, они действительно поехали прокатиться. Вам нет смысла дольше ждать. Простите, что отняла у вас столько времени.
С трудом выбравшись из засосавших меня подушек, я последовал за ней по пути, усеянном препятствиями в виде предметов мебели, который привел нас к парадным дверям.
Она открыла одну из них и спросила:
— Когда она вернется, должна ли я сразу продолжить наш разговор?
— Нет, я бы не форсировал события. Пусть ее поведение послужит вам ориентиром. Когда она будет готова к разговору, вы это поймете. Если захотите, чтобы я присутствовал при вашем следующем разговоре, и если это подойдет Мелиссе, то я в вашем распоряжении. Но может статься, что она сердита на меня. И считает, что я ее предал.
— Мне очень жаль, — сказала она. — Я не хотела испортить ваши отношения.
— Это поправимо, — отозвался я. — Важно то, что происходит между вами двоими.
Она кивнула. Похлопала себя по карману. Подошла ближе и коснулась моего лица — так, как прикасалась к лицу мужа. Дала мне возможность с близкого расстояния посмотреть на ее шрамы — похоже на белую парчу — и поцеловала меня в щеку.
* * *
Опять на шоссе. Опять на планете Земля.
Сидя в пробке на пути к центральной части города, я слушал группу «Джипси кингз» и старался не думать о том, испортил я дело или нет. Но все равно думал об этом и пришел к выводу, что сделал лучшее из возможного.
Приехав домой, я позвонил Майло. Он поднял трубку и проворчал: «Да?»
— Ну и ну! Вот так дружеское приветствие!
— Зато отпугивает всяких подонков, которые пытаются вешать лапшу на уши и что-то вынюхивают. Что слышно?
— Ты готов приступить к работе по выяснению подноготной этого бывшего заключенного?
— Да. Я думал об этом и решил, что пятьдесят в час плюс расходы будет вполне приемлемо. Как на это посмотрят клиенты?
— У меня еще не было возможности обсудить финансовые детали. Но я бы на твоем месте не беспокоился — недостатка в средствах у них нет. И клиентка говорит, что имеет полный доступ к большим суммам.
— А что ей могло бы помешать?
— Ей только восемнадцать лет, и…
— Так ты хочешь, чтобы я работал на саму девчушку, Алекс? Бог мой, о скольких же коробках печенья идет речь?
— Она не капризный тинэйджер, Майло. Ей пришлось быстро взрослеть — слишком быстро. У нее есть собственные деньги, она сказала, что проблем с оплатой не будет. Мне просто нужно, чтобы она точно представляла себе, с какими расходами это связано. Я думал, что улажу все сегодня, но не смог, из-за некоторых обстоятельств.
— Сама девчушка, — проворчал он. — На кого, ты думаешь, я похож?
— Ну, — сказал я, — мы с тобой похожи сами на себя.
— Бог мой! — опять воскликнул он. Потом сказал: — Расскажи-ка мне побольше об этом. Кто все-таки пострадал и каким точно образом.
Я начал описывать ему нападение на Джину Рэмп. Он сказал:
— Ну и ну! Это похоже на дело Макклоски.
— Как, тебе известно это дело?
— Мне известно об этом деле. Оно случилось за несколько лет до того, как я начал работать, но в академии это был учебный материал. Процедуры допроса.
— Были какие-то особые причины для такого интереса?
— Странность этого дела. А парень, который читал нам этот курс… Элай Сэвидж был одним из тех, кто первоначально вел допросы.
— Странность в каком смысле?
— В смысле мотивов. Ведь полицейские похожи на других людей — так же любят классифицировать, сводить все к нескольким основным вещам. Деньги, ревность, месть, страсть или какое-нибудь сексуальное извращение — вот тебе девяносто девять процентов мотивации преступлений против личности. А этот случай просто не вписывался ни в одну из категорий. Насколько я помню, у Макклоски с пострадавшей когда-то кое-что было, но кончилось без скандала, по-дружески, за полгода до того, как он устроил ей расправу с кислотой. С его стороны не было никакой тоски и сетований, никаких анонимных писем или любовных излияний, никаких телефонных звонков, никаких приставаний и преследования, ничего такого, что обычно бывает в ситуациях с неразделенной любовью. А она ни с кем другим не встречалась, так что ревность вроде бы можно было исключить. Деньги были не очень хороши в качестве мотива, потому что у него не было на нее страхового полиса и никто не раскопал никаких доказательств, что он заработал на этом деле хотя бы десять центов — напротив, он немало заплатил тому типу, который сделал всю грязную работу. Если взять месть, то высказывалось предположение, что он мог считать ее виновной в неудаче своего делового предприятия — кажется, это было агентство для фотомоделей…
— Ну, ты меня впечатляешь.
— Впечатляться тут нечем. Такой случай трудно забыть. Я помню, нам показывали фотографии ее лица. До и после и в промежутке — ей сделали массу операций. Вид был по-настоящему жуткий. Я тогда задавал и задавал себе вопрос, каким надо быть человеком, чтобы сделать такое другому человеку. Теперь-то я, конечно, тертый калач, но то было время святой наивности. Так вот, если говорить о деньгах в качестве мотива, то оказалось, что и к потере агентства она не имела никакого отношения. Макклоски покатился под гору, потому что пил и пичкал себя наркотиками и сам лез из кожи вон, чтобы это стало ясно во время допросов. Без конца повторял детективам, которые вели расследование, что он сам испортил себе жизнь, и просил, чтобы его прикончили из жалости. Хотел, чтобы все знали, что контракт с непосредственным исполнителем его затеи с кислотой никак не был связан с бизнесом.
— А с чем он был связан?
— В том-то и загвоздка. Он отказывался говорить об этом, как бы на него ни давили. Становился глух и нем, как только речь заходила о мотиве. Остается только психопатический аспект, но никто не раскопал никаких прецедентов насилия — он был порядочное дерьмо, любил ошиваться возле гангстеров, строить из себя крутого. Но это была скорее рисовка — все, кто знал его, говорили, что он слабак.
— Бывает, что слабаки кусаются.
— Или назначаются на должность. Так что, конечно, он мог и притворяться. Мог быть на самом деле проклятым садистом, но так здорово это скрывал, что никто его и не вычислил. Так думал Сэвидж, по интуиции, — какой-нибудь психологический заскок, может, половое извращение. Это дело у него в зубах навязло. Он считался первоклассным специалистом по допросам и гордился этим. В конце лекции он произносил речь о том, что мотив Макклоски фактически не имеет значения, а важно то, что этот подонок отправился за решетку на долгий срок, и что наша работа заключается именно в этом — изолировать их. А разматывают их пускай психиатры и психоаналитики.
Я сказал:
— Долгий срок истек.
— Сколько он отмотал? В тюрьме?
— Тринадцать лет из двадцати трех по приговору — ему скостили срок за примерное поведение и освободили условно на шесть лет.
— Обычно освобождают условно на три года — вероятно, здесь была какая-то сделка. — Он поморщился. — Плата по номиналу за линию поведения. Сожги кому-нибудь лицо, изнасилуй ребенка, да что угодно сделай, потом походи в класс душеспасительного чтения и не попадайся на мордобое — тебе тут же скостят половину срока. — Он помолчал, потом сказал: — Тринадцать лет, так? Значит, вышел уже довольно давно. И, говоришь, только что вернулся в город?
Я кивнул.
— Провел бóльшую часть своего условного срока в Нью-Мексико и Аризоне. Работал в индейской резервации.
— Надо же, какой благодетель нашелся. Старый плут.
— Целых шесть лет вряд ли проплутуешь.
— А кто знает, был ли он паинькой эти шесть лет, — кто знает, во сколько смертей это обошлось индейцам? Но даже если он ничего предосудительного не сделал, то шесть лет — это не так уж долго по сравнению с перелопачиванием дерьма в какой-нибудь выгребной яме или с дополнительной отсидкой. Может, он еще и в религию ударился, как Чаки Колсон?
— Я не знаю.
— А что еще ты знаешь о нем?
— Только то, что условный срок истек и он чист и свободен, что его последнего полицейского куратора по условному освобождению зовут Бейлисс и что он вот-вот уйдет или уже ушел на пенсию.
— Похоже, твоя восемнадцатилетняя протеже сама неплохой сыщик.
— Она это все узнала от одного из слуг, некоего Датчи — он был у них чем-то вроде супердворецкого. Он не выпускал Макклоски из своего поля зрения с тех пор, как тот был осужден. Датчи ревностно опекал всю семью. Но он уже умер.
— А, — сказал Майло. — Беспомощные богатые люди теперь брошены на произвол судьбы. Пытался ли Макклоски установить контакт с семьей?
— Нет. Насколько мне известно, пострадавшая и ее муж даже еще не в курсе, что он вернулся. Мелисса — дочь пострадавшей — знает, и это не дает ей спокойно жить.
— Немудрено, — заметил он.
— Значит, ты все-таки думаешь, что Макклоски опасен.
— Кто знает? С одной стороны, ты располагаешь фактом, что он вот уже шесть лет, как вышел из тюрьмы, и ничего пока не предпринял. С другой стороны, ты располагаешь фактом, что он бросил индейцев и вернулся сюда. Может, для этого есть веская причина, не таящая в себе ничего угрожающего. А может, и нет. Резюме: неплохо было бы это выяснить. Или хотя бы попытаться.
— Ergo[4]…
— Да, ergo. Пора прочистить старый сыщицкий глаз. Ладно, если она хочет, чтобы я это сделал, то я это сделаю.
— Спасибо, Майло.
— Да, да. Дело в том, Алекс, что если даже у него есть веская причина для возвращения, то я все равно не был бы спокоен.
— Почему?
— Из-за того, что я тебе уже рассказывал, — из-за отсутствия мотива. Из-за того, что никто не знает, за каким чертом он это сделал. Никто ни на чем его так и не подловил. Может, за тринадцать лет он расслабился и проговорился соседу по камере. Или побеседовал с тюремным психоаналитиком. Но если он ничего этого не сделал, значит, он скрытный подонок. Mueho patient. Очень терпеливый. А это у меня в организме нажимает всякие кнопки. По правде говоря, если бы я не был таким мачо, непобедимым парнем, это бы меня чертовски перепугало.
12
После того как он повесил трубку, я подумал, не позвонить ли мне в Сан-Лабрадор, но решил дать Мелиссе и Джине попробовать разобраться самим.
Я спустился к пруду, побросал камешки рыбкам кои и сел лицом к водопаду. Рыбки казались более активными, чем обычно, но было похоже, что корм их не интересует. Они гонялись друг за другом плотными группками из трех-четырех особей. Гонялись, плескались, ударялись о каменный бортик.
В удивлении я наклонился и приблизил лицо к воде. Рыбы не обращали на меня внимания и продолжали кружить.
И я понял, в чем дело. Самцы гонялись за самками.
Икра. Блестящие гроздья облепляли стебли выросших по углам пруда ирисов. Белая икра, нежная, словно мыльные пузырьки, сверкала в лучах заходящего солнца.
Первый раз за все время, что существует пруд. Может быть, это какой-то знак.
Я присел на корточки и некоторое время наблюдал, думая, не съедят ли рыбки икру прежде, чем выведутся мальки. И выживут ли хотя бы некоторые из них.
На меня вдруг накатило желание спасти их, но я знал, что это не в моих силах. Мне некуда поместить икру — у профессиональных рыбоводов бывает несколько прудов. А если взять икру и положить в ведерки, то у мальков не останется ни одного шанса выжить.
Ничего не поделаешь, оставалось только ждать.
Чувство бессилия — вот самое лучшее завершение чудесного дня.
Я снова поднялся к дому и приготовил обед — бифштекс, салат и пиво. Съел его в постели, слушая грамзапись: Моцарт в исполнении Перлмана и Цукермана. Я почти целиком погрузился в музыку, и лишь крошечный сегмент сознания был начеку, ожидая телефонного звонка из Сан-Лабрадора.
Концерт окончился. Телефон не зазвонил. Проигрыватель автоматически поставил новую пластинку. Чудо технологии. Последний ее писк. Подарок от человека, который предпочитал механизмы людям.
Еще один темпераментный дуэт заявил о себе: Стен Гетц и Чарли Берд.
Не помогли и бразильские ритмы. Телефон молчал.
Какая-то часть меня вынырнула из волн музыки. Я думал о Джоеле Макклоски, который, казалось, раскаялся, но мотива не раскрывал. Я думал о том, как он сломал жизнь Джины Пэддок. Ей остались шрамы, видимые глазу и невидимые. О крючках, которые люди вонзают друг в друга, наживляя их любовью. О том, как бывает больно, когда приходится их выдирать.
Импульсивно, даже не додумав до конца, я позвонил в Сан-Антонио.
Женский голос — у его обладательницы явно был запущенный синусит — сказал: «Йейлоу». Оттуда доносился звук работающего телевизора. Похоже, какая-то комедия: монотонный смех нарастал, достигал высшей точки и убывал электронным отливом.
Мачеха.
Я сказал:
— Здравствуйте, миссис Оверстрит. Это Алекс Делавэр, звоню из Лос-Анджелеса.
Секундное молчание.
— Ах… О, здравствуйте, док. Как поживаете?
— Прекрасно. А вы?
Вздох — такой долгий, что я мог бы оттарабанить весь алфавит.
— Хорошо, насколько это возможно.
— А как мистер Оверстрит?
— Ну… мы все молимся и надеемся на лучшее, док. Как жизнь в Л.А.? Не была там несколько лет. Держу пари, что все стало еще больше, и быстрее, и шумнее, и что-то там еще, — похоже, жизнь всегда идет этим путем, не правда ли? Вы бы видели Даллас и Хьюстон, да и у нас тоже, хотя и не в такой степени, — нам еще есть куда идти, прежде чем наши беды начнут нас беспокоить по-настоящему.
Словесная атака. Чувствуя себя так, как будто получил сильнейший удар в зону защиты, я сказал:
— Жизнь идет вперед.
— Если вам везет, то да. — Вздох. — Ну, ладно, хватит философствовать — это ведь никому и ничему не поможет. Наверно, вы хотите поговорить с Линдой.
— Если она дома.
— Да она только и есть, что дома, сэр. Дома. Бедняжка никогда не выходит, хотя я не перестаю твердить ей, что для девушки ее возраста неестественно все время сидеть дома, играя в медсестричку и становясь все мрачнее из-за того, что нет никакой разрядки. Заметьте, я вовсе не предлагаю, чтобы она выходила и веселилась каждый вечер, зная, в каком состоянии ее папочка. Никогда нельзя заранее сказать, что может случиться в следующую минуту. Вот она и боится сделать что-нибудь такое, заметьте, о чем будет потом сожалеть. Но это великое сидение не может никому принести никакой пользы. И особенно ей самой. Улавливаете, что я хочу сказать?
— Угу.
— Надо смотреть на это вот как: пудинг из тапиоки, который никто не ест, покрывается коркой, черствеет и крошится по краям, и скоро он уже ни на что не годен — то же самое можно сказать и о женщине. Это так же верно, как присяга, поверьте.
— Угу.
— Ну, ладно… Пойду позову ее, скажу, что вы звоните по междугородному.
Кланк. Трубка упала на что-то твердое.
Крики, заглушающие шум на линии:
— Линда! Линда, это тебя!.. Линда, к телефону! Это он, Линда, — ну, ты знаешь кто. Да иди же побыстрее, это междугородный!
Шаги, потом озабоченный голос:
— Подождите, я возьму трубку в другой комнате.
Несколько секунд спустя:
— Хорошо — секундочку — готово. Клади трубку, Долорес.
Заминка. Щелк. Обрыв смеховой дорожки.
Вздох.
— Привет, Алекс.
— Привет.
— Эта женщина. И долго она жует твое ухо?
— Сейчас посмотрим, — сказал я. — О, часть мочки уже отъедена.
Она принужденно засмеялась.
— Поразительно, что от моего еще кое-что осталось. Поразительно, что папа не… Вот… как ты поживаешь?
— Хорошо. Как он?
— И так и сяк. Один день выглядит прекрасно, а назавтра не может встать с постели. Хирург сказал, что он определенно нуждается в операции, но слишком слаб, чтобы выдержать это прямо сейчас — большая гиперемия, и они все еще не знают точно, сколько вовлечено артерий. Они пытаются стабилизировать его состояние покоем и лекарствами, укрепить его в достаточной степени, чтобы провести дополнительное обследование. Я не знаю… что можно сделать? Так обычно бывает. Ну вот… как у тебя дела? Хотя я уже спрашивала об этом.
— Ничего, работаю.
— Это хорошо, Алекс.
— Кои мечут икру.
— Что-что?
— Ну, кои — рыбки у меня в пруду — откладывают икру. Впервые за все это время.
— Как интересно, — воскликнула она. — Значит, теперь ты станешь палочкой.
— Ага.
— Ты готов к такой ответственной миссии?
— Не знаю, — сказал я. — Их выведется масса. Если вообще это произойдет.
Она заметила:
— Знаешь, на это можно ведь посмотреть и по-другому. По крайней мере, не надо будет возиться с пеленками.
Мы оба засмеялись, синхронно сказали «ну, вот…» и снова засмеялись. Синхронность. Но неестественная. Как в плохом летнем театре.
Она спросила:
— Был в школе?
— На прошлой неделе. Похоже, дела там идут хорошо.
— Даже очень хорошо, судя по тому, что я слышала. Пару дней назад я разговаривала с Беном. Из него получился превосходный директор.
— Он славный парень, — сказал я. — И организованный. Ты порекомендовала прекрасную кандидатуру.
— Да, он такой. Очень организованный. — Она снова механически засмеялась. — Интересно, примут ли меня на работу, когда я вернусь.
— Уверен, что примут. А у тебя уже есть конкретные планы — относительно возвращения?
— Нет, — оборвала она. — Как я могу сейчас?
Я молчал.
Она сказала:
— Прости, Алекс, я не хотела быть резкой. Просто это ожидание… ад какой-то. Иногда я думаю, что ожидание — самая трудная вещь на свете. Еще хуже, чем… Ладно, нет смысла зацикливаться на этом. Все это — часть процесса взросления, когда становишься большой девочкой и уже не шарахаешься от фактов действительности, не так ли?
— Я бы сказал, что за последнее время на твою долю пришлось этих самых фактов более чем достаточно.
— Да, — согласилась она. — Полезно для дубления старой шкуры.
— Мне, положим, твоя шкура нравится такой, как она есть.
Пауза.
— Алекс, спасибо, что приезжал в прошлом месяце. Те три дня, что ты здесь провел, были самыми лучшими днями в моей жизни.
— Хочешь, приеду к тебе опять?
— Я хотела бы сказать «да», но тебе от меня не будет никакой пользы.
— Это вовсе не обязательно.
— Очень мило с твоей стороны так говорить, но… Нет, из этого ничего не получится. Мне надо… быть с ним. Следить, чтобы был хороший уход.
— Как я понимаю, хорошей сиделки из Долорес не вышло?
— Ты правильно понимаешь. Она — воплощенная беспомощность, и сломанный ноготь у нее — целая трагедия. До сих пор она принадлежала к компании везучих дураков — ей раньше никогда не приходилось иметь дело ни с чем подобным. Но по мере того, как ему становится хуже и хуже, она все больше теряет голову. А когда она теряет голову, она говорит. Боже, как она говорит. Не знаю, как папа это выносит. Слава Богу, я здесь и могу его укрыть — ведь она будто непогода, словесная буря.
Я сказал:
— Знаю. Этот ливень обрушился и на меня.
— Бедненький.
— Ничего, выживу.
Молчание. Я попытался представить себе ее лицо, ее светловолосую головку у себя на груди. Ощущение наших тел… Образы никак не приходили.
— Ну, что ж, — сказала она очень усталым голосом.
— Может быть, я что-то могу для тебя сделать дистанционно?
— Спасибо. Наверно, ничего, Алекс. Просто пускай у тебя будут хорошие мысли обо мне. И береги себя.
— И ты, Линда.
— Со мной будет все хорошо.
— Я знаю.
Она сказала:
— Кажется, я слышу его кашель… Да, определенно слышу. Надо бежать.
— Пока.
— Пока.
* * *
Я переоделся в шорты, тенниску и кроссовки и постарался выбегать из себя этот телефонный звонок и те двенадцать часов, которые ему предшествовали. Вернулся домой, как раз когда садилось солнце, принял душ и облачился в свой потертый желтый купальный халат и резиновые шлепанцы. Когда стемнело, я снова спустился в сад и лучом фонарика прошелся по поверхности воды. Рыбки пребывали в неподвижности; даже свет не разбудил их.
Посткоитальное блаженство. Мне показалось, что некоторые гроздья икры рассеялись, но несколько осталось — те, что прилепились к стенкам пруда.
Я пробыл в саду с четверть часа, когда раздался звонок. Ну наконец-то новости из Сан-Лабрадора. Надо надеяться, мать и дочь сели за стол переговоров.
Одним прыжком я взлетел на верхнюю площадку, ворвался в дом и схватил трубку на пятом звонке.
— Алло.
— Алекс? — Знакомый голос. Знакомый, хотя я давно его не слышал. На этот раз образы посыпались, словно карамельки из автомата.
— Здравствуй, Робин.
— Ты как будто запыхался. С тобой все в порядке?
— Нормально. Просто сделал дикий бросок снизу, из сада.
— Надеюсь, я ничему не помешала?
— Нет-нет. Что случилось?
— Ничего особенного. Просто хотела сказать привет.
Мне показалось, что ее голосу недостает бодрости, но прошло уже немало времени с тех пор, как я был экспертом по чему-либо имевшему к ней отношение.
— Привет. Как поживаешь?
— Великолепно. Отделываю гитару для Джоуни Митчелл. Она собирается записывать свой следующий альбом.
— Здорово.
— Много приходится резать вручную. Но сложность работы как раз и увлекает. А ты что поделываешь?
— Работаю.
— Это хорошо, Алекс.
Она сказала то же самое, что и Линда. С точно такими же интонациями. Протестантская этика или что-то такое во мне?
Я спросил:
— Как Деннис?
— Его уже нет. Сбежал.
— Вот как?
— Все нормально, Алекс. Это назревало давно, так что ничего особенного не произошло.
— Ладно.
— Я не пытаюсь строить из себя крутую бабу, Алекс, не хочу сказать, что мне все нипочем. Было тяжело. В первое время. Пусть даже это происходит по обоюдному согласию, все равно остается… некая пустота. Но теперь для меня все уже позади. Это было не так, как… Ну, то, что было у нас с ним, — я хочу сказать, было и хорошее, были и свои проблемы. Но совсем не так, как… у нас с тобой.
— Так и должно быть.
— Да, — вздохнула она. — Не знаю, будет ли еще когда-нибудь так, как было у нас. Я не пытаюсь тебя обрабатывать, просто говорю, что чувствую.
У меня начало саднить веки.
Я сказал:
— Я знаю.
— Алекс, — проговорила она сдавленным голосом, — не считай себя обязанным отвечать вообще. Господи, как глупо это звучит. Я так боюсь попасть в дурацкое положение…
— А в чем дело?
— Мне правда паршиво сегодня, Алекс. Я бы не отказалась от дружеского участия.
Я услышал свой голос, который говорил:
— Я твой друг. В чем проблема?
Вот и вся твоя «железная» решимость.
— Алекс, — сказала она робко, — нельзя ли нам встретиться, чтобы не просто по телефону?
— Разумеется.
Она спросила:
— У меня или у тебя? — И засмеялась слишком громко.
Я ответил:
— Я приеду к тебе.
* * *
Я ехал в Венис словно во сне. Припарковался позади мастерской, выходящей фасадом на Пасифик, не обращая внимания на стенные надписи и запахи помойки, на тени и звуки, наполнявшие улочку.
Пока я шел к парадной двери, она уже открыла ее. В приглушенном свете поблескивали корпуса станков. Сладкий аромат дерева и резкий запах лака доносились из мастерской, смешиваясь с запахом ее духов, который был мне незнаком. Он будил во мне ревность, волнение, предвкушение радости.
На ней было длинное, до пола кимоно с серо-черным рисунком; к краю подола пристали опилки. Изгибы тела под шелком кимоно. Тонкие запястья. Босые ноги.
Ее золотисто-каштановые кудри блестящей массой свободно падали на плечи. Свежий макияж, следы возраста на лице, которых раньше не было. Лицо, похожее очертаниями на сердце, — я так много раз видел его рядом с собой, просыпаясь по утрам. Все еще красивое — и такое же знакомое, как утро. Но что-то в нем показалось новым, не нанесенным на карту. Путешествия, совершенные без меня. Я почувствовал грусть.
Ее темные глаза горели огнем стыда и желания. Она заставила их посмотреть в мои.
Ее губа дрогнула; она пожала плечами.
Я обнял ее, почувствовал, как она обволокла меня и приросла, будто вторая кожа. Я нашел ее губы и ощутил ее жар, подхватил ее на руки и отнес наверх.
* * *
Первое, что я ощутил на следующее утро, было смятение, какое-то грустное разочарование — словно головная боль с похмелья, хотя мы и не пили накануне. Первое, что я услышал, было ритмичное шуршание — снизу доносились неторопливые звуки самбы.
В постели рядом со мной пусто. Некоторые вещи никогда не меняются.
Сев в постели, я заглянул вниз через перила и увидел ее за работой. Она вручную шлифовала сделанную из красной древесины нижнюю деку гитары, закрепленной в тисках с мягкими прокладками. Работала, склонившись над верстаком; на ней был рабочий комбинезон, защитные очки я хирургическая маска, волосы были связаны в кудрявый пучок; у ног скапливалась древесная стружка, похожая по цвету на горьковатый шоколад.
Некоторое время я наблюдал за ней, потом оделся и спустился вниз. Она не слышала меня и продолжала работать, так что мне пришлось встать прямо перед ней, чтобы привлечь ее внимание. Даже тогда она не сразу посмотрела на меня; ее напряженный взгляд был узко сфокусирован на древесине с великолепным рисунком.
Наконец она остановилась, положила напильник на верстак и стянула маску. Стекла очков припорошила розоватая пыль, отчего казалось, будто у нес полопались кровеносные сосудики глаз.
— Это она — та самая, для Джоуни, — сказала она, разжала тиски, вынула инструмент и повернула его ко мне лицевой стороной. — Здесь обычная верхняя дека, но для нижней она требует красного дерева вместо клена и чтобы боковые стенки были с минимальным изгибом — интересно будет послушать, как это будет звучать.
Я сказал:
— Доброе утро.
— Доброе утро. — Она снова зажала гитару в тисках и не подняла глаз даже тогда, когда инструмент был надежно закреплен. Ее пальцы скользнули по напильнику. — Как спалось?
— Отлично. А тебе?
— И мне тоже.
— Будешь завтракать?
— Пожалуй, нет, — ответила она. — Там в холодильнике масса всего. Будь как дома.
Я сказал:
— Я тоже не голоден.
Ее пальцы забарабанили по напильнику.
— Извини.
— За что?
— За то, что не хочу завтракать.
— Тяжкое уголовное преступление. Вы арестованы.
Она улыбнулась, снова посмотрела на верстак и опять на меня.
— Ты ведь знаешь, как это бывает стоит втянуться, и уже не остановишься. Я рано проснулась, в четверть шестого. Потому что на самом деле мне плохо спалось. Не из-за того, что… Просто я не находила себе места от мыслей об этом. — Она погладила выпуклую нижнюю деку гитары и легонько постучала по ней подушечками пальцев. — Все еще обдумывала, как буду добираться до структуры дерева. Это бразильское дерево, радиальной распиловки — можешь себе представить, сколько я заплатила за доску такой толщины? И сколько времени искала такую ширину? Она хочет, чтобы нижняя дека была из одного куска, так что мне никак нельзя запороть эту доску. И это меня сковывает, работа идет медленно. Но сегодня все вдруг пошло легко. Поэтому я и не останавливалась — плыла, куда нес меня этот поток. Который час?
— Десять минут восьмого.
— Ты шутишь, — сказала она, разминая пальцы — Не могу поверить, что работаю уже почти два часа. — Она снова согнула и разогнула пальцы.
Я спросил:
— Болят?
— Нет, я чувствую себя отлично. Делаю эти упражнения для рук для того, чтобы не сводило пальцы, и это на самом деле помогает.
Она опять тронула напильник.
Я сказал:
— Ты попала в струю, малыш. Так что не останавливайся.
Я поцеловал ее в макушку. Она одной рукой схватила меня за запястье, а другой сдвинула очки на лоб. Ее глаза были действительно красные и припухшие. Неплотная подгонка очков или слезы?
— Алекс, я…
Я приложил ей палец к губам и поцеловал в левую щеку. Слабый аромат духов, теперь уже знакомый, защекотал мне ноздри. Смешиваясь с запахом древесных опилок и пота, он будил слишком много воспоминаний.
Я высвободил руку. Она схватила ее, прижала к щеке. Наши пульсы слились в один.
— Алекс, — сказала она, глядя на меня снизу вверх и часто мигая. — Я ничего не подстраивала, чтобы случилось то, что случилось. Пожалуйста, поверь мне. И то, что я сказала о дружбе, это правда.
— Тебе не за что извиняться.
— А я почему-то чувствую, что есть за что.
Я ничего не сказал на это.
— Алекс, что же теперь будет?
— Не знаю.
Она отпустила мою руку, отстранилась и повернулась лицом к верстаку.
— А как же она? — спросила она. — Эта учительница.
Эта учительница. Я говорил ей, что Линда работает директором школы.
Понижение в должности в угоду собственному самолюбию.
Я сказал.
— Она в Техасе. На неопределенное время — болен отец.
— Вот как. Печально это слышать. Что-то серьезное?
— Сердце. Дела его не слишком хороши.
Она повернулась лицом ко мне, опять часто мигая. Вспомнила о засоренных артериях собственного отца? А может, была виновата пыль?
— Алекс, — сказала она, — я не хочу… Знаю, что не имею права спрашивать тебя об этом, но какая у вас с ней договоренность?
Я подошел к верстаку, оперся на него обеими руками и стал смотреть на потолок из рифленой стали.
— Нет никакой договоренности, — ответил я. — Мы с ней друзья.
— Она расстроится из-за этого?
— Не думаю, чтобы это заставило ее разразиться радостным воплем, но я не собираюсь подавать письменный рапорт.
Злость, прозвучавшая в моем голосе, заставила ее схватиться за край верстака.
Я сказал:
— Послушай, извини меня. Просто сейчас столько всего навалилось на мою голову, и я сам чувствую, что… увяз. Не из-за нее — может, лишь в какой-то мере. Но главным образом из-за нас с тобой. Из-за того, что мы вдруг, нежданно-негаданно оказались вместе. Как это было в последний раз… Черт, сколько же прошло времени? Два года?
— Двадцать пять месяцев, — уточнила она. — Но кто считает? — Она положила голову мне на грудь, тронула за ухо, тронула за шею.
— Могло бы быть и двадцать пять часов, — заметил я. — Или двадцать пять лет.
Она глубоко вздохнула.
— Мы подходим друг другу, — сказала она. — Я просто забыла, насколько хорошо подходим.
Она подошла, подняла руки и положила их мне на плечи.
— Алекс, то, что у нас с тобой было, — это как татуировка. Придется очень глубоко резать, чтобы от этого избавиться.
— А я представлял себе рыболовные крючки. И каково их выдергивать.
Она поморщилась и потрогала свою руку.
Я добавил:
— Выбирай ту аналогию, которая тебе больше импонирует. И в том и в другом случае будет очень больно.
Мы молча смотрели друг на друга, пытаясь смягчить молчание улыбками, но нам это не удалось.
Она сказала:
— Это могло бы когда-нибудь повториться, Алекс, — разве нет?
Ответы переполняли мою голову — разноголосица ответов, противоречивое бормотание. Прежде чем я успел выбрать причину, она прошептала:
— Давай хотя бы думать об этом. Что мы теряем, если будем думать об этом?
Я ответил:
— Даже если бы я хотел, то не мог бы об этом не думать. Тебе принадлежит слишком большая часть меня.
Ее глаза наполнились слезами.
— Я возьму то, что смогу получить.
Я заявил:
— Счастливо тебе резать, — и пошел к выходу. Она окликнула меня по имени.
Я остановился и оглянулся. Она стояла, уперев руки в бока, с гримасой готовой расплакаться маленькой девочки, от которой женщины, как мне кажется, не избавляются даже с возрастом. Прелюдия к слезам передается, по всей вероятности, через хромосому X. Прежде чем разверзлись хляби небесные, она рывком опустила на глаза очки, взяла напильник, повернулась ко мне спиной и принялась за работу.
Я ушел, сопровождаемый тем же шелестящим ритмом самбы, под который проснулся. Желания танцевать я не испытывал.
* * *
Зная, что надо заполнить день чем-то безличным — иначе сойду с ума, — я поехал в Биомедицинскую библиотеку университета поискать справочный материал для монографии. Я нашел массу вещей, которые выглядели многообещающе на дисплее компьютера, но относящегося к теме оказалось мало. К полудню я выработал массу теплоты, очень мало света и понял, что пора впрягаться и браться за обработку своих собственных данных.
Вместо этого я прямо из библиотеки позвонил по автомату в телефонную службу — узнать, кто мне звонил. Из Сан-Лабрадора не звонили, было шесть других звонков, ничего срочного. Я ответил на все. Потом поехал в Уэствуд-Вилледж, переплатил за парковку, нашел кафе, выдававшее себя за ресторан, и стал читать газету, одновременно пытаясь прожевать похожий на резину гамбургер.
Ко времени возвращения домой мне удалось протолкнуть день до трех часов пополудни. Я сходил к пруду. Икры немного прибавилось, но рыбки все еще казались вялыми. Я даже засомневался, все ли с ними в порядке, потому что где-то читал, что они могут и покалечиться в судорогах страсти.
Меняется лишь спортивная форма, а сама игра — никогда.
Я покормил их, подобрал сухие листья. Двадцать минут четвертого. Слегка повозился по хозяйству — это заняло еще полчаса.
Когда все предлоги для отсрочки кончились, я пошел в кабинет, вытащил рукопись и принялся за работу. Дело пошло хорошо. Когда я наконец поднял голову от рукописи, то оказалось, что прошло почти два часа.
Я подумал о Робин. Ты ведь знаешь, как это бывает: стоит втянуться, и уже не остановишься. Мы подходим друг другу…
Импульс одиночества — вот что толкает нас друг к другу.
Рыболовные крючки.
Работать, работать.
Защита усердием в нудной работе.
Я сделал над собой усилие и взял ручку. Продолжал работать, пока не кончились все слова и в груди не стало тесно. Было семь часов, когда я поднялся из-за стола, и раздавшийся телефонный звонок обрадовал меня.
— Доктор Делавэр, это Джоан из вашей телефонной службы. Вам звонит какая-то Мелисса Дикинсон. Говорит, что у нее к вам крайне срочное дело.
— Соедините, пожалуйста.
Щелк.
— Доктор Делавэр!
— Что случилось, Мелисса?
— Это мама!
— Что с ней?
— Она исчезла! Боже мой, пожалуйста, помогите мне. Я не знаю-что-делать!
— Подожди, Мелисса. Говори медленнее и скажи мне точно, что произошло.
— Она исчезла! Ее нет! Я не могу ее найти нигде — ни на участке, ни в одной из комнат. Я искала — мы все искали — и ее здесь нет! Пожалуйста, доктор Делавэр…
— Сколько времени ее уже нет, Мелисса?
— С половины третьего! Она уехала в клинику — у нее там в три часа занятия в группе, должна была вернуться к половине шестого, а сейчас уже четыре минуты восьмого, и они тоже не знают, где она. Боже мой!
— Кто «они»?
— Клиника. Эти Гэбни. Она туда поехала — у нее занятия в группе… с трех до… пяти. Обычно она ездит с Доном… или с кем-нибудь еще. Однажды я ее отвозила, но в этот раз… — Она задыхалась, судорожно глотала воздух.
Я сказал:
— Если ты чувствуешь, что сбиваешься с дыхания, найди бумажный пакет и медленно дыши в него.
— Нет… нет, я в порядке. Должна рассказать вам… все.
— Я тебя слушаю.
— Да-да. На чем я остановилась? О Боже…
— Обычно она ездит с кем-нибудь, но в этот раз…
— Она должна была ехать с ним — с Доном, — но решила, что поедет одна! Настаивала на этом! Я сказала ей, что не думаю, что это разумно… Но она заупрямилась — повторяла, что справится, но не смогла! Я знала, что она не сможет, и была права — она не справилась! Но я не хочу, чтобы я была права, доктор Делавэр. Мне не важно, права я или нет, вышло по-моему или нет, вообще ничего не важно! Боже мой, я просто хочу, чтобы она вернулась, хочу, чтобы с ней ничего не случилось!
— Она вообще не появлялась в клинике?
— Нет! И они позвонили нам только в четыре часа и сказали, что ее не было. Они должны были позвонить сразу, правда?
— Сколько нужно времени, чтобы доехать до клиники?
— Двадцать минут. Самое большее. Она выезжала за полчаса, этого более чем достаточно. Они должны были понять, когда она не… Если бы они позвонили сразу же, мы бы сразу и начали ее искать. А теперь ее нет уже больше четырех часов. Господи!
— Может быть такое, — спросил я, — что по дороге она передумала и поехала куда-нибудь еще вместо клиники?
— Куда? Куда она могла поехать?
— Я не знаю, Мелисса, но после разговора с твоей мамой я могу понять ее желание… поимпровизировать. Вырваться из рутины. Такое не так уж редко встречается у пациентов, преодолевающих свои страхи, — иногда они становятся немного безрассудными.
— Нет! — воскликнула она. — Она бы так не поступила, она бы обязательно позвонила. Она знает, как я буду беспокоиться. Даже Дон волнуется, хотя обычно его ничем не проймешь. Он позвонил в полицию, и они начали искать, но до сих пор не обнаружили ни ее, ни «зарю»…
— Так она за рулем своего «роллс-ройса»?
— Да…
— Но тогда ее наверняка не так уж сложно будет найти, даже в Сан-Лабрадоре.
— Тогда почему же никто не видел машину? Как может быть, что никто ее не видел, доктор Делавэр?
Я подумал о пустынных улицах и готов был ответить ка это.
— Наверняка кто-то ее видел, — сказал я. — Может, у нее случилась поломка — это ведь старая машина. Даже «роллсы» имеют недостатки.
— Этого не могло быть. Ноэль содержит все машины в отличной форме, и «заря» была как новенькая. И даже если у нее действительно возникли проблемы, она бы позвонила! Она бы со мной так не поступила. Она ведь как ребенок, доктор Делавэр, — она ни за что там не выживет, она не имеет ни малейшего понятия о том, что такое жизнь там, снаружи. Боже мой! Что, если у нее случился приступ, и она сорвалась со скалы, и теперь лежит там без всякой помощи… Я больше этого не вынесу. Это уж слишком, слишком!
В трубке послышались рыдания — такие громкие, что я невольно отстранился.
Я услышал, как у нее перехватило дыхание.
— Мелисса!..
— Я… мне плохо… не могу… дышать…
— Расслабься, — скомандовал я. — Ты можешь дышать. Ты прекрасно можешь дышать. Делай это. Дыши размеренно и медленно.
На другом конце провода послышался сдавленный вдох.
— Дыши, Мелисса. Дыши. Вдох… и выдох. Вдох… и выдох. Почувствуй, как расслабляются и растягиваются мышцы с каждым вдохом и выдохом. Почувствуй, что ты расслабилась. Расслабься.
— Я…
— Успокойся, Мелисса. Не пытайся разговаривать. Просто дыши и успокаивайся. Дыши глубже и глубже — вдох… и выдох. Вдох… и выдох. Все твое тело тяжелеет, все больше и больше расслабляется. Думай о чем-нибудь приятном — как открывается дверь и входит твоя мама. С ней все в порядке. С ней все будет в порядке.
— Но…
— Ты просто слушай меня, Мелисса. Делай, что я говорю. Ты не поможешь ей, если выйдешь из строя. Ты не поможешь ей тем, что будешь расстраиваться, или тем, что будешь волноваться. Тебе надо быть в самой лучшей форме, так что продолжай дышать и расслабляться. Ты сидишь или стоишь?
— Нет, я…
— Возьми стул и сядь.
Шорох, потом удар.
— Вот… я сижу.
— Хорошо. Теперь найди удобное положение. Вытяни ноги и расслабься. Дыши медленно и глубоко. С каждым вдохом и выдохом расслабление становится все более глубоким.
Молчание.
— Мелисса?
— Все… все нормально. — Шумный выдох.
— Прекрасно. Хочешь, чтобы я приехал?
Шепотом сказанное «да».
— Тогда тебе надо продержаться столько времени, сколько я пробуду в пути. Это займет по меньшей мере полчаса.
— Хорошо.
— Ты уверена? Я могу остаться у телефона, пока ты не придешь в норму.
— Нет… Да. Я в норме. Пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста.
— Держись и не сдавайся, — сказал я. — Я уже еду.
13
В темноте пустынные улицы казались еще пустыннее. Когда я одолевал подъем на Сассекс-Ноул, у меня в зеркале заднего вида возникли автомобильные фары и остались там с постоянством двойной луны. Когда я повернул к сосновым воротам дома номер 10, над фарами зажглась красная мигалка.
Я остановился, выключил двигатель и стал ждать. Усиленный динамиком голос сказал:
— Выходите из машины, сэр.
Я повиновался. Патрульная машина сан-лабрадорской полиции уткнулась в мой задний бампер — с зажженными фарами и работающим двигателем. На меня пахнуло запахом бензина и теплом от радиатора. Красная мигалка окрашивала мою рубашку в розовый цвет, обесцвечивала и снова окрашивала.
Дверца со стороны водителя открылась, и вышел полицейский. Крупный и широкий. Одну руку он держал у бедра. Поднял какой-то предмет. Луч фонаря ослепил меня, и я рефлекторно поднял руку.
— Обе руки вверх, чтобы я мог их видеть, сэр.
Я опять повиновался. Луч прошелся по мне вверх и вниз.
Жмурясь, я сказал:
— Я доктор Алекс Делавэр, врач Мелиссы Дикинсон. Меня ожидают.
Полицейский подошел ближе, попал в круг света, исходившего от галогенового светильника на левом столбе ворот, и оказался белым молодым человеком с тяжелой выступающей челюстью, младенчески-розовой кожей и толстым приплюснутым носом. Его шляпа была низко надвинута на лоб. В телевизионной комедии он получил бы прозвище Лось.
— Кто вас ожидает, сэр? — Луч опустился, осветив мои брюки.
— Семья.
— Какая семья?
— Семья Дикинсон-Рэмп. Мелисса Дикинсон позвонила мне относительно своей матери и попросила приехать. Миссис Рэмп уже нашлась?
— Как вы сказали вас зовут, сэр?
— Делавэр. Алекс Делавэр. — Кивком головы я указал на ящик переговорного устройства. — Вы можете позвонить в дом и проверить это.
Он переваривал мое предложение как нечто чрезвычайно трудное для понимания.
Я спросил:
— Можно мне опустить руки?
— Перейдите к задней части вашего автомобиля, сэр. Поставьте руки на багажник. — Не спуская с меня глаз, он подошел к переговорнику. Нажатие кнопки — и голос Дона Рэмпа спросил:
— Да?
— Это офицер Скопек из сан-лабрадорской полиции, сэр. Нахожусь у ваших ворот, и здесь у меня какой-то джентльмен, который утверждает, что является другом семьи.
— Кто этот человек?
— Мистер Делавэр.
— А, да. Все в порядке, офицер.
Из переговорника послышался другой голос, громкий и властный:
— Что-нибудь уже есть, Скопек?
— Нет, сэр.
— Продолжайте искать.
— Да, сэр. — Скопек коснулся своей шляпы и выключил ручной фонарь.
Сосновые створки ворот начали плавно скользить внутрь. Я открыл дверцу «севильи»
Скопек пошел за мной и подождал, пока я не повернул ключ в зажигании. Когда я включил скорость, он просунул лицо в окно со стороны водителя и сказал:
— Извините за причиненное неудобство, сэр. — Но в его тоне ничего извиняющегося не было.
— Вы ведь лишь выполняете приказ, не так ли?
— Да, сэр.
* * *
Размещенные среди деревьев прожектора подсветки и низковольтные светильники направленного освещения создавали ночной пейзаж, который пришелся бы по душе Уолту Диснею. Перед особняком стоял полнометражный «бьюик-седан». С задним прожектором и массой антенн.
Дверь открыл Рэмп, одетый в синий блейзер, серые фланелевые брюки и рубашку в синюю полоску с воротничком безупречной формы; из кармашка торчал темно-бордовый квадратик. Но этот фешенебельный антураж не мешал видеть, что он расстроен. И зол.
— Доктор. — Не подав руки и предоставив мне самому закрыть дверь, он поспешил вернуться в дом.
Я вошел в холл. Перед зеленой лестницей стоял еще один человек, который внимательно рассматривал кожицу у основания одного из своих ногтей. Когда я подошел ближе, он поднял глаза. Окинул меня взглядом.
Он был на вид лет шестидесяти с небольшим, ростом чуть выше метра восьмидесяти, здоровяк, с большим крепким животом; его редкие седые волосы были напомажены бриль-кремом, мясистые черты сгрудились на широком лице цвета сырой поджелудочной железы. Очки в стальной оправе на толстом носу, жирные щеки сдавили маленький привередливый рот. На нем был серый костюм, кремовая рубашка, галстук в серую и черную полоску. Масонская булавка. На лацкане значок в виде американского флага. Зуммер на поясе. Обувь сорок четвертого размера.
Он продолжал рассматривать меня.
Рэмп сказал:
— Доктор, это наш начальник полиции, Клифтон Чикеринг. Шеф, это доктор Делавэр, психиатр Мелиссы.
По первому взгляду Чикеринга я понял, что разговор шел обо мне. Второй его взгляд дал мне понять, что он думает о психиатрах. Я подумал, что, если скажу ему, что я психолог, его мнение обо мне вряд ли изменится, но все-таки сделал эту поправку.
Он сказал:
— Доктор. — Он и Рэмп переглянулись. Он кивнул Рэмпу. Рэмп со злостью уставился на меня.
— Какого черта, — рявкнул он, — вы не сказали нам, что этот подонок вернулся в город?
— Вы имеете в виду Макклоски?
— А вы что, знаете еще одного подонка, который хотел бы причинить вред моей жене?
— Мелисса рассказала мне о нем конфиденциально. Я должен был с этим считаться.
— О, черт! — Рэмп повернулся ко мне спиной и стал ходить взад и вперед по холлу.
Чикеринг спросил:
— У девушки были особые причины хранить эту информацию в тайне?
— Почему вы не спросите у нее самой?
— Я спрашивал. Она говорит, что не хочет тревожить мать.
— Значит, вы получили ответ на ваш вопрос.
Чикеринг сказал «угу» и посмотрел на меня так, словно он — замдиректора школы, а я — подросток-психопат.
— Она могла бы сказать мне, — сказал Рэмп, остановившись. — Если бы я знал, то смотрел бы в оба, черт побери!
Я спросил:
— Что-нибудь указывает на то, что в этом исчезновении замешан Макклоски?
— Бог мой, — воскликнул Рэмп. — Он здесь, а она исчезла. Какие еще вам нужны доказательства?
— Он уже шесть месяцев находится в городе.
— Она впервые выехала одна. Он слонялся вокруг и ждал момента.
Я повернулся к Чикерингу.
— Судя по тому, что я видел, шеф, у вас тут все под очень жестким контролем. Каковы шансы на то, что Макклоски мог бы слоняться по округе, высматривать и подстерегать ее, оставаясь при этом незамеченным?
Чикеринг ответил:
— Нулевые. — Он повернулся к Рэмпу. — Это сильный аргумент, Дон. Если за всем этим стоит он, то мы очень скоро это узнаем.
Рэмп заметил:
— Откуда такая уверенность, Клиф? Вы же его еще не нашли?
Чикеринг нахмурился.
— У нас есть его адрес и все данные. Установлено наблюдение. Как только он вынырнет на поверхность, его сцапают быстрее, чем бесплатную порцию индейки на Скид-роу.
— Откуда ты взял, что он появится? Что, если он уехал куда-то, и…
— Дон, — сказал Чикеринг, — я понимаю…
— Ну, а я нет! — воскликнул Рэмп. — Как, черт возьми, наблюдение за его домом может что-то дать, если его там наверняка уже давно нет?
Чикеринг возразил:
— Преступный склад ума. У них склонность к возвращению на насиженное место.
Рэмп глянул на него с отвращением и снова зашагал взад и вперед.
Чикеринг побледнел на один тон. Слегка отваренная поджелудочная железа.
— Мы держим связь с полицейским управлением Лос-Анджелеса, с полицией Пасадены, Глендейла и с шерифами, Дон. К этому делу подключены все компьютеры. Номерные знаки «роллса» введены в списки оповещения. За ним не значится никакой машины, но просматриваются все списки угнанных.
— Сколько машин в этих списках? Десять тысяч?
— Все ищут, Дон. Все относятся к этому серьезно. Он не может уйти далеко.
Рэмп проигнорировал эти слова и продолжал вышагивать.
Чикеринг повернулся ко мне.
— Такую тайну нельзя было хранить, доктор.
Рэмп пробормотал:
— Что верно, то верно, черт побери!
Я сказал:
— Понимаю ваши чувства, но у меня не было выбора: Мелисса с юридической точки зрения является совершеннолетней.
Рэмп процедил:
— Значит, ваши действия законны, так? Это мы еще посмотрим.
С верхней площадки лестницы послышался голос:
— А ну-ка отстань от него, Дон!
Там стояла Мелисса, одетая в мужскую рубашку и джинсы; ее волосы были небрежно завязаны сзади в пучок. Из-за рубашки она казалась чрезмерно худой. Она быстро сбежала вниз по изогнутой лестнице, взмахивая руками так, как это делают бегуны трусцой.
Рэмп сказал:
— Мелисса…
Она остановилась перед ним, вздернув подбородок, сжав руки в кулаки.
— Просто оставь его в покое, Дон. Он ничего не сделал. Это ведь я попросила его сохранить все в тайне, и ему пришлось послушаться, так что отстань.
Рэмп выпрямился.
— Мы все это уже слышали…
Мелисса закричала:
— Да заткнись же ты наконец, черт возьми! Я не хочу больше слушать все это дерьмо.
Теперь настала очередь Рэмпа побледнеть. У него задрожали руки.
Чикеринг вмешался:
— Думаю, вам лучше успокоиться, юная леди.
Мелисса повернулась к нему и затрясла кулаком.
— Не смейте говорить мне, что я должна делать. Это вы должны быть на улице и делать свою работу — заставлять ваших тупых копов искать мою мать, а не стоять тут как столб вместе с ним и попивать наше виски.
Лицо Чикеринга напряглось от ярости, но потом сложилось в бледную улыбку.
— Мелисса! — сказал Рэмп.
— Мелисса! — передразнила она его гневный тон. — У меня нет времени слушать эту чушь! Мама где-то там, и надо найти ее. Так что давайте не будем искать козлов отпущения, а просто подумаем, как ее найти!
— Мы как раз этим и занимаемся, юная леди, — сказал Чикеринг.
— Как? Патрулированием квартала? Какой в этом смысл? Ее уже нет в Сан-Лабрадоре. Если бы она была здесь, ее давно бы уже засекли.
Чикеринг ответил после минутной паузы:
— Мы делаем все, что можем.
Это прозвучало неубедительно. Он понял это. По выражению лиц Рэмпа и Мелиссы.
Он застегнул пиджак. Немного туговато в талии. Повернулся к Рэмпу.
— Я могу остаться, сколько тебе нужно, но в твоих же интересах мне лучше быть там, на улицах.
— Конечно, — вяло согласился Рэмп.
— Выше голову, Дон. Мы найдем ее, не беспокойся.
Рэмп пожал плечами и пошел прочь, куда-то в глубину дома.
Чикеринг сказал:
— Приятно было с вами познакомиться, доктор. — Его указательный палец был нацелен на меня, словно револьвер. Он повернулся к Мелиссе. — Юная леди, до свидания.
Он вышел без провожатого. Когда дверь за ними закрылась, Мелисса заявила:
— Идиот. Все знают, что он идиот, — все ребята за глаза над ним насмехаются. По сути дела, в Сан-Лабрадоре не бывает преступлений, так что принимать вызов ему не от кого. Но это не из-за того, что он какой-то там особенный, а просто потому, что чужаков здесь видно невооруженным глазом. И полиция трясет всякого, кто не похож на богача.
Она говорила быстро, но без запинки. Голос лишь слегка повышен — след той паники, которую я слышал по телефону.
Я заметил:
— Типичная ситуация маленького городка.
Она сказала:
— А это и есть маленький городишко. Дыравилл. Здесь ничего никогда не происходит. — Она наклонила голову и покачала ею. — Только теперь кое-что произошло. Это я виновата, доктор Делавэр, я должна была сказать ей о нем.
— Мелисса, нет никаких указаний на то, что Макклоски имеет к этому какое-то отношение. Ведь ты сама только что говорила о том, как полиция трясет чужаков. Совершенно исключено, чтобы кто-то мог подстерегать ее, оставаясь незамеченным.
— Подстерегать. — Она вздрогнула, выдохнула. — Надеюсь, что вы правы. Тогда где же она? Что с ней случилось?
Я тщательно подбирал слова.
— Возможно, Мелисса, что с ней ничего не случилось. Что она поступила так по своей воле.
— Вы хотите сказать, что она сбежала?
— Я хочу сказать, что она могла поехать прокатиться и решила продлить прогулку.
— Такого не может быть! — Она яростно затрясла головой. — Просто не может!
— Мелисса, когда я разговаривал с твоей мамой, у меня сложилось впечатление, что она тяготится своим положением — действительно жаждет получить какую-то свободу.
Она продолжала качать головой. Повернулась спиной ко мне, лицом к зеленой лестнице.
Я сказал:
— Она говорила мне о том, что готова сделать гигантские шаги. О том, что стоит перед открытой дверью и должна выйти за порог. Говорила, что этот дом давит на нее, не дает дышать. У меня осталось четкое впечатление, что ей хотелось выйти, что у нее даже была мысль перебраться в другое место, когда ты уедешь учиться.
— Нет! Она ничего с собой не взяла — я проверила ее комнату. Все ее чемоданы на месте. Я знаю все содержимое ее шкафа — она не взяла абсолютно ничего из одежды!
— Я и не говорю, что она заранее планировала уехать, Мелисса. Я имею в виду нечто спонтанное. Импульсивное.
— Нет. — Она опять резко тряхнула головой. — Она бы так не сделала. Не поступила бы так со мной.
— Ты ее главная забота. Но вдруг эта вновь обретенная свобода немножко… опьянила ее? Сегодня она настояла на том, что сама поведет машину — хотела ощутить себя за рулем. Может, выехав на дорогу, сидя за рулем своей любимой машины, она почувствовала такой подъем, что просто продолжала ехать вперед и вперед. Это никак не связано с ее любовью к тебе. Но иногда, когда что-то начинает меняться, эти изменения происходят очень быстро.
Она закусила губу, проглотила слезы и спросила очень тихим голосом:
— Вы правда думаете, что с ней все в порядке?
— Думаю, что тебе следует сделать все возможное и невозможное, чтобы найти ее. Но я не стал бы предполагать худшего.
Она вдохнула и выдохнула несколько раз, стукнула себя кулаком по ребрам. Помяла кисти рук.
— Выехала на дорогу. И просто ехала и ехала. Ну и ну. — Она широко открыла глаза, словно с интересом вглядывалась в воображаемую картину. Потом интерес уступил место обиде. — Нет, я просто не могу себе этого представить — она бы так со мной не поступила.
— Она очень любит тебя, Мелисса, но…
— Да, любит, — сказала она сквозь слезы. — Да, она любит меня. И я хочу, чтобы она вернулась!
Слева от нас послышались шаги по мраморному полу. Мы повернулись в ту сторону.
Там стоял Рэмп с перекинутым через руку блейзером.
Мелисса торопливо попыталась руками вытереть слезы, но у нее это плохо получилось.
Он сказал:
— Прости меня, Мелисса, ты была права, нет смысла винить кого-то в случившемся. Сожалею, если и вас я тоже обидел, доктор.
Я ответил:
— Ничего, я не обиделся.
Мелисса от него отвернулась.
Он подошел и протянул мне руку.
Мелисса постукивала ногой и пальцами расчесывала волосы.
Рэмп сказал:
— Мелисса, я понимаю, что ты чувствуешь… Суть дела в том, что это касается всех нас. Нам всем надо держаться вместе. Чтобы вернуть ее.
Мелисса, не глядя на него, спросила:
— Что ты хочешь от меня?
Он бросил на нее озабоченный взгляд, казавшийся искренним. Отцовским. Она не обратила на него внимания. Он сказал:
— Я знаю, что Чикеринг — дурак. Я доверяю ему не больше, чем ты. Так что давай вместе все обсудим. Посмотрим — может, хоть что-нибудь придумаем.
Он протянул к ней руки. Застыл в мольбе. На лице — неподдельная боль. Или он был талантливее самого Оливье.
Она отозвалась:
— Ладно. — Должно быть потребовалось некоторое усилие, чтобы это прозвучало настолько безразлично.
Он продолжал:
— Послушайте, какой смысл стоять здесь просто так? Давайте пройдем в дом и расположимся возле телефона. Могу я вам предложить что-нибудь выпить, доктор?
— Кофе, если можно.
— Конечно.
Мы прошли вслед за ним через дом и устроились в задней комнате с французскими дверями и расписными балками на потолке. И сад, и просторные лужайки, и теннисный корт купались в изумрудном свете. Бассейн лежал ромбом переливчатой сини. В автомобильном «стойле» были закрыты все двери, кроме одной.
Рэмп снял трубку стоявшего на приставном столике телефона, нажал две цифры и сказал:
— Подайте кофе в задний кабинет, пожалуйста. Три чашки. — Кладя трубку, он обратился ко мне:
— Располагайтесь поудобнее, доктор.
Я уселся в кожаное клубное кресло, обивка которого потрескалась от солнца и приобрела цвет хорошо объезженного седла. Мелисса примостилась на ручке кресла с плетеной спинкой, стоявшего поблизости. Закусила губу. Стала теребить свой «лошадиный хвост».
Рэмп остался стоять. Ни один волосок не выбился у него из прически, но лицо выдавало нервное напряжение.
Через минуту вошла Мадлен с кофейником и молча поставила все на стол. Рэмп поблагодарил ее, отпустил и налил три чашки кофе. Черный для меня и для себя, со сливками и сахаром для Мелиссы. Она взяла у него чашку, но пить не стала.
Мы с Рэмпом пили маленькими глотками.
Никто не проронил ни слова.
Рэмп нарушил молчание:
— Позвоню-ка я еще раз в Малибу. — Он набрал комбинацию цифр номера. Подержал трубку несколько секунд возле уха, потом опустил на рычаг. При этом так бережно обращался с аппаратом, словно в нем заключалась его судьба.
Я спросил:
— А что в Малибу?
— Наш… Джинин пляжный домик. Брод-Бич. Не думаю, что она поехала бы туда, но это единственное место, которое приходит в голову.
Мелисса сказала.
— Это же смешно. Ведь она ненавидит воду.
Рэмп, тем не менее, нажал еще несколько кнопок, подождал, несколько секунд и положил трубку.
Мы отпили несколько глотков кофе.
Закусили еще одной порцией молчания.
Мелисса поставила свою чашку и заявила:
— Это глупо.
Прежде чем Рэмп или я успели ответить, зазвонил телефон.
Мелисса оказалась проворнее Рэмпа и схватила трубку.
— Да, но поговорите сначала со мной… Просто говорите и все, черт возьми, — ведь именно я… Что? Ну, нет! Что вы… это смешно. Как вы можете быть уверены? Это глупо… нет, я абсолютно способна на это… нет, это вы послушайте меня, вы.
Она осталась стоять с открытым ртом. Отвела трубку от лица и уставилась на нее.
— Он дал отбой!
— Кто? — спросил Рэмп.
— Этот дурак Чикеринг! Этот осел не стал со мной разговаривать!
— Что он хотел сказать?
— Макклоски, — пояснила она, все еще не сводя глаз с телефонной трубки. — Они его нашли. В деловой части Лос-Анджелеса. В лос-анджелесской полиции его допросили и отпустили на все четыре стороны.
— Боже правый! — воскликнул Рэмп. Он выхватил у нее трубку и начал торопливо нажимать кнопки, оттягивая воротник рубашки и скрипя зубами.
— Клиф? Это Дон Рэмп. Мелисса сказала, что ты… Я это понимаю, Клиф… Знаю, что она… Это пугающее известие, но нет никаких оснований… хорошо. Я знаю, что ты… да, да… — Он нахмурился и покачал головой. — Просто расскажи мне, как это произошло… так… так… Но как ты можешь быть уверен, Клиф? Мы ведь говорим не о каком-то святом, черт возьми, Клиф… так… ну да, но… и все же, неужели никак нельзя было… Хорошо. Но что, если… Ладно, обязательно. Спасибо, что позвонил, Клиф. Держи с нами связь.
Положив трубку, он сказал:
— Он извиняется за то, что прервал разговор. Говорит, что сказал тебе, что занят, что пытается отыскать твою маму, а ты продолжала… грубить ему. Он просит передать тебе, что действует исключительно в интересах твоей матери.
Мелисса стояла и смотрела в пространство перед собой остановившимся взглядом.
— Он был у них в руках, и они его отпустили.
Рэмп обнял ее за плечи, и она не сопротивлялась. Она казалась одеревеневшей. Покинутой. Мне случалось видеть восковые фигуры, в которых было больше жизни.
— Очевидно, — сказал Рэмп, — он может дать отчет о своем местонахождении в каждую минуту дня — у них нет оснований задерживать его. Им пришлось его отпустить, Мелисса. По закону.
— Ослы, — негромко проговорила она. — Проклятые ослы! Какое имеет значение, где он был весь день? Он ничего не делает сам — он нанимает других все делать за него. — Она повысила голос до крика. — Он нанимает других! Что из того, что его самого там не было!
Вырвавшись из-под руки Рэмпа, она схватилась за лицо и испустила вопль отчаяния и разочарования, Рэмп хотел было подойти к ней, но передумал и посмотрел на меня.
Я подошел к ней. Она отступила в угол комнаты и повернулась лицом к стене. Она стояла в углу, словно наказанный ребенок, и всхлипывала.
Рэмп грустно смотрел на меня.
Мы оба понимали, как бы пригодился ей отец в такую минуту. Ни один из нас не подходил на эту роль.
Через какое-то время она перестала плакать. Но из угла не вышла.
Я сказал:
— Никто из нас двоих не уверен в способностях Чикеринга. Может, следовало бы обратиться к частному детективу.
Мелисса уточнила:
— К вашему другу!
Рэмп посмотрел на нее с внезапным любопытством.
Она обратилась ко мне:
— Расскажите ему.
Я повиновался.
— Вчера мы с Мелиссой говорили о том, что неплохо было бы получить кое-какие сведения о Макклоски. Один мой друг — детектив из лос-анджелесского полицейского управления, сейчас в отпуске. Очень компетентный, с большим опытом. Он согласился провести это расследование. Вероятно, согласится расследовать и исчезновение вашей жены. Если она объявится в ближайшее время, вы, может быть, все равно захотите проверить Макклоски. Возможно, конечно, что у ваших адвокатов уже есть кто-то, с кем они работают…
— Нет, — сказала Мелисса, — я хочу, чтобы это сделал ваш друг. Точка.
Рэмп посмотрел на нее, потом на меня.
— Я не знаю, с кем они работают — адвокаты, я имею в виду. Нам никогда еще не приходилось сталкиваться с чем-нибудь подобным. Этот ваш друг, он действительно хороший детектив?
Мелисса перебила его:
— Он ведь уже сказал, что хороший. Я хочу его, и я плачу.
— Этого не потребуется, Мелисса. Заплачу я.
— Нет, я. Это моя мама, и будет именно так, как я говорю.
Рэмп вздохнул.
— Мы поговорим об этом позже. А пока, доктор Делавэр, будьте так любезны, позвоните вашему другу…
Снова зазвонил телефон. Оба они резко повернулись на звонок.
На этот раз Рэмп успел первым взять трубку.
— Да? А, здравствуйте, доктор… нет, к сожалению. Она еще не… да, я понимаю.
Мелисса сказала:
— Это она. Если бы она позвонила раньше, мы бы раньше начали искать.
Рэмп прикрыл свободное ухо.
— Простите, доктор, я не расслышал. Ах, так. Очень любезно с вашей стороны. Но нет, я не вижу никакой настоятельной необходимости вам… Одну минуту.
Прикрыв трубку другой рукой, он посмотрел на меня.
— Доктор Каннингэм-Гэбни спрашивает, не нужно ли ей сюда приехать. Что вы скажете?
— Она располагает какой-нибудь… клинической информацией относительно миссис Рэмп, которая помогла бы нам найти ее?
— Вот, поговорите с ней сами, — сказал он, протягивая мне трубку.
Я взял ее и сказал:
— Доктор Каннингэм-Гэбни, это Алекс Делавэр.
— Доктор Делавэр. — Все тот же хорошо поставленный голос, частично утративший свою мелодичность. — Я очень встревожена сегодняшними событиями. Не было ли у Мелиссы с матерью какой-либо конфронтации перед ее исчезновением?
— Почему вы об этом спрашиваете?
— Джина звонила мне сегодня утром и дала понять, что была какая-то неприятность — Мелисса пропадала всю ночь с каким-то мальчиком, что-то в этом роде.
Глядя на Мелиссу, я сказал:
— Это в общем соответствует действительности, доктор, но сомневаюсь, чтобы это послужило причиной.
— Вы так думаете? Любая необычная стрессовая ситуация способна толкнуть такого человека, как Джина Рэмп, на непредсказуемый поступок.
Мелисса смотрела прямо на меня.
Я продолжал:
— Почему бы нам с вами не посоветоваться? Не обсудить какие-то важные в клиническом отношении факторы, могущие пролить свет на случившееся?
Пауза.
— Она ведь там, правда? Наблюдает?
— В общем, да.
— Хорошо. Думаю, мне не стоит приезжать туда и своим появлением провоцировать еще одну конфронтацию. Может быть, вы приедете ко мне в офис, прямо сейчас?
— Ну что ж, — согласился я, — если Мелисса не будет против.
— Эта деточка и так забрала слишком большую власть, — резко сказала она.
— Может быть, но с клинической точки зрения мне это кажется целесообразным.
— Ну хорошо. Проконсультируйтесь с ней.
Я прикрыл трубку и обратился к Мелиссе:
— Как ты смотришь на то, чтобы мне с ней встретиться? В клинике. Обменяться фактами — психологическими данными — и попытаться вычислить, где твоя мама.
— Вроде бы неплохая мысль, — заметил Рэмп.
— Конечно, — раздраженно бросила Мелисса. — Делайте, что считаете нужным. — Она махнула рукой с той же бесцеремонностью, с какой два дня назад громила клинические потуги.
Я сказал:
— Я могу оставаться здесь, сколько тебе нужно.
— Нет-нет. Можете ехать прямо сейчас. Со мной будет все нормально. Поезжайте, поговорите с ней.
Я ответил в трубку:
— Буду у вас через полчаса, доктор Каннингэм-Гэбни.
— Урсула. Прошу вас. В такие моменты тире становится чертовски неудобным. Вы знаете, как сюда доехать?
— Мелисса расскажет мне.
— Да-да, конечно.
* * *
Перед тем как выехать, я позвонил Майло домой и услышал голос Рика в автоответчике. И Мелисса, и Рэмп оба поникли, когда я сказал им, что его нет дома, и я понял, какие большие надежды они возлагали на его сыскные способности. Сомневаясь в том, что оказываю ему услугу, вовлекая в дела высшего общества, я записал ему просьбу позвонить мне в клинику Гэбни в ближайшие два часа, а после этого времени — домой.
Когда я уже собирался уходить, раздался звонок в дверь. Мелисса вскочила и выбежала из комнаты. Рэмп пошел за ней длинным, натренированным для тенниса шагом.
Я замыкал шествие, и в таком порядке мы оказались в переднем холле. Мелисса открыла дверь и впустила черноволосого юношу лет двадцати. Он сделал шаг в сторону Мелиссы с таким видом, будто хотел ее обнять. Увидел Рэмпа и остановился.
Он был невысокого роста — чуть выше метра семидесяти, худощавый, с оливковой кожей, полными, красиво изогнутыми губами и задумчивыми карими глазами под густыми бровями. У него были черные курчавые волосы, коротко остриженные сверху и с боков и более длинные сзади. На нем была короткая красная курточка, как у помощника официанта, черные брюки, белая рубашка и черный галстук-бабочка. В одной руке у него позвякивала связка ключей от машин. Он тревожно оглянулся вокруг себя.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего, — ответила Мелисса. Он подошел ближе к ней.
Рэмп сказал:
— Привет, Ноэль.
Юноша поднял глаза.
— Все в порядке, мистер Рэмп. Хорхе занимается машинами. Сегодня их не так много.
Мелисса тронула юношу за рукав и заявила:
— Пошли отсюда.
Рэмп сказал:
— Куда это ты собралась?
Мелисса ответила:
— Туда. Искать ее.
Рэмп продолжал:
— Ты действительно думаешь…
— Да, думаю. Пошли же, Ноэль. — Она потянула его за рукав красной куртки.
Юноша взглянул на Рэмпа.
Рэмп повернулся ко мне. Я принял вид сфинкса. Рэмп сказал:
— Ладно, Ноэль, ты свободен до конца вечера. Но будь осторожен…
Он не успел закончить фразу, а эти двое уже исчезли за дверью. Стук захлопнувшейся двери эхом прокатился по дому.
Несколько секунд Рэмп стоял и смотрел на нее, потом устало повернулся ко мне.
— Не хотите ли выпить чего-нибудь, доктор?
— Нет, благодарю. Меня ждут в клинике Гэбни.
— Ах да, конечно.
Он проводил меня до двери.
— У вас есть свои дети, доктор?
— Нет.
Казалось, это его разочаровало.
Я сказал:
— С ними бывает трудно.
Он согласился:
— Не то слово. Она ведь умная девочка — иногда я думаю, что от этого нам всем приходится еще хуже, в том числе и ей самой. Джина говорила мне, что вы лечили ее много лет назад, когда она была совсем маленькая.
— С семи до девяти лет.
— С семи до девяти лет, — повторил он. — Два года. Значит, вы провели с ней больше времени, чем я. Наверно, знаете ее намного лучше, чем я.
— Это было очень давно, — сказал я. — Я видел ее совсем с другой стороны.
Он пригладил усы и подергал себя за воротничок.
— Она так и не приняла меня — наверно, никогда не примет. Ведь так?
— Все может измениться, — осторожно заметил я.
— Вы так думаете?
Он открыл дверь навстречу диснеевским огням и прохладному ветерку. Я вспомнил, что не узнал у Мелиссы дорогу в клинику, и сообщил об этом ему.
Он сказал:
— Это не проблема. Я найду дорогу с закрытыми глазами. Часто туда ездил. Когда это было нужно Джине.
14
На пути в Пасадену я поймал себя на том, что вглядываюсь в подъездные аллеи, проверяю листву, обшариваю глазами улицы — не замечу ли где неправильно падающую тень или блеск хрома. Контуры лежащей на земле женской фигуры.
Глупо. Ведь здесь уже побывали профессионалы: в радиусе десяти кварталов я видел три патрульные машины сан-лабрадорской полиции, одна из которых полквартала ехала за мной, потом вернулась к патрулированию.
Глупо, потому что улицы просматривались во все стороны, так что брошенный трехколесный велосипед можно было заметить за целый квартал.
В этом районе не оставляли секретов на улице.
Куда же Джина Рэмп повезла свои?
Или их у нее отобрали?
Несмотря на собственные слова ободрения, сказанные Мелиссе, я не смог убедить самого себя в том, что все это — какое-то нежданное просветление в состоянии фобии.
Судя по всему, что я видел, Джина была натурой уязвимой. Хрупкой. Простой спор с дочерью вызвал у нее приступ.
Она вряд ли смогла бы адекватно реагировать на реальный мир — что бы это ни значило.
Так что я, сидя за рулем машины, продолжал искать.
Наплевав на здравый смысл и от этого чувствуя себя чуточку лучше.
Клиника Гэбни занимала просторный угловой участок, в фешенебельном районе, который начал неохотно сдавать позиции многоквартирным домам и магазинам. Раньше это здание было чьим-то домом. Большой, двухэтажный, облицованный по бокам коричневой плиткой коттедж кустарной постройки стоял в глубине участка, за широкой, ровной лужайкой. Три огромные сосны накрывали траву своей тенью. Крыльцо-веранду во всю ширину фасада затемнял навес. Обилие резного дерева, редкие окна в массивных переплетах. Некрасиво и тускло освещенное здание казалось пародией на стиль «грин-энд-грин», сотворенной каким-нибудь поденщиком от архитектуры. Никакой вывески, указывающей на то, что там внутри.
Спереди участок ограничивала низкая стенка из вделанных в цемент каменных осколков. Простой проем в стене открывал доступ на цементную пешеходную дорожку. Левее от закрепленных в открытом состоянии ворот начиналась длинная и узкая подъездная аллея. Припаркованный в начале аллеи «сааб-турбо-9000» белого цвета блокировал въезд. Оставив свою машину на улице — Пасадена в этом отношении была более терпимой, чем Сан-Лабрадор, — я пошел по дорожке к дому.
На входной двери была укреплена белая фарфоровая табличка, размером и формой напоминающая сигару, с надписью «ГЭБНИ» черными печатными буквами. Дверной молоток был в виде оскаленной львиной морды с бронзовым кольцом в зубах и освещался сверху маленькой желтой лампочкой. Я поднял кольцо и отпустил. Дверь загудела — до-диез. Я был почти уверен.
На крыльце загорелась вторая лампочка. Секунду спустя дверь открылась. На пороге стояла Урсула Каннингэм-Гэбни в бордовом вязаном платье с фестонами по вырезу. Платье заканчивалось на два дюйма выше колен и подчеркивало ее высокий рост. То же самое подчеркивали вертикальные рубчики рисунка вязки. Туфли на высоких каблуках были завершающим штрихом.
Перманент, с которым она была изображена на фотографии в газете, уступил место приглаженным прядям цвета сливочной помадки. Очки а-ля Джон Леннон висели на цепочке, конкурируя за место на груди с ниткой жемчуга. Сама грудь была выпукло-вогнутой именно там, где положено. У нее была тонкая талия и ровные, необыкновенно длинные ноги. Правильный контур лица; лицо прекрасной лепки и гораздо красивее, чем на фотографии. И моложе. Она выглядела, пожалуй, чуть старше тридцати. Гладкая шея, подтянутая линия подбородка, большие карие глаза и четкие черты лица, не требующие камуфляжа. Но его на ней было предостаточно: светлое основание, искусно наложенный румянец, фиолетовые тени на веках, темно-красная помада. Удавшаяся попытка создать впечатление строгости.
— Доктор Делавэр? Входите.
— Алекс, — сказал я. — Чтобы соблюсти паритет.
На секунду она растерялась, но потом сориентировалась:
— Да, конечно. Алекс.
И улыбнулась. И тут же отключила улыбку.
Жестом она пригласила меня пройти в помещение, которое могло бы показаться внушительных размеров холлом, если бы я только что не побывал в усадьбе Дикинсонов. Паркетные полы, отделанные панелями из мореного дуба, стены цвета коричневого крема для обуви, простые скамьи, стоячие вешалки для верхней одежды, часы, на циферблате которых под цифрой 12 было написано «САНТА-ФЕ», а над цифрой 6 — «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». По стенам висело несколько размытых калифорнийских пленэрных пейзажей — вещи подобного рода художественные галереи в Кармеле уже много лет пытаются представлять и продавать в качестве шедевров.
Гостиная была налево, видимая за полуоткрытой раздвижной деревянной дверью. Снова обшитые дубом двери, снова пейзажи — Йосемити, Долина смерти, побережье в окрестностях Монтеррея. Составленные в круг стулья с черной обивкой и прямыми спинками. Задернутые плотные шторы на окнах. Слева, где в доме была бы столовая, располагалась приемная, обставленная разношерстными диванчиками и журнальными столиками.
Она шла на несколько шагов впереди меня, направляясь в глубину дома. Быстрые, решительные шаги. Плотно облегающее платье. Плавное движение ягодичных мышц. Никаких праздных разговоров.
Она остановилась, открыла дверь и придержала ее.
Я вошел в комнату, где в прежние времена жила, вероятно, горничная. Комната была маленькая, темноватая, с серыми стенами и низким потолком. Мебель простая, современная: стул с низкой спинкой — сосна, серая кожа — за сосновым письменным столом. Два боковых стула. На стене позади стола — три уставленные учебниками полки. Левее стену заполняли дипломы. Единственное окно в боковой стене было закрыто серой плиссированной шторой.
Единственное произведение искусства рядом с полками. Гравюра сухой иглой работы Кассатт. Мать и дитя.
Вчера я видел еще одну работу этой художницы. И тоже в простой комнате в серых тонах.
Некое терапевтическое родство душ?
На ум невольно пришла загадка курицы и яйца.
Урсула Каннингэм-Гэбни обошла письменный стол, уселась и скрестила ноги. Платье поехало вверх. Поправлять его она не стала. Надела очки и уставилась на меня.
— Все еще никаких следов?
Я покачал головой.
Она нахмурилась, подвинула очки повыше на своем тонком прямом носу.
— А вы моложе, чем я ожидала.
— То же самое могу сказать и я о вас. Кроме того, вы успели получить две докторские степени.
— На самом деле все было не так уж гениально, — сказала она. — Я перепрыгнула через два класса в начальной школе, начала учиться в Тафте в пятнадцать и поступила в аспирантуру при Гарварде в девятнадцать. Лео Гэбни был моим преподавателем и главным наставником — помог избежать некоторых нелепостей, о которые может споткнуться человек. У меня двойная специализация — клиническая и психобиология; я прошла полный цикл подготовительных лекций по медицине. Поэтому Лео и предложил мне перейти на медицинский факультет. Исследованиями для диссертации я занималась первые два года, соединила психологическую интернатуру с работой психиатра-практика и в итоге получила патент в обеих областях.
— Похоже, вам пришлось покрутиться.
— Это было чудесно, — произнесла она без намека на улыбку. — Чудесные были годы.
Она сняла очки и положила руки на стол ладонями вниз.
— Итак, — сказала она, — как нам следует расценивать исчезновение миссис Рэмп?
— Я полагал, что вы сможете просветить меня на этот счет.
— Мне хотелось бы воспользоваться тем, что вы виделись с ней совсем недавно.
— Я думал, вы с ней встречаетесь каждый день.
Она покачала головой.
— Уже нет. Мы сократили наши индивидуальные сеансы до двух-четырех раз в неделю, в зависимости от ее потребностей. Последний сеанс был во вторник — в тот день, когда вы позвонили. Все у нее шло прекрасно. Именно поэтому мне показалось, что вы вполне можете с ней поговорить. Что случилось с Мелиссой, почему она так расстроилась?
— Миссис Рэмп пыталась дать Мелиссе понять, что с ней все в порядке, что Мелисса может спокойно ехать в Гарвард. Мелисса рассердилась, выскочила из комнаты и убежала, а у ее матери случился этот ее приступ. Но она сама с ним справилась — вдохнула лекарство, которое называла мышечным релаксантом, и дышала определенным образом, пока приступ не прошел.
Она кивнула.
— Транквизон. Очень перспективное лекарство. Мы с мужем одними из первых применили его в клинических целях. Главное его преимущество — большая избирательность. Он действует непосредственно на симпатическую нервную систему и, по-видимому, не влияет на таламус и лимбическую систему. Более того, до сих пор никто не обнаружил вообще никакого влияния этого препарата на ЦНС. А это значит, что эффект привыкания к нему гораздо ниже — он не создает ни одной из проблем, с которыми связано применение валиума или ксанакса. Введение же через дыхательные пути означает быстрое восстановление дыхания, что, в свою очередь, оказывает общее благотворное воздействие на весь синдром. Единственный недостаток состоит в том, что это воздействие быстро проходит.
— У нее, во всяком случае, все получилось. Она успокоилась относительно быстро и была довольна тем, что сама справилась.
— Именно над этим мы и работаем, — сказала она. — Самоуважение. Мы используем лекарство в качестве трамплина для познавательной перестройки. Мы даем нашим пациентам познать успех, затем учим их видеть себя в силовой роли — рассматривать приступ не как трагедию, а как вызов их силе. Добиваться маленьких побед и на этом фундаменте строить дальше.
— Для нее это определенно была победа. Успокоившись, она поняла, что вопрос с Мелиссой остался нерешенным. Это расстроило ее, но приступ не повторился.
— И как она реагировала на это?
— Отправилась на поиски Мелиссы.
— Прекрасно, прекрасно. Ориентация на действие.
— К несчастью, Мелиссы в доме не оказалось — она уехала со своим другом. Я с полчаса посидел с миссис Рэмп, ожидая ее возвращения. После этого я Мелиссы больше не видел.
— Как вела себя миссис Рэмп, пока вы ждали?
— Сдержанно. Беспокоилась о том, как ей теперь все уладить с Мелиссой. Но паники никакой не было — напротив, она казалась вполне спокойной.
— И когда же Мелисса в конце концов вернулась?
Я обнаружил, что не знаю, и так ей и сказал.
— Значит, — рассуждала она, — все это, должно быть, повлияло на Джину больше, чем ей хотелось показать. Даже мне. Утром она позвонила и сказала, что у них было столкновение. В ее голосе слышалось напряжение, но она уверила меня, что с ней все в порядке. Способность пациента воспринимать себя как человека, уверенного в своих силах, настолько важна для лечения, что я не стала с ней спорить. Но я поняла, что нам с ней надо поговорить, Я предложила ей на выбор: индивидуальное собеседование или обсуждение в группе. Она сказала, что попробует группу — сегодня как раз был день очередного группового сеанса, — и, если это не поможет, то она, наверное, останется после занятия и все обсудит со мной с глазу на глаз. Вот почему меня так удивило, что она вообще не явилась, — я полагала, что этот сеанс должен был иметь для нее большое значение. В перерыве между первой и второй половиной группового занятия, в четыре часа, я позвонила к ней домой, говорила с ее мужем и узнала, что она отправилась на занятие в половине третьего. Я не хотела волновать его, но все-таки посоветовала обратиться в полицию. Я не успела кончить фразу, как услышала там крики и вопли.
Она остановилась и подалась вперед, так что ее груди улеглись на крышку стола.
— Видимо, Мелисса вошла в комнату и — по своему обычаю всюду совать свой нос — спросила у отчима, что происходит, он ей сказал, и она закатила истерику.
Она опять замолчала. Груди остались на месте, словно приношение.
Я заметил:
— Похоже, вы не очень жалуете Мелиссу.
Она повела плечами, откинулась на спинку стула.
— Разве мы это должны сейчас обсуждать?
— Пожалуй, нет.
Теперь она попыталась одернуть подол платья. Когда он не поддался, потянула сильнее.
— Ладно, — сказала она. — Вы ее защищаете. Я знаю, что люди, занимающиеся проблемами детей, постоянно оказываются втянутыми в ситуации подобного рода. Иногда это может быть даже необходимо. Но это не имеет никакого отношения к тому, с чем мы столкнулись в данный момент. Здесь перед нами кризисная ситуация. Женщина с серьезнейшей формой фобии, один из самых тяжелых случаев в моей практике, а практика у меня богатая. И она у нас оказалась предоставленной самой себе вынужденной реагировать на внешние воздействия, к которым совершенно не готова; она нарушила свой лечебный режим — предприняла шаги, для которых еще не созрела. И все это под давлением взаимоотношений с крайне неврастеничной девочкой-подростком. И вот здесь вступает в действие моя защитная функция. Я должна думать о своей больной. Вы, без сомнения, видите, что в отношениях между ними присутствует патология.
Она несколько раз принималась быстро мигать. Румяна у нее на щеках стали ярче от проступившего под ними настоящего румянца.
Я сказал:
— Может быть. Но не Мелисса изобрела эти отношения. Они не родились естественным путем, их сделали такими. Зачем же винить жертву?
— Уверяю вас…
— И потом я не вижу, почему вы чувствуете необходимость искать причину исчезновения в конфликте между матерью и дочерью. Ведь раньше Джина Рэмп никогда не позволяла Мелиссе путаться под ногами у своей патологии.
Она откатилась вместе с креслом немного назад, не спуская с меня глаз.
— А сейчас кто винит жертву?
— Ладно, — уступил я. — Так мы ни до чего не договоримся.
— Ни до чего. У вас есть еще информация для меня?
— Полагаю, вам знакомы обстоятельства, которые привели к возникновению фобии, — эта история с кислотой?
— Вы полагаете правильно, — произнесла она, почти не двигая губами.
— Человек, который сделал это, — Джоэль Макклоски — вернулся.
Ее губы образовали букву «о», но не издали никакого звука. Она поставила ноги параллельно и сжала колени.
— Вот черт, — сказала она. — Когда это произошло?
— Полгода назад, но он не звонил и никак не беспокоил семью. Нет никаких указаний на то, что он как-то замешан в исчезновении. Его допросили в полиции, но он представил алиби, и его отпустили. Если бы он хотел причинить какие-нибудь неприятности, то у него было для этого вполне достаточно времени — из тюрьмы он вышел шесть лет назад. И ни разу не пытался войти в контакт ни с ней, ни с кем-либо еще в семье.
— Шесть лет!
— Шесть лет, как его выпустили из тюрьмы. Бóльшую часть этого времени он провел за пределами штата.
— Она мне ни словом не обмолвилась.
— Она этого не знала.
— Тогда откуда это знаете вы?
— Мелисса недавно узнала и рассказала мне.
Ее ноздри раздулись.
— И не сказала матери?
— Не хотела ее тревожить. Собиралась нанять частного детектива, чтобы тот проверил Макклоски.
— Гениально. Просто гениально. — Она покачала головой. — В свете случившегося вы согласны с таким решением?
— В тот момент казалось разумным не травмировать миссис Рэмп. Если бы детектив обнаружил, что Макклоски опасен, то ей бы сообщили.
— А как Мелисса узнала, что Макклоски вернулся?
Я повторил ей то, что мне было известно.
Она сказала:
— Невероятно. Ну, эта девочка с инициативой, приходится признать. Но ее вмешательство…
— Так она рассудила, и еще совсем не ясно, что ее решение было ошибочным. Вы, например, можете сказать с уверенностью, что на ее месте сообщили бы обо всем миссис Рэмп?
— Было бы неплохо иметь возможность выбора.
У нее был скорее обиженный, чем рассерженный вид.
Какая-то часть меня хотела извиниться. А другая часть хотела прочитать ей лекцию о правильном общении с семьей пациента.
Она снова заговорила:
— Все это время я упорно старалась показать ей, что внешний мир безопасен для нее, а он был, оказывается, на свободе.
Я сказал:
— Послушайте, пока ведь действительно нет никаких оснований считать, что произошло что-нибудь страшное. У нее могло что-то случиться с машиной. Или она просто решила немножко размяться, расправить крылышки. Тот факт, что она предпочла ехать сюда самостоятельно, по-моему, указывает именно на это.
— Значит, возвращение этого типа вас совершенно не беспокоит? А вдруг все шесть месяцев он подкарауливал ее?
— Вы часто бывали в этом доме. Когда вы с миссис Рэмп прогуливались вокруг квартала, вы хоть раз видели его? Его или кого-то другого?
— Нет, но я и не могла бы. Мое внимание было сосредоточено на ней.
— Даже и в этом случае, — сказал я. — Сан-Лабрадор не такое место, где можно безнаказанно кого-то подкарауливать. На улицах нет ни людей, ни машин, как будто специально, чтобы чужаки сразу бросались в глаза. А полиция работает как частная служба охраны. Специализируется на высматривании чужих.
— Согласна с вами. Но что, если он не просто сидел или слонялся у всех на виду? Что, если он проезжал на машине — не каждый день, а время от времени? И в разное время дня. В надежде случайно увидеть ее. А сегодня ему это удалось — он засек ее, когда она выезжала из дома одна, и поехал за ней. Или, может быть, это был вовсе не он, а кто-то, кого он нанял — как тогда. Так что для меня его алиби не имеет абсолютно никакого значения. А тот человек, который был тогда фактически исполнителем, — тот, кому Макклоски заплатил? Может, он тоже снова в городе?
— Мелвин Финдли, — уточнил я. — Это не тот человек, которому я поручил бы такую работу.
— Что вы хотите этим сказать?
— Чернокожий, разъезжающий по Сан-Лабрадору без очень уважительной причины, не продержался бы и двух минут. А Финдли ведь уже сидел как наемный исполнитель. Трудно себе представить, что он настолько глуп, чтобы еще раз пойти на такое дело.
— Возможно. — Она вздохнула. — Надеюсь, вы правы. Но я изучала работу преступного разума и уже давно отказалась от попыток вообще что-либо предполагать относительно человеческих возможностей.
— Кстати, раз уж мы говорим о преступном разуме. Миссис Рэмп вам когда-нибудь говорила, что за зуб имел на нее Макклоски?
Она сняла очки, побарабанила пальцами по столу, подобрала с поверхности стола какую-то ворсинку и стряхнула ее в сторону.
— Нет, не говорила. Потому что не знала. Не имела ни малейшего представления, почему он так ее ненавидел. Когда-то у них был роман, но они расстались друзьями. Она была совершенно сбита с толку. И оттого что она не знала и не могла понять, ей было еще хуже. Я очень долго работала с ней над этим.
Она побарабанила еще немного.
— Это совсем не характерно для нее. Она всегда была послушной пациенткой, никогда не отходила от плана. Даже если случилась всего лишь поломка машины. Я представляю ее себе заблудившейся где-то, поддавшейся панике и потерявшей контроль над собой.
— Она носит при себе лекарство?
— Должна носить — ей предписано всегда иметь при себе транквизон.
— Судя по тому, что я видел, она умеет им пользоваться.
Она пристально посмотрела на меня и улыбнулась, не разжимая губ.
— А вы большой оптимист, доктор Делавэр.
Я улыбнулся в ответ.
— Это находит на меня по ночам.
Линии ее лица смягчились. На какое-то мгновение я подумал, что наконец-то увижу, какие у нее зубы. Но она поморщилась и сказала:
— Извините меня, я немного устала. Надо еще кое-что сделать.
Она потянулась к телефону, набрала на кнопках 911. Когда телефонистка ответила, она отрекомендовалась врачом Джины Рэмп и попросила соединить ее с начальником полиции.
Пока ее соединяли, я сказал:
— Его фамилия Чикеринг.
Она кивнула, подняла вверх указательный палец и заговорила:
— Начальник полиции Чикеринг? С вами говорит доктор Урсула Каннингэм-Гэбни, лечащий врач Джины Рэмп… нет… ничего… да, конечно… да, разумеется. Сегодня, в три часа дня… Нет, не появилась, и я… нет, абсолютно ничего… нет, ни в малейшей степени. — Выражение досады на лице. — Мистер Чикеринг, уверяю вас, она полностью сохраняла все свои умственные и физические способности. Абсолютно… нет, совсем нет… Мне не кажется, что это разумно и необходимо… нет, уверяю вас, она была совершенно нормальна… да. Да, понимаю… простите, сэр, есть одно соображение, которое вы, возможно, захотите принять в расчет. Тот, человек, который напал на нее… нет, я не его имею в виду. Тот, кто фактически плеснул на нее кислотой. Финдли. Мелвин Финдли — его нашли?.. Ах, вот как. Понятно… да, конечно. Благодарю вас, сэр.
Она положила трубку и покачала головой.
— Финдли мертв. Умер в тюрьме несколько лет назад. Чикеринг даже обиделся, что я спросила, — наверно, думает, что я хочу умалить его профессиональные способности.
— Мне показалось, он ставит под вопрос умственную стабильность Джины.
У нее на лице появилось выражение неудовольствия.
— Он хотел знать, все ли у нее дома, — как вам нравится такой пассаж? — Она закатила глаза. — Я даже думаю, что он хотел услышать от меня, что она сумасшедшая. Как будто это сделает ее исчезновение оправданным.
— На тот случай, если он ее не найдет. В конце концов, кто может отвечать за действия сумасшедшей женщины?
Я был готов держать пари, что ее красота расцвела поздно.
Она мигнула еще несколько раз. Опустила взгляд на крышку стола и позволила маске суровости соскользнуть с лица. На мгновение передо мной появилась близорукая девчушка. Она подрастает, интеллектом превосходя своих родителей. Не вписываясь в их мир. Вот она сидит у себя в комнате, читает и думает о том, сможет ли она вообще когда-нибудь, куда-нибудь вписаться.
— Отвечаем мы, — сказала она. — Мы взяли на себя ответственность за них. И вот сидим тут совершенно без толку.
Ее лицо выражало разочарование, недовольство собой. Мои глаза остановились на эстампе Кассатт.
Она это заметила и, казалось, еще больше напряглась.
— Чудесная вещь, не правда ли?
— Да, чудесная.
— Кассатт была гениальной художницей. Выразительность потрясающая, особенно в том, как она передавала самую сущность детских образов.
— Я слышал, что она не любила детей.
— Вот как?
— Давно у вас этот эстамп?
— Довольно давно. — Она дотронулась до волос. Улыбнувшись еще одной неразомкнутой улыбкой. — Вы ведь пришли не для того, чтобы поговорить об искусстве. Чем еще я могу быть вам полезной?
— Подумайте, нет ли еще каких-то психологических факторов, которые могли бы объяснить исчезновение Джины?
— Например?
— Диссоциативные эпизоды — амнезия, уходы. Не могло ли с ней случиться что-то вроде отключения, и она где-то там бродит, не сознавая, кто она?
Она немного подумала.
— У нее в истории болезни нет ничего подобного. Ее «я» совершенно не нарушено — поразительно, если подумаешь, что ей пришлось пережить. Надо сказать, что я всегда думала о ней как об одной из наиболее здравомыслящих моих больных, страдающих агорафобией. Учитывая происхождение ее симптомов. У некоторых даже и не поймешь, как все начинается, — нет никакой конкретной травмы, на которую можно сослаться. Но в ее случае симптомы проявились после огромного физического и эмоционального стресса. Многократные операции, длительные периоды времени, когда ей предписывался постельный режим для заживления лица — агорафобия по предписанию врачей, если хотите. Прибавьте к этому тот факт, что нападение имело место как раз тогда, когда она вышла из дома, так что какое-то иное поведение с ее стороны было бы почти противоречащим здравому смыслу. Это верно даже с точки зрения биологии — выдаются же данные, показывающие наличие реальных структурных изменений в среднем мозге после травмы.
— Это понятно, — согласился я. — Может статься, мы так и не узнаем, что произошло на самом деле, — даже после того, как она объявится.
— Что вы хотите этим сказать?
— Ее образ жизни, изолированность. В определенном смысле она полностью самостоятельна. Такая ситуация может привести к тому, что человек будет дорожить скрытностью. Даже наслаждаться ею. В свое время, когда лечил Мелиссу, я думал, что для этой семьи тайны были своего рода сокровищем. Что постороннему никогда не узнать, что там в действительности происходит. Джина могла накопить немалую толику такой монеты.
— Цель лечения именно в том и состоит, — сказала она, — чтобы проникнуть в эту сокровищницу. Достигнутые ею успехи просто поразительны.
— Не сомневаюсь в этом. Я только хотел сказать, что она все же могла решить придержать какой-то свой, частный резерв.
Ее лицо напряглось — она готовилась к защите. Но прежде чем заговорить, она дала себе время успокоиться.
— Наверно, вы правы. Мы все за что-то цепляемся, не так ли? Наш персональный сад, который мы считаем нужным орошать и возделывать. — Она отвернулась в сторону. — «Сад, сплошь заросший железными цветами. Железные корни, стебли и лепестки». Однажды мне сказал так один параноидальный шизофреник, и мне кажется, что это весьма удачный образ. Даже если копать очень глубоко, все равно не удастся выкопать железные цветы, когда они не хотят, чтобы их выкапывали, верно?
Она снова повернулась лицом ко мне. Снова с выражением страдания и обиды.
— Верно, — согласился я. — Но если она все-таки решится их выкопать, то, судя по всему, вручит букет именно вам.
Она слабо улыбнулась. Зубы. Белые, ровные, блестящие.
— Кажется, вы относитесь ко мне покровительственно, доктор Делавэр?
— Нет, что вы! Если это так прозвучало, прошу меня простить, доктор Каннингэм тире Гэбни.
Это вдохнуло немного жизни в ее улыбку.
Я спросил:
— А что другие члены группы, которую она посещала? Нет ли у них какой-нибудь полезной для нас информации?
— Нет. Они никогда не встречались просто так, для дружеского общения.
— А сколько их?
— Всего двое.
— Маленькая группа.
— Это редкое заболевание. Кроме того, их число ограничивается еще и необходимостью найти пациентов со стимулами и с достаточными финансовыми возможностями, позволяющими проходить курс экстенсивного лечения, который мы предлагаем.
— Как идут дела у двух других пациентов?
— Достаточно хорошо, чтобы выезжать из дому и посещать групповые занятия.
— Достаточно ли хорошо, чтобы их можно было поспрашивать?
— Кто собирается их спрашивать?
— Полиция. Частный детектив — он будет заниматься ее поисками помимо проверки Макклоски.
— Абсолютно недопустимо. Это хрупкие личности. Они даже еще не осознали, что она исчезла.
— Они знают, что она не явилась сегодня.
— Неявки здесь — обычное дело, учитывая диагноз. Большинство из них пропускают сеансы время от времени.
— А миссис Рэмп до сегодняшнего дня пропускала сеансы?
— Нет, но дело не в этом. Просто ничье вообще отсутствие не будет особенно заметным.
— Проявят ли они любопытство, если она не придет в следующий понедельник?
— Если и проявят, то я с этим справлюсь. А сейчас, если не возражаете, я бы предпочла не обсуждать других пациентов. Они по-прежнему сохраняют право на конфиденциальность.
— Хорошо, как скажете.
Она хотела было опять скрестить ноги. Но передумала и оставила их в прежнем положении.
— Ну вот, — сказала она, — урожай у нас, как видите, небогатый.
Она встала, разгладила платье и посмотрела мимо меня, в направлении двери.
Я спросил:
— А у нее не могло возникнуть желания уйти по собственной воле?
Она резко обернулась.
— Что вы имеете в виду?
— Великий побег, — сказал я. — Решение поменять свой образ жизни на что-то новое. Не ждать окончания лечения и перейти на полную независимость.
— Полная независимость? — переспросила она. — В этом нет никакого смысла. Ни грана.
* * *
Дверь резко распахнулась, прежде чем доктор Урсула успела проводить меня до нее. Внутрь ворвался мужчина и быстрым спортивным шагом устремился через холл. Лео Гэбни. Несмотря на то, что я видел его фотографию всего несколько дней назад, мне потребовалось взглянуть на него дважды, чтобы понять, кто это такой.
Он заметил нас, когда был на середине холла, и так резко остановился, что я поискал глазами след торможения на паркете.
Я не сразу узнал его из-за того, как он был одет: фланелевая ковбойка в красную и белую клетку, узкие джинсы, остроносые сапоги из бычьей кожи с каблуками для верховой езды. Ремень из тисненой кожи с пряжкой в виде большой латунной буквы «пси» — это заимствование из греческого алфавита должно было, вероятно, указывать на профессиональную связь владельца пояса с психологией. С пояса свисала связка ключей.
Он был бы похож на Городского Ковбоя, но для этого ему не хватало мышечной массы.
Несмотря на возраст, у него было почти мальчишеское телосложение. Рост метр семьдесят, вес пятьдесят, впалая грудь, плечи уже, чем у жены. Грива абсолютно белых волос контрастировала с загорелым лицом. Быстрые голубые глаза. Щетинистые белые брови. Усеянный коричневыми веснушками лоб, достаточно высокий, чтобы на нем могло разместиться с полдюжины морщин; крупный нос с высокой переносицей и узкими ноздрями. Подбородок меньше, чем было бы нужно для такого лица Жилистая шея. К горлу подступали кустики седых волос, которыми поросла грудь. Все в целом производило впечатление миниатюрности, но отнюдь не призрачности.
Он клюнул жену в щеку и окинул меня «лабораторным» взглядом.
Она сказала:
— Это доктор Делавэр.
— А, доктор Делавэр. Я — доктор Гэбни.
Сильный голос. Настоящий бас — удивительно, как такое глубокое звучание может исходить из столь узкого резонатора. Акцент штатов Новой Англии заставил мою фамилию прозвучать как Даллавэа.
Он протянул руку. Она была тонкая и мягкая — ему явно не приходилось арканить лошадей. Даже кости казались мягкими, словно были вымочены в уксусе. Кожа вокруг них двигалась свободно и была на ощупь сухой и прохладной, как у сидящей в тени ящерицы.
— Она уже объявилась? — спросил он.
— Боюсь, что нет, Лео.
Он поцокал языком.
— Дьявольская неприятность. Я вернулся сразу же, как только смог.
Она сказала:
— Доктор Делавэр сообщил мне, что Макклоски — человек, который тогда организовал нападение, — вернулся в наш город.
— Вот как? — Белые брови сошлись, и морщины стали похожи на стопку галочек.
— Полиция разыскала его, но у него оказалось алиби, и его отпустили. Мы рассудили так, что прежний его способ действия предполагал оплату услуг наемного исполнителя, и нет оснований думать, что больше он так не поступит. Тот, кого он нанял в первый раз, уже умер, но это не значит, что не найдется еще какой-нибудь мерзавец, правда?
— Нет, конечно, не значит. Это ужасно. Его освобождение абсурдно, оно слишком скоропалительно. Может, ты позвонишь в полицию и выскажешь свои соображения, дорогая?
— Сомневаюсь, что они обратят на это большое внимание. Вот и доктор Делавэр считает маловероятным, чтобы кто-то мог следить за ней, не будучи замечен сан-лабрадорской полицией.
— Почему же?
— Улицы здесь безлюдны, да и в компетенцию местной полиции входит именно это — высматривать чужаков.
— Компетенция — понятие относительное, Урсула. Позвони им. Тактично напомни, что Макклоски по стилю поведения заказчик, а не исполнитель. И что он опять мог нанять кого-нибудь. Социопаты часто повторяются — они поведенчески ригидны. Все вырезаны одной и той же формочкой для печенья.
— Лео, я не…
— Прошу тебя, дорогая. — Он взял обе ее руки в свои. Помассировал гладкую плоть большим пальцами. — Мы имеем дело с людьми не столь высокого интеллекта, а на карту поставлено благополучие миссис Рэмп.
Она открыла рот, закрыла его и сказала:
— Хорошо, Лео, я сейчас.
— Спасибо, милая. И еще одно. Будь добра, втяни «сааба» немного внутрь, а то я наполовину на улице.
Она повернулась к нам спиной и быстро пошла к себе в офис. Гэбни провожал ее глазами. Смотрел, как она покачивает бедрами, — почти сладострастно. Когда за ней закрылась дверь, он повернулся ко мне первый раз после того, как мы обменялись рукопожатием.
— Доктор Делавэр, известный специалист по pavor nocturnus[5]. Прошу ко мне в кабинет.
Я прошел вслед за ним в заднюю часть дома, в просторную, отделанную панелями комнату, вероятно, бывшую библиотеку. Клюквенно-красные бархатные шторы, спадающие из-под воланов с золотой каймой, почти целиком закрывали одну стену. Остальное пространство стен занимали книжные шкафы, украшенные резьбой в манере, близкой к неистовству рококо, и темноватые живописные полотна с изображениями лошадей и собак. Потолок был такой же низкий, как и в кабинете жены, но здесь он имел лепную отделку, а в центре красовался гипсовый медальон, из середины которого свисала бронзовая люстра с электрическими свечами.
Перед одним из книжных шкафов стоял двухметровый резной письменный стол. На его обтянутой красной кожей крышке находились хрустальный с серебром письменный прибор, нож с костяным лезвием для открывания писем, старинный складной бювар для промокательной бумаги, «банкирская» лампа под зеленым абажуром, ящик для входящих и исходящих бумаг и сложенные в стопки журналы по медицине и психологии, некоторые все еще в своих коричневых почтовых обертках. Шкаф, стоящий непосредственно за спиной у хозяина кабинета, был заставлен книгами с его именем на корешке и папками для писем с наклеенным на них ярлычком «Статьи в „Пиер ревью“», датированные начиная с 1951-го и до конца прошлого года.
Хозяин расположился за столом в кожаном кресле с высокой спинкой и пригласил меня сесть.
Второй раз на протяжении нескольких последних минут я оказывался сидящим по другую сторону письменного стола. Так недолго и пациентом себя почувствовать.
Вскрыв костяным ножом обертку номера «Журнала прикладного бихевиорального анализа», он нашел оглавление, просмотрел его и отложил журнал в сторону. Взял еще один журнал, нахмурившись, перелистал страницы.
— Моя жена — удивительная женщина, — сказал он, протягивая руку за третьим журналом. — Один из самых замечательных умов своего поколения. Доктор медицины и доктор философии в двадцать пять лет. Вы не найдете более искусного или более преданного своему делу клинициста, чем она.
Подумав, что он, вероятно, старается преодолеть неловкость после довольно резкого разговора с женой, я сказал:
— Это впечатляет.
— Необычайно! — Он отложил в сторону третий журнал. Улыбнулся. — После этого что еще мне оставалось делать, как не жениться на ней?
Пока я соображал, как на это реагировать, он опять заговорил.
— Мы любим шутить, что она сама у нас парадокс. — Он негромко засмеялся. Потом резко оборвал смех, расстегнул один из карманов ковбойки и вынул пакетик жевательной резинки.
— Это мятная. Хотите?
— Нет, благодарю.
Он развернул одну пластинку и принялся жевать, при этом его вялый подбородок поднимался и опускался с ритмичностью нефтяной качалки.
— Бедняжка миссис Рэмп. На этой стадии лечения она еще не вооружена всем необходимым для встречи с внешним миром. Моя жена позвонила мне сразу же, как только поняла, что случилось что-то неладное. У нас ранчо в Санта-Инес. К сожалению, я был не в состоянии предложить ничего мало-мальски толкового — кто же мог ожидать подобного? Что, черт возьми, могло произойти?
— Хороший вопрос.
Он покачал головой.
— Весьма огорчительно. Я решил приехать, чтобы быть здесь на тот случай, если что-то начнет происходить. Бросил все дела и примчался.
Его одежда казалась отглаженной и чистой. Интересно, в чем состоят его дела. Вспомнив, какие мягкие у него руки, я спросил:
— Вы ездите верхом?
— Немного, — ответил он, не переставая жевать. — Хотя и не могу назвать себя страстным поклонником этого занятия. Я бы вообще не стал покупать лошадей, но эти продавались вместе с ранчо. Мне-то нужно было пространство. То, что я купил, включало двадцать акров земли. Думал заняться выращиванием винограда «шардонэ». — Его рот замер на мгновение. Я видел комок жвачки у него за щекой. — Как вы думаете, способен ли бихевиорист производить первоклассное вино?
— Говорят, что хорошее вино — результат действия неосязаемостей.
Он улыбнулся.
— Таковых не существует. Это сомнительная информация.
— Может, и так. Желаю вам успеха.
Он откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Ковбойка вокруг них вздулась пузырями.
— Воздух, — проговорил он между жевками, — вот что на самом деле влечет меня на ранчо. К сожалению, моя жена лишена этого наслаждения. Аллергия. Лошади, травы, пыльца деревьев — масса вещей, которые не досаждали ей в Бостоне. Так что она ведет всю клиническую работу и предоставляет мне полную свободу экспериментировать.
Наша беседа совсем не походила на разговор с великим Лео Гэбни, который я мог бы нарисовать в своем воображении. В те далекие дни, когда у меня была привычка рисовать в воображении подобные вещи. Я не совсем понимал, зачем он пригласил меня к себе в кабинет.
Возможно, почувствовав это, он сказал:
— Алекс Делавэр. Я следил за вашими работами, и не только за исследованиями сна. «Комплексное лечение навязчивых идей саморазрушения у детей». «Психосоциальные аспекты хронических заболеваний и продолжительной госпитализации детей». «Общение при болезни и стиль поведения семьи». И так далее. Солидная продукция, ясное изложение.
— Благодарю вас.
— Последние несколько лет вы ничего не печатали.
— Как раз сейчас я кое-что пишу. Но вообще занимался другими вещами.
— Частная практика?
— Судебная работа.
— А что именно?
— Случаи, где фигурируют травмы и телесные повреждения. Дела об опеке детей.
— Скверное дело — присуждение опеки, — заметил он. — Что вы думаете о совместной опеке?
— Неплохо срабатывает в некоторых ситуациях.
Он усмехнулся.
— Славная отговорка. Наверно, приходится приспосабливаться, когда имеешь дело с юридической системой. На самом деле родителей, которые стараются, чтобы это сработало, следует всячески поддерживать. Если несколько попыток окажутся неудачными, то ребенок должен остаться на попечении того из родителей, кто лучше владеет навыками ухода за ребенком, его воспитания, независимо от того, кто это будет — отец или мать. Вы согласны с этим?
— Я думаю, надо делать так, как будет лучше ребенку.
— Но так думают все, доктор. Проблема в том, как сделать добрые намерения действенными. Если бы я мог настоять на своем, то любое решение об опеке принималось бы лишь после того, как специально обученные наблюдатели реально поживут в семье несколько недель, ведя тщательные записи с применением четкой и надежной поведенческой шкалы и докладывая о результатах группе специалистов-психологов. Как вам такая идея?
— В теории звучит неплохо. На практике же…
— Нет-нет, — сказал он, продолжая неистово жевать. — Я основываюсь именно на практическом опыте. Моя первая жена решила уничтожить меня юридически — это было много лет назад, когда суды даже и слушать не желали аргументов отца. Она была пьяница и курильщица, безответственная до мозга костей. Но для идиота-судьи, перед которым слушалось дело, решающим фактором было наличие у нее яичников. Он присудил ей все — мой дом, моего сына, шестьдесят процентов того жалкого состояния, которое я скопил, работая нештатным лектором. Через год после этого она, надравшись до положения риз, закурила в постели. Дом сгорел дотла, и я навсегда потерял сына.
Это говорилось совершенно бесстрастно, его бас звучал монотонно, словно сирена в тумане.
Поставив локти на крышку стола, он сложил вместе концы пальцев обеих рук и стал смотреть в образовавшееся ромбовидное оконце.
Я сказал:
— Мне очень жаль, что так случилось.
— Для меня это было ужасное время. — Теперь он жевал медленно. — Сначала казалось, что больше ничто и никогда уже не станет мне опорой для воссоздания жизни. Но вот появилась Урсула. Так что луч надежды, наверно, есть всегда.
В его голубых глазах пылал огонь. Безошибочно узнаваемый огонь страсти.
Я думал о том, как она подчинилась его требованиям. Как он смотрел на ее ягодицы. Может, его особенно возбуждала ее способность быть одновременно и женой, и ребенком.
Он опустил руки.
— Вскоре после трагедии я снова женился. До Урсулы. Еще одна ошибка в суждении, но тут, по крайней мере, не было детей. Когда я познакомился с Урсулой, она была студенткой последнего курса и подавала заявление в аспирантуру, а я был действительным профессором университета, преподавал на медицинском факультете и к тому же являлся первым в истории медфака заместителем декана, который был назначен на этот пост, не имея степени доктора медицины. Я увидел ее потенциальные возможности и вознамерился помочь ей реализовать их. Замечательное достижение в моей жизни. А вы женаты?
— Нет.
— Прекрасные узы, если удается добиться должного слияния. Мои первые две женитьбы оказались неудачными, потому что я поддался влиянию неосязаемостей. Забыл о своей подготовке. Никогда не отделяйте вашу науку от вашей жизни, мой друг. Ваши знания о человеческом поведении дают вам большое преимущество над обычным, неотесанным homo incompetens[6].
Он снова улыбнулся.
— Ну, довольно лекций. А что является вашей добычей во всей этой истории — бедная миссис Рэмп?
— Я не на охоте, доктор Гэбни Я приехал за информацией.
— Этот тип Макклоски — ужасно неприятно думать, что он разгуливает на свободе. Как вы об этом узнали?
Я рассказал.
— Ах да, дочь. Справляется с собственными страхами путем попыток управлять поведением матери. Жаль, что она ни с кем не поделилась своей информацией раньше. Что еще вы знаете об этом Макклоски?
— Только основные факты в связи с нападением. Похоже, никто не знает, почему он это сделал.
— Это так. Он оказался на редкость неразговорчивым, что для психопатов не типично — обычно они обожают хвастаться своими злодеяниями. Наверно, было бы неплохо, если бы с самого начала была известна причина. Для определения переменных факторов. Но в конечном итоге я не считаю, что общий план лечения пострадал. Ведь главное — это пробиться через все разговоры и заставить их изменить поведение. У миссис Рэмп дела шли прекрасно. Надеюсь, что в ее случае усилия были не напрасны.
Я сказал:
— Возможно, ее исчезновение связано как раз с успешным ходом лечения — ощутив вкус свободы, она решила ухватить кусочек побольше.
— Интересная теория. Но мы не поощряем нарушения программы.
— Бывает, что пациенты поступают по-своему.
— Себе во вред.
— А вы не думаете, что иногда они сами понимают, как им будет лучше?
— Как правило, нет. Если бы я так думал, то не мог бы с чистой совестью брать с них триста долларов в час, не так ли?
Триста долларов. При такой оплате — и таком интенсивном лечении, которое они проводили, — трое пациентов могли содержать всю клинику.
Я спросил:
— Это суммарный гонорар — ваш и вашей жены?
Он расплылся в улыбке, и я понял, что задал правильный вопрос.
— Эту сумму платят лично мне. Жена получает двести. Вы потрясены этими цифрами, доктор Делавэр?
— Они выше того, к чему я привык. Но мы живем в свободной стране.
— Вот именно. Бóльшую часть своей профессиональной жизни я провел в колледжах, университетах и государственных больницах, где лечил бедных. Запускал в действие лечебные программы для людей, которые не платили за это ни гроша. На теперешнем этапе своей жизни я счел, что будет только справедливо, если плоды накопленных мною знаний я предложу богатым людям.
Взяв из прибора серебряную ручку, он покрутил ее в пальцах и положил на стол.
— Значит, — сказал он, — вы полагаете, что миссис Рэмп могла сбежать из дома?
— Думаю, такое возможно. Когда я вчера разговаривал с ней, она намекнула, что планирует внести кое-какие изменения в свою жизнь.
— Вот как? — Голубые глаза замерли в неподвижности. — Какого рода изменения?
— Она дала понять, что ей не по душе дом, в котором она живет, — слишком велик, и все богатства вокруг. Что она предпочла бы что-нибудь попроще.
— Что-нибудь попроще, — повторил он. — И все?
— Да, пожалуй, все.
— Ну, ее исчезновение при таких обстоятельствах вряд ли можно считать упрощением. Нет ли у вас каких-нибудь клинических впечатлений, которые объясняли бы случившееся?
— Миссис Рэмп — приятная дама, — продолжал он. — Весьма милая. У каждого возникает инстинктивное желание помочь ей. Клинически же ее случай достаточно прост. Случай из учебника: классически обусловленное патологическое состояние страха, усиливаемое и подпитываемое такими важными факторами, как снижающая беспокойство постоянная изоляция и замыкание в себе, подкрепленное сниженной социальной ответственностью и повышенным альтруизмом окружающих.
— Обусловленная зависимость?
— Именно так. Во многих отношениях она уподобляется ребенку — это характерно для всех больных агорафобией. Они зависимы, ритуалистичны и в такой степени привержены рутине, что цепляются за примитивные привычки. С течением времени фобия усиливается, и их поведенческий репертуар резко сокращается. Под конец они застывают в бездействии — тут своего рода психологическая криогеника. Больные агорафобией — это, по сути дела, психологические реакционеры, доктор Делавэр. Они не сдвинутся с места, если их не ткнуть посильнее. Каждый шаг дается им с величайшим переживанием. Вот почему я не могу ее себе представить весело удирающей из дома в поисках чего-то неведомого.
— Несмотря на успешный ход лечения?
— Конечно, ее прогресс радует, но впереди еще долгий путь. И жена, и я наметили обширные планы.
Это было больше похоже на соревнование, чем на сотрудничество. От комментариев я воздержался.
Развернув еще одну пластинку жвачки, он сунул ее в рот.
— Курс лечения хорошо продуман — мы предоставляем пациентам максимум всего в обмен на наши огромные гонорары. По всей вероятности, миссис Рэмп вернется и продолжит лечение.
— Значит, вы не беспокоитесь за нее?
Он усиленно жевал, издавая слабые чавкающие звуки.
— Я озабочен, доктор Делавэр, а беспокойство непродуктивно. Оно продуцирует лишь тревогу. Я приучаю своих фобиков держаться от него подальше, а себя — применять на практике то, что проповедую.
15
Он проводил меня до двери, продолжая говорить о науке. Пересекая лужайку, я заметил, что «сааб» был продвинут больше вперед. За ним стоял серый «рейнджровер». На запыленном лобовом стекле выделялись чистые полукружия от работы стеклоочистителей.
Я представил себе Гэбни за рулем машины, продирающейся сквозь мескитовые заросли, и уехал оттуда с мыслью о том, какую странную пару представляли собой эти двое. Она на первый взгляд была ледяной королевой. Готовая к бою, привыкшая отстаивать свои права — я видел, почему они с Мелиссой ощетинивались при встрече. Но налет инея был таким тонким, что таял от одного испытующего взгляда. Под ним открывалась ранимость. Как у Джины. Может, это и послужило основой для необычайно сильного сопереживания между ними?
Кто кого приобщил к маленьким серым комнаткам и к искусству Мэри Кассатт?
Но какова бы ни была причина, похоже, что ей было не все равно. Исчезновение Джины было для нее потрясением.
Муж же ее, казалось, напротив, настойчиво стремился отмежеваться от этого дела. Пожав плечами, он отнес патологию Джины к рутинным случаям и обратил страдание в слова медицинского жаргона. Однако несмотря на кажущееся безразличие, он примчался в Лос-Анджелес из Сайта-Инес — это два часа езды. Так что он, возможно, был обеспокоен не меньше жены, просто более умело это скрывал.
Все тоже распределение обязанностей между мужским и женским полом.
Мужчины встают в позу.
Женщины истекают кровью.
Я думал о том, что он рассказал мне о гибели сына. И как он это рассказывал. Легкость и гладкость изложения заставляла предположить, что он уже рассказывал это тысячу раз.
Может, он так восстанавливает душевное равновесие?
Или он действительно овладел искусством оставлять прошлое в прошлом?
Может, в один прекрасный день я позвоню ему и попрошу дать мне несколько уроков.
* * *
Было без десяти десять, когда я вернулся в Сассекс-Ноул. Одинокая полицейская машина все еще патрулировала улицы. Должно быть, я уже прошел проверку, потому что никто меня не остановил, когда я подъехал к воротам.
Голос Дона Рэмпа по переговорному устройству звучал сухо и устало.
— Нет, все еще ничего. Подъезжайте.
Ворота медленно открылись, и я проехал. На участке были включены дополнительные лампы, и их свет, яркий и холодный, создавал имитацию дневного освещения.
Других машин перед домом не было. Чосеровская дверь была распахнута. На пороге стоял Рэмп. Он был без пиджака.
— Совершенно ничего не слышно, — сказал он, когда я поднялся по ступеням. — Что говорят доктора?
— Ничего стоящего. — Я сообщил ему о звонке Урсулы относительно Мелвина Финдли.
Его лицо вытянулось.
Я спросил:
— От Чикеринга еще что-нибудь было?
— Он звонил примерно полчаса назад. «Ничего нового, с ней, вероятно, ничего не случилось, не волнуйтесь» — ведь речь идет не о его жене. Я спросил его, не стоит ли связаться с ФБР. Он утверждает, что те не станут влезать в это дело, пока нет оснований считать, что имело место похищение, причем желательно, чтобы было похоже на вывоз жертвы за пределы штата.
Он всплеснул руками, потом безвольно уронил их.
— Жертва. Я и думать не хочу о ней как о жертве, но…
Он закрыл дверь. Холл освещен, но дальше дом был погружен в темноту.
Он направился к выключателю, расположенному по другую сторону от входа, шаркая ногами по мраморному полу.
— Ваша жена когда-нибудь говорила вам, почему Макклоски это сделал? — спросил я.
Он остановился полуобернувшись.
— А почему вы спрашиваете?
— Хочу понять ее — как она отнеслась к нападению.
— Как отнеслась — в каком это смысле?
— Жертвы преступления нередко решают провести собственное расследование, выяснить какие-то факты и детали. Хотят получить информацию о преступнике, о его мотивах, стремятся понять, в силу каких причин они сами стали жертвами. Хотят понять смысл случившегося с ними и как-то оградить себя на будущее. Ваша жена предпринимала что-нибудь в этом роде? Дело в том, что никто, похоже, не знает, какой мотив был у Макклоски.
— Нет, ничего такого она не предпринимала. — Он пошел дальше. — Во всяком случае, насколько мне известно. И она понятия не имела, почему он это сделал. Откровенно говоря, мы об этом почти не разговариваем: я принадлежу ее настоящему, а не прошлому. Но она действительно говорила мне, что этот ублюдок отказался признаться, — в полиции ничего не смогли от него добиться. Он был пьяница и наркоман, но это ничего не объясняет, верно?
— Какие наркотики он употреблял?
Рэмп протянул руку, щелкнул выключателем и осветил огромную комнату в передней части дома, в которой Джина Рэмп и я сидели вчера в ожидании Мелиссы. Вчерашний день казался древней историей. Графин с горлышком, похожим на лебединую шею, наполненный какой-то очень прозрачной жидкостью янтарного цвета, стоял в окружении нескольких старомодных бокалов на крышке переносного бара из красного дерева Он протянул мне бокал. Я отрицательно покачал головой. Он налил себе с палец, поколебался, удвоил порцию, потом закрыл графин пробкой и отхлебнул.
— Не знаю, — сказал он. — Никогда не интересовался наркотиками. Дальше этого, — он поднял бокал, — да еще пива я не захожу. С ним я не был близко знаком — встречал время от времени в студиях. Это был настоящий прилипала. Цеплялся к Джине, словно пиявка. Ничтожество. Голливуд кишит такими типами. Своего таланта у него не было, так он искал девушек, которые позировали бы для фотографий.
Он прошел дальше в комнату, ступая уже по ковру, который заглушил звук его шагов и восстановил в доме тишину.
Я последовал за ним.
— Мелисса уже вернулась?
Он кивнул.
— Она наверху, у себя в комнате. Прошла прямо наверх. Вид у нее был совершенно разбитый.
— Ноэль все еще у нее?
— Нет, Ноэль вернулся в «Кружку» — это мой ресторан. Он работает у меня — паркует машины, убирает со столов, подает. Славный парнишка — действительно сам пробивает себе дорогу, и у него неплохое будущее. Мелисса ему не пара, но, по-видимому, ему придется в этом убеждаться самому.
— В каком смысле не пара?
— Слишком умна, слишком красива, слишком капризна. Он безумно в нее влюблен, и она просто ходит по нему ногами. Но не из жестокости или снобизма, а потому, что такой у нее стиль. Она просто идет прямо вперед, не думая.
Как бы стараясь смягчить эту критику, он сказал:
— Уж в чем ее не обвинишь, так это в снобизме. Несмотря на все это. — Он обвел комнату жестом свободной руки. — Бог мой, вы можете себе представить, что значит вырасти в таком месте? Я вырос в Линвуде, когда его население было преимущественно белым. Мой отец работал на своем грузовике, перевозил грузы. Нрав у него был паршивый. Я хочу сказать, что часто он не мог найти заказчиков. Еды нам всегда хватало, но и только. Мне не нравилось, что надо сводить концы с концами, но теперь я понимаю, что это сделало меня лучше, — я не говорю, что Мелисса плохой человек. В основе своей она очень хорошая девочка. Только она привыкла, что все делается так, как хочет она, просто идет напролом, когда ей что-то нужно, не считаясь с тем, чего хотят другие. Джинина… ситуация заставила ее быстро повзрослеть. В самом деле, можно лишь удивляться тому, насколько удачным оказалось ее развитие.
Он тяжело опустился на мягкое канапе.
— Наверное, не мне вас просвещать относительно детей. Я болтаю и болтаю, потому что, честно говоря, буквально выбит из колеи всем этим. Где, черт побери, она может быть? Как насчет этого детектива — вы дозвонились ему?
— Нет еще. Дайте-ка попробую еще раз.
Он вскочил и принес мне сотовый телефон.
Я набрал домашний телефон Майло, начал слушать автоответчик, потом запись прервалась.
— Алло?
— Рик? Это Алекс. Майло дома?
— Привет, Алекс. Он дома, мы только что вошли — посмотрели какой-то паршивый фильм. Подожди минутку.
Через две секунды послышалось:
— Да?
— Ты готов приступить пораньше?
— К чему?
— К частному расследованию.
— Нельзя с этим подождать до утра?
— Тут кое-что произошло.
Я взглянул на Рэмпа. Он пристально смотрел на меня, лицо его казалось измученным. Тщательно подбирая слова, я пересказал Майло все случившееся, в том числе и то, что Макклоски допрашивали в полиции и отпустили и что Мелвин Финдли умер в тюрьме. Затем ожидал, что он как-то прокомментирует эти сведения.
Вместо этого Майло спросил:
— Она взяла с собой что-нибудь из одежды?
— Мелисса сказала, что нет.
— Как Мелисса может быть в этом уверена?
— Она говорит, что знает содержимое платяного шкафа матери и может судить, все ли там на месте.
Рэмп бросил на меня настороженный взгляд.
— Даже малюсенького пеньюарчика?
— Я не думаю, что произошло нечто в этом роде, Майло.
— Почему нет?
Я быстро взглянул на Рэмпа. Он все так же пристально смотрел на меня, позабыв о своем напитке.
— Не подходит к случаю.
— А, понял. Муженек тут поблизости?
— Правильно.
— Ладно, перейдем на другой канал. Что сделали местные копы, помимо патрулирования?
— Насколько я могу судить, больше ничего. Ни на кого не производит большого впечатления уровень их компетентности.
— Гениями их тут не считают, но что им остается делать? Ходить из дома в дом и портить отношения с триллионерами? Дамочка задержалась вне дома — это ведь не конец света. Прошло всего несколько часов. А потом, она на такой машине, что ее наверняка кто-то видел. Они хоть бюллетени-то разослали?
— Начальник полиции сказал, что да.
— Так ты теперь якшаешься и с начальниками полиции?
— Я его здесь застал.
— Личные контакты, — проворчал он. — Ах, эти богачи.
— Что там насчет ФБР?
— Не-а, эти ребята и близко не подойдут, пока нет определенных признаков преступления, причем желательно такого, которое попадет на первые полосы газет. Разве что у твоих состоятельных друзей есть солидные связи в политических кругах.
— Насколько солидными они должны быть?
— Это должен быть кто-то, кто может позвонить в Вашингтон и надавить на директора ФБР. Но даже и в этом случае ей надо будет не объявляться пару дней, чтобы феды[7] — да и кто угодно — отнеслись к делу серьезно. Без чего-нибудь мало-мальски похожего на признак настоящего преступления они в самом лучшем случае пришлют парочку агентов, похожих на киноактеров, которые составят протокол, пройдутся по дому в темных очках, какие носят младшие чины джименов[8], и пошепчут в свои «уоки-токи»[9]. Сколько прошло времени, шесть часов?
Я посмотрел на часы.
— Почти семь.
— Это еще не говорит о тяжком уголовном преступлении, Алекс. Что еще ты можешь мне сказать?
— Не очень много. Я только что вернулся от ее лечащих врачей. Там никаких крупных озарений.
— Ну, — сказал он, — ты знаешь этих типов. Они горазды задавать вопросы, а не отвечать на них.
— А у тебя есть вопросы, которые ты хотел бы задать?
— Я мог бы произвести несколько подходящих к случаю телодвижений.
Рэмп пил и смотрел на меня из-за края своего бокала. Я сказал:
— Это может оказаться полезным.
— Наверно, я смог бы подъехать туда где-то через полчаса, но в основном это будет процедура для успокоения нервов. Потому что действия, которые необходимы при настоящем розыске пропавших людей — финансовые расследования, проверка кредитных карточек, — проводятся в часы работы учреждений. Кому-нибудь пришло в голову проверить больницы?
— Полагаю, это сделала полиция. Но если ты считаешь…
— Не велик труд сделать несколько звонков. Собственно говоря, я могу обзвонить много мест прямо отсюда, не тратя полчаса на поездку.
— Мне кажется, было бы неплохо сделать это на глазах у всех.
— Ты так считаешь?
— Да.
— Кое у кого дрожат коленки? Нужно что-то вроде успокоительного?
— Да.
— Подожди-ка. — Он прикрыл трубку рукой. — Ладно, хорошо, доктор Силверман не очень доволен, но решил отнестись к этому по-ангельски. Может, еще уговорю его выбрать мне галстук.
* * *
Мы с Рэмпом ждали, почти не разговаривая. Он пил и все глубже оседал в одно из мягких кресел. Я думал о том, что будет с Мелиссой, если ее мать не вернется в скором времени.
Я хотел было подняться к ней и посмотреть, как она там, но вспомнил слова Рэмпа о том, что она вернулась совершенно разбитая, и решил дать ей отдохнуть. Еще неизвестно, как все обернется, так что пусть поспит, пока есть возможность.
Прошло полчаса, потом еще двадцать минут. Когда прозвучал дверной колокольчик, я опередил Рэмпа и сам открыл дверь. Майло вошел неслышными шагами. Таким хорошо одетым я в жизни его не видел. Темно-синий блейзер, серые брюки, белая рубашка, бордовый галстук, коричневые мокасины. Чисто выбрит и подстрижен — стрижка, как обычно, паршивая, слишком коротко сзади и с боков, бачки подбриты до середины уха. Три месяца не на службе, а принадлежность к правоохранительным органам все еще бросалась в глаза.
Я представил их друг другу. Наблюдал, как изменилось выражение лица Рэмпа, когда он как следует присмотрелся к Майло. Глаза сузились, усы задергались, словно от укусов блох.
Взгляд стал жестко подозрительным. Так мужественный ковбой с рекламы «Мальборо» смотрел бы на подонков, которые крадут скот. Ему отлично подошел бы ковбойский костюм Гэбни.
Должно быть, Майло тоже это заметил, но никак не отреагировал.
Рэмп еще немного поиспепелял его взглядом, потом сказал:
— Надеюсь, вы сможете помочь.
Новая вспышка подозрения. Прошло порядочно времени с тех пор, как Майло фигурировал на телевидении. Но, возможно, у Рэмпа была хорошая память. У актеров — даже не блещущих умом — это часто встречается. Или же память ему освежила добрая старая гомофобия.
Я сказал:
— Детектив Стерджис служит в полиции Лос-Анджелеса, сейчас он в отпуске. — Я определенно упоминал об этом раньше.
Рэмп продолжал пялиться.
Наконец и Майло решил ответить любезностью на любезность.
Эти двое крепко сцепились взглядами. Они напомнили мне родео и быков в двух соседних загончиках — как они фыркают, роют землю и бодают дощатую перегородку.
Майло отцепился первым.
— На данный момент я располагаю следующей предоставленной мне информацией. — Он почти слово в слово повторил то, что я ему рассказал.
— Это правильно?
— Да, — сказал Рэмп.
Майло крякнул. Вытащив из кармана блейзера блокнот с ручкой, он перелистал несколько страниц, остановился, ткнул толстым пальцем.
— Я удостоверился в том, что полиция Сан-Лабрадора выпустила на нее бюллетень для розыска в масштабах округа. Обычно это бывает пустой тратой времени, но при такой заметной машине, возможно, какой-нибудь толк выйдет. У них машина зарегистрирована как «роллс-ройс» типа седан, выпуска 1954 года, номерной знак «AD RR SD», опознавательный номер «SOG двадцать два». Правильно?
— Правильно.
— Цвет?
— Черный верх, перламутрово-серый низ.
— Лучше «тойоты», — сказал Майло, — больше бросается в глаза. Перед тем как ехать сюда, я обзвонил несколько местных травматологических пунктов. К ним не поступало никого, отвечающего ее описанию.
— Слава Богу, — пробормотал Рэмп. Его лицо блестело от пота.
Майло поднял глаза к потолку, потом опустил их и обвел передние комнаты одним беглым взглядом.
— Красивый дом. Сколько здесь комнат?
Вопрос застал Рэмпа врасплох.
— Я точно не знаю — никогда не считал. Наверно, около тридцати или тридцати пяти.
— Сколькими фактически пользуется ваша жена?
— Пользуется? В основном она пользуется своими личными комнатами. Их три — нет, четыре, если считать ванную Гостиная, спальня плюс боковая комната с книжными полками, письменным столом, кое-каким гимнастическим оборудованием, холодильником.
— Похоже на дом в доме, — сказал Майло — У вас тоже такой?
— У меня просто одна комната, — ответил Рэмп, покраснев. — Соседняя с ее.
Майло что-то записал себе в блокнот.
— Вы не могли бы назвать хоть какую-нибудь причину, почему она решила ехать на лечение одна?
— Я не знаю — это не было предусмотрено. Предполагалось, что с ней поеду я. Мы должны были выехать в три. Она позвонила мне в четверть третьего — я был у себя в ресторане — и сказала, чтобы я не беспокоился: она поведет машину сама. Я попробовал возразить, но она сказала, что с ней все будет в порядке. Мне не хотелось подрывать ее уверенность в своих силах, поэтому я не стал настаивать.
— Тридцать пять комнат, — повторил Майло, снова что-то записывая. — Кроме своих апартаментов, она пользовалась какими-нибудь другими комнатами? Держала в них свои вещи?
— Насколько я знаю, нет. А почему вы спрашиваете?
— Каковы размеры участка.
— Чуть меньше семи акров.
— Она часто гуляла по участку?
— Она не боится выходить и гулять по нему, если вы именно это имеете в виду. Она довольно много гуляла, и я сопровождал ее в этих прогулках — еще тогда, когда, кроме участка, она никуда не выходила. С недавнего времени — последние несколько месяцев — она выходила за его пределы на короткие прогулки в обществе доктора Каннингэм-Гэбни.
— Помимо ворот, можно ли еще как-нибудь попасть на участок или выйти?
— Насколько я знаю, нет.
— Никаких задних аллей?
— Никаких. Участок вплотную примыкает к другому владению — доктора и миссис Элридж. Участки разделяет высокая живая изгородь — метра три или выше.
— Сколько на участке хозяйственных построек?
Рэмп подумал.
— Дайте сообразить. Если считать гаражи…
— Гаражи? Сколько же их?
— Десять. Фактически это одно длинное здание с десятью боксами. Его построили для коллекции старинных автомобилей, принадлежавшей ее первому мужу. Некоторые машины просто бесценны. Двери боксов держат все время на запоре. Только бокс «зари» был оставлен открытым.
Майло быстро записал и поднял глаза.
— Продолжайте.
Рэмп, казалось, был озадачен.
Майло сказал:
— Другие постройки на участке.
— Постройки, — повторил Рэмп. — Сарай для пересадки растений, раздевалки у бассейна и одна рядом с теннисным кортом. Вот и все, если не считать бельведер.
— А помещения для обслуживающего персонала?
— Вся прислуга живет здесь, в доме. Наверху один из коридоров ведет к их комнатам.
— Сколько обслуживающего персонала?
— Ну, Мадлен, конечно. Две горничные и садовник. Садовник не живет здесь. У него пятеро сыновей, из которых ни один не состоит у нас в штате, но все время от времени помогают, делают кое-какую работу.
— Кто-нибудь из прислуги видел своими глазами, как уезжала ваша жена?
— Одна из горничных, убиравшая передний холл, видела, как она вышла из дома. Я не знаю точно, видел ли кто-нибудь, как она отъезжала, — если вы хотите спросить у них, я могу сходить за ними сейчас же.
— А где они?
— У себя в комнатах, наверху.
— Когда у них заканчивается работа?
— В девять. Но они не всегда сразу уходят к себе, иногда сидят на кухне — разговаривают, пьют кофе. Сегодня я отправил их наверх пораньше. Не хотел тут никаких воплей.
— Они очень расстроены?
Рэмп кивнул.
— Они с ней давно и склонны считать, что их долг — ее оберегать.
— Как насчет других домов?
— Только один. На побережье. Брод-Бич. Малибу. Насколько мне известно, она туда никогда не ездила. Не любит воду — не плавает даже здесь, в бассейне. Тем не менее, я звонил туда. Дважды. И ничего.
— Она ничего не говорила недавно — в последние несколько дней или даже недель — о том, чтобы уехать? Уехать куда-нибудь одной?
— Абсолютно ничего, и я…
— Никаких намеков, оброненных невзначай? Замечаний, которые тогда могли показаться ничего не значащими, а теперь приобрели смысл?
— Я сказал нет! — Румянец на лице Рэмпа стал еще ярче. Он так сильно прищурился, что у меня застучало в висках.
Майло ждал, постукивая ручкой по блокноту.
Рэмп сказал:
— Но это было бы лишено всякого смысла. Она хотела иметь больше контактов с другими людьми, а не меньше. В этом и была вся суть ее лечения — вернуться к общению с людьми. Откровенно говоря, я не вижу смысла в такой ориентированности ваших вопросов — не все ли, черт возьми, равно, что она говорила? Бог мой, ведь она не на каникулы отправилась! С ней что-то случилось вне дома, и вам следовало бы съездить в город и как следует потрясти этого психопата Макклоски! Поучить настоящей полицейской работе тех идиотов, которые его отпустили!
Он тяжело дышал. На висках вздулись вены.
Майло сказал:
— Перед тем как ехать сюда, я был в Центральном отделе и разговаривал с детективом, который допрашивал Макклоски. Этот парень, Бредли Льюис — не самый лучший коп, но и не самый худший. У Макклоски железное алиби — он кормил бездомных в помещении миссии, где живет. Всю вторую половину дня он чистил картошку, мыл посуду и разливал по мискам суп. Его видели десятки людей, в том числе и священник, который заправляет этой миссией. Он никуда не отлучался с полудня до восьми вечера. Так что у полиции не было никаких оснований брать его под стражу.
— А в качестве важного свидетеля?
— Нет преступления — нет и свидетеля, мистер Рэмп. С точки зрения полиции это просто случай, когда какая-то дамочка не вернулась вовремя домой.
— Но вы-то знаете, о ком идет речь, что этот тип сделал!
— Верно. Но он отсидел положенное, и срок его условного освобождения истек. С точки зрения закона — он обычный гражданин. У полиции нет к нему претензий.
— А вы разве не можете ничего сделать?
— Еще меньше, чем ничего.
— Я имел в виду не юридические тонкости, мистер Стерджис.
Майло усмехнулся, сделал глубокий вдох.
— Сожалею. Но я крайне озабочен своей репутацией.
— Я говорю серьезно, мистер Стерджис.
— Я тоже, мистер Рэмп. — Майло больше не улыбался. — Если вы ищете помощи такого сорта, то набрали совсем не тот номер.
Он спрятал ручку в карман.
Рэмп сказал:
— Послушайте, я не хотел…
Майло жестом руки остановил его.
— Я знаю, что ваша жизнь превратилась в ад. Знаю, что эта вонючая система ни к черту не годится. Но цепляться сейчас к Макклоски не в интересах вашей жены. В Центральном отделе сказали, что когда они отпустили его, то отвезли домой — своей машины у него нет — и он лег спать. Допустим, я иду к нему туда, бужу его. Он отказывается меня впустить. Тогда я врываюсь силой, играю в Крутого Гарри. В кино такое получается как по маслу — запугивание дает результат. Он во всем сознается, и хорошие парни побеждают. В реальной жизни он нанимает адвоката. Подает в суд на меня, на вас, дело получает огласку в средствах массовой информации. И в этот момент вплывает танцующей походкой ваша жена — у нее поломалась машина и не было возможности добраться до телефона. Настоящий «хэппи энд» — вот только она опять возвращается на первые полосы газет. Центральная статья для колонки «Хроника». Не говоря уже о том, что ей придется смотреть, как вы выкладываете Макклоски энную сумму или парочку лет выступаете в качестве ответчика. Как это скажется на ее психологическом прогрессе?
— Дьявольщина, — проворчал Рэмп, — с ума можно сойти. — И покачал головой.
— Я попросил в Центральном отделе понаблюдать за ним. Они сказали, что попробуют, но, честно говоря, это обещание не многого стоит. Если она не вернется к утру, я нанесу ему визит. Если ожидание для вас слишком тяжело, я поеду к нему прямо сейчас. Если он меня не впустит, я останусь сидеть там всю ночь и буду смотреть на его дверь. Потом напишу вам подробный отчет о наблюдении, который будет звучать очень впечатляюще. Я беру с вас семьдесят долларов в час плюс расходы. Час-пустышка стоит столько же, сколько и результативный. Но я прикинул, что за такие деньги вы вправе рассчитывать на определенную самостоятельность суждений с моей стороны.
— И в чем же состоит ваше самостоятельное суждение, мистер Стерджис?
— В данный момент можно найти и получше способы расходовать мое время.
— Например?
— Например, продолжать обзванивать больницы. Звонить на станции обслуживания, которые открыты всю ночь. Позвонить в автоклуб — если вы в нем состоите.
— Состоим. Похоже, все это я и сам могу делать.
— Можете. Не стесняйтесь. Чем больше людей включится в эту работу, тем быстрее мы ее сделаем. Если вы хотите заняться этим сами, я напишу вам список того, что еще вы можете сделать, и побегу.
— А что еще я могу сделать?
— Связаться с больницами и независимыми компаниями «скорой помощи», держать контакт с дорожными подразделениями различных отделов полиции, чтобы информация не затерялась в суматохе — такое случается сплошь и рядом, поверьте мне. Если захотите идти еще дальше, обзвоните авиакомпании, чартерные службы, агентства по прокату автомобилей. Отслеживайте кредитные карточки — узнайте, какими она пользуется, договоритесь с компаниями, чтобы эти номера были взяты на заметку, так что как только ими воспользуются, мы будем знать, где и когда это произошло, и получим информацию без задержки. Если она не вернется к утру, я тоже начну работать с ее банковскими документами, смотреть, не сняла ли она недавно какой-нибудь крупной суммы. На ее счетах требуется и ваша подпись?
— Нет, наши финансы раздельны.
— Никаких общих счетов?
— Нет, мистер Стерджис. — Рэмп скрестил руки на груди. Казалось, что каждое слово, словно гаечный ключ, затягивало его все туже и туже. — Снятие денег со счета, авиакомпании. Что вы хотите этим сказать? Что она сознательно ушла из дома?
— Уверен, что нет, но…
— Определенно нет.
Майло провел по лицу рукой.
— Мистер Рэмп, будем надеяться, что она войдет в дверь с минуты на минуту. Если нет, то этот случай придется рассматривать как случай исчезновения человека. А такие дела отнюдь не льстят самолюбию тех, кто сидит и ждет известий. Если уж хочешь сделать работу как следует, то должен предполагать, что могло приключиться буквально все. Это как в случае с врачом, делающим биопсию опухоли, — по всей вероятности, она доброкачественная. Врач цитирует вам статистические данные, улыбается и говорит, что почти на сто процентов уверен, что беспокоиться не о чем. Но пробу все-таки берет и отправляет ее в лабораторию.
Он расстегнул блейзер, засунул обе руки в карманы брюк, перенес вес одной ноги на пятку и подвигал ею, словно бегун, разминающий лодыжку.
Рэмп посмотрел вниз, на ногу, потом вверх, в зеленые глаза Майло.
— Так, — сказал он, — значит, мне предстоит взять пробу.
— Выбор за вами. Либо это, либо просто сидеть и ждать.
— Нет-нет, валяйте, делайте все это. У вас получится быстрее. Наверно, для начала мне следует дать вам чек.
— Чек я возьму перед уходом — на семьсот долларов, это будет десятичасовой аванс. Но сначала соберите всю прислугу, позвоните садовнику и попросите его прийти вместе с теми из сыновей, кто сегодня здесь работал и мог ее видеть. А я тем временем хотел бы наведаться в ее апартаменты, осмотреть вещи.
Рэмп хотел было возразить что-то, но передумал, решив, что не стоит напрашиваться на ответы, которые могут ему не понравиться.
Майло сказал:
— Я постараюсь быть предельно аккуратным. Если вы хотите присутствовать, то пожалуйста.
— Нет, все нормально. Делайте вашу работу. Нам туда. — Он показал на лестницу.
Они стали подниматься, наступая одновременно на одну и ту же широкую мраморную ступень, но держась на максимальном расстоянии друг от друга.
Я шел вслед за ними, отставая на две ступени, и размышлял о собственном месте во всей этой истории.
* * *
Когда мы достигли верхней площадки, я услышал, как открылась какая-то дверь, увидел тонкую полоску света на полу одного из расходящихся веером коридоров, через две двери от комнаты Джины Рэмп. Полоска расширилась, превратившись в треугольник, потом ее закрыла тень, и в холл вышла Мелисса, все еще в рубашке и джинсах, в одних носках. Она шла нетвердыми шагами, протирая глаза.
Я тихонько позвал ее по имени.
Она вздрогнула, обернулась и бросилась к нам.
— Она нашлась?
Рэмп покачал головой.
— Пока ничего нового. Это детектив Стерджис. Он… друг доктора Делавэра. Детектив, это мисс Мелисса Дикинсон, дочь миссис Рэмп.
Майло протянул руку. Мелисса едва коснулась ее, убрала свою руку и посмотрела на него снизу вверх. У нее на лице отпечатались складки от подушки — ложные шрамы, которые пройдут, как сон. Сухие губы, припухшие веки.
— Что вы собираетесь делать, чтобы найти ее? Что могу сделать я?
— Вы были дома, когда уезжала ваша мать? — спросил Майло.
— Да.
— В каком она была настроении?
— В хорошем. В возбуждении от предстоящей поездки без провожатых — на самом деле ей было страшновато, но она скрывала это, стараясь казаться радостно возбужденной. Я беспокоилась, как бы у нее не было приступа. Пыталась отговорить ее от этой затеи, сказала, что поеду с ней. Но она отказалась — даже голос на меня повысила. Она никогда еще не повышала на меня голос.
Она закусила губы, чтобы не расплакаться.
— Я должна была настоять на своем.
Майло спросил:
— Она не сказала, почему хочет ехать одна?
— Нет. Я спрашивала несколько раз, но она отказалась отвечать. Это было совсем на нее не похоже — я должна была догадаться, что здесь что-то не так.
— Вы видели своими глазами, как она отъезжала?
— Нет. Она сказала, чтобы я не ходила за ней, — просто приказала мне. — Мелисса снова закусила губы. — Так что я пошла к себе. Легла, стала слушать музыку и заснула — вот так, как сейчас. Это просто невероятно — почему я так много сплю?
Рэмп сказал:
— Это стресс, Мелисса.
Она повернулась к Майло:
— Как вы думаете, что с ней случилось?
— Я здесь как раз затем, чтобы это узнать. Ваш отчим созовет весь обслуживающий персонал, посмотрим, не знает ли чего-нибудь кто-то из них. А я пока буду осматривать ее комнату и звонить по телефону — если хотите, можете мне помогать.
— А куда звонить?
— Как обычно. Заправочные станции, автоклуб. Служба дорожного патрулирования. Кое-какие местные больницы — просто на всякий случай, для подстраховки.
— Больницы, — проговорила она и прижала руку к груди. — О Боже!
— Просто для подстраховки, — повторил Майло. — Из сан-лабрадорской полиции уже звонили в несколько. Я тоже звонил, и никуда она не поступала. Но подстраховаться никогда не помешает.
— Больницы, — снова произнесла она и заплакала.
Майло положил руку ей на плечо.
— Вот, возьми, — сказал Рэмп, вытаскивая носовой платок. Она взглянула на него, покачала головой и вытерла глаза руками.
Рэмп тоже посмотрел на свой платок, сунул его обратно в карман и отступил на несколько шагов.
Мелисса спросила у Майло:
— Зачем вам нужно осматривать ее комнату?
— Получить какое-то представление о том, что она за человек. Посмотреть, все ли там так, как должно быть. Возможно, она оставила какую-то зацепку. В этом вы тоже можете мне помочь.
— Разве мы не должны что-нибудь делать? Искать ее там, на улицах?
— Пустая трата времени, — сказал Рэмп.
Она резко повернулась к нему.
— Это ты так думаешь.
— Нет, так думает мистер Стерджис.
— Тогда пусть он сам мне это скажет.
Рэмп прищурился. Он был совершенно неподвижен, если не считать еле заметного подрагивания желваков на щеках.
— Пойду собирать людей, — пробормотал он и быстро пошел прочь по левому коридору.
Когда он отошел на достаточное расстояние и не мог нас услышать, Мелисса сказала:
— Вам бы следовало присматривать за ним.
— Почему вы так думаете? — спросил Майло.
— У нее намного больше денег, чем у него.
Майло посмотрел на нее. Провел по лицу рукой.
— Вы считаете, он мог что-то с ней сделать?
— Если он сочтет, что это может принести ему какую-то выгоду, кто знает? Ему определенно нравится то, что можно купить за деньги, — теннис, жизнь здесь, пляжный домик. Но все это принадлежит маме. Я не знаю, зачем они поженились, — они не спят вместе и вообще ничего вместе не делают. Он как будто бы просто гостит здесь — такой вот затянувшийся визит и гость, который не собирается уезжать. Не понимаю, зачем она вышла за него замуж.
— Они часто ссорятся?
— Никогда, но это вовсе ничего не значит. Они проводят вместе слишком мало времени, чтобы ссориться. Что она в нем нашла?
— Ты ее когда-нибудь спрашивала об этом?
— Прямо не спрашивала — не хотела ранить ее чувства. Я спросила ее, что нужно искать в мужчине. Она ответила, что самое важное — это доброта и терпимость.
— Он обладает этими качествами? — спросил Майло.
— Я думаю, он просто ловкий тип. Гонится за роскошью.
— Ее деньги достанутся ему, если с ней что-то случится?
Взгляд на вещи с этой точки зрения оказался для нее полной неожиданностью. Она порывисто поднесла руку ко рту.
— Я… я не знаю.
— Это довольно легко узнать, — сказал Майло. — Если она не объявится завтра утром, я займусь проверкой ее финансовых дел. А может, что-то найду у нее в комнате уже сейчас.
— Ладно, — согласилась она. — Вы ведь на самом деле не думаете, что с ней что-то случилось?
— Пока нет оснований. Теперь относительно того, чтобы, как вы говорите, искать ее по улицам. Ваша местная полиция уже ведет усиленное патрулирование. Я сам видел, когда ехал к вам. Ваши местные копы умеют делать это лучше всего. Кроме того, по всему округу разосланы объявления о розыске. Я проверял это лично, а не просто принял на веру. Спросите доктора Делавэра, и он скажет вам, что я прирожденный скептик. Вышесказанное не означает, что все эти полицейские отделы и службы будут разбиваться в лепешку в поисках вашей матери. Но «роллс-ройс» просто может попасться им на глаза. Если она в скором времени не вернется, мы можем расширить границы розыска, можем даже сделать заявление для прессы о ее исчезновении, но газетчикам только дай вцепиться во что-нибудь зубами — ни за что не отпустят, так что с этим придется быть поосторожнее.
— А как насчет Макклоски? — тревожно спросила она. — Вам о нем известно?
Майло кивнул.
— Тогда почему вы не пойдете туда и не… надавите на него? Мы с Ноэлем так бы и сделали, если бы знали, где он живет. Может, я сама узнаю его адрес и сделаю это.
— Это не очень хорошая мысль, — сказал Майло и повторил ей все то, что говорил Рэмпу.
— Простите, — возразила она, — но речь идет о моей матери, и я должна делать то, что считаю правильным.
— Как вы думаете, вашей матери понравилось бы увидеть вас в одном из выдвижных ящиков морга?
Рот у нее открылся. Она закрыла его. Выпрямилась. Рядом с Майло она казалась почти до смешного миниатюрной.
— Вы просто пытаетесь напугать меня.
— Правильно.
— Ну так у вас ничего не получится.
— Чертовски обидно. — Он взглянул на свой «таймэкс». — Я тут уже четверть часа, а сделал пшик. Вы что хотите — стоять здесь и сотрясать воздух или дело делать?
— Дело делать, — сказала она. — Конечно…
— Тогда — в ее комнату.
— Это здесь. Пойдемте. — Она побежала по коридору; всю сонливость как рукой сняло.
Майло посмотрел ей вслед и что-то пробормотал, но я не разобрал что.
Мы двинулись за ней.
Она добежала до двери и распахнула ее.
— Сюда. Я покажу вам, где все находится.
Майло шагнул в гостиную. Я вошел следом за ним.
Мелисса проскользнула мимо меня и встала перед Майло, загородив собой дверь в спальню.
— И еще одно.
— Что такое?
— Плачу вам я. Не Дон. Поэтому обращайтесь со мной как со взрослой.
16
Майло сказал:
— Если вам не понравится то, как я с вами буду обращаться, надеюсь, вы мне об этом скажете. Что касается оплаты, то договоритесь с ним сами.
Он снова вынул блокнот и обвел глазами гостиную. Подошел к серому диванчику. Потыкал подушки, провел под ними рукой.
— Что здесь такое — комната ожидания для посетителей?
— Это гостиная, — сказала Мелисса. — У мамы не бывало посетителей. Мой отец так задумал эту комнату, потому что считал, что она будет смотреться благородно. Раньше она выглядела иначе — очень элегантно, и мебели было намного больше, но мама все убрала и поставила это. Заказала по каталогу. В сущности, она простой человек. Эта комната фактически ее любимое место, она проводит здесь бóльшую часть времени.
— За каким занятием?
— За чтением — она много читает. Любит читать. А еще делает физические упражнения — там есть тренажеры. — Она показала через плечо в сторону спальни.
Майло стал рассматривать картину Кассатт.
Я спросил:
— Давно у нее этот эстамп, Мелисса?
— Мой отец подарил ей его. Когда она была беременна мной.
— А еще работы Кассатт у него были?
— Вероятно. У него было очень много работ, выполненных на бумаге. Они все хранятся наверху, на третьем этаже. Чтобы на них не попадал солнечный свет. А для этой комнаты картина подходит идеально. Здесь нет окон.
— Нет окон, — повторил за ней Майло. — И это ей не мешает?
— Мама сама как солнышко, — сказала Мелисса. — Она светит собственным светом.
— Так-так. — Он вернулся к серому дивану. Снял подушки и снова поставил их на место.
Я спросил:
— Давно ли она сменила обстановку комнаты?
Они оба повернулись и уставились на меня.
— Меня просто интересуют любые изменения, которые она могла сделать недавно, — объяснил я.
Мелисса сказала:
— Это было сделано недавно. Несколько месяцев назад — три или четыре. Находившиеся здесь вещи отец подобрал по своему вкусу, они были по-настоящему декоративны. Мама распорядилась убрать все это на хранение, на третий этаж. Она говорила мне, что чувствует себя немного виноватой, потому что отец потратил очень много времени на то, чтобы собрать всю обстановку. Но я сказала ей, что все нормально — это ее комната, и она имеет право обставить ее так, как ей нравится.
Майло открыл дверь в спальню и переступил порог. Я услышал его голос:
— А здесь, похоже, больших изменений не было.
Мелисса заторопилась вслед за ним. Я вошел последним.
Майло стоял перед скрытой под пологом кроватью. Мелисса сказала:
— Наверно, ей здесь нравится так, как есть.
— Наверно, — согласился Майло.
Изнутри комната казалась еще больше. По крайней мере семь метров в длину и столько же в ширину, чуть ли не пятиметровый потолок с лепными украшениями, имитирующими сплетенные из ткани косички. Двухметровую каминную полку белого мрамора украшали золотые часы и стайка миниатюрных серебряных птичек.
Сидевший на часах золотой орел взирал свысока на этих мелких пичужек. Тут и там были расставлены стулья в стиле ампир с обивкой из камчатной ткани оливкового цвета, бросались в глаза причудливая трехстворчатая ширма, расписанная цветами подсолнуха, несколько малюсеньких инкрустированных золотом столиков непонятного назначения, картины, изображавшие сценки сельской жизни и грудастых дев с потупленным взором.
Извивающиеся плетеные косички тянулись к центру потолка, где заканчивались гипсовым узлом, с которого, словно гигантский брелок, свисала хрустальная с серебром люстра. Постель была накрыта стеганым атласным покрывалом кремового цвета. Гобеленовые подушки в изголовье были уложены в ровный ряд, частично перекрывая друг друга, как упавшие костяшки домино. В ногах поперек кровати аккуратно лежал шелковый халат. Кровать стояла на возвышении и оттого казалась еще выше, чем была на самом деле. Верхушки стоек полога почти касались потолка.
В слабом свете хрустальных бра, расположенных возле кровати, кремовый цвет приобретал оттенок английской горчицы, а темно-фиолетовое ковровое покрытие казалось серым. Майло щелкнул выключателем, и комнату залил яркий свет люстры.
Он заглянул под кровать, выпрямился и сказал:
— С такого пола хоть ешь. Когда здесь убирали?
— Вероятно, сегодня утром. Мама обычно убирает сама — я не хочу сказать, что она пылесосит или делает какую-то тяжелую работу. Но застилать постель ей нравится самой. Она очень аккуратна.
Вслед за Майло я посмотрел на ночные столики в китайском стиле. На обоих стояло по телефону цвета слоновой кости, стилизованным под старину. В центре левого столика в вазочке стояла красная роза. Рядом лежала книга в жестком переплете.
Все шторы были задернуты. Майло подошел к одному из окон, отдернул шторы, открыл окно и выглянул наружу. В комнату проникла струя свежего воздуха.
Изучив то, что можно было видеть, он отвернулся от окна, подошел к левому ночному столику, взял в руки книгу и открыл ее. Перелистал несколько страниц, потом повернул книгу вверх ногами и потряс. Ничего не выпало. Открыв дверцу тумбы, он наклонился и заглянул внутрь. Пусто.
Я подошел и посмотрел на обложку книги. Поль Теру. «Патагонский экспресс».
— Это книга о путешествиях, — сказала Мелисса. Майло молча продолжал осмотр комнаты.
У стены, противоположной по отношению к кровати, стояли трехметровый шкаф из ореха с позолотой и широкий резной комод, инкрустированный в стиле маркетри травами и цветами. На крышке комода располагались флаконы и флакончики с духами и мраморные часы. Майло открыл верхнюю секцию шкафа. Там оказался цветной телевизор «Сони» с девятнадцатидюймовым экраном, выпущенный не меньше десяти лет назад. На телевизоре лежал «ТВ-гид». Майло открыл его и перелистал. Нижняя секция шкафа была пуста.
— А видео нет? — спросил он.
— Маме не очень нравятся фильмы.
Майло перешел к комоду, выдвинул один за другим ящики, провел руками по атласам и шелкам.
Мелисса с минуту смотрела на него, потом спросила:
— А что, собственно, вы ищете?
— Где она держит остальную свою одежду?
— Вон там. — Она указала на резные вращающиеся двери на левой стороне комнаты. Двери из индийского розового дерева были инкрустированы медными и латунными вьющимися растениями, а мотив в верхней части дверей вызывал в памяти Тадж-Махал.
Майло бесцеремонно толкнул их.
За дверями оказался короткий и низкий холл, в который выходили еще три двери.
Первая вела в ванную комнату, облицованную зеленым мрамором, красоту которого подчеркивали зеркала с оттенком шампанского. Оборудование этой комнаты составляли утопленная в пол круглая ванна, размеры которой были бы достаточны для семейного купания, золотые краны, унитаз и биде из зеленого мрамора. Шкафчик аптечки был замаскирован под еще одну зеркальную панель. Майло отодвинул дверцу и взглянул на содержимое. Аспирин, зубная паста, шампунь, тюбики губной помады, несколько баночек с косметикой. Шкафчик был полупустой.
— Вы можете сказать, взяла ли она что-нибудь отсюда?
Мелисса покачала головой.
— Здесь все, что у нее есть. Она не очень увлекается косметикой.
За второй дверью помещался платяной шкаф размером с комнату, в центре которого стояли макияжный столик и скамья с мягкой обивкой и где все было в таком же порядке, как на подносе с инструментами в операционной. Плечики цвета шампанского, с мягкими подушечками, все обращены в одну сторону. Две стены отделаны кедром, две затянуты розовой узорчатой тканью. Подвешенные к потолку брусья для плечиков, из твердой древесины.
Одежда рассортирована по типам, но особенно сортировать было нечего. По большей части там были платья бледных тонов. Несколько вечерних платьев и меховых вещей у задней стенки; с некоторых еще не сняты фирменные торговые ярлыки. Пар десять туфель, из них три пары — кроссовки. В специальных отделениях, расположенных вдоль задней стенки, сложены майки и свитеры. Заполнено не более четверти всего места на брусьях для плечиков.
Здесь Майло не торопился: проверял карманы, становился на колени и осматривал пол под одеждой. Не найдя ничего, перешел в третью комнату.
Наполовину библиотека, наполовину гимнастический зал. По стенам от пола до потолка дубовые книжные полки, покрытый лаком пол из деревянных плиток. Передняя половина комнаты была застлана соединяющимися резиновыми матами. На этом резиновом покрытии размещались стационарный велосипед, гребной тренажер, моторизованная дорожка и переносная стойка с облегченными хромированными гантелями. На руле велосипеда висели дешевые электронные часы. Две неоткупоренные бутылки воды «Эвиан» стояли на небольшом холодильнике рядом с гантельной стойкой. Майло открыл его. Пусто.
Он прошел в глубину комнаты и провел пальцем вдоль нескольких полок. Я прочитал заглавия книг.
Опять Теру. Ян Моррис. Брюс Четуин.
Атласы. Альбомы ландшафтных фотографий. Иллюстрированные рассказы о путешествиях от викторианской эпохи до современности. Одюбоновские путеводители по Западу для любителей птиц. Путеводители Филдинга по всем остальным местам. Все номера журнала «Нэшнл джиографик» за семьдесят лет, переплетенные в коричневые обложки. Стопки журналов «Смитсониан», «Оушенз», «Нэчерэлхистори», «Трэвел», «Спорт дайвер», «Конносер».
В первый раз с момента появления Майло в особняке он показался мне встревоженным. Но это впечатление было мимолетным. Он обвел взглядом остальные книжные полки и сказал:
— Похоже, тут у нас просматривается определенная тема.
Мелисса промолчала.
Я тоже.
Никто не набрался смелости выразить очевидное словами.
* * *
Мы вернулись в спальню. Мелисса казалась притихшей.
Майло спросил:
— Где у нее лежат банковские книжки и денежные документы?
— Я не знаю, не уверена, держит ли она их здесь.
— Почему нет?
— Ее банковские дела ведет мистер Энгер из «Ферст фидьюшиери траст». Он президент банка. Его отец знал моего.
— Энгер, — повторил Майло, записывая. — Знаете номер телефона на память?
— Нет. Банк находится на бульваре Кэткарта, всего в нескольких кварталах от того места, где вы сворачиваете, когда едете сюда.
— Не скажете ли, сколько у нее там счетов и какие?
— Не имею ни малейшего представления. У меня там два — мой счет, которым банк управляет по доверенности, и еще один, которым я пользуюсь для текущих расчетов. — Она многозначительно помолчала. — Так хотел папа.
— А ваш отчим? Где у него счет?
— Понятия не имею. — Она принялась разминать руки.
— Нет оснований думать, что у него какие-то финансовые затруднения?
— Откуда мне знать?
— А что за рестораны он содержит?
— Бифштексы и пиво.
— На ваш взгляд, дела у него идут хорошо?
— Довольно неплохо. У него подают много сортов импортного пива. В Сан-Лабрадоре это считается экзотикой.
— Кстати, о пиве. Я бы выпил что-нибудь — сока или содовой. Со льдом. Здесь наверху найдется холодильник с чем-нибудь таким?
Она кивнула.
— В конце коридора есть кухня для обслуживающего персонала. Я могу принести вам что-нибудь оттуда. А вам, доктор Делавэр?
— Да, пожалуйста.
— Кока-колы, — уточнил Майло.
Я сказал, что выпью того же, что и он.
— Значит, две кока-колы. — Она осталась на месте.
— Что-нибудь не так? — спросил Майло.
— Вы здесь уже закончили?
Он еще раз огляделся.
— Да, конечно.
Мы прошли через гостиную и вышли в коридор. Мелисса закрыла дверь и сказала:
— Две кока-колы. Я быстро.
Когда она ушла, я спросил:
— И что же ты думаешь?
— Что думаю? Думаю, что и в самом деле на деньги счастья не купишь, братец. Эта комната, — он показал большим пальцем через плечо на дверь, — дьявольски похожа на номер в гостинице. Она как будто прилетела на «Конкорде», распаковала вещи и отправилась осматривать достопримечательности. Как, черт побери, она могла вот так жить, не оставляя нигде ни кусочка себя самой? И куда, к дьяволу, она девала себя целый день?
— Читала и повышала мышечный тонус.
— Ну да, — сказал он. — Читала книги о путешествиях. Это как дурацкая шутка. Юмор в представлении какого-нибудь режиссера, ставящего фильмы ужасов.
Я промолчал.
— Что? Думаешь, я потерял способность к состраданию?
— Ты же говоришь о ней в прошедшем времени.
— Сделай одолжение, не интерпретируй. Я ведь не говорю, что она мертва, просто ее здесь нет. Нутром чую, что она уже какое-то время планировала упорхнуть из клетки и наконец набралась храбрости это сделать. Наверно, жмет сейчас на своем «роллсе» на всю катушку по шоссе №66, стекла опущены, и распевает во все горло.
— Не знаю, — возразил я. — Я как-то не представляю себе, чтобы она бросила Мелиссу на произвол судьбы.
Он коротко и жестко засмеялся.
— Алекс, я знаю, она твоя пациентка, и ты явно ей симпатизируешь, но, судя по тому, что я видел, девчонка действует на нервы. Ты сам слышал, как она сказала насчет того, что мамочка никогда не повышала на нее голос. Это нормально? Может, у мамашки в конце концов лопнуло всякое терпение. А ты видел, как она обошлась с Рэмпом? И предложила мне проверить его — без всякой серьезной на то причины? Я бы не мог долго терпеть подобные выкрутасы. Конечно, у меня нет докторской степени по ребячьей психологии. Но ведь и у мамашки тоже нет.
Я сказал:
— Она славная девчушка, Майло. Исчезла ее мать. Неужели нельзя, по-твоему, относиться к ней сейчас помягче?
— Можно подумать, она была паинькой до исчезновения матери. Ты же сам говорил — вчера она закатила ей истерику и убежала из дому.
— Ладно. Да, у нее бывают срывы. Но мать ее любила. Они очень близки между собой. Я просто не представляю, чтобы она сбежала.
— Не хочу никого обидеть, Алекс. Но насколько хорошо ты на самом деле знаешь эту даму? Ты видел ее один раз. Она — бывшая актриса. А относительно их близости между собой подумай вот о чем: она никогда не кричала на девчонку. Ни разу за все восемнадцать лет? Каким бы хорошим ни был ребенок, время от времени на него приходится покрикивать, верно? Эта леди, должно быть, сидела на пороховой бочке. Злость на то, что сделал ей Макклоски. Горе от потери мужа Раздражение от того, что проблемы держат ее взаперти. Это даже не бочка, а бочища, верно? И именно ссора с девчонкой подпалила в конце концов фитиль. Дочка опять дала волю языку, и на этот раз чаша терпения матери переполнилась. Она долго прождала ее, но та не вернулась, и она сказала: а пошли вы все туда-то, и сколько можно сидеть и читать про все эти дальние страны, надо поехать и посмотреть на них.
Я сказал:
— Предположим, что ты прав. Как думаешь — она вернется или нет?
— Вероятно, да. Она ничего с собой не взяла. Хотя кто знает?
— И что же будем делать дальше? Еще что-нибудь для отвода глаз?
— Не еще. Отвод глаз даже и не начинался. Когда я рылся в ее комнате, то делал реальную работу. Я хотел почувствовать атмосферу. Как если бы находился на месте преступления. И знаешь что? Уж сколько я видел на своем веку комнат, залитых кровью, однако это место даст им сто очков вперед по жути, которую наводит. В нем ощущалась… пустота. Недобрые вибрации. Мне приходилось видеть в Азии джунгли, где я чувствовал нечто похожее. Стоит мертвая тишина, но ты знаешь, что под спудом что-то происходит.
Он покачал головой.
— Ты только послушай, что я говорю. Вибрации. Флюиды. Такое может нести какой-нибудь болван из «Нью эйдж».
— Нет, — сказал я. — Я это тоже почувствовал. Вчера, когда я был здесь, дом напомнил мне пустой отель.
Он завращал глазами, состроил гримасу в подражание карнавальной маске накануне Дня всех святых, скрючил пальцы в когти и стал царапать воздух.
— Мотель «Рр-р-ич», — прорычал он. — Туда въезжают, но оттуда не выезжают.
Я засмеялся. Совершенно безвкусная шутка. Но она создавала мучительно хорошее ощущение. Совсем как те шутки, которые отпускались на собраниях медперсонала в те далекие времена, когда я работал в больнице.
Он сказал:
— Наверно, надо поработать над этим делом пару дней. Скорее всего, к тому времени она объявится. Альтернативный вариант — отказаться прямо сейчас, но это только испугает девочку и Рэмпа и заставит их кинуться к кому-нибудь другому. А другие могут их и ободрать. Лучше уж я заработаю свои семьдесят в час.
— Я как раз собирался спросить тебя об этом, — сказал я. — Мне ты говорил о пятидесяти.
— Пятьдесят и было — сначала. А потом я приехал и увидел дом. Теперь, когда я получил кое-какое представление об интерьере, жалею, что не запросил девяносто.
— Скользящая шкала?
— Вот именно. Богатством надо делиться. Полчаса в этом доме — и я уже готов голосовать за социалистов.
— Может, и Джина чувствовала то же самое, — заметил я.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ты видел, как мало у нее одежды. А потом эта гостиная. Как она переменила там обстановку. Заказывала по каталогу. Может, ей просто захотелось вырваться отсюда.
— А может, это просто снобизм наоборот, Алекс. Вот как, например, иметь дорогие произведения искусства и держать их сваленными наверху.
Я собирался рассказать ему о том эстампе Кассатт в кабинете у Урсулы Каннингэм-Гэбни, но мне помешало возвращение Мелиссы с двумя стаканами. Она пришла в сопровождении Мадлен и двух латиноамериканок лет тридцати с небольшим, которые едва доставали француженке до плеча, у одной длинные волосы были заплетены в косу, а у другой была коротко подстриженная густая грива. Если они и снимали свои форменные платья на вечер, то сейчас снова их надели. Успели даже подкраситься. Они казались излишне бойкими и настороженными — как пассажиры, проходящие таможенный досмотр в недружественном порту.
— Это детектив Стерджис, — проговорила Мелисса, вручая нам стаканы с кока-колой. — Он здесь затем, чтобы выяснить, что случилось с мамой. Детектив, познакомьтесь с Мадлен де Куэ, Лупе Ортега и Ребеккой Мальдонадо.
Майло сказал:
— Дамы, очень приятно.
Мадлен скрестила руки на груди и кивнула. Другие женщины просто смотрели во все глаза.
— Мы ждем Сабино, нашего садовника, — продолжала Мелисса. — Он живет в Пасадене. Долго ждать не придется. — Она повернулась к нам. — Они сидели у себя в комнатах. Я решила, что им вполне можно выйти. И, по-моему, вы вполне можете начать прямо сейчас. Я уже спросила их…
Ее прервал дверной звонок.
Сказав: «Секундочку», она побежала вниз по ступеням. Я смотрел на нее с верхней площадки лестницы и видел, как она шла через холл к двери. Но опередивший ее Рэмп уже открывал дверь. Вошел Сабино Хернандес, а за ним пятеро его сыновей. Все шестеро мужчин были одеты в спортивные рубашки с короткими рукавами и легкие брюки. Они встали по стойке «вольно». Один был в галстуке «боло», двое предпочли шейный платок. Они стали озираться вокруг — под впечатлением обстоятельств или размеров дома. Интересно, сколько раз за все эти годы они фактически бывали внутри.
Мы собрались в передней комнате. Майло стоял с блокнотом и ручкой наготове, все остальные сидели на краешках мягких стульев. Девять лет превратили Хернандеса в старика — как лунь седого, сгорбленного, с обвисшими щеками. Руки у него мелко дрожали. Он казался слишком хилым для физической работы. Его сыновья, которых тот же отрезок времени преобразил из мальчиков в мужчин, окружали его подобно подпоркам, поддерживающим старое, больное дерево.
Майло задавал свои вопросы, призывая их тщательно покопаться в памяти. В ответ получил мокрые глаза женщин и острые, настороженные взгляды мужчин.
Единственным новым событием оказался рассказ очевидца, ставшего свидетелем отъезда Джины. Двое сыновей Хернандеса работали перед домом как раз в то время, когда Джина выезжала из ворот. Один из них, Гильермо, подстригал дерево, росшее рядом с подъездной дорожкой, и фактически видел ее, когда она проезжала мимо. Он видел ее ясно, потому что стоял по правую руку от «роллс-ройса», у которого руль справа, а тонированное стекло было опущено.
Сеньора не улыбалась и не хмурилась — у нее просто было серьезное лицо.
Руль она держала обеими руками.
Ехала очень медленно.
Она не заметила его, не сказала «до свидания».
Это было немного необычно — сеньора всегда бывала очень дружелюбна. Нет, она не казалась испуганной или расстроенной. Не казалась и сердитой. Что-то другое — он стал искать подходящее английское слово. Посоветовался с братом. Хернандес-старший смотрел прямо перед собой отрешенным взглядом, словно происходящее никак его не касалось.
— Думала, — сказал Гильермо. У нее было такое выражение, как будто она о чем-то думала.
— А о чем, не представляете?
Гильермо покачал головой.
Майло адресовал этот вопрос им всем.
Непроницаемые лица.
Одна из горничных-латиноамериканок опять заплакала.
Мадлен толкнула ее и продолжала смотреть прямо перед собой.
Майло спросил француженку, не хочет ли она что-либо добавить.
Та сказала, что мадам — прекрасный человек.
Non. Она не имеет никакого представления о том, куда уехала мадам.
Non, мадам не взяла с собой ничего, кроме своей сумочки. Своей черной сумочки из телячьей кожи от Джудит Лайбер. Это ее единственная сумочка. Мадам не любит иметь много разных вещей, но то, что у нее есть, отличного качества. Мадам всегда такая… tres classique.
Новые потоки слез у Лупе и Ребекки.
Хернандесы заерзали на своих стульях.
Все выглядели растерянными и подавленными. Рэмп рассматривал костяшки пальцев. Даже Мелисса, казалось, сникла.
Майло начал зондировать, сначала мягко, потом более настойчиво. Я поразился его высокому профессионализму.
Но результат оказался нулевым.
Атмосферу беспомощности, которая воцарилась в комнате, казалось, можно было потрогать рукой. Когда Майло задавал вопросы, никто не устанавливал очередности ответов, никто не вышел вперед, чтобы говорить от имени всех.
Когда-то все было иначе.
Похоже, Джейкоб — твой хороший друг.
Он за всеми присматривает.
Датчи так никто и не заменил.
А теперь еще и это.
Казалось, сама судьба ополчилась на этот большой дом, позволяя ему рассыпаться — камень за камнем.
17
Майло отпустил прислугу и попросил, чтобы ему отвели место для работы.
Рэмп сказал:
— Располагайтесь, где вам будет удобно.
— В кабинете на первом этаже, — предложила Мелисса и привела нас в комнату без окон, где висела картина Гойи. Стоявший в центре комнаты белый французский письменный стол был слишком мал для Майло. Он сел за него, попытался устроиться поудобнее, оставил эти попытки и скользнул взглядом от одной заставленной книгами стенки до другой.
— Здорово смотрится.
Мелисса сказала:
— Здесь был кабинет отца. Он специально спроектировал эту комнату без окон, чтобы ничто не отвлекало от работы.
— Угу, — пробормотал Майло. — Он выдвинул ящики стола и снова их задвинул. Вынул свой блокнот и положил его на стол. — Какие-нибудь телефонные справочники здесь есть?
— Вот они, — откликнулась Мелисса и открыла дверцу шкафчика под полками. Вынула целую кипу справочников и водрузила ее перед Майло, заслонив всю нижнюю половину его лица. — Этот черный, что наверху, — частный справочник по Сан-Лабрадору. В него дают номера своих телефонов даже те, кто не хочет фигурировать в обычном телефонном справочнике.
Майло разделил кипу на две невысокие стопки.
— Начнем с номеров ее кредитных карточек.
— У нее есть все основные, — сказал Рэмп, — но я не могу назвать номера по памяти.
— Где она держит выписки своих счетов?
— В банке. «Ферст фидьюшисри» — это здесь, в Сан-Лабрадоре. Счета за покупки поступают прямо туда, и банк их оплачивает.
Майло повернулся к Мелиссе.
— А вы знаете какие-нибудь номера?
Она покачала головой и виновато взглянула на него, словно студентка, оказавшаяся неподготовленной.
Майло что-то себе записывал.
— Как насчет номера ее водительского удостоверения?
Молчание.
— Ну, это не трудно узнать, — сказал Майло, продолжая писать. — Теперь персональные данные — рост, вес, дата рождения, девичья фамилия.
— Сто семьдесят четыре, — ответила Мелисса. — Около сорока семи килограммов. День рождения у нее двадцать третьего марта. Девичья фамилия Пэддок. Реджина Мари Пэддок. — Она продиктовала это по буквам.
— Год рождения?
— Тысяча девятьсот сорок шестой.
— Номер карточки социального страхования?
— Я не знаю.
Рэмп сказал:
— Я никогда не видел ее карточку — уверен, что Глен Энгер может найти вам этот номер по ее налоговым декларациям.
Майло спросил:
— Значит, она не держит дома никаких бумаг?
— Насколько мне известно, нет.
— Сан-лабрадорская полиция ни о чем таком вас не спрашивала?
— Нет, — ответил Рэмп. — Возможно, они рассчитывали получить информацию из другого источника — из городского судебного архива, например.
Мелисса сказала:
— Верно.
Майло отложил ручку.
— Ладно, пора приниматься за дело. — Он потянулся к телефону.
Ни Рэмп, ни Мелисса не сдвинулись с места.
— Не стесняйтесь, если хотите остаться на шоу, — пригласил их Майло. — Но предупреждаю: если вас клонит ко сну, то это вас доконает окончательно.
Мелисса нахмурилась и быстро вышла из комнаты.
Рэмп сказал:
— Не буду мешать вам, мистер Стерджис. — Он повернулся и ушел.
Майло снял трубку.
Я пошел искать Мелиссу и нашел ее на кухне, где она заглядывала в один их стенных шкафов. Она вытащила бутылку оранжада, отвинтила колпачок, достала стакан и стала наливать себе напиток. Пролила немного на стойку, но вытереть и не подумала.
Все еще не видя меня, она поднесла стакан к губам и так резко глотнула, что закашлялась.
Брызгая во все стороны, она хлопала себя по груди. Увидев меня, захлопала еще сильнее. Когда приступ кашля прошел, она сказала:
— Изумительное зрелище, не правда ли? — И тихим голосом добавила:
— Все получается у меня шиворот-навыворот.
Я подошел ближе, оторвал кусок бумажного полотенца от рулона на деревянной подставке и подтер лужицу.
Она заявила:
— Дайте-ка, я сама сделаю. — Взяла у меня полотенце и стала тереть уже сухие места.
— Я знаю, каково тебе приходится, — сказал я. — Два дня назад мы говорили о Гарварде.
— Гарвард, — усмехнулась она. — Велика важность.
— Надеюсь, он снова вернет себе статус великой важности, и притом скоро.
— Ну да, правильно. Как будто я теперь смогу вообще уехать.
Скомкав полотенце, она бросила его на стойку. Подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза, приглашая поспорить.
Я сказал:
— В итоге ты поступишь так, как будет лучше для тебя.
У нее в глазах мелькнуло выражение неуверенности, потом их взгляд переместился на бутылку с оранжадом.
— Боже, вам я даже и не предложила. Извините.
— Ничего. Я ведь только что пил колу.
Словно не слыша, она продолжала:
— Давайте-ка, я сейчас вам налью. — Она достала еще один стакан. Когда ставила его на стойку, ее рука дернулась, и стакан заскользил по поверхности. Она поймала его прежде, чем он упал на пол. Но он выскочил у нее из рук, и ей пришлось ловить его опять. Тяжело дыша, она уставилась на стакан, потом пробормотала: «Черт бы тебя побрал!» — и выбежала из кухни.
Я опять пошел искать ее, прошел по всему первому этажу дома, но ее нигде не было. Поднялся по зеленой лестнице и подошел к ее комнате. Дверь была открыта. Я заглянул внутрь, никого не увидел, позвал ее по имени, но ответа не получил. Войдя в комнату, я вошел в мираж: меня обступили кристально-четкие воспоминания о месте, где я никогда не был.
Потолок представлял собой фреску, изображавшую придворных дам в пышных платьях, которые наслаждались жизнью, вероятно, в Версале. Пол был устлан ковровым покрытием цвета малинового щербета. Стены оклеены обоями в розовых и серых тонах (розовые ягнята и серые котята). На окнах кружевные занавески. Кровать была миниатюрной копией материнской. Полки, сплошь заставленные музыкальными шкатулками, миниатюрной посудой и фигурками. Три кукольных домика. Зоопарк мягких зверей.
Точное соответствие описанию девятилетней давности.
Комната, где она ни разу не спала.
Единственной уступкой повзрослению был письменный стол, стоявший справа от кровати, с персональным компьютером, матричным принтером и стопкой книг.
Я посмотрел, что за книги. Два руководства по подготовке к приемным экзаменам. «Игра в университеты: вы планируете свою академическую карьеру». Справочник Фаулера по американским университетам. Информационные брошюры из полудюжины крупнейших университетов. Та, что из Гарварда, сильно зачитана, отделение психологии отмечено закладкой.
Руководства, касающиеся будущего, в комнате, которая цепляется за прошлое. Как будто развивался лишь ум, а все остальное стояло на месте.
А что, если я был введен в заблуждение тогда, девять лет назад, и поверил, что она изменилась больше, чем это было на самом деле?
Я вышел из комнаты, подумал, не поискать ли ее на втором и на третьем этаже, и понял, что мне этого совсем не хочется.
Я спустился вниз и постоял в холле, в полном одиночестве. Человек без функции. Трехметровые мраморные часы с таким разукрашенным циферблатом, что трудно было по нему ориентироваться, показывали без четверти двенадцать. С момента исчезновения Джины Рэмп прошло почти девять часов.
Пора было немного поспать, оставив расследование профессионалам.
Я пошел сказать профессионалу, что ухожу.
Он стоял за письменным столом — галстук ослаблен, рукава небрежно закатаны до середины расстояния между запястьем и локтем, подбородок придерживает трубку — и быстро записывал.
— Угу… А вообще на него можно положиться?.. Ах, так? Не знал, ребята, что у вас такие успехи. Вот как?.. Ну, вы даете… Может, и стоит об этом подумать, да. В любом случае, во сколько это было?.. Хорошо, да, я знаю, где это. Спасибо, что поговорили со мной на этой стадии дела… Да, да, официально, хотя я не в курсе, что они активно этим занимаются, — Сан-Лабрадор… Да, я знаю. Все равно, хотя бы на всякий случай… Да, спасибо. Очень вам признателен. Пока.
Он положил трубку и сказал:
— Это из службы дорожного патрулирования. Похоже, моя шоссейная теория получает кое-какое подтверждение. Есть информация, что машину, возможно, видели. В три тридцать дня, на 210-м, едущей в восточном направлении, недалеко от Азузы. Отсюда это около шестнадцати километров, так что по времени подходит.
— Что ты имеешь в виду, говоря «возможно, видели», и почему так поздно об этом узнали, если машину заметили уже так давно?
— Источник информации — отдежуривший полицейский мотоциклист. Он болтался дома, слушал свой сканер, случайно услышал объявление о розыске и позвонил на службу. Получилось так, что в три тридцать он засек превышение скорости, заволок нарушителя на левую обочину ведущей на запад полосы 210-го и выписал ему повестку, когда вдруг заметил, как этот «роллс» — или просто похожий на этот — промчался мимо в противоположном направлении, по восточной полосе. Все случилось так быстро, что он не успел толком рассмотреть номерные знаки, заметил только, что они английские. Ну как, ты получил ответ на оба вопроса?
— Кто был за рулем?
— Этого он тоже не видел. Да и не мог бы, даже если это была она, — стекла-то дымчатые.
— Так он заметил, что стекла дымчатые?
— Нет. Он смотрел на саму машину. На форму корпуса. Он вроде как коллекционер, у него «бентли» примерно того же периода.
— «Бентли» у простого полицейского?
— Моя первая реакция была точно такая же. Парень, с которым я только что говорил — он сержант, служит в полиции Сан-Гейбриела, — приятель того парня. Тот связался лично с ним, потому что тоже помешан на машинах, собирает «корветы». Очень многие полицейские увлекаются колесами, даже подрабатывают, чтобы оплачивать свои игрушки. Так вот, он сказал мне, что некоторые старые модели «бентли» не такие уж и дорогие. Тысяч двадцать или около того, и даже дешевле, если купить разбитую машину и самому починить. «Роллсы» того же года стоят дороже, потому что считаются более редкими — этих «серебряных зорь», например, было выпущено всего несколько сотен. Именно поэтому первый парень и заметил машину.
— То есть, вероятно, это ее машина.
— Вероятно. Но не бесспорно. Парню, который видел ее, показалось, что там был черный верх и серый низ, но он не уверен — она могла быть вся черная или иметь темно-серый верх и светло-серый низ. Ведь она промчалась мимо на скорости около ста километров в час.
— А много ли «роллсов» старых моделей может разъезжать в это время и в этом месте?
— Больше, чем ты думаешь. По всей видимости, их прилично осело в Лос-Анджелесе в те времена, когда доллар еще кое-что стоил. А в районе Пасадены и Сан-Лабрадора живет множество коллекционеров. Но вообще-то да, я бы сказал, что на девяносто с лишним процентов можно считать, что это была она.
— На восток по 210-му, — сказал я, представляя себе эту широкую автостраду — Куда она могла направляться?
— Куда угодно, но очень скоро ей пришлось бы принимать решение — автострада кончается километрах в двадцати пяти от того места, немного не доезжая Ла-Верна. На север будет «Анджелес-Крест», но я не думаю, что ей захочется его преодолеть. К югу она могла свернуть на любую из других дорог — на 57-ю, идущую точно на юг, или на 10-ю в любом направлении, и тогда могла уехать куда угодно от побережья до Вегаса. Или она проехала прямо, до предгорий, и исчезла из вида у Ранчо-Кукамонга — а что там дальше-то, черт побери?
— Не знаю. Но думаю, что она, вернее всего, будет держаться ближе к цивилизации.
Он кивнул.
— Да. К цивилизации в ее понимании. У меня на уме такие места, как Ньюпорт-Бич, Лагуна, Ла-Джолла, Пома, Санта-Фе-Спрингс. Но и это не намного сужает крут поисков. Или, быть может, она развернулась кругом и отправилась к себе в Малибу.
— Рэмп дважды звонил туда, но она не ответила.
— Может, у нее не было настроения снимать трубку?
— Если она едет в одном направлении, с какой стати вдруг развернется, чтобы ехать в противоположном?
— Скажем, все началось импульсивно — она просто катается ради того, чтобы кататься. Попадает на скоростную трассу, едет, подхваченная общим потоком — случайно на восток. Может, все дело в том, что это первый путь, который ей попадается. Когда автодорога кончается, она решает, куда конкретно поедет. А что ближе всего к дому? Дом номер два. Или предположим, что на восток она ехала намеренно. Это означает дорогу номер 10 и целый букет других возможностей: Сан-Бернардино, Палм-Спрингс, Вегас. И то, что лежит дальше. А дальше, Алекс, необъятные дали — она может доехать хоть до самого Мэна, если машина выдержит. Если нет, то она, имея такие деньги, может бросить ее и быстро достать другую. А чтобы с легкостью податься на все четыре стороны, нужно иметь лишь время и деньги, а ни с тем ни с другим у нее проблем нет.
— Страдающий агорафобией человек совершает поездку по живописным местам?
— Ты сам говорил, что она находится на пути к излечению. Может, скоростная трасса как раз и помогла — весь этот ровный асфальт и никаких светофоров. Такое может дать человеку ощущение собственного могущества. Может родить в нем желание позабыть о правилах. Разве не для этого люди вообще выезжают на трассу?
Я задумался над его словами. Вспомнил, как впервые оказался на шоссе в шестнадцать лет, направляясь на запад, чтобы поступить в университет. Как впервые перевалил за Скалистые горы и увидел пустыню ночью, какой испытал тогда восторг и ужас. Как впервые моему взору предстала грязно-коричневая дымка смога, нависшая над впадиной, в которой лежал Лос-Анджелес, — тяжелая и угрожающая, она все же была бессильна отнять блеск у тех радужных перспектив, какие сулил город, погруженный в сумерки.
— Наверно, — сказал я.
Майло вышел из-за стола и обошел его кругом.
— Что же дальше? — спросил я.
Сообщим эту информацию, потом расширим розыск — сейчас у нас уже больше половины шансов за то что к этому времени она уже за пределами округа.
— Или ее машина.
Он поднял брови.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Возможно, с ней что-то случилось, так? Тогда за рулем был кто-то другой.
— Все возможно, Алекс. Но если бы ты был бандитом, ты увел бы именно эту машину?
— Кто-то сказал мне давным-давно, что попадаются только дураки.
— Ты предпочитаешь подозревать преступление? Дело твое. Мне на данной стадии потребовалось бы обнаружить нечто действительно скверное, чтобы рассматривать этот случай не просто как побег взрослого человека из дому. Да еще такой, который явно не сделает из меня героя.
— Как прикажешь тебя понимать?
— Среди пропавших без вести убежавшие из дому труднее всех поддаются розыску, при любых обстоятельствах. А богатые — это худшие из худших. Потому что богатые диктуют свои правила игры. Они покупают за наличные, никуда не нанимаются на работу, не участвуют ни в каких обществах взаимного кредита — то есть не делают ничего такого, что оставляет за человеком бумажный след. За примером далеко ходить не надо. Посмотри, что получается с Рэмпом и девчонкой. Обычный муж гораздо больше в курсе относительно кредитных карточек своей жены и номера ее карточки социального страхования. Обычные муж и жена делятся друг с другом. А эти люди живут раздельно — во всяком случае, в смысле денег Богачи знают силу баксов — они разгораживают свои капиталы и оберегают их, словно зарытые сокровища.
— Отдельные банковские счета и отдельные спальни, — сказал я.
— Вот где настоящая близость, а? Похоже, он ее даже не знает Неизвестно, зачем она вообще вышла за него замуж, — девчонка права.
— Может, ей понравились его усы.
Он улыбнулся короткой, грустной улыбкой и направился к двери. Оглянувшись на комнату без окон, заметил:
— Комната, где ничто не мешает сосредоточению. Лично мне очень скоро захотелось бы драпануть отсюда куда глаза глядят.
Я подумал о другой комнате без окон и стал рассказывать:
— Кстати, об интерьерах. Когда я был в клинике Гэбни, меня поразило сходство между внутренней отделкой кабинета Урсулы Гэбни и тем, как Джина обставила эту свою гостиную на втором этаже. Точно та же цветовая гамма, тот же стиль мебели. И единственным украшением кабинета Урсулы был эстамп работы Кассатт. Мать и дитя.
— И что же это означает, доктор?
— Точно не знаю, но если этот эстамп — подарок, то это чертовски щедрый подарок. В последний раз, когда я смотрел аукционный каталог, эстампы Кассатт в хорошем состоянии были в цене.
— Почем?
— От двадцати до шестидесяти тысчонок за черно-белые. Цветные — еще дороже.
— Тот эстамп, что у докторши, тоже цветной?
Я кивнул.
— Очень похож на Джинин.
— Больше шестидесяти тысяч, — задумчиво проговорил он. — А каковы нынешние воззрения относительно того, что лечащие врачи принимают подарки от пациентов?
— Это не криминал, но вообще считается неэтичным.
— Ты думаешь, что здесь может быть что-то вроде дела Свенгали?
— Ну, может быть, ничего такого зловещего, — сказал я. — Просто чрезмерная вовлеченность, собственнические притязания. Похоже, Урсула чувствует что-то вроде ревности к Мелиссе — такая детская ревность встречается между родными братьями и сестрами. Словно хочет, чтобы Джина принадлежала исключительно ей одной. Мелисса это почувствовала. С другой стороны, здесь просто может быть затронута профессиональная гордость. Лечение велось интенсивно. Она прошла с Джиной большой путь — изменила всю ее жизнь.
— Заодно и ее мебель.
Я пожал плечами.
— Может, я и зарапортовался. Или вижу все наоборот. Ведь и пациенты оказывают влияние на своих врачей. Это называется обратный перенос Урсула могла купить себе работу Кассатт, потому что увидела Джинину, и она ей понравилась. При тех гонорарах, которые заламывает клиника, она вполне могла это себе позволить.
— Что, дело поставлено на большие баксы?
— На мегабаксы. Когда бывают задействованы оба Гэбни, они берут пять сотенных в час с пациента. Три сотни стоит час его времени и две сотни — ее.
— Разве она не слышала никогда о равной плате за равный труд?
— Ее труд даже больше, чем равный. У меня такое впечатление, что она-то и проводит львиную долю самого лечения, а он себе посиживает и изображает ментора.
Майло поцокал языком.
— Ну, и она неплохо зарабатывает при этом. Пять сотен. — Он покачал головой. — Здорово устроились. Заимей горсточку богатеньких пациентов с серьезной душевной болью — и знай греби денежки лопатой.
Он сделал шаг и остановился.
— Ты не думаешь, что эта Урсула что-то скрывает?
— Скрывает? Но что она может скрывать?
— Например, что ей все известно об этом деле. Если они так дружны, как ты предполагаешь, то Джина вполне могла поделиться с ней планами великого побега. Может, старушка Урсула даже думала, что для Джины это будет полезно, окажет на нее лечебное действие. Черт побери, да она, может, даже помогла все спланировать — ведь Джина исчезла по дороге в клинику.
— Все может быть, — сказал я. — Но я в этом сомневаюсь. Было похоже, что она действительно сильно расстроилась из-за исчезновения Джины.
— А что муж докторши?
— Говорил, что положено в таких случаях, но не производил впечатления сильно встревоженного. Утверждает, что не имеет привычки тревожиться — натренировал себя ничем не расстраиваться.
— По принципу, что врач должен сначала уметь исцелить себя? Или он просто-напросто не такой хороший актер, как его жена.
— Все трое в сговоре? — спросил я. — Я думал, тебе не по душе теории о заговорах.
— Мне по душе все, что подходит к данным обстоятельствам, — а пока, по-моему, не подходит ровным счетом ничего. Пока мы просто ломаем голову.
— В группе Джины есть еще две женщины, — сказал я. — Если она действительно планировала сбежать, то могла им как-то намекнуть об этом. Но когда я предложил Урсуле побеседовать с ними, она прямо-таки рогом уперлась — Джина-де с ними не общается, так что они ничем не могут быть полезны. Если она что-то скрывает, то, возможно, надеялась таким образом отшить меня.
Он чуть-чуть улыбнулся.
— Отшить? Мне показалось, что у вас это принято называть конфиденциальностью.
Мне стало жарко.
Майло похлопал меня по плечу.
— Ну-ну, что такое немножко реальной действительности между друзьями? Кстати говоря, мне следует сообщить новую информацию своим клиентам.
Мы нашли Рэмпа в задней комнате с расписными балками, где он сидел и пил. Шторы на французских дверях были задернуты, и он, полузакрыв глаза, смотрел куда-то в пространство. Его лицо горело ярким румянцем, а рубашка начала терять свежесть по краям. Когда мы вошли, он поприветствовал нас тоном радушного хозяина, встречающего гостей:
— Джентльмены!
Майло попросил его найти Мелиссу, и он вызвал ее комнату по встроенному в телефонный аппарат интеркому.
Не получив ответа, попробовал еще несколько комнат, но безуспешно, и посмотрел на нас снизу вверх с выражением беспомощности.
— Найду ее позже, — сказал Майло и передал Рэмпу информацию о том, что машину видели.
— На двести десятом, — повторил Рэмп. — Куда она могла ехать?
— Вам что-нибудь приходит на ум?
— Мне? Нет. Конечно, нет. Во всем этом нет никакого смысла… Что ей делать на автостраде? Она только что начала водить машину. Это просто безумие какое-то.
Майло сказал:
Неплохо было бы распространить розыск на территорию всего штата.
— Конечно. Валяйте, распространяйте.
— Это должно исходить от полицейского органа. Ваших местных копов, наверно, уже поставили в известность о том, что машину видели, и они сами, возможно, обратились с этой просьбой. Если хотите, я могу позвонить и узнать точно.
— Пожалуйста, — сказал Рэмп. Он встал и стал ходить по комнате. Его рубашка спереди выехала из-под пояса и болталась. На ней красными нитками была вышита монограмма «ДHP».
— Ехала по автостраде — от такого спятить можно. А они уверены, что это была она?
— Нет, — ответил Майло. — Они уверены лишь в том, что это была точно такая же машина, как у нее.
— Значит, это должна быть она. Сколько может существовать этих чертовых «серебряных зорь»?
Рэмп взглянул вниз, торопливо заправил рубашку.
Майло сказал:
— Следующим шагом будет обзвонить авиакомпании, потом завтра с утра пойти в банк и взглянуть на ее финансовые документы.
Рэмп впился в него взглядом, нащупал, словно слепой, край стоявшего поблизости кресла и опустился на сиденье, не сводя с Майло глаз.
— То, что вы говорили вначале, — ну, что это… что она убежала из дома. Вы ведь теперь думаете, что это точно, не так ли?
— Я пока ничего не думаю, — ответил Майло с мягкостью, которая удивила меня и заставила Рэмпа поднять голову чуть выше. — Я просто иду шаг за шагом — делаю то, что необходимо сделать.
Где-то в доме громко хлопнула дверь.
Рэмп вскочил, будто подброшенный пружиной, и выбежал из комнаты. Через несколько секунд он вернулся, ведя за собой Мелиссу.
Поверх рубашки на ней был надет жилет «сафари» цвета хаки, на ногах — ботинки с налипшей на них грязью и травой.
— Я велела ребятам Сабино проверить участок, — сказала она. — На всякий случай. — Быстро взглянула на Рэмпа. — Что тут у вас происходит?
Майло повторил ей то, что узнал.
— Автодорога, — произнесла Мелисса. Одна ее рука подкралась к другой и стала мять.
Рэмп сказал:
— Это совершенно непонятно, правда?
Она проигнорировала его, уперлась руками в бедра и повернулась лицом к Майло.
— Ладно, по крайней мере, с ней ничего не случилось. Что делать дальше?
— До утра буду висеть на телефоне, — ответил Майло. — Утром иду в банк.
— Зачем ждать до утра? Я прямо сейчас позвоню Энгеру и скажу, чтобы приехал сюда. Это самое малое, что он может сделать, — он неплохо зарабатывает на ведении дел нашей семьи.
— Хорошо. Скажите ему, что мне нужно просмотреть документацию вашей матери.
— Подождите здесь. Я позвоню ему прямо сейчас.
Она вышла из комнаты.
Майло сказал:
— Слушаюсь, мэм.
18
Она вернулась с клочком бумаги и вручила его Майло.
— Он примет вас там — вот адрес. Мне пришлось сказать ему, в чем дело, и дать понять, что от него требуется держать это при себе. Что делать мне, пока вас не будет?
— Звоните в авиакомпании, — ответил Майло. — Узнавайте, не покупал ли кто-нибудь билета куда-нибудь на имя вашей мамы. Говорите, что вы ее дочь и что она вам срочно нужна. Если это не сработает, пофантазируйте немного — ну, кто-то болен, и вам нужно обязательно разыскать ее по просьбе медиков. Проверьте вылеты из Лос-Анджелеса, Бербанка, Онтарио, Джон-Уэйна и Линдберга. Если хотите сделать это по-настоящему тщательно, проверьте и на девичью фамилию мамы. Я снова вернусь только в том случае, если в банке произойдет нечто неординарное. Вот мой домашний телефон.
Нацарапав номер на оборотной стороне листка, который она ему только что вручила, он оторвал половину и отдал ей.
— Звоните мне, если узнаете хоть что-то, — попросила Мелисса. — Даже если это будет казаться незначительным.
— Будет сделано. — Он повернулся к Рэмпу. — Вы оставайтесь здесь.
Рэмп, сидя в своем кресле, вяло кивнул.
Я спросил Мелиссу:
— Я что-нибудь могу для тебя сделать?
— Нет, — ответила она. — Спасибо. Мне совсем не хочется разговаривать. Я хочу что-то делать. Не обижайтесь, ладно?
— Я не обижаюсь.
— В случае чего я вам позвоню, — сказала она.
— Нет проблем.
— До встречи, — попрощался Майло и направился к двери.
— Я выйду с тобой, — сказал я.
— Как прикажешь. — Мы покатили под уклон по подъездной дорожке. — Но если бы у меня была возможность немножко придавить подушку, я бы и думать не стал.
Он ехал на принадлежащем Рику белом «порше-928». В приборную панель был встроен портативный сканер, которого не было, когда я последний раз видел машину. Он был включен на минимальную громкость и издавал ровный поток бормотания.
— Ого-го, — прокомментировал я, постучав по корпусу.
— Рождественский подарок.
— От кого?
— Мне от меня, — ответил Майло, нажимая на газ. «Порше» согласно замурлыкал. — Я все же думаю, что тебе надо поспать. Рэмп уже выглядит помятым, а девчонка держится на адреналине. Рано или поздно тебе придется вернуться сюда и поработать по специальности.
— Я не устал.
— Слишком взвинчен?
— Ага.
— Усталость на тебя навалится завтра. Как раз когда раздастся какой-нибудь панический звонок.
— Это уж точно.
Он тихо засмеялся и дал полный газ.
Ворота были открыты. Майло повернул налево на Сассекс-Ноул и еще раз налево. Крутнув баранку руля вправо, он немного переборщил, и ему пришлось выравниваться перед выездом на бульвар Кэткарта. В зданиях магазинов и фирм, стоявших вдоль торговой улицы, было темно. Уличные фонари светили молочно-опаловым светом, не достигавшим осевого газона.
— А вот и он, блещет всеми огнями. — Говоря это, Майло показал через улицу на залитое светом прожекторов одноэтажное здание в стиле греческого возрождения. Белый известняк. Самшитовая изгородь, небольшая лужайка с флагштоком. Над дверью банка надпись золотыми буквами: «ФЕРСТ ФИДЬЮШИЕРИ ТРАСТ».
Я сказал:
— Мне кажется, он маловат даже для того, чтобы сложить выручку от продажи выпечки.
— Не забывай: на первом месте качество, а не количество.
Он остановил машину перед банком. Направо была парковочная площадка на двадцать мест; въезд на нее обозначался двумя железными столбиками с протянутой между ними цепью, которая сейчас была опущена на землю. Черный «мерседес» стоял в одиночестве на первом месте с левой стороны. Как только мы вылезли из «порше», дверца черной машины открылась.
Вышедший человек закрыл дверцу и встал рядом, положив руку на крышку автомобиля.
Майло произнес:
— Я — Стерджис.
Человек выступил вперед, в круг света от уличного фонаря. На нем был серый костюм из легкого габардина, белая рубашка и желтый галстук в синий горошек. Такой же платок торчал у него из нагрудного кармана; обут он был в черные легкие туфли. Человек, умеющий быстро одеться среди ночи.
Он сказал:
— Я — Глен Энгер, мистер Стерджис. Надеюсь, миссис Рэмп не находится в опасности.
— Именно это мы и пытаемся выяснить.
— Сюда, пожалуйста. — Он указал в сторону входной двери банка. — Система охранной сигнализации отключена, но предстоит еще справиться вот с этим.
И он показал на четыре врезных замка взаимной блокировки, расположенные квадратом вокруг дверной ручки. Он вынул внушительную связку ключей, отделил один, вставил его в верхний правый замок, повернул и, дождавшись щелчка, вынул. Работал быстро и умело. У меня мелькнула мысль о профессиональном взломщике сейфов.
Я присмотрелся к нему внимательнее. Рост метр восемьдесят три, вес шестьдесят, седые волосы подстрижены «ежиком», длинное лицо, на котором при дневном свете был бы, вероятно, виден загар. Утолщенный нос, слишком маленький рот и крохотные прилегающие ушки. Как будто он покупал черты лица на распродаже и ему достались на размер меньше, чем нужно. По контрасту с густыми темными бровями его бесцветные глаза казались еще меньше, чем были на самом деле. На вид ему можно было дать от сорока пяти до пятидесяти пяти лет. Если его подняли с постели, то по нему это не было заметно. Перед тем как вставить четвертый ключ, он остановился и посмотрел в обе стороны безлюдной улицы. Потом на нас.
Ответный взгляд Майло ничего не выражал.
Энгер повернул ключ, нажал на дверь и чуть-чуть приоткрыл ее.
— Я очень встревожен из-за миссис Рэмп. То, что сказала Мелисса, прозвучало очень серьезно.
Майло кивнул все с тем же непроницаемым видом.
Энгер спросил:
— В чем именно, по вашему мнению, я могу быть вам полезен?
И посмотрел на меня.
— Доктор Алекс Делавэр, — сказал Майло. Как будто это все объясняло. — Первое, что вы можете сделать, это дать мне номера ее кредитных карточек и чековых счетов. Во-вторых, вы можете просветить меня относительно общего состояния ее финансов.
— Просветить вас, — повторил Энгер, все еще держась за дверную ручку.
— Ответить на несколько вопросов.
Энгер пошевелил нижней челюстью взад и вперед.
Просунув руку в приоткрытую дверь, он включил свет в помещении.
Внутри банк был отделан полированной древесиной вишневого дерева, ковровым покрытием чистого синего цвета и латунными аксессуарами, потолок украшало рельефное изображение сидящего на вершине орла. По одну сторону располагались три места кассиров и дверь с табличкой «ХРАНИЛИЩЕ», а по другую — три письменных стола со стульями. В центре помещения находился киоск обслуживания.
Здесь стоял запах лимонного воска, нашатыря и денег — таких старых, что они уже начали покрываться плесенью. Видя банк пустым, я почувствовал себя грабителем.
Энгер показал вперед и подвел нас к двери в глубине помещения, на которой было написано: «У. ГЛЕН ЭНГЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ», а под надписью помещалась печать, ужасно напоминавшая ту, которой только что перестал пользоваться Рональд Рейган.
Эта дверь была заперта на два замка.
Энгер открыл их и сказал:
— Входите.
Его офис оказался маленьким и прохладным, и пахло в нем, как в новом автомобиле. Меблировка состояла из приземистого письменного стола — на нем было пусто, если не считать золотой ручки «Кросс» и лампы под черным абажуром, — и двух обитых коричневым твидом стульев с низким квадратным столом между ними. На столе лежало несколько переплетенных в кожу томов. Справа от письменного стола на подставке с колесиками располагался персональный компьютер. Задняя стенка была увешана семейными фотографиями, на каждой из которых фигурировала одна и та же компания: светловолосая жена, напоминающая Дорис Дей после шести месяцев неумеренной еды, четверо светловолосых мальчиков, два прекрасно ухоженных золотистых ретривера[10] и сердитого вида сиамская кошка.
Другие стены были заняты парой стэнфордских дипломов, коллекцией гравюр Нормана Рокуэлла, вставленной в рамку Декларацией Независимости и высоким, до потолка, стеллажом со спортивными трофеями. Гольф, сквош[11], плавание, бейсбол, легкая атлетика. Призы двадцатилетней давности с выгравированным на них именем: Уоррен Глен Энгер. Более недавние — с именами Уоррена Глена Энгера-младшего и Эрика Джеймса Энгера. Я подумал о тех двух мальчиках, которые не принесли в дом никакого золота, и попробовал угадать их на фотографиях, но не смог. Улыбались все четверо.
Энгер занял место за письменным столом, поправил манжеты и посмотрел на часы. На тыльной стороне его рук росли темные курчавые волосы с рыжиной на концах.
Мы с Майло уселись на стулья с твидовой обивкой. Я посмотрел на стол. Тома в кожаных переплетах оказались справочниками. Это были списки членов трех частных клубов, которые все еще вели с городом борьбу по поводу допуска в свои члены женщин и представителей меньшинств.
— Вы частный детектив? — спросил Энгер.
— Верно.
— Какого рода информация вас интересует?
Майло вынул свой блокнот.
— Для начала общие размеры состояния миссис Рэмп. Как распределяются ее средства. Не снимала ли она недавно значительных сумм со счетов.
Энгер шевельнул бровями.
— И зачем же все это вам нужно, мистер Стерджис?
— Меня наняли для поисков миссис Рэмп. Всякий хороший охотник должен знать свою добычу.
Энгер нахмурился.
Майло сказал:
— Характер ее банковских операций может мне кое-что сказать о ее намерениях.
— Намерениях в каком смысле?
— Если обнаружатся факты снятия со счета необычно крупных сумм, то это может означать, что она собиралась предпринять какое-то путешествие.
Энгер покивал чуть заметным движением головы.
— Понимаю. Но в данном случае ничего подобного не было. А размеры ее состояния? Что скажет вам эта цифра?
— Мне надо знать, что поставлено на карту.
— Поставлено на карту в каком плане?
— В плане того, как долго она сможет скрываться, если делает это по своей воле.
— Не хотите ли вы сказать…
— И в плане того, кто все это наследует, если дело обстоит иначе.
Энгер подвигал челюстью.
— Это звучит зловеще.
— Ничуть. Мне просто нужно очертить границы.
— Понимаю. А что вы сами думаете? Что могло с ней случиться, мистер Стерджис?
— У меня недостаточно информации, чтобы думать что-либо. Именно затем я здесь.
Энгер откинулся назад вместе с креслом, закрутил конец галстука в трубочку, потом дал ему раскрутиться.
— Я очень беспокоюсь за ее благополучие, мистер Стерджис. Вам, очевидно, известна ее проблема — эти страхи. При мысли о том, что она оказалась там одна… — Энгер покачал головой.
— Мы все обеспокоены, — сказал Майло. — Так не лучше ли нам приступить к делу?
Энгер повернул кресло в одну сторону, опустил его и вернулся вместе с ним в прежнее положение — лицом к центру стола.
— Дело в том, что банку необходимо поддерживать определенный уровень…
— Я в курсе того, что необходимо делать банку, и уверен, что вы это делаете отлично. Но речь идет об исчезнувшей женщине, семья которой хочет, чтобы ее нашли как можно скорее. Так что давайте включаться в поиски.
Энгер не шелохнулся. Но у него было такое выражение лица, будто он прищемил палец дверцей машины и старается не показать виду.
— Кто именно является вашим официальным клиентом, мистер Стерджис?
— Мистер Рэмп и мисс Дикинсон.
— Дон не сообщил мне об этом.
— Он испытал небольшое перенапряжение и сейчас отдыхает, но не стесняйтесь, позвоните ему.
— Перенапряжение? — переспросил Энгер.
— Беспокойство за благополучие жены. Чем дольше ее нет, тем сильнее стресс. В случае везения все разрешится само собой, и семья будет чрезвычайно признательна тем, кто помог ей, когда она в этом нуждалась. Люди обычно запоминают подобные вещи.
— Да, конечно. Но это часть моей дилеммы. С одной стороны, все разрешится само собой, а с другой — финансовое положение миссис Рэмп будет только зря предано гласности без надлежащих юридических оснований. Ибо лишь у миссис Рэмп есть юридическое основание просить о выдаче этой информации.
— Аргумент серьезный, — заметил Майло. — Если хотите, мы сейчас уйдем отсюда и зафиксируем тот факт, что вы предпочли отказать в содействии.
— Нет, — сказал Энгер. — В этом не будет необходимости. Ведь Мелисса достигла совершеннолетия — хотя и совсем недавно. Учитывая… ситуацию, думаю, что будет правильно, если в отсутствие матери такого рода семейные решения будет принимать она.
— А что за ситуация, о которой вы говорите?
— Она — единственная наследница матери.
— Рэмп не получает ничего?
— Только небольшую сумму.
— Небольшую — это сколько?
— Пятьдесят тысяч долларов. Позвольте мне оговориться, что таковы факты, как они мне известны на сегодняшний день. Юридические дела семьи ведет фирма «Рестинг, Даус и Кознер». У них офис в центре. Они могли составить новые документы, хотя я и сомневаюсь в этом. Обычно меня держат в курсе любых изменений — мы ведем всю бухгалтерию семьи, получаем копии всех документов.
— Назовите мне еще раз фамилии этих адвокатов, — попросил Майло, держа наготове ручку.
— Рестинг. Даус. И Кознер. Это отличная старая фирма — двоюродным дедушкой Джима Дауса был Дж. Хармон Даус, член Верховного суда Калифорнии.
— А кто личный адвокат миссис Рэмп?
— Джим-младший, сын Джима Дауса. Джеймс Мэдисон Даус-младший.
Майло записал.
— Можете дать мне номер его телефона?
Энгер назвал семь цифр.
— Пятьдесят тысяч, которые достаются Рэмпу, — это результат добрачного соглашения?
Энгер кивнул.
— В соглашении говорится, насколько я помню, что Дон отказывается от притязаний на какую-либо часть состояния Джины, кроме единовременно выплачиваемой наличными суммы в пятьдесят тысяч долларов. Очень простой контракт — самый короткий из всех, что мне доводилось видеть.
— Кому принадлежала эта идея?
— По существу, Артуру Дикинсону, первому мужу Джины.
— Глас из могилы?
Энгер пошевелился в кресле и с неудовольствием посмотрел на собеседника.
— Артур хотел, чтобы Джина была хорошо обеспечена. Он очень остро чувствовал разницу в их возрасте. И ее хрупкость. В завещании он поставил условием, что никто из последующих мужей не будет иметь права наследования.
— Это законно?
— По этому вопросу, мистер Стерджис, вам следует проконсультироваться у адвоката. Дон определенно не выражал желания оспорить это условие. Ни тогда, ни потом. Я присутствовал при подписании соглашения. И лично его засвидетельствовал. Дон был целиком согласен. Более того, он был в восторге. Заявил, что готов отказаться даже от пятидесяти тысяч. Сама Джина настояла на соблюдении буквы завещания Артура.
— Почему?
— Ведь Дон ее муж.
— Тогда почему она не пыталась дать ему больше?
— Я не знаю, мистер Стерджис. Вам придется спросить у… — Энгер смущенно улыбнулся. — Конечно, я могу лишь догадываться, но полагаю, что ей было немного неудобно — все происходило за неделю до свадьбы. Большинству людей бывает неприятно обговаривать финансовые вопросы в такое время. Дон уверил ее, что к нему это не относится.
— Похоже, он женился на ней не из-за денег.
Энгер холодно взглянул на Майло.
— Очевидно нет, мистер Стерджис.
— У вас есть какие-нибудь соображения относительно того, почему он на ней женился?
— Полагаю, он любил ее, мистер Стерджис.
— И они счастливы друг с другом, насколько вам известно?
Энгер откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди.
— Проверяете собственного клиента, мистер Стерджис?
— Стараюсь получить полную картину.
— Искусство никогда не было моей сильной стороной, мистер Стерджис.
Майло посмотрел на спортивные трофеи и спросил:
— Вас больше устроит, если я буду оперировать спортивными терминами?
— Боюсь, что нет.
Майло улыбнулся и что-то записал.
— Ладно, вернемся к основным фактам. Мелисса — единственная наследница.
— Правильно.
— Кто унаследует состояние, если Мелисса умрет?
— Думаю, ее мать, но здесь мы выходим за рамки моей компетенции.
— Хорошо, давайте вернемся в них. Что же наследуется? О каких размерах состояния идет речь?
Энгер заколебался — осторожность банкира. Потом сказал:
— Около сорока миллионов. Все инвестировано в крайне консервативные ценные бумаги.
— Например?
— Не облагаемые налогом муниципальные акции штата Калифорния разряда дубль-А и выше, ценные акции компаний и промышленные акции, казначейские векселя несколько холдингов на вторичном и третичном ипотечном рынке. Ничего спекулятивного.
— Какой она получает ежегодный доход от всего этого?
— От трех с половиной до пяти миллионов, в зависимости от процентного дохода.
— Это все проценты?
Энгер кивнул. Разговор о цифрах выманил его из скорлупы, заставил расслабиться.
— Других поступлений нет. В самом начале Артур занимался архитектурой и строительством, но бóльшую часть того, что он накопил, составили авторские гонорары за так называемый подкос Дикинсона — это разработанный им процесс, что-то связанное с упрочением металла. Незадолго до смерти он продал все права на это изобретение, и хорошо сделал — уже появились новейшие методики, превзошедшие его собственную.
— Почему он продал изобретение?
— Он тогда только что удалился отдел, хотел посвятить все свое время Джине — ее медицинским проблемам. Вам известна ее история — это нападение?
Майло кивнул.
— Есть соображения относительно того, почему она стала жертвой нападения?
Вопрос сильно удивил Энгера.
— Я учился в университете, когда это случилось, — читал обо всем в газетах.
— Это не совсем ответ на мой вопрос.
— О чем же вы спросили?
— О мотиве этого нападения.
— Не имею ни малейшего представления.
— Может, слышали какие-то местные версии?
— Я не интересуюсь сплетнями.
— Ни минуты в этом не сомневаюсь, мистер Энгер, но если бы интересовались, то что бы вы могли услышать?
— Мистер Стерджис, — сказал Энгер, — вам надо понять, что Джина очень долго нигде не показывалась. Она не является темой для местных сплетен.
— А в то время, когда было совершено нападение? Или вскоре после этого, когда она перебралась в Сан-Лабрадор? Ходили какие-нибудь слухи?
— Насколько помнится, общее мнение было таково, что он не в своем уме — тот маньяк, который это сделал. А сумасшедшему разве нужен какой-то мотив?
— Наверно, нет. — Майло посмотрел свои записи. — А что, эти весьма консервативные капиталовложения, о которых вы упоминали, тоже была идея Дикинсона?
— Безусловно. Правила инвестирования сформулированы в завещании. Артур был человеком весьма осторожным — коллекционирование произведений искусства было единственной его расточительной причудой. Если бы он мог, то и одежду покупал бы в магазине готового платья.
— Вы считаете, что он был слишком консервативен?
— Судите сами. Свои накопления по авторским правам он мог бы вложить в недвижимость и при умелом использовании превратить в действительно крупное состояние — в двести или триста миллионов. Но он настаивал на надежности, на отсутствии риска, и мы сделали так, как он распорядился. И до сих пор так делаем.
— Вы с самого начала были его банкиром?
— Наш банк. Его основал мой отец. Он и работал непосредственно с Артуром.
Лицо Энгера сморщилось. Не очень-то приятно делиться заслугами.
У него в кабинете не было портрета Основателя. Как, впрочем, и в главном зале банка.
Портрета Артура Дикинсона не было в доме, который он построил. Интересно, почему?
Майло спросил:
— Вы оплачиваете все ее счета?
— Все, за исключением небольших покупок за наличные — мелких расходов по хозяйству.
— Какую сумму вы выплачиваете ежемесячно?
— Одну минуту, — сказал Энгер, поворачиваясь к компьютеру. Он включил машину, подождал, пока она разогреется и просигналит готовность, потом нашел нужные клавиши, отстучал, подождал, отстучал еще что-то и наклонился вперед, когда экран заполнился буквами.
— Вот, пожалуйста — в прошлом месяце на оплату счетов ушло тридцать две тысячи двести пятьдесят восемь долларов и тридцать девять центов. В позапрошлом месяце было чуть больше тридцати тысяч — и это вполне обычно.
Майло встал, обошел стол и стал смотреть на экран. Энгер хотел было закрыть от него экран рукой — совсем как отличник, загораживающий свою контрольную. Но Майло смотрел на экран через его голову и уже записывал, так что банкир опустил руку.
— Как видите, — продолжал он, — семья живет сравнительно просто. Большая часть бюджета идет на зарплату обслуживающему персоналу, расходы по содержанию дома, страховые премии.
— Никаких закладных?
— Никаких. Артур купил пляжный домик за наличные и жил в нем, пока строил большой дом.
— А налоги?
— Деньги для уплаты налогов идут с отдельного счета. Если вы будете настаивать, я вызову этот файл, но из него вы ничего не узнаете.
— Уважьте меня, — сказал Майло.
Энгер потер подбородок и отстучал строку. Компьютер ответил переваривающими звуками. Энгер опять потер подбородок, и я заметил, что кожа у него вдоль челюсти слегка раздражена. Перед приездом сюда он побрился.
— Вот, — произнес он, когда экран вспыхнул янтарным светом. — Сумма федеральных налогов и налогов штата за прошлый год составила чуть меньше миллиона долларов.
— Значит, остается от двух с половиной до четырех миллионов долларов.
— Приблизительно.
— Куда они идут?
— Мы их реинвестируем.
— Акции и боны?
Энгер кивнул.
— Миссис Рэмп берет какую-то наличность для своих нужд?
— Ее персональное содержание составляет десять тысяч долларов в месяц.
— Содержание?
— Так установил Артур.
— А ей разрешается брать больше?
— Все деньги принадлежат ей, мистер Стерджис. Она может брать, сколько захочет.
— И она это делает?
— Что «это»?
— Берет ли больше десяти тысяч.
— Нет.
— А расходы Мелиссы?
— Они покрываются из особого трастового фонда.
— Значит, речь идет о ста двадцати тысячах в год. За сколько лет?
— С тех пор, как умер Артур.
Я сказал:
— Он умер незадолго до рождения Мелиссы. Получается чуть больше восемнадцати лет.
— Восемнадцать умножить на двенадцать будет сколько? — размышлял Майло. — Около двухсот месяцев…
— Двести шестнадцать, — задумчиво уточнил Энгер.
— И на десять — это получается больше двух миллионов долларов. Если миссис Рэмп положила эти деньги в другой банк на проценты, то сумма могла удвоиться, верно?
— У нее не было причины так поступать, — сказал Энгер.
— Тогда где же эти деньги?
— А почему вы думаете, что они где-то есть, мистер Стерджис? Вероятно, она истратила их — на личные вещи.
— Два миллиона с хвостиком на личные вещи?
— Уверяю вас, мистер Стерджис, что десять тысяч долларов в месяц для женщины ее положения вряд ли заслуживают упоминания.
Майло сказал:
— Наверно, вы правы.
Энгер улыбнулся.
— Очень легко дать себя ошеломить всем этим нулям. Но поверьте, эти деньги незначительны и кончаются быстро. У меня есть клиентки, тратящие больше на одно меховое манто. А теперь могу я еще чем-нибудь быть вам полезен, мистер Стерджис?
— Есть ли у мистера и миссис Рэмп какие-нибудь общие счета в банке?
— Нет.
— Мистер Рэмп тоже держит свои финансы у вас?
— Да, но я предпочел бы, чтобы вы обсуждали его финансы непосредственно с ним.
— Конечно, — согласился Майло. — А теперь перейдем к номерам кредитных карточек.
Пальцы Энгера заплясали по клавиатуре. Машина заурчала. Потом мигнула.
— Имеются три карточки. «Америкэн экспресс», «Виза» и «Мастер-Кард». — Он показал. — А вот их номера. Под каждым обозначены суммы кредита и общие суммы покупок за текущий финансовый год.
— Это все? — спросил Майло, записывая цифры.
— Это все, мистер Стерджис.
Майло закончил списывать данные.
— В общей сложности по трем кредитным карточкам она имеет около пятидесяти тысяч кредита в месяц.
— Сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять.
— Никаких покупок по карточке «Америкэн экспресс» — да и по другим не густо. Похоже, она почти совсем ничего не покупает.
— Нет необходимости, — сказал Энгер. — Мы все берем на себя.
— Немного напоминает жизнь ребенка.
— Простите?
— То, как она живет. Словно маленький ребенок. Получает карманные деньги, обо всех ее нуждах заботятся другие, никаких хлопот, никаких неприятностей.
Энгер скрючил пальцы руки над клавиатурой.
— Конечно, очень забавно высмеивать богатых, мистер Стерджис, но я заметил, что и вы неравнодушны к материальным забавам.
— Правда?
— Ваш «порше». Вы выбрали эту машину из-за того, что она для вас значит.
— Ах, это, — сказал Майло, вставая. — Я ее взял во временное пользование. Мой обычный транспорт гораздо менее выразителен.
— В самом деле?
Майло взглянул на меня.
— Скажи ему.
— Он ездит на мопеде, — изрек я. — Удобнее вести наблюдение.
— Кроме тех случаев, когда идет дождь. Тогда я беру с собой зонт.
* * *
Когда мы опять уже ехали в «порше», он сказал:
— Похоже, крошка Мелисса ошибалась относительно намерений отчима.
— Истинная любовь? Но они почему-то не спят вместе.
Он пожал плечами.
— Может, Рэмп любит ее за душевную чистоту.
— Или собирается в один прекрасный день оспорить брачный контракт.
— Ну и подозрительный же ты тип, — усмехнулся он. — Между тем, придется поломать голову над этими карманными деньгами.
— Два миллиона? — сказал я. — Так, мелочишка на сладости. Не давайте нескольким нулям ошеломить вас, мистер Стерджис.
— Боже меня упаси.
Он вернулся на бульвар Кэткарта и ехал не спеша.
— Самое интересное, он в чем-то прав. Такой доход, как у нее — сто двадцать тысяч в год, — действительно мог показаться мелочью. Если она его потратила. Но я был у нее в комнате и не видел там ничего, что стоило бы таких денег. Книги, журналы и домашний спортзал никак не стоят ста двадцати кусков в год — черт возьми, у нее нет даже видеомагнитофона. Деньги идут на лечение, но она лечится только последний год. И если она тайно не занимается какой-нибудь благотворительностью, то за восемнадцать лет непотраченное содержание должно составить весьма приличную сумму. По чьим угодно меркам. Может, надо было прощупать ее матрас.
— Не исключено, что на эти деньги и были куплены эстампы Кассатт — и один и другой.
— Возможно, — согласился он. — Но все равно остается очень много. И если она действительно положила деньги в какой-то другой банк, то нам придется во что бы то ни стало отыскать их как можно скорее.
— Как она могла иметь дело с другим банком, не выходя из дома?
— Ну, ради таких денег многие банки не поленились бы прийти к ней сами.
— Но ни Рэмп, ни Мелисса не упоминали ни о каких визитах банкиров.
— Верно. Так что, возможно, она просто припрятала их. На черный день. И может быть, этот черный день наступил, и в эту самую минуту они зажаты у нее в потном кулачке.
Я задумался над этим.
— Ну, как это тебе? — спросил Майло.
— Богатая леди везет в «роллсе» мегабаксы. Это читается как «жертва».
Он кивнул.
— На ста языках, чтобы мне сгореть.
* * *
Мы поехали обратно в Сассекс-Ноул за моей машиной. Ворота были закрыты, но два расположенных над ними прожектора были включены. Добро пожаловать домой, так сказать. Потуга на оптимизм, казавшаяся жалкой в тишине предрассветных часов.
— Черт с ней, с машиной, — сказал я. — Заберу ее завтра.
Не говоря ни слова, Майло развернулся в обратную сторону и поехал назад, к бульвару Кэткарта, набирая скорость и просто блестяще управляясь с «поршем». Мы мчались в западном, калифорнийском направлении и буквально за считанные секунды повернули на Арройо-Секо. Потом оказались на автостраде, пустынной и темной под порывами ветра.
Но Майло все равно продолжал поиск, смотря то в одну сторону, то в другую, то в зеркало заднего обзора. И лишь когда мы доехали до развязки, откуда можно было попасть в центр города, он увеличил громкость на сканере и стал слушать, какие беды сочли возможным причинить друг другу люди на рассвете нового дня.
19
Когда я добрался до дому, мое возбуждение еще не улеглось. Я спустился к пруду и обнаружил там гроздья икры, упорно цеплявшиеся за растения у кромки воды. Ободренный этим, я вернулся в дом и сел писать. Через пятнадцать минут стал клевать носом и едва успел раздеться до того, как свалился в постель.
Я проснулся без двадцати семь утра в пятницу и час спустя позвонил Мелиссе.
— А, это вы, — разочарованно сказала она. — Я уже говорила с мистером Стерджисом. Ничего нового.
— Очень жаль.
— Я сделала точно так, как он сказал, доктор Делавэр. Обзвонила все авиакомпании во всех аэропортах — даже в Сан-Франциско и Сан-Хосе, которые он не упоминал. Потому что она ведь могла поехать и на север, правда? Потом я позвонила в каждую гостиницу и мотель, которые перечислены на Желтых страницах, но нигде и ни у кого нет сведений о ее регистрации. Я думаю, мистер Стерджис начинает приходить к выводу, что дело может быть серьезным.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что он согласился поговорить с Макклоски:
— Понятно.
— Он действительно хорош, доктор Делавэр? Как детектив?
— Лучший из всех, кого я знаю.
— Я тоже так думаю. Теперь он мне нравится больше, чем при нашем знакомстве. Но мне просто необходимо знать наверняка. Потому что больше никому, похоже, нет до нас дела Полиция ничего не предпринимает — Чикеринг разговаривает со мной так, словно я отнимаю у него время, когда звоню. А Дон вернулся на работу — можете себе представить?
— А ты что делаешь?
— Просто сижу здесь и жду. И молюсь — я не молилась с тех пор, как была маленькой. До того, как вы мне помогли. — Она помолчала. — Мечусь туда и сюда между ожиданием, что она может вот-вот войти, и ощущением дурноты при мысли о том, что она может… в общем, мне надо быть здесь. Не хочу, чтобы она вернулась в пустой дом.
— В этом есть смысл.
— А пока попытаюсь позвонить в несколько отелей на севере. Может, даже и в Неваде, потому что на машине это ведь не так уж далеко, правда? А вы как думаете, куда еще было бы логично позвонить?
— Наверно, в любой из соседних штатов, — сказал я.
— Неплохая мысль.
— Тебе еще что-нибудь нужно, Мелисса? Я могу что-нибудь для тебя сделать?
— Нет, — быстро ответила она. — Нет, спасибо.
— Я так или иначе приеду к вам сегодня. Забрать машину.
— А, ну да. Конечно.
— Если захочешь поговорить, дай мне знать.
— Обязательно.
— Береги себя, Мелисса.
— Обещаю, доктор Делавэр. А вы будьте на связи — на всякий случай. Пока.
* * *
Трубка пролаяла: «Стерджис».
— Ну, — сказал я, — это гораздо лучше, чем «Да-да?» Я только что говорил по телефону с Мелиссой. Она сказала мне, что вы с ней провели совещание.
— Она говорила, я слушал. Если это называется провести совещание, значит, мы его провели.
— Похоже, малышка трудится не покладая рук.
— Работала всю ночь. Энергии у нее хватает.
— Адреналиновое перевозбуждение, — заметил я.
— Хочешь, я скажу ей, чтобы сбавила обороты?
— Не надо, пускай пока крутится. Ощущение собственной нужности помогает ей бороться со страхом. Я озабочен тем, что произойдет, если ее мать не объявится в ближайшее время и ее броня начнет давать трещины.
— Да. Ну, на этот случай у нее есть ты. В любое время, как только тебе будет нужно, чтобы она умерила свое рвение, просто дай мне знать.
— Как будто она послушается.
— Да, верно, — сказал он.
— Ну так что, — спросил я, — ничего нового?
— Ни черта. Объявление о розыске дано на весь штат плюс на Неваду и Аризону; кредитные чеки все на месте. Пока что никто не получал информации по телефону о каких-то крупных покупках. Мелкие покупки табулируются, когда от торговцев по почте приходят квитанции, так что с этим придется подождать. Я перепроверил несколько мест из числа тех, куда звонила Мелисса, — по большей части авиакомпании и дорогие отели. В течение ночи у них не регистрировался никто, кто отвечал бы ее описанию. Я жду восьми часов, когда откроется паспортное бюро — на тот случай, если она решила отправиться в дальние страны. Велел Мелиссе продолжать работу по местным авиалиниям. Оказывается, она чертовски способная помощница.
— Она говорит, ты согласился встретиться с Макклоски.
— Я сказал ей, что сделаю это сегодня в течение дня. Это не повредит — все равно пока больше нигде нам ничего не светит.
— В какое время ты планируешь навестить его?
— Довольно скоро. Я звонил Даусу, этому адвокату. Он должен перезвонить мне в девять. Хочу проверить кое-что из того, что сказал Энгер. Если Даус согласится ответить на мои вопросы по телефону, то я займусь Макклоски, как только закончу разговор. Если нет, то у меня уйдет пара часов на поездку в центр. Но Макклоски живет недалеко от юридической конторы, так что в любом случае я попаду к нему до двенадцати. Застану его или нет — это уже другой вопрос.
— Заедешь за мной.
— У тебя уйма свободного времени?
— Достаточно.
— Ладно, — сказал он. — Ленч за твой счет.
* * *
Он приехал без двадцати десять и просигналил клаксоном своего «фиата». Пока я выходил, он успел припарковаться под навесом.
— С тебя ленч и транспорт, — сказал он, показывая на «севиль». На нем был серый костюм, белая рубашка и синий галстук.
— Куда едем?
— В сторону центра. Я покажу.
По Глену я доехал до Сансета, повернул на юг по 405-й, потом выскочил на автодорогу Санта-Моники и поехал на восток. Майло отодвинул свое сиденье назад до упора.
— Ну, как все прошло с адвокатом? — спросил я.
— Те же туманные речи, что и в банке, — мне пришлось провести с ним обязательную пикировку, чтобы добиться от него толку. Но как только он сдался, его тут же обуяла природная лень — он более чем охотно согласился поговорить по телефону. Наверняка выставит семье счет за этот разговор, до последней секунды. В основном он подтвердил все сказанное Энгером: Рэмп получает пятьдесят кусков, Мелисса все остальное. Если с Мелиссой что-то случится, то наследует мать. Если они обе умрут до того, как у Мелиссы появятся дети, все состояние уйдет на благотворительность.
— На что-то определенное в плане благотворительности?
— Медицинские исследования. Я просил его прислать мне копии всех документов. Он сказал, что для этого он должен получить письменное разрешение Мелиссы. Думаю, это не составит большой проблемы. Я также спросил его, имеет ли он представление о том, как Джина тратила свои карманные деньги. Как и Энгер, он тоже, видимо, не считал, что сто двадцать тысяч — это такая сумма, о которой стоило бы говорить.
Движение было небольшое, но за милю до дорожной развязки поток автомобилей стал сгущаться.
— Съезжай на Девятую и двигай по ней до Л.-А., — сказал Майло.
Следуя его указаниям, я поехал в северном направлении по Лос-Анджелес-стрит, мимо запущенных кварталов со множеством модных магазинчиков, объявляющих о выгодных распродажах, магазинов уцененных электроприборов, импортно-экспортных фирм и платных парковок. К западу возвышался ряд небоскребов из зеркального стекла, напоминающих искусственные горы и возведенных на мягком грунте на деньги Федерального фонда реконструкции и на оптимизме, свойственном жителям Тихоокеанского побережья. К востоку находился индустриальный пояс, отделяющий центр города от Бойл-Хайтс.
Центр города жил своей обычной жизнью, с присущим ему раздвоением личности. Облеченные властью и будущие магнаты с быстрой речью и быстрой походкой, высокомерные секретарши ходили там по одной и той же земле с грязными человеческими отбросами со слезящимися глазами, перевозившими истории своих жизней в ворованных магазинных тележках и кишащих паразитами постельных скатках.
В районе Шестой улицы эта человеческая шелуха уже господствовала безраздельно, эти создания собирались толпами на углах улиц, сидели у дверей заколоченных досками магазинов и торговых фирм, спали в тени переполненных мусорных контейнеров. На Пятой меня прихватил красный свет. Ехавшее в соседнем ряду такси проскочило на него и чуть не сбило человека с длинными светлыми волосами и похожими на грязные пятна глазами, одетого в тенниску и рваные джинсы. Тот стал во всю глотку орать ругательства и руками, покрытыми болячками и татуировкой, ударил по кузову рванувшегося вперед такси. Двое полицейских в форме, которые на другой стороне улицы выписывали квитанцию молодой девушке-мексиканке за неосторожный переход, остановились, чтобы посмотреть, из-за чего шум, потом вернулись к своей бумажной работе.
Еще через полквартала я увидел, как двое худющих чернокожих парней в бейсбольных кепках и пальто свернули с тротуара и остановились лицом к лицу под покосившимся портиком полуснесенной гостиницы. Они наклонили головы и так виртуозно сыграли друг с другом в ладушки, что хореографию этой сцены можно было приписать Баланчину. Потом один из них молниеносно показал небольшую пачку денег, а другой быстро нагнулся и вытащил что-то из носка. Мгновенный обмен — и они уже разошлись, каждый пошел в своем направлении. Все действо заняло десять секунд.
Майло заметил, что я наблюдаю.
— А, свободное предпринимательство. Мы приехали — паркуйся, где сможешь.
Он показал на длинное четырехэтажное здание с плоской крышей на восточной стороне улицы. Первый этаж был облицован кремовыми плитками, что напоминало туалет на автобусной станции. Верхний фасад был оштукатурен и выкрашен в бледно-бирюзовый цвет. Поверху второго этажа шел единственный ряд забранных решетками окон, до которых нельзя было достать с улицы. Остальная часть сооружения представляла собой глухую плиту. Четверо или пятеро чернокожих в лохмотьях сонно стояли недалеко от входной двери, над которой помещалась недействующая неоновая вывеска вычурного стиля: «МИССИЯ ВЕЧНОЙ НАДЕЖДЫ».
Все парковочные места перед этим зданием были заняты, так что я проехал на десять метров дальше и втиснулся в свободный закуток позади «уиннебаго», на котором сзади было написано: «МОБИЛ МЕДИКЭЛ». Тут поблизости держалась более многочисленная и более активная группа бродяг — не меньше двух дюжин мужчин и три или четыре женщины. Они переговаривались, шаркали ногами и растирали руки. Выключая зажигание, я заметил, что они здесь не за тем, чтобы поправить здоровье. Редкая цепочка очереди установилась перед входом в магазин, закрытым раздвижной решеткой. Трубки этой неоновой вывески светились: «$$ ЗА ПЛАЗМУ».
Майло вынул из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и выставил за ветровым стеклом машины. На карточке размером 10 на 12 было отпечатано: «ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА. СЛУЖЕБНАЯ МАШИНА».
— Не забудь запереть, — сказал он, захлопывая дверцу со своей стороны.
— В следующий раз возьмем твою, — ответил я, наблюдая за тем, как лысый человек с повязкой-наглазником ведет сердитый разговор с высохшим вязом. Человек все время повторял: «Ты это сделал!» и на каждый третий или четвертый раз ударял ладонью по стволу дерева. Ладони его рук были в крови, но на лице играла улыбка.
— Как бы не так — мою они сожрут, — сказал Майло. — Пошли.
* * *
Слонявшиеся перед зданием миссии люди заметили нас задолго до того, как мы подошли к входной двери, и расступились. Их тени и запах остались. Несколько человек жадно смотрели на мои туфли — коричневые мокасины, купленные месяц назад и все еще казавшиеся новыми. Я подумал о том, что могли бы значить сто двадцать тысяч долларов для здешних обитателей.
Внутри здание было сильно натоплено и ярко освещено. Первая комната была большая и окрашена в бирюзовый цвет; в ней множество мужчин сидели или лежали на расставленных как попало зеленых пластиковых стульях. Полы покрыты линолеумом с черно-серым рисунком. Все стены голые, кроме обращенной ко входу — на ней высоко висело одно-единственное деревянное распятие.
Здесь к запаху человеческих тел примешивался запах дезинфекции, отвратительная вонь застарелой блевотины и жирный запах чего-то варящегося в бульоне. Молодой чернокожий парень в белой тенниске и легких брюках песочного цвета переходил от одного к другому; в руках у него были дощечка с зажимом и ручкой на цепочке и стопка брошюрок. На планке, прикрепленной над вышитым у него на груди тигром, стояло: «ГИЛБЕРТ ДЖОНСОН, СТУДЕНТ-ДОБРОВОЛЕЦ». Он ходил между людьми, время от времени сверяясь с дощечкой. Останавливался и наклонялся, чтобы поговорить то с тем, то с другим. Вручал брошюрку. Изредка ему что-то отвечали.
Находившиеся в комнате почти не двигались. И не разговаривали между собой, насколько я мог видеть. Но все равно здесь слышался шум, доносившийся издалека. Металлический грохот, машинная вибрация и ритмичный, низкий гул — должно быть, молитва.
Мне на ум пришло сравнение с вокзалом, который заполнили сбившиеся с дороги путешественники.
Майло встретился взглядом с молодым человеком. Тот нахмурился и подошел к нам.
— Чем могу служить? — На дощечке был прикреплен список фамилий; против некоторых стояли какие-то отметки.
— Я ищу Джоэля Макклоски.
Джонсон вздохнул. Ему на вид было немного больше двадцати, у него были крупные черты лица, азиатской формы глаза, подбородок с глубокой ямкой и кожа не намного темнее, чем загар Глена Энгера.
— Опять?
— Он здесь?
— Вам придется сначала поговорить с отцом Тимом. Одну минуту.
Он исчез в коридоре справа от распятия и почти сразу же вернулся в сопровождении худощавого белокожего мужчины чуть старше тридцати лет, одетого в черную рубашку с пасторским воротничком, белые джинсы и высокие черно-белые баскетбольные кеды. У священника были оттопыренные уши, коротко остриженные русые волосы, редкие обвислые усы и худые безволосые руки.
— Тим Эндрус, — представился он тихим голосом. — Я думал, что с Джоэлем все уже выяснено.
— Нам надо задать ему несколько дополнительных вопросов, — сказал Майло.
Эндрус повернулся к Джонсону.
— Продолжайте подсчет, сколько потребуется постелей, Гилберт. Сегодня будет тесно — нам надо быть предельно точными.
— Конечно, отец Тим. — Джонсон быстро взглянул на нас с Майло, потом отошел и продолжил свой обход. Несколько его подопечных повернулись и уставились на нас.
Священник одарил их улыбкой, на которую никто не ответил. Повернувшись к нам, он сказал:
— Вчера вечером полиция была здесь довольно долго, и меня заверили, что все в порядке.
— Как я уже сказал, отец, необходимо выяснить еще несколько вопросов.
— Такие вещи очень выбивают из колеи. Я не имею в виду Джоэля. Он терпелив. Но остальные — большинство из них уже имели дело с полицией. Среди них много людей с умственными дефектами. Такое нарушение заведенного порядка…
— Значит, терпелив, — бросил Майло. — Как мило с его стороны.
Эндрус засмеялся коротким, жестким смехом. Его уши стали ярко-красными.
— Я знаю, что вы думаете, офицер. Еще один либерал, благодетель человечества, у которого сердце обливается кровью, — что ж, может, я такой и есть. Но это не значит, что мне не известно прошлое Джоэля. Когда он пришел сюда полгода назад, то был совершенно откровенен — он себя не простил за сделанное так много лет назад. То, что он сделал, было ужасно, у меня, естественно, были сомнения относительно его работы здесь. Но если я что-то вообще символизирую, так это силу прощения. Право на прощение. Поэтому я знал, что не могу ему отказать. И в течение всех этих шести месяцев он доказал, что я был прав. Не знаю никого, кто служил бы так самоотверженно. Он уже не тот человек, каким был двадцать лет назад.
— Молодец, — сказал Майло. — Но мы все-таки хотели бы с ним побеседовать.
— Она все еще не вернулась? Женщина, которую он…
— Сжег? Пока нет.
— Я очень сожалею. Уверен, что и Джоэль тоже.
— Почему вы так думаете? Он высказывал свои сожаления, отец Тим?
— Он все еще несет бремя содеянного — не перестает винить себя. Разговор с полицейскими воскресил все это в памяти. Он совсем не спал прошлой ночью — провел ее в часовне, на коленях. Я застал его там, и мы вместе преклонили колени. Но он не мог иметь никакого отношения к ее исчезновению. Он был здесь всю неделю, не выходя из здания. Работал двойную смену. Я могу это засвидетельствовать.
— Что за работу он здесь делает?
— Делает все, что нам нужно. Последнюю неделю дежурил на кухне и убирал туалеты — он сам просит назначить его на уборку туалетов, охотно делает это полный рабочий день.
— Друзья у него есть?
Эндрус ответил не сразу.
— Друзья, которых он может нанять для сотворения зла?
— Я спросил не об этом, святой отец, но раз уж вы сами это упоминаете, то да.
Эндрус покачал головой.
— Джоэль знал, что полиция именно так и подумает. Раз он в прошлом нанял кого-то для совершения греховного деяния, то с неизбежностью повторит это снова.
— Самый лучший предсказатель будущего — это прошлое, — сказал Майло.
Эндрус потрогал свой пасторский воротничок и кивнул.
— Вы делаете невероятно трудную работу, офицер. Жизненно важную работу — да благословит Господь всех честных полицейских. Но одним из побочных явлений может быть фатализм. Убежденность в том, что ничто никогда не меняется к лучшему.
Майло посмотрел через плечо на занимающих пластиковые стулья людей. Те несколько человек, что продолжали смотреть на нас, отвернулись.
— Вам здесь случается видеть много таких изменений, святой отец?
Эндрус покрутил кончик одного уса и ответил:
— Достаточно для поддержания веры.
— И Макклоски один из тех, кто поддерживает вашу веру?
Краска залила теперь не только уши священника, но и его шею.
— Я здесь уже пять лет, офицер. Поверьте, я не наивное дитя. И не подбираю с улицы осужденных преступников в ожидании, что они превратятся в кого-то вроде Гилберта. Но у Гилберта был нормальный дом, воспитание, образование. Он начинает с другой исходной позиции. А такой человек, как Джоэль, должен заслужить мое доверие — и доверие еще более высокое, чем мое. Хорошо, что у него оказались рекомендации.
— Откуда, святой отец?
— Из других миссий.
— Здесь, в городе?
— Нет. Из Аризоны и Нью-Мексико. Он работал с индейцами, посвятил шесть лет своей жизни служению ближним. Неся бремя, наложенное на него законом, и совершенствуясь как человек. Те, с кем он работал, говорят о нем только хорошее.
Майло промолчал.
Священник улыбнулся.
— Конечно же, это помогло ему получить условно-досрочное освобождение. Но сюда он пришел как свободный человек. В юридическом смысле этого слова. Он работает здесь, ибо таково его желание, а не потому, что вынужден это делать. Что же касается вашего вопроса относительно друзей, то их у него нет — он ни с кем не общается, отказывает себе в земных удовольствиях. Вся его жизнь представляет собой очень жесткий цикл работы и молитвы.
— Послушать вас, так он прямо-таки святой, — сказал Майло.
Лицо священника напряглось от сдерживаемого гнева. После короткой борьбы ему удалось овладеть собой, во всяком случае, внешне. Но когда он заговорил, его голос звучал сдавленно.
— Он не имел никакого отношения к исчезновению этой бедной женщины. Я просто не могу понять, какая необходимость…
— У этой бедной женщины есть имя. Джина Мари Рэмп.
— Мне это известно…
— Она тоже была необщительна, святой отец. И далека от земных удовольствий. Но совсем не потому, что таково было ее желание. Больше восемнадцати лет, с того самого дня, как чокнутый тип, которого нанял Макклоски, изуродовал ей лицо, она жила в своей комнате наверху, панически боясь выйти из дому. И без всякой надежды на условно-досрочное освобождение, святой отец. Надеюсь, теперь вам понятно, почему очень много людей встревожены ее исчезновением. Надеюсь также, что вы все-таки убедите себя простить меня, если я попытаюсь разобраться в этом до конца. Даже если это причинит какое-то неудобство мистеру Макклоски.
Эндрус склонил голову и стиснул перед собой руки. На минуту я подумал, что он молится. Но когда он поднял голову, губы его были неподвижны. Его лицо покрывала бледность.
— Это вы простите меня, офицер. У нас была тяжелая неделя — два человека умерли в своих постелях, и еще двоих пришлось отправить в Центральную больницу округа с подозрением на туберкулез. — Кивком головы он указал на сидевших в комнате людей. — У нас на сотню человек больше, чем мы имеем коек, никакого уменьшения притока не предвидится, а епархия требует, чтобы я добывал больше денег для содержания миссии. — Плечи его опустились. — Ищешь каких-то маленьких побед. Я позволил себе думать о Джоэле как о такой победе.
— Может, так оно и есть, — сказал Майло. — Но мы все же хотели бы поговорить с ним.
Священник пожал плечами.
— Пойдемте, я провожу вас к нему.
Он даже не попросил нас предъявить удостоверения. Не узнал наших фамилий.
Первая дверь по коридору вела в огромную столовую, где запахи пищи победили в конце концов вонь от немытых тел. Легкие деревянные столы, покрытые клеенкой переливчатого синего цвета, были составлены так, что образовали пять длинных рядов. Мужчины сидели, сгорбившись над едой, руками охраняя свои тарелки. Тюремный обед. Зачерпывая и жуя без остановки, выражая при этом не больше радости, чем заводные игрушки.
Вдоль задней стенки располагался мармит, отделенный от зала стеклянной перегородкой и алюминиевой стойкой. Стоящие там в очереди люди протягивали свои тарелки, совсем как в «Оливере Твисте». Три фигуры в белых рубашках и фартуках, с сетками на волосах раздавали пищу.
Отец Эндрус сказал:
— Пожалуйста, подождите здесь.
Мы остались у двери, а он прошел за перегородку и что-то сказал раздавальщику, стоявшему в середине. Продолжая работать, тот кивнул, потом отдал свой половник священнику и отступил назад. Отец Эндрус стал раздавать пищу. Человек в белом вытер руки о фартук, обогнул стойку, прошел через очередь и направился к нам.
На вид ему было лет пятьдесят пять, а сутулость делала его рост меньше сантиметра на три, которые вовсе не были лишними. Фартук доходил ему до колен и был испачкан попавшей на него пищей. Он шаркал ногами, почти не отрывая их от линолеума, а руки держал прижатыми к бокам, будто они были приклеены. Несколько прядей седых волос выбились из-под сетки и прилипли к бледному и влажному лбу. Длинное, нездорового цвета лицо было худым и в то же время дряблым. Орлиный нос уступил действию силы тяжести. Белые брови. Никакого жира под подбородком, но когда он подошел ближе, стала видна дряблая, трясущаяся складка. Глубоко посаженные глаза под нависшими верхними веками были темные, очень усталые.
Он подошел к нам с ничего не выражавшим лицом и сказал монотонно, флегматичным голосом.
— Здравствуйте.
— Вы мистер Макклоски?
Он кивнул.
— Я Джоэль. — Вяло, безжизненно. Нос и щеки в глубоких порах. Резкие борозды по сторонам рта с опущенными уголками и сухими губами. Глаз почти не видно из-под тяжелых век, желтоватые белки окружают почти черные радужки. Интересно, когда ему последний раз делали тест на функцию печени.
— Мы пришли, чтобы поговорить о Джине Рэмп, Джоэль.
— Она не нашлась. — Не вопрос, а утверждение.
— Нет, не нашлась. У вас нет случайно каких-нибудь теорий относительно того, что могло с ней приключиться? Если есть, поделитесь с нами.
Макклоски перевел глаза на один из столов. Некоторые из обедающих перестали есть. Другие бросали жадные взгляды на нетронутую пишу.
— Мы не могли бы поговорить у меня в комнате?
— Разумеется, Джоэль.
Шаркая ногами, он вышел за дверь и повернул направо по коридору. Мы прошли мимо спален, битком набитых койками, на некоторых из них лежали люди, потом мимо закрытой двери с табличкой «ИЗОЛЯТОР». Болезненные стоны проникали сквозь фанеру и эхом отдавались в коридоре. Макклоски на секунду повернул голову в сторону этих звуков, но не остановился. Снова устремив взгляд вперед, он направился своей шаркающей походкой к выкрашенной коричневой краской лестнице в конце коридора. Ступени были покрыты жесткой резиной, а поручень казался жирным на ощупь.
Он стал медленно и степенно подниматься по лестнице, и мы последовали за ним. Здесь запах дезинфицирующего средства возобладал над всеми остальными.
Сразу же за площадкой четвертого этажа оказалась еще одна закрытая дверь, к которой липкой лентой был прикреплен кусок картона от упаковки рубашек. На картоне черным фломастером было написано: «ДЖОЭЛЬ».
В дверной ручке имелась замочная скважина, но Джоэль повернул ручку, и дверь открылась. Он придержал ее и подождал, пока мы войдем.
Размером комната была с половину платяного шкафа Джины Рэмп — не больше семи квадратных метров; там стояли койка, покрытая серым шерстяным одеялом, деревянная тумбочка, покрашенная белой краской, и узкий комод с тремя ящиками. На комоде лежала Библия, с ней соседствовали электрическая плитка, консервный нож, упаковка крекеров с арахисовым маслом, наполовину пустая банка маринованной свеклы и жестянка венских сосисок. Вырезанное из календаря изображение Христа с нимбом вокруг головы благосклонно взирало на койку. Пожелтевшая, засиженная мухами занавеска была наполовину задернута на единственном зарешеченном окне. За решеткой виднелась стена из серого кирпича. Комната освещалась голой лампочкой в центре потолка, испещренного пятнами плесени.
В комнате с трудом можно было разместиться стоя. У меня появилось ощущение необходимости за что-нибудь ухватиться, но не хотелось ничего здесь касаться.
Макклоски сказал:
— Садитесь. Если хотите.
Майло посмотрел на койку и ответил:
— Ничего.
Мы все остались стоять. Мы стояли рядом, но были так далеки друг от друга, словно нас разделяли целые мили. Как пассажиры в метро, которые держась за подвесные ручки, ощущают себя в полной изоляции.
Майло спросил:
— Так как насчет теорий, Джоэль?
Макклоски покачал головой.
— Я думал об этом. Много думал. После того, как здесь были другие полицейские. Я надеюсь, что просто она настолько выздоровела, что ей захотелось прогуляться одной и…
— И что?
— И ей понравилось.
— Вы ведь желаете ей добра, не так ли?
Кивок.
— Теперь вы свободный человек, и власти не могут говорить вам, что вы должны делать.
На бледных губах Макклоски появилась слабая улыбка. В уголках его рта скопились какие-то белые хлопья.
— Вы услышали что-то смешное, Джоэль?
— Свобода. Ее давно уже нет.
— Для Джины тоже.
Макклоски закрыл глаза, потом открыл их, тяжело опустился на койку, снял с головы сетку для волос и оперся лбом на руку. На макушке у него была лысина, вокруг нее росли белые и серые волосы; они были коротко подстрижены и торчали. Такая стрижка могла бы выглядеть модной у какого-нибудь восемнадцатилетнего шалопая. У старика же она казалась тем, чем и была на самом деле: самоделкой.
Старик? Ему пятьдесят три.
Он выглядел на все семьдесят.
— Мои желания не имеют значения, — сказал он.
— Имеют, если вы все еще преследуете ее, Джоэль.
Желтушные глаза опять закрылись. Складка кожи на шее задрожала.
— Я не… Нет.
— Что «нет»?
Обеими руками Макклоски держал сетку для волос, просунув пальцы в ячейки. Расправляя ее.
— Не преследую ее. — Сказал едва слышным шепотом.
— Вы собирались сказать, что никогда и не преследовали ее, Джоэль?
— Нет. Я… — Макклоски поскреб в голове, потом покачал ею. — Это было давно.
— Понятное дело, — согласился Майло. — Но история любит повторяться.
— Нет, — ответил Макклоски очень тихо, но твердо. — Нет, никогда. Моя жизнь…
— Что ваша жизнь?
— Кончена. Все погасло.
— Что погасло, Джоэль?
Макклоски положил руку себе на живот.
— Огонь. Чувства. — Он уронил руку. — Теперь я только и делаю, что жду.
— Ждете чего, Джоэль?
— Покоя. Пустого пространства. — Он бросил боязливый взгляд на Майло, потом на картинку с изображением Христа.
— Вы очень религиозный человек, Джоэль, правда?
— Это… помогает.
— Помогает в чем?
— В ожидании.
Майло согнул ноги в коленях, обхватил их ладонями и слегка присел, так что его лицо оказалось почти на одном уровне с лицом Макклоски.
— Почему вы сожгли ее кислотой, Джоэль?
У Макклоски затряслись руки. Он произнес: «Нет» — и перекрестился.
— За что, Джоэль? Что она такого сделала? Чем вызвала у вас такую ненависть?
— Нет…
— Ну же, Джоэль. Почему нельзя рассказать? Ведь с тех пор прошло столько лет.
Он покачал головой.
— Я… это не…
— Не что?
— Нет. Я… согрешил.
— Так покайтесь в своем грехе, Джоэль.
— Нет… Прошу вас. — У него на глазах выступили слезы, его колотила дрожь.
— Разве покаяние не есть часть спасения, Джоэль? Полное покаяние?
Макклоски облизнул губы, сложил руки вместе и что-то пробормотал.
Майло наклонился еще ниже.
— Что вы сказали, Джоэль?
— Уже покаялся.
— Неужели?
Кивок.
Макклоски закинул ноги на кровать и улегся лицом вверх. Руки сложены на груди, глаза смотрят в потолок, рот открыт. Под фартуком на нем были старые твидовые брюки, сшитые для человека на десять килограммов тяжелее и на пять сантиметров выше ростом. Манжеты были обтрепаны, а края их затвердели от впитавшейся черной грязи. Подошвы туфель были протерты в нескольких местах, к ним присохли остатки пищи. Сквозь одни дыры виднелась серая пряжа, сквозь другие — голое тело.
Я сказал:
— Для вас, возможно, все это осталось в прошлом. Но понимание случившегося помогло бы ей. И ее дочери. Прошло столько лет, а семья все еще пытается понять.
Макклоски смотрел на меня. Его глаза двигались из стороны в сторону, словно он следил за уличным движением. Губы беззвучно шевелились.
Он что-то обдумывал. На минуту мне показалось, что он собирается все рассказать.
Потом он резко встряхнул головой, сел на кровать, развязал фартук и снял его через голову. Рубашка сидела на нем мешком. Расстегнув три верхние пуговицы, он раздвинул края застежки и обнажил безволосую грудь.
Безволосую, но не гладкую.
Почти вся его кожа имела цвет прокисшего молока. Но бóльшую часть левой половины груди занимало пятно розовой, стянутой в складки плоти шириной в две ладони, бугристое, словно вересковый корень. Соска не было; на его месте было глянцевое углубление. Ручейки шрамов, похожие на розовую краску, вытекали из первоначального пятна и заканчивались под ребрами.
Он растянул рубашку еще больше, выпячивая вперед участок разрушенной ткани. От ударов сердца шишковатый бугорок пульсировал. Очень быстро. Лицо у Макклоски побелело, осунулось и заблестело от пота.
— Это вам кто-то сделал в Квентине? — спросил Майло.
Макклоски с улыбкой опять посмотрел на Христа. Это была улыбка гордости.
— Я бы отнял у нее боль и съел ее, — сказал он. — Проглотил бы, чтобы она стала моей. Вся целиком. Без остатка.
Он положил одну руку себе на грудь и накрыл ее другой рукой.
— Господь милосердный, — произнес он. — Причащение болью.
Потом он что-то забормотал — вроде как на латыни.
Майло смотрел на него сверху вниз.
Макклоски продолжал молиться.
— Желаем вам доброго дня, Джоэль, — сказал Майло. Когда Макклоски ничего не ответил, он добавил: — Приятного ожидания.
Седовласый человек не прервал своей молитвы.
— Несмотря на все это самобичевание, Джоэль, если вы чем-то могли бы нам помочь и не сделаете этого, я за ваше спасение не дам и ломаного гроша.
Взгляд Макклоски на секунду метнулся вверх — желтые глаза наполнял панический ужас человека, поставившего все, что у него было, на сделку, которая прогорела.
Потом он упал на колени, ударившись ими с такой силой, что ему наверняка стало больно, и снова забормотал молитву.
* * *
Когда мы отъехали, Майло спросил:
— Ну, какой ставим диагноз?
— Он вызывает жалость. Если то, что мы только что видели, настоящее.
— Я об этом и спрашиваю, — настоящее оно или нет?
— Не могу точно определить, — ответил я. — Инстинкт побуждает меня исходить из того, что человек, способный нанять исполнителя преступления, не остановится перед тем, чтобы разыграть небольшой спектакль. Но было в нем и что-то правдоподобное.
— Да, — сказал Майло. — Мне тоже так показалось. А он не шизофреник?
— Я не заметил никаких явных нарушений мышления, но он слишком мало говорил, так что кто его знает. — Мы проехали полквартала. — Слово «жалкий» подходит ему гораздо больше, чем что-либо чисто профессиональное.
— Что, по-твоему, заставило его так опуститься?
— Наркотики, пьянство, тюрьма, чувство вины. По отдельности или в комбинации. Или все вместе взятое.
— Ну, ты даешь, — усмехнулся Майло. — Очень уж круто у тебя выходит.
Я смотрел из окна машины на бродяг, наркоманов, старьевщиц. На городских зомби, растрачивающих отпущенную им долю жизни на пьяный туман. Какой-то старик спал прямо на обочине, выставив на обозрение живот в лепешках грязи, и храпел открытым ртом со сгнившими пеньками зубов. А может, этот человек вовсе и не был старым.
— Должно быть, окружающая обстановка действует.
— Соскучился по зеленым холмам Сан-Лабрадора?
— Нет, — сказал я и в следующее мгновение понял, что это действительно так. — А как ты насчет чего-нибудь посредине?
— Я — за. — Он засмеялся разряжающим напряжение смехом. Этого оказалось недостаточно, и он провел рукой по лицу. Побарабанил по приборной панели. Открыл окно и закрыл его и вытянул ноги, но удобного положения так и не нашел.
— А его грудь, — сказал я. — Думаешь, он это сам себе устроил?
— Смотрите, мол, сколь велико мое раскаяние? Явно хотел, чтобы именно так мы и подумали. Причащение болью. Дерьмо.
Он сказал это презрительно-ворчливым тоном, но было видно — человек не в своей тарелке.
Я попробовал прочитать его мысли.
— Если он все еще носится с этой болью, то, возможно, не расстался и с мыслью о причинении ее другим?
Майло кивнул.
— При всех его самообвинениях и молитвах, этот тип умудрился не сказать нам ровным счетом ничего существенного. Так что не исключено, что мозги у него совсем не набекрень. Мой инстинкт не сигналит «главный подозреваемый», но мне очень не хотелось бы очутиться в аховой ситуации, если наш сводный показатель интуиции окажется низким.
— Что у нас дальше по плану?
— Сначала найдешь мне телефонную будку. Хочу позвонить, узнать, нет ли каких новостей о дамочке. Если нет, поедем и потолкуем с Бейлиссом — это тот полицейский, который надзирал за Макклоски после его условного освобождения.
— Он ушел на пенсию.
— Знаю. Я взял его домашний адрес. Это в районе, где живут люди среднего достатка. Тебе должно там понравиться.
20
Телефонную будку я нашел возле Детского музея и ждал в запретной для парковки зоне, пока Майло звонил. Он говорил довольно долго, так что меня успели последовательно засечь две проезжавшие мимо девочки из парковочной службы, и уже собирались лепить мне билетик, но каждый раз при виде выставленной им карточки вынуждены были отступать. Давненько мне не было так весело. Я сидел, смакуя неожиданное удовольствие, и наблюдал, как родители сгоняют своих чад поближе ко входу в музей.
Вернулся Майло, звеня мелочью и качая головой.
— Ничего.
— С кем ты говорил?
— Опять с дорожным патрулированием. Потом с одним из приспешников Чикеринга и с Мелиссой.
— Как у нее дела? — спросил я, втягиваясь в поток движения.
— Все еще возбуждена. Сидит на телефоне. Сказала, что недавно звонил один из Гэбни, а именно муж. Проявил заботу.
— О курице, несущей золотые яйца, — съязвил я. — Ты собираешься рассказать Мелиссе об эстампах Кассатт?
— Есть какие-то причины?
Я подумал немного.
— Да нет; во всяком случае, я их не вижу. Нет смысла бросать ей еще один раздражитель.
— Я сказал ей о Макклоски. О том, что у него, по моим наблюдениям, в голове короткое замыкание, но что я буду за ним присматривать. Мне показалось, что это ее успокоило.
— Опять розовая водичка?
— А у тебя есть что-то получше?
* * *
Я выехал на шоссе Харбор у Третьей, перешел на Десятку в западном направлении и выскочил у Фэрфакса носом на север. Майло дал мне указание ехать до Кресент-Хайтс, потом еще дальше на север, чуть дальше Олимпика, где я свернул налево на Коммодор-Слоут, проехал блок деловых зданий, и мы оказались в районе Картей-Серкл, на укрывшемся в тени деревьев островке, застроенном небольшими, прекрасно ухоженными домами в испанском стиле и в стиле подражания эпохе Тюдоров.
Майло назвал адрес, и по номерам домов мы добрались до коттеджа из кирпича и розовой штукатурки, стоявшего на угловом участке через два квартала. Гараж за вымощенной булыжником и окаймленной живым бордюром подъездной дорожкой был миниатюрным двойником дома. На дорожке стоял «мустанг» — модель двадцатилетней давности. Он был белый и сверкал чистотой. Лужицы воды под колесами и аккуратно свернутый садовый шланг возле задней шины.
Пространство перед домом представляло собой роскошную зеленую лужайку, которая сделала бы честь Дублину. Ее обрамляли цветочные клумбы: сначала более высокие камелии, азалии, гортензии, африканские лилии, ближе к центру — душистый табак, бегонии и белая бахрома алиссума. Посреди лужайки пролегала мощеная пешеходная дорожка. С левой стороны рос триплет японской плакучей березы. Седой человек с высоко расположенной талией, одетый в рубашку цвета хаки, синие рабочие штаны и тропический шлем, осматривал ветки и обрывал мертвые листья. Из заднего кармана у него свешивался кусок замши.
Мы вышли из машины. Шум движения по Олимпику был слышен здесь как низкое гудение. Пели птицы. На улицах — ни клочка мусора. Когда мы пошли по дорожке, человек обернулся. Лет шестидесяти, узкоплечий, с длинными, крупными руками. Из-под шлема было видно длинное лицо, похожее на морду гончей собаки. Белые усы и эспаньолка, очки в черной оправе. Когда мы уже были лишь в нескольких шагах от него, я понял, что у него африканские черты лица. Кожа не темнее моей, усыпанная веснушками. Глаза золотисто-карие, цвета дубовой древесины, из которой делают школьные парты.
Одна рука его оставалась на стволе дерева, пока он наблюдал за нами. Потом он опустил ее и растер в пальцах березовую шишечку. Чешуйки просыпались на землю.
— Гилберт Бейлисс? — спросил Майло.
— А кто спрашивает?
— Моя фамилия Стерджис. Я детектив, частный детектив, работаю по делу исчезновения миссис Джины Рэмп. Несколько лет назад она стала жертвой человека, за которым вы надзирали от Отдела условно-досрочного освобождения. Джоэля Макклоски.
— А, старина Макклоски, — сказал Бейлисс, снимая шлем. У него оказалась густая, пышная шевелюра цвета перца с солью. — Частный сыщик, да?
Майло кивнул.
— На какое-то время. Я в отпуске от Полицейского управления Лос-Анджелеса.
— По собственному желанию?
— Не совсем.
Бейлисс пристально смотрел на Майло.
— Стерджис. Мне знакомо это имя, да и лицо тоже.
У Майло не дрогнул ни один мускул.
Бейлисс сказал:
— Вспомнил. Вы тот самый полицейский, который врезал другому копу на телевидении. Говорили о каких-то внутренних интригах — из сводок новостей тогда невозможно было понять, в чем там дело. Да меня это и не интересовало. Я теперь далек от всего этого.
— Поздравляю, — бросил Майло.
— Я это заработал. Так на сколько вас выпихнули?
— На шесть месяцев.
— С сохранением или без?
— Без.
Бейлисс пощелкал языком.
— Так. А пока вы, значит, зарабатываете на оплату счетов. В мое время такого не разрешали. Одно мне не нравилось в нашей работе — негде развернуться. А вам она нравится?
— Работа как работа.
Бейлисс посмотрел на меня.
— А это кто? Еще один непутевый из ПУЛА?
— Алекс Делавэр, — представился я.
— Доктор Делавэр, — вмешался Майло. — Он психолог. Лечит дочь миссис Рэмп.
— Ее зовут Мелисса Дикинсон, — сказал я. — Вы говорили с ней примерно месяц назад.
— Вроде припоминаю что-то такое. Психолог, значит? Когда-то я тоже хотел стать психологом. Думал, что раз у меня работа и так сплошная психология, то почему бы не зарабатывать больше? Посещал занятия в Калифорнийском университете — по баллам тянул на магистра, но не было времени ни на диссертацию, ни на сдачу экзаменов, так что тем все и кончилось. — Он стал еще пристальнее рассматривать меня. — И что вы делаете в компании с ним? Всех психоанализируете или как?
— Мы только что побывали у Макклоски, — ответил я. — Детектив Стерджис подумал, что будет неплохо, если я за ним понаблюдаю.
— Ага, — сказал Бейлисс. — Старина Джоэль. Вы серьезно подозреваете, что он в чем-то замешан?
— Просто проверяем его, — объяснил Майло.
— Оплата у тебя почасовая, вот ты и накручиваешь эти часы — не заводись, солдат. Я не обязан с тобой разговаривать, если не захочу.
— Я это знаю, мистер…
— Двадцать три года я тянул лямку, подчиняясь приказам людей в тысячу раз глупее меня. Вкалывал ради пенсии за двадцать пять лет службы, чтобы потом отправиться вдвоем с женой путешествовать. До цели оставалось всего два года, но жена не дождалась, покинула меня. Обширный инсульт. Сын в армии, служит в Германии, женился на немецкой девушке, домой не собирается. Так что последние два года я сам себе устанавливаю правила. Последние полгода у меня это неплохо получается. Понимаешь?
Майло медленно, длинно кивнул.
Бейлисс улыбнулся и снова надел шлем.
— Хочу, чтобы на этот счет между нами было полное понимание.
— Оно есть, — ответил Майло. — Если вы можете нам сообщить о Макклоски какую-либо информацию, которая поможет нам отыскать миссис Рэмп, я буду вам очень обязан.
— Старина Джоэль, — сказал Бейлисс. Он потрогал свою бородку, задумчиво глядя на Майло. — Знаешь, за эти двадцать пять лет мне самому много раз хотелось набить кому-то морду. Но я не мог. Из-за пенсии. Из-за путешествия, в которое собирались мы с женой. Когда ты съездил тому бюрократу по челюсти, я улыбнулся. У меня было плохое настроение, одолевали мысли о случившемся и о несбывшемся. Ты развеселил меня на весь этот вечер. Вот почему я тебя помню. — Он усмехнулся. — Забавно, что ты вот так взял и пришел. Должно быть, судьба. Проходите в дом.
* * *
Мы оказались в темной, аккуратной гостиной, обставленной тяжелой резной мебелью, которая была недостаточно стара и недостаточно хороша, чтобы ее можно было назвать старинной. Множество салфеточек, фигурок и других штрихов, оставленных женской рукой. На стене над каминной полкой висели фотографии в рамках, на которых были запечатлены большие оркестры и джазовые ансамбли, состоящие исключительно из чернокожих музыкантов, и один снимок крупным планом, где был изображен молодой, чисто выбритый и напомаженный Бейлисс, в белом смокинге, парадной рубашке и галстуке, с тромбоном в руках.
— Это была моя первая любовь, — сказал хозяин дома. — Классическое образование. Но тромбонисты никому не были нужны, так что я переключился на свинг и бибоп, пять лет ездил с оркестром Скутчи Бартоломью — слышали о таком?
Я покачал головой.
Он улыбнулся.
— И никто не слышал. Честно говоря, не такой уж хороший был оркестр. Кололи героин перед каждым выступлением и думали, что играют лучше, чем было на самом деле. Мне такая жизнь была не по нутру, поэтому я ушел, приехал сюда, дудел для всех, кто хотел слушать, записал несколько вещей — послушайте «Волшебство любви» в исполнении «Шейхов», кое-что из другой подобной же ерунды — вот там я и звучу на заднем плане. Потом меня взял на пробу Лайонел Хэмптон.
Он пересек комнату и тронул одну из фотографий.
— Вот я, в первом ряду. Этот оркестр был очень мощный, действительно налегал на медь. Играть с ними было все равно что пытаться оседлать большой медный ураган, но я справился неплохо, и Лайонел оставил меня. Потом спрос на большие оркестры иссяк, и Лайонел отправился со всем хозяйством в Европу и Японию. Я не видел в этом смысла, вернулся в школу, поступил на государственную службу. С тех пор больше не играл. Моей жене нравились эти фотографии… Надо бы убрать их, повесить что-нибудь из настоящего искусства. Хотите кофе?
Мы оба отказались.
— Садитесь, если хотите.
Мы сели. Бейлисс устроился в мягком на вид кресле с цветочным мотивом на обивке и кружевными салфеточками на подлокотниках.
— Старина Джоэль, — сказал он. — Я бы не стал о нем слишком беспокоиться там, где речь идет о крупных преступлениях.
— А почему? — спросил Майло.
— Он — пустое место. — Бейлисс постучал себя по голове. — И тут у него пусто. Когда я читал его досье, то ожидал увидеть человека с серьезно расстроенной психикой. И вдруг входит это жалкое подобие человека, сплошное «да, сэр» и «нет, сэр», без малейшей искорки внутри. Причем я не имею в виду, что он подлизывался. Ничего из того, чем обычно потчуют активные психопаты — вы знаете, как они стараются произвести впечатление пай-мальчика. Каждый из тех, с кем мне приходилось иметь дело за двадцать пять лет, думал, что тянет на Оскара, что умнее всех. Что ему просто надо сыграть свою роль — и никто его не раскусит.
— Это верно, — сказал Майло. — Хотя и редко срабатывает.
— Да. Забавно, как им и в голову не приходит, почему они бо́льшую часть своей жизни проводят в камерах два на два. Но старина Джоэль был совсем не такой, он не притворялся. В нем действительно не осталось никакой сердцевины. Да вы и сами это знаете, раз только что его видели.
— Часто ли он к вам приходил? — спросил я.
— Всего несколько раз — четыре или пять. К тому времени, как он оказался в Лос-Анджелесе, он даже уже и не был официально под надзором. В Отделе просили, чтобы он отмечался, пока не обоснуется. Это они так прикрывали свою задницу на всякий случай. Они очень следят, чтобы игра велась по правилам — в случае, если что-то будет не так и семья жертвы обратится в суд, то они вытащат все бумажки и покажут, что с их стороны упущений не было. Так что на самом деле это была пустая формальность. Он мог бы ее проигнорировать, но не сделал этого. Приходил раз в неделю. Мы проводили в обществе друг друга десять минут, и этим все кончалось. Сказать по правде, мне даже хотелось иметь побольше таких, как он. Под конец я имел на руках шестьдесят три мошенника, и за некоторыми из них действительно нужно было смотреть в оба.
Майло заметил:
— Условно освобожденные обычно находятся под надзором три года. Почему ему пришлось отбыть шесть?
— Такая была договоренность. Выйдя из Квентина, он просил разрешения выехать из штата. В Отделе дали добро при условии, что он найдет постоянную работу и удвоит срок своего условного освобождения. Он нашел какую-то индейскую резервацию — по-моему, где-то в Аризоне. Пробыл там три года, потом перебрался куда-то еще, в другой штат, не припомню уже, в какой именно, и провел там еще три года.
— Зачем ему понадобилось переезжать? — спросил я.
— Насколько я помню, он сказал, что в первом случае проект финансировался за счет какой-то субсидии, которую потом закрыли, так что ему пришлось уйти. Второе место работы было под эгидой католической церкви. Наверно, он рассчитывал, что если папа не закроет это дело, то ему ничего не грозит.
— А зачем он приехал в Л.-А.?
— Я спрашивал его об этом, но он почти ничего не сказал на этот счет — во всяком случае, ничего осмысленного. Что-то насчет первородного греха и много всякой суеверной мути о спасении. В основном, я думаю, он пытался сказать, что, поскольку совершил грешное деяние здесь — против вашей пропавшей без вести леди, — то и пай-мальчиком ему надлежит быть здесь, чтобы уравнять свой счет со Всевышним. Я не стал давить на него — как я уже говорил, он даже не был обязан приходить. Это была просто формальность.
— Вам что-нибудь известно о том, на что он тратил время? — спросил Майло.
— Насколько я знаю, он работал в этой миссии полный рабочий день. Чистил туалеты и мыл посуду.
— «Вечная надежда».
— Да, она самая. Нашел себе еще одно католическое убежище. Насколько я мог судить, он никогда не выходил из своей комнаты, не якшался с известными преступниками и не употреблял наркотиков. Священник подтвердил это по телефону. Если бы шестьдесят три моих подопечных были как он, то мне нечего было бы делать.
— Он когда-нибудь говорил о своем преступлении? — спросил я.
— Я сам с ним говорил об этом — в первый его приход. Зачитал ему из приговора, где судья называет его чудовищем и все такое. Я обычно делал это со всеми моими подопечными при первой встрече. Так я устанавливал некие основные правила, давал им понять, что знаю, с кем имею дело, и устранял массу всякой чепухи. Выходя на волю, они в своем большинстве продолжают утверждать, что невинны, словно младенец Христос. Вот и пытаешься пробиться сквозь эту иллюзию, заставить их увидеть себя в истинном свете, если хочешь на что-то надеяться. Похоже на психоанализ, верно?
Я кивнул.
— Ну, и добились вы этого от Макклоски? — поинтересовался Майло.
— С ним ничего подобного не потребовалось. Когда он пришел ко мне, вина буквально лезла у него из всех пор, он прямо с порога заявил мне, что он дрянь и не заслуживает того, чтобы жить. Я сказал, что это, вероятно, так и есть, потом вслух зачитал ему текст приговора. А он просто сидел и слушал, как будто это какая-то лечебная процедура, которая проводится для его же блага. В жизни не видел никого, кто был бы так похож на ожившего мертвеца. Через пару раз я поймал себя на том, что начинаю по-настоящему жалеть его — словно смотришь на собаку, которую сбила машина. А меня не так уж легко разжалобить — слишком долго я работал, подавляя свои симпатии.
— Он говорил, почему сжег ее? — спросил Майло.
— Нет. Хотя я спрашивал его и об этом. Потому что в досье было сказано, что он так и не признал за собой никакого мотива. Только практически ничего от него не услышал — он что-то такое мямлил, но обсуждать отказывался.
Бейлисс поскреб бородку, снял очки, протер их носовым платком и надел опять.
— Я пробовал немного обработать его — говорил, что он перед ней в долгу, что раз он совершил такое преступление, то должен принадлежать ей. В духовном смысле — я пробовал воздействовать на его религиозную сторону. Каждый раз, когда мои подопечные испытывали на мне религиозные штучки, я тут же обращал все это против них. Но с ним ничего не получилось — он просто сидел, уставившись в пол. Мне с трудом удалось протянуть беседу до десяти положенных минут. И он не прикидывался — с моим двадцатипятилетним опытом я не ошибусь. Он действительно ничто. Полный зомби.
— Почему он такой, как вы думаете? — спросил я. — Что привело его в такое состояние?
Бейлисс пожал плечами.
— Вы же психолог.
— Ладно, — сказал Майло. — Спасибо. Это все?
— Все. А что случилось с этой женщиной?
— Вышла из дома, села в машину и уехала, и с тех пор о ней ни слуху ни духу.
— Когда она уехала?
— Вчера.
Бейлисс нахмурился.
— Ее нет только один день, а люди нанимают частного сыщика?
— Это не та ситуация, которую можно было бы считать типичной, — возразил Майло. — Она очень долго практически вообще не выходила из дома.
— Очень долго — это сколько?
— С тех пор, как он облил ее кислотой.
— С того времени она страдает тяжелой формой агорафобии, — сказал я.
— Вот как. Очень сожалею. — Казалось, он говорил совершенно искренне. — Да, понимаю, почему обеспокоена ее семья.
Мы пошли обратно. Бейлисс шагал в задумчивости. Он проводил нас до самой машины.
— Надеюсь, вы скоро найдете ее, — сказал он. — Если бы я знал о Джоэле что-то существенное для вас, то обязательно сказал бы. Но вряд ли он имеет какое-либо отношение к делу.
— Почему вы так думаете? — спросил Майло.
— Инертность. Мертвая зона. Он похож на змею, растратившую весь свой яд, потому что на нее слишком часто наступали.
* * *
Домой я возвращался по Олимпику. Хотя сиденье Майло было максимально отодвинуто назад, он расположился на нем, подтянув к себе колени. Сидя в этой неудобной позе, которую почему-то предпочел, он смотрел в окно.
Когда мы были у Роксбери, я спросил:
— В чем дело?
Он продолжал смотреть на проносившийся за окном пейзаж.
— В таких типах, как Макклоски. Кто, черт возьми, скажет, что у них настоящее, а что фальшивое? Вот Бейлисс уверен, что в подонке не осталось больше пороха, хотя и признает, что едва знал его. В сущности, он принял Макклоски за чистую монету, потому что эта мразь явилась добровольно и не поднимала волну, — вот тебе типичная бюрократическая реакция. Дерьмо пропускают через систему, и, пока трубы не засорятся, всем до лампочки.
— Думаешь, за Макклоски нелишне будет понаблюдать и впредь?
— Если эта дамочка не объявится в самом скором времени и не выплывет ничего нового в плане следов и ниточек, я собираюсь еще раз заскочить к нему, попробую застать его врасплох. Но прежде сяду на телефон, кое-кому позвоню и попробую узнать, не якшался ли этот подонок с кем-нибудь из известных уголовников. А у тебя что-нибудь уже запланировано?
— Ничего неотложного.
— Если есть желание, прокатись на побережье. Взгляни на этот пляжный домик — так, на всякий случай. Вдруг да она расположилась там на свежем воздухе и не хочет, чтобы ее беспокоили. Это долгая поездка, и мне не хочется убивать на нее столько времени — вряд ли она что-нибудь даст.
— Ладно, съезжу.
— Вот адрес.
Я взял клочок бумаги с адресом и снова стал смотреть на дорогу.
Майло взглянул на часы.
— Ты особенно не тяни. Поезжай, пока солнце светит. Поиграешь в сыщика, позагораешь — слушай, возьми с собой доску для серфинга, покатайся на волне.
— Стараешься отделаться от доктора Ватсона?
— Что-то вроде того.
21
Дома никаких сообщений для меня не оказалось. Я пробыл ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы как следует накормить рыб — в надежде, что они оставят в покое те несколько гроздьев икры, которые еще цеплялись за жизнь. В два тридцать я уже снова ехал по бульвару Сансет, направляясь на запад.
День на пляже.
Я притворился, что предвкушаю удовольствие.
Выехав на шоссе Пасифик-Коуст, я увидел синюю воду и коричневые тела.
Мы с Робин так часто здесь проезжали.
Мы с Линдой проезжали здесь однажды. Это было второе наше свидание.
Сейчас я был один, и все было иначе.
Я отогнал эти мысли и стал смотреть на побережье Малибу. Оно всегда разное, всегда манит к себе. Кама Сутра. Райский уголок.
Вероятно, поэтому люди залезали в долги, чтобы приобрести кусочек его. Мирясь с черными мухами, коррозией, шоссейной мясорубкой и постепенно забывая о неизбежном круговороте грязевых оползней, пожаров и губительных ураганов.
Участок, приобретенный Артуром Дикинсоном, был превосходный. Нужно проехать пять миль от Пойнт-Дьюм, мимо большого общего пляжа у Зьюмы и свернуть налево, на Брод-Бич-роуд, сразу за ареной для родео у каньона Транкас.
Это — Западное Малибу, где давным-давно исчезли дешевые мотели и прибрежные магазинчики, где вдоль шоссе Пасифик-Коуст тянутся ранчо и плантации и где час ужина озарен закатами самых фантастических оттенков.
Адрес, который дал Майло, привел меня в дальний конец дороги. Километр белого кремниевого песка, насыпанного в виде волнообразных дюн. Неясной геологии холмы пятнадцать на тридцать метров, идущие по четыре миллиона с лишним. При такой цене архитектура становится состязательным видом спорта.
Пляжный домик Дикинсонов–Рэмпов представлял собой одноэтажную солонку со стенками из посеребренного дерева и плоской коричневой гравийной крышей, стоявшую за низкой изгородью из цепей, которая ни от кого и ни от чего не ограждала, а напротив, открывала публике визуальный доступ на пляж. На соседних участках справа и слева от дома возвышалось по двухъярусному, свободной формы сооружению типа торта из мороженого. Одно из них, еще недостроенное, было похоже на ванильное; другое — на фисташковое с малиновым сиропом. Вход на оба участка преграждали электрические ворота из напоминающих тюремные решетки железных прутьев. Позади ванильного виднелся зеленый брезент теннисного корта. Перед фисташковым была выставлена табличка с надписью: «ПРОДАЕТСЯ». На обоих — предупреждения о системе сигнализации.
«Солонка» же не была снабжена никакой охранной системой. Я поднял щеколду и просто вошел на участок.
Следов ландшафтного обустройства тоже не было, только колючая путаница усыпанных оранжевыми цветами плетей бугенвиллии местами заползала на изгородь. Вместо гаража — зацементированный поверх песка пятачок на две машины. На пятачке был небрежно припаркован автофургон цвета ямса с багажником для лыж на крыше, занимавший оба места. Спрятать «роллс-ройс» здесь было негде.
Я подошел к дому, впитывая жар раскаленного песка сквозь подошвы туфель. Будучи все еще в пиджаке и при галстуке, я чувствовал себя коммивояжером, предлагаю и дам какой-то товар. Я вдыхал острый соленый запах океана, видел, как волны прилива потихоньку, в виде ручейков, перебираются через дюны. Клин бурых пеликанов прочертил небо. В тридцати метрах за бурунами прибоя кто-то предавался виндсерфингу.
Сосновая входная дверь была разъедена морской солью, а ручка позеленела и покрылась коркой. Оконные стекла — мутные и влажные на ощупь; на одном из них кто-то пальцем написал: «ПОМОЙ МЕНЯ». Над дверью болтались стеклянные ветряные колокольчики, они качались и ударялись друг о друга, но рев океана заглушал их перезвон.
Я постучал. Ответа не было. Я постучал еще раз, подождал и подошел к одному из покрытых потеками окон.
Единственная комната. Свет в ней не горел, и было трудно различить отдельные детали, но я прищурился и разглядел маленькую кухоньку с открытыми полками с левой стороны, а остальное пространство занимала комбинированная спальня — жилая комната. На матовом сосновом полу развернут футон[12]. Несколько предметов недорогой плетеной мебели с подушками в чехлах из гавайского ситца, небольшой кофейный столик. На стороне, обращенной к пляжу, раздвижные стеклянные двери выходили на затененный внутренний дворик. Сквозь них были видны пара складных шезлонгов, склон дюны и океан.
На песке, прямо перед патио, стоял человек. Ноги согнуты в коленях, спина округлена — он качал штангу.
Я обошел вокруг дома.
Тодд Никвист. Инструктор по теннису стоял по щиколотку в песке.
На нем были маленькие черные плавки, тяжелоатлетический кожаный пояс и перчатки без пальцев, какими пользуются штангисты. Он напрягался и гримасничал, поднимая и опуская штангу. Железные диски на концах штанги были размером с крышки от канализационных люков. По два с каждой стороны. Глаза его были крепко зажмурены, рот открыт, а длинные соломенного цвета волосы влажными, слипшимися прядями падали ему на спину. Обливаясь потом и крякая, он продолжал упражнение со штангой, держа спину неподвижно, нагружая только руки. Он работал в такт с оглушительной музыкой, гремевшей из динамика, который стоял у его ног.
Рок-н-ролл. «Тоненькая Лиззи». «Парни вновь вернулись в город».
Бешеный ритм. Должно быть, успевать за ним — сущая пытка. Бицепсы Никвиста казались изваянными из камня.
Он повторил упражнение еще шесть раз нормально, потом несколько раз нетвердо, дрожащими руками, пока не кончилась музыка. Испустив напоследок хриплый вопль — крик боли или победный клич, — он еще больше согнул ноги в коленях и, по-прежнему не открывая глаз, опустил штангу на песок. Потом шумно выдохнул, начал выпрямляться и потряс головой, рассеяв вокруг капли пота. На пляже было почти безлюдно. Несмотря на хорошую погоду, лишь несколько человек прогуливались у кромки берега, по большей части с собаками.
Я сказал:
— Привет, Тодд.
Он не успел еще полностью выпрямиться, и от неожиданности чуть не упал.
Но ловко восстановил равновесие — впечатал в песок подошвы, потом подпрыгнул, словно танцор. Широко открыв глаза, он всмотрелся, «врубился» и одарил меня широкой улыбкой, словно старого знакомого.
— Вы тот доктор, верно? Мы встречались там, в большом доме.
— Алекс Делавэр. — Я подошел ближе и протянул руку. Мне в туфли насыпался песок.
Он посмотрел на свои руки в перчатках и поболтал ими в воздухе.
— На вашем месте я не стал бы этого делать, док. Они ужасно грязные.
Я опустил свою.
— А я тут себе качаю и качаю, — сказал он. — Что вас сюда привело?
— Ищу миссис Рэмп.
— Здесь? — Казалось, он был искренне озадачен.
— Ее ищут повсюду, Тодд. Меня попросили съездить сюда и посмотреть.
— Это ужасно странно, — произнес он.
— Что именно?
— Да все это. Ее исчезновение. Бред какой-то. Где она может быть?
— Именно это мы и пытаемся узнать.
— Да. Верно. Ну, здесь-то вы ее не найдете, это уж точно. Она сюда никогда не приезжала. Ни разу. По крайней мере, пока я здесь живу. — Он повернулся в сторону океана, потянулся и глубоко вздохнул. — Представляете, иметь такую благодать и ни разу даже не приехать?
— Место великолепное, — отозвался я. — А вы давно здесь живете?
— Полтора года.
— Арендуете этот дом?
Он улыбнулся еще шире, словно гордясь тем, что обладает каким-то важным секретом. Сняв перчатки, он взъерошил волосы. С них слетело еще несколько капель пота.
— У нас что-то вроде бартера, — сказал он. — Теннис и персональные тренировки для мистера Р. в обмен на жилье для меня. Но вообще-то я не живу здесь постоянно. По большей части я бываю в других местах, путешествую — в прошлом году, например, был в двух круизах. К северу до Аляски и к югу до Кабо. Вел занятия по физкультуре для пожилых дам. Еще я даю уроки в загородном клубе Брентвуда, и у меня в городе полно друзей. Так что я ночую здесь от силы пару раз в неделю.
— Похоже, вам повезло.
— Еще как. Знаете, за сколько можно было бы сдавать здесь домик? Даже такой маленький?
— Пять тысяч в месяц?
— Скажите лучше десять, если сдаете на круглый год, от восемнадцати до двадцати в летнее время, и это еще при отключенном отоплении. Но мистер и миссис Р. очень спокойно разрешают мне жить здесь, когда хочу, лишь бы я приезжал в этот прокопченный Л.-А., чтобы как следует погонять мистера Р., когда хочет он.
— А сюда он вообще не приезжает?
Его улыбка поблекла.
— Фактически нет, зачем ему приезжать?
— Да просто так. На мой взгляд, здесь неплохое место для тренировки.
До нас донеслись женские голоса, и мы повернулись в ту сторону. Две девушки в бикини, лет восемнадцати или девятнадцати, выгуливали овчарку. Собака все время рвалась в сторону от кромки воды, натягивая поводок и заставляя державшую его девушку потрудиться. Та какое-то время боролась с собакой, потом сдалась и позволила ей повести себя наискосок через пляж. Вторая девушка трусцой бежала за ними. Добежав до границы участка «ванильного мороженого», собака перестала натягивать поводок, и вся троица направилась в нашу сторону.
Никвист не сводил с девушек глаз. У обеих были настоящие гривы длинных, густых, огрубевших на солнце волос. Одна — блондинка, другая — рыжая. Высокие и длинноногие, с безупречными бедрами и смеющимися лицами Калифорнийской Девушки, они словно только что спрыгнули с рекламного ролика в честь какого-то прохладительного напитка. Блондинка была в белом бикини, а рыжая в ядовито-зеленом. Когда между нами оставалось совсем ничего, собака остановилась, чихнула и стала отряхиваться. Рыжая девушка наклонилась и погладила ее, открыв взору большие, усыпанные веснушками груди.
Никвист прошептал: «Стоп машина!» Потом, повысив голос, окликнул девушек:
— Эгей! Трейси! Мария!
Те обернулись.
— Привет, — продолжал он, все еще во весь голос, — как жизнь, дамы?
— Отлично, Тодд, — ответила рыжая.
— Привет, Тодд, — сказала блондинка.
Никвист потянулся, расплылся в улыбке и потер похожий на стиральную доску живот.
— Прекрасно смотритесь, дамы. Ну что, старик Берни все так же боится воды?
— Да, — вздохнула рыжеволосая девушка. — Такой трусишка. — Она снова повернулась к собаке. — Правда, бэби? Ты у нас просто маленький старый трус-боягуз.
Словно обидевшись на эти слова, пес отвернулся, взрыл лапами песок и опять то ли чихнул, то ли кашлянул.
— Смотри-ка, — сказал Никвист, — он, похоже, простудился.
— Не-а, он просто боится, — возразила рыжая.
— В таких случаях хорошо помогает витамин С. И В12 — надо измельчить таблетку и дать собаке вместе с едой.
— А это кто, Тодд? — спросила блондинка. — Твой новый друг?
— Друг хозяина.
— Вот как? — улыбнулась рыжая девушка. Она посмотрела на блондинку, потом на меня. — Собираетесь повысить арендную плату?
Я тоже улыбнулся.
— Секундочку, док, — пробормотал Никвист и вприпрыжку подбежал к девушкам. Обняв, он притянул их к себе, словно проводил совещание игроков на футбольном поле во время матча. Они вроде были удивлены, но не сопротивлялись. Он стал тихо говорить им что-то, все время улыбаясь, массируя затылок блондинки и талию рыжей. Собака подошла и стала обнюхивать его лодыжку, но он не обратил на это внимание. Было похоже, что девушки испытывают какое-то неудобство, но он и этого как будто не замечал. Под конец они отстранились от него.
Несколько секунд Никвист удерживал их за руки, потом отпустил, еще больше растянул рот в улыбке и шлепнул их по попкам, когда они повернулись, чтобы идти дальше своей дорогой. Пес побежал следом.
Никвист вернулся ко мне.
— Извините за этот перерыв. Приходится держать девочек в рамках.
Пытаясь создать впечатление сексуальной бравады, он переигрывал, и вышло почти карикатурно. Это напоминало мне его диалог с Джиной два дня назад. Нюансы напряженности, на которые я тогда почти не обратил внимания.
Я бы выпил пепси, миссис Р, или что у вас есть, лишь бы было холодное и сладкое.
Скажу Мадлен, чтобы она приготовила вам что-нибудь.
Зрелая женщина и молодой жеребец? Теннис для муженька и уроки другого рода для хозяйки дома?
Оригинальным это не назовешь, но люди так редко бывают оригинальными, когда грешат.
Я спросил:
— Есть какие-нибудь предположения насчет того, где может быть миссис Р., Тодд?
— Нет, — сказал он, морщась. — Прямо загадка какая-то. Я хочу сказать, куда она могла поехать — ведь она боится и все такое?
— Она когда-нибудь говорила с вами о своих страхах?
— Нет, мы… Нет, никогда. Но если много времени проводишь у кого-то в семье, то обязательно что-то слышишь. — Он посмотрел в сторону дома. — Хотите пива или еще чего-нибудь?
— Нет, благодарю. Мне пора возвращаться.
— Жаль, — сказал он, но весь его вид выражал облегчение. — Похоже, вы в очень неплохой форме. Тренируетесь как-нибудь?
— Бегаю немножко.
— Сколько?
— От десяти до шестнадцати километров в неделю.
— С этим надо поосторожнее — бег дает сверхвысокие ударные нагрузки. Ваш учетверенный вес при каждом шаге. Плохо для суставов. И для позвоночника тоже.
— Теперь у меня есть лыжно-кроссовый тренажер.
— Отлично — это максимальная аэробика. Если будете чередовать его с гантелями для удлинения мышц, то принесете себе максимальную пользу.
— Спасибо за совет.
— Без проблем. Если захотите поработать индивидуально с тренером, звякните мне. У меня нет с собой визитки, но вы всегда сможете найти меня через мистера и миссис… через мистера Р. — Он покачал головой. — Фу, как глупо с моей стороны. Я очень надеюсь, что они найдут ее — она такая приятная дама.
Я вернулся к «севилю» и постоял несколько минут, глядя на океан. Серфингиста не было видно, но пеликаны возвратились и, пикируя, охотились на рыбу. Чайки и крачки следовали неотступно за ними, подхватывая остатки. По линии горизонта плыла пара длинных серых «сигар». Это нефтяные танкеры шли своим курсом вдоль побережья на север. Интересно было бы пожить какое-то время в море, на корабле. Чтобы постоянно помнить о ничтожности и бесконечности.
Я не успел развить эту мысль дальше, потому что услышал шум мотора и веселые возгласы, которые завершились воплем: «Эй! Мистер Лендлорд!» Рядом со мной остановился белый «гольф» с опущенным верхом. За рулем сидела блондинка с пляжа, с дымящейся сигаретой в руке. Рядом с ней расположилась рыжеволосая, которая ела из коробки «Фидл-Фэдл» и держала открытый пакет с воздушной кукурузой. Обе девушки надели просвечивающие белые рубашки поверх купальных костюмов, но не застегнули их. Пес Берни сидел на заднем сиденье, вывалив язык и часто дыша — похоже, его укачало в машине.
— Привет, — сказала рыжая. — Ваша машина старая, но в большом порядке. У папы была точно такая.
Я усмехнулся при мысли, что «севиль» кто-то уже считает старинной машиной. Ей десять лет. В день, когда я купил ее, эти девицы, вероятно, ходили в третий класс.
— Наверно, держите ее в гараже?
— Угу.
— Она у вас ухоженная.
— Спасибо.
— А вы правда связаны с хозяином участка? Потому что мы с Трейси ищем что-нибудь поближе к пляжу. Сейчас мы живем по ту сторону шоссе Пасифик-Коуст, в Ласфлорес, и пляж там — не фонтан, очень мокрый и сплошные камни. Мы могли бы работать — помогать по хозяйству, сидеть с детьми и всякое такое — так сказать, на обмен. Тодд сказал, что поможет, но мы решили, что можем и сами поговорить.
— Должен вас разочаровать. Я действительно знаком с хозяином участка, где живет Тодд, но не занимаюсь бизнесом с недвижимостью.
Лицо блондинки непостижимым образом стало безобразным, не потеряв своей красоты.
— Вот дерьмо! Я говорила тебе, Map, что все это лажа!
Рыжая сморщила нос и надулась.
Я спросил:
— А в чем, собственно, дело?
— В Тодде, — ответила рыжая. — Он нас здорово наколол.
— Каким образом?
— Сказал, что вы — большой делец по недвижимости, и если мы будем к нему хорошо относиться, то он поговорит с вами насчет того, чтобы подыскать для нас что-нибудь здесь, на Броде. Мы тут раньше жили — помогали по хозяйству Дейву Дюмасу и его жене, когда они прошлым летом снимали здесь дом, так что люди думают, что мы все еще тут живем, и не прогоняют нас отсюда, но нам охота жить все время прямо здесь или хотя бы где посуше.
— Вы имеете в виду Дейва Дюмаса, баскетболиста?
— Ну да. Мистера Длинного. — Девушки переглянулись и захихикали.
— Мы присматривали за его детьми, — сказала блондинка. — За очень крупными детьми очень крупного парня. — Она опять засмеялась, но потом вдруг посерьезнела.
— Нам правда охота вернуться сюда, на Брод, потому что пляж здесь — просто конфетка, да и концерты в «Транкас-кафе» раскочегариваются — на прошлой неделе приезжал, например, Эдди Ван Хален.
— Мы готовы отрабатывать, — повторила рыжая. Тодд сказал, что может сделать нам обмен.
— Шестерка, слабак несчастный! — высказалась блондинка. — Пусть катится подальше. — Она газанула, и пес дернулся от испуга.
— А что он вообще хотел от вас? — спросил я.
— Ну, в общем, чтобы мы вели себя так, будто считаем его большим бабником. Чтобы дали себя полапать у вас на глазах. — Блондинка повернулась к рыжеволосой подруге. — Я говорила тебе, Map. Не надо было с Тоддом связываться.
— Что, в действительности Тодд совсем не такой?
Подруги опять захихикали. Рыжеволосая вынула из пакета комок воздушной кукурузы и дала псу.
— Он это любит, — проворковала она. — Берни у нас сластена.
— Ешь на здоровье, Берни. — Я обошел машину кругом и потрепал пса по спине. Шерсть у него была свалявшаяся от соли и грязи. Когда я стал чесать ему шею, он заскулил от удовольствия.
— Значит, Тодд — это совсем не то, что нужно, — сказал я.
В глазах у блондинки появилось настороженное выражение. С близкого расстояния ее лицо показалось мне жестким, готовым состариться, а кожа — начавшей принимать вид дубленой от слишком долгого пребывания на солнце и многочисленных превратностей судьбы.
— Может, вы с ним близкие друзья?
— Никоим образом, — успокоил я ее. — Просто я знаком с людьми, которым принадлежит этот дом. Тодда я вижу всего второй раз в жизни.
— Значит, вы не из тех, так сказать… — Блондинка усмехнулась, игриво посмотрела на меня и расслабленным жестом приподняла руку.
— Тре-ейс! Это же очень неприлично!
— А что такого? — возразила блондинка. — Это он так делает, а не я. Вот ему пусть и будет стыдно!
Я спросил:
— Выходит, Тодд — гей?
— Это уж точно, — ответила рыжая.
— Гомик с мускулами, — добавила блондинка.
— Такое тело зря пропадает, — сокрушенно сказала рыжая. Пес судорожно кашлянул. — Тихо, Берни, не напрягайся.
— Вот я и говорю — мерзость какая, — не успокаивалась блондинка. — Использовать нас, чтобы показать, будто его интересуют девушки. Я хочу сказать — может, тело у него, как у буйвола, но головой он слаб, это точно.
— Откуда вы знаете, что он гей? — спросил я.
— Ну, — ответила блондинка, засмеявшись и опять газанув, — конечно, мы не ходим и не подсматриваем за ним, когда он занимается этим.
— К нему все время шастают разные типы, — заявила рыжеволосая девушка. — Он говорит, что тренирует их, но один раз я видела, как он и тот тип держались за руки и целовались.
— Фу, мерзость! — сказала блондинка, толкая подругу локтем в бок. — Ты мне ничего не говорила.
— Так это было очень давно. Когда мы еще жили у Большого Дейва.
— Большой Дейв, — хихикнула блондинка.
— Можете сказать точнее, когда это было? — поинтересовался я.
Вопрос сильно озадачил подруг. У обеих был такой вид, словно они решали труднейшую лексическую задачу.
Наконец рыжеволосая сказала:
— Очень давно — может, недель пять назад. Поджаристый Тодд и этот тип проходили позади дома. А прямо вон там я выгуливала Берни. — Она показала на зацементированную площадку. — И они держались за руки. Потом тот тип сел в свою машину — белый 560-й «мерседес» с такими необычными колесами, — а Тодд наклонился и поцеловал его.
— Мерзость, — фыркнула блондинка.
— Да нет, это было как-то даже трогательно, — возразила рыжая, и было похоже, что она действительно так думает. Но сочувствие здесь было явно не к месту, так что она поежилась и разразилась нервным смехом.
Я спросил:
— Не припомните, как выглядел тот человек?
Она пожала плечами.
— Он был старый.
— Какого он мог быть возраста?
— Старше вас.
— Могло ему быть за сорок?
— Даже больше.
— А может, это был папочка Тодда? — глуповато ухмыляясь, вмешалась блондинка. — Своего папочку ведь можно поцеловать, правда, Map?
— Может, и можно, — отозвалась рыжеволосая приятельница. — Крошка Тодд целует своего папулю.
Они посмотрели друг на друга. Покачали головами и опять захихикали.
— Что-то на папулю не похоже, — продолжала рыжая. — По-моему, там была настоящая любовь. — Она задумчиво взглянула на меня. — Вообще-то этот старый тип был вроде крепкий. Для старика, я имею в виду. Вроде как смахивал на Тома Селлека.
— У него были усы? — спросил я.
Было видно, как рыжеволосая напрягает свою память.
— Кажется, были. Точно не могу сказать. Просто помню, что мне показалось, будто он похож на Тома Селлека. На пожилого Тома Селлека. Крепкий, загорелый. Широкая грудь.
— И почему только среди этих так много крепких типов? — Вопрос блондинки прозвучал несколько риторически. — Столько добра зря пропадает.
— Потому что они богатые, Трейс, — ответила ее рыжая подруга. — Они могут себе позволить разные там приспособления, отсасывание жира и всякое такое.
Блондинка потрогала свой собственный плоский живот.
— Если мне когда-нибудь понадобится делать такие штуки, лучше усыпите меня. — Она запустила руку в коробку «Фидл-Фэдл» и стала шарить.
— Эй, не залапывай там все! — возмутилась рыжая и потянула коробку к себе.
Блондинка, не отпуская коробки, сказала:
— Миндаль. — Она улыбнулась. — Вот, нашла. — Она вытащила из коробки зерно миндаля и взяла его в зубы. Посмотрев на меня, провела по нему языком и не торопясь раскусила.
Я спросил:
— Значит, вы последний раз видели здесь того пожилого типа пять недель назад?
— Точно, — задумчиво кивнула рыжая. — Мы уже очень давно не валялись на сухом песочке.
— Ну так как, — вернулась к своему вопросу блондинка, — вы что-нибудь можете для нас сделать?
— Я уже объяснил вам, что не занимаюсь этим бизнесом, но я действительно кое-кого знаю, так что надо посмотреть и поспрашивать. Оставьте-ка свои координаты.
— Конечно! — просияла рыжеволосая. Но тут же помрачнела.
— В чем дело?
— Нечем писать.
— Какие проблемы, — сказал я, борясь с желанием подмигнуть. Я вернулся к своей машине, нашел в бардачке шариковую ручку и старую квитанцию из автомастерской и вручил все девушке. — Пишите на оборотной стороне.
Используя коробку «Фидл-Фэдл» вместо письменного стола, она стала старательно писать, а блондинка смотрела. Пес ткнулся мокрым носом мне в руку и благодарно вздохнул, когда я снова почесал его.
— Вот. — Девушка протянула мне бумагу.
Мария и Трейси. Замысловатый почерк. Сердечки вместо точек над "i". Флорес-Меса-драйв. Телефонная станция 456.
Я улыбнулся девушкам:
— Отлично. Посмотрю, что можно будет сделать. А пока желаю удачи.
— Она у нас уже есть, — сказала блондинка.
— Что у нас уже есть? — спросила ее рыжеволосая подруга.
— Удача. Мы всегда получаем то, что хотим, правда, Map?
Под звуки хихиканья и в клубах пыли «гольф» рванулся вперед.
Они помчались по Брод-Бич-роуд на север и исчезли из глаз. Через секунду до меня дошло, что эти девушки — ровесницы Мелиссы.
* * *
Я развернулся и поехал назад к шоссе.
Пожилой мужчина и молодой жеребец.
Пожилой мужчина с усами, загорелый.
В Лос-Анджелесе масса загорелых, носящих усы геев. И масса белых «мерседесов».
Но если Дон Рэмп ездит на белом 560-м со спецколесами, то я, пожалуй, рискнул бы сделать предположение. Я влился в южный поток движения по шоссе Пасифик-Коуст и поехал домой, делая свое предположение даже при отсутствии доказательств. Представлял себе Рэмпа в роли любовника Никвиста и пересматривал в свете новой информации ту напряженность между Никвистом и Джиной, свидетелем которой я был.
Очередной фортель в стиле «настоящего мужчины» с его стороны?
Гнев с ее стороны?
Знала ли она об этом?
Связано ли это как-то с ее намеками на желание переменить стиль жизни?
Отдельные спальни.
Отдельные банковские счета.
Отдельные жизни.
А может, она все знала о Рэмпе, когда выходила за него замуж?
И почему, прожив столько лет холостяком, он женился на ней?
И банкир, и адвокат Джины были, похоже, убеждены, что не из-за денег, и в доказательство цитировали брачный контракт.
Но брачные контракты — как и завещания — могут оспариваться. А застраховать жизнь и получить страховой полис можно и без ведомства банкиров и адвокатов.
А может, наследство здесь было абсолютно ни при чем. Может Рэмпу просто было нужно прикрытие, чтобы не шокировать добрых консервативных жителей Сан-Лабрадора.
Вместе с домашним очагом он приобрел и ребенка, который смертельно его ненавидит.
Чисто по-американски!
22
Я добрался домой в самом начале шестого. Майло дома не было. Он надиктовал на свой аппарат новое приветствие. Никакой больше мизантропии, просто по-деловому: «Будьте добры, оставьте ваше сообщение». Я оставил ему просьбу позвонить мне при первой возможности.
Потом я позвонил в Сан-Лабрадор и поговорил с Мадлен.
Мадемуазель Мелиссе нездоровится. Она спит.
Non, месье тоже нет дома.
Прерывающийся голос. Потом щелчок.
Я оплатил счета, прибрался в доме, еще раз покормил рыбок и заметил, что они выглядят усталыми, особенно самочки. Позанимался тридцать минут на лыжном тренажере и принял душ.
Я посмотрел на часы, и они показывали семь тридцать.
Вечер пятницы.
Вечер свиданий.
Не додумав мысль до конца, я позвонил в Сан-Антонио. Мужской голос настороженно ответил: «Алло?» Когда я попросил позвать Линду, мужчина спросил:
— А кто ее просит?
— Знакомый из Лос-Анджелеса.
— Вы знаете, она в госпитале.
— Что-то с отцом?
— Да. Я Конрой, ее дядя — его брат. Живу в Хьюстоне, только сегодня приехал.
— Меня зовут Алекс Делавэр, мистер Оверстрит. Я друг Линды из Лос-Анджелеса. Надеюсь, с ее отцом ничего серьезного.
— Да, конечно, мне тоже хотелось бы на это надеяться, но, к сожалению, все обстоит по-другому. Сегодня утром мой брат потерял сознание. Его привели в чувство, но с большими трудностями — какие-то проблемы с кровообращением и почками. Его перевели в реанимацию. Вся семья сейчас там. Я только что заскочил сюда, чтобы кое-что взять, и как раз позвонили вы.
— Я не стану вас задерживать.
— Спасибо, сэр.
— Передайте, пожалуйста, Линде, что я звонил. Если что-нибудь будет нужно, дайте мне знать.
— Обязательно передам, сэр. Спасибо за предложение помощи.
Щелчок.
* * *
Причина была явно сомнительная, но я все-таки сделал это.
— Алло.
— Алекс! Как ты?
— Ты вечером свободна или у тебя свидание?
Она засмеялась.
— Свидание? Нет, просто сижу здесь, у телефона.
— Тогда, может, рискнешь?
Она опять засмеялась. Почему мне так приятно это слышать?
— Хм, не знаю, не знаю. Мама всегда говорила, что я не должна выходить с мальчиком, который не попросил о свидании еще в среду вечером.
— К материнским советам стоит прислушиваться.
— С другой стороны, она говорила массу чепухи о многих других вещах. Во сколько?
— Через полчаса.
Она вышла из дверей своей студии, как только я притормозил перед зданием. Была одета в черную шелковую водолазку, такой же жакет и облегающие черные джинсы, заправленные в черные замшевые сапоги. Красиво накрашенные губы, оттененные глаза, масса блестящих вьющихся волос. Она отчаянно была нужна мне. Прежде чем я успел выйти, она открыла дверцу со своей стороны и скользнула на сиденье рядом со мной, излучая тепло. Запустив одну руку мне в волосы, начала целовать меня, не дав мне перевести дыхания.
Мы обнимались и целовались неистово. Она пару раз укусила меня, словно от злости. В тот момент, когда у меня в легких совсем не осталось воздуха, она отстранилась и спросила:
— Что у нас на ужин?
— Я думал, может, что-то из китайской кухни. — Сказал это и подумал, сколько раз мы приносили что-нибудь с собой и съедали это в постели. — Конечно, можно сделать заказ по телефону и остаться здесь.
— Ну уж нет. Я хочу настоящее свидание.
Мы поехали в одно место в Брентвуде — стандартное китайское меню и бумажные фонарики, но зато всегда надежно — и пировали целый час, потом отправились в комедийный клуб в Голливуде. Заведение с атмосферой беззаботного веселья, где мы любили вместе проводить время. Ни один из нас не был там ни с кем другим. Теперь атмосфера здесь изменилась: обитые черным войлоком стены, похожие на головорезов вышибалы со стянутыми на затылке в пучок волосами и стероидным цветом лица. Задымленность на уровне Калькутты, всюду так и веет враждебностью. За столиками полно «ночных бабочек» с глазами под тяжело приспущенными веками и их важных гостей, вернувшихся из очередного путешествия и требующих своей дозы.
Первые несколько номеров программы были рассчитаны на эту публику. Среди актеров были начинающие, нигде не востребованные комики с ужасной дикцией, шутки которых неизменно заставляли хохотать до упаду их знакомых и друзей, но почему-то не приживались на бульваре Сансет. Клоуны с грустными лицами кружили по сцене неверными шагами, дико кренясь то на одну, то на другую сторону, словно пьяные на коньках; их паузы, тягостнее которых мне не приходилось встречать в своей лечебной практике, перемежались с бурными всплесками косноязычной словесной мешанины. Незадолго до полуночи выступления стали более отполированными, но дружелюбия в них не прибавилось: лощеные, модно одетые молодые мужчины и женщины, обкатанные участием в ночных ток-шоу, выплевывали в зал непристойные остроты, которые не проходят на телевидении. Злобный юмор. Неприятные этнические шутки. Вопиющая скабрезность.
То ли город померзел, то ли мои собственные чувства притупились?
Я взглянул на Робин. Она покачала головой. Мы поднялись и ушли. На этот раз она позволила мне открыть перед ней дверцу. Оказавшись внутри, она тут же придвинулась к ней вплотную и осталась в этом положении.
Мы поехали. Я дотронулся до ее руки. Она несколько раз сжала мою и отпустила.
— Тебе хочется спать? — спросил я.
— Нет, ни капельки.
— Все хорошо?
— Угу.
— Тогда… Куда поедем?
— Ты не против, если мы просто покатаемся немного?
— Ни капельки.
Мы ехали по Фонтэн в западном направлении. Повернув направо на Ла-Сьенегу, я пересек Сансет и углубился в Голливудские холмы, постепенно поднимаясь все выше и выше, пока не оказался в лабиринте узких, извилистых улиц, носящих названия птиц. Район фешенебельных резиденций.
Робин все так же жалась к дверце, словно была случайной попутчицей, голосовавшей на дороге. Сидела отвернувшись, с закрытыми глазами и не разговаривала. Она скрестила ноги и положила одну руку на живот, как будто он у нее болел.
Через несколько мгновений она вернула голову в прежнее положение и выпрямила ноги. Хоть она и не призналась, что устала, я подумал, не заснула ли она. Но когда я включил приемник и поймал ночную программу джазовой музыки, она сказала:
— Хорошая музыка.
Я вел машину дальше, не имея ни малейшего представления о том, куда еду, потом каким-то образом оказался на каньоне Колдуотер, по этой дороге доехал до Малхолланд-драйв и свернул налево.
Небольшой отрезок дороги пришелся на лес, который вскоре поредел, и показались отвесные утесы, вздымающиеся над светящейся сеткой долины Сан-Фернандо. Пятьдесят квадратных миль огней и движения зазывно подмигивали нам сквозь ночную дымку и верхушки деревьев.
Яркие огни псевдогорода.
Здесь наверху меня охватило странное ощущение вернувшейся юности. Малхолланд представлял собой главную, самую важную парковочную площадку, освещенную голливудской традицией. Сколько было здесь снято любовных сцен? Сколько слезодавильных фильмов?
Я снизил скорость, любуясь видом, но сохраняя при этом бдительность на случай появления каких-нибудь любителей гонки за лидером или других помех. Робин открыла глаза.
— Давай остановимся где-нибудь.
Первые несколько поворотов оказались занятыми — нас опередили другие машины. Наконец я нашел местечко под эвкалиптами в нескольких километрах от развилки Колдуотер, припарковался и выключил фары. Недалеко от Беверли-Глен. Быстрый спуск к югу — и мы дома, по крайней мере я.
Она все еще прижималась к дверце, смотря на долину.
— Хорошо здесь, — сказал я, ставя машину на ручной тормоз и потягиваясь.
Она улыбнулась.
— Как на видовых почтовых открытках.
— Мне хорошо с тобой. — Я снова взял ее за руку. На этот раз никакого ответного пожатия. Рука была теплая, но инертная.
— Ну, как дела у твоей подруги в Техасе?
— Отцу внезапно стало хуже. Он в больнице.
— Мне очень жаль это слышать.
Она опустила стекло со своей стороны. Высунула голову наружу.
— С тобой все в порядке?
— Наверно. — Она втянула голову внутрь. — Почему ты мне позвонил, Алекс?
— Мне было одиноко, — ответил я, не подумав. И мне не понравилось, как жалобно это прозвучало. Но у нее от моих слов, похоже, поднялось настроение. Она взяла мою руку и стала перебирать пальцы.
— Мне бы тоже неплохо иметь друга.
— У тебя он есть.
— Все было не так гладко. Мне не хочется плакаться тебе в жилетку — знаю, что имею склонность к нытью, и борюсь с ней.
— Я никогда не считал тебя нытиком.
Она улыбнулась.
— Что в этом смешного?
— Деннис. Он всегда жаловался, что я ною.
— Да пошли ты его куда подальше!
— Он не просто так ушел. Я его выгнала.
Я промолчал.
— Получилось так, что я забеременела и сделала аборт. Мне потребовалась целая неделя, чтобы решиться на это. Когда я сказала об этом ему, он согласился с ходу. Предложил оплатить операцию. Это-то меня и разозлило — что у него не было ни раздумий, ни колебаний. Что для него все было настолько просто. Вот я и прогнала его.
Она вдруг выскочила из машины, обошла ее кругом и остановилась у решетки радиатора. Я тоже вышел и присоединился к ней. На земле лежал толстый слой опавших с эвкалипта листьев. Воздух пах микстурой от кашля. Проехала пара машин, потом все стихло, потом опять мимо поплыл целый парад фар.
Наконец все стихло окончательно.
— Когда я узнала, что беременна, у меня возникло странное ощущение. Досада на себя за неосторожность. Радость, что оказалась способной на это — биологически. И страх.
Я молча слушал, обуреваемый собственными чувствами. Меня охватил гнев — за все те годы, что мы были вместе. Мы были так осторожны — ради чего? Как грустно…
— Ты ненавидишь меня, — сказала она.
— И не думаю даже.
— Я тебя не осуждаю, ты имеешь все основания.
— Робин, такое случается.
— С другими людьми.
Она подошла к краю обрыва. Я обхватил ее обеими руками за талию. Ощутил сопротивление и убрал руки.
— Сама процедура была пустяковой. Моя гинекологиня проделала ее в два счета, прямо в кабинете. Сказала, что мы удачно захватили это — на ранней стадии, словно речь шла о какой-то болезни. Вакуумный насос и квитанция для страховки, как за обычную консультацию. Потом у меня были колики, но ничего ужасного. Обычный болевой синдром. Пара дней на тайленоле, и все.
Она говорила лишенным всякого выражения голосом, от которого мне было не по себе.
Я сказал:
— Главное, с тобой все обошлось.
Было такое ощущение, будто я читаю со сценарного листа Мелодрама на Горе Влюбленных. Следите за нашими анонсами…
— Потом, — продолжала она, — у меня началась паранойя. Что, если насос натворил бед, и я никогда больше не смогу забеременеть? Что, если Бог наказал меня за убийство того, что жило у меня внутри?
Она сделала несколько шагов в сторону.
— Все говорят об этом так отвлеченно. Паранойя длилась целый месяц. У меня появилась сыпь, я убедила себя, что обязательно заболею раком. Доктор сказала, что со мной все в порядке, и я поверила ей, и несколько дней чувствовала себя хорошо. Потом все чувства вернулись. Я боролась с ними и победила. Убедила себя, что надо жить дальше. Потом я еще целый месяц проревела. Все думала, что могло бы быть, если бы… Наконец прекратилось и это. Но какой-то отзвук той печали остался и все еще витает вокруг. Временами, когда я улыбаюсь, то чувствую, будто на самом деле плачу. А здесь у меня словно дыра. — Она ткнула пальцем в живот. — Вот тут, на этом месте.
Я взял ее за плечи и, преодолевая сопротивление, повернул к себе. Прижал лицом к пиджаку.
— Нет, надо же, черт побери, чтобы с ним! — пробормотала она в пиджак. Потом отстранилась и заставила себя посмотреть мне в глаза. — Он был как еда на скорую руку — чтобы не сосало под ложечкой. Есть что-то непристойное в том, что это случилось у меня с ним, правда? Что-то вроде одного из тех ужасных анекдотов, которые мы сегодня слышали.
Ее глаза были сухи. А мои начало щипать.
— Иногда, Алекс, я и сейчас не сплю по ночам. Задаю себе вопросы и ищу ответы. Похоже, я обречена на это занятие.
Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Мимо с шумом пронеслась еще одна кавалькада машин.
— Вот свидание так свидание, а? Сплошное нытье и скулеж.
— Прекрати. Я рад, что ты мне это рассказала.
— Правда?
— Да, я… да, правда.
— Если ты ненавидишь меня, я это пойму.
— Почему я должен тебя ненавидеть? — Я вдруг разозлился. — У меня не было никаких прав на тебя. Случившееся не имело ко мне никакого отношения.
— Верно, — согласилась она.
Я отпустил ее плечи и уронил руки.
— Мне надо было держать язык за зубами, — сказала она.
— Нет, — возразил я. — Все в порядке… Хотя нет. В этот момент — нет. Я чувствую себя мерзко. В основном из-за того, что пришлось пережить тебе.
— В основном?
— Ладно. Из-за себя тоже. Из-за того, что меня не было рядом с тобой, когда это случилось.
Она печально кивнула, принимая этот кусочек горечи.
— Ты, наверное, захотел бы, чтобы я оставила ребенка?
— Я не знаю, чего бы я захотел. Это чисто теоретический подход, и нет смысла заниматься самобичеванием по этому поводу. Ты не совершила никакого преступления.
— Разве?
— Никакого, — повторил я, снова беря ее за плечи. — Я видел настоящее зло и знаю разницу. Это когда люди намеренно жестоки, когда они по-скотски поступают друг с другом. Один Бог знает, сколько таких случаев происходит в эту минуту — вон там, в средоточии этого светового шоу.
Я повернул ее лицо к долине. Она позволила себе быть податливой.
— Вся штука в том, — сказал я, — что те, кто должен чувствовать себя виноватым, — настоящие подлецы, — никогда этого не чувствуют. Только порядочные люди переживают и мучаются. Не давай, чтобы тебя засосало в этот омут. Ты никому не оказываешь никакой услуги тем, что не проводишь здесь различия.
Она посмотрела на меня снизу вверх — похоже, слушала.
— Ты сделала ошибку, причем отнюдь не светопреставленческую в масштабе мироздания. Ты придешь в себя. Будешь жить дальше. Если захочешь детей, они у тебя будут. А пока постарайся немножко насладиться жизнью.
— А ты, Алекс, наслаждаешься жизнью?
— Во всяком случае, стараюсь. Именно поэтому и приглашаю красивых женщин провести вечер в моем обществе.
Она улыбнулась. По щеке у нее поползла слеза.
Я обнял ее со спины. Ощутил под руками ее живот — мышцы в нормальном тонусе под слоем мягких тканей — и погладил его.
Она заплакала.
— Когда ты позвонил, я обрадовалась. И испугалась.
— Почему?
— Показалось, что все будет так, как тогда, несколько дней назад. Ты не подумай, что мне было плохо с тобой. Клянусь, это было прекрасно. Впервые за долгое время я получила настоящее наслаждение. Но потом… — Она положила свою руку поверх моей и пожала ее. — Наверно, я пытаюсь сказать, что мне сейчас действительно нужен друг. Нужен больше, чем любовник.
— Я уже сказал, что он у тебя есть.
— Знаю, — сказала она. — Когда я слышу тебя, вижу тебя вот так. Знаю, что есть.
Она повернулась ко мне лицом, и мы обнялись.
Проносившаяся мимо машина на мгновение поймала нас лучами своих фар. Какой-то юнец высунулся из открытого окна и крикнул:
— Жми на всю катушку, парень!
Мы посмотрели друг на друга. И засмеялись.
* * *
Мы приехали ко мне домой, и я приготовил ей горячую ванну. Она пробыла в ней полчаса и вышла порозовевшая и сонная. Мы забрались в постель и стали играть в нашу любимую игру, рассеянно смотря какой-то вестерн по телевизору. К двум часам ночи мы сыграли дюжину раз — каждый выиграл в шести партиях. И сочли это время весьма подходящим, чтобы отойти ко сну.
* * *
В субботу ответного звонка от Майло не было. И никаких известий из Сан-Лабрадора. Я позвонил, трубку опять сняла Мадлен и сказала, что Мелисса еще спит.
Мы с Робин почти весь день провели вместе. Съели поздний завтрак, сходили кое-что купить из съестных припасов, съездили в Пасифик-Палисейдз полюбоваться озером и лебедями. Потом легкий обед в заведении недалеко от Сансет-Бич, где готовили блюда из даров моря, и к семи часам мы были у нее дома. Я стал звонить своей телефонистке, а Робин — прослушивать запись на своем автоответчике.
Для меня никаких сообщений не оказалось, а Робин за последние три часа по три раза звонил знаменитый певец. В знаменитом баритоне с хрипотцой звучала паника.
«Срочное дело, Роб. Воскресный концерт в Лонг-Бич. Только что вернулся из Майами. От влажности у Пэтти лопнула кобылка. Позвони мне в „Сансет-Маркуис“, Роб. Пожалуйста, Роб, я никуда не двинусь с места».
Она выключила аппарат и сказала:
— Чудесно.
— Похоже, дело серьезное.
— Еще бы. Когда он звонит сам, а не поручает это кому-нибудь из своих мальчиков на побегушках, значит, близок к нервному срыву.
— А кто такой Пэтти?
— Одна из его гитар. У него есть еще две, Лаверн и… забыла, как называется вторая. Он дал им имена сестер Эндрюс — как звали вторую?
— Максин.
— Точно. Максин. Пэтти, Лаверн и Максин. В жизни не слышала, чтобы три инструмента звучали так похоже. Но завтра, ясное дело, он должен играть на Пэтти.
Она покачала головой и перешла в кухонный уголок.
— Хочешь чего-нибудь выпить?
— Нет, спасибо, пока не хочется.
— Ты уверен? — Она нервно оглянулась на телефон.
— Абсолютно. Ты разве не собираешься сама позвонить ему?
— А ты не обидишься?
Я покачал головой.
— Знаешь, я, оказывается, чуточку устал. Пожилому мужчине за тобой не угнаться.
Ответить она не успела, потому что зазвонил телефон. Она сняла трубку.
— Да, только что вошла… Нет, лучше привези сюда. Здесь я могу это сделать лучше… Ладно, жду.
Она положила трубку, улыбнулась и пожала плечами.
Она проводила меня до машины, мы легко поцеловались, избегая разговаривать, и я уехал, оставив ее в предвкушении работы. А самому себе предоставил и дальше наслаждаться жизнью.
Но настроен я был скорее на теорию, чем на практику, и поэтому, проехав несколько кварталов, подкатил к станции обслуживания и по телефону-автомату снова позвонил Майло.
На этот раз мне ответил Рик.
— Он только что вошел, Алекс, и сразу же снова ушел. Сказал, что какое-то время будет занят, но чтобы ты ему позвонил. Он взял мою машину и сотовый телефон. Записывай номер.
Я записал, поблагодарил Рика, дал отбой и набрал номер Майло. Он ответил после первого же гудка.
— Стерджис.
— Это я. Что случилось?
— Нашли машину, — сказал он. — Пару часов назад. Недалеко от каньона Сан-Гейбриел — Моррисовская плотина.
— А что с…
— Никаких следов. Только машина.
— Мелиссе сообщили?
— Она сейчас там. Я сам ее отвез.
— Как она держится?
— Состояние сильного потрясения. Медики видели ее, сказали, что в физическом плане она в порядке, но надо за ней присматривать. Будут какие-нибудь особые указания, как с ней обращаться?
— Просто будь рядом. Скажи, как к вам проехать.
23
Я выскочил на автостраду у Линкольна. Движение было вязкое и напряжение до самой 134-й Восточной — масса народу ехала на выходные в обоих направлениях. Но на подъезде к Глендейлу оно начало редеть, и к тому времени, как я добрался до развязки 210, шоссе было в моем распоряжении.
Я гнал машину на большей скорости, чем обычно, пронесся вдоль северной оконечности Пасадены, миновал эстакаду, по которой два дня назад, по всей вероятности, проезжала Джина.
Неуютная дорога, в темноте казавшаяся еще неуютнее, отделяла город от меловой пустыни у подножия хребта Сан-Гейбриел. При дневном свете были бы видны районы жилой застройки, индустриальные вкрапления, а дальше гравийные карьеры и поросшие кустарником холмы. К счастью, сейчас все это скрывала темнота беззвездной ночи. Плохая ночь для поисков человека.
За милю до 39-го шоссе я сбросил скорость, чтобы взглянуть на то место, где патрульный полицейский видел «роллс-ройс». Автостраду посередине рассекали цементные звукоизоляционные барьеры высотой по окна. Единственное, что он мог, по идее, увидеть — даже будучи страстным поклонником автомобилей, — это верхнюю часть характерной решетки радиатора и расплывчатый блеск лака.
Поразительно, что он вообще что-то увидел.
Но он был прав.
Я выехал на Азусский бульвар и проехал через окраины города, который выглядел так, будто все еще не забыл пятидесятые годы: заправочные станции с полным обслуживанием, комнаты отдыха, небольшие витрины магазинов — везде было темно. Редкие уличные фонари высвечивали некоторые вывески: «ГВОЗДЬ И СЕДЛО», «ХРИСТИАНСКИЕ КНИГИ», «ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ». В конце третьего по счету квартала появился намек на сегодняшний день — открытый минимаркет. Но покупателей в нем не было, и продавец, похоже, дремал.
Я пересек железнодорожные пути, и 39-е шоссе превратилось в Сан-Гейбриел-Каньон-роуд. «Севиль» запрыгал по старому асфальту, проезжая через район маленьких, печальных оштукатуренных домишек и трейлерных парковок, отгороженных от улицы шлакоблоковыми заборами.
Нигде никаких надписей и рисунков. Легковушки и пикапы втиснуты в малюсенькие передние дворики. Старые машины и пикапы, ничего такого, что когда-нибудь превратилось бы в классику. «Роллс» среди всего этого так же бросался бы в глаза, как искренность в год выборов.
По мере того как дорога начала взбираться вверх по склону, дома стали уступать место более крупным участкам земли — появились конюшни, коневодческие ранчо, обнесенные изгородью из кольев и столбов. Метров на сто дальше указатель, освещенный сверху, обозначал въезд на территорию национального парка «Анджелес-Крест», а ниже мелким шрифтом излагались правила пожарной безопасности и разбивки лагеря. Информационный киоск рядом с дорогой был заколочен досками. Воздух здесь уже начинал пахнуть свежестью. Перед собой я видел асфальтированную дорогу с двумя полосами движения, проложенную через толщу гранита. А дальше была темнота.
Пользуясь светом фар, тряской от неровностей покрытия по центру дороги и слепой верой в качестве ориентиров, я поехал быстрее. Углубившись в парк километра на три, я услышал низкое механическое тарахтение. Оно стало громче, оглушительнее и как будто обрушивалось на меня сверху.
Два комплекта вишневых огней появились в верхней части лобового стекла, потом снизились и зависли прямо в центре моего поля зрения, наконец резко взмыли и стали удаляться к северу. Лучи пары прожекторов стали шарить в темноте, выхватывая верхушки деревьев и расщелины, скользя по склону горы и порождая мгновенные вспышки мерцания и блеска дальше к востоку.
Вода. Она еще раз мелькнула за поворотом дороги.
Потом показался бетонный гребень. Бетонные опоры, наклонный водослив.
Ориентируясь по световым штрихам, которые чертили вертолеты, я увидел плотину, вздымающуюся метров на сорок над водным зеркалом.
Возле дороги указатель: «МОРРИСОВСКАЯ ПЛОТИНА И ВОДОХРАНИЛИЩЕ. ЛОС-АНДЖЕЛЕССКИЙ УЧАСТОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАВОДКОВ».
Давно миновало то время, когда Южная Калифорния испытывала нужду в регулировании паводков; нынешняя засуха стоит четыре года подряд. Но все равно глубина водохранилища должна быть значительной. Сотни миллионов галлонов воды — чернильно-черной, таинственной.
Майло велел мне свернуть на второстепенную дорогу со стороны плотины. Первые две, которые мне встретились, были закрыты металлическими воротами, запертыми на висячие замки. Я проехал еще километров восемь и там, где дорога резко петляет, следуя конфигурации северного берега водохранилища, увидел то, что искал: сигнальные дорожные огни, янтарно-желтые аварийные мигалки на полосатых бело-оранжевых стойках. Стечение автомобилей; некоторые стояли с невыключенными моторами и попыхивали белым дымком.
Черно-белая машина азусской полиции. Машина службы шерифа из Лос-Анджелеса. Три джипа Парковой службы. Медицинский микроавтобус из противопожарной службы.
Позади одного из джипов расположился иностранный контингент: белый «порше» Рика и еще одна машина, тоже белая. «Мерседес-560». Колеса со стальными шипами.
Один из помощников шерифа вышел на середину дороги и остановил меня. Это оказалась молодая блондинка с волосами, стянутыми в «лошадиный хвост». И фигурой, от которой ее бежевая форменная одежда казалась более элегантной, чем того заслуживала.
Я высунул голову из окна.
— Извините, сэр, эта дорога закрыта.
— Я врач. Дочь миссис Рэмп — моя пациентка. Меня пригласили приехать сюда.
Она попросила меня назвать фамилию и предъявить удостоверение личности в подтверждение. Взглянув на мои водительские права, она сказала:
— Одну минуту. А пока выключите, пожалуйста, ваш мотор, сэр.
Отойдя на обочину, она поговорила в радиотелефон, который держала в руке, потом вернулась и кивнула мне.
— Хорошо, сэр, вы можете припарковаться прямо здесь. Ключи оставьте в зажигании. Надеюсь, вы не будете возражать, если мне придется перегнать ее?
— Чувствуйте себя как дома.
— Они все вон там. — Она показала на открытые вращающиеся ворота. — Будьте осторожны, спуск крутой.
Дорожка, достаточно широкая, чтобы по ней могла проехать машина, была проложена через мескитовые заросли и молодую поросль хвойных деревьев. Она была заасфальтирована, но по тому, что под подошвами чувствовалась некоторая податливость, я понял, что это было сделано совсем недавно. Асфальтовое покрытие давало кое-какое сцепление, но мне все равно пришлось спускаться боком, чтобы удержать равновесие на уклоне в пятьдесят градусов.
Передвигаясь таким образом, я спустился вниз метров на сорок, прежде чем увидел конец спуска. Там была ровная площадка, может, двадцать на двадцать, оканчивающаяся у небольшого деревянного причала. Укрепленные на высоких шестах аварийные лампы заливали это пространство желтоватым светом. Вокруг толпились люди в форме, глядя на что-то, что находилось слева от причала, и пытались разговаривать сквозь рев вертолетов. Оттуда, где я стоял, ничего не было слышно.
Продолжая спускаться, я увидел предмет всеобщего внимания: это был «роллс-ройс», наполовину погруженный задним концом в воду, его передние колеса были несколько подняты над землей. Дверца со стороны водителя была открыта. Вернее она отвисала, так как петли у нее расположены на центральной стойке. Такие дверцы были в свое время у машин «линкольн-континенталь» — их прозвали «дверцами для самоубийц».
Я всматривался в толпу и увидел Дона Рэмпа, стоявшего рядом с Чикерингом и смотревшего на машину в воде — одной рукой он держался за голову, а другой вцепился в брюки, забрав ткань в кулак. Как будто старался в буквальном смысле взять себя в руки.
Майло я нашел не сразу. Потом засек его в стороне от толпы, куда не доходил свет ламп. На нем была клетчатая рубашка и джинсы, одной рукой он обнимал за плечи Мелиссу, закутанную в темное одеяло. Они стояли, повернувшись спиной к машине. Губы Майло двигались. Я не мог понять, слушает Мелисса или нет.
Я спустился к ним.
Майло заметил мое приближение и нахмурился.
Мелисса взглянула на меня, но осталась возле него. У нее было белое, неподвижное лицо, похожее на маску кабуки.
Я произнес ее имя.
Она никак не реагировала.
Я взял обе ее руки в свои и крепко сжал.
Она сказала безжизненным голосом:
— Они все еще под водой.
— Водолазы, — пояснил Майло привычным тоном переводчика.
Один из вертолетов кружил низко над водохранилищем, рисуя лучом своего прожектора световые круги на черной воде. Они таяли, не успев полностью сформироваться. Послышался чей-то крик. Мелисса резко высвободила руки и повернулась в ту сторону.
Один из служителей парка стал светить своим электрическим фонарем возле самого берега. Вынырнул водолаз в блестящем от воды гидрокостюме, стянул с лица маску и покачал головой. Когда он совсем вышел из воды, появился второй. Они оба стали снимать баллоны и утяжеляющие пояса.
Мелисса издала стон, похожий на скрежет шестерен, вскрикнула «Нет!» и кинулась к ним. Мы с Майло бросились за ней. Она подбежала к водолазам и закричала:
— Нет! Вы не смеете бросать работу сейчас!
Водолазы попятились от нее и опустили свое снаряжение на землю. Посмотрели на Чикеринга, который подошел в сопровождении помощника шерифа. Остальные тоже начали поглядывать в нашу сторону. Рэмп остался там, где стоял, — все еще не мог оторваться от затопленной машины.
— Ну, какова ситуация? — спросил Чикеринг у водолазов. Он был в темном костюме и белой рубашке с темным галстуком. Острые носы его туфель были в грязи. За спиной у него толпились люди в форме; в них была какая-то настороженность — словно они назначены в ночной патруль и нетерпеливо ждут сигнала выступать.
— Сплошная чернота, — ответил один из водолазов. Он боязливо взглянул на Мелиссу и снова повернулся к начальнику полиции Сан-Лабрадора. — Очень темно, сэр.
— Так используйте освещение! — сказала Мелисса. — Ведь люди все время занимаются ночным подводным плаванием с фонарями, не так ли?
— Мисс, — пролепетал водолаз. — Мы… — Ему явно не хватало слов. Он был молод — может, немного старше нее. Веснушчатое лицо, похожие на пух светлые усики под шелушащимся носом. К подбородку прилип обрывок водоросли. У него начали стучать зубы, так что ему пришлось крепко сжать челюсти.
Второй водолаз, который был не старше первого, сказал:
— Свет у нас был, мисс. — Он нагнулся и что-то поднял с земли. Это была заключенная в черный корпус лампа на веревочном тросе. Он дал ей качнуться несколько раз и снова опустил ее на землю.
— Это специальные лампы для погружения. Мы взяли желтые — они отлично служат для таких… дел. Проблема в том, что здесь даже днем очень темно. А ночью… — Он покачал головой, растирая мышцы рук и уставившись в землю.
Воспользовавшись представившейся возможностью, первый водолаз отошел на несколько шагов. Стоя на одной ноге, он стащил один ласт, потом поменял ноги и стал стягивать другой. Кто-то принес ему одеяло, точно такое же, как то, в которое была закутана Мелисса. Второй водолаз посмотрел на него с завистью.
— Это же водохранилище, черт побери! — крикнула Мелисса. — Это питьевая вода — как она может быть грязной?
— Она не грязная, мисс, — ответил второй водолаз, темноволосый. — Она темная. Непрозрачная. Это естественный цвет воды — от большого содержания минеральных веществ. Приходите сюда днем и увидите, что она имеет вот такой темно-зеленый цвет… — Он остановился и посмотрел на окружающих, ища подтверждения своим словам.
Вперед вышел помощник шерифа. На латунной пластинке, укрепленной над одним из карманов, было написано: «ГОТЬЕ». Под ней — несколько рядов нашивок. На вид ему было лет пятьдесят пять. У него были усталые серые глаза.
— Мы собираемся сделать все, чтобы найти вашу мать, мисс Дикинсон, — сказал он, обнажая ровные пожелтевшие от табака зубы. — Вертолеты будут продолжать поиск над шоссе в тридцатикилометровом радиусе. Что касается водохранилища, то моторки с плотины, высланные сразу же, прочесали каждый квадратный сантиметр поверхности. Вертолеты просматривают ее еще раз, просто на всякий случай. Но под водой мы действительно сейчас не в силах ничего сделать.
Он говорил тихо и решительно, стараясь передать весь ужас положения обычными, неужасными словами. Если Джина там, под водой, то никакой срочности уже нет.
Руки Мелиссы месили невидимый комок теста. Она зло взглянула на говорившего, губы ее кривились.
Чикеринг нахмурился и подошел на шаг ближе.
Мелисса зажмурила глаза, вскинула руки, и из груди у нее вырвался душераздирающий крик. Закрыв лицо руками, она согнулась в талии, словно ее схватили колики.
— Нет, нет, нет!
Майло сделал движение, чтобы подойти к ней, но я опередил его, и он отступил. Взяв ее за плечи, я притянул ее к себе.
Она стала сопротивляться, без конца повторяя слово «нет».
Я держал ее крепко, и постепенно она расслабилась. Даже слишком. Одним пальцем за подбородок я приподнял ее лицо. Плоть была холодной на ощупь и напоминала пластик. Я как будто хотел придать нужную позу манекену.
Она была в сознании и дышала нормально. Но глаза у нее были неподвижны и несфокусированы, и я знал, что если отпущу ее, то она рухнет на землю.
Люди в форме стояли и смотрели. Я решил попытаться увести ее.
Она застонала, и кое-кто из них вздрогнул. Один отвернулся, его примеру последовали другие. Постепенно почти все стали возвращаться к «роллсу».
Чикеринг и Готье задержались возле нас. Чикеринг некоторое время пристально смотрел на меня с озадаченным и раздраженным выражением, потом пожал плечами и присоединился к группе людей, которые наблюдали за машиной. Готье, приподняв одну бровь, смотрел ему вслед. Потом, повернувшись опять ко мне, взглянул на Мелиссу и озабоченно покачал головой.
— Все нормально, — сказал я. — Я бы хотел увезти ее отсюда, если не возражаете.
Готье кивнул. Чикеринг стоял и смотрел на воду.
Дон Рэмп стоял отдельно от всех, и ноги у него были по щиколотку заляпаны грязью. Он как-то неожиданно превратился в хилого сгорбленного старика.
Я попробовал привлечь его внимание и подумал, что мне это удалось, когда он повернулся в мою сторону.
Но он смотрел мимо меня, и глаза его были такого же цвета, как и грязь, облепившая его туфли.
Вертолеты улетели дальше, и их мушиное жужжание доносилось откуда-то с севера. Внезапно мои ощущения раздвинулись, словно объектив камеры. Я услышал, как вода плещется о берег. Почувствовал острый хлорофилловый запах подлеска и характерную вонь подтекающего моторного масла.
Мелисса шевельнулась, подавая признаки жизни. Словно открывающаяся рана.
Она тихо плакала, повинуясь какому-то ритму. Ее горе выливалось в высокий, жалобный стон, который метался над водой и над голосами людей на берегу, обсуждавших случившееся.
Майло нахмурился и переступил с ноги на ногу. Он стоял у меня за спиной, а я этого не заметил.
Возможно, именно это движение вывело Рэмпа из транса. Он направился в нашу сторону, сделал с полдюжины неуверенных шагов, но потом передумал и резко повернул назад.
24
Мы с Майло наполовину довели, наполовину дотащили Мелиссу до моей машины наверху. Майло вернулся к «роллсу», а я повез ее домой, готовый провести сеанс лечения. Она откинула голову назад и закрыла глаза, и к тому времени, когда я добрался до конца горной дороги, она легонько посапывала.
Ворота дома на Сассекс-Ноул были открыты. Я донес Мелиссу на руках до входной двери и постучал. Через какое-то время, показавшееся нам довольно долгим, дверь открыла Мадлен, одетая в белый хлопчатобумажный халат, застегнутый до самого подбородка. Ее круглое лицо не выразило ни малейшего удивления, у нее был вид человека, привыкшего стойко сносить удары судьбы и переживать горе в одиночестве. Я прошел мимо нее в огромную переднюю комнату и опустил Мелиссу на один из мягких диванов.
Мадлен быстро ушла и вернулась с одеялом и подушкой. Встав на колени, она приподняла голову Мелиссы, подсунула под нее подушку, сняла с Мелиссы кроссовки, укрыла ее одеялом и подоткнула концы в ногах.
Мелисса повернулась на бок, лицом к спинке дивана. По-беличьи повозилась под одеялом. Пару раз сменила положение, потом из-под одеяла высунулась рука с отставленным большим пальцем. Рука полностью выпросталась, и большой палец приложился к нижней губе девушки.
Не вставая с колен, Мадлен отвела прядку волос с лица Мелиссы. Потом она встала, поправила платье и устремила на меня сурово-выжидательный взгляд, требующий информации.
Я поманил ее согнутым пальцем, и она последовала за мной через всю комнату, подальше от Мелиссы.
Когда мы остановились, она оказалась совсем рядом со мной; она тяжело дышала, большая грудь ее вздымалась. Ее волосы были туго заплетены. От нее пахло одеколоном типа розовой воды.
— Только машина, месье?
— К сожалению. — Я сказал ей о поисках с вертолетов. Ее глаза оставались сухими, но она торопливо провела по ним костяшками пальцев.
Я сказал:
— Она все еще может быть где-то в парке. Если это так, то они найдут ее.
Мадлен ничего не ответила на это, только потянула себя за палец, пока не щелкнул сустав.
Мелисса с большим пальцем во рту несколько раз причмокнула. Мадлен взглянула на нее, потом опять повернулась ко мне.
— Вы останетесь, месье?
— Пока останусь.
— Я буду здесь, месье.
— Очень хорошо. Мы подежурим по очереди.
Она не ответила.
Мне показалось, что она не поняла меня, и поэтому я повторил:
— Будем сидеть с ней по очереди. Чтобы не оставлять ее одну.
Но и на этот раз она не подала никакого знака согласия. Просто стояла как вкопанная, и глаза у нее были словно осколки гранита.
Я спросил:
— Вы что-то еще хотите сказать мне, Мадлен?
— Нет, месье.
— Тогда можете идти отдыхать.
— Я не устала, месье.
* * *
Мы сидели у противоположных концов дивана, на котором спала Мелисса. Мадлен вставала несколько раз, чтобы поправить одеяло, хотя Мелисса почти ни разу даже не шевельнулась. Мы не разговаривали. Время от времени Мадлен щелкала суставом очередного пальца. Она дошла до десятого, когда звякнул дверной звонок. Поспешив в передний холл со всей грацией, на какую было способно ее крупное тело, она открыла дверь и впустила Майло.
— Месье Стерджис. — Она опять надеялась услышать какие-нибудь новости.
— Привет, Мадлен. — Он покачал головой, быстро похлопал ее по руке. Выглядывая из-за нее, он спросил:
— Как там наша девочка?
— Спит.
Он вошел в комнату и склонился над Мелиссой. Большой палец все еще был у нее во рту. Несколько прядок растрепавшихся волос упали ей на лицо. Майло протянул было руку, чтобы отбросить их, но остановился и спросил шепотом:
— И давно она в отключке?
— С тех пор, как я посадил ее в машину, — ответил я.
— Это нормально?
Мы с ним отошли на несколько шагов. Мадлен подошла ближе к Мелиссе.
— При сложившихся обстоятельствах — да.
Мадлен сказала:
— Я буду с ней, месье Стерджис.
— Конечно, — ответил Майло. — Доктор Делавэр и я будем в кабинете на первом этаже.
Она чуть заметно кивнула.
Когда мы с Майло направились в комнату без окон, я заметил:
— Похоже, ты приобрел друга.
— Старушка Мэдди? Смешливой ее не назовешь, но она преданная и заваривает отличный кофе. Она из Марселя Я был там — двадцать лет назад. Проездом, когда возвращался из Сайгона.
Исписанные почерком Майло листки покрывали весь бювар с промокательной бумагой на маленьком белом письменном столе. Еще одна стопка записей и сотовый телефон лежали на другом столе. Антенна телефона была выдвинута. Майло задвинул ее.
— Здесь было рабочее место Мелиссы. — Майло показал на стол. — Мы организовали тут центральную справочную службу. Она толковая девчушка. И упорная. Мы висели на телефоне весь день — это ничего нам не дало, но она не сломалась. Мне приходилось видеть начинающих детективов, которые не так здорово с этим справлялись.
— У нее был мощный стимул.
— Да. — Он пошел и сел за письменный стол.
— Как ты узнал насчет машины? — спросил я.
— В семь мы сделали перерыв, чтобы перекусить. Она пошутила насчет того, что пошлёт Гарвард к чертями станет частным сыщиком. Я первый раз увидел, как она улыбается. И подумал, что так она, по крайней мере, отвлекается от дурных мыслей. Пока мы ели, я сделал обычный звонок в полицию Болдуиновского парка. Звонил туда раз в смену, чтобы не совсем там осточертеть. Ничего особенного от этого звонка я не ожидал. И вдруг дежурная говорит: да, эту только что обнаружили, и сообщила подробности. Мелисса, должно быть, увидела выражение моего лица, и сандвич выпал у нее из рук. Так что пришлось сказать ей. Она настояла, чтобы я взял ее с собой.
— Все лучше, чем сидеть и ждать.
— Наверно. — Он поднялся, вернулся к столу Мелиссы и носком ботинка поковырял темное пятно, выделявшееся на кремовом бордюре обюссоновского ковра. — Вот здесь он и шлепнулся, ее сандвич с тунцом под майонезом, — такое аккуратненькое жирное пятно.
Он повернулся лицом к портрету Гойи и потер глаза.
— До того как это случилось, она рассказывала мне кое-что из того, что ей пришлось пережить, и как ты помог ей. За эти восемнадцать лет она хлебнула немало. Я был слишком резок с ней, верно? Больно уж скор на расправу, черт побери.
— Издержки профессионализма, — сказал я. — Но, очевидно, ты что-то такое сделал правильно — она тебе доверяет.
— Я и правда не думал, что дело примет такой скверный оборот. — Он повернулся ко мне. Я впервые заметил, что ему не мешало бы побриться и помыть голову. — Такая дерьмовая ситуация.
— Кто нашел машину?
— Местный служитель во время обычного обхода. Он заметил, что служебные ворота открыты, пошел закрыть их и решил проверить. В нескольких таких местах по берегу обслуживающие плотину люди берут пробы воды. И им важно, чтобы праздная публика там не шаталась, а то чего доброго, кто-нибудь возьмет и написает в питьевую воду. На этих воротах замка не было. Но, видимо, это не показалось ему чересчур странным. Иногда сам персонал плотины забывает запирать за собой ворота. Это стало уже чем-то вроде постоянной шутки между ними и обходчиками, так что он не сразу даже решил спуститься и проверить, в чем же дело.
— А с плотины никто машину не видел?
Он покачал головой.
— Здесь добрых три километра от плотины до этого участка водохранилища, к тому же у персонала глаза вечно приклеены к циферблатам и шкалам приборов.
Майло снова сел на место, посмотрел на лежавшие на столе бумаги, рассеянно их перелистал.
— Что произошло, как ты думаешь? — спросил я.
— Зачем она туда поехала вообще и почему именно по той дороге? Кто знает? Чикеринг зациклился на ее фобии — он убежден, что она заблудилась, запаниковала и стала искать место, где могла бы остановиться, успокоиться и взять себя в руки. Остальные с ним согласились. А по-твоему, так могло быть?
— Может, и могло. Если она почувствовала необходимость поделать свои дыхательные упражнения и принять лекарство, ей наверняка захотелось бы найти уединенное местечко. Но как машина оказалась в воде?
— Похоже на несчастный случай, — сказал Майло. — Она остановилась близко к берегу — судя по отпечаткам шин, в полуметре от края. Поставила на нейтралку. Но машину именно этой модели при парковке надо ставить на задний ход после выключения мотора. Она была не очень опытным водителем, и большинство сходится на том, что она потеряла управление, и машина скатилась в воду Очевидно, у этих старых «роллсов» барабанные сервотормоза, которые срабатывают через несколько секунд. Если машину не поставить на ручной тормоз, она может еще немного катиться, даже с уже выключенным мотором, так что пришлось бы что есть силы жать на основной тормоз, чтобы остановиться.
— Почему же она съехала лишь наполовину?
— Помешали такие стальные штуки, выступающие из стенки. Вроде ступеней, они нужны для осмотра и ремонта. Задние колеса застряли между парочкой таких штук. Их заклинило очень прочно. Люди из службы шерифа сказали, что придется тащить лебедкой.
— Когда обходчик обнаружил машину, дверца со стороны водителя была открыта?
— Да. Он сразу же проверил, не застрял ли кто внутри. Но там никого не было. Вода стояла вровень с сиденьями. Дверцы могли открыться случайно — они навешены задом наперед, крепятся к центральной стойке, так что силой тяжести их могло оттянуть назад. А может быть, это она пыталась выбраться наружу.
— Ну и к чему же склоняются мудрецы? Ей это удалось?
Он помолчал, снова посмотрел на свои бумаги, сгреб в горсть, смял и оставил скомканными на столе.
— Самая расхожая версия состоит в том, что она либо ударилась головой при попытке выбраться, либо от страха лишилась чувств и свалилась в воду. Глубина у водохранилища большая, даже во время засухи почти сорок метров. И здесь нет постепенного увеличения глубины, как в плавательном бассейне, — сразу обрыв. Она пошла бы ко дну в считанные секунды. Мелисса говорит, она не умела хорошо плавать. Не пользовалась бассейном несколько лет.
— Мелисса говорила, что она вообще не любит воду, — заметил я. — Что же она в таком случае там делала?
— Кто знает? Может, это все было задумано как часть ее самолечения? По принципу «помоги себе сам». Поставить себя лицом к лицу с тем, что ее пугало, — в этом есть для тебя какой-то смысл?
— Здесь что-то не так. Помнишь, что ты сказал, когда стало известно, что машину засекли на шоссе? Мы смотрели на карту — на шоссе 210, и ты сказал, что она вряд ли поехала бы на север, потому что к северу — «Анджелес-Крест», а она в твоем представлении не такой человек, который может решиться ехать по такой тяжелой дороге.
— И что ты хочешь этим сказать?
— Не знаю. Вся эта версия о трагическом несчастном случае основывается на предпосылке, что она была одна. А что, если кто-то отвез ее туда и сбросил в воду? Привязал к телу груз, чтобы оно точно затонуло, а потом попытался столкнуть и машину, чтобы все это выглядело как несчастный случай, но помешали эти выступы?
— И куда же этот кто-то делся?
— Да просто ушел. Места там сколько хочешь — парк огромен. Ты сам однажды сказал мне, что этот парк — идеальная свалка для трупов.
— Вот уж не знал, что ты так внимательно меня слушаешь.
— А как же!
Он скомкал еще несколько бумаг и провел по лицу рукой.
— Алекс, после стольких лет на этой работе меня не надо уговаривать видеть самое плохое в людях. Но пока у меня нет ничего, что указывало бы на преступление. Кого можно было бы заподозрить, и в чем может заключаться мотив?
— А кого ты обычно подозреваешь, когда умирает богатая женщина?
— Мужа. Но этот не получает никакой выгоды, какой же у него мотив?
— А может, какая-то выгода есть. Что бы там ни говорили Энгер и адвокат, брачные контракты могут быть оспорены. При таких размерах состояния, даже если ему в конце концов достались бы один или два процента, все равно игра стоила бы свеч. Потом, страховой полис можно оформить и без ведома того лица, чья жизнь страхуется, не говоря уж о юристах и банкирах. Кроме того, у него есть еще один секрет. — Я рассказал Майло о том, что узнал в Малибу.
Он отодвинул кресло назад, к книжным полкам, и потянулся, явно не достигнув при этом комфорта.
— Старина Дон. Такой весь из себя мачо[13]. Живущий в огромном стенном шкафу.
Я сказал:
— Это могло бы объяснить его враждебность при встрече с тобой. Из передачи по ТВ он знал, кто ты такой, и забеспокоился, что тебе может быть что-то о нем известно.
— Откуда?
— Общие контакты среди геев?
— А, ну да, естественно. Мистер Активист — это я. Прямая связь с общиной геев.
— Он и так бы это знал, если бы сам был связан с общиной геев. Но, поскольку он в своем заведении кормит жителей Сан-Лабрадора, такое маловероятно. Может, в его реакции не было ничего рационального. Может, она была чисто рефлекторной — в твоем присутствии он увидел угрозу себе. Оно напоминало ему о его секрете.
— Угрозу, — задумчиво повторил Майло. — Знаешь, мне тоже приходило в голову, что ему что-то обо мне известно. Я подумал, что он просто гомофоб, фашист, и уже совсем было собрался послать его в задницу и уйти, но он вдруг как бы решил это отбросить, тогда и я сделал то же самое.
— Как только он понял, что тебя интересует только Джина, а не он, то посчитал, что его секрету ничего не угрожает.
Майло криво усмехнулся.
— Не долго же продержался этот секрет.
— Как мне представляется, когда я все это снова проигрываю в уме, эта мысль преследовала его с самого начала. Он первым заговорил о пляжном домике. Сам звонил туда. Дважды. И решил, что теперь все будет в порядке. Он никак не мог знать, что я туда поеду. Но сама по себе поездка ничего бы не прояснила — мне просто фантастически повезло. Если бы Никвист не перебрал с теми двумя девицами, а я случайно не встретился потом с ними, то абсолютно ничего бы не заподозрил.
— Что собой представляет этот Никвист, помимо того, что переигрывает?
— Блондин, симпатичный, качает мускулатуру, серфингист. Девицы говорили, что к нему все время приходят мужчины. Как он утверждает, на тренировки.
— «Золотой мальчик», шлюха мужского рода, — сказал Майло. — Как банально.
— То же самое думал и я. Раньше, когда подозревал, что у Джины с ним что-то есть.
Брови Майло поползли вверх.
— И когда же было такое?
— В самом начале, но ясную картину составил себе лишь вчера. Когда я приехал сюда в первый раз, мы с Джиной были внизу — искали Мелиссу после их ссоры. Вошли Рэмп и Никвист, вернувшиеся с теннисного корта. Рэмп отправился в душ, а Никвист остался и не уходил, причем без всякого видимого предлога. Выходило вроде непреднамеренного нахальства. Он попросил у Джины чего-нибудь выпить, и это каким-то образом прозвучало у него похотливо. Ничего определенного не было сказано, все дело было в том, как он это сказал. Она, должно быть, тоже это услышала, потому что сразу же поставила его на место. Ему это не понравилось, но он промолчал. Весь эпизод занял меньше минуты. Я и забыл о нем, пока не увидел, как Никвист строит из себя племенного жеребца с этими любительницами пляжной жизни. Потом девицы рассказали мне о нем и Рэмпе, и я понял, что он просто прикидывался.
— А может, и нет.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Может, этот Тодд — творческая натура.
— Играет и в те, и в эти ворота?
Майло усмехнулся.
— Такие случаи известны.
Я стоял с того момента, как мы вошли в комнату. До меня это только что дошло, и я сел в кресло.
— Деньги, ревность и страсть, — изрек я. — Полный набор классических мотивов. Помнишь, Мелисса сказала, что Джина, по ее словам, ценит в мужчине доброту и терпимость? Возможно, в Рэмпе ей нравилось именно то, что он был терпим не только к ее фобии. Может, она имела в виду, что приемлет он ее отношения с Никвистом или еще какое-то экспериментирование в области секса, а может, и то и другое вместе. Но что, если эта терпимость не была взаимной? Супружеская неверность — это одно, а выход за рамки сексуальных предпочтений — это совсем другое. Если Джина вдруг узнала, что делит Тодда с Рэмпом, то у нее вполне могла поехать крыша.
— Крыша у нее могла поехать даже и в том случае, если между нею и Никвистом ничего не было, а она просто узнала, что Рэмп гомик или бисексуал, — сказал Майло.
— Как бы там ни было в деталях, она узнала нечто такое, что заставило ее решить, что с нее хватит. Пора спасаться бегством — и психологически, и физически. Сделать гигантский шаг через открытую дверь.
— Для Рэмпа многое изменится, если она даст ему пинка под зад.
Я кивнул.
— Никаких больше особняков, никаких пляжных домиков, никаких теннисных кортов — люди ведь привыкают к определенному уровню. А если получит огласку причина, почему она с ним разводится, то он лишится гораздо большего, чем атрибуты роскошной жизни. В Сан-Лабрадоре с ним будет покончено.
— Вытряхнет его, — пробормотал Майло.
— Что?
— Вытащит его из шкафа, хочет он того или нет. Именно так и поступают люди, если их разозлить.
— Это верно, но верно и то, что я не почувствовал особенной враждебности между Джиной и Рэмпом. Не почувствовала этого и Мелисса, а я тебя уверяю, что она-то уж не оставила бы без внимания даже самой малости.
— Да, — сказал Майло, — но они оба бывшие актеры, так? Если им надо будет изобразить супружеское счастье, они запросто с этим справятся. Разве не так принято здесь, в Сан-Лабрадоре? Любой ценой делать вид, что все в порядке?
— Ну, так. И куда же мы можем со всем этим пойти?
— Куда пойти? — переспросил он. — Если ты спрашиваешь, могу ли я уговорить Чикеринга или службу шерифа провести расследование по подозрению Рэмпа в тайной сексуальной жизни, то ответ тебе известен. Может, мне покопать под ним и под «золотым мальчиком»? Что мы теряем?
— Еще денек на пляже?
— Напомни, чтобы я взял с собой свою доску для серфинга.
— Тебе удалось еще раз съездить к Макклоски?
— Был у него сегодня во второй половине дня. Он спал, когда я приехал. Священник не хотел, чтобы я его беспокоил, но я проскользнул с черного хода и поднялся к нему в комнату. Он даже не удивился, когда увидел меня, — у него был вид смирившегося со всем старого зэка.
— Что-нибудь узнал?
Он покачал головой.
— Этот тип нес все то же религиозное дерьмо, что и прежде. Я попробовал на нем все свои коповские трюки. Ничем не смог его пронять. Я уж начинаю думать, что у него и впрямь не все дома. — Он постучал себя по черепу. — Nada aqui[14].
— Но это не исключает того, что он мог нанять кого-то для расправы с ней.
Майло не ответил, поглощенный своими мыслями.
— Что с тобой?
— Ты заронил кое-какие мысли — относительно Рэмпа. Неплохо бы узнать, насколько Джина осведомлена на самом деле о его сексуальных аппетитах. Как думаешь, могла она обсуждать это со своими лечащими врачами?
— Вполне возможно, но я не думаю, что они согласятся нарушить конфиденциальность отношений с пациентом.
— А мертвые тоже имеют право на конфиденциальность?
— С точки зрения этики — да. Я точно не знаю, как обстоят дела с юридической стороны. Если будут основания подозревать, что совершено преступление, врачам, возможно, в конце концов придется показать свои записи. Но пока до этого не дошло, я не думаю, что они охотно пойдут навстречу кому бы то ни было. Любая огласка может лишь повредить им.
— Да, — сказал Майло. — Пациент в озере не тянет на Нобелевскую премию в области медицины.
Мои мысли вернулись к черной воде. Тридцать с лишним километров мути.
— Если она на дне водохранилища, каковы шансы найти тело?
— Не очень велики. Как сказал водолаз, видимость отвратительная, а район поиска огромен — водохранилище не осушишь, это тебе не пруд. И сорок метров — это уже близко к предельной глубине, на которой можно работать с аквалангом, дальше надо уже переходить на глубоководное снаряжение. Это означает большие расходы, большую трату времени и очень мало шансов на успех. Ребята шерифа не слишком торопились заполнять требования о дополнительном снаряжении.
— Расследование в исключительной компетенции службы шерифа?
— Ага. Чикеринг рад быть на подхвате. Большинство склоняется к тому, чтобы положиться на естественный ход вещей.
— То есть?
— Подождать, пока она всплывет.
Я представил себе как вздувшийся от газов, разлагающийся труп всплывает на поверхность водохранилища. Интересно, какое утешение я смог бы наскрести для Мелиссы, если (или когда) такое случится?
И что я скажу ей, когда она проснется?..
— Несмотря на преобладающее мнение, — сказал я, — как ты думаешь, есть ли хоть один шанс на то, что ей удалось выбраться из машины и добраться до берега?
Он озадаченно взглянул на меня.
— Отказываешься от своего сценария с убийством?
— Нет, просто исследую альтернативные версии.
— В таком случае, почему же она просто не подождала на обочине? Эту дорогу оживленной не назовешь, но в конце концов кто-нибудь бы здесь проехал и подобрал ее.
— Она могла быть в шоке, не осознавать, где находится, — возможно даже, она получила травму головы, забрела куда-то и потеряла сознание.
— Следов крови не обнаружили.
— Это могла быть закрытая черепно-мозговая травма. При сотрясении мозга крови не бывает.
— Говоришь, забрела куда-то. Если ищешь счастливый конец, то не там. Его не будет, если вертолеты не найдут ее в самом скором времени. Ведь она уже больше пятидесяти часов находится без всякой помощи, под воздействием внешних условий. Если бы мне пришлось выбирать способ смерти, я предпочел бы озеро.
Он снова встал и заходил по комнате.
— Хочешь послушать кое-что пострашнее? Выдержишь?
Я развел руки в стороны и выпятил грудь.
— Валяй, бей.
— Есть по меньшей мере еще два сценария, которые мы не рассматривали. Номер один: она действительно выбралась на берег, подождала у дороги, и кто-то действительно подобрал ее. Какой-нибудь мерзкий тип.
— Псих на колесах?
— Это возможная версия, Алекс. Красивая женщина, мокрая до нитки, беспомощная. Это могло оказаться привлекательным для человека с определенными… склонностями. Бог свидетель, мы такое видим достаточно часто — женщины, застрявшие на шоссе, и добрые самаритяне, которые на поверку оказываются никакими не добрыми, а совсем даже наоборот.
Я сказал:
— Это действительно страшно. Никто не заслуживает стольких страданий.
— С каких это пор мера страданий отпускается по заслугам?
— А номер два?
— Самоубийство. Эту идею высказал шериф Готье. Сразу после того, как ты увез Мелиссу, Чикеринг начал всем объяснять, что ты ее психиатр, потом стал разглагольствовать о проблемах Джины — плохие гены и все такое. О том, что в Сан-Лабрадоре полно всяких чудаков. Может, он и охраняет дворцы богачей, но им самим не очень симпатизирует. Ну, так вот, Готье и говорит: раз такое дело, то почему не самоубийство? Видно, у них уже были случаи, когда люди бросались в водохранилище. Чикерингу это ужасно понравилось.
— А что же Рэмп? Как он реагировал на это?
— Рэмпа там не было — Чикеринг не стал бы распускать язык в его присутствии. До него даже не дошло, что я все это слушаю.
— А где был Рэмп?
— Наверху, на шоссе. Похоже, ему стало плохо, и его взяли в машину «скорой», чтобы сделать ЭКГ.
— С ним все в порядке?
— Со стороны ЭКГ — да. Но вид у него был довольно дерьмовый. Когда я уезжал, с ним все еще возились.
— Думаешь, игра?
Майло пожал плечами.
— Вопреки психологическим экскурсам Чикеринга, — рассуждал я, — не могу согласиться с версией самоубийства. Когда я разговаривал с ней, то не видел никаких признаков депрессии — ни малейшего даже намека. Напротив, она была настроена оптимистически. Ведь у нее было целых двадцать лет боли и страданий — достаточно для того, чтобы решиться наложить на себя руки. Зачем бы она стала делать это сейчас, когда уже жила в предвкушении определенной степени свободы?
— Свобода может быть пугающей.
— Всего пару дней назад ты говорил, что она была настолько опьянена свободой, что рванула в Вегас — отпраздновать это дело.
— Все меняется, — сказал он. Потом проворчал: — Ты всегда находишь, чем осложнить мне жизнь.
— А что может быть лучшей основой для дружбы?
25
Мы пошли взглянуть на Мелиссу. Она лежала на боку, лицом к спинке дивана; одеяло было плотно подоткнуто со всех сторон наподобие тугого кокона.
Мадлен сидела у нее в ногах на самом краешке дивана и вязала крючком что-то розовое и бесформенное, сосредоточив все внимание на руках. Когда мы вошли, она подняла глаза от вязанья.
— Она хоть раз просыпалась? — спросил я.
— Non, месье.
— А мистер Рэмп уже вернулся? — поинтересовался Майло.
— Non, месье. — Ее пальцы замерли.
— Давайте уложим ее в постель, — предложил я.
— Qui, месье.
Я взял Мелиссу на руки и отнес наверх, в ее комнату. Мадлен и Майло вошли следом за мной. Мадлен включила свет, убавила яркость и отвернула одеяло на кровати. Она долго возилась, укрывая Мелиссу и подтыкая одеяло, потом придвинула к кровати стул и уселась. Полезла в карман халата, достала свое вязанье и положила на колени. Она сидела неподвижно, стараясь не толкнуть кровать.
Мелисса пошевелилась под одеялом, потом перевернулась на спину. Рот у нее был приоткрыт, дышала она медленно и размеренно.
Майло с минуту понаблюдал за тем, как поднимается и опускается стеганое одеяло, потом сказал:
— Мне пора двигаться. А у тебя какие планы?
Вспомнив о ночных страхах маленькой девчушки, я ответил:
— Останусь пока здесь.
Майло кивнул.
— Я тоже останусь, — сказала Мадлен. Она зацепила нить, сделала петлю вокруг крючка и принялась за работу.
— Хорошо, — одобрил я ее решение. — Я буду внизу. Позовите меня, если она проснется.
— Qui, месье.
* * *
Я сидел в одном из мягких кресел и думал о вещах, которые гнали от меня сон. Когда я последний раз смотрел на часы, было несколько минут второго ночи. Я заснул сидя и проснулся одеревеневший, с совершенно пересохшим ртом и покалыванием в затекших руках.
Ничего не соображая, я резко выпрямился. Покалывания переместились, словно в калейдоскопе.
Перед глазами световые пятна — синие, красные, изумрудно-зеленые, янтарно-желтые.
Солнечный свет, просеивающийся сквозь кружевные шторы и цветные стекла витражей.
Воскресенье.
Я почувствовал себя осквернителем святыни. Словно задремал в церкви во время богослужения.
Двадцать минут восьмого.
Абсолютная тишина в доме.
За ночь здесь установился какой-то затхлый запах. Или, может быть, он присутствовал все время.
Я протер глаза и попытался навести ясность в мыслях. Встал, превозмогая боль в затекших мышцах, разгладил одежду, провел рукой по щетине на лице и потянулся. Боль дала мне понять, что не собирается так легко со мной расстаться.
В гостевой ванной комнате, находившейся рядом с холлом, я плеснул водой в лицо, помассировал голову и отправился наверх.
Мелисса все еще спала; ее волосы разметались по подушке, но лежали так красиво, что вряд ли это получилось случайно.
Картина напоминала мне фотографию похорон викторианской эпохи. Похожие на ангелочков дети в украшенных кружевами гробиках.
Я отогнал эти мысли и улыбнулся Мадлен.
Розовая вещица была по-прежнему бесформенна, но удлинилась на полметра. Интересно, спала ли она вообще. Она сидела босиком, ее ступни были больше моих. Пара вельветовых шлепанцев аккуратно стояла на полу у кресла-качалки. Рядом со шлепанцами стоял телефон, перенесенный сюда с тумбочки.
Я сказал:
— Bonjour.
Она взглянула на меня совершенно ясными, серьезными глазами, и крючок у нее в руках задвигался еще быстрее.
— Месье. — Она нагнулась и поставила телефон на место.
— Мистер Рэмп вернулся?
Она бросила быстрый взгляд на Мелиссу. Покачала головой. От этого движения кресло заскрипело.
Мелисса открыла глаза.
Мадлен укоризненно посмотрела на меня.
Я подошел к кровати.
Мадлен начала раскачиваться. Скрип стал громче.
Мелисса посмотрела на меня снизу вверх.
Я улыбнулся ей, надеясь, что это выглядит не слишком жутко.
Ее глаза округлились. Она пошевелила губами, силясь что-то сказать.
— Привет, — произнес я.
— Я… что… — Ее глаза заметались, не в состоянии ни на чем остановиться. На лице промелькнуло выражение панического страха. Она с усилием приподняла голову, но снова бессильно уронила ее. Закрыла и снова открыла глаза.
Я сел и взял ее за руку. Она была мягкой и горячей. Я пощупал ей лоб. Теплый, но жара нет.
Мадлен начала раскачиваться быстрее.
Я почувствовал, что Мелисса сжимает мои пальцы.
— Я…Что… Мама.
— Ее продолжают искать, Мелисса.
— Мама. — Ее глаза наполнились слезами. Она закрыла их.
Мадлен моментально оказалась рядом с бумажной салфеткой для нее и укоризненным выражением на лице для меня.
В следующую секунду Мелисса уже опять спала.
* * *
Я подождал, пока ее сон не стал более глубоким, добился от Мадлен того, что было нужно, и спустился вниз. Лупе и Ребекка там пылесосили и мыли. Когда я проходил мимо, они отвели глаза.
Я вышел из дома в неясный свет, от которого лес вокруг дома казался серым. Когда я открывал дверцу «севиля», по подъездной дорожке с ревом подкатил белый «сааб-турбо». Он резко остановился, рев мотора умолк, и из машины вышли оба Гэбни, Урсула — со стороны водителя.
На ней был облегающий костюм из плотной ткани и белая блузка, и накрашена она была гораздо скромнее, чем тогда в клинике. От этого она казалась усталой, но зато моложе. Каждый волосок по-прежнему был на своем месте, но прическе не хватало общего блеска.
Ее муж сменил ковбойский наряд на пиджак в мелкую коричнево-бежевую клетку, бежевые брюки, остроносые туфли из замши шоколадного цвета, белую рубашку и зеленый галстук.
Она подождала, чтобы он взял ее под руку. Разница в росте производила почти комическое впечатление, но выражение их лиц исключало всякую шутку. Они направились ко мне, шагая в ногу и наводя на мысль о похоронной процессии.
— Доктор Делавэр, — сказал Лео Гэбни. — Мы регулярно звонили в полицейское управление и только что получили это ужасное известие от начальника полиции Чикеринга. — Свободной рукой он тер свой высокий лоб. — Ужасно.
Его жена закусила губу. Он похлопал ее по руке.
— Как Мелисса? — очень тихо спросила она.
Удивленный этим вопросом, я ответил:
— Спит.
— О, вот как?
— Похоже, что сейчас это ее основная защитная реакция.
— Такое нередко встречается, — заметил Лео. — Защитный уход в себя. Надеюсь, вам известно, как важно непрерывно следить за этим состоянием, так как иногда оно является прелюдией к затяжной депрессии.
— Я буду наблюдать за ней.
— Ей что-нибудь дали, чтобы она уснула? — спросила Урсула.
— Насколько я знаю, нет.
— Это хорошо, — сказала она. — Лучше всего обойтись без транквилизаторов. Чтобы… — Она снова закусила губу. — Боже, мне так жаль. Я правда… это просто… — Она покачала головой, поджала губы так, что они совсем исчезли, и посмотрела наверх, на небо. — Что можно сказать в такую минуту?
— Ужасно, — повторил ее муж. — Можно сказать, что это чертовски ужасно, и чувствовать боль, смиряясь с неадекватностью языка.
Он еще раз похлопал ее по руке. Она смотрела мимо него, на персиковый фасад дома. Мне показалось, что это был взгляд в никуда.
— Ужасно, — сказал еще раз муж с видом преподавателя, пытающегося развязать дискуссию. — Кто может знать, как все сложится?
Когда ни жена, ни я ему не ответили, он продолжал:
— Чикеринг предположил самоубийство — выступил в качестве психолога-дилетанта. Чепуха чистой воды — я так ему и сказал. У нее никогда не наблюдалось ни на йоту депрессии, скрытой или явной. Напротив, ее можно назвать крепкой женщиной, если учитывать, через что ей пришлось пройти.
Он снова многозначительно замолчал. Где-то в гуще деревьев пересмешник передразнил сойку. Гэбни раздраженно глянул в том направлении и повернулся к жене. Она витала где-то в другом месте.
Я спросил:
— Во время лечебных сеансов она упоминала о чем-нибудь таком, что объясняло бы, зачем она приехала к водохранилищу?
— Нет, — ответил Лео. — Никогда ни о чем подобном от нее не слышал. Да и вообще, что она решилась ехать одна, является полнейшей импровизацией. В том-то и дело, черт побери! Если бы она придерживалась лечебного плана, ничего подобного просто не могло бы случиться. Никакой самодеятельности раньше за ней не водилось.
Урсула по-прежнему не говорила ни слова. Я не заметил, когда она высвободила руку.
— Может быть, она подверглась какому-то необычному стрессу — я имею в виду, не считая ее агорафобии? — спросил я.
— Нет, абсолютно ничего похожего, — ответил Гэбни. — Ее стрессовый уровень был ниже, чем когда-либо, а состояние улучшалось с поразительной быстротой.
Я повернулся к Урсуле. Она продолжала смотреть на дом, но все же покачала головой.
— Нет, — сказала она, — ничего такого не было.
— Чем объясняется направление ваших вопросов, доктор Делавэр? — поинтересовался Гэбни. — Надеюсь, уж вы-то не думаете, что имело место самоубийство? — Он приблизил свое лицо к моему. Один глаз у него был более светлого голубого оттенка, чем другой. Взгляд обоих был ясен и тверд. Там было больше любопытства, чем агрессивности.
— Просто пытаюсь найти во всем этом хоть какой-нибудь смысл.
Он положил руку мне на плечо.
— Понимаю. Это только естественно. Но боюсь, что грустный смысл всего этого сводится к тому, что она переоценила свой прогресс и отступила от лечебного плана. Смысл здесь заключается в том, что мы никогда не сможем докопаться до смысла.
Он вздохнул, снова отер лоб, хотя тот был абсолютно сух.
— Кто лучше нас, лечебников, знает, что человеческим существам свойственно упорствовать в своей достойной сожаления привычке быть непредсказуемыми? Тем из нас, кто не находит в себе сил иметь с этим дело, следует, наверное, заняться физикой.
Голова его жены резко повернулась на четверть оборота.
— Нет, я далек от того, чтобы осуждать ее, — продолжал Гэбни. — Это была приятная, добрейшая женщина. И страданий на ее долю выпало сверх всякой меры. Произошел просто один из этих неприятных несчастных случаев. — Он пожал плечами. — После стольких лет практической лечебной работы приобретаешь способность мириться с трагическим. Определенно приобретаешь эту способность.
Он потянулся к руке Урсулы. Она позволила ему прикоснуться к себе на секунду, потом отстранилась и стала быстро подниматься по белым ступеням. Ее высокие каблуки громко стучали, а длинные ноги казались слишком элегантными для такой высокой скорости. Она выглядела и сексуальной и неуклюжей одновременно. Достигнув входной двери, она прижала ладони к чосеровской резьбе, словно дерево, из которого была сделана дверь, обладало целительной силой.
— Она так чувствительна, — очень тихо сказал Гэбни. — Слишком близко все принимает к сердцу.
— Я не знал, что это недостаток.
— Ну, подождите еще несколько лет, — улыбнулся он. — Так значит, это вы отвечаете за эмоциональное благополучие семьи?
— Нет, одной только Мелиссы.
Он кивнул.
— Она, несомненно, ранима. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за консультацией в случае необходимости.
— Нельзя ли взглянуть на историю болезни миссис Рэмп?
— На ее историю? Наверно, можно, но зачем?
— Ответ, пожалуй, будет тот же, что и прежде. Хотелось бы найти в этом какой-то смысл.
Он одарил меня профессорской улыбкой.
— Ее история для этой цели вам не подойдет. В ней нет ничего… сенсационного. То есть мы избегаем всех этих обычных, анекдотичных ляпов типа навязчиво-подробных описаний каждого чоха и вздоха пациента, этих прелестных воспоминаний в духе Эдипова комплекса и многосерийных снов, столь обожаемых киносценаристами. Мои исследования показали, что все это мало влияет на результат лечения. Чаще всего врач строчит в истории болезни лишь для того, чтобы ощутить собственную полезность; он почти никогда не дает себе труда вернуться к записям и перечитать их, а если и делает это, то ничего полезного не находит. Поэтому мы разработали свой метод ведения записей, обеспечивающий большую степень объективности. Поведенческая симптомология. Объективно определяемые цели.
— А записи о групповых занятиях?
— Мы их не ведем. Потому что не концептуализируем группы как способ лечения. Сами по себе бесструктурные занятия в группах не имеют большой чисто лечебной ценности. Два пациента с идентичными симптомами могли прийти к своему патологическому состоянию совершенно различными путями. Каждый из них выработал свою уникальную модель искаженного восприятия. Как только пациент меняется, ему может быть полезно поговорить с другими пациентами, испытавшими улучшение. Такое общение ценно хотя бы просто в качестве социальной подпорки.
— Общение как награда за улучшение состояния пациента.
— Именно так. Но мы удерживаем беседу в позитивном русле. Стремимся к непринужденности. Ничего не записываем и не делаем вообще ничего такого, что могло бы показаться чересчур специальным.
Вспомнив, что говорила Урсула о намерении Джины поговорить в группе о Мелиссе, я спросил:
— Вы не поощряете разговоров между ними об их проблемах?
— Я бы предпочел рассматривать групповые обсуждения как средство укрепить позитивность вообще.
— Видимо, сейчас перед вами встанет сложная проблема. Помочь остальным вашим пациентам пережить то, что случилось с Джиной.
Продолжая смотреть на меня, он полез в карман и достал пакетик жевательной резинки. Развернув две пластинки, он слепил их вместе и отправил в рот.
— Если вам нужна ее история болезни, буду рад сделать для вас копию.
— Был бы весьма признателен.
— Куда вам послать ее?
— У вашей жены есть мой адрес.
— Понятно. — Он снова взглянул на Урсулу. Она отошла от двери и медленно спускалась по ступеням.
— Итак, — сказал он, — дочь спит?
Я кивнул.
— А как себя чувствует муж?
— Он еще не возвращался домой. Нет ли у вас каких-либо психологических соображений на его счет?
Он склонил голову к одному плечу, переступил на освещенное солнцем место, и его седые волосы засияли, словно нимб.
— Он кажется довольно приятным человеком. Несколько пассивным. Они ведь недавно женаты, так что к возникновению и развитию ее патологии он не причастен.
— А к лечению?
— Он вполне справился с тем немногим, что от него ожидалось. Прошу меня извинить.
Повернувшись ко мне спиной, он быстрыми шагами направился к ступеням и помог жене спуститься. Попробовал обнять ее за плечи, но ему это не удалось из-за разницы в росте. Тогда он крепко обхватил ее за талию и подвел к «саабу». Открыв перед ней дверцу со стороны пассажира, помог ей сесть. Его очередь вести машину. Потом он подошел ко мне и протянул мягкую руку.
Я пожал ее.
— Мы приехали, чтобы помочь, — сказал он. — Но в данный момент, кажется, нам нечего здесь делать. Сообщите нам, пожалуйста, если ситуация изменится. А девочке я желаю удачи. Она ей определенно пригодится.
* * *
Мадлен дала мне четкие указания. «Кружку» я нашел без труда.
Юго-западный отрезок бульвара Кэткарта, сразу за городской чертой Сан-Лабрадора. Та же смесь дорогих магазинов и заведений обслуживания, много миссионерской архитектуры[15]. Фисташковые деревья кончились на границе с Пасаденой, уступив место джакарандам в полном цвету. На осевой ленте газона красиво смотрелись опавшие лиловые цветы.
Я припарковался, отмечая и другие не сан-лабрадорские особенности. Коктейльный бар в конце квартала. Два магазина спиртных напитков: владелец одного называл себя виноторговцем, а владелец другого был, как гласила вывеска, поставщиком высококачественных крепких напитков.
Ресторан «Кружка и клинок» оказался заведением скромного вида. Два этажа, может быть, сто квадратных метров, участок в четверть акра представлял собой в основном парковочную площадку. Шершавая белая штукатурка, коричневые балки, освинцованные окна и псевдотростниковая крыша Въезд на участок перекрывала цепь. «Мерседес» Рэмпа был по ту сторону цепи, припаркованный в глубине — в подтверждение моих способностей к дедукции. Немного дальше за ним стояла еще пара машин: двадцатилетнего возраста коричневый «шевроле — монте-карло» с шелушащимся на швах белым виниловым верхом и красная «тойота-селика».
Входная дверь была из пузырчатого цветного стекла, вделанного в дуб. На дверной ручке висела картонная табличка с надписью от руки печатными буквами: «ВОСКРЕСНЫЙ ЛЕНЧ ОТМЕНЯЕТСЯ. ПРОСИМ НАС ИЗВИНИТЬ».
Я постучал, но ответа не получил. Сделав вид, что имею право на вторжение, стал стучать, пока не заболели костяшки пальцев. Наконец дверь открылась, и на пороге показалась женщина с раздраженным лицом, держащая в руке связку ключей.
Возраст около сорока пяти, рост сто шестьдесят пять, вес пятьдесят. Фигура типа песочных часов, которую подчеркивало и то, во что она была одета: платье макси в стиле ампир, с корсажем, собранными в буфы длинными рукавами и квадратным вырезом, который открывал участок веснушчатой поверхности шириной с ладонь, имевший вид двух холмиков с ложбинкой между ними. Верхняя часть платья была из белой хлопчатобумажной ткани, а юбка — с набивным рисунком в бордово-коричневых тонах. Платиновые волосы были гладко зачесаны назад и перевязаны бордовой ленточкой. Еще одна ленточка — черная бархотка с имитацией камеи из коралла — была повязана у нее на шее.
Чья-то идея относительно того, как выглядели в старину служанки в деревенских тавернах.
Черты ее лица были хороши: широкие скулы, твердый подбородок, полные, ярко накрашенные губы, небольшой вздернутый нос, широко расставленные карие глаза в обрамлении слишком темных, слишком густых и слишком длинных ресниц. В ушах болтались серьги в виде обручей размером с подставку для стакана.
В баре, при вечернем освещении и для затуманенного алкоголем сознания, она была бы неотразима. Утренний же свет атаковал ее красоту, набрасываясь на небрежно припудренную кожу, морщины усталости, признаки дряблости по линии подбородка и горькие складки у губ, придававшие ее рту выражение недовольства.
Она смотрела на меня так, словно я был налоговым инспектором.
— Я хотел бы видеть мистера Рэмпа.
Она постучала алыми ногтями по табличке с надписью.
— Вы что, читать не умеете? — спросила она и поморщилась, словно желая показать, что это причиняет ей боль.
— Я доктор Делавэр, врач Мелиссы.
— О… — Морщины стали еще заметнее. — Подождите минутку, я сейчас.
Она закрыла дверь и заперла ее. Через несколько минут вернулась и снова ее открыла.
— Извините, я просто не… Вы должны были бы… Я — Бетель. — Она быстро протянула мне руку. Прежде чем я успел протянуть ей свою, она добавила: — Мама Ноэля.
— Рад познакомиться, миссис Друкер.
Выражение ее лица показало, что обращение «миссис» ей непривычно. Она отпустила мою руку, посмотрела в обе стороны бульвара.
— Входите.
Она закрыла за мной дверь и заперла ее резким поворотом ключа.
Освещение в ресторане было выключено. Матовые стекла освинцованных окон пропускали внутрь слабый грязноватый свет. Мои глаза силились приспособиться к полумраку. Когда они перестали болеть, я увидел один длинный зал, вдоль которого располагались обитые красной кожей кабинки, и где пол был застлан ковровым покрытием цвета темного меда с псевдорельефным рисунком. Столы были накрыты белыми скатертями с расставленными на них оловянными блюдцами, массивными бокалами из зеленого стекла и простыми столовыми приборами. Стены были из вертикальных сосновых досок цвета ростбифа. На подвешенных у самого потолка полках располагалась коллекция разнообразных кружек — там их вполне могла быть целая сотня, и на многих были изображены румяные англосаксонские физиономии с мертвыми фарфоровыми глазами. Рыцарские доспехи, похожие на студийную бутафорию, стояли тут и там — очевидно, в стратегически важных местах ресторана. Стены были увешаны булавами и палашами вперемежку с натюрмортами, изображавшими в основном мертвых птиц и кроликов.
Через открытую дверь в глубине можно было видеть кухню с оборудованием из нержавеющей стали. Слева от нее был расположен бар в виде подковы, с кожаным верхом, позади которого находилось зеркало. Сервировочная тележка из нержавеющей стали стояла в центре ковра, имитирующего дерево. На ней ничего не было, кроме вертела и прибора для нарезки мяса, достаточно солидного, чтобы справиться с целым бизоном.
Рэмп сидел у стойки бара, лицом к зеркалу; одной рукой он подпирал голову, другая просто висела вдоль тела. Возле его локтя стояли стакан и бутылка виски.
На кухне загремела какая-то посуда, потом все стихло.
Тишина казалась неестественной. Как и большинство мест, предназначенных для человеческого общения ресторан без него производил мертвое впечатление.
Я подошел к бару. Бетель Друкер держалась рядом со мной. Когда мы оказались там, она спросила:
— Вам что-нибудь принести, сэр?
Словно завтрак опять восстановлен.
— Нет, спасибо.
Она подошла к Рэмпу с правой стороны, наклонилась к нему, стараясь привлечь его внимание. Он не шелохнулся. У него в стакане лед плавал в остатках виски. Покрытие стойки пахло мылом и выпивкой.
— Хотите еще воды? — спросила Бетель.
— Можно, — ответил он.
Она взяла стакан, зашла за стойку, наполнила его из пластиковой бутылки с водой «Эвиан» и поставила перед ним.
— Спасибо, — сказал он, но к воде не притронулся.
Она с минуту смотрела на него, потом ушла на кухню.
Когда мы остались одни, он пробормотал:
— Найти меня не проблема, а? — Он говорил так тихо, что мне пришлось придвинуться ближе. Я сел на соседнюю табуретку. Он не пошевелился.
— Когда вы не вернулись домой, я стал думать, где вы можете быть. Это была догадка, основанная на фактах.
— У меня нет больше дома. Теперь уже нет.
Я промолчал. Нарисованная на зеркале девушка радостно улыбалась во весь рот.
— Я теперь лишь гость, — сказал он. — Нежеланный гость. Коврик для расшаркиваний протерся к черту до дыр… Как там Мелисса?
— Спит.
— Да, она часто так делает. Когда расстроена. Каждый раз, когда я пробовал поговорить с ней, она начинала дремать. — В его голосе не было обиды. Просто покорность судьбе. — Уж ей-то есть от чего расстраиваться. Я бы и за двадцать миллиардов не поменялся с ней местами. Ей выпали паршивые карты… Если бы она позволила мне…
Он остановился, тронул свой стакан с водой, но не сделал попытки взять его.
— Ну, теперь у нее одной причиной для расстройства меньше, — сказал он.
— И что это за причина?
— Ваш покорный слуга. Больше не будет этого злого отчима. Однажды она взяла в видеомагазине напрокат такой фильм — «Отчим». Без конца его смотрела. Внизу, в игровой комнате, в «логове». Ничего другого она там, внизу никогда и не смотрела — ведь ей даже и не нравится кино. Я тоже сел посмотреть вместе с ней. Хотел установить контакт. Пожарил две порции воздушной кукурузы. Так она заснула.
Он приподнял плечи.
— Я ушел, отправился месить дорожную пыль.
— Из Сан-Лабрадора или только из дому?
Он пожал плечами.
— Когда вы решили уйти? — спросил я.
— Минут десять назад. А может, и с самого начала, не знаю. Какая к черту разница?
Какое-то время мы оба молчали. Из зеркала на нас смотрели наши отражения, размытые грязноватым светом. Наши лица были едва различимы, искажались дефектами посеребренного стекла с нарисованным на нем лицом улыбающейся фрейлейн. Я мог разглядеть достаточно, чтобы понять, что он выглядит ужасно. Сам я смотрелся не намного лучше.
Рэмп сказал:
— Просто не могу понять, за каким дьяволом она это сделала.
— Сделала что?
— Поехала туда — не явилась в назначенное время в клинику. Она никогда не нарушала правил.
— Никогда?
Он повернулся ко мне лицом. Небритый, под глазами набрякли мешки. Передо мной вдруг оказался старик; зеркало было просто милосердным к нему.
— Однажды она рассказывала мне, что когда училась в школе, то получала обычно только отличные отметки. И не потому, что ей так уж нравилось учиться, а потому, что боялась неудовольствия учителей. Боялась не быть хорошей ученицей. Она была исключительно строгих правил. Даже в студийные времена, когда нравы уже порядком подраспустились, она всегда оставалась на уровне.
Интересно, как бы реагировал такой тип нравственности, столкнувшись с Тоддом Никвистом.
— Чикеринг толкает версию о самоубийстве, — заметил я.
— Чикеринг — просто осел. Единственное, в чем он большой мастак, — это не поднимать шума. За что ему и платят.
— Не поднимать шума о чем?
Он закрыл глаза, покачал головой и снова отвернулся к зеркалу.
— А как вы думаете? Люди иногда ведут себя по-идиотски. Приезжают сюда, напиваются в стельку, потом желают отбыть домой и начинают скандалить, когда я приказываю Ноэлю не отдавать им ключи от машины. Тогда я звоню Чикерингу. И, хотя это уже Пасадена, он сразу же приезжает и препровождает их домой — сам или кто-то из его подчиненных, — причем в этом случае они используют свои личные машины, так что никто и не заметит ничего необычного. Никаких протоколов не составляется, ничего не регистрируется, а машину очередного идиота подгоняют потом прямо на его подъездную дорожку. Если это кто-то местный. То же самое и с пожилыми дамами, ворующими в магазинах, и с детишками, которые курят травку.
— А как поступают с чужаками?
— Тех сажают в тюрьму. — Рэмп мрачно усмехнулся. — Тут у нас отличная криминальная статистика. — Он провел пальцами по губам. — Вот почему у нас не издается местная газета — и слава Богу. Раньше это меня чертовски раздражало — негде, например, поместить рекламное объявление, — но теперь я благодарю Бога за это.
Он закрыл лицо обеими руками.
Из кухни в зал вышла Бетель, держа в руках тарелку со стейком и яичницей. Поставила тарелку перед Рэмпом и тут же вернулась обратно на кухню.
Прошло много времени, прежде чем он поднял голову.
— Ну и как вам понравилось на пляже?
Когда я не ответил, он сказал:
— Я же говорил вам, что там ее не будет. За каким чертом вы туда потащились?
— Детектив Стерджис просил меня съездить и посмотреть.
— Миляга детектив Стерджис. Мы просто зря отняли друг у друга время, верно? Ведь вы обычно делаете то, что он просит?
— Обычно он не просит.
— Хотя это вроде и не назовешь грязной работой, а? Поезжай на пляж, позагорай на солнышке, проверь клиента.
— Отличное местечко, — заметил я. — Часто туда ездите?
У него на щеке шевельнулись желваки. Он потрогал свой стакан с виски. Потом сказал:
— Раньше ездил часто. Несколько раз в месяц. Ни разу не смог уговорить Джину поехать со мной. — Он повернулся и опять посмотрел на меня. Очень внимательно.
Я выдержал его взгляд.
— Ничто не может сравниться с солнцем на пляже. А мне надо сохранять загар во что бы то ни стало. Безупречный хозяин дома и все такое — приходится поддерживать какой-то определенный, черт побери, уровень, верно?
Он поднял стакан и отпил несколько глотков.
— Последняя пара дней была для вас далеко не отдыхом на взморье, — сказал я.
— Да уж. — Он безрадостно засмеялся. — Сначала я думал, что ничего особенного не случилось — Джина просто заблудилась и вот-вот объявится. Но когда она не вернулась к вечеру четверга, я начал думать, что, может, она действительно решила прокатиться, почувствовать себя свободной, как сказал Стерджис. Взяв однажды в голову такую мысль, я уже не мог от нее отделаться. Начал копаться: может, это я что-то не так сказал или сделал — чуть не спятил от этих копаний в себе. И что же оказывается? Какой-то идиотский несчастный случай… Я должен был знать, что дело не в нас. Мы прекрасно ладили, даже если… это было так… так…
Он мучительно застонал, схватил свой стакан и запустил им в зеркало. Лицо фрейлейн треснуло; похожие на лезвия куски стекла вывалились и разлетелись вдребезги, ударившись о кран над мойкой, а на их месте возник кусок белой штукатурки, напоминавший по форме трапецию. Остальная часть зеркала продолжала висеть на стене, удерживаемая болтами.
Из кухни никто не вышел.
Он сказал:
— Салют. Будьте, черт побери, здоровы. Пьем до дна. — Повернулся ко мне. — Вы зачем вообще сюда приехали? Посмотреть, как выглядит тайный гомик?
— Доискиваюсь до основы. Пытаюсь для себя найти какой-нибудь смысл в том, что произошло. Чтобы потом помочь Мелиссе.
— Ну, и нашли уже? Смысл-то?
— Пока нет.
— Вы тоже из этих?
— Из каких?
— Гомиков. Геев — или как там это теперь называется. Как он. Стерджис. И как я, и…
— Нет.
— Браво, молодец… Славный дружище… Мелисса. Какая она была в детстве?
Я рассказал ему, подчеркивая все положительное, избегая всего, что считал нарушением конфиденциальности.
— Да, — сказал он. — Я так и думал. Мне бы хотелось… А, к черту все это.
Он удивительно быстро соскочил с табуретки и, подойдя к двери на кухню, крикнул:
— Ноэль!
Юноша вышел к нему в своей красной куртке помощника официанта и в джинсах, с посудным полотенцем в руках.
— Ты можешь идти прямо сейчас. Доктор говорит, что она спит. Если захочешь дождаться, когда она проснется, можешь там остаться. Здесь для тебя нет никакой работы. Только сначала вот что сделай: упакуй мне чемодан — одежду, вещи просто побросай туда, и все. Возьми большой синий чемодан у меня в шкафу. И потом привези сюда — неважно, в какое время. Я буду здесь.
— Да, сэр, — ответил Ноэль с растерянным видом.
— Сэр, — повторил Рэмп, оборачиваясь ко мне. — Слышали? Вежливый юноша. Этот мальчик далеко пойдет. Берегись, Гарвард.
Ноэль вздрогнул.
Рэмп продолжал:
— Скажи матери, пускай спокойно выходит. Я не буду ничего этого есть. Пойду и сам немного посплю.
Юноша вернулся на кухню.
Рэмп смотрел ему вслед.
— Все скоро изменится, — сказал он. — Все.
26
Как раз когда я трогался с места, из ресторана вышел Ноэль. Он заметил меня и подбежал к машине. На нем уже не было красной курточки, а за спиной поверх тенниски висел небольшой рюкзак. На тенниске было написано: «ГРИНПИС». По его губам я прочитал: «Простите».
Я опустил стекло со стороны пассажирского сиденья.
— Простите, — повторил он и добавил: — Сэр.
— В чем дело, Ноэль?
— Я просто хотел узнать, как себя чувствует Мелисса.
— Похоже, что в основном она спит. Возможно, еще не ощутила полностью всей силы удара.
— Она очень… — Он нахмурился.
Я ждал, что он скажет.
— Это трудно выразить словами.
Я открыл ему дверцу.
— Садись.
Секунду поколебавшись, он снял рюкзак, поставил его на пол, скользнул на сиденье, поднял рюкзак и поставил себе на колени. Его лицо выражало тоску и боль.
— Хорошая машина, — сказал он. — Семьдесят восьмого?
— Девятого.
— Новые гораздо хуже. Слишком много пластмассы.
— Мне она нравится.
Он крутил в руках лямки от рюкзака.
— Ты что-то говорил о Мелиссе. Что-то такое, что трудно выразить словами.
Он нахмурился. Ногтем царапнул лямку.
— Я только хотел сказать, что она — очень необычный человек. Единственный в своем роде. Даже если просто смотреть на нее, то и тогда делается ясно, что ее внешний вид — сам по себе, а внутри она совсем другая — я хочу сказать, хотя это может показаться в моих устах странным, что большинство по-настоящему красивых девушек обычно интересуются пустяками. Во всяком случае, здесь именно так.
— Здесь — это в Сан-Лабрадоре?
Он кивнул.
— По крайней мере, насколько я мог это видеть. Не знаю, может быть, это относится к Калифорнии вообще. А может, и ко всему миру. Я ведь нигде больше не жил с тех пор, как себя помню, так что точно утверждать не могу. Вот почему я хотел выбраться отсюда — пожить в каком-то другом окружении. Подальше от всего этого вечного довольства.
— Гарвард.
Кивок.
— Я подал заявления во много мест, по правде говоря, даже не ожидал, что попаду в Гарвард. Когда же это произошло, я решил, что это как раз то, что мне нужно, если удалось бы уладить финансовую сторону.
— И удалось?
— В основном. Кое-что удалось скопить за год работы здесь, и еще есть возможность… Думаю, что смог бы потянуть.
— Смог бы?
— Не знаю. — Он поерзал на сиденье, теребя лямки рюкзака. — Я правда не знаю теперь, хорошо ли будет, если я уеду.
— Почему? — спросил я.
— Ну, потому, что как я могу уехать, когда здесь с ней такое происходит? Она… чувствует глубоко. И гораздо сильнее, чем другие. Она единственная девушка из всех, кого я встречал, которую на самом деле волнуют важные вещи. С первого момента, как мы только познакомились, мне было невероятно легко с ней разговаривать.
В его глазах появилась боль.
— Извините, — сказал он, берясь за ручку дверцы. — Извините за беспокойство. По правде говоря, с моей стороны как-то даже непорядочно с вами разговаривать.
— Это почему же?
Он потер затылок.
— Тот первый раз, когда Мелисса вам позвонила — хотела к вам приехать и поговорить, помните? Я был там. В комнате вместе с ней.
Я мысленно воспроизвел тот разговор. Мелисса отрывалась от него пару раз, просила извинить… Подождите минутку, пожалуйста… Трубка прикрыта рукой. Приглушенный шум.
— Ну и что же?
— Я был против. Чтобы она к вам обращалась. Сказал ей, что она не нуждается в… может сама во всем разобраться. Что мы можем вместе справиться с проблемами. Она мне на это ответила, чтобы я не лез не в свое дело, что вы — это класс. А теперь вот — сам к вам обратился за советом.
— Все это ерунда, Ноэль. Давай вернемся туда, где мы были, — к Мелиссе как уникальной личности. В этом я с тобой согласен. Ты, в общем, хочешь сказать, что между вами существует необыкновенное взаимопонимание. И тебя волнует мысль о том, что ты оставляешь ее в беде.
Он кивнул.
— Когда ты должен отправляться в Бостон?
— В начале августа. Занятия начинаются в сентябре. Но они приглашают приехать раньше — послушать установочный курс.
— Ты уже думал, в чем хочешь специализироваться?
— Может быть, в международных отношениях.
— Дипломатия?
— Пожалуй, нет. Думаю, что предпочел бы что-нибудь такое, что связано с реальным проведением политики. Место в административном штате госдепартамента или министерства обороны. Или помощником в конгрессе. Если присмотреться к тому, как работает правительство, то получается, что всю действительную работу делают люди за кулисами. Иногда что-то зависит и от профессиональных дипломатов, но часто они лишь номинально возглавляют что-то. — Он помолчал. — А потом я думаю, что у меня больше шансов добиться положения именно за кулисами.
— Почему ты так думаешь?
— Насколько мне известно из всего, что я читал о заграничной службе, твое происхождение — семья, окружение, связи — там важнее, чем реальные достоинства и успехи. А какая у меня семья? Только мама и я сам, больше никого.
Он сказал это нормальным тоном, без жалости к себе.
— Раньше это меня задевало — то, что люди здесь придают такое большое значение родословной. Другими словами, деньгам, возраст которых должен быть не меньше двух поколений. Но теперь я понимаю, что мне, в сущности, очень повезло. Мама здорово меня поддерживала, и благодаря ей у меня всегда было все необходимое. Если разобраться как следует, то человеку столько всего и не надо, верно? А потом, я ведь видел, что происходит со многими детьми из богатых семей — в какие неприятности они влипают по своей вине. Вот почему я очень уважаю Мелиссу. Она, наверное, одна из самых богатых девушек в Сан-Лабе, но ведет себя совсем иначе. Я познакомился с ней, когда она в компании других пришла в «Кружку» на обед, который устраивал Французский клуб, а я как раз помогал маме подавать. Все остальные вели себя так, словно я был невидимкой. А Мелисса не забывала говорить «пожалуйста» и «спасибо», и потом, когда другие пошли на автостоянку, она осталась и заговорила со мной, сказала, что видела меня на соревнованиях по легкой атлетике между Пасаденой и Сан-Лабрадором, — я занимался гимнастикой, пока это не стало отнимать слишком много времени от учебы. Причем она совершенно не флиртовала — флирт был не в ее духе. Мы начали разговаривать, и сразу, моментально возникло это… взаимопонимание. Как будто мы старые друзья… Она после часто заходила, и мы действительно подружились. Она во многом помогла мне Единственное, чего я хочу, это помочь сейчас ей. Уже точно известно, что ее мама…
— Нет, — сказал я, — не точно. Но выглядит все довольно плохо.
— Это просто… ужасно. — Он покачал головой. Поскреб свой рюкзак. — Господи, это ужасно. Ей будет так тяжело.
— Ты хорошо знал миссис Рэмп?
— Да нет, не особенно. Мыл ее машины примерно раз в две недели. Иногда она приходила к гаражу посмотреть. Но, по правде говоря, она была к ним равнодушна. Один раз я что-то сказал насчет того, какие они потрясающие. А она ответила, что, наверное, это так, но для нее они просто металл и резина. Но сразу же извинилась, сказала, что не хотела принизить мою работу. Я подумал, что это классно. Она вообще выглядела классно. Может, чуточку… отстраненно. Мне казалось, что ее образ жизни… Бывало, что мы с Мелиссой спорили… Наверно, мне нужно было испытывать побольше сочувствия. Если Мелисса это припомнит, то возненавидит меня.
— Мелисса будет помнить твою дружбу.
Несколько минут он молчал. Потом сказал:
— Честно говоря, между нами могло быть и нечто большее, чем просто дружба… по крайней мере, с моей стороны. С ее стороны — я не уверен.
Говоря это, он смотрел мне в лицо. Очень надеялся услышать что-то для себя утешительное.
Но самое большее, что я мог ему предложить, была улыбка.
Он поковырял заусенец на пальце. Откусил его.
— Здорово получается. Болтаю с вами о себе, когда должен думать о Мелиссе. Надо ехать туда. Упаковывать чемодан мистера Рэмпа. Вы думаете, он правда собирается уехать?
— По-моему, ты должен знать это лучше, чем я.
— Я абсолютно ничего не знаю, — быстро проговорил он.
— Он и Мелисса, похоже, вряд ли уживутся в одной семье.
Ноэль никак на это не отреагировал, поднял рюкзак и взялся за ручку дверцы.
— Ну, мне пора ехать.
— Подвезти? — спросил я.
— Нет, спасибо, у меня своя машина — вон та «тойота-селика» — Открыв дверцу, он поставил одну ногу на тротуар, потом остановился и опять повернулся ко мне.
— Вообще-то я хотел спросить у вас вот что: может, мне надо что-нибудь делать — чтобы помочь ей?
— Будь под рукой, когда ей потребуется общество, — сказал я. — Слушай, когда она будет говорить, но не обижайся и не беспокойся, если ей не захочется разговаривать. Будь терпелив, когда она будет горевать, не пытайся оборвать ее резкостью, но и не говори, что все будет хорошо, — ведь это не так. Случилось что-то плохое, и изменить это ты не в силах.
Пока я говорил, он не сводил с меня глаз и кивал. Прекрасная способность к сосредоточению, почти сверхъестественная. Я почти ожидал, что он выхватит бумагу и карандаш и начнет записывать.
— И еще, — продолжал я, — тебе не стоит вносить никаких значительных изменений в собственные планы. Как только Мелисса справится с первоначальным шоком, ей придется взять себя в руки и жить дальше. Если ты ради нее откажешься от своей жизни, это может расстроить ее еще сильнее. Сам того не желая, ты делаешь ее обязанной тебе. Твоей должницей. А на этой стадии в жизни Мелиссы независимость, самостоятельность будут играть поистине важнейшую роль. Даже при том, что случилось. Ей не нужно еще одно бремя. Это может вызвать у нее неприязненное чувство.
— Но я же никогда… — Он то поднимал, то опускал рюкзак и смотрел только на него. Мешок был туго набит и ударялся о его колено с глухим звуком.
Я спросил:
— Книги?
— Учебники. Кое-что из материала, который я собирался изучать этой осенью. Хотел начать пораньше — на первом курсе конкуренция очень жесткая. Таскаю их за собой, но еще ни строчки не прочитал. — Он смущенно улыбнулся. — Глупо, правда?
— А по-моему, это стоящий план.
— Может, и так. Как бы там ни было, я чувствую себя обязанным отлично учиться — если поеду.
— Обязанным перед кем?
— Перед мамой. Перед Доном — мистером Рэмпом. Он собирается помочь с платой за обучение на первых двух курсах — я это имел в виду в тот раз. Если я отлично закончу первый и второй курс, то мне могут дать какую-нибудь стипендию.
— Похоже, он очень хорошо к тебе относится.
— Ну, наверное, ему приятно, что у нас с мамой неплохо идут дела. Он дал ей работу, когда она… когда ей было трудно. — Выражение боли снова мелькнуло и исчезло у него в глазах. Он попытался сгладить впечатление слабой улыбкой. — Дал нам жилье — мы живем на втором этаже «Кружки». И это не из милости, мама заработала — она лучшая официантка, какую кто-либо может пожелать. Когда его нет на месте, она практически управляет рестораном, даже может заменить шеф-повара. Но и он такой хозяин, что лучше не бывает — купил мне «селику» в дополнение к премии. Благодаря ему я получил эту работу в доме Мелиссы.
— Мелисса вроде бы не разделяет твоего отношения к нему.
Он уже протягивал руку, чтобы открыть дверцу, но, как бы покорившись судьбе, снова уронил ее на колено.
— Раньше она к нему хорошо относилась. Когда она была просто посетительницей, они довольно непринужденно общались. Это она все и устроила между ним и своей мамой. Неприятности начались, когда дошло до серьезного. Я все время хотел ей сказать, что он не изменился, что это все тот же человек, просто она смотрит на него по-другому, но…
Он слабо улыбнулся.
— Но что?
— Просто Мелиссе такого не скажешь. Если уж она что-то заберет себе в голову, то ее не сдвинешь. Я не считаю, что это ужасный недостаток. Очень многие вообще живут бездумно, не заботясь ни о каких идеалах. Она же не отступает от своих принципов, не стремится что-то делать или чего-то не делать просто потому, что так поступают все. Как, например, с наркотиками — я всегда знал, какая это пакость, потому что я… много читал об этом. А такая девушка, как Мелисса… легко было бы подумать, что она может быть… восприимчивой. Она всем нравится, красива и очень богата. Но с ней такого не произошло. Она не поддалась.
— Всем нравится, говоришь? Но она ни разу не упоминала никаких друзей, кроме тебя. Да я и не видел, чтобы к ней кто-то приходил.
— Она очень разборчивая. Но ее все любили. Она могла бы быть где угодно лидером, состоять в лучших клубах, если бы захотела, но ее интересовали совсем другие вещи.
— Например?
— В основном, учеба.
— А что еще?
Он замялся, потом сказал:
— Ее мама. Она вроде бы считала, что главное дело ее жизни — быть дочерью. Однажды она мне сказала, что у нее такое чувство, будто ей придется всегда заботиться о маме. Я пытался убедить ее, что это неправильно, но она распалилась не на шутку. Сказала, что мне не понять, каково это. Я не стал с ней спорить, потому что она бы только еще больше разозлилась, а я очень не люблю, когда она злится.
Он отошел прежде, чем я успел ему ответить. Я видел, как он снял цепь, преграждавшую въезд на парковочную площадку, сел в машину и уехал.
Обе его руки лежали на баранке.
Этот паренек далеко пойдет.
Вежливый, уважительный, трудолюбивый, почти болезненно серьезный.
В некотором смысле он был двойником Мелиссы в мужском варианте, ее духовным братом-близнецом. Отсюда и такое взаимопонимание между ними.
Не это ли помешало ей думать о нем так, как ему бы хотелось?
Хороший парнишка. Такой хороший, что даже не верится.
Разговор с ним зацепил мои чуткие усики психолога хотя я не мог бы точно сказать, чем именно.
А может, я просто напичкивал мозги предположениями, чтобы уйти от реальности. От той темы, которую мы едва затронули.
Синее небо, черная вода.
На воде колышется что-то белое…
Я завел мотор, тронулся с места и плавно пересек городскую черту Сан-Лабрадора.
* * *
Мелисса не спала, но и не разговаривала. Она лежала на спине, опираясь головой на три подушки, волосы были заплетены и уложены на темени, веки припухшие. Ноэль сидел возле кровати в кресле-качалке, которое час назад заполняла собой Мадлен. Он держал ее за руку и казался попеременно то довольным, то встревоженным.
Мадлен, снова уже в своем форменном платье, двигалась по комнате, словно портовая баржа, причаливая к предметам мебели, вытирая пыль, поправляя, выдвигая и задвигая ящики. На тумбочке стояла миска овсянки, загустевшей до состояния строительного раствора. Шторы были задернуты, ограждая комнату от резкости света в летний полдень.
Я наклонился над кроватью под пологом и поздоровался с Мелиссой. Она ответила мне слабой улыбкой. Я пожал не занятую Ноэлем руку и спросил, не могу ли я быть чем-нибудь полезен.
Она покачала головой. Мне показалось, что передо мной опять девятилетняя девчушка.
Я все-таки остался. Мадлен еще немного помахала своим кухонным полотенцем, потом сказала:
— Я иду вниз, mon petit choux[16]? Принесу что-нибудь поесть?
Мелисса покачала головой.
Мадлен взяла с тумбочки миску с овсянкой и, пройдя полдороги до двери, спросила:
— А вам приготовить что-нибудь, месье доктор?
И само предложение, и обращение «доктор» означали, что я в чем-то поступил правильно.
Я вдруг понял, что действительно голоден. Но даже если это было бы не так, я ни за что бы не отказался.
— Спасибо, — ответил я. — С удовольствием съем что-нибудь легкое.
— Хотите стейк? — спросила она. — Или отбивную из молодого барашка? Они очень хороши.
— Небольшая отбивная будет в самый раз.
Она кивнула, сунула тряпку в карман и вышла.
Оставшись с Ноэлем и Мелиссой, я почувствовал себя третьим лишним. Судя по их виду, им было очень уютно в обществе друг друга, и мое присутствие сюда явно не вписывалось.
Скоро глаза Мелиссы опять закрылись. Я вышел в коридор и медленно пошел по нему мимо закрытых дверей, направляясь к задней части дома, к винтовой лестнице, по которой в тот первый день спускалась Джина Рэмп в поисках Мелиссы. К лестнице, по которой можно было также подняться и которая вертикальным тоннелем пронизывала сумрак коридора.
Я начал восхождение. Наверху оказалось пустое пространство в десять квадратных метров, заканчивавшееся двухстворчатой дверью из кедровой древесины.
В замке торчал старомодный железный ключ. Я повернул его, оказался в полной темноте, нащупал выключатель и щелкнул им. Это было огромное, чердачного вида помещение. Более тридцати метров в длину и по крайней мере пятнадцать в ширину, пыльный пол из сосновых досок, стены из кедрового дерева, потолок из неотделанных балок, голые лампочки, подсоединенные к незащищенным электропроводам, проходящим вдоль балок. В обоих концах по слуховому окну, закрытому клеенкой.
Правая сторона помещения была заполнена: мебель, лампы, пароходные сундуки и кожаные чемоданы, наводившие на мысль об эпохе путешествий по железной дороге. Группы предметов, расположенные в нестрогом, но заметном порядке: тут — коллекция статуэток, там — целый литейный двор бронзовых скульптур. Чернильницы, часы чучела птиц, фигурки из слоновой кости, инкрустированные шкатулки. Куча оленьих рогов, часть на подставках, остальные связаны вместе сыромятными ремнями. Скатанные ковры, шкуры животных, пепельницы из слоновых ступней, стеклянные абажуры, которые могли быть от Тиффани. Стоящий на задних лапах белый медведь со стеклянными глазами, пожелтевшим мехом и оскаленными зубами; одна передняя лапа поднята, в другой — чучело лосося.
Левая сторона была почти пуста. Вдоль стены тянулись два яруса разделенных на вертикальные гнезда полок запасника. В центре стоял мольберт и рядом лежал этюдник. Картины в рамах и без рам заполняли вертикальные гнезда. На мольберте был зажимами укреплен чистый холст — нет, не совсем чистый, я различил на нем слабые карандашные линии. Деревянный подрамник покорежился; холст местами вздулся пузырями или сморщился.
На этюднике стоял сосновый ящик для красок. Его защелка заржавела, но с помощью ногтей мне удалось открыть ее. Внутри было около дюжины засохших до бесполезности колонковых кистей с запачканными краской ручками, ржавый мастихин и затвердевшие тюбики красок. Дно этюдника выстилали какие-то листы бумаги. Я вынул их. Оказалось, это были страницы, вырезанные из журналов «Лайф», «Нэшнл джиографик», «Америкэн херитидж» пятидесятых и шестидесятых годов. Главным образом ландшафты и морские виды. По всей вероятности, образы, служившие источником вдохновения. Между двумя из них лежала фотография с надписью на оборотной стороне. Надпись сделана черными чернилами, красивым, плавным почерком:
5 марта 1971 года.
Исцеление?
Фотография была цветная — глянцевая, прекрасного качества.
Двое — мужчина и женщина — стоят перед дверью с резными панелями. Перед чосеровской дверью. Вокруг дерева видна персиковая штукатурка.
У женщины были рост и фигура Джины Дикинсон. Стройное тело манекенщицы, если не считать резкой выпуклости живота. Она была в белом шелковом платье и белых туфлях, которые очень красиво смотрелись на фоне темного дерева. На голове у нее была широкополая белая соломенная шляпа от солнца. Легкие прядки светлых волос обрамляли ее изящную шею. Лицо под полями шляпы было забинтовано как у мумии, а плоские черные глазницы напоминали изюмины, вставленные вместо глаз снеговику.
В одной руке она держала букет белых роз. Другая лежала на плече мужчины.
Очень маленького мужчины. Он едва доставал Джине до подмышки — значит, его рост был не более ста сорока пяти. Возраст около шестидесяти. Слабого телосложения. Его голова казалась слишком большой для тела, а руки — непропорционально длинными. Ноги короткие и толстые. Курчавые седые волосы и что-то козлиное в чертах лица.
Человек, безобразие которого было настолько непоправимо, что создавало впечатление почти благородства.
Он был одет в темную тройку, видимо, прекрасно сшитую, но в данном случае портновское искусство было бессильно перед ошибочной выкройкой природы.
Я вспомнил, что сказал Энгер, банкир:
«Коллекционирование произведений искусства было единственной его расточительной причудой. Если бы он мог, то и одежду покупал бы в магазине готового платья».
Ни одного портрета хозяина в доме.
Он был настоящий эстет…
На снимке он стоял в официальной позе — одна рука засунута за борт жилета, другая обнимает молодую жену. Но глаза он отвел в сторону. Ему было не по себе. Он понимал, что объектив бывает жестоким даже в особые дни, которые тем не менее полагалось обязательно запечатлеть.
Он хранил фотографию на дне этюдника.
Как и журнальные иллюстрации, для вдохновения?
Я посмотрел внимательно на холст, стоявший на мольберте Карандашные штрихи образовали различимый рисунок: два овала. Лица. Лица, расположенные на одном уровне Щека к щеке. Ниже, по-видимому, начальные наброски торсов. В нормальных пропорциях. Правый с плоским животом.
Искусство как способ исправления ошибок. Попытка Артура Дикинсона на пути постижения мастерства.
5 марта 1971 года.
Мелисса родилась в июне этого года. Артур Дикинсон не дожил нескольких недель до презентации самого своего ценного творения.
В этом снимке было и еще нечто такое, что поразило меня, пожилой, невысокий, невзрачный мужчина рядом с молодой, высокой и красивой женщиной.
Супруги Гэбни Безуспешная попытка Лео обнять жену за плечи.
Он был нормального роста, несоответствие было менее драматичным, но схожесть впечатления оставалась поразительной.
Возможно, по той причине, что муж и жена Гэбни стояли утром точно на этом же месте.
Возможно, я был не единственным, кому это бросилось в глаза.
Отождествление врача с пациентом.
Схожесть вкуса в отношении мужчин.
Схожесть вкусов в отношении интерьеров.
Кто на кого повлиял?
Загадка курицы и яйца, посетившая меня, когда я сидел в кабинете Урсулы, сейчас вернулась и принялась мстительно долбить мозг.
Я подошел к полке с вертикальными гнездами. На ярлычках под каждым гнездом были от руки написаны фамилия художника, название картины, ее описательные данные, даты создания и покупки.
Сотни гнезд, но Артур Дикинсон был человеком организованным, коллекция располагалась в алфавитном порядке.
Кассатт, между Казалем и Коро.
Восемь гнезд.
Два из них были пусты.
Я прочитал этикетки.
Кассатт, М. Поцелуй матери. 1891. Акватинта, сухая игла и мягкий грунт. Катал.: Брискин 149. 13 5/8 х 8 15/16 дюйма.
Кассатт, М. Материнская ласка. 1891. Акватинта, сухая игла и мягкий грунт. Катал.: Брискин 150. 14 1/2 х 10 9/16 дюйма.
Остальные шесть на месте, в рамках и под стеклом. Я осторожно вытянул их посмотреть. Все черно-белые, ни одной на тему матери и ребенка.
Не хватало двух лучших эстампов.
Один украшает серую комнату пациентки, другой — кабинет врача.
Я стал вспоминать, как вели себя супруги Гэбни сегодня утром.
Лео пытался передать сочувствие. Но не преминул сказать мне, что считает версию Чикеринга о самоубийстве чепухой.
Потому что она подрывает его репутацию.
Урсула функционирует на совершенно ином уровне.
Прикоснулась к чосеровской двери так, словно та вела в храм.
Или в сокровищницу.
Я подумал о нигде не фигурирующих Джининых деньгах «на мелкие расходы». О двух миллионах…
Вдруг да подарки не ограничивались областью искусства?
«Лечебные» переводы как путь к обогащению? Зависимость и страх могут вызвать у человека что-то вроде рака души. Тот, кто предлагает исцеление, может называть любую цену.
Я стал думать о тех подарках, которые преподносились мне. В основном это были рукотворные изделия детей — кухонные прихватки, рамки из палочек от фруктового мороженого, рисунки, глиняные фигурки. Мой кабинет дома был завален ими.
Что касается подношений от взрослых, то я взял себе за правило принимать лишь подарки типа символических — цветы, конфеты. Корзиночку фруктов в желтой бумаге. Все имеющее более значительную или непреходящую ценность я отклонял. Сделать это так, чтобы не обидеть человека, порой стоило немалых ухищрений.
Никто никогда еще не совал мне в руки редкое произведение искусства. Но все равно мне нравилось думать, что я отказался бы его принять.
Не то чтобы принимать подарки было делом подсудным; с этической точки зрения это действие лежало где-то в туманной области между преступлением и просчетом. И я, конечно же, не был святым, невосприимчивым к искушению получить удовольствие.
Но я специально учился тому, как делать определенную работу, а большинство ответственных врачей сходились во мнении, что любой сколько-нибудь ценный подарок уменьшает шансы на то, что работа будет сделана правильно. Ибо нарушает лечебное равновесие, неизбежно меняя то отношение между врачом и пациентом, которое является оптимальным для лечения.
Похоже, супруги Гэбни были другого мнения.
Не исключено, что сам способ лечения, предусматривающий посещение пациента на дому и не ограниченные временем сеансы, допускает некоторое послабление правил, я думал о том, сколько времени я сам провел в этом доме.
Копаясь в вещах на чердаке.
Но мои намерения благородны.
В противоположность чьим?
Мелисса реагировала на тесные отношения между матерью и Урсулой со все возрастающим недоверием.
Холодная она какая-то. Я чувствую, что она хочет отделаться от меня.
Реакция, от которой отмахнулись все, в том числе и я, потому что Мелисса — легковозбудимая девочка, которой предстоит решить проблемы зависимости и разлуки и которая поэтому видит угрозу для себя в любом, кто сближается с ее матерью.
Маленькая девочка, поднимающая ложную тревогу?
Есть ли во всем этом какая-то связь с судьбой Джины?
Похоже, надо бы нанести еще один визит в клинику, хотя я пока не представлял, что скажу супругам Гэбни.
Заехать за историей болезни Джины, чтобы им не пришлось нести почтовые расходы?
Был по делам поблизости, решил заглянуть…
А что потом?
Одному Богу известно.
Сегодня воскресенье.
С визитом придется подождать.
А пока предстоит заняться отбивными из молодого барашка. Я готов был биться об заклад, что приготовлены они будут первоклассно. Жаль, что у меня испортился аппетит.
Я вернул тайнику Артура Дикинсона его первоначальный вид и спустился вниз.
27
Я поел в полном одиночестве в большой темной столовой, чувствуя себя скорее наемным работником, чем владельцем замка. Когда я уезжал без десяти два, Мелисса и Ноэль все еще были наверху в спальне и разговаривали тихими, серьезными голосами.
Я собирался ехать прямо домой, но увидел, что еду мимо клиники Гэбни. Перед зданием были припаркованы стального цвета «линкольн» и отделанный по бокам деревом «меркьюри-универсал». «Сааб» Урсулы стоял у въезда на дорожку.
Занятие группы, которую посещала Джина, перенесенные на день раньше? Внеочередной сеанс в связи с ее гибелью? Или еще одна группа, которую ведет увлеченный своим делом доктор?
Два часа. Если сеансы проводятся по расписанию, с часу до трех, то этот должен закончиться через час. Я решил понаблюдать за зданием и позвонить пока Майло.
Я огляделся в поисках телефона-автомата. Напротив через улицу стояли дома. Дальше к югу весь район целиком занимали частные владения. Но в квартале к северу располагался целый ряд магазинов и заведений: длинное здание довоенной постройки из золотистого кирпича с отделкой из известняка и куполообразными коричневыми навесами над каждой витриной. Я медленно ехал мимо. Первое заведение оказалось рестораном. Потом шли контора по торговле недвижимостью, кондитерский магазин и антикварная галерея, возле которой на тротуар были выставлены напольные вешалки и какие-то столики. За этим зданием была еще пара торговых кварталов, а дальше стояли многоквартирные дома.
Я решил попытать счастья в ресторане. Развернулся и остановился перед входом.
Очаровательное небольшое заведение типа бистро. Название «Ла Мистик» выведено матовыми буквами на окнах. Сами буквы в стиле модерн, окружены гирляндой. В длинном ящике под окном — мята и белые петунии. Табличка над цветами приглашала на ленч.
Внутри стояло восемь столиков под скатертями в белую и голубую клетку, на них в вазах из синего стекла — букетики маргариток и лаванды; белые стулья и стены, туристические афиши на европейские темы, открытая кухня за низкой плексигласовой перегородкой, где трудился латиноамериканец в поварском колпаке. Два столика были заняты, за обоими сидело по паре консервативно одетых пожилых женщин. То, что лежало у них на тарелках, больше всего походило на зеленые листья. Они взглянули на меня, когда я вошел, потом вернулись к ковырянию в своих тарелках.
Ко мне направилась светловолосая женщина лет тридцати с очень бросающимся в глаза бюстом; в руках она держала меню. У нее было полное, приятное лицо, которое несколько проигрывало от натужной улыбки. Ее волосы были собраны в узел и перевязаны черной лентой, на ней было черное вязаное платье до колен, которое подчеркивало ее грудь, но в остальном не очень ей шло. Пока она шла, я видел, как подспудное беспокойство деформировало ее улыбку.
Беспокойство новичка за только что начатое дело?
Беспокойство из-за того, что еще не выплачены долги?
Она сказала:
— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, где вам нравится.
Я огляделся и заметил, что два столика у окна позволяли держать клинику в поле зрения, хотя и на самом его краешке.
— Пожалуй, сяду вон там, — решил я. — Нет ли у вас таксофона, которым я мог бы воспользоваться?
— Пройдите сюда. — Она показала на дверь слева от кухни.
Телефон висел на стене между туалетами. После двух гудков включилась новая запись Майло на автоответчике. Я оставил ему свое сообщение, что хотел бы с ним кое-что обсудить и что, по всей вероятности, вернусь к Мелиссе домой к четырем часам. Потом я набрал номер одной картинной галереи в Беверли-Хиллз, с которой мне уже приходилось иметь дело, и сказал, что хочу поговорить с владельцем.
— Юджин де Лонг слушает вас.
— Юджин, это Алекс Делавэр.
— Приветствую вас, Алекс. По Маршу пока ничего нового. Мы все еще подыскиваем что-нибудь в приемлемом состоянии.
— Спасибо. Вообще-то я звоню узнать, не сможете ли вы оценить для меня картину; скорее, две картины одного и того же художника. Ничего официального, просто хотя бы приблизительно.
— Разумеется, если речь идет о чем-то мне известном.
— Цветные эстампы Кассатт.
Секундное молчание.
— Я не знал, что вы — потенциальный покупатель подобных вещей.
— Если бы. Но я узнаю это для приятеля.
— А ваш приятель покупает или продает?
— Может быть, захочет продать.
— Понятно. А какие именно цветные эстампы?
Я сказал.
— Подождите секундочку, — попросил он и оставил меня на проводе на несколько минут. Потом снова взял трубку.
— Вот тут у меня под рукой самые свежие аукционные цифры по сравнимым вещам. Как вам известно, когда идет речь о вещах, выполненных на бумаге, все зависит от того, в каком они состоянии, так что без осмотра точно сказать не могу. Однако эстампы Кассатт выпускались обычно небольшими тиражами — она была перфекционисткой, не стеснялась доводить до блеска свои первоначальные оттиски и переделывать гравюры — так что любая ее приличная работа представляет интерес. Особенно в цвете. И если ваши оттиски действительно в отличном состоянии — полные поля, отсутствуют пятна, — то у вас в руках парочка бриллиантов. С подходящего клиента я мог бы получить четверть миллиона. А может, и больше.
— За оба или за каждый?
— За каждый, разумеется. Особенно при нынешней ситуации. Японцы без ума от импрессионизма, и Кассатт стоит первой в их американском списке. Я ожидаю, что ее значительные живописные картины очень скоро будут идти по семизначной цене. Эстампы же, по существу, отражают некий сплав западного и восточного эстетического чувства — она находилась под большим влиянием японской графики, — который им импонирует. Даже триста тысяч не были бы абсолютно неприемлемой ценой за очень хороший оттиск.
— Спасибо, Юджин.
— Не за что. Скажите вашему приятелю или приятельнице, что у него или у нее в руках первоклассная вещь, но, честно говоря, по-настоящему ее еще не оценили. Если же все-таки он или она решит продавать, то нет необходимости ехать в Нью-Йорк.
— Так и передам.
— Bonsoir, Алекс.
Я закрыл глаза и немного поразмышлял о нулях. Потом позвонил своей телефонистке и узнал, что звонила Робин.
Я позвонил к ней в студию. Когда она сняла трубку, я сказал:
— Привет. Это я.
— Привет. Я просто хотела узнать, как у тебя дела.
— Неплохо. Я все еще здесь, у пациента.
— «Здесь» это где?
— Пасадена. Сан-Лабрадор.
— А, старые деньги, старые тайны.
— Если бы ты только знала, как ты права.
— Ну да. Если человечество когда-нибудь перестанет бренчать на струнах, я возьмусь гадать на кофейной гуще.
— Или будешь торговать акциями.
— Нет, только не это! Тюрьма не для меня.
Я засмеялся.
— Так что вот, — сказала она.
— А у тебя как дела?
— Прекрасно.
— Что было с гитарой мистера Паникера?
— А, просто царапина. Никакой катастрофой там и не пахло. Я думаю, он в конце концов чокнется — от чрезмерной трезвости.
Я снова засмеялся.
— Неплохо было бы опять встретиться, когда ситуация немного разрядится.
— Неплохо бы, — согласилась она. — Когда ситуация разрядится.
Молчание.
— Это будет скоро, — пообещал я, хотя подтвердить обещание мне было нечем.
— Совсем хорошо.
Я вернулся в ресторан. На столе стояла плетенка с хлебом и стакан воды со льдом. Две посетительницы уже ушли; две другие расплачивались по счету с помощью карманного калькулятора и наморщенных лбов.
Судя по запаху, хлеб был свежий — ломти пшеничного с отрубями и булочки с анисом, — но я еще еле дышал от «легкой» пищи Мадлен и поэтому отодвинул хлеб в сторону. Усадившая меня женщина заметила это, и мне показалось, она вздрогнула. Я занялся меню. Последние две клиентки ушли. Женщина взяла со стола их кредитный талон, посмотрела на него и покачала головой. Вытерев стол, она подошла ко мне с карандашом наготове. Я заказал самый дорогой кофе из имевшихся в меню — тройной «эспрессо» с чуточкой бренди «Наполеон» — и порцию гигантской клубники.
Сначала она принесла ягоды — реклама была без обмана, они по величине не уступали персикам, — а через несколько минут и кофе, который еще пенился.
Я улыбнулся ей. Она казалась обеспокоенной.
— Все в порядке, сэр?
— Замечательно — потрясающая клубника.
— Мы получаем ее из Карпентерии. Не хотите ли свежих сливок?
— Нет, благодарю — Я улыбнулся и стал смотреть через улицу. Интересно, что происходит сейчас за этим фасадом? Я стал подсчитывать число часов лечения, необходимое для покупки клочка бумаги стоимостью в четверть миллиона долларов. Думал, как мне поступить с супругами Гэбни.
Хотя хозяйка ресторана вернулась ко мне через несколько минут, уровень кофе у меня в чашке понизился на одну треть и были съедены лишь две ягоды.
— Что-нибудь не так, сэр?
— Нет, все просто отлично. — В доказательство своих слов я отпил кофе и насадил на вилку самую большую клубнику.
— Мы импортируем весь наш кофе, — заявила хозяйка. — Симпсон и Верони покупают из того же самого источника, но берут вдвое дороже.
Я не имел понятия, кто такие Симпсон и Верони, но улыбнулся, покачал головой и сказал: «Надо же!» Моя реакция не произвела на нее никакого впечатления. Если это ее обычная манера общения, то совсем не удивительно, что публика не протаптывает дорожку к дверям ее заведения.
Я отпил еще глоток и занялся клубникой. Простояв секунду возле меня, она ушла на кухню совещаться с поваром.
Я стал снова смотреть в окно. Взглянул на часы: тридцать пять минут третьего. Осталось меньше получаса до конца сеанса. Что я скажу Урсуле Гэбни?
Женщина с бюстом вышла из кухни с воскресной газетой под мышкой, села за один из столиков и стала читать. Когда она отложила первую часть и брала «Метро», наши глаза встретились. Она тут же отвела свои в сторону. Я проглотил остаток кофе.
Не вставая с места, она спросила:
— Вам что-нибудь еще?
— Нет, спасибо.
Она принесла мне счет. Я вручил ей кредитную карточку. Она взяла ее, долго на нее смотрела, вернулась с талоном и задала вопрос:
— Так вы врач?
Тогда до меня дошло, кем я должен был ей показаться: небритый, в одежде, в которой спал.
— Я психолог. Здесь через улицу находится одна клиника. Я направляюсь туда, чтобы поговорить с одним из врачей.
— Угу, — сказала она с недоверчивым видом.
— Не беспокойтесь, — улыбнулся я самой лучшей своей улыбкой. — Я не из пациентов клиники. Просто отработал длинную смену — непредвиденный случай, нужна была срочная помощь.
Это явно испугало ее, поэтому я показал ей свой патент и карточку преподавателя медфака.
— Честное скаутское.
Она несколько смягчилась и спросила:
— Чем они там занимаются, в этой клинике?
— Точно не знаю. У вас были из-за них проблемы?
— Нет-нет, просто не видно, чтобы туда входило и выходило много народу. И там нет никакой вывески, из которой можно было узнать, что это за место. Я бы даже и не узнала этого, если бы мне не сказала одна моя посетительница. Мне просто интересно, чем они там занимаются.
— Я и сам не так уж много знаю. Моя специальность — работа с детьми. Одна моя пациентка — дочь женщины, которая здесь лечилась. Может, вы заметили ее? Она обычно приезжала на старом «роллс-ройсе», черно-сером.
Хозяйка кивнула.
— Я действительно видела пару раз похожую машину, но не обратила внимания, кто был за рулем.
— Женщина, которой принадлежала эта машина, исчезла несколько дней назад. Девочка очень тяжело это переживает. Я приехал в надежде хоть что-нибудь узнать.
— Исчезла? Как это?
— Она отправилась в клинику, но туда не приехала, и с тех пор никто ее не видел.
— Вот как. — Какое-то новое беспокойство прозвучало в ее голосе — беспокойство, которое не было связано с состоянием моих финансов.
Я посмотрел на нее снизу вверх, крутя в пальцах кредитный талон.
— Вы знаете… — начала она, потом покачала головой.
— Что вы хотели сказать?
— Ничего… Наверное, это ничего не значит. Я не должна вмешиваться в то, что меня не касается…
— Если вы что-то знаете…
— Нет, — подчеркнуто сказала она. — Это не о матери вашей пациентки. Я имею в виду еще одну их пациентку — ту свою посетительницу, о которой я говорила. Ту, которая рассказала мне, что это за место. Она заходила сюда, и на вид было не похоже, что с ней что-то не так. Она сказала, что раньше боялась куда-либо ходить — страдала фобией, — поэтому и лечилась, и ей стало намного лучше. По идее, она вроде бы должна была любить это место, то есть клинику, — чувствовать благодарность. Но по ней этого не было видно — только никому не говорите, что это я так сказала. Мне правда не нужны никакие неприятности.
Она коснулась кредитного талона.
— Вам еще надо проставить общую сумму и расписаться.
Что я и сделал, приплюсовав двадцать пять процентов чаевых.
— Спасибо, — поблагодарила она.
— Не за что. Почему вы решили, что этой женщине не нравилась клиника?
— Просто по тому, как она говорила: задавала очень много вопросов. О них. — Она бросила взгляд через улицу. — Не с самого начала, а через какое-то время, когда стала часто здесь бывать.
— Что за вопросы она задавала?
— Давно ли они здесь. Этого я не знала, потому что сама только что сюда переехала. Заходят ли сюда врачи или кто-либо из пациентов — это был легкий вопрос. Ни разу. Никто, кроме Кэти, — так ее зовут. По ней не было заметно, чтобы она чего-то боялась. Наоборот, она была даже чуточку напористая. Но мне она нравилась — вела себя дружелюбно, хвалила мою стряпню. И приходила очень часто. Мне очень нравилось, что у нас появился завсегдатай. Потом в один прекрасный день ни с того ни с сего просто перестала приходить. — Она щелкнула пальцами. — Просто вот так. Мне это показалось странным. Тем более что она ничего не говорила о том, что заканчивает лечение. И когда вы сказали, что та другая женщина исчезла, я вроде как вспомнила этот случай. Хотя Кэти по-настоящему не исчезла — просто перестала приходить.
— И давно это случилось?
Она задумалась.
— Около месяца назад. Сначала я подумала было, что это из-за еды, но она и туда перестала приезжать. Я знаю ее машину. Она появлялась точно по расписанию: понедельник и четверг, вторая половина дня. Как часы. В три пятнадцать она была уже здесь, заказывала спагетти или гребешки, кофе со взбитыми сливками и булочку с изюмом. Я была благодарна за это, потому что, по правде говоря, дела пока что идут со скрипом — нас здесь еще не узнали как следует. Мой муж все три месяца не устает повторять: «А что я тебе говорил?» С прошлой недели мы начали предлагать воскресный ленч, но большого эффекта это пока не дало.
Я сочувственно поцокал языком.
Она улыбнулась.
— Я назвала это заведение «Ла Мистик», тайна. А он говорит, единственная тайна — это когда я прогорю, так что мне надо утереть ему нос. Вот почему меня особенно радовало, что Кэти приходит постоянно. Я до сих пор спрашиваю себя, что могло с ней случиться.
— А фамилию ее вы помните?
— Зачем вам это?
— Я просто стараюсь повидать всех, кто знал мать моей пациентки. Никогда не знаешь заранее, какая мелочь может пригодиться.
Она нерешительно помолчала, потом сказала:
— Подождите минутку.
Она положила в карман кредитный талон и ушла на кухню. Пока ее не было, я смотрел на здание клиники.
Никто не входил и не выходил. Ни малейшего намека на жизнь за этими окнами.
Хозяйка вернулась, держа в руках квадратик желтой бумаги для записок.
— Это адрес ее сестры. Кэти назвала ее в качестве поручителя в самом начале, потому что она обычно расплачивалась чеком, а ее собственные чеки были на другой штат. Я вообще-то хотела съездить к ней, да так и не собралась. Если увидите ее, скажите, что Джойс передает привет.
Я взял бумажку и прочитал ее. Аккуратные печатные буквы, написанные красным фломастером:
КЭТИ МОРИАРТИ РОББИНС
2012 ЭШБОРН-ДРАЙВ
ПАСАДЕНА
И номер телефона.
Я положил адрес в бумажник, встал и сказал:
— Спасибо. Все было просто замечательно.
— Вы же ничего не ели, кроме клубники и кофе. Приходите когда-нибудь, когда проголодаетесь. У нас хорошо готовят, честное слово.
Она пошла обратно, к своему столику и газете.
Я посмотрел в окно и на этот раз увидел движение. Седая женщина величавого вида как раз садилась в «линкольн». А универсал уже отъезжал от бровки.
Пора поболтать с доктором Урсулой.
Но от этой мысли мне пришлось отказаться. Не успел я приблизиться к тротуару, как «сааб» вылетел задним ходом на улицу, замер на мгновение на месте и рванулся вперед, направляясь на север. Все произошло так быстро, что перед моими глазами лишь промелькнуло красивое, напряженное лицо водителя.
К тому времени как я оказался за рулем «севиля», она уже исчезла из виду.
Я немного посидел и поразмышлял о том, что могло так ее взбудоражить. Потом открыл бардачок, вынул оттуда мой томасовский путеводитель и нашел там Эшборн-драйв.
* * *
Дом, имевший щедрые пропорции, был построен в тюдоровском стиле и стоял на просторном участке, затененном кленами и елями. В тени, которую отбрасывал стоявший на дорожке автофургон «плимут», в некотором беспорядке располагался небольшой парк игрушечных велосипедов и тележек. Три кирпичные ступеньки и крыльцо вели к входной двери. В дверь на уровне глаз была вделана ее миниатюрная латунная копия.
В ответ на звонок маленькая дверца со скрипом открылась, и на меня уставилась пара темных глаз. Изнутри громко доносилось звуковое сопровождение идущего по телевидению мультика. Глаза сузились.
— Я доктор Делавэр. Хотел бы поговорить с миссис Роббинс, если можно.
— Счас пасмарю.
Я попытался разгладить мятую одежду и пальцами расчесал волосы, надеясь, что при вечерней рубашке и галстуке моя щетина будет выглядеть в стиле «так задумано».
«Так задумано» по-вестсайдски. Не тот район.
Маленькая дверца открылась опять. Показались голубые глаза. Зрачки сузились от света.
— Да? — Молодой голос, звучащий немного в нос.
— Миссис Роббинс?
— Чем могу помочь?
— Я — доктор Алекс Делавэр. Разыскиваю вашу сестру Кэти.
— Вы друг Кэти?
— Нет, не совсем так. У нас с ней есть общая знакомая.
— Вы какой доктор?
— Психотерапевт. Прошу извинить меня за такое вторжение. Буду рад предъявить вам свои личные и профессиональные документы.
— Да, пожалуйста.
Я вынул из бумажника нужные бумажки и показал их ей одну за другой.
— И кто же ваша общая с Кэти знакомая? — спросила она.
— Простите, миссис Роббинс, но это мне необходимо обсудить лично с ней. Если вам неудобно дать мне ее телефон, я оставлю вам свой, и пусть она позвонит мне, если можно.
Голубые глаза метнулись в сторону и вернулись. Маленькая дверца захлопнулась, а большая открылась. На крыльцо вышла женщина лет под сорок. Рост под метр семьдесят, аккуратная фигура, коротко подстриженные светлые волосы с розоватым отливом. Глубоко посаженные голубые глаза на продолговатом, усеянном веснушками лице. Полные губы, заостренный подбородок, чуть оттопыренные уши, выглядывающие из-под короткой стрижки. На ней была кофточка в красную и белую горизонтальную полоску, с короткими рукавами и вырезом «лодочкой», белые парусиновые брюки и кроссовки на босу ногу. В ушах крошечные бриллиантики. Она могла бы быть одной из Лас-Лабрадорас.
— Джен Роббинс, — сказала она, окидывая меня взглядом. У нее были длинные, без лака ногти. — Нам лучше поговорить здесь.
— Конечно, — согласился я, ощущая каждую морщинку на своей одежде.
Она подождала, пока я не вошел, потом закрыла за собой входную дверь.
— Так зачем вы разыскиваете Кэти?
Я был в затруднении. А вдруг Кэти Мориарти скрывала от сестры, что лечилась в клинике? Она открыто разговаривала с Джойс, владелицей ресторана, но ведь незнакомых людей очень часто считают самыми надежными хранителями чужих тайн.
— Это сложно, — ответил наконец я. — Самое для меня лучшее было бы поговорить с вашей сестрой лично, миссис Роббинс.
— Разумеется, это было бы лучше всего, доктор. Я и сама хотела бы поговорить с ней лично, но вот уже больше месяца, как она не дает о себе знать.
Прежде чем я успел ответить, она продолжала.
— Впрочем, такое случается не впервые, принимая во внимание то, как она живет, — ее работу.
— И какая же это работа?
— Журналистика. Она пишет, Раньше работала в «Бостон глоб» и в «Манчестер юнион лидер», но теперь она — свободный художник, сама по себе. Пытается добиться публикации своих книг — одна у нее даже вышла несколько лет назад. О пестицидах. «Плохая земля» — может, слышали?
Я промолчал.
Она усмехнулась — с некоторой долей удовлетворения, как мне показалось.
— До бестселлера она не дотянула.
— Ваша сестра родом из Новой Англии?
— Нет, родом она отсюда, из Калифорнии. Мы обе выросли во Фресно. Но после колледжа она вернулась на восток, сказала, что считает Западное побережье культурным захолустьем.
Она быстро взглянула на автофургон и игрушечные велосипеды и нахмурилась.
— Она приехала сюда, чтобы о чем-то написать?
— Думаю, да. Она мне ничего не сказала — вообще никогда не говорила о своей работе. Конфиденциальные источники, разумеется.
— У вас нет никакого предположения о том, над чем она работала?
— Нет, ни малейшего. Мы не… мы очень разные. Она здесь подолгу не оставалась.
Она задумалась, скрестила руки на груди…
— А кстати, как вы узнали, что я ее сестра?
— Она сослалась на вас, чтобы расплатиться своим чеком в ресторане. Хозяйка дала мне ваш адрес.
— Великолепно, — сказала она. — Это на нее похоже. Слава Богу, что чек оказался действительным.
— У нее были проблемы с деньгами?
— Но только не с тем, как их тратить. Послушайте, мне правда надо вернуться в дом. Простите, что не могу вам помочь.
Она уже поворачивалась к двери.
Я бросил:
— Значит, вас ее месячное отсутствие не волнует?
Она резко обернулась.
— Когда она писала о пестицидах, то разъезжала по всей стране больше года. Давала о себе знать только тогда, когда у нее кончались деньги. Вместо тех денег, что она у нас заняла, мы получили экземпляр книги с ее автографом. Мой муж работает поверенным с различными химическими компаниями. Можете себе представить, как это ему понравилось. За несколько лет до того она уехала в Сальвадор — какое-то расследование, ужасно засекреченное. Ее не было шесть месяцев — и ни звонка, ни открытки. Мать чуть с ума не сошла от страха, а в результате не было даже газетной статьи после всего этого. Так что говорю вам, нет, это меня не волнует. Она просто гоняется за какой-то очередной интригой.
— Какого рода интриги ее обычно интересуют?
— Любые, лишь бы был намек на заговор, — она воображает себя специалистом по репортерским расследованиям, до сих пор думает, что убийство Кеннеди — увлекательная тема для разговора за обеденным столом.
Пауза. Звуки мультика, доносящиеся из глубины дома. Она резко провела рукой по волосам.
— Это просто смешно. Ведь я вас даже не знаю. Не должна была вообще с вами разговаривать… На тот невероятный случай, если она вдруг скоро объявится, я передам ей, что вы хотите с ней поговорить. Где находится ваш офис?
— Западная сторона, — сказал я. — Может, дадите мне ее последний адрес?
Она с минуту подумала.
— Конечно, почему бы нет? Если она может давать мой, то и я могу поступать так же.
Я вынул свою ручку и, пользуясь коленом вместо стола, записал на обороте деловой визитки под ее диктовку адрес на Хиллдейл-авеню.
— Это Западный Голливуд, — объяснила она. — Ближе к вашей части города.
Она осталась стоять, словно ожидая от меня ответа на какой-то вызов.
Я сказал:
— Спасибо. Простите, что побеспокоил.
— Ну да, — проговорила она, снова посмотрев на автофургон. — Знаю, что кажусь черствой, но дело просто в том, что я долго пыталась помочь ей. Но она идет своим путем, кто бы ни… — Она поднесла руку ко рту, словно желая заставить себя молчать. — Мы просто очень разные, вот и все Vive la difference — вы, психологи, ведь верите в это, не так ли?
28
Я вернулся на Сассекс-Ноул к четырем пятнадцати. «Селика» Ноэля стояла перед домом рядом с двухместным коричневым «мерседесом», у которого на заднем бампере была налеплена наклейка с надписью: «ДОДЖЕР БЛЮ», а сзади на крыше торчала антенна сотового телефона.
Мне открыла Мадлен.
— Как она?
— Она наверху, месье доктор. Ест немного супа.
— Мистер Стерджис звонил?
— Non. Но другие… — Кивком головы она показала на переднюю комнату и презрительно скривила губы. Заговорщицкий жест: теперь я был «свой». — Они ждут.
— Кого?
Она пожала плечами.
Мы вместе пересекли вестибюль. Дойдя до комнаты, она отклонилась в сторону и пошла дальше в глубину дома.
Глен Энгер и какой-то грузный лысый человек лет пятидесяти с небольшим сидели в мягких креслах, скрестив ноги, и выглядели так, будто чувствуют себя как дома. Оба были в темно-синих костюмах из легкой материи, белых рубашках и фуляровых галстуках, с белыми квадратиками в нагрудных кармашках. У Энгера галстук был в мелкий розовый рисунок, а у лысого желтый.
Когда я оказался в нескольких шагах от них, они встали и застегнули пиджаки. Лысый был ростом за метр восемьдесят, обладал сложением бывшего штангиста, начинающего выходить из формы. Его лицо — квадратное, мясистое — возвышалось над толстой шеей, а загар был ничуть не хуже, чем у Энгера и Дона Рэмпа, — до последних событий, заставивших его побледнеть. То небольшое количество волос, которое у него еще осталось, имело вид жиденьких прядок, выкрашенных в безжизненный серо-коричневый цвет. Большинство их росло вокруг головы и казалось не гуще мазка грима. Малюсенький взбитый хохолок венчал его темя.
— Ну, — заявил Энгер, — ваша работа здесь подошла к концу. — Вид у него при этом был мрачно-удовлетворенный. Он повернулся к лысому. — Это один из детективов, нанятых для поисков Джины, Джим.
— Это не совсем так, — поправил его я. — Меня зовут Алекс Делавэр. Я лечащий психолог Мелиссы.
Вид у Энгера стал сначала озадаченный, потом обиженный.
Я сказал:
— Мистер Стерджис — детектив — мой друг. Это я порекомендовал семье обратиться к нему. Я случайно оказался вместе с ним у вас в офисе.
— Понимаю. Ну, тогда…
— Сожалею, что не уточнил вовремя, кто я такой, но, принимая во внимание сложившуюся тогда обстановку неотложности, в тот момент это не казалось важным.
— Да, наверное, — согласился Энгер.
Лысый мужчина прочистил горло.
Энгер встрепенулся.
— Доктор… я правильно вас называю? Доктор Делавэр?
Я кивнул.
— Доктор, это Джим Даус, поверенный в делах Джины.
Даус улыбнулся одной стороной рта. Он пожал мне руку, сверкнув запонкой с монограммой. Его рука была большая, пухлая и поразительно шершавая — вот что значит проводить субботу и воскресенье подальше от письменного стола. При этом он еще так согнул пальцы, что контакт между нашими ладонями получился минимальный. То ли еще не решил, насколько дружелюбным собирается быть, то ли хотел проявить особую осторожность, как иногда поступают очень сильные люди из боязни причинить боль.
— Доктор, — сказал он голосом, в котором слышалась хрипотца курильщика. Из-за уголка в его нагрудном кармане высовывались кончики двух сигар. — Психолог? Мне приходится время от времени прибегать к их услугам в суде.
Я кивнул, не будучи уверен, как следует понимать это замечание — как шаг к сближению или как угрозу. Он спросил:
— Как там наша девочка?
— Когда я видел ее последний раз, она отдыхала. Сейчас я как раз иду взглянуть на нее.
— Клифф Чикеринг сообщил мне печальную новость, — сказал Энгер. — Сегодня утром, в церкви. Мы с Джимом подъехали сюда узнать, не потребуется ли какая-нибудь помощь. Вот ужас-то — я никак не предполагал, что все может этим кончиться.
Даус посмотрел на него так, как будто копание в себе было преступлением, но потом покачал головой с запоздалым изъявлением сочувствия.
Я спросил:
— Они прекратили поиски?
Энгер кивнул.
— Клифф сказал, что они прекратили искать ее несколько часов назад. Он уверен, что она на дне этого водохранилища.
— Он также уверен, что она сама и поместила себя туда, — заметил я.
Судя по его виду, Энгер почувствовал себя не в своей тарелке.
Даус сказал:
— Я предложил мистеру Чикерингу, чтобы любое дальнейшее теоретизирование подкреплялось фактами. — Задрав подбородок, он провел пальцем между шеей и воротничком.
— Черт побери! — повысил голос Энгер. — Ясно же, что произошел несчастный случай. Она вообще не должна была раскатывать там на машине.
— Прошу меня извинить, джентльмены, — сказал я, — мне пора к Мелиссе.
— Передайте ей наши соболезнования, — попросил Энгер. — Если она захочет, мы можем подняться к ней сейчас. Если нет, мы в ее распоряжении в любое время, когда она будет готова заняться переводом — просто дайте нам знать.
— О каком переводе идет речь?
— Передача статуса, — ответил Даус. — Время для этого никогда не бывает подходящим, но нужно это сделать как можно скорее. Обычный процесс бумажной работы. Правительство находит для себя хоть какое-то занятие. Надо соблюсти все до последней мелочи, иначе Дядя Сэм рассердится.
— Она слишком молода, чтобы с этим справляться. Чем скорее мы все уладим, тем лучше, — заключил Энгер.
— Слишком молода для бумажной работы? — удивился я.
— Слишком молода, чтобы разбираться во всей механике, — снисходительно пояснил Энгер. — И чтобы нести бремя управления.
— Ей следует заняться в жизни совсем другими вещами, — добавил Даус. — Разве это не так — с психологической точки зрения?
Чувствуя себя каким-то образом перенесенным на заседание сенатской подкомиссии, я сказал:
— То есть вы хотите сказать, что она не должна сама управляться со своими собственными деньгами?
Наступила внезапная тишина, словно упал театральный занавес.
— Это сложно, — проговорил Даус. — Масса совершенно дурацких правил.
— Из-за размеров состояния?
Энгер поджал губы и занялся рассматриванием полотен Старых мастеров, украшавших стены. Глаза его беспокойно бегали.
Заговорил опять Даус:
— Я не могу обсуждать с вами детали, доктор, если только не буду убежден, что вам в этом деле принадлежит значительная роль. Но в самом общем плане позвольте мне сказать следующее при отсутствии конкретного доказательства смерти потребуется очень много времени для того, чтобы установить законность владения недвижимостью и прав наследницы и совершить затем передачу собственности на эти права и сопутствующего имущества.
Он остановился и подождал моей реакции. Когда таковой не последовало, он продолжал:
— Говоря, что потребуется очень много времени, я подразумевал именно это. В данном случае мы имеем дело с множественностью юрисдикции. Со всеми властями, от местных до федеральных. И это лишь относительно основной передачи Это еще даже не коснулось целого комплекса вопросов об опеке, охране ее прав. Сюда входят вопросы владения по доверенности, разные тонкости законодательства о наследовании. И, разумеется, финансовое управление уж тут как тут и пытается урвать все, что может, но здесь, благодаря учреждению доверительной собственности, мы стоим на твердой почве.
— Опека? — переспросил я. — Но ведь Мелисса достигла совершеннолетия — зачем ей нужен опекун?
Энгер посмотрел на Дауса. Даус посмотрел на Энгера.
Матч визуального тенниса. Мяч в конце концов приземлился на поле банкира.
— Совершеннолетие — это одно, а компетентность — совсем другое, — изрек он.
— Вы полагаете, что Мелисса не способна вести свои дела?
Энгер вновь заинтересовался картинами.
— Слово «дела», — сказал Даус, — совершенно не адекватно для данного случая. — Он обвел комнату рукой. — Много ли найдется восемнадцатилетних детей, которые будут способны управляться с делами подобного размаха? Мои, например, точно не справятся.
— Мои тоже, — поддержал его Энгер. — Добавьте сюда эмоциональный стресс. Историю этой семьи. — Он повернулся ко мне. — Уж вам-то все это прекрасно известно.
Это прозвучало как приглашение присоединиться. Я не откликнулся.
Даус коснулся своего лысого черепа.
— Как мне представляется, — сказал он, — будучи ее адвокатом и сам имея детей, я бы рискнул высказать профессиональное суждение, что она найдет оптимальное применение своим способностям, если просто постарается вырасти. Видит Бог, это будет и так нелегко, учитывая все обстоятельства.
— Это действительно так, — подтвердил Энгер. — У меня дома четверо, доктор. Все в таком возрасте — нам очень туго приходится. Гормон высшей лиги бодрствует. Дать подростку большие деньги — это все равно что вложить ему в руки заряженное ружье.
— У вас есть дети, доктор? — спросил Даус.
— Нет, — ответил я.
Оба понимающе усмехнулись.
— Итак, — сказал Даус, крутя пуговицу на пиджаке, — как я уже говорил, это почти все, что я волен обсуждать — кроме вашей расширенной роли.
— И что же это за роль?
— Если вы согласитесь взять на себя проведение длительного курса психологических консультаций, регулируя эмоциональные дела Мелиссы синхронно с организацией финансовых аспектов ее жизни, которой будем заниматься мы с Гленом, то я позабочусь, чтобы по всем важнейшим моментам ваше мнение учитывалось. И хорошо вознаграждалось.
— Постойте-ка, если я правильно вас понял, вы хотите, чтобы я помог вам официально объявить Мелиссу психологически не способной вести свои дела и чтобы можно было назначить опекуна, который будет управлять ее финансами.
Энгер поморщился.
— Вы ошибаетесь, — возразил мне Даус. — Мы ничего не хотим. Здесь речь идет не о нашем благополучии — мы думаем лишь о том, как будет лучше для нее. Мыслим как старые друзья этой семьи, как родители и как профессиональные управляющие. И мы никоим образом не пытаемся повлиять на ваше суждение или мнение. Этот разговор — и позвольте вам напомнить, он возник спонтанно — коснулся вопросов, которые приобрели определенную степень срочности из-за непредвиденных обстоятельств. Проще говоря, доктор, необходимо все уладить как можно скорее.
— Вам надо уяснить себе одну вещь, доктор, — сказал Энгер. — С юридической точки зрения, деньги еще не принадлежат Мелиссе. Ей будет чертовски трудно получить их до того, как процесс завершится естественным путем. А как сказал Джим, колеса бюрократизма крутятся медленно. Процедура займет много месяцев. И все это время нужно будет оплачивать все текущие расходы — домашнее хозяйство, зарплата персоналу, ремонт. Не говоря уже о проведении инвестиций через лабиринт установлений и правил. Дела должны идти без сучка без задоринки. Как мне представляется, это лучше всего поручить опекуну.
— И кто будет этим опекуном? Дон Рэмп?
Даус прочистил горло и покачал головой.
— Нет. Это противоречило бы если не букве, то духу завещания Артура Дикинсона.
— В таком случае, кто же?
Еще одна мертвая пауза. Где-то в доме послышались шаги. Завыл пылесос. Один раз звякнул телефон.
— Моя фирма, — произнес Даус, — давно служит этой семье. Есть определенная логика в том, чтобы эта служба продолжалась.
Я промолчал. Даус расстегнул пиджак, достал небольшой футляр из крокодиловой кожи, извлек оттуда белую визитную карточку и вручил ее мне с таким торжественным видом, будто передавал некую ценность.
Дж. Мэдисон Даус-младший, адвокат
Рестинг, Даус и Кознер
82 °C. Флауэр-стрит
Лос-Анджелес, Ка 90017
— Основателем фирмы был председатель Верховного суда Даус, — сказал он.
Он не прибавил «мой дядя» — видно, спутал явную осмотрительность с тактом.
Все испортил Энгер, ляпнув:
— Дядя Джима.
Даус прочистил горло, не открывая рта. Получилось что-то вроде низкого бычьего фырканья.
Энгер поспешил исправить свой ляп:
— Семью Даусов и семью Дикинсонов связывали долгие годы полного доверия и взаимного расположения. Артур доверил вести свои дела отцу Джима еще в те времена, когда эти дела были даже более запутанными, чем сейчас. В интересах вашей пациентки, доктор, будет поручить ведение ее дел самым лучшим специалистам.
— В настоящий момент, — уточнил я, — в интересах моей пациентки будет помочь ей в эмоциональном плане справиться с горем в связи с потерей матери.
— Вот именно, — подхватил Энгер. — Именно поэтому мы с Джимом и хотели бы все уладить как можно скорее.
— Проблема, — сказал Даус, — лежит в области процедуры передачи, в установлении преемственности. До сих пор каждая стадия процесса должна была получать одобрение миссис Рэмп. Хотя она и не была обременена практическими, текущими управленческими функциями, но с юридической точки зрения, по процедуре от нас требовалось все согласовывать с ней. Теперь, когда она… когда такой контакт невозможен, мы обязаны…
— Иметь дело с ее наследницей, — закончил я фразу. — И это, должно быть, чертовски неудобно.
Даус застегнул пиджак и наклонился вперед. Его лоб сморщился и напрягся; казалось, он к чему-то принюхивается.
— Я ощущаю в вас некоторую агрессивность, доктор Делавэр, для которой имеющиеся в нашем распоряжении факты не дают никаких оснований.
— Возможно, — ответил я. — А может, мне просто не понравилось предложение солгать в пределах моей компетенции. Даже если вами движут благие намерения. Мелисса вполне способна — ни о какой неспособности не может быть я речи. У нее не наблюдается ни намека на расстройство мыслительной способности или на какие-либо иные нарушения умственной деятельности, которые могли бы ослабить здравость ее суждений. Если же вопрос заключается в том, достаточно ли она созрела, чтобы распоряжаться состоянием в сорок миллионов долларов, то кто знает? Говард Хьюз и Лилэнд Белдинг были не намного старше, когда к ним перешли состояния родителей, и никто из них не прогорел. С другой стороны, известны случаи, когда банки и юридические фирмы отличненько все проваливали, не так ли? Какие там последние цифры по этой заварушке с Эс-энд-эл?
— Это, — сказал Энгер, покрываясь краской, — не имеет ничего общего с…
— Все равно, — заявил я. — Любое решение о том, чтобы передать кому-то управление состоянием Мелиссы, должно будет исходить от самой Мелиссы. И оно должно ею приниматься добровольно.
Даус сложил пальцы рук вместе, разъединил их, несколько раз повторил этот жест. Это могло быть пародией на аплодисменты. Его маленькие глазки смотрели твердо.
Он сказал:
— Ну, вам безусловно нет необходимости взваливать на себя бремя оценки, доктор. Учитывая ваше нежелание.
— Что это значит? Обратитесь к услугам наемных экспертов?
Его лицо по-прежнему ничего не выражало, когда он, продемонстрировав запонку с монограммой, посмотрел на золотые часы фирмы «Картье», казавшиеся слишком маленькими на его запястье.
— Приятно было познакомиться, доктор. — Он повернулся к Энгеру. — Сейчас явно неподходящее время для визита, Глен. Мы зайдем в другой раз, когда она будет лучше чувствовать себя.
Энгер кивнул, но казался выведенным из равновесия. Открытый конфликт был явно не его конек.
Даус прикоснулся к его локтю, и они оба прошли мимо меня, направляясь к выходу. И столкнулись лицом к лицу с Мелиссой, которая вышла из-за высокого книжного шкафа. Ее волосы были связаны в «лошадиный хвост». Она была в черной блузке, юбке цвета хаки до колен и черных сандалиях на босу ногу. В кулаке правой руки у нее было зажато что-то розовое — скомканная бумажная салфетка.
— Мелисса, — сказал Энгер, надев на лицо печальную мину человека, вынужденного отказать другому человеку в денежной ссуде. — Я очень сожалею о том, что случилось с твоей мамой, дорогая. Ты знакома с мистером Даусом.
Даус протянул руку.
Мелисса разжала кулак и показала бумажный комок. Даус опустил руку.
— Мистер Даус, — сказала она. — Я знаю, кто вы, но мы ведь ни разу не встречались, не правда ли?
— Очень сожалею, что это происходит при таких печальных обстоятельствах, — ответил адвокат.
— Да. Очень любезно с вашей стороны, что пришли. Да еще и в воскресенье.
— День не имеет никакого значения, когда речь идет о подобном несчастье, — заявил Энгер. — Мы приехали справиться о твоем самочувствии, но доктор Делавэр сказал нам, что ты отдыхаешь, так что мы уже уходили.
— Мистер Даус, — Мелисса проигнорировала Энгера и подошла на шаг ближе к адвокату. — Мистер Даус, мистер Даус. Пожалуйста, оставьте всякую мысль ободрать меня, ладно, мистер Даус? Нет, не говорите ни слова — просто уйдите. Сию же минуту — вы оба — убирайтесь вон. Мой новый адвокат и мой новый банк скоро свяжутся с вами.
* * *
Когда они ушли, она гневно вскрикнула и разрыдалась, бросившись мне на грудь.
По лестнице бегом спустился Ноэль, казавшийся испуганным, сбитым с толку и жаждущим утешить. Увидев Мелиссу, прижавшуюся к моей груди, он остановился на полпути.
Я показал ему кивком головы, чтобы он подошел.
Он приблизился к ней вплотную и позвал по имени.
Она продолжала плакать и так сильно давила головой на грудину, что мне было больно. Я погладил ее по спине. Это, похоже, ее не успокоило.
Наконец она отстранилась; глаза у нее покраснели, лицо пылало.
— О-о! — выдохнула она. — Вот ублюдки! Как они могли! Как они посмели! Ведь она… Ведь она… ведь ее же даже… о-о!
Задыхаясь, она давилась словами. Резко повернувшись и подбежав к стене, сильно заколотила по ней кулаками.
Ноэль взглядом попросил у меня совета. Я кивнул, и он подошел к ней. Она позволила ему увести себя в переднюю комнату. Мы все сели.
Вошла Мадлен с сердитым и одновременно довольным видом, словно подтвердились самые ее худшие предположения относительно рода человеческого. И опять я подумал, что она, наверное, знала немало.
Послышались еще чьи-то шаги.
Вслед за Мадлен появились и две другие горничные. Она им что-то сказала, и они поспешно удалились.
Мадлен подошла и погладила Мелиссу по голове. Мелисса подняла на нее глаза и через силу улыбнулась сквозь слезы.
— Я принесу тебе попить? — спросила Мадлен.
Мелисса не ответила.
Тогда я сказал:
— Пожалуйста. Принесите нам всем чаю.
Тяжело ступая, Мадлен вышла. Мелисса сидела сгорбившись под защитой руки Ноэля и, сжав зубы, рвала бумажную салфетку на мелкие клочки, позволяя им падать на пол.
Вернулась Мадлен, неся на серебряном подносе чай, мед и молоко. Она разлила чай, подала одну чашку Ноэлю, который поднес ее к губам Мелиссы.
Мелисса стала пить, поперхнулась, закашлялась.
Мы все втроем бросились ей на помощь. Получилось такое мельтешение рук, которое при других обстоятельствах могло бы показаться забавным.
Когда суматоха улеглась, Ноэль снова поднес чашку к губам Мелиссы. Она отпила глоток, начала давиться, приложила к груди руку и смогла-таки проглотить. Когда она выпила треть чашки, Мадлен одобрительно кивнула и ушла.
Мелисса коснулась руки Ноэля и сказала:
— Довольно. Спасибо.
Он поставил чашку на стол.
— Вот скоты. Просто невероятно.
— Кто? — спросил Ноэль.
— Мой банкир и мой адвокат, — ответила она. — Пытались ободрать меня. — Она повернулась ко мне. — Спасибо, большое вам спасибо, доктор Делавэр, что постояли за меня. Я знаю, кто мои настоящие друзья.
Ноэль все еще не понимал, о чем речь. Я быстренько пересказал ему суть разговора с Энгером и Даусом. С каждым словом он все больше и больше заводился.
— Вот подонки, — проворчал он со злостью. — Тебе лучше поскорее найти новых.
— Да, конечно, так я и сделаю. Я нарочно сказала, будто уже кого-то наняла — ты бы видел в тот момент эти рожи.
Она мимолетно улыбнулась. Ноэль остался серьезным.
— А вы знаете каких-нибудь хороших адвокатов, доктор Делавэр? — спросила Мелисса.
— Большинство из тех, кого я знаю, практикуют в области семейного права. Но я, вероятно, смогу найти тебе и адвоката по недвижимости.
— Да, пожалуйста. Я буду очень признательна. И еще банкира.
— Думаю, адвокат сможет рекомендовать тебе банкира.
— Прекрасно, — сказала она. — И чем скорее, тем лучше, пока эти двое подонков чего-нибудь не придумали. Как знать, может, они уже собрали какие-то бумаги против меня. — От внезапно пришедшей ей в голову мысли она широко открыла глаза. — Я поручу Майло проверить их. Он сможет раскопать, что они замышляют. Наверное, они уже пощипали меня, как вы думаете?
— Кто знает?
— Ну, я что-то не заметила особой честности с их стороны. Очень может быть, что они обворовывали маму все эти годы. — Она закрыла глаза.
Ноэль обнял ее крепче. Она позволила ему это, но не расслабилась.
Вдруг ее глаза распахнулись.
— Может, и Дон был с ними заодно — и все вместе они задумали…
— Нет, — возразил Ноэль, — Дон не стал бы…
Она отсекла его возражение резким взмахом одной руки.
— Ты видишь одну его сторону. Я вижу другую.
Ноэль промолчал.
Глаза Мелиссы стали огромными.
— О Боже!
— Что такое? — спросил я.
— Может, они даже имели отношение к… тому, что случилось. Может, хотели заполучить ее деньги, ну и…
Она вскочила на ноги, нечаянно толкнув при этом Ноэля. Глаза сухие, руки сжаты в кулаки. Она подняла один кулак на уровень лица и потрясла им.
— Я до них доберусь, до этих подонков. Каждый, кто тронул ее хоть пальцем, заплатит за это!
Ноэль встал. Мелисса остановила его на расстоянии вытянутой руки.
— Не надо. Все нормально. Со мной будет все в порядке. Я теперь знаю, что делать.
Она начала кружить по комнате. Круг за кругом у самой стены, словно начинающий конькобежец. Шаги становились все шире, движение ускорялось, так что под конец она почти бежала. Она хмурилась, выпячивала нижнюю челюсть и колотила кулаком по ладони.
Спящая красавица, разбуженная отравленным поцелуем подозрения.
Гнев вытесняет страх. Он несовместим со страхом.
Прошлой осенью я таким образом лечил целую школу. Много лет назад тот же урок я преподал и ей.
У этой девушки гнев достиг стадии белого каления. Лицо приняло почти свирепое выражение.
Я наблюдал за ней и не мог отделаться от впечатления голодного зверя, кружащего по клетке.
Что ж, психологический прогресс налицо.
29
Вскоре после этого явился Майло — в коричневом костюме, с блестящим черным кейсом в руках. Мелисса вцепилась в него и рассказала о том, что произошло.
— Поймайте их, — сказала она.
— Я это проверю, — ответил Майло. — Но потребуется время. А пока подыщи себе адвоката.
— Чего бы это ни стоило. Прошу вас. Кто знает, что они затевают.
— Во всяком случае, они теперь на заметке. Если они и замышляли что-то украсть, то в данный момент скорее всего не решатся на это.
— Правильно, — сказал Ноэль.
Майло спросил Мелиссу:
— А вообще как ты себя чувствуешь?
— Лучше… Я справлюсь. Должна… Если нужно что-то делать, я сделаю.
— Сейчас пока что от тебя требуется одно — привести себя в норму.
Она открыла рот, чтобы возразить.
— Нет, — остановил ее Майло, — я не отмахиваюсь от тебя. Говорю совершенно серьезно. Это нужно на тот случай, если они не отстанут.
— Что вы имеете в виду?
— Эти типы явно хотят прибрать дела к рукам. Если им удастся убедить судью, что у тебя не все дома, то они могут попытаться это провернуть. Может, я найду что-то на них, а может, и не найду. Пока я буду под них копать, они будут запасать боеприпасы. Чем лучше ты будешь смотреться — в физическом и психологическом плане, — тем меньше шансов оставишь им. Так что приводи себя в норму.
Он перевел взгляд на меня.
— Если тебе уж очень приспичит сорвать на ком-нибудь зло, ори вон на него. У него работа такая.
* * *
Она позволила Ноэлю отвести себя наверх. Майло спросил:
— Все было так, как она рассказала?
Я кивнул.
— Пара субчиков, скажу я тебе. Явились полные заботы и сочувствия, потом плавно перешли к изложению Великого Плана. Но разве не глупо было с их стороны вот так сразу выкладывать карты на стол?
— Не обязательно. В большинстве случаев такая схема будет работать, потому что обычный восемнадцатилетний подросток испугается и согласится, чтобы парочка таких типов в костюмах все взяла на себя. Да и немало психотерапевтов согласились бы на то, что они предложили тебе. За подходящее вознаграждение. — Он почесал нос. — Интересно будет узнать, что им действительно нужно.
— Думаю, что далеко не промахнусь, если скажу — «презренный металл».
— Да, но в каких размерах, вот вопрос. Думают ли выкачать все состояние или хотят просто сохранить управленческий контроль, чтобы повысить на пару процентов свои гонорары. Люди, живущие за счет богатых, настолько к этому привыкают, что начинают думать, будто имеют такое право.
— Или, может быть, сделали какие-то неудачные капиталовложения и не хотят, чтобы об этом стало известно.
— Такое тоже бывало, и не единожды, — заметил Майло. — Но нам, несмотря на все эти «может быть», надо подумать вот о чем не найдется ли у них все-таки веского аргумента — такого, который будет выглядеть убедительным для судьи. Сможет она распорядиться такой кучей денег, Алекс? Каково на самом деле ее эмоциональное состояние?
— Точно сказать трудно. Она ужасно быстро перешла из сонного состояния в разъяренное. Но я не усматриваю в этом никакой патологии, принимая во внимание, что ей пришлось пережить.
— Скажи это в суде, и ей крышка.
— Сорок миллионов долларов — тяжелая ноша для любого человека, Майло. Если бы я был Вселенским Царем, я бы ни одному ребенку не дал столько денег. И все же: нет никакого психологического основания для объявления ее неправоспособной. Я мог бы ее поддержать.
— И вообще, в чем заключается самое худшее, что может случиться? Ну, потеряет состояние, нужно будет начинать с нуля. Ума ей не занимать — займется чем-нибудь полезным. Может, это будет самое лучшее событие в ее жизни.
— Финансовый крах в качестве терапевтического средства? Неплохой предлог для врачей требовать более крупных гонораров.
Он усмехнулся.
— А пока я посмотрю, что можно нарыть на Энгера и второго типа. Хотя будет чертовски трудно быстро пробурить такую броню. Ей правда нужна будет юридическая помощь.
— Я подумал, что позвоню кое-кому по этому делу.
— Прекрасно. — Он взял свой кейс.
— Обновка? — спросил я.
— Купил сегодня. Надо же поддерживать имидж. Оказывается, бизнес частного детектива — крепкий напиток, так и кружит голову.
— Ты получил мое сообщение — я надиктовал его на твою машинку пару часов назад?
— О том, что надо кое-что обсудить? Конечно. Но я, как деловая частная пчелка, был занят сбором меда, то бишь информации. Могу угостить.
Я указал ему на одно из мягких кресел.
— Нет, — сказал он. — Пошли к черту отсюда, подышим нормальным воздухом — если тебе можно уйти.
— Подожди, я узнаю.
Я поднялся по лестнице и подошел к комнате Мелиссы. Дверь была приоткрыта. Поднимая руку, чтобы постучать, я заглянул в щель и увидел, что Мелисса и Ноэль лежат одетые на кровати. Ее пальцы перебирают его волосы. Его рука обвивает ее талию, массируя поясницу. Пальцы босых ног соприкасаются.
Пока они меня не заметили, я ушел на цыпочках.
* * *
Я застал Майло в холле, в тот момент, когда он отказывался от тарелки с едой, которую предлагала ему Мадлен.
— Я сыт, — говорил он, хлопая себя по животу. — Большое спасибо.
Она смотрела на него взглядом, каким мать смотрит на непокорного сына.
Мы улыбнулись ей и ушли.
Выйдя из дома, Майло сказал:
— Я наврал. На самом деле я голоден, как тысяча чертей, и ее еда наверняка вкуснее, чем все то, что мы получим где-то в другом месте. Но этот дом действует мне на нервы — через какое-то время мне становится дурно от слишком большой дозы ухода за моей персоной.
— Со мной то же самое, — откликнулся я, садясь в машину. — Подумай, каково Мелиссе.
— Да, — согласился он, включая зажигание. — Но теперь она будет сама по себе. У тебя есть какие-нибудь идеи относительно того, где можно поесть?
— Собственно говоря, я знаю такое подходящее местечко.
* * *
Начало обеденного часа. В «Ла Мистик» не было ни души. Когда мы подъехали и остановились перед входом, Майло сказал:
— Ну и дела! Еще и ждать придется, чего доброго?
— Вот это — клиника Гэбни. — Я показал ему на большой коричневый дом. За окнами было темно, и подъездная дорожка пустовала.
— Ага. — Майло прищурился. — Видик жутковатый. — Он снова повернулся лицом к ресторану. — Так что здесь у тебя — наблюдательный пункт?
— Просто теплое и уютное место отдыха для усталого путника.
* * *
Похоже, Джойс не ожидала меня снова увидеть, но встретила так, будто я ее давно пропавший родственник, и предложила занять тот же самый столик у окна. Но сидеть там в этот час означало бы превратиться в оформление витрины, и я попросил дать нам один из задних столиков.
Она приняла наш заказ на напитки и вернулась с двумя «гролшами». Наливая пиво в стаканы, она сообщила:
— Сегодня у нас из порционных блюд отварной окунь и телятина. — И пустилась в подробное описание рецептуры приготовления каждого блюда.
— Я возьму окуня, — решил я.
Майло прошелся глазами по меню и спросил:
— Как насчет антрекота?
— Антрекот отличный, сэр.
— Вот его-то я и возьму. С кровью, и двойную порцию картофеля.
Джойс ушла за кухонную перегородку и принялась за дело.
Мы чокнулись стаканами и отпили пива.
Я сказал:
— По словам Энгера, Чикеринг заявил, что поиски Джины прекращены.
— Это меня не удивляет. Последний раз я связывался со службой шерифа в половине второго. Они явно сворачивали операцию — нигде на территории парка не обнаружилось никакого следа ее пребывания.
— «Женщина в озере»[17], а?
— Похоже, что так. — Он провел рукой по лицу. — Ладно. Пора делиться впечатлениями. Кто первый?
— Давай ты.
— В основном, — начал Майло, — день прошел под девизом «да здравствует Голливуд». Я провел бóльшую его часть в разговорах с киношниками, бывшими киношниками и всякими-разными прихлебателями.
— Кротти?
— Нет. Кротти больше нет на этом свете. Умер пару месяцев назад.
— Вот как! — Я вспомнил пожилого худощавого копа из полиции нравов, ставшего активистом у «голубых». — Я думал, что все обойдется.
— Мы все так думали. А он, к сожалению, нет. Как-то вышел посидеть на веранде у себя на ферме в горах да и выстрелил себе в рот.
— Жаль.
— Да. В конечном итоге он поступил как полицейский… Ну а вот что я узнал в киногороде: очевидно, Джина, Рэмп и Макклоски в добрые старые времена были в довольно-таки приятельских отношениях. Там на студии «Премьер» во второй половине шестидесятых существовала такая группа вольнонаемных актеров. Макклоски вроде бы не входил в нее, но всегда ошивался вокруг, завел свое агентство, устраивал им разовые фотоангажементы — смазливые лица обоих полов. Судя по тому, что я слышал, это была довольно буйная компашка — много пили, баловались наркотиками, веселились на вечерниках — хотя о самой Джине никто не сказал ничего дурного. Так что если она и грешила, то втихаря. Почти никто из них никуда дальше не пошел — я имею в виду карьеру. У Джины было больше всего шансов на успех, но их сожгло кислотой. Студийные боссы знали, что на этом рынке конъюнктура выгодна покупателю — ежедневно из Айовы целыми автобусами завозилось свежее «мясо». Поэтому давали этим ребятам мизерные контракты, держали на немых ролях, на разных подсобах и подхватах, а потом, когда на лице становились заметны морщинки, их просто вышвыривали.
— Рэмп ни разу не упоминал, что у него с Макклоски было не просто шапочное знакомство.
— Он его точно знал, но, как я слышал, закадычными друзьями они не были.
Майло поставил свой кейс к себе на колени, открыл его, покопался внутри и извлек папку из «мраморной» бумаги. В ней лежала черно-белая фотография с эмблемой студии «Апекс» в виде заснеженной горной вершины справа внизу. Снимок был сделан в каком-то ночном клубе — а может, это была просто съемочная площадка.
Обтянутая кожей кабинка, зеркальная стена, накрытый белой скатертью стол, серебряные приборы, хрустальные пепельницы и сигаретницы. Полдюжины симпатичных молодых людей лет по двадцать с небольшим в элегантных вечерних туалетах. Улыбаются фотогеничными улыбками, курят, поднимают бокалы.
Джина Принс (урожденная Пэддок) сидела в самом центре — белокурая и прекрасная, в вечернем платье, оставлявшем плечи обнаженными и на фотографии казавшемся серого цвета, в коротком жемчужном колье, которое подчеркивало длину и гладкость ее шеи. Сходство с Мелиссой было поразительным.
Рядом с ней Дон Рэмп, крупный, загорелый, пышущий здоровьем, без усов. Джоэль Макклоски по другую сторону от нее — с гладко зачесанными волосами, красивый почти женственной красотой. Его улыбка отличалась от улыбок остальных. Это была неуверенная улыбка аутсайдера. Сигарета у него между пальцами догорела почти до фильтра.
Два других лица — мужское и женское — я не узнал. Зато узнал еще одно, в самом дальнем углу.
— Вот это, — сказал я, указывая на брюнетку с четкими чертами лица, в черном платье с рискованно низким вырезом, — Бетель Друкер, мать Ноэля. Сейчас она блондинка, но ошибки быть не может — я только сегодня с ней познакомился. Она работает у Рэмпа в ресторане официанткой. Они с Ноэлем живут над рестораном.
— Ну и ну, — покачал головой Майло. — Одна большая дружная семья. — Он вынул из кейса еще один лист бумаги. — Ну-ка, посмотри. Это, должно быть, Бекки Дюпон. Киношный псевдоним. — Подавшись вперед, он взял снимок за уголок. — Красивая женщина. Роскошные формы.
— Она и сейчас еще такая.
— Ты имеешь в виду красоту или формы?
— И то и другое. Хотя она немного поблекла.
Майло посмотрел в сторону кухни, где Джойс работала бок о бок с шеф-поваром.
— Видно, день сегодня такой — везет на роскошные формы. Я тебе одно скажу: старушка Бекки-Бетель, согласно сведениям из моих источников, увлекалась наркотиками. Не то чтобы была необходимость ссылаться на источники. Ты только посмотри на ее глаза.
Я всмотрелся пристальнее в прекрасной лепки лицо и понял, что он имел в виду. Широко расставленные темные глаза были полуприкрыты нависшими веками. Была видна часть радужки, и это придавало взгляду безразличное, дремотное и отсутствующее выражение. В отличие от улыбки Макклоски, ее улыбка отражала истинное блаженство. Но получаемое ею удовольствие не имело ничего общего с застольем, в котором она участвовала.
Я сказал:
— Это согласуется с тем, что я услышал сегодня от Ноэля. По его словам, он всегда знал: наркотики — это плохо. Начал было объяснять, но передумал и сказал, что читал об этом. Он очень серьезный юноша, очень сдержанный и самоуправляемый — почти не верится, что такие бывают. Если он рос и видел, к чему привела его мать бурная жизнь, то этим все и объясняется. Что-то такое в нем заставило вибрировать мои «усики» — наверно, это оно и было.
Я вернул фотографию Майло. Прежде чем убрать ее в папку, он еще раз на нее взглянул.
— Вот так. Похоже, что все знают всех, и Голливуд вонзил свои клыки в Сан-Лабрадор.
— А кто эти двое других на снимке?
— Парень — один из моих осведомителей, не будем его называть. А девушка — будущая звездочка по имени Стейси Брукс. Покойная — погибла в автокатастрофе в 1971 году; возможно, управляла машиной в нетрезвом состоянии. Как я уже сказал, буйная компания.
— А те, как ты выразился, подсобы и подхваты, на которых их держали в студии, — это что, «отработка» за роль на кушетке?
— Это и многое другое, с этим связанное. Массовые сцены на разных приемах, встречи с потенциальными спонсорами и другими шишками. В основном от них требовалось всегда быть под рукой для удовлетворения самых разных аппетитов. Особенно разносторонним был Рэмп — красавец-кавалер для дам и партнер по специфическим забавам для джентльменов. Он был покладистым парнем, делал то, что ему велели. В награду за такую услужливость получил несколько второстепенных ролей — главным образом в вестернах и полицейских боевиках.
— А Макклоски?
— Мои информанты помнят его как развязного типа, который строил из себя крутого парня. Этакий уцененный Брандо, с вечной зубочисткой во рту, постоянно намекающий на каких-то приятелей в Нью-Джерси. Но на эту его удочку так никто и не попался. Потом, он ненавидел геев и не упускал случая заявить об этом, даже когда его никто не просил. Может, это было на самом деле так, а может, он сам был таким в скрытой форме и поэтому так яростно их отвергал. Похоже, что ни у кого не было ясного представления о том, с кем он еще спал, кроме Джины. Эти люди помнят только, что он был мерзкий тип и употреблял наркотики в большом количестве — амфетамины, кокаин, марихуану, таблетки. Какое-то время, когда его бизнес начал прогорать, он стал приторговывать наркотиками. Снабжать потребителей на студии. Потом продавал услуги фотомоделей за наркотики — и это был конец его агентства. Фотомодели хотели получать за свою работу наличные деньги, которых у него не было.
— Его когда-нибудь арестовывали за эту торговлю?
— Нет. А почему ты спрашиваешь?
— Я просто подумал, не могла ли Джина иметь какое-то отношение к его конфликту с законом. Или ему так показалось. Тогда у него был бы мотив, чтобы облить ее кислотой.
— Да, тогда точно был бы, но в том-то и дело, что до того случая на него в полиции вообще ничего не было — ни одного ареста, ничего в связи с наркотиками.
Джойс принесла хлеб. Когда она отошла, я сказал:
— Тогда рассмотрим вот какую версию. Его гомофобия действительно была прикрытием для его голубизны. Джина это узнала, и между ними было какое-то столкновение по этому поводу. Возможно, она даже пригрозила разоблачить его. Макклоски пришел в ярость и нанял Финдли, чтобы с ней покончить. Это объяснило бы его отказ говорить о мотивах. Изложение мотивов было бы унизительным для него.
— Могло быть и так, — согласился Майло. — Но тогда почему она не выложила все начистоту?
— Хороший вопрос.
— Может быть, там все было намного проще: Макклоски, Джина и Рэмп составили треугольник, и Макклоски в конце концов выпал в осадок. Помнишь, как они сидят на фотографии? Она — начинка в сандвиче. В любом случае это, вероятно, уже давняя история. И, вероятно, не имеет никакого отношения к ее исчезновению — просто кое-что говорит нам о мистере Р.
— Преуспевающий бизнесмен пытается забыть, как когда-то оказывал всякие «дополнительные» услуги.
— Угу. Даже когда мы искали его жену и Макклоски был потенциальным подозреваемым, он не заговорил о старых недобрых временах. Хотя ведь именно он показал на Макклоски пальцем. Казалось бы, он должен хотеть рассказать нам что угодно, лишь бы это помогло нам найти ее.
— Это если ему было что рассказывать, — заметил я. — Ведь даже Джина не знала, за что Макклоски изуродовал ее, так откуда было знать Рэмпу?
— Может, и так. Но ясно, что Джина должна была быть в курсе сексуальных особенностей Рэмпа, когда выходила за него замуж. Бисексуалы не считаются первоклассным матримониальным материалом в наше время — помимо социального, еще и физический риск. Но это ведь не остановило ее!
— Разные спальни, — сказал я. — Никакого риска.
— Да, но чем он-то ее привлек?
— Ну, он приятный парень. Терпимо относится к ее образу жизни, поэтому и она мирится с его образом жизни. И он, похоже, действительно добрый — взял к себе Бетель ради старой дружбы, платит за образование Ноэля. Может, после всей этой жестокости, которую ей пришлось испытать, Джине сочувствие было нужнее, чем секс.
— По старой дружбе, говоришь? Интересно, каково Бетель обслуживать столики, когда ее приятели живут в Персиковом Дворце?
— Ноэль намекнул, что одно время им с матерью приходилось по-настоящему туго. Так что работа официантки вполне могла быть большой удачей.
— Да, наверное. — Майло взял кусок хлеба.
Я сказал:
— Ты все время возвращаешься к Рэмпу.
— Я сегодня съездил на побережье, чтобы потолковать с Никвистом, но его там уже и след простыл. Сосед сказал, что Никвист накануне вечером сложил свои пожитки в машину и отбыл в неизвестном направлении. В Бренвудском загородном клубе мне сообщили, что он не явился на занятия по теннису, которые должен был проводить сегодня, и даже не потрудился позвонить.
— Рэмп тоже сворачивает лагерь. Просил Ноэля упаковать ему чемодан. Возможно, так подействовала на него потеря Джины — все это притворство надоело ему до смерти. Но интересно будет посмотреть, не подаст ли он все-таки иск в целях оспорить завещание. Или вдруг получит энную сумму по страховому полису, о существовании которого никто не подозревал. Не говоря уже о неизвестно где болтающихся двух миллионах. Кому как не мужу было бы сподручнее всего откачать их?
— Подтверждаются подозрения Мелиссы, — сказал Майло.
— Устами младенцев. Известно, где был Рэмп в день исчезновения Джины. Но ведь есть еще и Тодд. Что, если он соблазнил ее, чтобы подобраться к тем двум миллионам? Во всяком случае, уж его-то она бы подобрала, если бы видела, что его машина сломалась недалеко от дома, а он голосует на шоссе. А теперь он и Рэмп — оба смываются.
— Рэмп все еще здесь. Я проезжал сегодня мимо его ресторана по дороге домой. Его «мерседес» стоял на площадке, и я заглянул внутрь. Мистер Рэмп был в полной отключке, пьяный в дребадан, и Бетель кудахтала над ним, что твоя наседка. Я оставил их в покое, припарковался на противоположной стороне и немного понаблюдал за домом. Никвист не появлялся.
— Вот еще что, Майло. Если Рэмп собирается рвать когти, то зачем ему надо было говорить об этом мне, афишировать свой план?
— Ничего он не афишировал — он создавал прикрытие. Создавал себе убедительную мотивировку отъезда: бедняга сломлен горем, остался ни с чем. Так что никто не заподозрит, что он едет, скажем, на Таити с Тоддом. Да его и так не могут ни в чем заподозрить. С официальной точки зрения никакого преступления нет. И поскольку мое сыскное агентство — это я один, на все про все, то мне пришлось бы слишком тонко размазаться, чтобы проверять его одновременно с поисками Никвиста и проведением той операции, которую поручила мне Мелисса в этом деле с Энгером и Даусом. Мне не на что опереться, дабы убедить ее, что Рэмп для нас сейчас важнее, чем Энгер и Даус, потому что эти двое уже предпринимают что-то против нее. И потом, это скорее всего разозлит ее еще больше, что, как мне кажется, совсем не желательно в данный момент. Я правильно говорю?
— Правильно.
Он немного помолчал, раздумывая.
— Позвоню-ка я сейчас одному человеку. У него есть настоящее разрешение на частный сыск, но он очень редко им пользуется. Звезд с неба он не хватает, но обладает дьявольским терпением. Вот он-то и присмотрит за Великолепным Доном, пока я разнюхиваю финансовый след.
— А как быть с Никвистом?
— Никвист вряд ли что-нибудь предпримет без Рэмпа.
Тут нам принесли заказанную еду, и несколько минут мы насыщались.
— Теперь моя очередь, — сказал я.
— Потерпи еще минутку. У меня остались кой-какие мелочи, касающиеся Дикинсона, первого мужа Джины. Помнишь, Энгер сострил тогда насчет костюмов из магазина готового платья? Оказывается, Дикинсон не мог носить стандартную одежду, потому что был карликом.
— Я знаю. Нашел одну его фотографию.
Глаза Майло вспыхнули от удивления.
— Где?
— В доме. На чердаке.
— Провел небольшие любительские раскопки? Молодец! Я не смог найти ни одной его фотографии. Как он выглядел?
Я описал ему Артура Дикинсона и Джину в виде новобрачной мумии.
— Жуть. — Он покачал головой. — Первый муженек был старый гном, а второй хоть и нормального размера, но любит мальчиков. В общем и целом, я бы сказал, что для нашей дамы физическая сторона вопроса главного интереса не представляла.
— Агорафобия, — заметил я. — В классическом фрейдистском толковании это симптом сексуального подавления.
— Ты с этим согласен?
— Не всегда, но в данном случае, возможно, соглашусь. Это подкрепляет мою теорию о том, что Джина вышла замуж за Рэмпа, так как ощущала потребность в дружбе. То обстоятельство, что они знали друг друга раньше, облегчило их взаимопонимание — после того, как Мелисса свела их вместе. Старые друзья восстанавливают отношения, в которых нуждаются оба. Такое случается сплошь и рядом.
— Я узнал еще кое-что об Артуре, — сказал Майло. — Похоже, в дополнение к тому, что он сколотил свое состояние на этом своем подкосе или как его там, он приобщился и к кинобизнесу. В финансовом аспекте. Некоторые из его сделок были заключены со студией «Апекс». Пока я не нашел ни одной ниточки, которую можно было бы протянуть от него к какому-нибудь фильму с участием Джины, Рэмпа или их приятелей и приятельниц, и ни одного доказательства того, что он знал их до процесса над Макклоски. Но считаю такое вполне возможным.
— Есть еще этот верховный судья.
— Какой судья?
— Верховный судья Даус был дядюшкой Джима Дауса.
— Кто, Хармон Молоток? Помню, Энгер что-то такое говорил. Ну и что?
— Разве не он там заседал, когда судили Макклоски?
Майло подумал.
— Когда это было? В 1969-м? Нет, Хармон тогда уже ушел. Дело перешло в руки парней помягче. Когда всем заправлял Хармон, в светло-зеленом зале работа так и кипела.
— Все равно, — сказал я, — даже как заслуженный судья в отставке, он мог сохранять еще большое влияние. А Артур Дикинсон был клиентом его фирмы. Что, если кандидатура Джейкоба Датчи на роль старшины присяжных во время суда над Макклоски была выбрана не случайно?
— Что, если, что, если, — повторил он. — Все-таки любишь ты везде усматривать заговор, парень.
— Жизнь лишила меня невинности.
Майло усмехнулся и отрезал еще кусочек от своего антрекота.
— Так каким боком все это касается нашей леди в озере?
— Может быть, никаким. Но почему бы тебе не поспрашивать Макклоски? С учетом того, что мы теперь знаем, может, тебе удастся откупорить его. Может, его надо откупорить. Несмотря на все наши теории относительно сложных финансовых мотивов, случившееся с Джиной, возможно, сводится все-таки к простой мести. Макклоски лелеял свою злобу девятнадцать лет, а потом вернулся к прежнему стереотипу и нанял кого-то расправиться с ней.
— Не знаю, — задумчиво произнес Майло. — Я все-таки считаю, что в интеллектуальном отношении этот парень — почти нуль. И, судя по тому, что мне удалось узнать, он ни с кем не якшается — просто околачивается при миссии и играет роль раскаявшегося грешника.
— А что, если ключевое выражение здесь — «играет роль»? Ведь даже плохие актеры со временем могут стать лучше.
— Верно. Ладно, дам ему еще один шанс сознаться, так и быть. Сегодня же вечером. Все равно не могу начать копаться в финансах, пока закрыты банки.
Джойс подошла к нашему столику посмотреть, как идут дела. От наших комплиментов у нее на щеках выступил румянец. Хоть у кого-то день прошел удачно. Она угостила нас кофе и десертом за счет заведения. Майло подцепил на вилку шоколадное пирожное и сказал:
— Великолепно. Просто сказка. Никогда не ел ничего подобного.
Джойс вспыхнула от удовольствия, словно лампочка накаливания.
Когда она наконец ушла, он повернулся ко мне.
— Давай, твоя очередь.
Я назвал ему стоимость эстампа Кассатт.
— Две с половиной сотни кусков! Ничего себе подарочек — или одолжение — так это у вас принято называть?
Я кивнул.
— Это все дурно пахнет. И я, вероятно, не единственный, кто подозревает чету Гэбни в каких-то делах сомнительного свойства.
Я рассказал Майло то, что мне стало известно о Кэти Мориарти.
— Журналистка, а?
— Ведет журналистские расследования. По словам сестры, она просто обожала заговоры, всю жизнь посвятила погоне за ними. И она родом из Новой Англии — работала в Бостоне, в тех местах, где раньше подвизались супруги Гэбни. И поэтому я могу заподозрить, что ей стало известно о чем-то из их тамошнего прошлого и она приехала в Лос-Анджелес проверить свою версию или догадку. Выдала себя за больную агорафобией и присоединилась к группе пациентов, чтобы шпионить и собирать материал.
— Звучит правдоподобно, — сказал Майло, — только ведь у них лечение стоит чертову уйму денег. Кто оплачивает ее счета?
— Ее сестра сказала, что Кэти вечно просила у нее в долг.
— И та ей давала такие деньги?
— Я не знаю. Может, за ней кто-то стоял — какая-нибудь газета или издатель; она написала книгу. А сейчас от нее не было никаких известий больше месяца. Значит, пропали уже два из четырех членов группы. Хотя, что касается Кэти, сестра говорит, это для нее типично. Однако точно известно одно — агорафобией она не страдала. Наверняка она следила за четой Гэбни.
— Этим ты, по существу, обозначаешь финансовое мошенничество под номером два. Чета Гэбни обворовывает Джину точно так же, как это делают Энгер и адвокат.
— Под номером три, если считать Рэмпа с Никвистом.
— Подходите, господа, не стесняйтесь. Втыкайте вашу иглу в вену богатой леди.
— Сорок миллионов долларов, — заметил я, — это очень крупная вена. Даже тех двух миллионов было бы достаточно, чтобы шестеренки закрутились. Мне особенно импонируют супруги Гэбни — из-за истории с Кэти Мориарти. Их переезд из Бостона в Лос-Анджелес — такой шаг мог быть вынужденным, чтобы избежать скандала.
— Чтобы Гарвард мог избежать скандала.
Я кивнул, соглашаясь.
— Тем больше причин замести следы. Но Кэти Мориарти каким-то образом удалось напасть на след, и ока решила пойти по нему.
Майло отправил в рот еще кусочек пирожного, облизнул губы и сказал:
— Если я тебя правильно понял, у четы Гэбни довольно высокая профессиональная репутация.
— Она у них очень высокая. Любой психолог наверняка включит Лео Гэбни в список десяти лучших ныне здравствующих бихевиористов. И Урсула со своими двумя докторскими степенями может называть свою цену. Но даже у пользующегося успехом врача возможности зарабатывать имеют предел. Ты продаешь время, и в твоем распоряжении лишь столько-то часов, за которые ты можешь выставить счет, и не более того. Даже при таких расценках, как у них, потребовалась бы чертова прорва этих самых часов, чтобы заработать на картинку Кассатт. Кроме того, Лео поразил своей ожесточенностью. Когда мы познакомились, он рассказал мне, что у него сынишка погиб во время пожара. Эта рана у него явно так и не зажила. Он во всем винил то обстоятельство, что судья присудил оставить мальчика на попечении его жены. А заодно и всю судебную систему. Может, он дает выход своему гневу, когда бросает вызов этой системе.
— Преступление как способ отомстить. И себе пощекотать нервишки. Ну да, а почему бы и нет? А Урсула? У нее тоже зуб на кого-то или на что-то?
— Урсула — его протеже. По моим наблюдениям, она делает, что он ей скажет. Однако исчезновение Джины очень сильно ее потрясло, так что, возможно, из них двоих она — слабое звено. Я сегодня собирался поговорить с ней, но она умчалась, не оставив мне ни одного шанса.
— Протеже, говоришь? Но ведь эстамп в конце концов осел у нее в офисе.
— Возможно, эстамп был лишь верхушкой айсберга.
— Искусство — ей, деньги — обоим? Ведь на пару миллионов при таких ценах много искусства не купишь, верно?
— О том, сколько Джина получала ежемесячно, мы знаем лишь со слов Глена Энгера. Он мог запрограммировать свой компьютер таким образом, чтобы тот выдавал только то, что нужно ему.
— Но с какой стати Джина стала бы давать им деньги?
— Из благодарности, из-за зависимости от них — по тем же причинам, по которым члены секты отдают своему гуру все, что имеют.
— Она могла одолжить им эти деньги?
— Могла. Но она исчезла, и отпала необходимость возвращать долги, так?
Он нахмурился и отодвинул пирожное.
— Рэмп и Никвист, потом эти пай-мальчики в костюмах, а теперь еще и ее же психиатры, черт бы их подрал. Прямо какой-то конкурс подозреваемых. Бедняжка стала жертвой равных возможностей.
— Словно муравьи, ползающие по мертвому жуку, — сказал я.
Майло бросил салфетку на стол.
— Что ты еще знаешь об этой Мориарти?
— Только ее адрес. Это в Западном Голливуде. — Я вынул бумажку, которую дала мне Джэн Роббинс, и отдал ему.
— Смотри-ка, мы вроде как соседи — это кварталах в шести от меня. Может, я когда-нибудь стоял за ней в очереди в супермаркете.
— Не знал, что ты ходишь в супермаркет.
— Я говорю символически. — Он поднял свой кейс на колени, покопался в нем, вытащил блокнот и списал туда адрес.
— Можно заскочить туда по дороге, посмотреть, живет ли она еще там. Если нет, то с дальнейшей работой по этой линии придется подождать, пока я раскручиваю все предыдущее. Если есть время и желание поработать самому, то могу только приветствовать.
— А мне полагается новенький кейс частного сыщика?
— Купи себе сам, ловкий какой нашелся. Тут у нас свободное предпринимательство.
30
Я заплатил по счету, а Майло в это время болтал с Джойс, опять похвалил ее кухню, выразил сочувствие по поводу трудностей, с которыми приходится сталкиваться малому бизнесу, потом как-то незаметно перевел разговор на Кэти Мориарти, как будто эта тема логически вытекала из того, о чем только что говорилось. Новых фактов она не добавила, но смогла описать внешность журналистки: возраст где-то за тридцать пять, среднего роста и телосложения, волосы каштановые, короткая стрижка, на лице румянец («как и следует ожидать от ирландки»), светлые глаза — голубые или зеленые. Потом, словно спохватившись, что дала больше, чем получила, она скрестила руки на груди и спросила:
— А зачем вам все это знать?
Майло кивком головы пригласил ее следовать за собой и увел в глубину ресторанчика, хотя такая предосторожность была лишена всякого смысла — ведь мы были единственными посетителями ее заведения. Он показал ей свой недействительный значок Полицейского управления Лос-Анджелеса. Она открыла рот, но не издала ни звука.
Майло сказал:
— Я должен просить вас никому ничего не рассказывать. Это очень важно.
— Конечно. А что такое, что случилось?
— Не волнуйтесь, нет никакой опасности ни для вас, ни для кого бы то ни было. Мы просто ведем обычное расследование.
— По поводу этого места, этой клиники?
— Вас что-то беспокоит в связи с этой клиникой?
— Ну, как я уже говорила этому джентльмену, действительно ведь странно, что так мало народу входит и выходит. Невольно задумываешься: а что там происходит на самом деле? По нынешним временам приходится задумываться.
— Да, приходится.
Она вздрогнула, явно наслаждаясь своей причастностью к такому таинственному делу. Майло взял с нее еще одно обещание молчать. Мы вышли из ресторана и отправились обратно в Сассекс-Ноул.
— Думаешь, она способна сохранить тайну? — спросил я.
— Кто знает?
— Это не так уж важно?
Он пожал плечами.
— Что произойдет в худшем случае? Ну, до супругов Гэбни дойдет, что кто-то задает вопросы. Если у них все чисто, то этим дело и кончится. Если нет, то они могут с испугу сделать какой-то необдуманный ход.
— Например?
— Продать Кассатт, может даже, быстро получить какие-то деньги, и это будет для нас сигналом о том, что они наложили лапу на какое-то другое достояние Джины.
Джина. Он произносил ее имя с непринужденной фамильярностью, хотя и не был с ней знаком. С фамильярностью полицейского из отдела убийств. Я подумал о всех других людях, с которыми он вовсе не был знаком, но которых так хорошо знал…
— …Так как, идет? — спросил Майло.
— Что идет?
Он рассмеялся.
— Ты сам приводишь аргумент в пользу того, в чем я пытаюсь тебя убедить.
— Что же это?
— А то, что тебе надо отправиться домой и поспать.
— Со мной все в порядке. Ты что-то говорил.
— Что тебе надо отдохнуть, а завтра утром проверить квартиру Мориарти. Если это многоквартирный дом, поговори с домохозяином или управляющим, если найдешь их. И с кем-то из жильцов тоже.
— А предлог?
— Какой еще предлог?
— Ну, объяснение, почему я о ней расспрашиваю. Ведь у меня нет значка.
— Так купи. На Голливудском бульваре, в одном из магазинов, где продают театральные костюмы. Он будет таким же законным, как и мой.
— Ох, какие мы разобиженные, — сказал я.
Он лукаво усмехнулся.
— Значит, тебе нужен предлог? Пожалуйста. Скажи, что ты ее старый приятель, только что приехал с Восточного побережья, хочешь с ней повидаться ради старой дружбы. Или скажи, что ты кузен, что скоро грядет большой сбор семьи Мориарти, но, похоже, никто не может связаться с душечкой Кэти. Сочини что-нибудь. Ты встречался с ее сестрой, так что должен суметь соврать, чтобы это звучало складно.
— Нет ничего лучше щепотки обмана для остроты ощущений, а?
— Ну да, — ответил Майло. — На том и свет стоит.
* * *
Когда мы подъехали и остановились перед домом, из парадной двери вышел Ноэль Друкер; он нес большой синий чемодан с эмблемой дизайнера.
Он сообщил нам:
— Она наверху, у себя в комнате. Пишет.
— Что пишет?
— Я думаю, это касается тех типов, банкира и адвоката. Она зла по-настоящему, хочет подать на них в суд.
Майло показал на чемодан:
— Это для босса?
Ноэль кивнул.
— Известно, где он собирается жить?
— Наверно, поживет у нас, пока не найдет что-нибудь. Со мной и с мамой. Над «Кружкой». Это ведь его дом.
— Вы арендуете у него?
Он разрешает нам жить там бесплатно.
— Довольно благородно с его стороны.
Ноэль кивнул.
— В сущности, он очень неплохой человек. Жаль только, что… — Он махнул рукой. — Ну да ладно.
— Тебе, наверное, нелегко приходится, — сочувственно заметил я. — Между двух огней.
Он пожал плечами.
— Я считаю это практикой.
— Для международных отношений?
— Для реальной жизни в реальном мире.
Он сел в красную «селику» и уехал.
Майло следил за его стоп-сигналами, пока они не исчезли.
— Славный парнишка. — Он сказал это так, словно навесил ярлык на биологический вид, которому грозит уничтожение.
Шлепнув кейсом по ноге, он сверился со своим «таймексом».
— Девять тридцать. Надо сделать несколько звонков. Потом заскочу в миссию и попробую выжать что-нибудь из нашего мистера Слабая Голова.
— Если я не нужен Мелиссе, поеду с тобой.
Он нахмурился.
— Но тебе надо поспать.
— Не смогу — перевозбудился.
Он помолчал с минуту, потом сказал:
— Ладно. Он псих, так что твои специальные знания могут и пригодиться. Но потом сделай мне одолжение — поезжай домой и проспись. Хватит гонять на высокой передаче — двигатель выгорает.
— Хорошо, мамочка.
* * *
Мелисса была в комнате без окон. Она сидела за письменным столом, а перед ней были разложены какие-то бумаги.
Когда мы вошли, она всполошилась, резко вскочила, и несколько листов упали на пол.
— Стратегическое планирование, — сказала она. — Пытаюсь найти способ поймать этих подонков.
Майло поднял с пола бумаги, взглянул на них и положил на стол. Лицо его было непроницаемо.
— Что-нибудь получилось?
— Вроде бы. Я думаю, лучше всего будет проверить буквально все, что они делали с тех пор, как… с самого начала. То есть надо действительно заставить их открыть все книги и проверить каждую строчку, каждую цифру. Как минимум, это так их перепугает, что они откажутся от мысли ободрать меня, а я смогу сосредоточиться на том, как поймать их.
— Лучший способ защиты — нападение, — заметил я.
— Вот именно. — Она хлопком «склеила» ладони. Щеки ее порозовели, глаза блестели, но это был нездоровый блеск. Майло пристально рассматривал ее, но она этого не замечала. — У вас была возможность поговорить с кем-нибудь из адвокатов, доктор Делавэр?
— Еще нет.
— Ладно, но хорошо бы побыстрее. Пожалуйста.
— Можно попробовать прямо сейчас.
— Это было бы замечательно. Спасибо. — Она взяла со стола телефон и протянула мне.
Майло сказал:
— Неплохо бы попить чего-нибудь.
Мелисса посмотрела на него, потом на меня.
— Конечно. Пошли — добудем чего-нибудь на кухне.
* * *
Оставшись один, я набрал номер домашнего телефона Мэла Уорти в Брентвуде. Мне ответил автоответчик голосом его третьей жены. Я уже начал диктовать свое сообщение для него, но тут он сам снял трубку.
— Алекс. Я собирался звонить тебе, тут у меня намечается смачное дельце. Расходятся двое психологов, а у них трое очень испорченных детей. Моя клиентка — жена, и, похоже, мы будем иметь одну из самых жестоких схваток из-за опеки, какой ты в жизни больше не увидишь.
— Звучит увлекательно.
— Еще бы! Как у тебя со временем? Недель, скажем, через пять?
— У меня сейчас нет под рукой календаря, но при таком более чем заблаговременном уведомлении я не вижу никаких проблем.
— Прекрасно. Тебе понравится: эти двое — одни из самых потрясных психов, каких когда-либо доведется встретить. Как подумаю, что они копаются в головах других людей, то… Что у вас вообще за профессия?
— Давай поговорим о твоей профессии. Мне надо найти юриста.
— По каким делам?
— Наследство и налоги.
— Оформление документов или судебный процесс?
— Возможно, и то и другое. — Я вкратце описал ему ситуацию, в которой оказалась Мелисса, опустив имена, конкретные цифры и особые приметы.
Он сказал:
— Тогда это Сузи Лафамилья, если твой клиент не имеет ничего против женщины.
— Женщина вполне подойдет.
— Я говорю об этом только потому, что ты себе не представляешь, как много народу приходит со своими правилами — не годятся женщины, не годятся представители меньшинств. Они много теряют, потому что лучше Сузи никого нет. Она аудитор, плюс юридическая степень, работала на одну из крупных бухгалтерских фирм и доставала больше работы, чем любой другой партнер, пока ей не надоело, что ее каждый раз обходят предложением стать компаньоном из-за того, что она родилась не с теми гениталиями. Она возбудила против них иск, потом согласилась уладить дело полюбовно, без суда и на эти деньги получила юридическое образование, причем была лучшей в группе. Очень цепко и жестко ведет дело в суде. Получила известность, работая среди киношников — помогала взыскивать со студий причитающиеся им деньги. В ситуациях, где финансы настолько запутаны, что даже моих способностей не хватает, я обращаюсь к Сузи.
Я сказал:
— Похоже, это как раз то, что нужно моему клиенту.
Он дал мне номер.
— Сенчури-Сити-Ист — у нее целый этаж в одной из башен. Так я позвоню тебе насчет того дела. Тебе обязательно понравится эта парочка рычащих и огрызающихся душецелителей. — Он засмеялся.
Мы попрощались, и я повесил трубку.
* * *
Майло вернулся без Мелиссы, с банкой диетической кока-колы в руке.
— Она в ванной, — сообщил он. — Ее выворачивает.
— Что случилось?
— У нее просто кончился ресурс. Опять завела крутой разговор про то, как поймает этих мерзавцев. Я что-то сказал ей — и бах! — она вдруг заревела и стала давиться.
— Я видел, что ты смотрел на нее, как сыщик. Потом увел ее из комнаты, пока я звонил. Зачем?
Он явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— В чем дело? — настаивал я.
— Ладно, — сказал он. — У меня испорченные мозги. За это мне и платят. — Он нерешительно помолчал — Дело не в том, что я увел ее отсюда. Дело в том, что я хотел остаться с ней с глазу на глаз, посмотреть на нее поближе в твое отсутствие. Потому что ее поведение здесь сейчас мне не понравилось. Я стал думать, что в ходе нашего небольшого обмена информацией за обедом мы упустили из виду одну возможность. Очень неприятную возможность, но именно такие оказываются самыми важными.
— Мелисса? — Я почувствовал, как все внутри похолодело.
Он уже собирался отвернуться от меня, но передумал и посмотрел мне в лицо.
— Она — единственная наследница, Алекс. Сорок миллионов баксов. И она определенно готова за них драться, не дожидаясь даже, пока остынет тело.
— Никакого тела нет.
— Я говорю фигурально. Не проедай мне плешь.
— Это тебе только что пришло в голову?
Он покачал головой.
— Наверно, эта мысль дрейфовала где-то у меня в башке с самого начала. И все от того, что меня так учили если в деле замешаны деньги, ищи того, кто получает выгоду. Но я подавлял ее, гнал — может, просто не хотел об этом думать.
— Майло, она дерется, потому что переплавляет свое горе в гнев. Бросается в атаку, чтобы не быть раздавленной. Я научил ее этому, когда лечил. В моем представлении этот прием все еще неплохо ей помогает.
— Может быть, — сказал он. — Я только говорю, что в нормальной ситуации я бы обратил на нее внимание гораздо раньше.
— Шутить изволишь?
— Послушай, я ведь не говорил, что думаю, что это вероятно. Просто это то, что мы упустили из виду. Нет, даже не мы, а я. Ведь это меня специально учили гадко думать. Но я этого не сделал. Такого бы не случилось, если бы я работал официально.
— Но ты не работаешь официально, — сказал я, повысив голос. — Так что можешь пока отдохнуть от такого типа мышления.
— Эй, потише — вестника-то за что убивать?
— У нее не было возможности, — продолжал я. — Она была здесь, когда ее мать исчезла.
— Но у этого парнишки Друкера могла быть такая возможность — где был он в это время?
— Я не знаю.
Он кивнул, но я не увидел удовлетворения на его лице.
— По моим наблюдениям, она ему так нравится, что он готов есть грязь у нее из-под ногтей и говорить, что это черная икра. И он ухаживал за автомобилями. Он наверняка знал досконально, как работает «роллс». И его Джина уж точно подобрала бы на дороге. И ты сам говорил, что он действует на твои чувствительные датчики.
— Я не говорил, что ощущаю в нем что-то психопатическое.
— Ладно, хорошо.
— Боже милостивый! — Я почувствовал, что надвигается жуткая головная боль. — Нет, Майло, нет. Только не это.
— Я определенно не хочу так считать, Алекс. Девчушка мне нравится, и я все еще работаю на нее. Просто вид у нее сейчас был слишком… крутой, что ли. Она без конца повторяла, что доберется до этих подонков. На кухне я сказал ей: «Похоже, тебе не терпится начать» — только и всего. А она просто остановилась и сломалась. Мне стало дерьмово от того, что я с ней так обошелся, но в то же время и лучше, потому что она опять стала похожа на обычного ребенка. Прости, если я поступил антиврачебно.
— Нет, — сказал я, — если это было так близко к поверхности, то все равно выплеснулось бы рано или поздно.
— Да, — согласился Майло.
Никто из нас не высказал вслух того, о чем думал: если все это не притворство.
Почувствовав внезапно усталость, я опустился в кресло возле столика с телефоном. Бумажка с номером телефона Сузи Лафамилья была все еще зажата у меня в пальцах.
— Только что достал ей юриста. Это женщина, крепкая духом, с хорошими бойцовскими качествами, любит при случае лягнуть систему.
— Звучит неплохо.
— Это звучит как то, чем могла бы стать Мелисса, когда повзрослеет.
31
Мелисса вернулась в комнату с пятью стенами, и вид у нее был при этом далеко не повзрослевший. Ее плечи опустились, походка замедлилась; она промокала губы куском туалетной бумаги. Я дал ей номер телефона женщины-адвоката, и она поблагодарила меня очень тихим голосом.
— Если хочешь, я позвоню от твоего имени.
— Нет, спасибо. Я сама это сделаю. Завтра.
Я усадил ее за письменный стол. Она безучастно посмотрела в сторону Майло и слабо улыбнулась.
Майло улыбнулся в ответ и перевел глаза на свою банку с кока-колой. Я не мог решить, кого из них мне было жалко больше.
Мелисса вздохнула и оперлась подбородком на руку.
Я спросил:
— Ну, как ты, малышка?
— Даже не знаю, — ответила она. — Это все так… Я чувствую, как будто я просто… Как будто у меня нет… Я не знаю.
Я коснулся ее плеча.
Она сказала:
— Кого я дурю — насчет того, чтобы воевать с ними? Я ничего собой не представляю. Кто захочет меня слушать?
— Воевать — это будет делом твоего адвоката, — возразил я. — А твое дело сейчас — хорошенько позаботиться о себе.
После долгого молчания она отозвалась:
— Наверное.
Она опять замолчала на какое-то время, потом сказала:
— Я совсем одна.
— Вокруг очень много людей, которые любят тебя, Мелисса.
Майло разглядывал пол.
— Я совсем одна, — повторила она с каким-то пугающим удивлением. Как будто пробежала по лабиринту в рекордное время, а на выходе вдруг узнала, что он ведет к пропасти.
— Я устала, — вздохнула она. — Пожалуй, пойду посплю.
— Хочешь, я посижу с тобой?
— Я хочу спать с кем-нибудь. Не хочу оставаться одна.
Майло поставил банку на стол и вышел из комнаты.
Я остался возле Мелиссы, говорил ей что-то успокаивающее, но было похоже, что мои слова большого эффекта не имели.
Вернулся Майло, приведя с собой Мадлен. Она тяжело дышала и казалась взволнованной, но когда она дошла до Мелиссы, на ее лице осталось лишь выражение нежности. Она склонилась над девушкой и погладила ее по голове. Мелисса немного обмякла, словно оказавшись в чьих-то объятиях. Мадлен склонилась еще ниже к ней и прижала ее к груди.
— Я лягу с тобой, cherie. Вставай, идем.
* * *
В машине, когда мы отъехали от дома, Майло сказал:
— Ладно, я — мерзавец, который жестоко обращается с детьми.
— Так ты не думаешь, что ее срыв был притворством?
Он резко затормозил в конце дорожки и быстро повернулся ко мне.
— Какого черта, Алекс? Пырнул ножом — так еще и крутишь его в ране?
Его зубы обнажились в оскале. В свете прожектора над сосновыми воротами они казались желтыми.
— Нет, — ответил я и почувствовал, что он внушает мне страх впервые за все годы нашего знакомства. Почувствовал себя подозреваемым. — Нет, я серьезно. Могла она устроить такое представление?
— Ага, конечно. Теперь ты хочешь мне сказать, будто и сам думаешь, что она психопатка? — Он уже просто орал, колотя одной ручищей по баранке.
— Я вообще не знаю, что думать! — ответил я на той же примерно громкости. — А ты пуляешь в меня версиями с левой стороны поля!
— Я думал, что смысл именно в этом!
— Смысл в том, чтобы помочь!
Он выдвинул лицо вперед, как если бы это было оружие.
С минуту он бешено смотрел на меня, потом откинулся на спинку сиденья и запустил обе пятерни в волосы.
— Ну и дела! Ничего себе сценка получилась!
— Должно быть, от недосыпания, — пробормотал я, стараясь унять дрожь.
— Должно быть… Ты не передумал? Может, поедешь поспать?
— Черта с два!
Он засмеялся.
— Я тоже нет… Извини, что набросился на тебя.
— И ты извини. Давай считать, что ничего не было.
Он снова положил руки на баранку, и мы поехали дальше. Теперь он вел машину медленно, с исключительной осторожностью. Сбавлял скорость на каждом перекрестке, даже когда там не было знака «стоп». Внимательно смотрел в обе стороны и во все зеркала, хотя улицы были пусты.
Когда мы выехали на Кэткарт, он заговорил:
— Знаешь, Алекс, не подхожу я для частного сыска. Слишком он бесструктурен, слишком много размытых границ. Я старался убедить себя в том, что отличаюсь от других, но все это чушь собачья. Я простой полувоенный мужик, как и все другие в управлении. Мне нужен мир, организованный по принципу «мы против них».
— «Мы» — это кто?
— Синие[18] зануды. Мне нравится быть занудой.
Я подумал о том мире, с которым он сражался столько лет. Том самом, с которым он снова будет сражаться через каких-то несколько месяцев: причисляемый к ним другими полицейскими, независимо от того, сколько их он отправил за решетку.
Я сказал:
— Ты не сделал ничего непозволительного. Я среагировал от нутра — как ее хранитель. С твоей стороны было бы халатностью не рассматривать ее в качестве подозреваемой. Было бы халатностью не продолжать подозревать ее, если именно на нее указывают факты.
— Факты, — проворчал он. — Что-то не шибко много мы добыли этого добра…
Мне показалось, что он хотел сказать что-то еще, но тут появился пандус въезда на автодорогу, он закрыл рот и пришпорил «порше». Движение в сторону центра было небольшое, но создавало достаточно шума, чтобы заменить разговор.
Мы подъехали к «Миссии вечной надежды» вскоре после десяти и припарковались на полквартала дальше. Воздух был напоен запахами зреющих отбросов, сладкого вина и свежеуложенного асфальта, а поверх всего каким-то странным образом струился аромат цветов, приносимый, казалось, легким западным ветерком, словно более фешенебельные части города прислали сюда с воздушной почтой дуновение более ухоженных домов и садов.
Фасад здания миссии был залит искусственным светом. Этот свет в сочетании с лунным превратил цвет морской волны в льдисто-белый. Возле входа собралось с полдюжины оборванцев, которые слушали или притворялись, что слушают, двух мужчин в деловых костюмах.
Когда мы подошли ближе, я увидел, что обоим говорившим было за тридцать. Один был высокий, худой, светлые волосы его были коротко подстрижены и казались навощенными, а странно темные усы, загибавшиеся книзу под прямым углом по обеим сторонам рта, напоминали пушистые воротца для игры в крокет. На нем были очки в серебряной оправе, серый легкий костюм и темно-коричневые ботинки на молнии. Рукава пиджака были ему чуточку коротки. Из них торчали огромные запястья. В одной руке он держал блокнот, как две капли воды похожий на те, которыми пользовался Майло, и мягкую пачку сигарет «Уинстон».
Второй мужчина был низенький, коренастый, темноволосый, чисто выбритый. У него была прическа а-ля Риччи Валенс, узкие глаза и тонкие губы им под стать. Одет он был в синий блейзер и серые брюки. Говорил в основном он.
Оба стояли к нам в профиль и не видели нашего приближения.
Майло подошел к высокому и сказал:
— Брэд.
Тот повернулся и уставился на него. Некоторые из оборванцев последовали его примеру. Темноволосый замолчал, взглянул на своего напарника, потом на Майло. Бездомные, словно их отцепили с поводков, стали расползаться в разные стороны. Темноволосый сказал: «Вы куда, дачники?» — и те остановились, некоторые что-то бормотали. Темноволосый посмотрел на напарника, приподняв одну бровь.
Тот, кого Майло назвал Брэдом, втянул щеки и кивнул.
Второй распорядился: «Давайте сюда, любители свежего воздуха» — и согнал оборванцев в одну сторону.
Высокий наблюдал за ними, пока они не оказались за пределами слышимости, потом снова повернулся к Майло.
— Стерджис. Очень кстати.
— Что именно?
— Я слышал, ты сегодня здесь уже побывал. Значит, ты из тех, с кем я хочу побеседовать.
— Неужели?
Детектив взял сигареты в другую руку.
— Два посещения в один день — такая увлеченность работой. Что, платят почасовку?
Майло спросил:
— В чем дело?
— Откуда такой интерес к Макклоски?
— Я ведь уже объяснил, когда заходил отметиться пару дней назад.
— Прокрути-ка еще разок, для меня.
— Женщину, которую он сжег кислотой, все еще не нашли. Она правда исчезла. Ее семья все еще хотела бы знать, нет ли тут какой зацепки.
— Что значит «правда исчезла»?
Майло рассказал ему о находке у Моррисовской плотины.
Лицо светловолосого осталось бесстрастным, но рука крепче сжала пачку сигарет. Поняв это, он нахмурился и осмотрел пачку, расправляя целлофан, кончиками пальцев выправляя углы.
— Сожалею, — сказал он. — Семья, должно быть, в шоке.
— Да уж, праздновать им нечего.
Светловолосый криво усмехнулся.
— Ты уже дважды тряс его. Зачем он тебе нужен опять?
— Те два раза он был не очень разговорчив.
— И ты подумал, что в третий раз тебе удастся его разговорить.
— Что-то вроде того.
— Что-то вроде того. — Светловолосый посмотрел в сторону темноволосого, который все еще что-то втолковывал бродягам.
— Что все-таки происходит, Брэд?
— Что происходит? — повторил светловолосый, коснувшись оправы своих очков. — Происходит то, что жизнь, возможно, как раз усложнилась.
Он помолчал, изучающе глядя на Майло. Когда Майло ничего не сказал, светловолосый выудил из пачки сигарету, зажал ее в губах и дальше говорил, не выпуская ее изо рта.
— Похоже, придется работать вместе.
Он опять замолчал, ожидая реакции.
С расстояния около километра сюда доносился шум движения по шоссе. Где-то ближе к нам раздался звон бьющегося стекла. Темноволосый продолжал свои наставления бродягам. Слов я не разбирал, но тон у него был покровительственный. Бродяги, похоже, уже почти засыпали.
Светловолосый детектив сказал:
— Видимо, мистер Макклоски стал жертвой несчастного случая. — Он пристально посмотрел на Майло.
Майло спросил:
— Когда?
Детектив стал шарить у себя в кармане брюк, как будто там должен был находиться ответ. Вынул зажигалку одноразового использования и прикурил. Двухсекундная вспышка пламени бросила загадочный отсвет на его лицо. Кожа у него была шершавая и бугристая, по линии подбородка покрытая неровностями от бритья.
— Пару часов назад, — ответил он, — или около того. — Прищурившись сквозь стекла очков и дым, он посмотрел на меня так, будто мое присутствие при сообщении этой информации делало меня персоной, с которой надо было считаться.
— Это друг семьи, — сказал Майло.
Высокий детектив продолжал разглядывать меня, вдыхая и выдыхая дым, но при этом не вынимая сигарету изо рта. Похоже, он специализировался по стоицизму и окончил с отличием.
Майло представил нас друг другу:
— Доктор Делавэр, это детектив Брэдли Льюис из Центрального отдела по расследованию убийств. Детектив Льюис, это доктор Алекс Делавэр.
Льюис выпустил несколько колечек дыма и произнес:
— Доктор, значит?
— В сущности, семейный врач.
— Так-так.
Я постарался принять по возможности более докторский вид.
— Как это случилось, Брэд? — спросил Майло.
— Что, здесь действует какая-то премиальная система? Семья платит вестнику, приносящему ей добрые вести?
— Этим ей уже не помочь, но я точно знаю, что оплакивать они его не будут. — Он повторил свой вопрос.
Льюис подумал, прежде чем ответить, потом наконец сказал:
— В переулке, в нескольких кварталах на юго-восток отсюда. Индустриальный район между Сан-Педро и Аламедой. Автомобиль против пешехода. Автомобиль победил — нокаут в первом раунде.
— Если это ДТП, то что здесь делаете вы, ребята?
— Вот это ищейка, — притворно восхитился Льюис. — Эй, вам случайно не приходилось работать в полиции?
Усмешка.
Майло молча ждал.
Льюис сказал, продолжая курить:
— Дело в том, что автомобиль, по мнению техников, ничего не оставил на волю случая. Переехал его, потом дал задний ход и сделал это еще два раза как минимум, чтобы уж было наверняка. Речь идет о дорожной пицце со всей начинкой и приправами.
Он повернулся ко мне, вынул сигарету изо рта и вдруг сверкнул быстрой, хищной улыбкой.
— Семейный врач, значит? На вид вы вроде цивилизованный джентльмен, но вид иногда может быть обманчив, верно?
Я улыбнулся в ответ. Его улыбка стала еще шире, словно мы только что поделились потрясающей шуткой.
— Доктор, — продолжал он, прикурив вторую сигарету прямо от первой и растерев окурок первой по асфальту, — а вы, по какой-нибудь отдаленной случайности, не воспользовались ли своим «мерседесом», «БМВ» или что там у вас, чтобы из жалости избавить бедного мистера Макклоски от его страданий, а, сэр? Моментальное признание — и все могут расходиться по домам.
Продолжая улыбаться, я ответил:
— Мне жаль разочаровывать вас.
— Проклятье! — выругался Льюис. — Ненавижу детективные романы.
— Машина была немецкая? — спросил Майло.
Льюис ковырнул цемент пяткой ботинка и выпустил Дым через нос.
— Мы что, на встрече с представителями прессы?
— Есть причины не говорить мне, Брэд?
— Ты гражданское лицо — это раз.
Майло молчал.
— А может, даже и подозреваемый — это два.
— Ну, правильно. Что это за хреновина, Брэд, которую ты толкаешь?
Он уставился на Льюиса. Они были одного роста, но Майло был тяжелее Льюиса килограммов на двадцать. Льюис в свою очередь тоже уставился на него — с сигаретой в зубах, с каменным лицом — и оставил вопрос без ответа.
Майло почти шепотом произнес какое-то слово, что-то вроде «Гонзалес».
Взгляд Льюиса дрогнул. Сигарета у него в зубах нырнула и сразу же подпрыгнула вверх, когда зубы сжались.
Он сказал:
— Послушай, Стерджис, я не могу с этим в бирюльки играть. Как минимум, здесь есть столкновение интересов — и возможно, в конце концов придется прокатиться в Пасадену и поговорить об этом с семьей.
— Семья на данный момент — это восемнадцатилетняя девушка, которая только что узнала, что ее мать погибла, но не может даже похоронить ее, потому что тело находится на дне этого проклятого водохранилища. Шериф просто ждет, чтобы оно всплыло…
— Тем более…
— Когда это случится, вот ей будет весело, правда, Брэд? Опознавать всплывший труп? К тому же она последние несколько дней совершенно не выходила из дома, есть куча свидетелей, так что она точно не переезжала этот кусок дерьма и точно никого не нанимала для этого. Но если ты думаешь получить какую-то выгоду от того, что приедешь и по-настоящему доведешь ее, то не стесняйся. Действуй через их адвоката — его дядя был Даус, Хармон Молоток. Капитан Спейн всегда обожал инициативных парней.
Льюис затягивался сигаретой, пускал дым и рассматривал ее, словно это была какая-то удивительная, редкая вещица.
— Если все обстоит так, то можешь не сомневаться, что я там буду, — сказал он, но в его голосе не было уверенности.
— Валяй, Брэд, не стесняйся, — повторил Майло.
Темноволосый детектив закончил беседовать с бродягами и отпустил их взмахом руки. Некоторые из них вошли в здание миссии, другие побрели дальше по улице. Он подошел к нам, вытирая ладони о блейзер.
— Это наш знаменитый Майло Стерджис, — повторил Льюис между быстрыми затяжками.
Его напарник смотрел недоуменно.
Льюис продолжал:
— Чемпион в тяжелом весе Западного Лос-Анджелеса — дрался один раунд с Фриском, помнишь?
Еще одна секунда непонимания, потом внезапная догадка отразилась на лице коротышки. Мгновение спустя ее сменило отвращение. Взгляд пары жестких глаз переместился на меня.
— А это, — сказал Льюис, — семейный врач, то есть врач семьи, которую интересует наш труп. Может, он бы взглянул на твою коленку, Сэнди?
Его напарник не находил ситуацию забавной. Застегнув пиджак, он повернулся к Майло с таким видом, будто рассматривал всплывший труп утопленника.
Майло спросил:
— Вы Эспозито, верно? Раньше служили в Девоншире.
Вместо ответа Эспозито сказал:
— Вы приходили сюда раньше и разговаривали с покойным. О чем?
— Ни о чем. Он не захотел разговаривать.
— Мой вопрос не об этом. — Эспозито рубил слова. — Касательно чего конкретно вы имели намерение говорить с покойным?
Майло немного помолчал — то ли взвешивал свои слова, то ли разбирался в синтаксисе собеседника.
— Касательно его возможной причастности к смерти матери моей клиентки.
Эспозито, казалось, не слышал. Он умудрился отодвинуться от Майло, одновременно выставив голову вперед.
— Что вы можете сказать нам?
И Майло сказал:
— Ставлю десять против одного, что все сведется к какой-нибудь глупости. Опросите здешних постояльцев и определите последнего, кому Макклоски недоложил рагу на раздаче.
— Приберегите свои советы для себя. — Эспозито отодвинулся еще дальше. — Я имею в виду информацию.
— Как в детективном романе?
— Хотя бы.
— Боюсь, что здесь ничем не смогу вам помочь, — усмехнулся Майло.
Льюис сказал:
— Теория рагу здесь ни при чем, Стерджис. Здешние постояльцы обычно обходятся без автомобилей.
— Время от времени им перепадает поденная работа, — возразил Майло. — Развозка, доставка. А может, Макклоски встретил кого-то, кому не приглянулась его физиономия. Она у него была не ахти какая.
Льюис курил и ничего на это не ответил.
— Блеск, — сказал Эспозито и повернулся ко мне: — Вы можете добавить что-нибудь?
Я покачал головой.
— Ну, что тут скажешь? — развел руками Майло. — На этот раз вам достался детективный роман. Ничего не попишешь.
— И вы не можете сообщить ничего, что могло бы прояснить дело? — спросил Эспозито.
— Мне об этом известно не больше вашего, — ответил Майло. Он улыбнулся. — Ну, может, на самую малость больше, но я уверен, что упорной работой вы это быстро наверстаете.
С этими словами он двинулся мимо них, направляясь ко входу в миссию. Я хотел пойти за ним, но Льюис преградил мне дорогу.
— Остановись, Стерджис, — сказал он.
Майло обернулся. Наморщил лоб.
Льюис спросил:
— А теперь что тебе там нужно?
— Думал поговорить со священником, — ответил Майло. — Пора исповедаться.
— Правильно, — ухмыльнулся Эспозито. — У священника борода отрастет, пока он будет слушать.
Льюис засмеялся, но это прозвучало как-то принужденно.
— Может, сейчас не самое лучшее время для этого.
— Я что-то не вижу здесь никакого запрещающего знака, Брэд.
— Все равно сейчас не лучшее время.
Майло упер руки в бока.
— Ты хочешь сказать, что для меня доступ сюда ограничен, потому что покойник здесь когда-то проживал, а всякие бродяги и подонки могут входить и выходить беспрепятственно? Хармон-младший будет просто в восторге, Брэд. В следующий раз, когда они с шефом полиции будут играть в гольф, им будет о чем поговорить.
Льюис сказал:
— Сколько прошло, три месяца? А ты уже действуешь, как проклятый деляга.
— Чушь собачья, — ответил Майло. — Это ведь ты тут ставишь препоны, Брэд. Это ты вдруг ни с того ни с сего решил проявить бдительность.
— Никто нас не заставляет выслушивать эту чушь собачью, — процедил сквозь зубы Эспозито и расстегнул пиджак. Льюис придержал его, дымя словно паровоз. Потом бросил окурок на тротуар, посмотрел, как он тлеет, и отошел в сторону.
— Эй, — сказал Эспозито.
— А пошло все в задницу! — В голосе Льюиса была такая ярость, что Эспозито захлопнул рот. Льюис повернулся ко мне: — Валяйте. Двигайте.
Я двинулся вперед, а Майло рукой уже коснулся двери.
— Смотри, не напорть там, — предостерег Льюис. — И не перебегай нам дорогу. Я не шучу. И мне наплевать, сколько там за тобой этих чертовых адвокатов, слышишь?
Майло толкнул дверь, и мы вошли. До того как дверь закрылась за нами, я услышал, как Эспозито выругался.
И засмеялся — через силу, со злобой.
* * *
В большой комнате цвета морской волны работал телевизор. На экране мелькало что-то вроде полицейского боевика, и пар сорок полузакрытых глаз следило за фантастическими перипетиями.
— Торазин-сити, — сказал Майло фреоново-холодным голосом. — Гнев как лечебное средство…
Мы дошли до середины комнаты, когда из-за угла коридора появился отец Тим Эндрус, везущий бачок с кофе на алюминиевой тележке. Упакованные в полиэтилен стопки пластиковых стаканчиков заполняли нижнюю полку тележки. Его пасторская рубашка грязно-оливкового цвета была надета поверх выцветших джинсов, добела протертых на коленях. Обут он был в те же самые, что и в первый раз, белые кеды; один шнурок развязался.
Он нахмурился, остановился, резко повернул, чтобы избежать встречи с нами, и покатил тележку между рядами сидевших в расслабленных позах мужчин. Разболтанные колеса тележки все время заедало. Двигаясь рывками и зигзагами, Эндрус оказался наконец у телевизора. Низко наклонившись, он что-то прошептал одному из сидевших — молодому белокожему парню с безумными глазами в слишком тесной для него одежде, придававшей ему вид сильно выросшего мальчишки-беспризорника. Он действительно был очень молод — ему никак не могло быть больше двадцати лет; в нем еще просматривалась младенческая пухлость, а линия подбородка под скудной растительностью оставалась мягкой. Но впечатление детской невинности портили свалявшиеся волосы и покрытая болячками кожа.
Священник разговаривал с ним медленно и с исключительным терпением. Юноша выслушал его, потом медленно поднялся и стал дрожащими пальцами разворачивать стопку стаканчиков. Наполнив стаканчик из крана бачка, он хотел поднести его к губам. Эндрус прикоснулся к его запястью, и юноша остановился в растерянности.
Эндрус улыбнулся, опять что-то сказал и направил руку юноши так, что стаканчик оказался протянутым одному из сидящих людей. Тот человек взялся за стаканчик, и юноша с изумленным видом отпустил его. Эндрус сказал что-то и дал ему еще один стаканчик, в который он стал наливать кофе. Несколько человек встали со своих мест, и перед бачком образовалась небольшая очередь.
Священник жестом подозвал сидевшего в первом ряду худого мужчину, цвет кожи которого напоминал фотопленку. Мужчина встал и подошел прихрамывая. Он и юноша встали бок о бок, не глядя друг на друга. Эндрус улыбнулся и проинструктировал их, что надо делать, чтобы получился конвейер из двух человек. Показывая и ободряя похвалой, он добился определенного ритма наполнения и раздачи стаканчиков, так что очередь с шарканьем начала двигаться вперед. Тогда он подошел к нам.
— Пожалуйста, уйдите, — проговорил он. — Я ничем не могу быть вам полезен.
— Только несколько вопросов, прошу вас, отец Эндрус, — сказал Майло.
— Сожалею, мистер… не помню вашей фамилии, но я абсолютно ничем не могу быть вам полезен, и вы меня очень обяжете, если уйдете.
— Моя фамилия Стерджис, и вы ее не забывали, потому что я вам ее не сообщал.
— Верно, — кивнул священник, — вы не сообщали. Зато это сделала полиция. Совсем недавно. Полиция сообщила мне также и то, что вы — не полицейский.
— А я и не говорил, что я полицейский, святой отец.
Уши отца Эндруса покраснели. Он щипнул себя за редкие усы.
— Действительно, не говорили, но намекали на это. Я имею дело с обманом целый день, мистер Стерджис, — это часть моей работы. Но это не значит, что он мне нравится.
— Простите, — сказал Майло, — я…
— Извиняться не обязательно, мистер Стерджис. Вы можете выразить свое раскаяние тем, что уйдете и позволите мне вернуться к заботам об этих людях.
— Что-нибудь изменилось бы, святой отец, если бы я сказан вам, что я полицейский, временно находящийся в отпуске?
Худое лицо священника выразило удивление.
— А что сказали вам они, святой отец? — спросил Майло. — Что меня выгнали из полиции? Что я какой-нибудь закоренелый грешник?
Бледное лицо отца Эндруса покраснело от гнева.
— Я… я на самом деле не вижу смысла в том, чтобы углубляться в… посторонние вопросы, мистер Стерджис. Главное уже ясно — я ничем не могу вам помочь. Джоэль мертв.
— Я это знаю, отец Эндрус.
— А вместе с ним и интерес, который могла представлять для вас миссия.
— У вас есть какие-нибудь соображения о том, кто виновен в его смерти?
— А вас это волнует, мистер Стерджис?
— Ничуть. Но если это поможет мне понять, почему умерла миссис Рэмп…
— А разве она… О-о… — Эндрус закрыл глаза и быстро открыл их. — О Господи. — Он вздохнул и приложил руки ко лбу. — Я не знал. Очень сожалею.
Майло рассказал ему о Моррисовской плотине. Это был более пространный и более смягченный вариант того, что услышал от него Льюис.
Эндрус покачал головой и перекрестился.
— Отец Эндрус, — сказал Майло, — когда Джоэль был жив, не говорил ли он чего-нибудь такого, что указывало бы на возобновление его контактов с миссис Рэмп или с кем-то еще из членов ее семьи?
— Нет, абсолютно ничего. Простите, но я больше не могу продолжать этот разговор, мистер Стерджис. — Священник взглянул в сторону очереди за кофе. — Но даже если бы он и говорил что-то, вся эта информация являлась бы конфиденциальной. Это вопрос теологический, и факт его смерти ничего не меняет.
— Разумеется, нет, святой отец. Я пришел сюда поговорить с ним еще раз единственно по той причине, что дочь миссис Рэмп очень трудно переживает свою потерю. Она ведь еще совсем ребенок, отец Эндрус. А теперь полностью осиротела. И ей надо привыкать к тому, что у нее никого нет. Я понимаю, что этого не в силах изменить никакие ваши слова или поступки, но любой свет, который вы могли бы пролить на то, что случилось с ее матерью, помог бы ей как-то снова склеить свою жизнь. По крайней мере, так говорит ее лечащий врач.
— Да, — сказал Эндрус. — Это понятно… Бедная девочка. — Он с минуту подумал. — Но нет, это не сможет ей помочь.
— Что не сможет помочь, святой отец?
— Ничего — ничего из того, что мне известно, мистер Стерджис. Я хочу сказать, что ничего не знаю — Джоэль никогда не говорил мне ничего такого, что облегчило бы страдания бедной девочки. Но даже если бы и сказал, то я не мог бы передать это вам, так что, может, и к лучшему, что он мне ничего не говорил. Сожалею, но таковы обстоятельства.
— Угу, — хмыкнул Майло.
Эндрус покачал головой и приложил ко лбу костяшки пальцев сжатой в кулак руки.
— Не очень вразумительно, верно? Сегодня был длинный день, а я всегда теряю связность мысли к концу длинных дней. — Он снова посмотрел в сторону бачка с кофе. — Не отказался бы сейчас выпить этой отравы — мы кладем туда много цикория, но на кофеине не экономим. Это помогает людям в смысле детоксикации. Если хотите, могу и вас угостить.
— Нет, спасибо, святой отец. Я займу буквально одну секунду вашего времени. Относительно Джоэля. Есть какие-нибудь предположения о том, кто мог это сделать?
— Кажется, полиция думает, что это просто одно из тех событий, что постоянно случаются на самом дне жизни.
— А вы с этим согласны?
— По-видимому, причин не соглашаться нет. Я видел столько всего бессмысленного, необъяснимого…
— В смерти Макклоски есть что-то необъяснимое? Непонятное?
— Да нет. Пожалуй, ничего. — Снова взгляд в сторону бачка с кофе.
— Чем можно объяснить, что Макклоски оказался в том месте, где его переехала машина, святой отец?
Эндрус покачал головой.
— Я не знаю. Никакого поручения от миссии у него там не было — я уже это говорил полиции. Люди действительно совершают пешие прогулки, причем на удивительно большие для своих физических возможностей расстояния. Создается такое впечатление, будто пребывание в движении напоминает им, что они все еще живы. Иллюзия цели — даже если им некуда идти.
— Когда мы приходили сюда в первый раз, у меня сложилось впечатление, что Джоэль редко уходил из миссии.
— Это так.
— Так что он не относился к числу ваших любителей прогулок.
— Нет. Пожалуй, нет.
— А до этого он совершал прогулки, о которых вы знали?
— Нет. Пожалуй, нет… — Эндрус замолчал; уши его пылали.
— В чем дело, святой отец?
— То, что я скажу, может показаться очень неприятным, очень предвзятым, но когда я узнал о случившемся, то сразу вообразил, что кто-то из членов семьи — семьи миссис Рэмп — в конце концов решился на месть. Как-то выманил его из миссии и устроил засаду.
— Почему вы так вообразили, святой отец?
— Ну, у семьи определенно есть причина. А то, что это было совершено с помощью автомобиля, представилось мне как… свойственный среднему классу опрятный способ исполнения задуманного. Нет необходимости близко подходить. Ощущать его запах или прикасаться к нему.
Священник опять отвел взгляд в сторону и кверху. Туда, где было распятие.
— Ужасные мысли, мистер Стерджис. Гордиться тут нечем. Я был вне себя — столько вложить в него, а теперь… Потом я понял, что так может думать лишь себялюбец, жестокий и эгоистичный человек. Дурно подозревать ни в чем не повинных людей, которые и так уже хлебнули горя и страдания. У меня нет такого права. Теперь, когда вы мне сказали о миссис Рэмп, я чувствую себя еще большим…
Он покачал головой.
Майло спросил:
— Вы поделились своими подозрениями с детективами?
— Это было не подозрение, просто мелькнувшая… мысль. Недобрая мысль, пришедшая в момент шока, когда я услышал о случившемся. Нет, я не поделился ею с полицейскими. Но они сами заговорили об этом — спросили меня, не заходил ли кто-нибудь из членов семьи миссис Рэмп. Я сказал им, что заходили только вы.
— Как они отреагировали, когда вы сказали им, что я был здесь?
— У меня не сложилось впечатления, что они восприняли это всерьез — что вообще собирались серьезно этим заниматься. Было похоже, что они действуют наобум — как получится. Мне показалось, что они не предполагают потратить много времени на расследование этого дела.
— Почему?
— По их манере. Я к такому привык. Смерть — частая гостья в здешних краях, но крайне редко даст интервью для шестичасовых новостей. — Его лицо помрачнело. — Ну вот, опять пустился в рассуждения, а еще столько работы не сделано. Вы должны меня извинить, мистер Стерджис.
— Конечно, отец Эндрус. Спасибо, что уделили мне время. Но если вы что-то вспомните, любую мелочь, которая поможет этой девчушке, дайте мне знать, очень вас прошу.
У Майло в руке каким-то образом оказалась визитная карточка, которую он протянул священнику. Прежде чем тот успел ее сунуть в карман своих джинсов, я мельком взглянул на нее. Имя и фамилия Майло строгим черным шрифтом; под ними — слово «расследования». В нижнем правом углу — домашний телефон и код вызова.
Майло еще раз поблагодарил Эндруса. Священник казался расстроенным.
— Пожалуйста, не рассчитывайте на меня, мистер Стерджис. Я сказал вам все, что мог.
* * *
Когда мы возвращались к машине, я заметил:
— «Я сказал вам все, что могу», а не «все, что знаю». Держу пари, Макклоски излил ему душу — либо в виде официальной исповеди, либо на чем-то вроде консультации. Но ни в том, ни в другом случае ты этого никогда из него не вытянешь.
— Знаю, — ответил Майло. — Я когда-то тоже советовался со своим священником.
Мы прошли остаток пути до машины в молчании. На обратном пути в Сан-Лабрадор я спросил Майло:
— Кто такой Гонзалес?
— А?
— Ты сказал о нем Льюису. Мне показалось, это произвело на него впечатление.
— Ах это, — сказал он, хмурясь. — Давняя история. Гонсалвес. Льюис работал в Западном Лос-Анджелесе — он тогда носил еще форму. Мальчик с высшим образованием, со склонностью считать себя умней других. Гонсалвес — это дело, которое он запорол. Случай бытового насилия, к которому он отнесся с недостаточной серьезностью. Жена настаивала, чтобы мужа заперли, но Льюис решил, что степень бакалавра, причем по психологии, поможет ему решить проблему и без этого. Провел с ним душеспасительную беседу и ушел, довольный собой. А через час после его ухода муж порезал жену опасной бритвой. Льюис был тогда совсем мягкотелый — никакой позиции. Я мог бы погубить его, но предпочел смягчить краски в письменных рапортах и много говорил с ним, чтобы поддержать в это трудное время. Потом он стал жестче, осторожнее в поступках, больше не портачил — во всяком случае, заметно. Несколько лет назад стал детективом и перевелся в Центральный.
— Не похоже, чтобы он испытывал большую благодарность.
— Да. — Он крепче сжал баранку. — Выветриваются даже горы.
Немного погодя он продолжал:
— Когда я первый раз позвонил ему — позондировать почву относительно Макклоски и миссии, — он был холоден, но вежлив. Принимая во внимание историю с Фриском, на лучшее рассчитывать я и не могу. А сегодня это был любительский спектакль — он играл его из-за того занудного засранца, в паре с которым работает.
— Мы и они, — сказал я.
Он не ответил. Я пожалел, что напомнил об этом. Чтобы разрядить напряженность, я переменил тему.
— Клевые у тебя визитки. Когда успел обзавестись?
— Пару дней назад — моментальная печать на Ла-Сьенега, при выезде на шоссе. Купил коробку — пятьсот штук — по оптовой цене. Вот и толкуй о разумных капиталовложениях.
— Дай-ка посмотреть.
— Зачем это?
— Сувенир на память — не исключено, что она станет коллекционной вещью.
Он скорчил гримасу, полез в карман пиджака и извлек одну карточку.
Я взял ее, щелкнул тонкой, упругой бумагой и сказал:
— Класс.
— Мне нравится веленевая бумага, — откликнулся Майло. — Годится вместо зубочистки.
— Или вместо книжной закладки.
— Я знаю кое-что даже более конструктивное. Из них можно строить домики. А потом дуть на них и ломать.
32
У дома в Сассекс-Ноул он затормозил рядом с «севилем».
— Что у тебя дальше по программе?
— Сон, плотный завтрак, потом — финансовые подонки. — Майло поставил «порше» на нейтралку и газанул.
— А что насчет Макклоски?
— Не собираюсь идти на похороны.
Он опять газанул. Побарабанил по баранке.
Я спросил:
— Какие соображения насчет того, кто и за что его убил?
— Ты все их слышал, когда мы были в миссии.
— Ладно, — сказал я.
— Ладно. — Он уехал.
* * *
Мой дом показался мне миниатюрным и приветливым. Таймер отключил освещение пруда, и в темноте нельзя было увидеть, как поживает моя икра. Я взобрался наверх, проспал десять часов и проснулся в понедельник, думая о Джине Рэмп и Джоэле Макклоски, которые вновь оказались связанными друг с другом болью и ужасом.
Была ли связь между водохранилищем и тем, что случилось в грязном закоулке, или же Макклоски просто настигла судьба, уготованная всем человеческим отбросам?
Убийство с использованием автомобиля. Я невольно стал думать о Ноэле Друкере. Он имел доступ к большому числу машин и достаточно свободного времени — «Кружка» была закрыта на неопределенный срок. Были ли его чувства к Мелиссе достаточно сильны, чтобы настолько сбить с прямой дорожки? И если да, то чья была инициатива — его или Мелиссы?
А Мелисса? Мне делалось дурно при мысли, что она может быть вовсе не той беззащитной сиротой, портрет которой Майло изобразил перед детективами. Но ведь я сам видел, каков ее нрав в действии. Сам наблюдал, как она трансформировала свое горе в мстительные фантазии, направленные против Энгера и Дауса.
Я вспомнил картину: она и Ноэль лежат обнявшись на ее кровати. Что, если план сведения счетов с Макклоски родился у них в один из таких моментов?
Я переключился на другой канал.
Рэмп. Если он не был виновен в исчезновении Джины, то, может быть, отомстил за него.
У него была масса причин ненавидеть Макклоски. Сидел ли он сам за рулем машины смерти или кого-то нанял? Такая идеальная справедливость должна была бы ему импонировать.
Тодд Никвист отлично подошел бы для этого дела — кому придет в голову связать серфингиста, подвизающегося на западе, со смертью сумасшедшего бродяги в центре города?
А может, эту машину вел Ноэль, но по поручению Рэмпа, а не Мелиссы.
Или это не был ни один из них.
Я сел на край кровати.
Перед глазами всплыл образ.
Шрамы, покрывающие лицо Джины.
Я подумал о той тюрьме, в которую отправил ее Макклоски на пожизненный срок.
Зачем я трачу время, ломая голову над причиной его смерти? Его жизнь была классическим образцом гнусности. Кто будет жалеть о нем, кроме отца Эндруса? Да и чувства священника, по всей вероятности, вытекают скорее из теологической абстракции, чем из человеческой привязанности.
Майло был прав, отмахнувшись от всего этого.
А я тут играю в умственные игры, вместо того чтобы делать что-то полезное.
Я встал, потянулся и вслух произнес:
— Туда ему и дорога.
Потом, одевшись в брюки цвета хаки, рубашку с галстуком и легкий твидовый пиджак, я поехал в Западный Голливуд.
* * *
Адрес на Хиллдейл-авеню, который мне дала сестра Кэти Мориарти, находился между бульварами Санта-Моника и Сансет. Дом оказался непривлекательного вида коробкой цвета старых газет, которая почти по самую крышу пряталась за неухоженной, разросшейся миртовой изгородью. Плоская крыша была выложена выкрашенной в черный цвет испанской черепицей. Краска была тускло-черная; похоже, что работу делал дилетант — кое-где из-под черного проглядывала терракота, оттенок которой напоминал плохо прокрашенный коричневый ботинок.
Миртовая изгородь кончалась у короткой, приходящей в негодность подъездной дорожки — было видно, как асфальт борется с сорной травой на том небольшом, меньше метра, участке, который оставил незанятым старый желтый «олдсмобиль», весь закапанный птичьим пометом. Я припарковался на противоположной стороне улицы и пересек сухую, подстриженную лужайку, спекшуюся тверже асфальта. Ко входной двери вели три цементные ступени. Три металлические таблички с черными буквами адресов были прибиты слева от серой деревянной двери. Ручка дверного звонка была заклеена куском скотча, потемневшего в тон общей цветовой гамме дома. Каталожная карточка с написанным на ней красной шариковой ручкой словом «СТУЧИТЕ» была подсунута под рамку звонка. Я сделал так, как было сказано, и был вознагражден много секунд спустя звуками сонного мужского голоса, который произнес:
— Сейчас иду!
Потом из-за серой двери послышалось:
— Да?
— Меня зовут Алекс Делавэр, и я ищу Кэти Мориарти.
— А в чем дело?
Я подумал о предложенных Майло легендах, почувствовал отсутствие всякого желания воспользоваться ими и решил остановиться на том, что формально являлось правдой.
— Ее родственники давно не имеют о ней известий.
— Родственники?
— Сестра и муж сестры. Мистер и миссис Роббинс. Живут в Пасадене.
Дверь открылась. Молодой человек с зажатым в правой руке пучком кистей окинул меня взглядом, в котором не было ни удивления, ни подозрительности. Это был просто взгляд художника, оценивающий перспективу.
На вид ему еще не было тридцати, он был высок, крепкого сложения; его темные волосы были зачесаны назад и связаны в «лошадиный хвост» около тридцати сантиметров длиной, который свисал на его левую ключицу. У него было крупное лицо с несколько расплывчатыми чертами, низкий плоский лоб и выступающие надбровные дуги. Он был похож на обезьяну — скорее гориллу, чем шимпанзе; это впечатление еще больше усиливалось от черных, сросшихся над переносицей бровей и черной щетины, которая покрывала его щеки, шею и сливалась с волосами, росшими на груди. На нем была черная синтетическая майка с помидорно-красной эмблемой компании, производящей скейтборды, мешковатые, цветастые в оранжево-зеленых тонах шорты до колен и резиновые пляжные сандалии. Его руки до локтей были покрыты темными курчавыми волосами. Дальше кожа была безволосая, белая, и под ней угадывались мышцы, которые можно было бы легко накачать, но сейчас они выглядели дряблыми, нетренированными. Высохший мазок небесно-голубой краски украшал один бицепс.
— Извините за беспокойство, — сказал я.
Он взглянул на свои кисти, потом опять на меня.
Я вынул свой бумажник, нашел там взятую накануне у Майло визитку и подал ему.
Он внимательно изучил ее, улыбнулся, так же внимательно посмотрел на меня и вернул визитку.
— Мне кажется, вы говорили, что вас зовут Дела… как-то так.
— Стерджис возглавляет дело. Я работаю с ним.
— Оперативник, — усмехнулся он. — Но не похожи — во всяком случае, на тех, которых показывают по ТВ. Но в этом, наверно, как раз и состоит весь смысл, а? Очень неразговорчивый.
Я улыбнулся.
Он еще немного поизучал меня.
— Адвокат, — сказал он наконец. — Со стороны защиты, не обвинения — или, может быть, какой-то профессор. Вот так я вас себе представляю, Марлоу[19].
— Вы работаете в кино? — спросил я.
— Нет. — Он засмеялся и прикоснулся кистью к губам. Опустив ее, продолжал: — Хотя, наверное, да. Вообще-то я писатель. — Он опять засмеялся. — Как и все в этом городе, верно? Но не сценарист — упаси Боже от сценариев.
Его смех стал тоном выше и длился дольше.
— А вам приходилось писать сценарии?
— Нет, не приходилось.
— Ничего, у вас все еще впереди. Здесь у всех есть какой-нибудь потрясающий сценарий — кроме меня. То, чем я зарабатываю на жизнь, называется графикой. Пульверизаторный фотореализм, чтобы продавать товары. То, что я делаю для забавы, называется искусством. Неряшливая свобода. — Он помахал кистями. — А то, что я делаю, чтобы оставаться в здравом уме, называется писательством — короткие рассказы, постмодернистские эссе. Парочка была опубликована в «Ридерс» и «Уикли». Навеянная настроением городская беллетристика — о том, какие чувства пробуждают в людях музыка, деньги и вся лос-анджелесская жизнь. О том, какие неожиданные стороны Лос-Анджелес высвечивает в людях.
— Как интересно, — сказал я, но это прозвучало не вполне убедительно.
— Ну да, — весело парировал он, — как будто вам не один черт. Вы ведь просто хотите сделать свое дело и поскорее вернуться домой, верно?
— Человеку нельзя без хобби.
— Да-да, — согласился он, переложил кисти в левую руку, правую протянул мне и представился: — Ричард Скидмор.
Мы обменялись рукопожатием, он отступил назад и пригласил:
— Проходите.
Изнутри дом оказался типичным сооружением довоенной постройки. Тесные, темные комнаты, где пахло растворимым кофе, готовой пищей, марихуаной и скипидаром. Стены с рельефной отделкой, закругленные арки, жестяные настенные светильники, ни в одном из которых не было лампочек. Кирпичная полка над камином, набитым брикетами «Престо», с которых еще не были сняты обертки. Купленная по случаю мебель, в том числе несколько предметов садовой мебели из пластмассы и алюминиевых трубок, была беспорядочно расставлена на истертых деревянных полах. Искусство и все его спутники — причудливой формы холсты в разных стадиях готовности, баночки и тюбики краски, отмокающие в кувшинчиках кисти — были повсюду, за исключением стен. Заляпанный красками мольберт стоял посреди гостиной в окружении куч скомканной бумаги, сломанных карандашей и огрызков угля. Чертежный стол и стул с регулируемым сиденьем располагались там, где, судя по всему, должен был находиться стол обеденный. Там же стоял компрессор с подсоединенным к нему пульверизатором для распыления красок.
На стенах не было никаких украшений, если не считать единственного листа чертежной бумаги, пришпиленного над каминной полкой. В центре каллиграфическими буквами на нем было написано:
День Саранчи
Сумерки Червей
Ночь Живого Ужаса
— Мой роман, — сказал Скидмор, — это одновременно и название, и начальная строка Остальное состоится, когда опять наступит фаза усидчивости — у меня с этим всегда были проблемы.
Я спросил:
— С Кэти Мориарти вы познакомились благодаря вашему писательству?
— Работа, дело прежде всего, а, Марлоу? Сколько же вам платит ваш босс за такую добросовестность?
— Это зависит от характера дела.
— Отлично, — усмехнулся он. — Уклончивый ответ. Знаете, то, что вы вот так просто зашли, действительно здорово. Именно поэтому я и люблю просыпаться утром в Лос-Анджелесе. Никогда не знаешь заранее, какой еще южнокалифорнийский типаж постучится в дверь.
Еще один оценивающий взгляд. Я начал чувствовать себя натюрмортом.
— Пожалуй, я вас использую в своей следующей вещи, — сказал он, проводя в воздухе воображаемую линию. — «Частный сыщик: вещи, которые видит он, — вещи, которые видят его».
Он собрал с шезлонга лежавшие там несколько холстов, покрытых абстрактными кляксами, и бесцеремонно бросил их на пол.
— Садитесь.
Я опустился в шезлонг, а он уселся на деревянную табуретку, стоявшую точно напротив меня.
— Это здорово, — повторил он. — Спасибо, что заглянули.
— Кэти Мориарти живет здесь?
— Ее квартира позади дома. Гаражная пристройка.
— А кто домовладелец?
— Я, — с гордостью произнес он. — Дом достался мне по наследству от деда. Он был гомик — вот почему дом в Городе Мальчиков. Вышел из уединения через двадцать лет после смерти бабушки, и я был единственным родственником, который от него не отвернулся. Так что, когда он умер, все досталось мне — дом, то, что называется машиной, сотня акций Ай-би-эм. Искусство сделки, верно?
— Миссис Роббинс говорит, что не видела Кэти больше месяца. Когда вы видели ее в последний раз?
— Странно, — сказал он.
— Что именно?
— Что ее сестра наняла кого-то искать ее. Они с ней не ладили — по крайней мере, с точки зрения Кэти.
— Почему же?
— Столкновение культур, без сомнения. Кэти называла сестру пасаденской занудой. Из тех, которые говорят «мочеиспускание» и «дефекация».
— В противоположность самой Кэти.
— Именно.
Я снова спросил его, когда он ее видел последний раз.
Он ответил:
— Тогда же, когда и миссис Зануда, — около месяца назад.
— Когда в последний раз она платила за квартиру?
— Квартира ей стоит сотню в месяц — смешно, правда? Я как-то не смог полностью войти в роль домовладельца.
— Когда в последний раз Кэти платила эту сотню?
— В самом начале.
— В самом начале чего?
— Нашего знакомства. Она была просто счастлива, что нашла такое дешевое жилье, ведь в квартплату входит и стоимость всех удобств, потому что все счетчики остались общими, и не хотелось затевать возню с переделкой, так что Кэти решила сразу заплатить за десять месяцев. Таким образом, у нее за квартиру заплачено по декабрь включительно.
— Десять месяцев. Она живет здесь с февраля?
— Да, наверное, так. Это было сразу после новогодних праздников. В гаражных апартаментах я устроил вечеринку — для художников, писателей, великих правщиков. Когда потом убирался, то решил одну квартиру сдать, а другую использовать как кладовку, чтобы не было искушения закатить еще один праздник на следующий год и выслушивать весь этот бред.
— Кэти тоже была приглашена?
— Каким образом это могло быть?
— Она ведь тоже пишет.
— Нет, я с ней познакомился уже после вечеринки.
— И как именно?
— Объявление в газете. Она пришла первой и понравилась мне. Деловая, никакого притворства — настоящая, серьезная сапфистка.
— Сапфистка?
— Ну да. Как на Лесбосе.
— Она лесбиянка?
— Точно. — Он широко улыбнулся и поцокал языком. — Похоже, сестренка Зануда не очень тщательно вас информировала.
— Похоже.
— Я же сказал — столкновение культур. Пусть это вас не шокирует, Марлоу, — вы сейчас находитесь в Западном Голливуде. Здесь все либо голубые, либо старые, либо и то и другое Или такие, как я. Я соблюдаю целомудрие, пока мне не встретится нечто моногамное, гетеросексуальное и важное для меня. — Он дернул себя за «хвост». — Вы на это не смотрите — я на самом деле правый. Два года назад у меня было двадцать шесть рубашек с застежкой донизу и четыре пары дешевых мокасин. Это, — он еще раз потянул себя за «хвост», — было сделано ради того, чтобы соседям спокойнее жилось, я уже тащу вниз стоимость земельных участков — шанс, что нас не снесут бульдозерами под очередную прибыльную застройку.
— У Кэти есть, подруга?
— Лично я не видел и сказал бы, что скорее всего нет.
— Почему вы так считаете?
— Ее персона проецируется как сугубо нелюбимая. Как если бы она только что прошла через что-то очень болезненное и не хочет опять жонглировать бритвенными лезвиями. Она, конечно, ничего такого не говорила — мы не слишком много разговариваем, потому что довольно редко видимся. Я люблю подольше поспать, а ее бóльшую часть времени не бывает дома.
— Так подолгу?
Он подумал.
— Пожалуй, это самое долгое отсутствие, но она обычно много ездит — я хочу сказать, что нет ничего странного, если ее нет дома целую неделю. Так что можете сказать ее сестре, что скорее всего с ней все в порядке — скорее всего занимается чем-то таким, о чем мисс Пасадене не следует знать.
— Откуда вам известно, что она лесбиянка?
— Ах да, вам нужны доказательства. Ну, начать с того что она читает. Журналы для лесбиянок. Регулярно их покупает — я нахожу их в мусоре. А потом ее корреспонденция.
— Какого рода эта корреспонденция?
Его улыбка сверкнула широкой белой полосой в густой щетине.
— Я не прилагаю специальных усилий, чтобы ее читать, Марлоу, это было бы противозаконно, верно? Но иногда почта для задней пристройки попадает в мой ящик, потому что почтальон не соображает, что там есть пристройка, — или ему просто лень туда идти. Немало писем бывает от соответствующих групп. Как вам мои дедуктивные способности?
— За месяц у вас должно было кое-что накопиться, — сказал я.
Он встал, пошел на кухню и вернулся через минуту с пачкой конвертов, перетянутых резинкой. Сняв резинку, он осмотрел каждое почтовое отправление и, подержав всю пачку еще несколько секунд, передал ее мне.
Я развернул конверты веером и пересчитал. Одиннадцать штук.
— Не густо за целый месяц, — заметил я.
— Я же сказал — нелюбимая.
Я перебрал почту. Восемь отправлений оказались открытками и проспектами, адресованными «жильцу», и адрес был отпечатан на компьютере. И три письма были адресованы лично Кэти Мориарти. Одно из них скорее всего содержало просьбу о денежном пожертвовании для группы помощи больным спидом. Еще одно было с аналогичной просьбой от клиники в Сан-Франциско.
Третий конверт был белый, делового формата; судя по почтовому штемпелю, он был отправлен три недели назад из Кембриджа, штат Массачусетс. На машинке отпечатано. «Мисс Кэтлин Р. Мориарти» Обратный адрес в верхнем левом углу гласил «АЛЬЯНС СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ, УЛИЦА МАССАЧУСЕТС, КЕМБРИДЖ».
Я вынул ручку, понял, что у меня нет с собой бумаги, и записал эту информацию на обороте квитанции за бензин, оказавшейся у меня в бумажнике.
Скидмор наблюдал за мной, явно забавляясь.
Я еще какое-то время вертел конверт в руках — больше для того, чтобы не обмануть его ожиданий, чем по какой-либо иной причине, а потом отдал обратно ему.
Он спросил:
— Ну и что же вы узнали?
— Не много. Что вы еще можете о ней рассказать?
— Каштановые волосы, короткая стрижка. Зеленые глаза, чуть простоватое лицо. Стиль, которого она придерживается в одежде, ориентирован на мешковатость и здравый смысл.
— У нее была работа?
— Возможно, хотя точно я сказать не могу.
— Она никогда не упоминала никакого места работы?
— Нет. — Он зевнул и потер сначала одну коленку, потом другую.
— Помимо писательской работы, — уточнил я.
— Это не работа, Марлоу. Это призвание.
— Вы когда-нибудь видели что-либо из написанного ею?
— Разумеется. Первые два месяца мы вообще с ней не общались, но в один прекрасный день обнаружили, что служим одной и той же музе, и тогда-то кое-что друг другу показали и рассказали.
— Что показала она?
— Свой альбом для вырезок.
— Не вспомните, что там было?
Он скрестил ноги и поскреб одну волосатую икру.
— Как это у вас называется? Сбор личностных характеристик объекта исследования?
— Вот именно. Так что все-таки было у нее в альбоме?
— Только брать, ничего не давая, а? — сказал он, но без раздражения.
— Я не знаю ровным счетом ничего, Ричард. Именно поэтому я и беседую с вами.
— Это превращает меня в доносчика?
— В источник информации.
— Ага.
— Так что же с альбомом?
— Я только пробежал его глазами, — сказал он и опять зевнул. — В основном это статьи — то, что она написала.
— На какую тему статьи?
Он пожал плечами.
— Я не очень вчитывался — слишком много фактуры и мало фантазии.
— Нельзя ли мне взглянуть на альбом?
— А как это было бы возможно?
— Например, если бы у вас был ключ от ее квартиры.
Он приложил ладонь к губам, пародируя шок и возмущение.
— Нарушить неприкосновенность жилища, Марлоу?
— А если вы будете стоять у меня непосредственно за спиной, пока я читаю?
— Это не снимает проблемы конституционности, Фил.
— Послушайте, это дело серьезное. — Я подался вперед, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал зловеще. — Возможно, ей грозит опасность.
Он открыл рот, и я понял, что он собирается отмочить очередную хохму Я поставил ему блок вытянутой рукой и сказал:
— Я серьезно, Ричард.
Его рот закрылся и оставался закрытым какое-то время. Я пристально посмотрел на него; он потер сначала локти, потом колени и подтвердил:
— Вы говорите, серьезно.
— Очень серьезно.
— Это как-то связано со взысканием?
— Взысканием чего?
— Денег. Она сказала мне, что заняла много денег у сестры, но не вернула ни цента, и муж сестры уже начал злиться — он какой-то там финансовый тип.
— Мистер Роббинс — адвокат. Он и его жена действительно беспокоятся о долгах Кэти. Но теперь речь не об этом. Ее слишком долго нет, Ричард.
Он еще немного порастирался, потом сказал:
— Когда вы сослались на сестру, я подумал, что ваш визит касается взыскания долга.
— Ну, так вы ошиблись, Ричард. Ее сестра — невзирая ни на какое столкновение культур — беспокоится о ней, и я тоже. Я не вправе ничего больше сказать вам, но мистер Стерджис считает это дело срочным.
Он развязал свой пучок и потряс головой, распуская волосы. Густые и блестящие, словно у красотки с обложки журнала, они веером упали ему на лицо. Я услышал, как хрустнула его шея, когда он нагнулся и продолжал трясти волосами. Когда он поднял голову, небольшая прядь волос оказалась у него во рту, и он стал жевать ее с задумчивым видом.
— Вы хотите только взглянуть на альбом, так? — спросил он, вытаскивая волосы изо рта.
— Совершенно верно, Ричард. Вы можете все это время наблюдать за мной.
— Ладно, — согласился он. — Почему бы нет? В худшем случае она узнает и разозлится, а мне придется предложить ей поискать более дешевое жилье.
Он встал, потянулся и снова тряхнул волосами. Когда я тоже встал, он сказал:
— Вы оставайтесь здесь, Фил.
Еще один поход на кухню. Он вернулся очень быстро — видимо, далеко ходить не пришлось — и принес тетрадь с отрывными листами в оранжевой матерчатой обложке.
Я спросил:
— Она оставила тетрадь вам?
— Нет. Дала мне посмотреть, а потом забыла забрать. Когда я обнаружил это, ее уже не было, так что я куда-то сунул тетрадь — у меня тут валяется столько всякого барахла, — а она так больше о ней и не спросила. Мы оба просто забыли. Значит, тетрадь не очень-то ей нужна, верно? Именно так я ей и скажу, если она разозлится.
Он вернулся на табуретку, раскрыл тетрадь и перелистал несколько страниц. Словно хотел еще немного оттянуть тот момент, когда должен будет отдать ее мне, — точно так же он поступил и с почтой.
— Ну вот, — сказал он. — Здесь нет ничего пикантного, Фил.
Я открыл тетрадь. В ней было около сорока двусторонних листов — черная бумага под прозрачным пластиком. Газетные вырезки за подписью Кэти Мориарти были вставлены под пластик каждого листа. С внутренней стороны обложки имелся клапан. Я сунул туда руку. Пусто.
Статьи располагались в хронологическом порядке. Первые несколько статей, написанные пятнадцать лет назад, были из «Дейли колиджен», студенческой газеты города Фресно. Еще с десяток материалов, распределенных на семилетний период, были из «Фресноби». Потом шли статьи из «Манчестер юнион лидер» и «Бостон глоб». Даты указывали на то, что Кэти Мориарти проработала в каждой из газет Новой Англии всего по году.
Я вернулся к началу и стал просматривать статьи на предмет содержания. По большей части это были материалы, представляющие общий интерес, и все на местные темы. Городские мероприятия, очерки об известных людях. Статьи о досуге и отдыхе, о любимых четвероногих друзьях. Склонность к расследованиям проявилась только в тот год, когда Мориарти работала в «Бостон глоб»: там она опубликовала серию статей о загрязнении Бостонской бухты и разоблачительный материал о жестоком отношении к животным, имевшем место со стороны одной фармакологической фирмы в Вустере, который показался мне не слишком глубоким.
Последней в альбоме была вырезка рецензии из «Хартфорд курант» на ее книгу о пестицидах — «Плохая земля». Небольшая публикация. Плюсы за энтузиазм, минусы за слабую документированность.
Я проверил задний клапан обложки. Вынул из-под него несколько сложенных кусочков газетной бумаги. Скидмор смотрел на пальцы ног и ничего не заметил. Я развернул вырезки и стал читать.
Пять материалов из колонки комментатора, датированные прошлым годом, опубликованные в газете «ГАЛА бэннер» с подзаголовком: «Ежемесячный информационный бюллетень Альянса сексуальных меньшинств против дискриминации, Кембридж, Масс».
Материалы подписаны: Кейт Мориарти, постоянный комментатор.
Эти материалы были пронизаны гневом — против мужского засилья, против распространения спида, против пениса в качестве оружия. Одна статья была о личности и женоненавистничестве. К ней скрепкой была прикреплена маленькая вырезка.
Скидмор зевнул.
— Уже закончили?
— Еще одну секунду.
Я прочел вырезку. Опять «Глоб», номер трехлетней давности. Подпись Мориарти отсутствует. Вообще нет никакой подписи. Просто краткое информационное сообщение — одна из тех небольших обзорных заметок, которые печатаются на второй полосе последнего выпуска.
СМЕРТЬ ВРАЧА ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
Кембридж. Причиной смерти одного из членов Гарвардского психиатрического общества считают случайный или намеренный прием слишком большой дозы барбитуратов. Тело Айлин Уэгнер, 37 лет, было обнаружено сегодня утром в ее кабинете психиатрического отделения больницы «Бет Исраэль» на Бруклайн-авеню. Смерть наступила, как предполагают, ночью. В полиции отказались сообщить, что привело к такому заключению; было лишь заявлено, что у доктора Уэгнер были «проблемы личного характера». Доктор Уэгнер, выпускница медицинского факультета Йельского университета, окончила педиатрические курсы при Западном центре педиатрической медицины в Лос-Анджелесе и работала по специальности за границей от Всемирной организации здравоохранения. В прошлом году она приехала в Гарвард, чтобы изучать детскую и подростковую психиатрию.
Я посмотрел на Скидмора. Его глаза были закрыты. Я вытянул статью, сунул ее в карман, закрыл альбом и сказал:
— Спасибо, Ричард. А как насчет того, чтобы дать мне взглянуть на ее квартиру?
Глаза открылись.
— Просто чтобы удостовериться, — добавил я.
— Удостовериться в чем?
— Что она не находится там — не ранена или еще чего похуже.
— Она никак не может там находиться, — возразил он с неподдельным беспокойством, которое явно оказало на него живительное воздействие. — Это невозможно, Марлоу.
— Почему вы так в этом уверены?
— Я сам видел, как она уезжала месяц назад. У нее белый «датсун» — по номерным знакам можно как-то проследить, верно?
— А что, если она вернулась без машины? Вы могли и не заметить — сами мне говорили, что вы с ней не очень-то часто встречались.
— Нет. — Он покачал головой. — Это уж слишком.
— Но почему бы нам просто не проверить, Ричард? Вы можете наблюдать за мной — как и в случае с альбомом.
Он потер глаза. Пристально посмотрел на меня и встал.
Я прошел вслед за ним в маленькую темную кухню, где он извлек связку ключей из кучи какого-то хлама и открыл заднюю дверь. Мы перешли задний дворик — такой маленький, что на нем нельзя было даже поиграть в «классики», — и оказались перед двойным гаражом. Гаражные двери были старомодные, навесные. В центре каждой было вставлено по обычной двери. Это были в прямом смысле слова гаражные квартиры.
— Вот сюда, — сказал Скидмор и подвел меня к левой секции. Дверь в двери была заперта на засов, открываемый ключом.
— Превращение гаража в жилье является противозаконным. Но вы меня не выдадите, Марлоу, нет?
— Честное благородное слово.
Улыбаясь, он перебирал ключи. Потом вдруг посерьезнел и замер.
— В чем дело, Ричард?
— Наверно, был бы запах — если она… ну, вы понимаете?
— Не обязательно, Ричард. Заранее сказать нельзя.
Он опять улыбнулся, на этот раз неуверенно. Его пальцы, перебирающие ключи, дрожали.
— Любопытно было бы узнать одну вещь, — заметил я. — Если вы думали, что я явился, чтобы стребовать с Кэти долг, почему вы впустили меня?
— Очень просто, — ответил он. — В надежде на материал.
* * *
Жилище Кэти Мориарти представляло собой комнату шесть на шесть, которая все еще воняла автомобилем. Пол был выложен квадратами линолеума пшеничного цвета, стены белые — сухая штукатурка. Из мебели там был положенный на пол двуспальный матрас со сбившейся к ногам простыней, из-под которой виднелся синий наматрасник в пятнах от пота. Деревянная тумбочка, круглый белый пластиковый стол и три металлических стула с сиденьями и спинками из толстого желтого пластика с гавайским рисунком. В одном из дальних углов стояла электроплитка на металлической подставке, а другой был занят туалетной кабинкой из стекловолокна, которая была не больше аналогичного помещения в самолете. На расположенной над электроплиткой единственной полке стояла кое-какая посуда и кухонные принадлежности. На противоположной стене был устроен самодельный гардероб — каркас из белых полихлорвиниловых трубок. На горизонтальной трубке висело несколько комплектов одежды, по большей части джинсы и рубашки.
Кэти Мориарти потратила деньги сестры не на украшение своего интерьера. У меня было предположение о том, куда пошли эти средства.
Скидмор сказал:
— Вот это да! — Его лицо под порослью щетины побледнело, одну руку он запустил в волосы.
— Что там такое?
— Или тут кто-то побывал, или она собрала вещички и смоталась потихоньку от меня.
— Почему вы так решили?
Вдруг заволновавшись, он замахал руками. Словно неусидчивый ребенок, старающийся, чтобы его поняли.
— При ней здесь, было не так. У нее было много вещей — чемоданы, рюкзак… и такой большой сундук, который был у нее вместо кофейного столика. — Он осмотрелся и показал. — Вон там он стоял. А прямо на нем была стопка книг — рядом с матрасом.
— Что за книги?
— Я не знаю — не интересовался… но в одном я совершенно уверен. Раньше комната выглядела не так.
— Когда в последний раз вы видели комнату в ее обычном виде?
Запущенная в волосы рука сжалась и захватила пучок.
— Незадолго перед тем, как она уехала, — когда же это было? Пять недель назад? А может, шесть, я не помню. Это было вечером. Я занес ей почту, и она сидела с ногами на сундуке. Так что сундук был здесь, это точно. Пять или шесть недель назад.
— А что было в сундуке, как по-вашему?
— Не знаю. Может, вообще ничего — хотя зачем кому-то понадобилось брать пустой сундук, верно? Значит, что-то все-таки в нем было. А если она смоталась втихаря, то почему оставила одежду, посуду и другие вещи?
— Правильный ход мысли, Ричард.
— Очень странно.
Мы вошли в комнату. Он остался стоять у двери, а я начал ходить и смотреть. И тут я заметил что-то на полу, возле матраса. Кусочек поролона. Потом еще один и еще. Нагнувшись, я провел рукой по боковой стороне матраса. Выпало еще несколько кусочков. И вот мои пальцы нащупали разрез — ровный, прямой, сделанный с хирургической аккуратностью, почти не заметный даже с близкого расстояния.
— Что это? — спросил Скидмор.
— Матрас разрезан.
— Вот это да. — Он помотал головой из стороны в сторону, и волосы повторили это движение.
Он остался на месте, а я встал на колени, раздвинул края разреза и заглянул внутрь. Ничего. Еще раз обвел глазами всю комнату. Ничего.
— Ну, что?
— Этот матрас ваш или ее?
— Ее. Что происходит?
— Похоже, здесь побывал кто-то любопытный. А может, она что-то прятала в матрасе. У нее был телевизор или стерео?
— Только радио. И его тоже нет! Неужели это кража со взломом?
— Трудно сказать.
— Но ведь вы подозреваете что-то скверное, да? Вы поэтому сюда и пришли, верно?
— Мне слишком мало известно, чтобы что-то подозревать, Ричард. Может, вы знаете о ней что-то такое, что наводит вас на дурные мысли?
— Нет, — сказал он громким, напряженным голосом. — Она была одинокая, замкнутая и необщительная. Не знаю, что еще вы от меня хотите услышать!
— Ничего, Ричард, — ответил я. — Вы мне очень помогли. Спасибо, что уделили мне время.
— Да. Конечно. А теперь могу я все закрыть? Придется вызывать слесаря, менять замок.
Мы вышли из гаража. Во дворе он указал мне на дорожку и сказал:
— Идите прямо и выйдете на улицу.
Я еще раз поблагодарил его и пожелал удачи с тем эссе о частном сыщике, которое он собирался написать.
— Это отменяется, — буркнул он и скрылся в доме.
33
Первый телефон-автомат попался мне у торгового центра на бульваре Санта-Моника. Центр был только что построен — пустые витрины, свежий асфальт. Но телефонная будка имела явно обжитой вид: пол усеян комками жевательной резинки и окурками сигарет, справочник сорван с цепочки, к которой крепился.
Я позвонил в справочную службу Бостона и попросил дать мне номер телефона газеты «ГАЛА бэннер». Телефона самой газеты в справочнике у них не оказалось, но был номер Альянса сексуальных меньшинств, который я и набрал.
Трубку снял мужчина.
— «ГАЛА». — Мне были слышны в отдалении и другие голоса.
— Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из сотрудников «Бэннер».
— Из рекламного отдела или редакции?
— Из редакции. С кем-то, кто знает Кэти, то есть Кейт Мориарти.
— Кейт здесь больше не работает.
— Я это знаю. Она живет в Лос-Анджелесе, откуда я и звоню.
Пауза.
— А в чем, собственно, дело?
— Я — знакомый Кейт. Прошло уже больше месяца с тех пор, как ее видели. Ее семья беспокоится, и я тоже. Вот и подумал — а вдруг кто-то в Бостоне может нам помочь.
— Ее здесь нет, если вас именно это интересует.
— Мне правда хотелось бы поговорить с кем-нибудь из сотрудников, кто ее знает.
Снова пауза.
— Позвольте мне записать вашу фамилию и номер телефона.
Я сообщил ему и то и другое и добавил:
— Это номер моей телефонной службы. Я — клинический психолог, вы найдете меня в справочнике Американской психологической ассоциации. Вы также можете справиться обо мне, позвонив профессору Сету Фиэкру в Бостонский университет, на факультет психологии. Буду вам признателен, если вы мне перезвоните как можно скорее.
— Ну, — отозвался голос на другом конце провода, — очень скоро может и не получиться. Вам лучше всего было бы поговорить с редактором «Бэннер» Бриджит Маквильямс, но ее не будет в городе до конца дня.
— А где ее можно найти?
— Этого я не вправе сказать.
— Прошу вас, свяжитесь с ней. Скажите ей, что жизни Кейт, возможно, грозит опасность. — Когда он на это ничего не ответил, я сказал: — Упомяните также имя Айлин Уэгнер.
— Уэгнер, — повторил он, и я услышал, как он записывает. — Как у того композитора. Или нет, тот вроде бы пишется Вагнер.
— Скорее всего.
* * *
Я совершенно забыл о том, что Сет Фиэкр переехал в Бостон, пока его имя не пришло мне в голову во время этого телефонного разговора. Сет был социальным психологом и в прошлом году ушел из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где ему предложили существующую на деньги спонсоров кафедру группового процесса. Сет специализировался в области манипулирования сознанием и культов, и весьма состоятельный отец шестнадцатилетней девочки, вырванной из рук неоиндуистской апокалиптической секты, которая обитала в подземных бункерах Нью-Мексико, обратился к Сету за консультацией по депрограммированию. Вскоре после этого деньги для кафедры были получены.
Я опять позвонил в справочную службу Бостона, узнал телефон психологического факультета Бостонского университета, позвонил туда, и мне сообщили, что офис профессора Фиэкра находится в здании Центра прикладной социологии. Секретарша спросила мою фамилию и велела подождать. Через несколько секунд я услышал голос Сета.
— Алекс, сколько лет, сколько зим!
— Привет, Сет. Как там Бостон?
— Бостон просто потрясающий, это настоящий большой город. После выпуска я ни разу не бывал здесь подолгу, так что это для меня вроде как возвращение домой. А что у тебя? Ты преподаешь, как и хотел?
— Еще нет.
— Трудно возвращаться, — сказал он, — после того, как поживешь в реальном мире.
— Что бы это ни значило.
Он засмеялся.
— Я забыл, что разговариваю с клиницистом. Чем ты занимаешься?
— Консультирую понемножку, пытаюсь выпустить монографию.
— Звучит восхитительно округло. Итак, что я могу для тебя сделать? Проверить еще одну шайку истинно верующих? С большим удовольствием. Когда я в прошлый раз готовил для тебя данные, то поимел с этого публикацию в журнале двух рефератов и доклада.
— «Прикосновение», — вспомнил я.
— Они «прикоснулись» к великому множеству легковерных дураков. Так о каких ненормальных идет речь на этот раз?
— На этот раз никаких культов не будет, — ответил я. — Я просто ищу сведения об одном коллеге. Он раньше преподавал в твоей альма-матер.
— В Гарварде? Кто это?
— Лео Гэбни. И его жена.
— Доктор Плодовитый? Да, я вроде слышал, что он где-то там теперь живет.
— Ты знаешь о нем что-нибудь?
— Лично нет. Но мы здесь не совсем на задворках, не так ли? Помню, чуть не утонул во всех его описаниях, когда готовил свой курс продвинутой теории обучения. Это был не человек, а фабрика. Я тогда клял его за то, что он приводит такое количество данных, но в большинстве своем они оказались весьма основательными. Ему должно быть сколько? Шестьдесят пять, семьдесят? Несколько староват для шалостей. Почему он тебя интересует?
— Он не так стар — ему около шестидесяти. И он отнюдь не развалина. Они с женой содержат клинику в Сан-Лабрадоре, специализируются на лечении фобий. У богатых. — Я назвал ему цифры гонораров четы Гэбни.
— Какая досада, — сказал он. — Я-то думал, что этот дарственный фонд — серьезные деньги, а по твоей милости снова чувствую себя бедняком. — Он повторил цифры вслух. — Ну дела… Так что ты хочешь о них узнать и зачем?
— У них лечится мать одной моей пациентки, и происходят некоторые странные вещи, о которых я пока не могу говорить, Сет. Извини, но ты понимаешь.
— Разумеется. Тебя интересует как бы его история болезни на уровне либидо и все с этим связанное за тот период, когда он был в Гарварде?
— Все это, — сказал я, — а также любого рода финансовые шалости.
— Вот оно что! Ты меня заинтриговал.
— Если ты сможешь узнать, почему они уехали из Бостона и какой работой занимались в течение года, предшествовавшего их отъезду, я был бы страшно тебе признателен.
— Сделаю, что смогу, хотя здесь не любят говорить о деньгах — оттого, что слишком сильно их алчут. Кроме того, жрецы этого Храма Науки не всегда снисходят до разговора с нами, простыми смертными.
— Даже с бывшими питомцами?
— Даже с бывшими питомцами, которые слишком отклонились к югу от Кембриджа. Но я как следует размешаю похлебку, и посмотрим, что всплывет. Как зовут жену?
— Урсула Каннингэм. Теперь она носит двойную фамилию, Каннингэм-Гэбни. У нее степени доктора философии и медицины. Гэбни был ее руководителем в аспирантуре и послал ее на медфак. Она получила назначение на отделение психиатрии. Не исключено, что и он занимал там должность.
— Ты только что поднял планку еще выше, Алекс. Медфак — это совершенно отдельная сущность. Единственный человек, которого я знаю оттуда, это наш семейный педиатр, да и то он из клиницистов.
— Любая малость, какую ты сможешь узнать, будет очень кстати, Сет.
— И это надо сделать, конечно, как можно скорее.
— Чем скорее, тем лучше.
— Как бы не так. Это я о вине, сыре и плотском наслаждении. Ладно, посмотрю, что можно сделать. А ты подумай над тем, чтобы как-нибудь навестить нас, Алекс. Можешь сводить меня в «Дары моря», где я до отвала наемся омаров.
* * *
Напоследок я позвонил Майло. Ожидал услышать автоответчик, но трубку сняли, и голос Рика, показавшийся мне торопливым, сказал:
— Доктор Силверман.
— Рик, это опять Алекс.
— Алекс, я уже выбегаю — вызов из «скорой» на ДТП с автобусом. У них не хватает персонала. Майло в Пасадене. Все утро он висел на телефоне и уехал примерно час назад.
— Спасибо, Рик. Пока.
— Алекс? Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты достал ему эту работу, — он был в очень подавленном настроении. От безделья. Я пробовал уговорить его что-нибудь делать, но не очень в этом преуспел, пока не появился ты со своим предложением. Так что спасибо.
— Это не благотворительность, Рик. Он лучше всех подходит для этой работы.
— Я это знаю и ты это знаешь. Фокус был в том, как убедить его самого.
* * *
К вечеру движение на дорогах стало более интенсивным, и мне пришлось потратить больше времени на поездку в Сан-Лабрадор.
Я использовал это время для размышлений на тему о том, какая могла существовать связь между Массачусетсом и Калифорнией.
Ворота на Сассекс-Ноул были закрыты. Я поговорил с Мадлен по переговорному устройству и был впущен. Перед домом не было видно ни «фиата» Майло, ни «порше» Рика. Зато там стоял вишневого цвета «ягуар» с откидным верхом. Я как раз направлялся к чосеровской двери, когда она открылась, и из дома вышла женщина. Рост метр шестьдесят, около сорока пяти лет, несколько лишних килограммов веса, которые приятно ее округляли. По контрасту с фигурой ее лицо было худое, с заостренным подбородком. На голове шапочка черных кудряшек. Того же цвета были и глаза — большие, круглые, опушенные густыми ресницами. На женщине было легкое розовое платье, которое прекрасно смотрелось бы на пикнике в стиле Ренуара. Звякнули браслеты, когда она протянула мне руку.
— Доктор Делавэр? Я Сьюзан Лафамилья.
Мы обменялись рукопожатием. Ее рука казалась маленькой и мягкой, пока она не сжала мою ладонь. На лице было много умело наложенной косметики. Половину пальцев украшали кольца. На груди лежала нитка черного жемчуга. Если жемчуг настоящий, то эти бусики стоили подороже «яга».
— Хорошо, что я вас встретила, — сказала она. — Мне хотелось бы обсудить с вами дела нашей общей клиентки, но не прямо сейчас, потому что я еще должна буду продолжить разговор с ней — пытаюсь разобраться в ее финансах. Вы сможете через пару дней?
— Разумеется. Если Мелисса согласится.
— Она уже согласилась. Мы сейчас занимаемся передачей… Извините, вы приехали, чтобы провести с ней сеанс лечения?
— Нет, — ответил я. — Я приехал, чтобы посмотреть, как у нее дела.
— Похоже, что дела у нее идут неплохо, если учесть все обстоятельства. Меня удивило, как много она знает о деньгах, — для девушки ее возраста. Но, конечно, я ее очень мало знаю.
— Она сложная молодая леди. Скажите, заезжал сюда один детектив по фамилии Стерджис?
— Майло? Он был здесь, сейчас поехал в ресторан отчима Мелиссы. Приехали полицейские, хотели допросить Мелиссу в связи со смертью этого типа Макклоски. Я сказала им, что ей об этом еще не сообщили и что я ни при каких обстоятельствах не разрешу им с ней говорить. Майло предложил им поговорить с отчимом — они немного порыли копытом землю, пофыркали, но согласились.
Ее улыбка говорила о том, что успех не был для нее сюрпризом.
* * *
На парковочной площадке «Кружки» скопилось столько машин, что создавалось впечатление, будто ресторан открыт: «мерседес» Рэмпа, «тойота» Ноэля, коричневый «шевроле», «фиат» Майло и темно-синий «бьюик», который я тоже где-то раньше видел.
Нанятых Майло наблюдателей нигде не было видно. Либо они не работали, либо работали чертовски ловко.
Выйдя из машины, я заметил, как кто-то выскочил из здания с черного хода и помчался через площадку.
Бетель Друкер в белой блузке, темных шортах и сандалиях на плоской подошве. Развеваются светлые распушенные волосы, подпрыгивают груди. Секунду спустя она уже сидела за рулем коричневого «шеви», резко дала задний ход со своего места на задней площадке, потом рванула вперед, под визг шин вырулила на дорожку и понеслась по ней в сторону бульвара. Не останавливаясь, резко свернула направо и умчалась прочь.
Я пытался разглядеть за стеклами ее лицо, но поймал лишь отраженную вспышку горячего белого солнечного света.
Только успел замереть вдали шум ее двигателя, как входная дверь «Кружки» открылась, и вышел Ноэль. Вид у него был растерянный и испуганный.
— Твоя мама поехала вон в том направлении, — сказал я, и его глаза конвульсивно дернулись в мою сторону.
Я подошел к нему.
— Что случилось?
— Я не знаю, — ответил он. — Пришли полицейские поговорить с Доном. Я был на кухне, кое-что читал. Мама вышла, подала им кофе, а когда вернулась, я заметил, что она страшно расстроена. Я спросил, что случилось, но она не ответила, а потом я увидел, как она ушла.
— А что сказали полицейские Дону, ты знаешь?
— Нет. Я уже говорил, я был на кухне. Хотел спросить ее, в чем дело, но она просто ушла, не сказав ни слова. — Он посмотрел вдоль бульвара. — Это на нее не похоже…
Он горестно опустил голову. Темноволосый, красивый, печальный… В нем было что-то от Джеймса Дина. У меня на голове шевельнулись волосы.
Я спросил:
— Как по-твоему, куда она могла поехать?
— Да куда угодно. Ей нравится ездить — она же весь день тут в четырех стенах. Но обычно она говорит мне, куда едет и когда вернется.
— Вероятно, она в состоянии стресса, — сказал я. — Оттого, что закрыт ресторан. От неуверенности в будущем.
— Она боится. В «Кружке» была ее жизнь. Я сказал ей: даже если случится худшее и Дон не откроется снова, она легко найдет работу в другом месте, но она ответила, что так, как здесь, больше уже не будет, потому что… — Заслонив глаза одной рукой, он посмотрел в обе стороны бульвара.
— Потому что что, Ноэль?
— А? — Он растерянно посмотрел на меня.
— Твоя мама сказала, что так, как здесь, больше уже не будет, потому что…
— Неважно, — сердито буркнул он.
— Ноэль…
— Это не имеет значения. Мне нужно идти.
Сунув руку в карман джинсов, он вытащил связку ключей, подбежал к «селике» и уехал.
Я был все еще погружен в свои мысли, когда подошел к двери ресторана. Вместо таблички с надписью «ЛЕНЧ ОТМЕНЯЕТСЯ» была выставлена табличка «ЗАКРЫТО ДО ДАЛЬНЕЙШЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ».
Внутри освещение было включено на полную яркость, придавая интерьеру дешевый вид, высвечивая каждую шершавинку на деревянных панелях, каждую затертость и каждое пятно на ковре.
Майло сидел на табуретке у стойки бара с чашкой кофе в руках. Дон Рэмп расположился в одной из кабинок вдоль правой стены. Перед ним стояла бутылка виски, стакан и чашка — такая же, как у Майло. Еще две чашки кофе стояли ближе к внешнему краю стола. На Рэмпе была все та же белая рубашка, в которой я видел его у плотины. Он выглядел так, будто только что вернулся с экскурсии по преисподней.
Над ним стояли начальник полиции Чикеринг и полицейский Скопек. Чикеринг курил сигару. У Скопека был такой вид, словно и он не отказался бы от сигары.
Когда я вошел, Чикеринг повернулся ко мне и нахмурился. Скопек последовал его примеру. Майло отпил кофе. Рэмп не сделал ничего.
Это было похоже на неудавшееся собрание членов элитарного клуба.
— Привет шефу полиции, — сказал я.
— Доктор. — Чикеринг шевельнул рукой, и столбик пепла упал в пепельницу рядом с бутылкой Рэмпа. Бутылка была на две трети пуста.
Я подошел к бару и уселся рядом с Майло. Он поднял брови и коротко улыбнулся.
Чикеринг снова повернулся к Рэмпу.
— Ладно, Дон. Похоже, с этим все.
Если Рэмп как-то отреагировал, то я этого не заметил.
Чикеринг взял одну из стоявших с краю чашек кофе и сделал большой глоток. Облизав губы, он подошел к бару. Скопек последовал за ним, но держался немного сзади.
Чикеринг заговорил:
— Я тут в обычном порядке выясняю кое-какие вопросы, доктор, — в плане помощи хорошим друзьям из Полицейского управления Лос-Анджелеса. В связи с тем, что случилось с покойным мистером Макклоски. Вы ничего не хотите добавить к нашему общему неведению?
— Ничего, шеф.
— Ладно, — сказал он и сделал еще один глоток кофе, после чего чашка оказалась пустой. Не глядя, он протянул чашку за спину, где Скопек взял ее и поставил на стол, за которым сидел Рэмп.
— Что касается меня, доктор, то я считаю этот случай просто воздаянием по заслугам. Но я его расследую в плане услуги Лос-Анджелесу. Так что я вас спросил и все.
Я кивнул.
— А как все остальное? Как дела у Мелиссы?
— Нормально, шеф.
— Ну и хорошо. — Пауза. Колечки дыма. — Не знаете, кто будет теперь управлять всем хозяйством?
— Не могу сказать, шеф.
— Мы только что оттуда. Застали у Мелиссы адвоката. Адвокат — женщина. Из фирмы в западной части города. Не знаю, насколько хорошо она знакома с жизнью нашего района.
Я пожал плечами.
— Глен Энгер — хороший человек, — продолжал он. — Вырос здесь. Я знаю его много лет.
Я промолчал.
— Ну, ладно, — снова сказал он. — Надо идти — тут не соскучишься. — Он повернулся к Рэмпу. — Береги себя, Дон. Если что — звони. Масса народу тебя поддерживает — все будут ждать с нетерпением, когда опять откроется твой гриль и можно будет заказать отбивную на косточке, вырезку по-ньюйоркски и ф.м.
Он подмигнул Рэмпу. Рэмп не шелохнулся.
Когда Чикеринг и Скопек ушли, я спросил:
— Ф.м. — что это такое?
— Филе миньон, — ответил Майло. — До твоего прихода мы тут очень мило болтали о говядине. Шеф полиции — большой «знаток». Покупает эти готовые стейки из Омахи.
Я посмотрел на Рэмпа, который сидел все так же неподвижно.
— А он принимал участие в обсуждении? — очень тихо спросил я.
Майло поставил чашку настойку бара. Осколки разбитого зеркала удалили. На его месте осталась голая штукатурка.
— Нет, — ответил он. — Он вообще ничего не делает, только сосет виски.
— Что слышно о Никвисте?
— Ровным счетом ничего. Да никто его и не ищет.
— Почему лос-анджелесская полиция прислала сюда Чикеринга?
— Чтобы им не пришлось никого в Сан-Лабрадоре гладить против шерстки и в то же время можно было сказать, что работа сделана.
— Чикеринг сказал что-нибудь новое о Макклоски?
Он покачал головой.
— Как реагировал Рэмп, когда об этом услышал?
— Уставился на Чикеринга, потом заглотнул большую дозу виски.
— Не удивился тому, что Макклоски мертв?
— Может, какой-то проблеск, но трудно сказать. Он почти ни на что не реагирует. От крепкого мужика тут мало что осталось.
— Если только это не игра.
Майло пожал плечами, взял чашку, заглянул в нее и опять поставил.
— Дон, — окликнул он Рэмпа через зал, — могу я чем-нибудь помочь вам?
Из кабинки не донеслось ни звука. Потом Рэмп медленно, очень медленно покачал головой.
— Ну как, — спросил Майло, снова понизив голос, — удалось тебе съездить в Западный Голливуд?
— Удалось, но давай поговорим на улице.
Мы вышли на парковочную площадку.
— Твой наблюдатель на месте или нет? — поинтересовался я.
— Профессиональная тайна, — усмехнулся Майло. Потом сказал: — В данный момент нет, но ты бы все равно его не заметил, можешь мне поверить.
Я пересказал ему все, что узнал о Кэти Мориарти и об Айлин Уэгнер.
— Ладно, — сказал он. — Твоя версия с Гэбни выглядит уже лучше. Они что-то провернули в Бостоне, засветились и свалили на запад, чтобы продолжать провертывать.
— Дело гораздо сложнее, — возразил я. — Именно Айлин Уэгнер направила ко мне Мелиссу. Спустя несколько лет она умирает в Бостоне, чета Гэбни покидает Бостон, а вскоре после этого они лечат Джину.
— В вырезке, которую хранила Мориарти, есть намек на то, что смерть Уэгнер не была самоубийством?
Я отдал ему вырезку.
Прочитав ее, он сказал:
— Похоже, что никто не собирался этим заниматься. А если бы там не проявилось что-то подозрительное, разве Мориарти стала бы держать эти вырезки при себе?
— Наверно, ты прав. Но ведь должна же быть какая-то связь — что-то такое, что Мориарти нашла, как она думала. Уэгнер изучала психологию в Гарварде, когда Гэбни еще там работали. Вероятно, она каким-то образом соприкоснулась с ними. Кэти Мориарти интересовали все трое. И все трое знали Джину.
— Когда ты виделся с Уэгнер, что-нибудь в ней показалось тебе странным?
— Нет. Но ведь я ее не анализировал — это был десятиминутный разговор одиннадцать лет назад.
— Значит, у тебя нет причин ставить под сомнение этичность ее поступков?
— Абсолютно никаких. А что такое?
— Просто размышляю. Если она соблюдала правила этики, то не стала бы ни с кем говорить конкретно о Джине, верно? Даже с другим медиком.
— Правильно.
— Тогда как же Гэбни могли узнать о Джине от нее?
— Может, они и не узнали. Конкретно о ней. Но когда Уэгнер стало известно, что Гэбни специализируются в области лечения фобий, она могла обсудить с ними случай Джины в общих чертах. Обмен мнениями между медиками никто не сочтет нарушением этики.
— Причем в данном случае страдающий фобией пациент богат.
— Живет, словно принцесса в замке. Это слова Уэгнер. Она была поражена богатством Джины. Могла рассказать об этом кому-то одному или обоим супругам Гэбни. А когда для Гэбни пришла пора поискать более тучных пастбищ, они вспомнили о ее рассказах и отправились в Сан-Лабрадор. А контакт с Джиной был установлен, когда им позвонила Мелисса.
— Совпадение?
— Это ведь очень маленький городок, Майло. Но мне все равно не ясно, почему Кэти Мориарти хранила вырезку с информацией о самоубийстве Уэгнер у себя в альбоме.
— Возможно, Уэгнер была для Мориарти источником информации. О проделках Гэбни.
— И возможно, Уэгнер из-за этого умерла.
— Ну, ты даешь! Но знаешь, когда я вернусь, мы можем покопать в этом направлении. Заставим Сузи покопать — это по ней. Если Гэбни присосались к состоянию Джины, она это обязательно раскопает. За отправную точку можно было бы взять эстамп Кассатт. Если передача не была законно оформлена, Сузи вцепится в них мертвой хваткой.
— Когда ты вернешься откуда? — спросил я.
— Из Сакраменто. Сузи отправляет меня туда в командировку. Похоже, у адвоката Дауса в последнее время какие-то неприятности с коллегией адвокатов, но по телефону они это обсуждать отказываются и даже при личной встрече требуют надлежащих документов в подтверждение того, что эти сведения мне действительно необходимы. Я уезжаю из Бербанка в шесть десять. Она перешлет мне бумаги по факсу прямо на место завтра утром. В час у меня встреча с несколькими банкирами, в половине четвертого — в коллегии адвокатов. После этого, говорит Сузи, придет очередь и других пунктов повестки дня.
— График плотный.
— Эта леди не терпит лодырей. У тебя что-то еще?
— Да. Бетель могла слышать, когда Чикеринг говорил Рэмпу о смерти Макклоски?
— Она была в комнате, разливала кофе. А что?
Я рассказал ему о спешном отъезде официантки.
— Возможно, что дело просто в эмоциональной перегрузке, Майло. Секундой позже я разговаривал с Ноэлем, и он сказал, что она испытывала стресс, боялась потерять работу. Возможно, известие еще об одной смерти оказалось последней каплей. Но я думаю, что она так отреагировала именно на смерть Макклоски. Потому что я думаю, что Макклоски — отец Ноэля.
Изумление, отразившееся на лице Майло, доставило мне истинное удовольствие. Я почувствовал себя словно мальчишка, который наконец-то выиграл у отца в шахматы.
— Вот это бросок, — вымолвил он. — Откуда ты это взял?
— Через свои вибриссы. В конце концов я это вычислил. Здесь не было никакой связи с поведением Ноэля, — все дело в его внешности. Я понял это буквально несколько минут назад. Он был расстроен из-за матери, опустил голову, и у него на лице появилось выражение покорности судьбе — точная копия того выражения, которое можно видеть у Макклоски на снимке, сделанном в момент ареста. Стоит только подметить это сходство, и оно становится поистине поразительным. Ноэль невысок, темноволос, хорош собой — почти красив. Макклоски раньше тоже был привлекательным, причем в этом же стиле.
— То было раньше, — сказал Майло.
— Вот именно. Тот, кто не знал его тогда, в те старые времена, ни за что бы не заметил сходства.
— В те старые времена, — пробормотал Майло и пошел обратно в ресторан.
* * *
— Очнись, Дон. — Майло пальцем приподнял подбородок Рэмпа.
Рэмп посмотрел на него мутными глазами.
— Слушай, Дон, мне приходилось бывать на твоем месте. Знаю, что выдавить из себя слово — это все равно что выписать почечный камень. Ничего не говори — просто мигай. Один раз будет «да», два раза будет «нет». Ноэль Друкер — сын Макклоски или нет?
Никакой реакции. Потом сухие губы сложились в слово «да», и вслед за этим послышался свистящий шепот.
— Ноэль знает? — спросил я.
Рэмп покачал головой и опустил ее на стол. Сзади на шее у него высыпали прыщи, и пахло от него, как от медведя в зоопарке.
Майло сказал:
— Ноэль и Джоэль. Что, у Бетель склонность к легким стихам?
Рэмп поднял голову. Кожа его лица качеством и цветом напоминала старый заварной крем, а в усы набились чешуйки кожи.
Он заговорил:
— Ноэль, потому что… она не умела. — Он покачал головой, и она у него опять стала опускаться.
Майло приподнял ему голову.
— Чего она не умела, Дон?
Рэмп уставился на него слезящимися глазами.
— Она не умеет… Она знала имя Джоэль… как выглядит это слово… поэтому Ноэль… четыре буквы такие же… запомнить.
Он перевел глаза на бутылку с виски, вздохнул и закрыл глаза.
Я спросил:
— Она не умела читать? Она назвала его Ноэлем, потому что это было похоже на «Джоэль», ей нужно было что-то такое, что она могла себе представить зрительно?
Кивок.
— Она до сих пор неграмотна?
Слабый кивок.
— Пробовала… Не смогла…
— Как ей удавалось делать работу? Записывать заказы, подсчитывать сумму счета?
Рэмп промычал что-то нечленораздельное.
Майло вспылил:
— Да говори же, черт бы тебя побрал, кончай слюни распускать!
Рэмп слегка приподнял голову.
— Память. Она знала все — все меню целиком… наизусть. Когда бывает… что-то специальное… она… мы это репетируем.
— А выписывать счет? — спросил Майло.
— Я… — Выражение полного изнеможения.
— Вы берете это на себя, — сказал я. — Вы берете на себя заботу о ней. Совсем как тогда, во время работы на студии. Кто она была — деревенская девушка, приехавшая на Запад, чтобы стать кинозвездой?
— Аппалачи… Бедная… семья…
— Бедная деревенская девушка. Вы знали, что в кино у нее ничего не выйдет, она не сможет даже прочитать роль. И вы помогали ей сохранить это в тайне какое-то время?
Кивок.
— Джоэль…
— Джоэль выдал ее секрет?
Опять кивок. Он рыгнул, и его голова свесилась на одну сторону.
— Фотографии для него.
— Из-за него она потеряла контракт со студией, и он взял ее на работу в качестве фотомодели.
Кивок.
— А как она получила водительские права? — спросил Майло.
— Письменные тесты… выучила их все на память.
— Должно быть, это заняло немало времени.
Рэмп кивнул и вытер нос тыльной стороной руки. Потом снова опустил голову на стол. На этот раз Майло оставил его в покое.
Я задал очередной вопрос:
— Она и Макклоски поддерживали контакт все эти годы?
Голова Рэмпа вздернулась с неожиданной быстротой.
— Нет — она ненавидела… это… не то, что она хотела.
— Что вы имеете в виду?
— Ребенок. Ноэль… — Он болезненно сморщился. — Любила его, но…
— Но что, Дон?
Умоляющий взгляд.
— Что же, Дон?
— Насилие.
— Она забеременела, когда Макклоски изнасиловал ее?
Кивок.
— Все время.
— Что все время, Дон?
— Насилие.
— Он все время ее насиловал?
Кивок.
— Почему вы не оградили ее от этого?
Рэмп заплакал. Слезы скатывались ему на усы и бусинками повисали на сальных волосах.
Он пробовал что-то сказать, но подавился и закашлялся.
Майло поддержал его голову за подбородок, взял салфетку и промокнул лицо плачущего Рэмпа.
— Ну что, Дон? — мягко спросил он.
— Все, — ответил Рэмп сквозь катящиеся слезы.
— Все ее насиловали?
Он всхлипнул. Сглотнул слюну.
— Имели ее… Она не… — С усилием он поднял руку и постучал себя по голове.
— Она не очень смышленая, — сказал Майло. — Все этим пользовались.
Кивок. Слезы.
— Все без исключения, Дон?
Голову Рэмпа повело в сторону, он клюнул носом. Его глаза закрылись. Изо рта с одной стороны потекла слюна.
— Ладно, Дон. — Майло снова опустил голову Рэмпа на стол.
Я пошел вслед за Майло обратно к бару. Какое-то время мы вдвоем просто сидели и смотрели на Рэмпа. Он начал храпеть.
— Шальная студийная компания, — сказал я. — И отсталая, неграмотная девушка, которую там между собой пускали по рукам.
— Откуда ты знаешь?
— По тому, как только что повел себя Ноэль. Мы говорили о его матери. В разговоре он упомянул, что работать где-то в другом месте, как она говорит, будет не то же самое, и начал было развивать эту мысль, но тут же остановился. Когда я стал настойчиво спрашивать, он рассердился и уехал. Это показалось мне необычным. Он такой юноша, который держит в узде свои эмоции и которому нельзя терять контроль над собой. Это типично для ребенка, выросшего в компании с родителем-наркоманом или алкоголиком. Поэтому я понял, что причина, заставившая его выйти из себя, должна быть очень важной. Потом, когда заговорил Рэмп, все стало на свои места.
— Неграмотная, — покачал головой Майло. — Жить так все эти годы, все время ожидая, что кто-то разоблачит ее. Рэмп, помогающий ей и ребенку из чувства вины.
— Или сострадания, или того и другого вместе. Видимо, он по-настоящему добрый парень.
— Да-а, — протянул Майло, глядя на Рэмпа и качая головой.
— Этим и объясняется, почему Бетель была согласна обслуживать столики, в то время как Рэмп и Джина жили по-королевски. Роль дверного коврика была для нее привычной. Актрисой не стала, пристрастилась к сильным наркотикам и Бог знает еще к чему. В довершение ко всему забеременела от мерзавца, которого все ненавидели. Позировала для фотографий, которые не могли иметь ничего общего с высокой модой. Ее телосложение явно не годилось для журнала «Вог». Это говорит о скрытом достоинстве, Майло. Она, вероятно, считает, что Рэмп дал ей больше, чем она заслуживает. А теперь рискует потерять даже это.
Майло провел рукой по лицу.
— Ты что? — спросил я.
— Если Макклоски разоблачил Бетель, а потом и изнасиловал ее, почему она повела себя, как сумасшедшая, когда узнала, что он мертв?
— Возможно, его смерть все-таки потеря для нее, несмотря ни на что. Возможно, она хранила в душе какую-то капельку доброго чувства к нему. За то, что он дал ей Ноэля.
Майло крутнулся на табуретке. Рэмп захрапел громче.
— Ладно, — сказал Майло. — А вдруг здесь что-то побольше твоей капельки доброго чувства? Что, если она и Макклоски все-таки поддерживали контакт друг с другом? Товарищи по несчастью. Общий враг.
— Джина?
— Они оба могли ее ненавидеть. Макклоски — по своей изначальной причине, какова бы она ни была, а Бетель — из обычной зависти бедных к богатым. Что, если ей не так уж и нравилось играть роль жертвы? Что, если был еще один компонент, подслащавший эти отношения, — деньги? Шантаж?
— По какому поводу?
— Кто знает? Джина ведь тоже входила в шальную компанию.
— Ты сказал, что в ее случае не нашел ничего компрометирующего.
— Значит, она более ловко устроила так, чтобы все было шито-крыто, — и тем дороже стоит тайна. Не ты ли говорил мне, что тайны и секреты здесь вроде валюты? Что, если Макклоски и Бетель понимали это буквально? Если Макклоски был партнером Бетель в каком-нибудь пакостном деле, то вполне понятно, почему она сбежала, услышав о его смерти.
— Джоэль и Бетель, Ноэль и Мелисса, — сказал я. — Черт побери, это уж слишком гнусно. Надеюсь, что ты ошибаешься.
— Знаю, — отозвался Майло. — Все время к ним возвращаюсь. Но ведь не мы писали этот сценарий — мы всего лишь смотрим готовый фильм.
Его лицо все еще сохраняло страдальческое выражение.
Я продолжил свои рассуждения:
— Что, если это Ноэль переехал Макклоски? Он первый, о ком я подумал, когда узнал, что орудием убийства был автомобиль. Машины — это его стихия. И у него есть доступ ко всем машинам Джины. Как ты думаешь, не открыть ли нам все эти гаражи и посмотреть, нет ли у одного из экспонатов повреждений на передке?
— Пустая трата времени, — ответил Майло. — Он никогда бы не взял одну из этих машин. Слишком уж заметны.
— Но в Азусе никто не видел «роллса» Джины на пути к водохранилищу.
— Неверно. Мы этого не знаем. Шериф зарегистрировал происшествие как несчастный случай, но никто не обошел дома и не опросил жителей.
— Ладно, — согласился я. — Допустим, Ноэль воспользовался какой-то машиной хозяйственного назначения. У них была одна такая — в те времена, когда я лечил Мелиссу. Старый «кадиллак-флитвуд» 62-го года. Она звала его «кэдди-работяга». Наверно, и сейчас у них есть что-нибудь вроде этого — не ездить же за покупками на «дюзенберге». Эта машина спрятана где-то на этих семи акрах или в одном из гаражей. Но Ноэль мог покончить с Макклоски и на угнанной машине — наверняка знал, как соединить провода.
— Идеальный юноша становится малолетним преступником?
— Ты сам говоришь, что все меняется.
Майло повернулся к бару.
— Жертвы Эдипова комплекса, — проговорил он. — Стопроцентный американский мальчик размазывает по асфальту своего отца. Какое лечение потребуется, чтобы подлатать такого?
Я ничего не ответил.
У себя в кабинке Рэмп всхрапнул, стал ловить ртом воздух. Его голова приподнялась, снова упала, перекатилась на бок.
Майло сказал:
— Было бы неплохо привести его в чувство и посмотреть, что еще из него можно выжать. А еще неплохо было бы подождать здесь и посмотреть, не вернется ли старушка Бетель.
Он посмотрел на часы.
— Мне пора ехать в аэропорт. Как у тебя настроение — насчет того, чтобы покрутиться здесь? Я свяжусь с тобой, как только устроюсь, — скажем, до девяти часов.
— А что же твой наблюдатель? Разве он не может взять это на себя?
— Нет. Он не может работать в открытую. Такова была договоренность.
— Антиобщественный тип?
— Что-то вроде.
— Ладно, — сказал я. — Я собирался повисеть какое-то время на телефоне — проверить кое-что еще в Бостоне. Что я должен делать, если вернется Бетель?
— Подержи ее здесь. Постарайся побольше вытянуть из нее.
— И какими пользоваться приемами?
Он вышел из-за стойки, поддернул брюки, застегнул пиджак и хлопнул меня по спине.
— Используй свой шарм, свою докторскую степень, наглую ложь — что тебе удобнее.
34
Состояние Рэмпа перешло в глубокий сон. Я убрал со стола бутылку, стакан и чашку, составил их в мойку за стойкой бара и убавил яркость освещения, сделав ее переносимой для глаз. Позвонил своей телефонистке и узнал, что из Бостона меня никто не разыскивал; было лишь несколько деловых звонков, на которые я и отвечал следующие полчаса.
В половине пятого зазвонил телефон: кто-то хотел узнать, когда «Кружка» снова откроется. Я сказал, что в самое ближайшее время, и положил трубку, чувствуя себя настоящим бюрократом. В течение следующего часа я разочаровал массу людей, которые хотели зарезервировать столик.
В половине шестого я почувствовал, что мерзну, и отрегулировал термостат кондиционера. Сняв скатерть с одного из столов, я укрыл ею Рэмпа. Он продолжал спать. Совсем как Мелисса, хотя ни он, ни она никогда об этом не узнают.
Без двадцати шесть я сходил на кухню ресторана и сделал себе сандвич с ростбифом и салат из сырой капусты, моркови и лука. Кофейный бачок остыл, так что я решил довольствоваться кока-колой. Перенеся все это обратно на стойку бара, я поел и понаблюдал за все еще спавшим Рэмпом, потом позвонил в дом, который он недавно называл своим.
Подошла Мадлен. Я спросил, там ли еще Сьюзан Лафамилья.
— Oui. Один момент.
Через секунду я услышал ее голос.
— Здравствуйте, доктор Делавэр. Что нового?
— Как там Мелисса?
— Именно об этом я хотела бы с вами поговорить.
— Как она себя чувствует в данный момент?
— Я заставила ее поесть, так что полагаю, это хороший знак. Что вы можете мне сказать о ее психологическом состоянии?
— С какой точки зрения?
— С точки зрения душевной стабильности. При разбирательстве дел такого рода порой возникают неприятные моменты. Считаете ли вы, что она в состоянии выдержать судебный процесс и не сорваться?
— Здесь дело не в срыве, — сказал я, — а в кумулятивном уровне стресса. Ее настроение подвержено взлетам и спадам. Она колеблется между крайней усталостью, замыканием в себе и вспышками гнева. Она еще не стабилизировалась. Я бы какое-то время понаблюдал за ней, не ввязывался бы сразу в судебную схватку, пока не убедился бы, что она обрела равновесие.
— Взлеты и спады. Что-то вроде этой маниакально-депрессивной штуки?
— Нет. У нее в этом нет ничего психотического. Напротив, все довольно логично, учитывая те эмоциональные качели, на которых она находится.
— Сколько, по-вашему, ей потребуется времени, чтобы прийти в норму?
— Трудно сказать. Вы можете работать с ней по вопросам стратегии — интеллектуальной ее части. Но избегайте пока всего конфронтационного.
— Как раз с ее стороны я и вижу пока почти сплошную конфронтацию. Это меня удивило. Ее мать умерла лишь несколько дней назад — я ожидала более сильных проявлений горя.
— Это может иметь отношение к приему, которому она научилась во время лечения много лет назад. Трансформировать тревогу и страх в гнев, чтобы чувствовать себя более уверенно.
— Понимаю. Значит, вы считаете, что она в полном порядке?
— Я уже сказал, что не хотел бы ее подвергать никакому большому испытанию в данный момент, но в конце концов, по моим прогнозам, она должна войти в норму. Психически она совершенно здорова — это однозначно.
— Ладно. Хорошо. Вы согласились бы повторить это в суде? Потому что не исключено, что дело под конец закрутится вокруг вопроса о дееспособности.
— Даже если та сторона занималась незаконными операциями?
— Если окажется, что это так, то нам крупно повезет. Я расследую и этот аспект, как Майло уже вам, без сомнения, сказал. Джим Даус только что получил развод, который влетел ему в копеечку, и мне доподлинно известно, что он выкупил слишком много компромата ради сохранения своего портфеля. В адвокатуре штата ходят слухи о каком-то темном деле, но может оказаться, что это не более чем попытка адвокатов его бывшей супруги вывалять его в грязи. Так что мне приходится соблюдать осторожность и исходить из того, что Даус и адвокат вели себя, как святые. Даже если это не так, то документацией можно манипулировать и до главного надувательства будет трудно докопаться. Я все время имею дело с киностудиями — их бухгалтеры на этом собаку съели. А наше дело обещает быть пакостным, потому что речь идет о крупном состоянии. Оно может затянуться на долгие годы. Мне необходимо знать, крепко ли стоит на ногах моя клиентка.
— Достаточно крепко, — сказал я. — Для человека ее возраста. Но это не значит, что она неуязвима.
— Довольно будет и простой стойкости, доктор. А, вот она возвращается. Вы хотите с ней поговорить?
— Конечно.
Раздался какой-то стук, потом я услышал:
— Привет, доктор Делавэр.
— Привет, как у тебя дела?
— Нормально… Вообще-то, я думала, мы с вами могли бы поговорить?
— Конечно. Когда?
— Ну… сейчас я работаю со Сьюзан и вроде начинаю уставать. Как вы насчет завтра?
— Хорошо, завтра. В десять утра тебя устроит?
— Конечно. Спасибо, доктор Делавэр. И простите меня, если вам было со мной… трудно.
— Ничуть, Мелисса.
— Просто я… я не думала о… маме. Наверно, я… отвергала это — не знаю, — когда все спала и спала. Теперь я все время думаю о ней. Не могу остановиться. Никогда больше не видеть ее — ее лица… знать, что она никогда больше не…
Всхлипывания. Долгое молчание.
— Я здесь, Мелисса.
— Ничего теперь не поправить, — сказала она. И повесила трубку.
* * *
В половине седьмого ни Бетель, ни Ноэля все еще не было видно. Я позвонил своей телефонистке, и мне было сказано, что звонил профессор «Сэм Фикер» и оставил номер телефона в Бостоне.
Я набрал этот номер, и мне ответил детский голос:
— Але?
— Попросите профессора Фиэкра, пожалуйста.
— Папы нет дома.
— А ты знаешь, где его можно найти?
Взрослый женский голос вклинился в разговор:
— Дом семьи Фиэкр. Кто говорит?
— Это доктор Алекс Делавэр. Я звоню в ответ на звонок профессора Фиэкра.
— Я здесь присматриваю за ребенком, доктор. Сет предупредил, что вы можете позвонить. Вот номер, по которому вы его найдете.
Она продиктовала цифры, и я их записал. Поблагодарив ее, я назвал ей номер телефона «Кружки» для обратной связи, повесил трубку и тут же набрал тот номер, который она мне продиктовала.
Мужской голос проговорил:
— «Дары моря», Кендл-сквер.
— Я разыскиваю профессора Фиэкра. Он у вас обедает.
— Еще раз по буквам, пожалуйста.
Я продиктовал.
— Подождите.
Прошла минута. Потом еще три. Рэмп, кажется, начал просыпаться. С трудом сев и выпрямившись, он вытер лицо грязным рукавом, помигал глазами, огляделся вокруг и уставился на меня.
Ни искры узнавания. Закрыв глаза, он плотнее натянул скатерть на плечи и снова улегся головой на стол.
В трубке послышался голос Сета:
— Алекс?
— Привет, Сет. Прости, что отрываю тебя от обеда.
— Ты очень точно выбрал время — у нас как раз смена блюд. Насчет супругов Гэбни удалось узнать очень немного — только то, что их отъезд был не вполне добровольным. Так что они действительно могли быть замешаны в чем-то неприглядном, но я так и не смог выяснить, в чем именно.
— Их попросили уйти из Гарварда?
— Официально нет. Ничего процессуального там не было, насколько я мог судить, — люди, с которыми я разговаривал, ни за что не хотели вдаваться в подробности. Я понял только, что была какая-то взаимная договоренность. Они отказались от должности и уехали, а те, кто что-то знал, не стали в этом копаться. Но что это такое, я не знаю.
— А ты узнал, какого рода пациентов они лечили?
— Страдающих фобией. Извини, но это все, что удалось узнать.
— Ну что ты, большое тебе спасибо.
— Я-таки порылся в «Психологических рефератах» и в «Медлайн», чтобы попробовать узнать, какой именно работой они занимались. Получается совсем немного. Она вообще не опубликовала ни строчки. Раньше Лео пек свои материалы как блины. Потом вдруг, четыре года назад, все резко прекратилось. Никаких экспериментов, никаких клинических исследований, только парочка эссе, очень слабеньких. Настолько, что никто не стал бы их публиковать, не будь он Лео Гэбни.
— Эссе на какую тему?
— Философские вопросы — свободная воля, важность личной ответственности. Энергичные атаки на детерминизм — в том смысле, что любое поведение можно изменить при верном определении соответствующих стимулов и подкрепителей. И так далее, и тому подобное.
— Звучит не слишком дискуссионно.
— Не слишком. Возможно, сказывается возраст.
— И в чем именно это проявляется?
— В том, что человек начинает философствовать и отходит от настоящей науки. Я сам не раз наблюдал, как подобное случалось с людьми в климактерический период. Обязательно скажу своим студентам, что если когда-нибудь буду в этом замечен, пускай выведут меня в поле и пристрелят.
Мы приятно поболтали еще несколько минут, потом попрощались. Когда линия освободилась, я позвонил в «ГАЛА бэннер». Записанный на пленку голос сообщил мне, что редакция газеты закрыта. Сигнала для того, чтобы я мог оставить свое сообщение, не последовало. Я набрал номер справочной в Бостоне и попытался узнать домашний телефон редактора Бриджит Маквильямс. В справочнике у них оказался один абонент с такой фамилией — Б.Л. Маквильямс, но на мой звонок ответил сонный мужской голос с карибским акцентом, обладатель которого уверил меня, что у него нет родственницы по имени Бриджит.
На часах было без двадцати семь. Я пробыл в ресторане наедине с Рэмпом больше двух часов, и это место смертельно мне надоело. За стойкой бара я нашел немного писчей бумаги и портативное радио. Станция KKGO больше не передавала джазовой музыки, так что пришлось довольствоваться легким роком. Я все еще думал о том, что мог упустить, не уловить.
Семь часов. Бумага покрылась каракулями. Все еще никаких следов ни Бетель, ни Ноэля. Я решил дождаться, когда Майло прилетит в Сакраменто, позвонить ему и отпроситься с задания. Поеду домой, посмотрю, как там икринки, может, даже позвоню Робин… Я снова набрал номер своей телефонистки, продиктовал ей сообщение для Майло на тот случай, если он позвонит, а меня не будет.
Телефонистка записала его, а потом сказала:
— Для вас тоже кое-что есть, доктор.
— От кого?
— От какой-то Салли Этеридж.
— А она не сказала, какое у нее ко мне дело?
— Нет, оставила только фамилию и номер. Звонить по междугородной — код и в этот раз шесть-один-семь. Это что, Бостон?
— Да. Диктуйте, я записываю номер.
— Что-то важное, да?
— Возможно.
* * *
В трубке послышалось что-то вроде «угу». Женский голос на фоне музыки. Я выключил свое радио. Музыка на другом конце провода приобрела более четкие формы: ритм и блюзы, много труб. Возможно, Джеймс Браун.
— Мисс Этеридж?
— У телефона.
— Это доктор Алекс Делавэр. Я звоню из Лос-Анджелеса.
Молчание.
— Я думала, позвоните вы или нет. — Голос грубоватый, с хрипотцой. Южный акцент.
— Чем могу вам служить?
— Скорее наоборот.
— Это Бриджит Маквильямс дала вам мой телефон?
— Точно.
— Вы работаете репортером в «Бэннер»?
— Ну да, конечно. Беру интервью у выключателей. Я электрик, мистер.
— Но вы знаете Кэти — Кейт Мориарти?
— Вы слишком торопитесь задавать вопросы. — Она говорила медленно, нарочито медленно. В конце фразы послышался смешок. Ее произношение показалось мне несколько смазанным, как это бывает при алкогольном опьянении. А может быть, на мое восприятие просто повлияло столь длительное пребывание в компании с Рэмпом.
— Кейт никто не видел больше месяца, — сказал я. — Ее родственники…
— Да-да, эту песню я слышала. Бридж мне сказала. Передайте родственникам, чтобы не лезли из кожи вон. Кейт часто исчезает — такая у нее привычка.
— Возможно, что на этот раз речь идет не об «обычном» исчезновении.
— Вы так думаете?
— Я так думаю.
— Ну, вам виднее.
— Если вас это не беспокоит, то зачем было мне звонить?
Пауза.
— Хороший вопрос… Я вас даже не знаю. Давайте-ка бросим эту бодягу и разбежимся…
— Подождите, — взмолился я. — Прошу вас.
— Вежливый, да? — Она засмеялась. — Ладно, даю вам одну минуту.
— Я психолог. В оставленном для Бриджит сообщении объясняется, как я мог бы…
— Да-да, об этом я тоже в курсе. Значит, роетесь в мозгах. Уж извините, если это меня как-то не очень успокаивает.
— У вас что, неприятный опыт общения с психдокторами?
Молчание.
— Я себе нравлюсь такая, как есть.
— Айлин Уэгнер, — сказал я. — Вы из-за нее звонили.
Она долго молчала. На какой-то момент я подумал, что она отключилась.
Потом я услышал:
— Вы знали Айлин?
— Мы познакомились, когда она работала здесь педиатром. Она направила ко мне пациентку, но, когда я хотел связаться с ней, чтобы обсудить этот случай, она мне так и не перезвонила. Наверно, к тому времени ее уже не было в городе. Уехала работать за границу.
— Да, наверно.
— Они с Кейт дружили?
Она засмеялась.
— Нет.
— Но Кейт заинтересовала смерть Айлин — я нашел вырезку, которую она поместила в свой альбом. Вырезка из «Бостон глоб», без подписи. Может быть, Кейт в то время внештатно сотрудничала с «Глоб».
— Я не знаю, — резко ответила она. — За каким чертом я должна интересоваться, какого дьявола она делает и на какого дьявола работает?
Ну точно, у нее алкогольная смазанность речи.
Опять молчание.
— Сожалею, если разговор со мной расстроил вас.
— Неужели?
— Да.
— А почему?
Ее вопрос застал меня врасплох, и, прежде чем я нашелся, что ответить, она добавила:
— Вы меня в глаза не видели — какого дьявола вас должно интересовать, что я чувствую?
— Ладно, — сдался я. — Это не сочувствие конкретно вам. Просто сила привычки. Мне нравится делать людей счастливыми. Возможно, в какой-то мере это льстит моему профессиональному самолюбию. Я специально учился на утешителя.
— На утешителя. А что, мне это нравится. Утешать-потешать. Вместе с битлами. Джон, Пол, этот-как-его и Ринго. И мозгоправом. Заводить толпу…
Она нервно засмеялась. На фоне Джеймса Брауна, который о чем-то молил. О любви или сострадании.
— Айлин тоже была утешительница, — сказал я. — Неудивительно, что она занялась психиатрией.
Еще четыре такта Брауна.
— Мисс Этеридж?
Молчание.
— Салли?
— Да, я еще здесь. Бог знает, почему.
— Расскажите мне об Айлин.
Восемь тактов. Я затаил дыхание.
Наконец она заговорила:
— Рассказывать-то нечего. Пропал человек ни за что. Натурально ни за что, будь оно проклято.
— Почему она это сделала, Салли?
— А вы как думаете? Потому что не хотела быть такой, какой была… после того… после того, как…
— После чего?
— После того, как потратила столько дерьмового времени! После стольких часов пустопорожней трепотни. С мозгоправами, консультантами, чтоб им пусто было! Я думала, мы со всем этим дерьмом разделались раз и навсегда, наплевали и забыли. Я думала, ей хорошо. Я, черт бы их всех побрал, думала, что она не считает себя ненормальной в том виде, как Бог в своем бесконечном милосердии создал ее. Будь она проклята!
— Может, кто-то убедил ее в обратном. Может, кто-то попытался изменить ее.
Десять тактов Брауна. Я вдруг вспомнил название песни. «Бэби, прошу тебя, не уходи».
— Может, и так, — сказала она. — Откуда мне знать.
— Кейт Мориарти так думала, Салли. Она ведь что-то узнала о врачах, которые лечили Айлин, верно? Именно поэтому она и проделала весь этот путь до Калифорнии.
— Откуда мне знать, — повторила она. — Я не знаю. А она только и делала, что задавала вопросы. Она никогда не трепалась о своих делах, думала, что я обязана с ней разговаривать, потому что она лесбиянка.
— А как вы с ней познакомились?
— Через «ГАЛА». Я делала всю проводку в их треклятой конторе. Разинула рот и рассказала ей об… Айлин. Она загорелась, что твоя рождественская елка. Вдруг мы сразу оказались сестрами по оружию. Но она никогда ничего не рассказывала, только задавала вопросы. Она установила все эти правила — о чем могла говорить, о чем нет… Я думала, что мы… но она… а, к черту все! К чертям собачьим все это дело. Я не собираюсь еще раз через это проходить, так что отстань от меня и катись в задницу!
В трубке тишина. Никакой музыки.
Я с минуту подождал, снова набрал ее номер. Занято. Попробовал еще раз через пять минут — с тем же успехом.
Я сидел и обдумывал весь расклад. Вещи представлялись теперь в ином свете. В другом контексте, который прояснял все.
Пора позвонить еще по одному номеру.
С другим территориальным кодом.
Этот номер был в справочнике. Фамилия и один инициал. Я записал, набрал номер, подождал, и после пяти гудков трубку сняли, кто-то сказал: «Алло».
Я положил трубку, не ответив на приветствие. Вентиляция не работала, но мне показалось, что в комнате стало холоднее. Накинув Рэмпу на плечи еще одну скатерть, я вышел.
35
Пять минут я изучал Томасовский справочник. Сто двадцать минут я ехал по 101-му шоссе в северном направлении.
Сгустившиеся сумерки застали меня на полпути. К тому времени как я достиг Санта-Барбары, небо стало черным. Я выехал на 154-е шоссе возле Галеты, довольно легко нашел перевал Сан-Маркос и по горным дорогам доехал до самого озера Качума.
Гораздо труднее оказалось найти то, что я искал. В этой местности были в основном ранчо — никаких тебе уличных указателей, никаких фонарей, никакого рекламного буйства торговой палаты. Первый раз я проскочил поворот и понял это только тогда, когда оказался в городке Баллард. Развернувшись в обратном направлении, я поехал медленнее. Всматриваясь до боли в глазах и держа ногу на тормозе, я все-таки опять проскочил свой поворот. Но мои фары успели на мгновение выхватить из темноты деревянную табличку, и этого оказалось достаточно, чтобы мозг зафиксировал се образ, пока я проезжал мимо.
РАНЧО «СТИМУЛ»
ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Я выключил фары, дал задний ход и высунулся из окна. Здесь, в горах, было прохладнее. Дул ветерок, пахнущий пылью и сухой травой. Табличка была самодельная, буквы образованы шляпками гвоздей, вколоченных в сосновую доску, которая была подвешена над прямоугольными деревянными воротами и слегка покачивалась. Ворота были невысокие, приземистые, из горизонтальных досок в деревянной раме. Метра в полтора высотой, они соединялись с забором из плотно пригнанных досок.
Не выключая мотора, я выбрался из машины и подошел к воротам. Когда я толкнул их, они немного подались, но не открылись. После нескольких неудачных попыток я нашел, куда поставить носок ноги на стыке двух досок, подтянулся и провел рукой по краю ворот с внутренней стороны. Металлический засов. Большой висячий замок. Открывшийся мне вид был едва освещен светом звезд. Сразу за воротами начиналась немощеная дорога, пролегавшая, как мне показалось, между высокими деревьями. Дальше виднелись горы, островерхие и черные, словно ведьмин колпак.
Вернувшись к машине, я вывел ее на дорогу и проехал метров сто вперед, пока не нашел место, где обочину скрывали деревья. Это были скорее кусты. Тощие, исхлестанные ветром, они росли, казалось, прямо из склона горы и нависали над асфальтом дороги. Настоящего укрытия они не давали, но могли предохранить автомобиль от случайного обнаружения.
Я припарковал и запер машину, пешком вернулся к воротам, снова нащупал ногой опору и мгновенно оказался по ту сторону ворот.
Дорога была вся в выбоинах и камнях. Несколько раз я оступался в темноте и падал на руки. Подойдя ближе к высоким деревьям, я уловил сосновый аромат. Лицо начало зудеть — невидимая мошкара лакомилась моей плотью.
Деревья росли близко друг к другу, но их было немного. Через несколько мгновений я вышел на совершенно открытое место. Оно было абсолютно ровным и слабо освещалось тоненьким серпиком луны. Я остановился и прислушался. Услышал биение пульса в висках. Постепенно стали проступать детали.
Участок земли размером с футбольное поле, на котором росло с полдюжины деревьев, посаженных без какого бы то ни было различимого порядка. У подножия стволов некоторых деревьев были установлены низковольтные лампы подсветки.
Мой нос снова принялся за работу. Аромат цитрусовых был так силен, что во рту появился вкус лимонада, ассоциирующийся с летними каникулами. Но этот запах ничуть не смущал насекомых, которые продолжали меня есть.
Я осторожно двинулся вперед. Шаг, десять шагов, потом двадцать. Сквозь листья одного из деревьев проглянули нечеткие белые прямоугольники. Я вышел из-за кроны цитрусового дерева. Прямоугольники превратились в окна. Я знал, что за окнами должна быть стена, и мозг нарисовал ее прежде, чем увидели глаза.
Дом. Скромных размеров. Один этаж, пологая крыша. За тремя окнами свет, но ничего не видно. Шторы задернуты.
Типичный антураж калифорнийского ранчо. Тишина. Пасторальный покой.
Такой мирной была эта картина, что я засомневался в правильности своей интуитивной догадки. Но слишком многое сходится…
Я стал искать другие конкретные вещи.
Увидел автомашину, которую хотел найти.
Слева от дома было пространство, огороженное забором из столбов и жердей. Загон.
Дальше за ним хозяйственные постройки. Я направился к ним, услышал ржание и фырканье лошадей, в нос мне ударил густой аромат старого сена и навоза.
Производимые лошадьми звуки стали громче. Я установил их источник: конюшня, расположенная сразу за загоном. Метрах в двадцати за конюшней — высокое строение без окон. Фуражный амбар. Еще дальше и правее — какая-то постройка поменьше.
Там тоже был свет. Один прямоугольник. Светилось единственное окно.
Я двинулся дальше. Лошади били копытами и ржали. Громче и громче. Судя по звукам, их было всего несколько, но свою малочисленность они с лихвой восполняли беспокойным нравом. Затаив дыхание, я продолжал продвигаться вперед. Копыта стучали по мягкому дереву; мне показалось, что я ощутил, как дрожит земля, но, возможно, это просто дрожали мои ноги.
Лошади разбушевались не на шутку. Со стороны самого маленького строения послышался скрип и щелчок. Прижавшись к изгороди загона, я увидел, как из распахнувшейся двери на землю упала полоса света. Просвистела дверь из проволочной сетки, и кто-то вышел.
Лошади продолжали бить копытами и ржать. Одна из них громко захрапела.
— Тихо, вы! — крикнул низкий голос.
Сразу наступила тишина.
Крикнувший постоял с минуту, потом снова вошел внутрь строения. Полоса света превратилась в тонкую нить, но не исчезла. Я остался на месте, прислушиваясь к шумному дыханию лошадей и ощущая, как какие-то малюсенькие многоногие твари разгуливают у меня по лицу и рукам.
Наконец, дверь полностью закрылась. Я шлепнул себя несколько раз по щекам и подождал еще пару минут, прежде чем двигаться дальше.
За стенами конюшни лошади опять заржали, но уже тихонько и жалобно. Я пробежал мимо, взметывая гравий и проклиная свои кожаные ботинки.
Добежав до двери амбара, я остановился. От маленького строения тоже доносились звуки — другие, не лошадиные. Слабый отсвет ложился на землю из единственного окна. Вплотную прижимаясь к стене амбара, я стал осторожно прокрадываться к освещенному окну.
Шаг, потом другой. Звуки становились все более различимыми, приобрели тональность и форму.
Человеческие голоса.
Диалог.
Один голос говорил, другой бормотал. Нет. Стонал.
Я был уже у передней стены этого небольшого строения, прижимаясь к шершавому дереву, но еще не мог разбирать слов.
Первый голос говорил сердитым тоном.
Что-то приказывал.
Второй голос сопротивлялся.
Послышался странный высокочастотный шум, похожий на звук включаемого телевизора. Опять стоны. Громче, чем раньше.
Кто-то сопротивлялся и за это подвергался какой-то пытке.
Я сделал бросок к окну, присел под ним как можно ниже, пока не почувствовал боли в коленях, потом медленно приподнялся и попробовал заглянуть внутрь сквозь шторы.
Я увидел лишь светлый туман, в котором только и смог уловить какие-то намеки на движение — перемещение чего-то в освещенном пространстве.
Изнутри продолжали доноситься звуки испытывающего страдания существа.
Я подобрался к двери, потянул на себя и открыл закрывавшую проем сетчатую створку. Вздрогнул, когда она неожиданно скрипнула.
Звуки продолжались.
Я стал шарить в потемках, пока не наткнулся на ручку внутренней двери.
Ржавая и разболтанная ручка загремела с металлическим лязгом. Я прекратил шум, схватившись за ручку обеими руками. Медленно повернул ее и толкнул дверь.
Открылась небольшая щель, в которую можно было заглянуть. С сильно бьющимся сердцем я заглянул. То, что я увидел там, заставило сердце забиться еще сильнее.
Моя рука распахнула дверь… я вошел.
* * *
Я оказался в длинной и узкой комнате, стены которой были обшиты панелями под древесину эвкалипта и цветом напоминали пепел от сигареты. Пол был покрыт черным линолеумом. Комната освещалась двумя фонарями дешевого вида, подвешенными в противоположных концах. От настенного обогревателя шло сухое тепло с запахом дыма.
В центре комнаты на расстоянии метра друг от друга к полу были привинчены два парикмахерских кресла, установленные в полулежачее положение.
Первое кресло было свободно. Во втором находилась женщина в больничном халате, пристегнутая к креслу широкими кожаными ремнями, которые охватывали ее щиколотки, запястья, талию и грудь. У нее на голове были выбриты участки волос, так что получилось какое-то грубое подобие шахматной доски. На выбритых участках, на руках и на внутренней стороне бедер были закреплены электроды. Отходящие от каждого электрода провода соединялись в один общий кабель оранжевого цвета, который змеился по полу и заканчивался у серого металлического ящика высотой с холодильник и раза в два шире. На передней стенке ящика располагались шкалы и циферблаты приборов. Некоторые стрелки подрагивали.
Из-за ящика выступал край какого-то предмета. Блестящие хромированные ножки на колесиках.
Второй кабель шел от ящика к устройству, стоявшему на сером металлическом столе. Рулон бумаги на барабане и механическая рука. На ней закреплен ряд механических перьев. Перья вычерчивали зубчатые линии поперек медленно вращающегося барабана. Рядом с самописцем стояло несколько аптечных пузырьков янтарного цвета и белый пластиковый ингалятор.
Прямо напротив женщины в кресле располагался большой телевизор на подставке. На экране застыло изображение женской груди крупным планом, где сосок был величиной с яблоко. Потом картинка сменилась: возникло изображение лица, тоже крупным планом. Потом покрытый волосами лобок. Потом опять сосок.
Возле телевизора стоял человек с черным дистанционным пультом в одной руке и серым, большего размера, в другой. Он жевал жевательную резинку. Его глаза горели триумфом, превратившимся при виде меня в тревогу.
Женщина в кресле была Урсула Каннингэм-Гэбни. Ее глаза в покрасневших и припухших веках были широко раскрыты от ужаса, а в рот был засунут кляп, сделанный из синего платка.
Мужчине на вид было около шестидесяти, пышная грива белых волос, маленькое круглое лицо. Он был одет в черный бумажный свитер, синие джинсы и рабочие сапоги. Сапоги были покрыты коркой засохшей грязи. Он широко раскрыл глаза и моргнул.
Его жена попыталась закричать сквозь кляп, но у нее получился лишь тоненький звук, как при рвотном позыве.
Он даже не взглянул на нее.
Я пошел на него.
Он покачал головой и нажал какую-то кнопку на сером пульте. Высокочастотный звук, который я слышал снаружи, наполнил комнату — пронзительный, словно крик птицы под ножом мясника, — и стрелка на одном из циферблатов сделала скачок. Тело Урсулы дернулось и напряглось, натягивая державшие его ремни. Судороги не прекратились и продолжали сотрясать его, так как палец ее мужа не отпускал кнопку. Казалось, он даже не замечает жены; он неотрывно смотрел на меня и постепенно пятился.
От ужаса у меня, все поплыло перед глазами. Тряхнув головой, чтобы восстановить зрение, я шагнул вперед.
— Стойте на месте, черт вас дери! — прорычал он своим басом и нажал еще одну кнопку. Высокий звук превратился в визг, когда еще одна стрелка прыгнула вправо. В комнате запахло подгоревшим в тостере хлебом. Урсула замычала сквозь кляп и задергалась, словно ее душили за горло. Пальцы на привязанных руках и ногах свело судорогой. Тело выгнулось дугой, и казалось, что лишь привязной ремень не дает ему взлететь с кресла. Жилы у нее на шее вздулись, какая-то сила разжала ее челюсти, и кляп вылетел у нее изо рта, сопровождаемый беззвучным криком. Тело одеревенело, кожа стала серебристо-белого цвета, губы посинели.
Я пытался побороть поднимавшиеся во мне тошноту и панику. Гэбни оттанцевал еще дальше от меня, наполовину скрывшись за большим серым шкафом и все еще держа палец на сером пульте.
Я был уже у кресла.
Гэбни отпустил кнопку и сказал:
— Ну, давайте. Плоть — отличный проводник. Я прибавлю напряжения и поджарю вас обоих.
Я остановился. Тело Урсулы осело, словно мешок с камнями. Какие-то хрипы и свисты вырывались у нее из открытого рта. Она помотала головой из стороны в сторону, разбрызгивая капли пота; грудь ее судорожно вздымалась, словно ей не хватало воздуха, который она с храпом втягивала чудовищно распухшими губами. Последними расслабились ноги, при этом они слегка раздвинулись. Вставленный между ними электрод держался на чем-то вроде гигиенической прокладки.
Я резко отвернулся, стал искать глазами Гэбни.
Его голос послышался из-за серого шкафа:
— Сядьте — дальше назад. Еще дальше — вот так хорошо. И держите руки на виду. Вот так.
Он показался из-за шкафа; еще бледнее, чем был, одной рукой опираясь на верхний угол сверкающего хромом предмета. Искоса взглянул на изображение гигантской груди.
Подумав, что у него может быть помощник, я сказал:
— Внушительное оборудование. Пожалуй, одному человеку трудновато управляться.
— Оставь свой снисходительный тон, ты, нахальный кусок дерьма. Со всем можно управиться, достаточно держать под контролем нужные переменные величины. Нет, не вздумай двинуться, или мне придется еще раз применить отучающие стимулы.
— Я все понял.
Его пальцы плясали над кнопками серого пульта, но он не прикоснулся ни к одной из них.
— Контроль, — произнес я. — Это и есть главная цель?
— Вы называете себя ученым. Ваша цель разве состоит в другом?
Прежде чем я успел ответить, он с отвращением покачал головой.
— Определить, предсказать и контролировать. Иначе для чего все это нужно?
— Как это примирить с вашими идеями о свободе воли?
Он усмехнулся.
— А, мои маленькие изыскания? Вы были настолько добросовестны, что прочли их? Ну, если бы вы были хоть наполовину так сообразительны, как сами считаете, то увидели бы, что во всем этом масса свободной воли. Речь идет именно о свободе воли — о ее восстановлении. — Он бросил взгляд на аппаратуру. — Человек, скованный серьезным личностным дефектом, никак не может быть свободным.
Урсула застонала.
Этот звук заставил его нахмуриться.
— Где Джина? — спросил я.
Он никак не отреагировал. Стоял и молчал, как мне показалось, довольно долго, уставившись глазами в пол.
Потом потянул на себя ту хромированную штуку и наполовину выдвинул ее из шкафа.
Койка на колесах. С подъемными бортиками из прутьев. Колыбель для взрослого человека, какие используются в частных лечебницах или санаториях.
В ней неподвижно лежала Джина Рэмп. Глаза закрыты. Спит или без сознания, или… Я увидел, как шелохнулась ее грудь. Увидел ее выстриженную шахматными квадратиками голову… от нее тоже тянулись провода.
— Слушай меня внимательно, недоумок, — заговорил в конце концов Гэбни. — Я собираюсь подойти к креслу и подобрать платок. Но палец буду держать на кнопке максимального напряжения. Только пошевелись, и я сожгу твою драгоценную Джину. Пятнадцать секунд при таком напряжении вызывают смерть. Еще меньше времени требуется для того, чтобы мозг получил необратимые повреждения.
Он слегка постучал по кнопке, заставив распростертое тело дернуться.
— Я не двигаюсь, — сказал я.
Не спуская с меня глаз, он присел возле кресла, в котором находилась его жена, подобрал кляп, поднялся с корточек, скатал его и запихнул ей в рот. Она подавилась, закашлялась, но не сопротивлялась. На подшивке ее халата можно было прочесть, что это собственность Массачусетской больницы общего профиля.
— Отдохни, дорогая, — сказал он. Нажав кнопку на черном пульте, он выключил телевизор. Стоя перед экраном, он посмотрел на нее взглядом, который я не мог отнести ни к одной категории — в нем было обладание и презрение, похоть и крошечная капелька привязанности, отчего мне стало особенно не по себе. Я посмотрел на Джину, которая до сих пор не шевелилась.
— За нее не волнуйся, — усмехнулся Гэбни. — Она еще чуточку поспит — это хлоралгидрат, добрый старый Микки Финн[20]. Она прекрасно на него реагирует. Принимая во внимание историю ее жизни и слабое здоровье, я к ней отнесся деликатно.
— Надо же, какой такт.
— Больше не перебивай меня. — Он повысил голос и нажал на кнопку. От этого комнату наполнил пронзительный, похожий на визг звук, а тело Джины подпрыгнуло и шлепнулось, словно тряпичная кукла. На ее лице не появилось никакого выражения, которое показывало бы, что она осознает причиняемую ей боль, но губы у нее растянулись, обнажив в оскале зубы, а кожа на изуродованной стороне лица натянулась и сморщилась.
Когда звук прекратился, Гэбни сказал:
— Еще немножко такого, и вся эта чудная пластическая хирургия пойдет псу под хвост.
— Прекратите это, — попросил я.
— Перестань скулить. Это последнее тебе предупреждение. Понял?
Я кивнул.
Моя голова была полна запахом подгоревшего тоста.
Гэбни уставился на меня в раздумье.
— Да, проблема, — пробормотал он и постучал пальцем по серому пульту.
— Какая проблема?
— Какого черта ты сюда влез? Как узнал?
— Одно вроде как вело к другому.
— Вроде как вело, вроде как вело, — передразнил он. — Потрясающая грамматика. Кто писал за тебя докторскую? — Он покачал головой. — Вроде как вело — просто случайная цепочка событий, да? Просто совал свой нос то туда, то сюда без всякой определенной цели, почти на авось, черт тебя дери?
Я смотрел на аппаратуру.
Его лицо потемнело.
— Не смей меня судить — только попробуй, будь ты проклят! Здесь идет лечение. Ты нарушил его конфиденциальность.
Я не ответил.
— Да есть ли у тебя хоть малейшее представление, о чем я говорю?
— Сексуальное рекондиционирование. Психологическая обработка с использованием условных рефлексов, — ответил я. — Вы пытаетесь изменить сексуальную ориентацию вашей жены.
— Изумительно, — издевательски произнес он. — Просто гениально. Ты умеешь описать то, что видишь. Психфак, первый курс, вторая половина первого семестра.
Он смотрел на меня, постукивая обутой в сапог ногой.
— Я что-то пропустил?
— Пропустил? — Он сухо засмеялся. — Да все целиком. Самую суть, весь смысл, все клиническое обоснование, черт возьми!
— Обоснование состоит в том, что вы помогаете ей стать нормальной.
— И по-твоему, это пустая трата времени?
Прежде чем я успел ответить, он затряс головой и выругался, потом рука, державшая шоковый пульт, напряглась. Мои глаза рефлекторно перескочили на серую пластмассовую коробку. Я почувствовал, что весь покрылся потом. В ожидании пронзительного воя и боли, которая должна была за этим последовать.
Усмехнувшись, Гэбни опустил руку.
— Эмпатическое кондиционирование. И такая быстрая реакция. Нежное сердце — жалость к пациентам. — Усмешка растворилась в выражении презрения. — Мне в высшей степени наплевать на твое мнение.
Не спуская с меня глаз, он приблизился к Урсуле. Приподняв ей халат с помощью черного пульта, он обнажил ее бедра и сказал:
— Они безупречны.
— Если не считать кровоподтеков.
— Ничего непоправимого — все заживет. Иногда творческий подход этого требует.
— Творческий подход? — переспросил я. — Любопытное название для пыток.
Он встал прямо передо мной, но так, чтобы я не мог его достать. Его пальцы слегка пробежались по кнопкам, вызвав высокочастотное чириканье и мелкое судорожное подергивание тел обеих женщин.
— Нарочно притворяешься тупицей? — спросил он.
Я пожал плечами.
— Пытка предполагает намерение причинить вред. Я же применяю отрицательные стимулы для того, чтобы ускорить обучение. Отрицательные стимулы — это могучие маленькие шельмы, и только сентиментальный слюнтяй может сомневаться в их пользе. Это пытка не в большей мере, чем вакцинация или неотложное хирургическое вмешательство.
Сквозь кляп Урсулы донесся такой звук, какой издает загнанная в угол мышь.
— Просто ускоряете обычную кривую обучения, не так ли, профессор?
Гэбни изучающе посмотрел на меня и, пару раз быстро ткнув в кнопки на сером пульте, вызвал конвульсии у обеих женщин.
Я заставил себя сделать непринужденный вид.
— Тебя что-то забавляет?
— Вы тут болтаете о лечении, а сами все же то и дело применяете шок, чтобы дать выход своему раздражению. Разве это не рвет цепочку «стимул — ответ»? И если вы переучиваете Урсулу, то зачем наносите шоковые удары Джине? Она у вас играет роль стимула, не так ли?
— Да заткнись ты, — проревел он.
— Сексуальное рекондиционирование, — продолжал я. — Его испробовали давным-давно, еще в начале семидесятых, и нашли негодным.
— Методологически топорная примитивщина. Хотя даже и из нее мог выйти какой-нибудь толк, если бы агитаторы за свободу сексуальных меньшинств не навязали всем свою точку зрения — вот тебе и свобода воли.
Я снова пожал плечами.
Он сказал:
— Не думаю, что твой умишко способен открыться достаточно широко, чтобы уловить суть, но все равно, вот тебе несколько фактов! Я люблю свою жену. Она вызывает во мне любовь, и за это я буду всегда благодарен. Она выдающийся человек — первая в семье получила высшее образование. Я понял всю ее неординарность с первой же встречи. Это пламя у нее внутри — она, черт возьми, почти светилась, словно лампа накаливания. Поэтому ее… проблема меня не отпугнула. Напротив, это послужило вызовом для меня. И она согласилась и с моей оценкой ситуации, и с моим планом лечения. То, чего мы достигли совместными усилиями, — основывалось целиком на взаимном согласии.
— Кастрация, — заметил я.
— Не пытайся придать этому ветеринарное звучание, недоумок. Мы вместе работали над решением ее проблемы. Если уж это не лечение, то я не знаю, что можно так называть. И то, что получилось в результате нашей совместной работы, могло принести пользу миллионам женщин. Сам план был прост: позитивное подкрепление полового возбуждения, наступившего гетеросексуальным путем, и наказание за реакцию на гомоэротический материал. Но его практическое осуществление представляло колоссальную трудность — надо было приспособить всю систему к женской физиологии. У мужчины измерить степень полового возбуждения ничего не стоит. С помощью надеваемой на половой член плезмографической манжеты регистрируется степень набухания. У женщины строение более… скрытое. Вначале мы думали разработать что-то вроде мини-манжеты для клитора, но эта идея оказалась практически неосуществимой. Не стану вдаваться в подробности. Но именно она как раз и додумалась до интравагинального зонда влажности, который сейчас так хорошо ей подошел. Основываясь на надлежащем химическом анализе секреций, мы смогли соотнести биоэлектрические изменения с видимым сексуальным возбуждением. Потенциальные последствия просто фантастические. В сравнении с тем, что сделали мы, Мастерс и Джонсон рисуют на стенах пещеры.
— Фантастика, — сказал я. — Жаль только, что это не сработало.
— Нет, все работало как нужно. Много лет.
— Но только не в случае с Айлин Уэгнер.
Он еще раз погладил Урсулу и повернулся ко мне.
— Да, это была ошибка — ошибка, которую сделала моя жена. Неверный выбор пациента. Уэгнер была жалка — глупая телка, сентиментальная благодетельница человечества. Психология и психиатрия буквально кишат такими.
— Если вы были такого низкого мнения о ней, почему же приняли ее у себя в Гарварде как коллегу?
Он покачал головой и засмеялся.
— У меня она была ничем. Я бы ее отправил учиться на санитарку. С месяц она работала у моей жены. Обходы больных, дидактические сеансы и клинический надзор. Моя жена узнала о ее сексуальной патологии и пыталась ей помочь. По разработанной нами методике. Я с самого начала был против — чувствовал, что этой телке наша методика не подойдет — у нее нет достаточно сильной мотивации, никакой силы воли. Уже одна тучность делала ее непригодной — она была просто убогой. Но моя жена слишком добра. И я уступил.
— Она была вашим первым подопытным объектом — после Урсулы?
— Нашей первой пациенткой. К несчастью. И, как я и предсказывал, результаты были очень скудные. Что совсем не дискредитирует методику.
Он бросил острый взгляд на жену. Мне показалось, что один из пальцев напрягся.
— Да, я бы назвал самоубийство весьма скудным результатом, — заметил я.
— Самоубийство? — Он усмехнулся медленной, почти ленивой улыбкой. Потом покачал головой. — Намотай себе на ус: эта телка была не способна ни на какой самостоятельный поступок.
От Урсулы донеслись заглушенные кляпом звуки.
Гэбни повернулся к ней.
— Прости, милая, я тебе так и не сказал, верно?
— В Гарварде считали, что это самоубийство, — сказал я. — Каким-то образом на медфаке стало известно, что за исследования вы вели, и вас оттуда попросили.
— Каким-то образом, — повторил он, уже не усмехаясь. — Эта телка любила писать закапанные слезами «любовные» записки, которые она не отправляла, а складывала в ящик письменного стола. Отвратительная писанина.
Снова подойдя к жене, он погладил ее по щеке. Поцеловал в один из выбритых квадратиков на голове. Ее глаза были крепко зажмурены; отвернуться она не пыталась.
— Любовные записки, адресованные тебе, дорогая, — продолжал он. — Слезливые, бессвязные, которые вряд ли пригодились бы в качестве улик. Но в отделении у меня были враги, и они вцепились в меня. Я мог бы отбиться. Но в Гарварде мне больше нечего было делать — он действительно не так уж хорош, как о нем болтают. Нам явно пора было двигаться в другое место.
— Калифорния, — сказал я. — Сан-Лабрадор. Это было предложение вашей жены, не так ли? Отправиться на ловлю новых клинических возможностей. Возможностей, которые выявились, когда Урсула наблюдала Айлин Уэгнер. Беседы за закрытыми дверями, превратившиеся в лечебные сеансы, как это часто случается. Айлин говорит о своем прошлом. О своих проблемах. О тех сексуальных конфликтах, которые заставили ее сменить педиатрию на психиатрию. Рассказывает о своих впечатлениях от встречи много лет назад с одной очаровательной богатой женщиной, которая страдала агорафобией. Принцесса с изувеченным лицом, укрывшаяся в персиковом замке, превращенная в калеку страхом, который в конце концов передался и ее дочери, такой чудесной девчушке — она сама, самостоятельно обратилась за помощью…
Я вспомнил разговор, который был у меня одиннадцать лет назад. Айлин, в практичных туфлях и похожей на мужскую рубашку блузке, перекладывает свой кожаный саквояж из одной руки в другую.
Она по-настоящему красива. И это несмотря на шрамы… Мила. В ней есть что-то ранимое.
Похоже, вы немало узнали за столь краткий визит.
На щеках Айлин проступает румянец.
Приходится стараться.
Ее смущение тогда озадачило меня. Теперь же все так ясно.
Там был не только один этот краткий визит.
Там было что-то гораздо большее, чем просто медицинские консультации.
Мелисса интуитивно чувствовала что-то необычное, хотя и не понимала, в чем дело: она дружит с мамой… ей нравится мама…
Джейкоб Датчи тоже знал — и постарался представить причину уклонения Джины от встречи со мной как ее страх перед врачами вообще.
Я поставил это под сомнение.
Однако она встречалась с доктором Уэгнер.
Да, это вышло… неожиданно. Она не очень хорошо справляется с неожиданными ситуациями.
Вы хотите сказать, что она как-то отрицательно отреагировала просто на то, чтобы встретиться с доктором Уэгнер?
Скажем так: ей это было трудно.
Ей было бы легче иметь дело с врачом женского пола?
Нет! Это совершенно не так! Дело совсем не в этом.
Джина и Айлин…
Проснувшееся волнение… наклонности, которые и та и другая так долго пытались подавить. Желания, с которыми Джина справилась, выйдя замуж за человека с гротескной наружностью, сыгравшего роль отца. Для второго брака она выбрала бисексуала — старого друга, у которого была собственная тайна, с которым она могла найти избавление от одиночества, взаимную терпимость и создать видимость безмятежного супружеского счастья.
Отдельные спальни.
Айлин… пыталась преодолеть отвращение к самой себе, которое чувствовала после пережитого в Сассекс-Ноул, — оставила практику, уехала из города и стала путешествовать по миру, предлагая свои услуги в качестве врача и сиделки, не особенно заботясь о собственной защите. Посвятила себя спасению чужих жизней, перебарывая собственное страдание.
Она проиграла слишком много сражений в этой войне и поэтому избрала другую стратегию; стратегию, к которой обращались очень многие другие способные неблагополучные люди, — занялась изучением Души.
Детская психиатрия. Потому что надо вернуться к истокам всего.
Гарвард. Потому что надо учиться у лучших специалистов.
Гарвард и подруга сердца из «синих воротничков», электромонтер по профессии, не признающая никакого копания в душе.
Потом работа у Урсулы. Озорные боги, должно быть, давились от смеха.
Долгие беседы.
Исповеди.
Боль, и страсть, и смятение — и кто-то, кто выслушает все то, о чем Салли Этеридж не хотела и слышать.
Урсула выслушивала. И переменилась сама.
Скрывала это за игрой «в доктора».
Поведенческий кошмар становится явью. Озорные боги надрывают животики от злорадного смеха.
Лечение терпит неудачу. Такую, что хуже не бывает.
Прощай, Бостон.
Пора перебираться на новое место.
В Калифорнию, на поиски принцессы…
На поиски принцессы как идеи. То есть богатых людей, страдающих фобиями, которым Урсула определенно знала, как помочь.
Игра в доктора.
Гонорар за услуги. Крупный гонорар.
Все идет прекрасно.
Потом звонит ребенок. Опять…
— Возможности, — услышал я снова голос Гэбни. — Да, в основном она именно так это и представила. Деловое решение. Я предпочел бы Флориду — жизнь там дешевле и воздух намного лучше. Но она настаивала на Калифорнии, и я, не зная ее истинных намерений, в конце концов уступил. А когда я уступаю, все идет вкось и вкривь.
Он посмотрел на Джину с искаженным от ярости лицом — такая жгучая, грызущая душу ярость охватывает мужчину, когда ему не дают обладать тем, чем он жаждет обладать.
По вине другой женщины.
Самое большое оскорбление для мужчины — в его мужском естестве.
Внезапно меня осенило: Джоэль Макклоски тоже был оскорблен. Его отвергли ради другой женщины.
Грязная шутка.
Злая шутка. Она ввинчивалась в его размягченный наркотиками мозг, словно спирохета.
Отказ пульсировал у него внутри, как воспаленный гнойник. Его переполняла ненависть к гомосексуалистам…
Свою проблему он решил путем уничтожения Джининой красоты — стер с ее лица преступную женственность.
Он был слишком труслив, чтобы сделать это самому. Из-за трусости он молчал и о своих мотивах — боялся, что их раскрытие будет характеризовать его определенным образом.
А Джина — поняла она или нет, из-за чего пострадала?
Гэбни издал низкое, злобное ворчание. При этом он пристально смотрел на Джину. Потом перевел глаза на жену.
— Я никогда ее не обманывал, а она предпочла изменить правила игры — они обе так решили.
— Когда у вас возникли первые подозрения?
— Вскоре после того, как началось лечение вот этой твари. Не было ничего конкретного — просто кое-какие нюансы. Еле уловимые отклонения, которые человек, не знающий всего, что знал я, или просто безразличный, мог бы вообще не заметить. Она тратила на нее больше времени, чем на всех других пациентов. Проводила дополнительные сеансы, в которых с клинической точки зрения не было нужды. Переводила разговор на другую тему и оказывала странное сопротивление, когда я высказывал свои сомнения относительно целесообразности всего этого. И совершенно перестала бывать на ранчо, хотя раньше приезжала сюда регулярно. Несмотря на аллергию. Принимала антигистаминные препараты и мирилась с пыльцой ради того, чтобы проводить спокойные уик-энды в моем обществе. Всему этому пришел конец, как только она вторглась в наши жизни. — Он усмехнулся. — С тех пор она здесь впервые. Изобретала всякие глупые предлоги, чтобы оставаться в городе, и думала, что я их буду спокойно глотать… Но я, черт побери, прекрасно видел, что происходит. Мне нужны были факты, чтобы положить конец всей этой лжи. Поэтому я чуточку покопался в системе внутренней связи у нас в офисе и стал прослушивать разговоры. — Его круглое лицо затряслось. — Слышал, как они строили планы.
— Какие планы?
— Планы бегства. — Он провел свободной рукой по лицу, как будто хотел стереть все следы горя. — Вдвоем.
Гигантские шаги…
Интуиция не обманывала Мелиссу. Она не зря чувствовала, что Урсула оттесняет ее от матери…
Гэбни сказал:
— И вот до какой низости все это дошло. Моя жена приняла от нее в подарок произведение искусства — одну исключительно ценную гравюру. И если это не вопиющее нарушение этики, то я не знаю, как это назвать, черт побери! Вы согласны?
Я кивнул.
— Деньги тоже переходили из рук в руки, — продолжал он. — Для нее деньги ничего не значат, потому что эта избалованная сука никогда не знала никаких лишений. Но мою жену они должны были неизбежно совратить — ведь она из бедной семьи. Несмотря на все, чего она достигла, хорошенькие вещицы все еще производят на нее впечатление. Она в этом отношении словно ребенок. Сука понимала это.
Он ткнул пальцем в сторону Джины:
— Она регулярно давала ей деньги — огромные суммы. У них был секретный банковский счет! Они называли это небольшими целевыми сбережениями. Хихикали при этом, словно глупые девчонки-школьницы. Хихикали и сговаривались все бросить, сбежать на какой-нибудь тропический остров и жить там как шлюхи. Не говоря уже об извращенности, какая бессмысленная растрата ценностей! У моей жены блестящее будущее. А эта сука соблазнила ее и хотела все разрушить. Я должен был вмешаться. Сука погубила бы ее.
Он нажал кнопку на пульте. Тело Джины подпрыгнуло. Урсула смотрела и тихо скулила.
Гэбни сказал:
— Замолчи, дорогая, или я сию минуту поджарю ей синапсы, и пусть этот проклятый план лечения катится ко всем чертям.
По щекам Урсулы катились слезы. Она молчала и не двигалась.
— Если это тебя расстраивает, дорогая, то винить ты можешь только себя.
Наконец его палец отпустил кнопку. Он повернулся ко мне.
— Если бы я был эгоистом, то просто убил бы ее. Но я хотел придать ее никчемной, пустой жизни хоть какой-то смысл. Поэтому я решил… взять ее в помощницы. В качестве стимула, как вы изволили глубокомысленно заметить.
— Кондиционирование in vivo[21], — уточнил я. — Плюс самодельное кино.
— Наука в реальном мире.
— Поэтому вы похитили ее.
— Ничего подобного. Она явилась добровольно.
— Как пациент к доктору.
— Именно так. — Он довольно усмехнулся. — Я позвонил ей утром, чтобы сообщить об изменении расписания. Вместо занятий в группе у нее будет индивидуальный сеанс со мной. Ее любимая доктор Урсула больна, и я ее заменяю. Я сказал ей, что сегодня мы должны сделать особенно большой шаг вперед, чтобы удивить ее дорогую Урсулу выдающимся успехом. Я проинструктировал ее, что она должна вывести свою машину за ворота усадьбы и подобрать меня в двух кварталах дальше точно в условленное время. Велел ей взять именно «роллс-ройс» — сказал что-то о необходимости соблюдать последовательность в стимулах. На самом деле из-за дымчатых стекол, конечно. Она приехала секунда в секунду. Я велел ей передвинуться на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Она спросила меня, куда мы едем. Я оставил вопрос без ответа. Это вызвало у нее явные симптомы беспокойства — она еще даже и не приблизилась к тому, чтобы справляться с неопределенностью подобного рода. Она повторила свой вопрос. И опять я ничего не ответил и продолжал вести машину. Она начала дергаться, задышала чаще — продромальные признаки. А когда я на скорости выехал на автостраду, у нее случился настоящий фобический приступ. Я сунул ей в руки ингалятор, который предварительно зарядил хлоралгидратом, и велел поглубже вдохнуть. Она так и сделала и моментально отключилась. Это вышло элегантно. Я ехал со скоростью восемьдесят километров в час, и было бы очень некстати, если бы она тут билась и металась, создавая мне неприятности. А так, в бессознательном состоянии, она была чудесной спутницей. Я подъехал к водохранилищу, где оставил свой «лендровер». Перенес ее туда, а тот показушный кусок железа спихнул в воду.
— Довольно утомительная работа для одного человека.
— Вы хотите сказать, утомительная для человека моего возраста. Но я в отличной форме. Чистая жизнь. Творческая удовлетворенность.
— Машина не пошла ко дну, — сказал я. — Зацепилась за выступ.
Он не произнес ни слова в ответ на это и не пошевелился.
— Грубый просчет для человека вашей точности и аккуратности. И если вы оставили «лендровер» там, то как вернулись обратно в Сан-Лабрадор?
— А, смотрите-ка, этот человек обладает рудиментарной способностью рассуждать логически. Да, вы правы, у меня действительно был помощник. Один мексиканец, он раньше работал здесь у меня на ранчо. Когда мы держали больше лошадей. Когда моя жена ездила верхом.
Он повернулся к Урсуле:
— Ты помнишь Клеофэса, дорогая?
Урсула крепко зажмурила глаза. Из-под век у нее сочилась влага.
Гэбни продолжал:
— Этот Клеофэс — ничего себе имечко, да? — был здоровенный детина. С мозгами у него было туго и никакого здравого смысла — он был, в сущности, двуногим вьючным животным. Я собирался скоро рассчитать его — осталось всего несколько лошадей, не было смысла зря тратить деньги, — но перемещение миссис Рэмп дало ему один последний шанс оказаться полезным. Он высадил меня в Пасадене, потом отогнал «ровер» к водохранилищу и остался ждать меня там. Именно он столкнул «роллс-ройс» в воду. Но не рассчитал, посадил его на выступ или что-то в этом роде.
— Такую ошибку легко сделать.
— Этого бы не случилось, будь он повнимательнее.
— Откуда у меня такое чувство, — спросил я, — что ему больше уже не придется делать никаких ошибок?
— Действительно, откуда? — Он смотрел на меня с преувеличенно простодушным видом.
Урсула застонала.
Гэбни сказал:
— Ах, да прекрати же. Не устраивай мне театр. Он же тебе не нравился, ты все время называла его тупой скотиной, «ветбэком»[22], все время требовала, чтобы я от него избавился. Ну вот, теперь все по-твоему.
Урсула слабо покачала головой и осела в кресле.
Я спросил:
— Куда вы повезли миссис Рэмп после того, как отделались от «роллса»?
— Мы совершили увлекательную поездку по живописным местам. Через парк Анджелес-Крест по проселочным дорогам. Точный маршрут проходил по 39-му шоссе до Маунт-Уотерман, по 2-му до Маунтин-Хай, по 138-му до Палмдейла, по 14-му до Согуса, по 126-му до Санта-Полы, потом прямо до самого 101-го и оттуда до ранчо. Путь окольный, но приятный.
— Ничего подобного во Флориде не встретишь, — заметил я.
— Абсолютно ничего.
— А почему водохранилище? — спросил я.
— Это сельская местность, находится сравнительно недалеко от клиники и в то же время не слишком близко — никто туда не ездит. Я знаю, потому что был там несколько раз. Чтобы продать лошадей, на которых моя жена больше не хотела ездить.
— И все?
— А что еще надо?
— Ну, я был бы готов побиться об заклад, что вы изучили клинические записи вашей жены и знали, что миссис Рэмп не любит воду.
Он усмехнулся.
— Мне понятно, — продолжал я, — что дымчатые стекла скрывают едущих в машине. Но, по-моему, вы сильно рисковали, воспользовавшись столь заметным автомобилем. Кто-нибудь мог обратить внимание.
— А если бы и так, что из того? Ну, кто-то увидел машину, которая, как выяснилось бы, принадлежит ей, — в сущности, так и случилось. Тогда просто предположили бы, что психически больная женщина приехала туда на машине и там либо с ней произошел несчастный случай, либо она совершила самоубийство. Именно эта точка зрения и была принята.
— Верно, — согласился я, стараясь казаться задумавшимся.
— Все было учтено, Делавэр. Если бы Клеофэс доложил, что его видели, мы переехали бы в другое место. У меня было намечено несколько таких мест. Даже и в том маловероятном случае, если меня остановит полицейский, беспокоиться было бы не о чем. Я объяснил бы, что я психотерапевт, везу пациентку, находящуюся без сознания после фобического приступа, и в подтверждение своих слов предъявил бы свои документы. Факты подтверждали бы сказанное мной. И она, придя в себя, тоже подтвердила бы сказанное мной, потому что именно это она бы и вспомнила. Элегантно, не правда ли?
— Да, — ответил я тоном, заставившим его внимательно взглянуть на меня. — Даже при езде по проселочным дорогам у вас было более чем достаточно времени, чтобы устроить ее здесь, дождаться звонка вашей жены с сообщением, что она не явилась на групповую терапию, изобразить обеспокоенность, вернуться в Пасадену и появиться в клинике.
— Где я имел не совсем приятную возможность встретить вас.
— И попытаться выведать у меня, много ли мне известно о миссис Рэмп.
— А иначе зачем я бы стал с вами разговаривать? И на какой-то момент вы-таки заставили меня почувствовать беспокойство — что-то сказали о том, будто она строит планы начать новую жизнь. Потом я понял, что это просто болтовня и вы ничего важного не знаете.
— Когда ваша жена узнала о том, что вы сделали?
— Когда проснулась вот в этом самом кресле.
Вспомнив, в какой спешке Урсула покинула клинику, я спросил:
— Что вы ей сказали, чтобы заманить сюда?
— Я позвонил ей, притворился, что мне стало плохо, и умолял приехать помочь мне. Будучи примерной женой, она немедленно откликнулась на зов.
— Как вы объясните ее отсутствие пациентам?
— Грипп в сильной форме. Я возьму их лечение на себя и не думаю, что будут какие-то жалобы.
— Из группы исчезли две пациентки, а теперь еще и врач. Учитывая род заболевания, с которым вы имеете дело, может оказаться не так уж просто их успокоить.
— Две? А, — он понимающе усмехнулся. — Красотка мисс Кэтлин, наша бесстрашная репортерша. Как вы до нее докопались?
Не зная, жива ли Кэти Мориарти или мертва, я ничего не ответил.
— Ну, — сказал он, усмехаясь еще шире, — если вы думаете, что ваша уклончивость ей поможет, забудьте об этом. Красотка мисс Кэтлин больше не будет писать никаких репортажей — пакостная сучонка. Возомнила, будто ей удастся в моем присутствии симулировать такую сложную вещь, как агорафобия. А когда я поймал ее, то пыталась выкрутиться с помощью угроз и обвинений. Она сидела тут, в этом кресле. — Он показал на кресло, в котором полулежала Урсула. — Помогала мне отрабатывать методику.
— Где она сейчас? — спросил я, заранее зная ответ.
— В холодной, холодной земле, рядышком с Клеофэсом. Вероятно, она впервые в жизни вступила в такие интимные отношения с мужчиной.
Я посмотрел на Урсулу. В ее широко раскрытых глазах застыл ужас.
— Значит, все схвачено и упаковано, — сказал я. — Как элегантно.
— Не передразнивайте меня.
— Я и не собираюсь вас передразнивать. Напротив, я всегда питал величайшее уважение к вашей работе. Читал все ваши публикации — уклонение от шока и парадигмы ухода от действительности, контролируемая фрустрация, графики стимулируемого страхом обучения. Это просто… — Я пожал плечами.
Он долго смотрел на меня.
— Вы случайно не пытаетесь заговаривать мне зубы? — наконец осведомился он.
— Нет, — ответил я. — Но если и пытаюсь, то велика важность. Что я могу вам сделать?
— Верно, — подтвердил он, сгибая и разгибая пальцы. — Пятнадцать секунд для основательного прожаривания — вы не сможете такого выдержать. Кроме того, у меня есть и другие игрушки, которых вы еще даже не видели.
— Я в этом не сомневаюсь. Как и в том, что вы себя убедили, будто применять их вовсе не предосудительно. Все делается на научной основе. Разрушить человека для того, чтобы спасти его.
— Здесь никто никого не разрушает.
— А Джину?
— Она ничего собой не представляет — посмотрите, что за жизнь она вела. Замкнутую, эгоистичную, извращенную — абсолютно бесполезную. Использовав ее, я оправдал ее существование.
— Я не знал, что она нуждается в оправдании.
— Так узнай это, идиот несчастный. Жизнь — это сделка, а не какая-то воздушная теологическая фантазия. Из мира высасывают последние соки. Ресурсы кончаются Выживут только те, кто полезен.
— И кто же будет определять полезность?
— Те, кто контролируют стимулы.
— Может, вам стоит вот над чем поразмыслить, — сказал я. — При всем вашем теоретизировании о высоких материях, вы можете не отдавать себе отчета в вашей истинной мотивации.
Уголки его рта загнулись кверху.
— Уж не претендуете ли вы на место моего психоаналитика?
Я покачал головой.
— Никоим образом. Боюсь, мой желудок не выдержит.
Уголки рта резко опустились.
Я продолжал:
— Женщины. То, как они вас всегда подводили. Судебная битва за опеку сына с первой женой, ее пьянство и вспыхнувший из-за этого пожар, в котором погиб ваш сын. Во время вашей первой встречи вы упомянули вторую жену — ту, что была до Урсулы. Я не составил о ней никакого впечатления, но что-то говорит мне, что и она не оказалась достойной вас.
— Ничтожество, — сказал он. — Абсолютный нуль.
— Она ныне здравствует?
Он усмехнулся.
— Несчастный случай. Она оказалась совсем не такой первоклассной пловчихой, какой воображала себя.
— Вода, — заметил я. — Вы использовали ее дважды. По Фрейду, здесь должна быть какая-то связь с утробой.
— Теория Фрейда — это коровья лепешка.
— Не исключено, что на этот раз, профессор, она попала в самое яблочко. Может, все это не имеет ничего общего ни с наукой, ни с любовью, ни с собачьим бредом, который толкаете вы, но зато прекрасно состыкуется с тем фактом, что вы ненавидите женщин — по-настоящему презираете их и стремитесь держать под своим контролем. Это заставляет предположить, что вам самому в детстве пришлось пережить что-то скверное — отсутствие родительской заботы, жестокое обращение или что-то еще. Наверное, я имею в виду, что мне хотелось бы знать, что собой представляла ваша матушка.
У него отвисла челюсть, и он резко нажал всей рукой на кнопку.
Аппарат пронзительно завыл — частота была выше, чем прежде.
Его голос из-за этого воя был едва слышен, хотя он кричал:
— Пятнадцать секунд!
Я бросился на него. Он откатился, лягаясь и колотя кулаками, потом вдруг швырнул черный пульт мне в лицо и попал в нос. Его пальцы на сером модуле побелели от напряжения. Удушливый запах горящего мяса и волос затопил всю комнату.
Я пытался вырвать у него из рук пульт, ударил в живот, он стал хватать воздух ртом и согнулся пополам. Но пульт не выпустил, хватка у него была стальная.
Мне пришлось сломать ему запястье, чтобы пальцы разжались.
Я сунул пульт в карман, не спуская глаз с Гэбни. Он лежал на полу, держался за запястье и плакал.
Женщины продолжали судорожно дергаться еще очень долго.
Я выключил аппаратуру из сети, оборвал электрические провода и связал ими руки и ноги Гэбни. Убедившись, что он обездвижен, я занялся женщинами.
36
Я запер Гэбни в сарае, перевел Джину и Урсулу в дом, укрыл их одеялами и заставил Урсулу выпить немного яблочного сока, который я нашел в холодильнике среди прочих запасов. Книги по выживанию на кухонной полке. Винтовка и дробовик над столом. Швейцарский армейский нож, целая коробка шприцев и медикаментов. Профессор готовился к дальнему рейсу.
Я позвонил в службу спасения по 911, потом заказал срочный разговор со Сьюзан Лафамилья. Она с поразительной быстротой оправилась от ужаса, снова превратилась в знающего свое дело профессионала, записала несколько ключевых деталей и сказала мне, что остальное берет на себя.
Через полчаса прибыли медики, сопровождаемые четырьмя машинами службы шерифа из округа Санта-Барбара. В ожидании их приезда я нашел записи Гэбни, причем это не потребовало с моей стороны особенного напряжения детективных способностей, потому что он оставил с полдюжины тетрадей на столе в столовой. Но больше двух страниц я не выдержал.
Следующую пару часов я провел в беседе с двумя сурового вида людьми в форме. Сьюзан Лафамилья приехала в компании с молодым человеком, одетым в костюм оливкового цвета от Хьюго Босса при галстуке «ретро», перекинулась несколькими словами с полицейскими и вызволила меня. Мистер Модник оказался одним из ее партнеров — имени его я так и не узнал. Он повел мою машину, а Сьюзан повезла меня домой на своем «ягуаре». Она ни о чем меня не спрашивала, и я заснул, довольный тем, что оказался в роли пассажира.
* * *
Я пропустил назначенную на следующее утро на десять часов встречу с Мелиссой, но не потому, что проспал. В шесть я был уже на ногах и наблюдал за тем, как новорожденные рыбки размером с острицу бойко снуют в пруду. К половине десятого прибыл в Сассекс-Ноул. Ворота были открыты, но дверь никто не открыл.
Я заметил одного из сыновей Хернандеса, который прореживал плющ недалеко от наружной стены усадьбы, и спросил его, где Джина. В какой-то больнице в Санта-Барбаре, ответил он. Нет, он не знает, в какой именно.
Я поверил ему, но все ж еще раз попробовал дверь.
Когда я отъезжал, он грустно взглянул на меня. Но, возможно, то была не грусть, а жалость — из-за моего маловерия.
* * *
Я уже стал выезжать на улицу, когда заметил, что с юга приближается коричневый «шевроле». Он ехал так медленно, что казался стоящим на месте. Я сдал назад и остановился, и как только он притормозил на въезде, уже был тут как тут, у окна водителя, и приветствовал испуганно глядевшую на меня Бетель Друкер.
— Извините, — пробормотала она и включила заднюю скорость.
— Нет, — сказал я, — прошу вас, не уезжайте. Дома никого нет, но мне нужно с вами поговорить.
— Говорить не о чем.
— Тогда зачем вы здесь?
— Не знаю. — На ней было простое коричневое платье, какая-то бижутерия и очень мало косметики. Ее фигура отказывалась подчиняться ограничениям. Но я не испытывал удовольствия при взгляде на нее. Думаю, ко мне еще не скоро вернется радость созерцания. — Правда не знаю, — повторила она. Ее рука оставалась все это время на рукоятке коробки передач.
— Вы приехали, чтобы выразить свое уважение этой семье. Очень достойный поступок с вашей стороны.
Она посмотрела на меня так, будто я говорил на неведомых ей языках. Я обошел вокруг капота и уселся на сиденье рядом с ней.
Она хотела было возразить, но потом с легкостью, говорившей о выработанной за многие годы — за целую жизнь — привычке к молчаливому согласию и приятию, ее лицо приняло выражение покорности судьбе.
— О чем вы хотите говорить?
— Вы знаете, что случилось?
Она кивнула.
— Ноэль мне сказал.
— Где сейчас Ноэль?
— Поехал с утра туда. Чтобы быть с ними.
Недосказанными остались слова «как обычно».
Я сказал:
— Он замечательный мальчик — вы прекрасно его воспитали.
Ее лицо дрогнуло.
— Он такой ужасно толковый, что иногда кажется, будто это не мой сын. Мне повезло, что я помню эту боль — когда выпихивала его наружу. Если посмотреть, так и не подумаешь, что он родился таким крупным. Почти четыре килограмма. Пятьдесят восемь сантиметров. Мне сказали, он будет играть в футбол. Никто не знал, какой он будет толковый.
— Он собирается учиться в Гарварде?
— Он не говорит мне всего, что собирается делать. А теперь, с вашего позволения, мне надо ехать; надо там убраться.
— В «Кружке»?
— Это единственный дом, который пока у меня есть.
— Дон собирается открыть ресторан в скором будущем?
Она пожала плечами.
— Он тоже не говорит мне о своих планах. Я просто хочу там убраться. Пока грязь не накопилась.
— Ладно, — сказал я. — Можно, я задам вам один вопрос — очень личный?
Ее глаза наполнились слезами.
— Это простой вопрос, Бетель.
— Конечно. Валяйте — да и какая разница? Говорю, танцую, позирую — каждый получает от меня то, что ему надо.
— Не знал, что вы работали фотомоделью, — солгал я.
— А как же! Ха! Конечно, я была известной, знаменитой манекенщицей. Со всем этим. — Она провела руками по груди и засмеялась. — Да, я была довольно хороша — как и Джина. Мы с ней были одного сорта. Только на меня приходили смотреть совсем не дамы, желающие купить платье.
— Снимки делал Джоэль?
Пауза. Ее лежавшие на баранке руки казались маленькими и очень белыми. На безымянном пальце было надето дешевое кольцо с камеей.
— Он. И другие. Ну и что с того? Я много снималась. Была фотозвездой. Даже когда была беременная и вот с таким пузом — у некоторых просто болезненная страсть смотреть на беременных женщин.
— Каждому свое.
Она резко повернулась, но тон ее голоса был покорным:
— Вы смеетесь надо мной.
— Нет, — сказал я устало. — Не смеюсь.
Она внимательно посмотрела на меня, снова коснулась рукой своей груди.
— Вы видели меня. Вчера. Видели, как я уехала. И теперь хотите знать почему.
Я начал было говорить, но она остановила меня взмахом руки.
— Для вас, может, и глупо расстраиваться из-за такого, как он, — я и сама так думала. Очень глупо. Но я к этому привыкла. К тому, что я глупая. Так что какая разница? Вы, может, считаете меня очень-очень глупой, умственно отсталой, потому что думаете, что он был самая настоящая дрянь… Нет, подождите минуточку. Дайте мне закончить. Он и был самое что ни на есть дерьмо, без капельки доброты. От всего бесился и ярился — хотел, чтобы всегда все было, как надо ему. Наверно, тут виноваты и наркотики. Он страшно много кололся. Но виновато и то, что он просто так устроен. Подлая душа. Так что я понимаю, почему вы думаете что я глупая. Но он дал мне что-то, когда никто вообще ничего мне не давал — по крайней мере, в тот момент моей жизни. После появился Дон, и я буду плакать из-за него, если что-нибудь с ним случится, гораздо больше, чем плакала из-за… этого. Но в тот момент моей жизни, этот был первый, кто дал мне вообще что-то. Даже если он и не собирался этого делать, даже если сделал это потому, что не мог получить то, что очень хотел, и выместил все на мне. Это было неважно, понимаете? Как бы то ни было, получилось ведь хорошее — вы сами только что так сказали. Одна-единственная хорошая вещь в моей треклятой жизни. Вот я немножко и поплакала по нему. Нашла уютное местечко и выревелась как следует. Потом вспомнила, какой он был подонок, и перестала реветь. И теперь вы видите, я больше не плачу. Подойдет вам такой ответ?
Я покачал головой.
— Я не собираюсь судить вас, Бетель. И не считаю неправильным то, что вы расстроились.
— Ну, что ж… О чем же тогда вы хотели спросить?
— Ноэль знает, кто его отец?
Долгое молчание.
— А если не знает, вы ему скажете?
— Нет.
— Даже чтоб оберечь маленькую мисс?
— Оберечь? От чего?
— Чтобы не связывалась с дурным семенем.
— Не вижу в Ноэле ничего дурного.
Она заплакала.
Я дал ей свой носовой платок, она шумно высморкалась и сказала:
— Спасибо, сэр. — Она с минуту помолчала. — Я не поменялась бы местами с этой девочкой ни за что на свете. Да и ни с кем из них.
— Я тоже, Бетель. И о Ноэле спрашиваю совсем не для того, чтобы оберечь ее.
— А для чего же?
— Скажем так: из любопытства. Как еще одну вещь, которую хочу понять.
— Вы очень любопытный человек, да? Копаетесь в делах других людей.
— Раз так, забудьте о моем вопросе. Простите меня за копание в ваших делах.
— Может, это его надо поберечь от нее, а?
— Почему вы так говорите?
— Да по всему по этому. — Она смотрела сквозь ветровое стекло на огромный персиковый дом. — Такое может и сожрать без остатка. У Ноэля голова правильно работает, но кто знает… Вы правда думаете, что они… что у них…
— Кто знает? Они молоды, впереди их ждет много перемен.
— Потому мне и неспокойно. Вроде бы я-то как раз должна этого хотеть, но не хочу. Это не настоящее, это не для жизни обычных людей, для которой они созданы. Он — мое дитя, мне было очень больно, когда я выталкивала его наружу, и я не хочу видеть, как это все его пожирает.
— Я понимаю, что вы хотите сказать. Надеюсь, что и Мелиссе удастся этого избежать.
— Да. Наверно, ей пришлось несладко.
— Совсем несладко.
— Да, — сказала она, поднося руку к груди, но не коснулась ее и уронила руку.
Я открыл дверцу со своей стороны.
— Счастливо вам, и спасибо, что уделили мне время.
— Нет, — произнесла она. — Он не знает. Думает, что и я тоже не знаю. Я сказала ему, что это были однодневные гастроли, и нет никакой возможности когда-нибудь узнать. Он правда этому верит, потому что раньше я… кое-чем занималась. Я рассказала ему историю, в которой не очень хорошо выглядела, потому что мне пришлось это сделать. Мне надо было сделать то, что я считала правильным.
— Разумеется, — сказал я и взял ее руку в свою. — И это было на самом деле правильно — результат говорит сам за себя.
— Это верно.
— Бетель, я сказал о Ноэле то, что действительно думаю о нем. И заслуга в том, что он такой, целиком принадлежит вам.
Она сжала мою руку и тут же отпустила.
— То, что вы говорите, похоже на правду. Попробую в это поверить.
37
Майло заехал ко мне домой в четыре. Я работал над монографией и провел его в кабинет.
— Здесь масса всего на Дауса. — Он встряхнул свой кейс и поставил его мне на стол. — Только вряд ли пригодится.
— Может, и пригодится. Если потребуется возвращать то, что он уже успел хапнуть из состояния.
— Да, — сказал он, — надо же поаплодировать частному расследованию. Как ты?
— Отлично.
— Правда?
— Правда. А ты?
— Все еще работаю. Адвокату Лафамилья нравится мой стиль.
— Она женщина со вкусом.
— У тебя точно все нормально?
— Точно. В пруду у меня вывелись мальки, они живут и развиваются, так что я в отличном настроении.
— Мальки?
— Хочешь посмотреть?
— Конечно.
Мы спустились в японский садик. Он не сразу разглядел мальков, но потом все-таки их увидел. И улыбнулся.
— Да, они славные. Чем ты их кормишь?
— Размолотым кормом для рыбок.
— А их не съедают?
— Некоторых съедают. Но самые быстрые выживают.
— Ясно.
Майло уселся на камень и подставил лицо солнцу.
— Вчера поздно вечером в ресторане появился Никвист. Поговорил несколько минут с Доном, потом уехал. Похоже, на прощание. Фургончик был упакован для длительного путешествия.
— Ты это узнал от своего наблюдателя?
— Со всеми подробностями. И когда ты уехал — с точностью до секунды. У него просто мания детальных отчетов. Если бы я не был дураком, то велел бы ему походить за тобой.
— А он смог бы помочь?
Он усмехнулся.
— Вероятно, нет. Там артрит и эмфизема. Но у него чертовски хороший почерк.
Он посмотрел на лист бумаги, вставленный в машинку.
— Что это такое?
— Моя монография.
— Значит, все вернулось в норму, а? Когда ты увидишь Мелиссу?
— Ты имеешь в виду лечение?
— Угу.
— Как можно скорее — как только она вернется в Лос-Анджелес. Я звонил им с час назад, она сказала, что не хочет отходить от матери. Врач, с которым я разговаривал, сомневается, что Джину можно будет перевезти раньше, чем через неделю. Потом потребуется домашний уход.
— Боже мой, — сказал он. — Мелиссе уж точно пригодятся твои сеансы. А может, и всем, кто с этим соприкоснулся, стоит пройти курс лечения.
— Я оказал тебе крупную услугу, а?
— Это точно. Когда буду писать мемуары, то отведу ей отдельную главу. Адвокат Лафамилья говорит, что согласна быть моим литературным агентом, если я это все-таки сделаю.
— Что ж, из нее, вероятно, выйдет хороший агент.
Майло улыбнулся.
— Для Дауса с Энгером наступает время поджаривания задницы. Мне почти что жалко их. Скажи-ка, ты давно ел? Что до меня, то я не прочь основательно перекусить.
— Я плотно позавтракал, — ответил я. — Но есть одно дело, которым бы неплохо заняться.
— Что за дело?
Я сказал ему.
— Боже милосердный! Может, уже хватит?
— Мне необходимо знать. Ради общего блага. Если тебе не хочется этим заниматься, то я попробую справиться сам.
Он сказал:
— Нет, вы только подумайте! — Помолчал с минуту. — Ладно, прогони-ка все через меня еще разок — в деталях.
Я повторил.
— И это все? Телефон на полу? Это все, что у тебя есть?
— По времени все совпадает.
— Ладно. Проверить это можно будет, наверно, без особых трудностей. Вопрос в том, был ли это звонок за дополнительную плату, как междугородный.
— Из Сан-Лабрадора в Санта-Монику звонок междугородный; я уже видел счет.
— Мистер Детектив, — сказал Майло. — Мистер Частный Сыщик.
* * *
Это заведение выглядело не так, как обычно выглядят заведения подобного рода. Викторианский дом, расположенный в рабочем районе Санта-Моники. Два этажа, спереди большая веранда с качелями и креслами-качалками. Обшит досками, выкрашен в желтый цвет с белой и нежно-голубой отделкой. На улице припарковано много машин. Еще несколько на подъездной дорожке. Участок лучше благоустроен и содержится в большом порядке по сравнению с другими в этом квартале.
— Ну и ну, — сказал я, показывая на одну из стоявших на подъездной дорожке машин. Черный «кадиллак-флитвуд» 62-го года.
Майло припарковался.
Мы вышли из машины и осмотрели передний бампер «кадиллака». Глубокая вмятина и свежая грунтовка.
— Да-а, выглядит в самый раз, — пробурчал Майло.
Мы поднялись на веранду и прошли в дверь. У нас над головами звякнул колокольчик.
Вестибюль был заставлен комнатными растениями. Душистыми комнатными растениями. Слишком душистыми — словно этот аромат должен был что-то скрыть.
Нам навстречу вышла темноволосая хорошенькая женщина лет двадцати с небольшим. Белая блузка, красная макси-юбка, евразийские черты лица, чистая кожа.
— Чем я могу вам помочь?
Майло сказал ей, кого мы хотим видеть.
— Вы родственники?
— Знакомые.
— Давнишние знакомые, — вмешался я. — Как Мадлен де Куэ.
— Мадлен, — сказала женщина с теплотой в голосе. — Она такая преданная, бывает здесь каждые две недели. И так хорошо готовит — мы тут все просто обожаем ее масляное печенье. Посмотрим, который час. Десять минут седьмого. Возможно, он еще спит. Он; много спит, особенно в последнее время.
— Его состояние ухудшается? — спросил я.
— Физическое или моральное?
— Можно начать с физического.
— Кое-какое ухудшение наблюдалось, но оно появляется и исчезает. Один день он ходит прекрасно, а на следующий совсем не может двигаться. Очень тяжело видеть его в таком состоянии, когда знаешь, что его ждет. Это такая мерзкая болезнь, особенно для такого человека, как он, привыкшего к деятельному образу жизни. Хотя, наверное, все болезни такие. Мерзкие. Когда постоянно имеешь дело с больным, иногда забываешь об этом.
— Я вас очень хорошо понимаю, — сказал я. — Мне приходилось работать с онкологическими больными.
— Так вы врач?
— Психолог. — Мне было приятно сказать правду.
— Это как раз то, к чему я стремлюсь. Стать психологом. Для этого и приехала сюда.
— Прекрасное поприще. Желаю вам успеха.
— Спасибо. У нас в основном раковые больные. Я раньше никогда не слышала о таком заболевании, как у него, — оно какое-то уж очень редкое. Мне пришлось кое-что подзубрить, и действительно оказалось, что в медицинских учебниках почти ничего об этом нет.
— А как в моральном плане?
Она улыбнулась.
— Вы ведь знаете, какой он. Но, откровенно говоря, нам крупно повезло с ним — он готовит еду для других пациентов, рассказывает им истории. Тормошит их, если ему кажется, что они начинают лениться. Он даже персоналу отдает распоряжения, но никто не возражает против этого, он ведь такой славный. И когда он… когда он больше не сможет этим заниматься, то для всех будет огромная потеря. — Она вздохнула. — Как бы там ни было, почему бы нам не пойти и не посмотреть — может быть, он уже встал?
Мы поднялись вслед за ней на второй этаж, проходя мимо спален, в каждой из которых стояло по две-три больничных кровати. Эти кровати были заняты престарелыми мужчинами и женщинами, которые смотрели телевизор, читали, спали, питались — с помощью рта или внутривенно. За ними ухаживали молодые люди в обычной одежде. Было очень тихо.
Комната, перед которой она остановилась, находилась в задней части здания. Она была меньше остальных. В ней помещалась одна кровать. На стене карикатуры из журнала «Панч», а рядом — выполненный маслом портрет молодой, прекрасной женщины с лицом без шрамов. В нижнем правом углу инициалы «А. Д.».
В комнате все на своих местах. Аромат лавровишневой воды с трудом пробивался сквозь общий сладковатый запах.
Сидевший на краю кровати мужчина старался продеть запонку в отложную манжету. Белые крахмальные манжеты. Флотский галстук. Синие брюки из сержа. Все это ему было слишком велико; казалось, он тонет в своей одежде. Под кроватью аккуратно стояли начищенные до зеркального блеска черные ботинки. Три одинаковые пары туфель выстроились у комода, отполированного гораздо лучше, чем того заслуживала его дешевая конструкция. Рядом с туфлями стояло приспособление на колесиках для ходьбы.
Его волосы были гладко причесаны с пробором на правой стороне и цветом напоминали кость. Лицо не сохранило никаких следов былой пухлости, а щеки по-бульдожьи отвисли. Кожа была цветом, как пластик, из которого делают скелеты. Запонки представляли собой маленькие квадратики из оникса.
— К вам гости, — бодрым тоном произнесла наша провожатая.
Хозяин комнаты еще повозился с запонкой, потом наконец продел ее и лишь тогда повернулся к нам.
У него на лице мелькнуло удивление, которое сразу же сменилось выражением глубокого покоя. Как будто он уже испытал самое плохое и выжил.
Он приложил большие усилия, чтобы улыбнуться девушке, и еще большего труда ему стоило произнести «входите». Голосом столь же хрупким, как старинный фаянс.
— Принести вам что-нибудь, мистер Д.? — спросила девушка.
Он покачал головой: «Нет». Тоже с усилием.
Девушка удалилась. Мы с Майло вошли в комнату. Я закрыл дверь.
— Здравствуйте, мистер Датчи, — сказал я.
Холодный кивок.
— Вы помните меня? Алекс Делавэр? Девять лет назад?
Часто мигая, он с трудом выговорил:
— Док… тор.
— Это мой друг, мистер Майло Стерджис. Мистер Стерджис, это мистер Джейкоб Датчи. Добрый друг Мелиссы и ее матери.
— Садитесь. — Он показал на стул. Единственным другим предметом мебели был круглый ореховый стол гораздо более благородного происхождения, чем комод. Обтянутый кожей верх частично прикрыт салфеткой. На салфетке — чайный сервиз. Рисунок точно такой же, как и тот, который я видел тогда в маленькой серой гостиной. — Чай?
— Спасибо, нет.
— Вы, — обратился он к Майло, — похожи на… полисмена.
— Он и есть полицейский. Сейчас в отпуске. Но здесь он не в официальном качестве.
— Понимаю. — Датчи сложил руки на коленях.
Я вдруг пожалел о приходе сюда, и все это нарисовалось у меня на лице. Будучи джентльменом, он сказал:
— Не беспокой… тесь. Говорите.
— Нет нужды об этом говорить. Считайте, что мы нанесли вам дружеский визит.
Полуулыбка тронула его бескровные губы, похожие на сделанный бритвенным лезвием разрез.
— Говорите… что… хотите. — Пауза. — Как?
— Просто догадался, — ответил я, поняв его вопрос. — Вечером накануне того дня, когда Макклоски был сбит машиной, Мадлен сидела у постели Мелиссы и звонила по телефону. Я видел, он стоял на полу. Она позвонила вам сюда и сообщила о гибели Джины. Просила вас заняться этим. Выступить в вашей прежней роли.
— Нет, — возразил он. — Это… ошибка. Она не… ничего.
— Вряд ли это так, сэр, — заговорил Майло, вытаскивая из кармана листок бумаги. — Здесь зарегистрированы телефонные переговоры. Они велись в тот вечер по частному номеру Мелиссы и учтены до минуты. Было сделано три звонка в течение часа. Сюда, в хоспис[23] «Приятный отдых».
— Косвен… ная… улика, — сказал Датчи. — Она говорит… со мной… все время.
— Мы видели машину, сэр, — продолжал Майло. — «Кадиллак», зарегистрированный на ваше имя. Интересные повреждения спереди. Мне представляется, что полицейская лаборатория сможет с этим поработать.
Датчи посмотрел на него, но без всякого беспокойства — казалось, он оценивает одежду Майло. Майло оделся довольно-таки хорошо. Для него. Свое мнение Датчи оставил при себе.
— Не волнуйтесь, мистер Датчи, — успокоил его Майло. — Это не для протокола. Как бы то ни было, вас не предупредили о ваших правах, поэтому ничто из сказанного вами не может быть использовано против вас.
— Мадлен не… имела… ничего… общего… с…
— Если даже и имела, то нам на это наплевать, сэр. Мы просто хотим связать концы с концами.
— Она… не имела.
— Прекрасно, — сказал Майло. — Вы все это придумали самостоятельно. Волна преступности из одного человека.
Улыбка Датчи была неожиданно быстрой и полной.
— Крошка. Билли. Что… еще вы… хотите… знать?
— Чем вы заманили туда Макклоски? — спросил Майло. — Использовали его сына?
Улыбка Датчи задрожала и исчезла, подобно слабому радиосигналу.
— Не… честно. Но… больше… никак.
— Кто ему звонил? Ноэль? Мелисса?
— Нет. — Он затрясся. — Нет. Нет, нет. Клянусь.
— Успокойтесь. Я вам верю.
Прошло немало времени, пока лицо Датчи перестало трястись.
— Так кто же звонил Макклоски? — повторил свой вопрос Майло. — Определенно это были не вы.
— Друзья.
— И что эти друзья сказали ему?
— Сын. Попал в беду. Нужна… помощь. — Остановка, чтобы перевести дыхание. — Струны… отцов… ского… сердца. — Датчи сделал мучительно медленное движение, будто за что-то тянет.
— Откуда вы знали, что он клюнет на это?
— Не… знал. По… думал.
— Вы выманили его байкой про сына. А ваши друзья переехати его.
— Нет. — Он указал на накрахмаленную грудь своей рубашки. — Я сам.
— Вы все еще водите машину?
— Иногда.
— Так-так.
— Еще… бы. Пять… сот. — Неподдельная радость на бледном лице.
Майло сказал:
— Вы и Парнелли.
Тонкий смешок.
— Наверно, глупо спрашивать почему.
Он с усилием покачал головой.
— Нет. Ни… сколько.
Молчание.
Датчи улыбнулся; ему снова удалось поднести руку к груди.
— Спра… шивай… те.
Майло закатил глаза.
Я спросил:
— Почему вы это сделали, мистер Датчи?
Он встал, покачнулся, взмахом руки отказался от нашей помощи. Ему потребовалось целых пять минут, чтобы выпрямиться. Я знаю, потому что все это время смотрел на секундную стрелку своих часов. Еще пять минут, и он добрался до каталки и с торжеством оперся на нее.
С торжеством, в котором было что-то сверхъестественное.
— Причина, — сказал он. — Моя работа.
38
— Такие малюсенькие, — сказал она. — Они выживут?
— Это как раз и есть выжившие, — ответил я. — Главная задача состоит в том, чтобы взрослые рыбки были всегда сыты, — тогда они не будут есть малышей.
— Как вам удалось добиться, чтобы они вывелись?
— Я ничего не делал. Это случилось само собой.
— Но ведь вы должны были, наверно, как-то все тут устроить. Чтобы это могло случиться.
— Я обеспечил воду.
Она улыбнулась.
Мы сидели у пруда. Воздух был неподвижен, слышался тихий шепот водопада. Ее босые ноги были спрятаны под юбку. Пальцы перебирали траву.
— Мне здесь нравится. Мы могли бы каждый раз разговаривать здесь?
— Разумеется.
— Здесь такой покой. — Ее пальцы перестали перебирать траву и начали «месить» друг друга.
— Как мама? — спросил я.
— Хорошо. Наверно, хорошо. Я все жду, будто вот-вот что-то должно… я не знаю… сломаться. Что она начнет кричать или сходить с ума. А то она выглядит почти неестественно спокойной.
— Это тебя беспокоит?
— В известном смысле, да. Но, наверно, по-настоящему меня мучает то, что я ничего не знаю. Ничего о том, что знает она — как ей представляется все, что с ней произошло. То есть она говорит, что отключилась и пришла в себя уже в больнице, но…
— Но что?
— Может, она просто оберегает меня. Или себя — изгоняет это из памяти. Подавляет это.
— Я ей верю, — сказал я. — Все время, пока я видел ее, она была без сознания. Ни малейшего контакта с окружающим.
— Да. Доктор Левин говорит то же самое… Он мне нравится. Левин. Он дает тебе почувствовать, что никуда не спешит. Что считает важным все, что ты хочешь ему сказать.
— Я рад.
— Слава Богу, что ей достался кто-то хороший. — Она повернулась ко мне, и я увидел, что глаза у нее на мокром месте. — Не знаю, как мне вас благодарить.
— Ты уже сделала это.
— Но этого недостаточно — за то, что вы сделали… — Она потянулась было к моей руке, но потом отстранилась.
Стала смотреть на пруд. Словно хотела что-то увидеть в воде.
— Я приняла решение. Относительно планов. Год буду учиться здесь, а потом посмотрим. Одного семестра все равно бы не хватило. Слишком много всего надо сделать. Сегодня утром я звонила в Гарвард. Прямо из больницы. Еще до того, как прилетел вертолет. Поблагодарила за отсрочку и сказала им, что я решила. Они сказали, что примут меня переводом, если мой балл в Калифорнийском будет достаточно высок.
— Уверен, что так и будет.
— Наверно. Если удастся правильно организовать свое время. Ноэль уехал. Приходил вчера попрощаться.
— Ну и как?
— Вид у него был немножко испуганный. Что меня удивило. Никогда не думала, что он может растеряться. Это выглядело почти… мило. С ним была его мама. Вот уж кто действительно паниковал, так это она. Она будет ужасно по нему скучать.
— Вы с Ноэлем собираетесь поддерживать контакт?
— Мы договорились переписываться. Но вы ведь знаете, как это бывает — разные места, разные впечатления. Он был настоящим другом.
— Уж это точно.
Она грустно полуулыбнулась.
Я спросил:
— Ты что?
— Я знаю, что он хочет большего, чем просто дружба. От этого мне немного… я не знаю… Может, он там встретит кого-то, кто по-настоящему подойдет ему.
Она наклонилась к воде.
— Сюда плывут большие рыбы. Можно мне их покормить?
Я отдал ей чашку с кормом. Она бросила горсть гранул подальше от мальков и смотрела, как взрослые рыбы подскакивали и хватали добычу.
— Ну, вы даете, ребята, — сказала она. — Ближе не подплывайте. Надо же, вот ненасытная банда… Думаете, она все-таки когда-нибудь совсем выздоровеет? Левин говорит, что со временем она должна прийти в норму. Но я не знаю.
— Что же заставляет тебя сомневаться?
— Может, он просто оптимист.
У нее это прозвучало как недостаток.
— Насколько я могу судить, доктор Левин реалист, — возразил я. И вспомнил лицо Джины на фоне больничных простыней. Пластмассовые трубки, отдаленное позвякивание металла и стекла. Тонкая бледная рука пожимает мою. И пугающее спокойствие…
Я сказал:
— Уже одно то, что она так хорошо переносит больницу, — добрый знак, Мелисса. Она поняла, что может находиться вне дома без каких бы то ни было неприятных ощущений. Как ни жутко это звучит, но вся эта история может в итоге способствовать ее излечению. Разумеется, я не хочу этим сказать, что она не травмирована или что все легко пройдет.
— Наверно, вы правы. — Она произнесла это так тихо, что я едва услышал ее за шумом водопада. — Есть еще столько всего, что мне до сих пор не понятно, почему это случилось. Такого рода зло, откуда оно идет? И что она сделала, чтобы заслужить такое? То есть я знаю, что он псих, — и те ужасы, которые он натворил… — Она вздрогнула. Руки пошли мять друг друга. — Сьюзан говорит, что его упекут навсегда. Из-за одних трупов, которые нашли на ранчо. И это хорошо. Наверно. Потому что мне непереносима сама мысль о суде — там маме пришлось бы встретиться лицом к лицу с еще одним… монстром. Но все же это кажется каким-то… неадекватным. Должно быть больше.
— Более суровое наказание?
— Да. Его надо заставить страдать. — Она снова повернулась ко мне. — Вам ведь тоже пришлось бы там присутствовать, верно? На суде?
Я кивнул.
— Так что, наверно, вы тоже рады, что никакого суда не будет.
— Я это спокойно переживу.
— Ладно. Это к лучшему, просто я никак… Что заставляет человека… — Она покачала головой. Взглянула вверх, на небо. Потом опять вниз. Руки мяли одна другую. Все сильнее и быстрее.
Я спросил:
— О чем ты думаешь?
— О ней. Об Урсуле. Левин сказал мне, что ее выписали из больницы и она вернулась в Бостон, к родным. Как-то странно думать, что у нее есть родные. Что она в ком-то нуждается. Раньше она мне казалась всесильной — чем-то вроде дракона женского рода.
Она расцепила руки. Вытерла их о траву.
— Вчера вечером она звонила маме. Или мама звонила ей — мама как раз говорила с ней по телефону, когда я вошла. Как только я услышала, что мама произнесла ее имя, то сразу вышла из комнаты и спустилась в кафетерий.
— Тебе стало неприятно? Что они разговаривают?
— Не знаю, что она теперь может предложить маме, ведь она сама жертва.
— Может, и ничего, — сказал я.
Она пристально взглянула на меня.
— Что вы хотите этим сказать?
— То обстоятельство, что они больше не врач и пациентка, еще вовсе не значит, что они должны прервать все контакты.
— А какой в них смысл?
— Есть такая вещь, как дружба.
— Дружба?
— Вот что тебя задевает.
— Это не… Я не… Да, она все еще мне неприятна. Я также считаю, что это она виновата в том, что случилось. Даже если она тоже пострадала. Она была маминым врачом. Она должна была оградить ее — но так говорить нечестно, да? Она тоже жертва, как и мама.
— Дело не в том, честно или нечестно. Ты испытываешь эти чувства. С ними нужно будет справиться.
— У нас масса времени.
Она опять повернулась к воде.
— Они такие крошечные, трудно поверить, что они смогут… — Дотянувшись до ведерка, она зачерпнула еще гранул и стала бросать их в воду по одной, наблюдая за тем, как от каждого погружения на поверхности воды возникает на миг маленький кратер. Потом откинула волосы движением головы и закусила губу.
— Вчера вечером я заехала в «Кружку». Надо было завезти Дону кое-какие его вещи из дома. Там было полно народу. Он занимался с посетителями — не видел меня, и я не стала ждать, просто оставила вещи… — Она пожала плечами.
— Не пытайся сделать сразу все, — сказал я.
— Да, именно этого мне и хотелось. Покончить со всем раз и навсегда и двинуться дальше. Покончить с ним — с монстром. По-моему, как-то неправильно, что он проживет остаток своей жизни в какой-нибудь чистой, удобной больнице. Что он и мама, в сущности, оказались в одинаковом положении. Я хочу сказать, это же абсурд, правда?
— Он там останется навсегда. А мама выйдет.
— Я надеюсь.
— Обязательно выйдет.
— И все равно это несправедливо. Должно быть что-то более… конечное. Справедливость — какой-то конец. Как в случае с Макклоски. Да сгорит он в аду. Удалось ли Майло узнать что-нибудь еще о том, кто это сделал? Мое предложение оплатить услуги адвоката остается в силе.
— Полиция не раскрыла это дело, — сказал я. — И вряд ли раскроет.
— Вот и хорошо. Зачем тратить время впустую.
Она высыпала в воду остатки корма, отряхнула с ладоней оставшуюся на них пыль от гранул. Вновь начала разминать руки; тело ее напряглось. Потом потерла лоб и длинно выдохнула.
Я молча ждал.
— Я летаю туда каждый день, чтобы повидаться с ней. И не перестаю спрашивать себя, почему она здесь, почему должна проходить через это? Почему один человек, никогда в своей жизни не сделавший ничего дурного, должен пострадать от лап двух чудовищ за одну жизнь? Если есть Бог, то почему Он все так устроил?
— Хороший вопрос, — ответил я. — Люди пытались разобраться с разными его вариантами испокон веков.
Она улыбнулась.
— Это не ответ.
— Правильно, не ответ.
— Я думала, вы знаете все ответы.
— В таком случае приготовься к крушению иллюзий, девочка.
Ее улыбка стала шире и теплее. Она наклонилась вперед, одной рукой придерживая волосы, и коснулась воды другой.
— Вы видели что-то, — сказала она. — Там, где… ну, в том месте. Такое, о чем мы с вами не говорили.
— Есть еще много всего, о чем мы не говорили. Всему…
— Знаю, знаю. Всему свое время. Только хотела бы я знать, что такое это свое время — обозначить его какой-то цифрой, что ли.
— Это вполне можно понять.
Она засмеялась.
— Опять вы в своем репертуаре. Опять говорите мне, что со мной все в порядке.
— Потому что это действительно так.
— Правда?
— Определенно правда.
— Что ж, — сказала она, — вы ведь специалист.
Примечания
1
Боязнь пространства, открытой площади или толпы. — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)2
Шерстяная ткань.
(обратно)3
Деклассированный (франц.).
(обратно)4
Следовательно, итак (лат.).
(обратно)5
Ночной страх (лат.).
(обратно)6
Человек некомпетентный (шутливое подражание латинскому, по аналогии с homo sapiens).
(обратно)7
Сотрудники ФБР.
(обратно)8
Вооруженные агенты ФБР.
(обратно)9
Портативная рация двусторонней связи.
(обратно)10
Охотничья поисковая собака.
(обратно)11
Игра в мяч, похожая на теннис.
(обратно)12
Тонкий японский матрас, используемый в качестве подстилки на пол.
(обратно)13
Энергичный, мужественный человек; настоящий мужчина (исп.).
(обратно)14
Тут пусто (исп.).
(обратно)15
Стиль, созданный по образцам старинных испанских католических миссий в Калифорнии.
(обратно)16
Ласковое обращение к ребенку по-французски.
(обратно)17
Название романа Дэшиела Хэммета.
(обратно)18
В американском сленге: полицейские, полиция.
(обратно)19
Здесь и далее Скидмор называет д-ра Делавэра по имени известного литературного героя — частного сыщика Филиппа Марлоу.
(обратно)20
Спиртной напиток, к которому в преступных целях подмешан наркотик, слабительное и т. п.
(обратно)21
На живом организме (лат.).
(обратно)22
«Мокрая спина», т.е. нелегальный эмигрант из Мексики, переплывший реку Риио-Гранде.
(обратно)23
Больница для безнадежных пациентов.
(обратно)




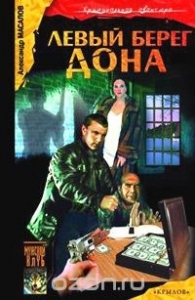
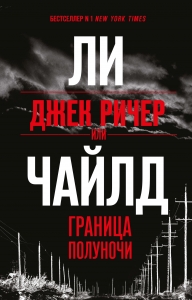

Комментарии к книге «Частное расследование», Джонатан Келлерман
Всего 0 комментариев