Фелисия Йап Вчера
© 2017 Felicia Yap Ltd This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency All rights reserved
© Ф. Гуревич, перевод, 2019
© Издание на русском языке, оформление
* * *
Алексу и Хан Ши
Поселок неподалеку от Кембриджа, за два года до убийства
Давай я открою тебе страшную тайну. Для начала покажу фотографию.
Это я когда-то. У меня была плоская грудь и уши торчком. Присмотрись – увидишь в глазах надежду, а в душе огонь. Сейчас ни огня, ни надежды. Погасли за годы изоляции.
А вот другая фотография. Ой, смотри ты, вздрогнула. Неудивительно. На фотографии ты, не кто-нибудь. Твое собственное фото, три на четыре, совсем недавнее. Ты здесь неплохо выглядишь. Белокурые волосы каскадом падают на плечи, буфера впечатляют. Знаешь что? Я переделаю себя так, чтобы стать в точности такой же, как ты. Высветлю волосы и наращу того же размера сиськи.
Ты, кажется, морщишь лоб? Никак не въехать, да? Никак не понять, зачем мне понадобилось быть похожей на тебя.
Сейчас объясню. Я помню все. Точно тебе говорю. Я единственный человек на этой планете, который помнит свое прошлое. Все прошлое. Живо и с подробностями. Я не шучу. И этим, черт возьми, я от вас отличаюсь.
Ты что, мне не веришь?
Тоже ничего удивительного. Как все пять миллиардов моно, ты помнишь только то, что происходило вчера. Просыпаешься каждое утро, а в голове – факты. Тщательно отобранная информация о себе и о других. Выползаешь из кровати и тащишься за айдаем, оставленным на блестящей кухонной столешнице. Это твой гаджет, скудный жизненный путь из настоящего в прошлое. Тебе не терпится узнать несколько жалких подробностей, записанных тобою же накануне вечером. Срочно добавить их к воспоминаниям о вчерашних событиях – а также к другим холодным стерильным фактам, которые ты о себе уже знаешь.
В основном мусор, правильно?
Но ты давно к этому привыкла, да? Ты так живешь с восемнадцати лет, когда скукожился твой убогий умишко. Еще бы тебе не завидовать дуо, у которых кратковременная память слегка лучше твоей. При этом вы все равно одинаковые.
Одинаковые ничтожества.
Хочешь, я скажу тебе простую истину, раз уж тебе предстоит узнать меня настоящую?
Помнить все – значит помнить и то, что другие люди с тобой сделали (даже если они сами этого не помнят). Вплоть до мелких и отвратительных подробностей. Что заставляет тебя постоянно думать о мести тем, кто нагадил тебе так сильно. Очень очень очень сильно. Скажем, из-за них ты провела семнадцать лет в психиатрической лечебнице. Страстное желание отплатить, не дающее тебе спать в самые темные ночные часы, когда исчезает ухмылка луны и умолкают совы, – оно оттуда.
Когда помнишь все, привыкаешь доводить все до конца. Например, месть.
Удобно, черт возьми, как ты думаешь?
Именно поэтому я, София Алисса Эйлинг, доведу это дело до конца.
Отличная будет месть. Особенно если посмотреть на все, что ты со мной сделала. На жуткие мелочи, происходившие по твоей вине все эти годы. Я помню их вместе и по отдельности. Итоговая сумма незабытых обид – вот что питает ненависть. О да. Месть будет легкой.
Ведь никто не запомнит, что я с тобой сделаю.
Кроме меня.
Счастье – это процесс. Несчастье – состояние.
Дневник Марка Генри ЭвансаГлава первая Клэр
На кухне стоит мужчина и хнычет. Он перегораживает мне проход к мраморной столешнице, на которой лежит мой айдай, упорно мигая фиолетовым диодом. Скосив глаза, я вижу, что мужчина держится левой рукой за правую и морщится от боли. Из правого указательного пальца течет кровь. Вокруг мужчины – осколки заварочного чайника.
– Что случилось? – спрашиваю я.
– Выскользнул из рук, – отвечает мужчина и трагически кривится.
– Дай посмотрю. – Я огибаю керамические осколки.
Когда я подхожу к мужчине поближе, золотое кольцо на его руке насмешливо вспыхивает. И словно по сигналу, в голове у меня прокручиваются главные факты о муже, выученные за все эти годы. Имя: Марк Генри Эванс. Возраст: 45 лет. Профессия: литератор, однако надеется после следующих выборов стать депутатом парламента от Южного Кембриджшира. Мы поженились в 12:30 30 сентября 1995 года в капелле Тринити-колледжа. На свадьбе присутствовало девять гостей. Родители Марка отказались приехать. Я обещала капеллану Уолтерсу повторять себе каждое утро, что люблю Марка. Свадьба стоила 678 фунтов 29 пенсов. Последний раз у нас с мужем был секс больше двух лет назад, 11 января 2013 года. Марк кончил через шесть с половиной минут.
Я еще не решила, должно это множество накопленных фактов о собственном муже расстроить меня, огорчить или разозлить.
– Хотел поймать, – говорит Марк, – но он отскочил от посудомойки.
Я рассматриваю глубокий порез на его указательном пальце. Длиной почти дюйм. Перевожу взгляд на лицо Марка, отмечая глубокие складки поперек лба. Веер неспокойных морщин вокруг глаз. Перекошенный рот. Вспоминаю, как ночью он метался в кровати, словно во сне за ним кто-то гнался.
– Выглядит жутко, – говорю я, – сейчас принесу пластырь.
Поворачиваюсь к мужу спиной и торопливо взбегаю по лестнице. Факт: аптечка лежит в туалетном шкафу рядом с зеркалом. Прежде чем ее достать, я замираю перед своим отражением. На меня смотрят совсем не те затравленные глаза, что я видела вчера. Зрачки сегодня чище. Но щеки все равно отечные. И кожа вокруг глаз припухла.
Я вчера плакала, перед тем как уснуть. Почти весь день провела в постели.
Я спрашиваю себя: из-за чего? Я изо всех сил всматриваюсь в растянутое зеркалом лицо, надеясь, что на ум мне придут подходящие факты. Но причины вчерашних слез порхают, и их не достать, словно крылья неуловимой бабочки. Я только помню, как рыдала, зарываясь лицом в подушку, и отказывалась есть. Признав поражение, строю соответствующую гримасу – лицо в зеркале хмурится мне в ответ. Вчерашнее несчастье наверняка вызвано чем-то происходившим два дня назад. Но чем?
Я не помню, что происходило позавчера. Просто не могу. Я помню только то, что было вчера.
Меня ждет муж, говорю я себе со вздохом. Достаю из шкафа аптечку и спускаюсь на кухню. Марк сидит за столом, баюкая порезанный палец. Рот по-прежнему искривлен в мучительной гримасе.
– Дай посмотрю. – Я открываю аптечку.
Вытираю кровь ватным тампоном, и Марк дергается. Порез гораздо глубже, чем я думала.
– Нужно сначала продезинфицировать. – Достаю бутылочку с антисептиком и вытаскиваю пробку.
– Да не суетись ты.
– Я не хочу, чтобы у тебя потом загноилось.
– Это просто небольшой порез.
Не обращая внимания на его протесты, я выливаю на рану щедрую дозу антисептика (Марк снова дергается) и заматываю палец пластырем. Марк открывает рот, намереваясь что-то сказать, но потом закрывает и хмурится.
Я целую его замотанный палец, затем встаю и беру со столешницы айдай. Кладу большой палец правой руки на специальную дактилоскопическую кнопку, и фиолетовый диод «ОТКРЫТЬ ВЧЕРАШНЮЮ ЗАПИСЬ» перестает мигать. Скролю до последней записи. Вчера вечером я написала:
11:12. Проснулась с ужасным чувством. Бремя знания давит на плечи. Целый час проплакала в постели. В 12:25 нашла спящего Марка у него в кабинете; разбудила и отдала ему подарок – хотя до дня рождения еще целая неделя. Разрыдалась и снова легла в постель. Забросила все домашние дела – даже сад. Отказалась от обеда и от ужина. Марк несколько раз заходил в спальню с заботливым видом и говорил, что завтра все придет в норму. Он прав. Вчерашний кошмар к утру исчезнет. В 21:15 выбралась на поверхность ради банана, таблеток и двух стаканов виски, потом снова легла в постель.
Точное, хоть и скупое описание всего, что случилось вчера. Но запись не объясняет, почему я плакала. Она лишь предполагает, что вчерашнее несчастье было вызвано чем-то, что случилось два дня назад. Чем-то кошмарным. Я отматываю экран к предпоследней записи.
Гроза до 9:47. После вывела Неттла гулять. Обед из ростбифа с картофелем, в 13:30 съела в оранжерее в одиночестве. Марк попросил принести ему обед в кабинет, чтобы он мог продолжать писать. Поехала в 16:50 на Гранд-роуд, где мы долго болтали с Эмили за чаем с пышками. Вечером никаких событий. Марк вернулся в кабинет, чтобы еще поработать. Сидела, поджав ноги, перед телевизором с остатками еды из микроволновки.
Эта запись меня раздосадовала и даже поразила. Я предполагала, что она хоть как-то прольет свет на причины вчерашних страданий. Вместо этого краткость и какая-то муть. Я еще раз вчитываюсь в каждое слово, но ощущаю ту же пустоту. Марк может знать, что случилось в тот день. В отличие от меня, он дуо – помнит два дня, вчерашний и позавчерашний. Это отличает его от большинства из нас. Из-за этого он считает себя выше.
– Я помню, что проплакала весь вчерашний день, – говорю я, отмечая, что хмурость на лице Марка никуда не делась. – Но не могу понять из-за чего.
Наши глаза встречаются. У Марка в зрачках темный отблеск, смысл которого я не могу постичь. Гнев? Горе? Или страх?
Он отворачивается и, перед тем как ответить, несколько секунд пристально смотрит на цветок орхидеи.
– Позавчера ты забыла вечером принять лекарство, – говорит он. – Вчера из-за этого случился рецидив.
Наверное, он прав. Факт: 7 апреля 2013 года доктор Хельмут Йонг из больницы Адденбрука прописал мне два лекарства, которые я с тех пор и принимаю. Лексапро и престик. Две таблетки первого и одну – второго, каждый день. Я тянусь к коробке на столешнице, прокручивая в уме нужные детали. Факт: 1 июня 2015 года в 14:27 я приехала в ньюнемскую аптеку и обменяла рецепт доктора Йонга на две упаковки лекарств. Шестьдесят и тридцать таблеток соответственно, ровно на месяц.
Я пересчитываю таблетки в серой коробке. Должно быть пятьдесят и двадцать пять. Вместо этого получается пятьдесят две и двадцать шесть.
– Так и есть, – говорю я со вздохом. – Забыла принять лекарства.
Марк хмыкает и встает со стула. Я отмечаю, как чуть-чуть расслабились его напряженные плечи.
– Я уберу, – говорит он.
Пока Марк возится с совком и щеткой, я достаю из холодильника бутылку молока. У меня урчит в животе. Насыпаю в миску кукурузные хлопья. Сажусь за стойку, беру ложку в руку, включаю радио. Кухню заполняет треск помех, через секунду его пробивают позывные веб-сайта со сравнительными обзорами автомобильных страховок. Марк заметает на совок последний осколок. Потом он решает все же выпить чая, достает кружку и кладет в нее пакетик «Эрл Грея».
«Доброе утро, Восточная Англия, – говорит по радио мужской голос. – В эфире восьмичасовые новости. Ее величество утвердила парламентский акт, поощряющий смешанные браки между моно и дуо, которые составляют, как показывает перепись две тысячи одиннадцатого года, семьдесят и тридцать процентов населения соответственно. Слишком долго этим союзам препятствовали укоренившиеся в обществе культурные предрассудки. В две тысячи четырнадцатом году в Британии зарегистрировано всего восемьдесят девять смешанных браков».
Я украдкой бросаю взгляд на Марка. Он размешивает сахар, и рот его выгибается веселее, пусть на крохотную долю. Я знаю, почему ему приятно. Хорошая новость для его предвыборной кампании. Факт: двадцать лет назад, несмотря на резкое неприятие своей семьи, ему хватило духу жениться на моно по имени Клэр Буши. Он тот дуо, которого напрямую касаются нужды, надежды и страхи всех моно Британии. Он женат на одной из них.
«Последние научные исследования доказали, что у моно-дуо-пар с семидесятипроцентной вероятностью рождаются дети-дуо».
Дети. Факт: я хочу ребенка. У меня сжимается сердце от мысли о маленьком существе, рожденном для заботы и любви. Но как мне родить ребенка, если из нашего брака ушел секс?
«Правительство убеждено, что увеличение процента дуо поднимет продуктивность и конкурентоспособность британской экономики, – продолжает диктор. – Ее росту будет способствовать закон о смешанных браках – парламентский акт, предоставляющий налоговые льготы моно-дуо-союзам. Закон должен вступить в силу пятнадцатого февраля две тысячи шестнадцатого года».
Если бы они знали. Есть факты. Я заставила себя выучить их, нравятся мне они или нет.
Факт: моно, состоящие в браке с дуо, сталкиваются с ежедневным напоминанием о границах своей памяти. Это обрекает их на хроническое чувство неполноценности. Возможно, поэтому я столько лет принимаю антидепрессанты. В то же время я не допускаю даже мысли о том, чтобы оставить человека, который на мне женился, проигнорировав самое сильное табу общества, ибо в этом случае мои перспективы будут гораздо хуже. Факт: Марк получил 350 тысяч фунтов аванса за свой самый успешный роман «На пороге смерти». Мы живем в Ньюнеме, в особняке с видом на Кэм. Шесть спален, оранжерея, сад на 1,4 акра. Дважды в год отпуск на Карибах, билет в первом классе. Выйди я замуж за такого же моно, как я, до сих пор бы работала официанткой в «Универ-блюзе».
Теперь диктор бубнит о вчерашних футбольных разборках между Англией и Германией.
Я вздыхаю, зачерпывая еще одну ложку хлопьев. Они хрустят, сиропная сладость обволакивает язык. У меня не жизнь, а идиллия – но только снаружи. Факты говорят достаточно. Если бы в моей жизни был ребенок. Годы идут, и пустота делается все глубже – мне уже тридцать девять лет. И если бы у меня была память, как у Марка. Этот провал разделяет нас, становясь непреодолимой пропастью.
Диктор что-то говорит о Кембридже. Я навостряю уши.
«Тело женщины средних лет найдено сегодня утром в реке Кэм около поселка Ньюнем, в районе заповедника».
Слова тонут в помехах. Я поднимаю взгляд от миски с хлопьями. Марк роняет чашку. На полу кухни дюжина осколков. На столе перед ним дымящаяся лужа «Эрл Грея». К ноге прилип размокший чайный пакетик.
«Пресс-секретарь отделения полиции Кембриджшира заявил, что обстоятельства смерти выглядят подозрительными и что ведется расследование, – говорит диктор. – Переходим к прогнозу погоды: метеорологический центр сообщает, что день будет ветреным».
Я выключаю радио. Наступившая тишина удваивает тревогу.
– В чем дело? – спрашиваю я.
Марк не отвечает. Его глаза смотрят внутрь. Плечи вытянулись напряженной линией.
– Это из-за новостей об умершей женщине?
Муж моргает. Кажется, я не ошиблась. Это из-за нее. Но почему?
– Я… меня просто шокировала эта новость, – говорит он, запинаясь. – Наверное, ее нашли в Райском заповеднике, у дороги. Это ужасно. Вот из-за чего сегодня утром гудела полицейская сирена.
Я всматриваюсь в его лицо. Челюсти сжаты.
– Не понимаю, отчего ты так разволновался.
– Вовсе нет, – возражает Марк, хотя напряженные плечи говорят об обратном. – Просто невнимательность. Сначала чайник, теперь чашка. Извини. Я сейчас все уберу.
Он поворачивается ко мне спиной и выходит из кухни.
Я смотрю на остатки кукурузных хлопьев у себя в тарелке. Есть больше не хочется.
Марк смел с пола остатки чашки и ушел в дальний конец сада, где у него оборудован кабинет. Мне не терпится взять Неттла и прогуляться до Райского заповедника. Часть парка наверняка оцеплена, но может, удастся подсмотреть, что там происходит у полиции.
Цепляю к ошейнику поводок и выхожу с собакой на солнце. Утренний воздух хрустит, чувствуется прохлада. От тротуара доносится слабый аромат жимолости. Мы направляемся к калитке у края Грантчестерского луга. Неттл рвется вперед, почуяв кролика, а то и двух. Я натягиваю поводок. Калитка скрипит, мы вступаем в заповедник. Земля под ногами мягкая, местами даже хлюпает. Множество следов, в основном свежих. Впереди пляшет бабочка-кареглазка, ее силуэт мерцает в солнечных лучах.
Мы пробираемся по заросшей тропе мимо старых ив, оставляя справа мутную заводь реки Кэм, и до меня доносятся приглушенные голоса. Вдалеке видны черные шлемы. Подхожу ближе. У берегового дощатого настила топчутся несколько человек, все смотрят в одну сторону. Трое полицейских не подпускают их ближе. Между двумя деревьями намотана и завязана бантом желтая лента, концы треплет ветер.
Притянув к себе Неттла, я присоединяюсь к людям. Мужчина в джинсах и мягкой куртке возится с камерой. Комментатор в костюме и с отросшей челкой вещает в микрофон. Все остальные таращатся на берег реки. Встав на цыпочки, я заглядываю поверх их голов.
– Никаких смартфонов! – Полицейский грозит пальцем мальчишке.
Представшая моим глазам картина меня разочаровывает. Тела нет, даже в мешке. Только двое мужчин в белых защитных костюмах и голубых резиновых перчатках. Один из них запечатывает что-то в пластиковый пакет. Второй фотографирует нависшее над Кэмом большое дерево. Его огромный ствол тянется футов на двадцать, частично погруженный в воду, потом выпрямляется, расходясь ветками и листьями.
– Что происходит? – Я поворачиваюсь к мужчине в оранжевых флуоресцентных беговых кроссовках.
– Утром здесь нашли мертвое тело.
– А почему я его не вижу?
– Ее недавно увезли, вон по дорожке. – Он указывает на другую тропу, противоположную той, по которой пришли мы с Неттлом.
– Должно быть, жуткое зрелище.
– Когда я здесь пробегал, ее как раз укладывали в мешок. Часа два уже прошло. Блондинка. Длинные волосы. Лица я не рассмотрел.
– Знаете, как ее нашли?
– Да, подслушал, что говорил этот человек. – Он указывает пальцем на комментатора с микрофоном. – Другой бегун заметил что-то в тростнике, она там застряла лицом вниз. Прямо у корней этого большого дерева.
– О господи.
– Надо мне было встать сегодня пораньше. Тогда бы я ее первый заметил.
– Интересно, знают они уже, кто она такая?
– Человек из новостей сказал, что в кармане нашли водительское удостоверение. Но имени не назвал.
Я киваю.
– Ладно, я пошел. Тут уже становится скучно. Милая собачка.
Он поворачивается и убегает, сверкая среди деревьев кроссовками. Я отмечаю, что комментатор складывает микрофон. Камера тоже выключена. Я ослабляю поводок Неттла и тяну его к дому между шуршащих на ветру ив.
Бедняжка. Что с ней могло случиться?
Дома я не нахожу Марка. Наверное, он все еще в кабинете. Снимаю с Неттла ошейник и насыпаю ему в миску щедрую порцию сухого корма. Пока он с хрустом его поглощает, я натягиваю на себя комбинезон и перчатки. Дневник утверждает, что я не занималась грядками как минимум два дня. Сад наверняка вопиет об обрезке и прополке. Всеми своими 1,4 акра.
Распахиваю дверь оранжереи и снова выхожу на солнце. Поднялся ветер. Ступаю на асфальтированную дорожку, ведущую к кабинету мужа. Гроза, разыгравшаяся позавчера утром, оставила следы разрушения по всему саду. Повсюду валяются обломанные ветки и оторванные прутья. Сотни листьев – ветер поднимает их в воздух и закручивает кругами. Буря даже выкорчевала несколько полированных черных и белых камней у края садовой дорожки. На их месте остались темные углубления без травы.
Я не вижу, куда унесло камни. Наверное, их утащил Неттл. Есть у него манера хватать и припрятывать что попало – дневник говорит, что в прошлое Рождество я нашла у него в корзинке два булыжника и погрызенный теннисный мяч. Я умею выучивать мелкие случайные факты, что бы там Марк ни думал.
Достав из-под садового навеса грабли, я принимаюсь за работу. Вскоре около живой изгороди перед домом собирается груда оборванных листьев. От этой кучи успокаивающе веет запахом земли. Работа в саду лечит, – наверное, это правда, поскольку тяжесть у меня в животе постепенно уходит. А может, все дело во внушительной груде листьев – она свидетельствует о том, что я сделала сегодня утром что-то полезное. Домохозяйкам вроде меня приходится измерять ежедневные достижения числом предметов, которые они вычистили или надраили. Только это, пожалуй, и удерживает нас от безумия (или укрощает депрессию). В отличие от Марка, у меня нет книг с миллионными тиражами, которыми можно было бы гордиться.
В отличие от моего мужа, я мало чем могу гордиться в жизни. Так говорит мой дневник.
Не помогает делу и тот факт, что Марк, подобно большинству дуо, втайне считает моно тупыми. Он думает, что раз мы не способны помнить происходившее два дня назад, то и ум у нас тоже ограничен. Что мир вокруг себя мы воспринимаем близоруко. Ему не хватает смелости сказать это мне в лицо. Но я знаю, он думает об этом всякий раз, когда я открываю рот. Мой дневник подтверждает: все эти двадцать лет я сношу покровительственные насмешки от собственного дуо-мужа.
Но я не буду вдаваться в подробности. Я не стану думать о собственной неполноценности, истинной или мнимой. Особенно теперь, когда у меня наконец-то поднимается настроение.
Я достаю из-под садового навеса пару больших мешков для мусора и с новыми силами начинаю сгребать в них листья. Вдалеке что-то тренькает. Похоже на дверной звонок. Наверное, почтальон.
Я отворяю боковую калитку в живой изгороди и выхожу за угол к парадной двери дома. На крыльце стоит мужчина, лицо его повернуто от меня под углом. Это не почтальон. Худое точеное лицо, сильная угловатая линия подбородка. На висках налет седины. Идеально белоснежная сорочка безупречно отглажена. Оксфордские броги начищены до блеска.
– Чем могу помочь? – спрашиваю я.
Мужчина вздрагивает от неожиданности и оборачивается.
– Ох… – произносит он.
Взгляд останавливается на мне, отмечая грязный комбинезон и такие же башмаки. Радужки серо-стального цвета притягивают, словно магнит. Незнакомец лезет в нагрудный карман и достает оттуда бейдж с фотографией, прикрепленный к черному складному кошельку. Знак имеет форму снежинки с короной внутри.
– Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска. Хотел бы поговорить с Марком Эвансом.
– Зачем?
– Следствию нужна его помощь.
– Какому следствию?
– Мы расследуем гибель женщины.
Я смотрю на инспектора, разинув рот.
– Случайно, не… э-э… той женщины, про которую передавали в утренних новостях? Ее тело нашли в Кэме.
– Именно так, – кивает он. – Я главный следователь этого дела. И буду признателен, если вы позовете мистера Эванса. Это ваш муж, полагаю?
Я киваю. Что-то в этом мире с самого утра идет не так, но я не могу нащупать, что именно. Мои глаза скачут в сторону от Ричардсона; перед домом припаркована патрульная машина в желто-голубую клетку. За рулем водитель в форме, усатое лицо трудно рассмотреть сквозь затемненное стекло. Из окрестных домов высовывают головы соседи, одна, в нарядном сиреневом платье, даже вышла на крыльцо, чтобы получше нас разглядеть. Мне давно действует на нервы этот ряд однотипных домов напротив нашего.
– Марк работает у себя в кабинете, – говорю я, торопясь увести Ричардсона от глаз соседей, – пойдемте.
Я веду инспектора за угол дома, замечая повторяющийся узор на его шелковом галстуке. Похоже на греческий символ «пи», который мы когда-то проходили в школе. Неттл бросается к нам. Ричардсон пригибается почесать собачью голову и получает за это энергичный визг. Когда мы проходим через открывающуюся в сад боковую дверь, я набираюсь храбрости и спрашиваю:
– Как ее звали?
Инспектор морщит рот, потом отвечает:
– София Эйлинг.
Имя не высвечивает у меня в голове ни единого факта.
– А почему ее гибель… э-э… выглядит подозрительно?
– Не могу вам сказать, – качает он головой. – Извините. Прекрасный сад, кстати говоря. Очень интересно.
– Спасибо. Я позову мужа.
Ричардсон кивает. Я ухожу по садовой дорожке за Марком. Тревога вздымается волной и захлестывает сердце, смывая все остальное. Не может быть никакой связи между Марком и Софией Эйлинг. Я не знаю о ней ни единого факта. Чтобы убедиться в этом, я останавливаюсь посреди дороги, достаю айдай и набиваю ее имя. Результатов – ноль.
Подойдя к дверям Маркова логова, я стучусь. Изнутри доносится громкий стон.
– Я же пишу, Клэр! – Голос Марка приглушен, но в нем ясно слышится раздражение. – Сколько раз уже просил не беспокоить меня, когда я пишу. Обязательно впечатай это сегодня себе в дневник. И потрать побольше времени на изучение фактов.
– Это срочно, Марк. Пожалуйста, выйди.
Я слышу приглушенное чертыханье и наконец звук приближающихся шагов.
Дверь распахивается с громким скрипом, выставляя на обозрение идеальный порядок кабинета. Мой муж стоит передо мной, глядя в пространство. Вид у него диковатый. Если он писал весь последний час, это действо, должно быть, сильно его возбудило.
– С тобой хочет поговорить детектив. Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска. Он расследует дело той женщины, про которую утром говорили по радио.
Кровь отливает у Марка от лица. Левая рука дрожит.
«Сайентифик Америкен», 15 сентября 2005 года
Все записано в наших генах: Ученые обнаружили ген (и белок), ответственный за разделение общества по глубине памяти
Ученые Гарварда идентифицировали генный триггер, отвечающий за разницу в глубине кратковременной памяти между дуо и моно. Этот ген регулирует производство особого протеина, так называемого цАМФ[1] – ответного элемента активирующего белка, более известного под латинским наименованием CREB.
Образцы крови, собранные у пяти тысяч добровольцев, подтверждают очень низкий уровень CREB у взрослых – как дуо, так и моно, – в отличие от подростков моложе восемнадцати лет. При этом уровень CREB в крови дуо все же выше, чем у моно, что увеличивает глубину их кратковременной памяти до двух дней вместо одного.
Ученые считают, что производство этого белка ингибируется в возрасте двадцати трех лет у дуо и восемнадцати – у моно, разделяя, таким образом, человечество на две группы с разной глубиной памяти. Они пытаются понять, как и почему это происходит и всегда ли было именно так.
Дуо Патрик Килберн, возглавляющий эти исследования, полагает, что генный триггер можно переключить синхронизированной комбинацией физического и эмоционального стрессогенных факторов. Для того чтобы это произошло, травмы обеих форм должны совпасть по времени, настаивает ученый. Мыши, подвергшиеся одновременно физическому и эмоциональному шоку, обладают повышенным уровнем CREB и более глубокой кратковременной памятью.
Пресс-секретарь Международного фонда памяти (МФП) – организации, финансирующей эти исследования, – сказал: «Открытие генного триггера предоставляет человечеству прекрасную возможность улучшить в недалеком будущем свою память. По меньшей мере в один прекрасный день мы сможем всех моно конвертировать в дуо».
Глава вторая Марк
Когда утром передали эту новость по радио, я думал, хуже уже некуда. Оказалось – есть куда.
Говорят, счастье – в незнании. Я снова смотрю в глаза Клэр – в те самые глаза, что заворожили меня двадцать лет назад в «Универ-блюзе» (так говорит мой дневник). Зрачки сегодня кристально чистые, бремя знания не оставило на них пятен. Всего один день, и такая разница. Вчера из них выплескивалась мучительная агония. Сегодня это лавандовые радужки безмятежной женщины – комфорт защищен беспамятством, пытка знанием отменена.
В верхушках деревьев завывает ветер.
Впервые в жизни я готов отдать все, чтобы стать моно, как Клэр. Именно сегодня. Знаю, что она мне завидует. Сильно. Эта беда то и дело проявляет себя в нашем браке – и в моем дневнике. Я потерял счет фразам, начинающимся с «очередная тирада Клэр о том, что все дуо…».
Как же плохо она понимает, что у нее куда больше оснований быть счастливой именно потому, что она моно.
Я глубоко вздыхаю в надежде успокоить скачущие мысли.
– Очень странно, – говорю я.
– Инспектор Ричардсон ждет, Марк. – Клэр скрещивает на груди руки, не сводя с меня беспокойного взгляда.
Мне остается лишь последовать за ней по садовой дорожке к тому месту, где стоит детектив. Издалека видно, что он высок и хорошо сложен, с сильными плечами. Не до шуток, я здесь по делу, говорят эти плечи.
Скосив глаза, я замечаю, как этот человек прячет что-то в карман. Похоже на футляр от камеры. Проклятье. Что он фотографировал у меня в саду? Оставшиеся несколько ярдов я прохожу быстрее.
– Доброе утро, инспектор, – говорю я.
Вблизи я отмечаю, как хорошо черты его лица сочетаются с орлиным носом.
– Доброе утро, мистер Эванс.
– Как я понимаю, вы хотите со мной поговорить.
– Извините, что беспокою вас. Я знаю, как вы заняты. Но у меня есть печальные новости о мисс Софии Эйлинг. К моему глубокому сожалению, ее тело нашли в Кэме ранним утром.
– Что?
– В подобных случаях стандартная процедура требует взять свидетельские показания у друзей и родственников. Нам нужно восстановить картину действий покойной перед собственной смертью и предоставить экспертам, производящим вскрытие, все необходимые факты. Вы, очевидно, были знакомы с мисс Эйлинг. Не возражаете против того, чтобы поехать со мной в отделение на Парксайд для дачи показаний? Это не займет много времени.
Слышно, как Клэр со свистом втягивает воздух.
– Вы сказали… вы сказали, что Марк и София были знакомы?
– Да, – кивает инспектор.
– Марк… – Клэр поворачивается ко мне, в расширенных зрачках – обвинение. – Это факт?
Проклятье. Я обязан погасить уже дымящееся в глазах жены подозрение.
– Сейчас проверю, – говорю я ей, доставая дневник и изучая его с самым невинным выражением, на которое способен.
– Дневник утверждает, что я познакомился с Софией два года назад, в Йорке, на писательском фестивале, – говорю я. – Начинающая романистка, пишет о… гм… пациентах психиатрической лечебницы. В частности, об их наркотических фантазиях. Попросила меня подписать ей экземпляр романа «На пороге смерти». Сказала, что она большая поклонница моих книг. Как вы узнали, что мы с ней знакомы, инспектор?
– Мисс Эйлинг писала о вас в своем дневнике.
Черт. Как мог Софиин дневник попасть в руки инспектора?
– Мне странно слышать, что вы имеете доступ к ее дневнику, – говорю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. – Если я правильно изучил факты, закон о правах человека защищает право личности на тайну. Включая тайну переписки и дневников.
– Совершенно верно, сэр, но только в общем смысле. – Детектив на секунду умолкает, скривив рот. – В девяносто восьмом году была принята поправка к закону о защите данных, предоставляющая полиции – в случае необходимости и при наличии специального ордера – доступ к персональным данным. Мы можем конфисковывать или проверять электронные дневники, если затронуты интересы национальной безопасности. Или при расследовании таких преступлений, как убийство или похищение детей. Очень серьезных правонарушений, понимаете? – (Я тяжело сглатываю слюну.) – Так что мы сразу затребовали ордер на инспекцию дневника Софии. Он, как мы полагаем, поможет расследовать обстоятельства ее смерти.
– Что София писала обо мне?
Детектив молча качает головой, выставив вперед челюсть.
– Инспектор, – я смотрю ему прямо в глаза, – вы только что сказали, что тело этой несчастной выловили из Кэма. Вы стоите у меня в саду и просите меня о помощи. Я желаю знать подробности.
– Вы действительно этого хотите?
– Да, и я настаиваю.
– Ну, если настаиваете… – Он бесстрашно выдерживает мой взгляд.
Слышно, как Клэр вновь со свистом втягивает воздух.
– По дневнику Софии можно предположить, что после встречи в Йорке вы с ней стали весьма близки… – У детектива дергается уголок рта.
Клэр отступает назад. С таким видом, словно ее ударили под дых. Однако ужас, читающийся у нее на лице в первую секунду, тут же сменяется чем-то другим. Щеки горят грозовым огнем. Над ними и над прикушенной губой полыхают глаза.
У меня есть четыре возможности:
а) все отрицать;
б) все валить на характер Софии;
в) выяснить, что писала обо мне София в своем дневнике, – желательно, когда рядом не будет Клэр;
г) все вышеперечисленное.
– Это ложь, – говорю я, сжимая пальцы в кулак. – София все выдумала. Она говорила, что без ума от моих книг. Без ума от меня, хотя мы раньше не встречались.
Детектива это не убеждает.
– Она писала то, во что хотела верить. У нее было расстройство психики. Вы понапрасну тратите время, инспектор.
– Я обязан проверить всех, кто был с ней связан, – у детектива твердеет челюсть, – включая мужчин, с которыми мисс Эйлинг была весьма близка.
Я смотрю на Клэр. Пальцы у нее сжаты, как и у меня. В глазах пузырится все та же жидкая лава. Но слава богу, мою жену можно убедить, если это делать со всей настойчивостью, – к тому склоняют меня дневниковые заметки за последние двадцать лет. Факт: в одной из записей за июнь 1995 года говорится, к примеру, что Клэр неравнодушна к малиновым розам и что «долгая, упорная мольба – ключ к ее неподатливому сердцу».
Тем не менее меня передергивает. Стоит таблоидам прослышать, что я один раз изменил Клэр, и можно попрощаться с мечтами о парламенте.
– Инспектор, – говорю я, – надеюсь, вы не намерены меня арестовать?
– Господи боже, нет. Конечно нет, сэр. Нам нужны всего лишь свидетельские показания.
Трудно решить, должно это меня напугать или успокоить.
Ричардсон прокашливается и слегка дергает подбородком.
– Вы хотите знать, что писала о вас София? – говорит он. – Что ж, наш ордер позволяет частично раскрыть содержание ее дневника лицам, которых расследование касается напрямую. Я могу поделиться с вами некоторыми деталями, когда мы приедем в отделение.
Детектив, наверное, думает, что я отдам все, лишь бы узнать, что она обо мне писала.
– Я поеду с вами, инспектор, – говорю я со стоном. – Я буду добровольно помогать следствию, несмотря на полный бред в голове Софии относительно природы наших отношений.
– Благодарю вас.
– Верь мне, Клэр! – говорю я, заглядывая ей в глаза с самой горячей мольбой, на которую только способен.
Но Клэр не отвечает, и я шагаю вслед за детективом по садовой дорожке к машине.
Я думал, меня отведут в комнату для допросов. Вроде тех, что показывают в кино, – голые стены, стол, стул, мощная галогеновая лампа светит прямо в глаза несчастному подозреваемому.
Вместо этого меня проводят в кабинет Ричардсона. Рабочий стол почти пуст: компьютер, чей-то айдай (может, Софии?), цифровой диктофон и гигантский скрепкосшиватель. Почетное место в левом углу стола занимают деревянные шахматы. Пешки уже вступили в ожесточенную схватку. Ни огромных стопок бумаг, ни разбросанных в беспорядке картонных папок, ни чашек с заплесневелыми остатками кофе пятидневной давности. Однако полки позади стола позволяют кое-что узнать о Ричардсоне. Блокноты с цветными наклейками составлены безупречными рядами и следуют друг за другом в точном соответствии с оттенками этих наклеек.
Нужно быть осторожным.
Не показывать, что мне страшно, даже если это так.
В глаза бросается металлическая доска на задней стене с выгравированным на ней текстом:
Озарениям не прикажешь. Они просто случаются. Не прикажешь и вдохновению. Оно является, когда не ждешь. Но сложные задачи решаются за день. Если гнаться за ними с большой дубиной. Неизвестный авторМне просто необходимо быть начеку. Предельно осторожным. Я нюхом чую людей из породы инспектора Жавера[2], которые в погоне за ответами перевернут все камни до единого. У таких работа заполняет легкие с каждым вдохом. Горбоносый детектив не успокоится, пока не выудит правду.
– Спасибо, что согласились приехать, – говорит Ричардсон. Потом указывает на сержанта, что зашел вместе с нами в кабинет, – серьезного молодого человека с толстыми, словно гусеницы, бровями. – Это сержант Дональд Ангус, он будет впечатывать ваши свидетельские показания в формуляр MG11, согласно инструкции. Потом вы подпишете этот формуляр.
Я киваю.
– Значит, вы дуо, мистер Эванс.
– Разумеется.
– Как давно вы женаты?
– Двадцать лет.
– Дети?
– Нет.
– Вы успешный литератор. При этом вы надеетесь пройти в парламент от Южного Кембриджшира и будете участвовать в выборах как независимый кандидат.
– Совершенно верно.
– Что сказала София Эйлинг, когда подошла к вам после выступления в Йорке?
– Сейчас посмотрю.
Я достаю айдай, набираю на клавиатуре запрос и вновь поднимаю взгляд на Ричардсона:
– Сказала, что ей очень нравятся мои романы. Что она читает их уже много лет. И надеется, что ее неопубликованную рукопись ждет такой же успех. Так, по крайней мере, говорит мой дневник.
– Что-нибудь еще?
– Нет.
– Подождите минутку. Разве мисс Эйлинг не сказала, что она от вас без ума?
Какой он сообразительный, этот инспектор Ричардсон.
– Ах да. Сказала.
– Что вы ответили?
– Сказал, что польщен.
– Что произошло после этого?
Я молчу. Я отдал бы все, лишь бы узнать, что написала София в своем дневнике о нашей первой встрече.
– Она пригласила меня на ужин. Я отказался.
– Вы сказали «нет» прекрасной блондинке? – По лицу Ричардсона пробегает недоверие.
– Да. – Я смотрю ему в глаза, понимая, что каждое слово в дневнике Софии сейчас свидетельствует против меня. Но у меня перед Софией преимущество – у мертвой женщины нет больше слов, чтобы себя защитить. В отличие от меня.
– Но почему?
– Я не принимаю приглашения от каждого, с кем знакомлюсь на писательских конференциях. Даже от прекрасных блондинок.
– Почему же?
– Если человек заявляет, что он от меня без ума, в моей голове включается сигнал тревоги.
– Почему это?
В надежде выбраться из засады и в поисках подходящего ответа я впечатываю в айдай «психи + конференция». К моему облегчению, появляется один результат. Я просматриваю текст и поднимаю взгляд на Ричардсона:
– На таких мероприятиях нередки сумасшедшие, инспектор. В прошлом году, говорит дневник, одна дама с кислотно-розовой помадой на губах буквально избила литературного агента своей сумкой.
Детектив скептически поднимает бровь.
– Так что же произошло потом? – спрашивает он. – После того, как вы отвергли приглашение мисс Эйлинг?
– У нее был недовольный вид. Но она ушла.
– Что значит «ушла»?
– Вышла из комнаты. – Я стараюсь говорить терпеливо.
– Чтобы переспать с вами в другой комнате?
– Разумеется, нет.
– Вы уверены?
– Послушайте, инспектор… – Мне приходится прилагать усилия, чтобы не впустить в эти слова раздражение. – Я понимаю ваше стремление докопаться до причин смерти Софии. Но вы на ложном пути, если позволите мне высказать свое мнение.
– Что произошло после конференции?
– Ничего. – Я качаю головой. – Неужели ее дневник говорит, что у нас уже несколько лет бурный роман?
Детектив молчит. Я замечаю, что он снова выставил челюсть вперед. Собираюсь с силами для ответа на следующий вопрос.
– Общались ли вы с ней после этого?
Чтобы ответить, я достаю дневник.
– Я получил от нее несколько прочувствованных писем. Было видно, что она все еще одержима мной. Я отправил их в корзину. Камилла, мой агент, постоянно пересылает мне похожие письма от поклонниц.
– Приятно, наверное, когда вокруг вас вьются женщины.
– Дневник говорит, что это часто действует на нервы.
– Ваше имя несколько раз всплывает в ее айдае, – неожиданно говорит Ричардсон. – Сто восемьдесят четыре раза, если быть точным.
– Она была настолько одержима мной?
– В ее дневнике встречаются… как бы это сказать… живописные подробности, – говорит Ричардсон, не сводя с меня глаз. – Я еще не все изучил. Этот дневник не похож на те, что приходили по ордерам раньше вместе с делами об убийствах.
Я приподнимаюсь на стуле.
– Читается как сбивчивый поток сознания, – продолжает он, – или, скорее, как бурная река полусознания. Поразительная путаница мыслей.
Я знал, что София эксцентрична (так говорит мой дневник), но никогда не думал, что она сдвинулась настолько.
– Что она обо мне писала?
– Этого я сказать не могу.
– Но… но… вы сказали, что будете рады поделиться со мной деталями, если я поеду с вами в отделение.
– Я сказал, что могу ими поделиться.
– Она писала, что безумно меня любит?
– Вопросы здесь задаю я.
– Простите, инспектор, – говорю я, – мне просто любопытно, вот и все. Вы только что сказали, что мое имя всплывает в ее дневнике сто восемьдесят четыре раза.
– Давайте сменим тему. – Рот Ричардсона вытянут в зловещую линию. – Не могли бы вы подробно рассказать о всех ваших действиях за последние три дня? Давайте начнем со вчерашнего.
И снова у меня есть четыре возможности:
а) сказать Ричардсону правду о том, что сделал я;
б) выдать ему правду о том, что сделала Клэр;
в) солгать;
г) ничего из перечисленного.
– Утром моя жена почувствовала себя ужасно из-за того, что накануне вечером забыла принять лекарства, – говорю я. – Поэтому я решил остаться дома. Даже отменил встречу с волонтерами из группы поддержки, чтобы за ней присматривать. Слава богу, она все время оставалась в постели, и в целом день прошел неплохо.
– Что с ней было не так?
Я чуть не вою. Факт: состояние Клэр изводит меня уже много лет.
– Если вам так нужно знать, инспектор, – говорю я со вздохом, – то моя жена страдает депрессией. Временами ее поведение становится плохо предсказуемым. И кстати, буду очень благодарен, если вы сохраните это в тайне. Мне бы не хотелось, чтобы пресса узнала о… гм… проблемах со здоровьем моей жены.
Ричардсон кивает и, нахмурившись, помечает что-то у себя в блокноте.
– Значит, вы и миссис Эванс весь вчерашний день провели дома?
– Да.
– Что еще вы делали, кроме того, что присматривали за ней?
– Я попробовал писать за кухонным столом, пока Клэр отдыхала наверху. Но выяснилось, что это непродуктивно. Тогда я решил заняться канцелярской работой у себя в кабинете и навещать Клэр примерно раз в час.
– Что значит «канцелярской»?
– Таблицы. Письма. Все, что не требует вдохновения.
– Что же вас вдохновляет, мистер Эванс?
– Обычная жизнь. Самые простые вещи.
– Например, матримониальные разборки? Не они ли послужили вдохновением для сцены в книге «На пороге смерти»? Когда протагонист Гуннар ссорится со своей женой Сигрид всего за два дня до смерти их ребенка?
Выходит, детектив читал мой роман.
– Невозможно сказать в точности, как именно жизнь влияет на романы. – Фраза прозвучала резче, чем я предполагал.
– Как вы следите за тем, что вас вдохновляет?
Факт: по какой-то причине только моно задают мне такие вопросы на писательских фестивалях. Не знаю почему, – возможно, это связано с их чувством неполноценности. Но разве детектив может быть моно? Как бы то ни было, придется дать ему дежурный ответ, один из тех, что у меня всегда наготове.
– Записываю в дневник, разумеется. Все. Все, что поражает, раздирает душу, кажется абсурдом.
– Как вы следите за тем, что уже написали, когда работаете над романом?
– Просто листаю назад, если чего-то не помню.
– Почему тогда Гуннар у вас на одной странице родом из Варберга, а на другой – из Вальберга? Один город – в Норвегии, другой – в Швеции.
Я смотрю на детектива, разинув рот. Факт: я наткнулся на эту опечатку через два месяца после публикации – она ускользнула от редакторов. При этом никто из читателей не заметил ошибки – до сегодняшнего дня. Судя по всему, Ричардсон читал роман по-настоящему внимательно. От этого я занервничал в два раза сильнее.
– Вы хорошо знаете географию Скандинавии, инспектор.
– Я на четверть швед и на четверть датчанин.
Я моргаю.
– Вы не ответили на мой вопрос, – говорит он.
– Во всех романах бывают… гм… ошибки. Неужели вы тратите все свое время на то, чтобы искать их в книгах?
– Моя работа – находить трещины в том, что снаружи выглядит целым. – Серые глаза детектива превращаются в стальные буравчики. – Кстати, как бы вы охарактеризовали свой брак?
– Конечно, как счастливый. – Голос срывается на дрожь, несмотря на все мои старания говорить уверенно.
– Что вы понимаете под словом «счастливый»?
Я прочесываю мозг в поисках подходящего фактического ответа и решаюсь наконец позаимствовать пару строк из романа «На пороге смерти».
– Зависит от того, как мы понимаем счастье. Мое личное определение таково: мы осознаём, что были счастливы, только постфактум.
Ричардсон поднимает бровь и черкает что-то у себя в блокноте.
– Что происходило два дня назад? В четверг?
Здесь уже сложнее. Нужно тщательно выбирать слова.
– Я тоже провел весь день дома. Почти все время писал у себя в кабинете. В отличие от вчерашнего дня, четверг был относительно продуктивным. Я написал около восьмисот слов. А во второй половине дня разобрался с почтой.
– Значит, вы не выходили из дому?
– Нет.
– Вы с кем-нибудь разговаривали в течение дня?
– Часов в пять говорил по телефону с Камиллой, моим агентом, и Роуэном, руководителем кампании.
– Что происходило вечером?
– Ничего особенного. Я заснул перед телевизором у себя в кабинете.
– Два дня назад? В среду?
Я достаю айдай и просматриваю запись за среду.
Утром сплошное расстройство и бой с «Прозорливостью бытия», но все же до обеда умудрился написать 800 слов. В полдень переместился на кухню, чтобы сделать себе сэндвич до того, как Клэр вернется из Кембриджской цветоводческой школы. Я с удовольствием проглотил сэндвич, радуясь, что не нужно вести бессмысленный разговор с женой. Как ни жаль, но в последнее время ее общество меня расхолаживает. После обеда позвонил Камилле и заверил ее, что «Прозорливость бытия» продвигается неплохо.
– Ну слава богу! А то романисты редко дружат со сроками. Это факт. Но ты уложишься, правда?
– Хорошо, что в последние пару дней наконец-то утих говношторм вокруг моей статьи в «Санди таймс».
– Нам нужны говноштормы, чтобы продавать твои книги. Это самый раскрученный кусок прозы из всего, что ты написал. Не хочешь через пару месяцев сочинить продолжение?
Камилла добавила, что наш рекламщик Бен намерен забить наперед лучшее телевизионное время для интервью со мной – следующей весной, когда выйдет роман. И что после того бедлама, который вызвала статья, он весьма уверен в успехе.
Позже позвонил Роуэн, чтобы подтвердить время пресс-конференции в кембриджском Гилдхолле – 12 часов в субботу; удачно согласуется с тем, что закон о смешанных браках в пятницу будет направлен на подпись королеве. Я должен выжать все возможное из того факта, что состою в смешанном браке уже двадцать лет.
– Никогда не упускай шанса, Марк, если он сам плывет в руки. Это кардинальное правило политиков. Самое важное – все делать вовремя, если ты этого еще не понял.
Роуэн прав. Остаток дня я провел, набрасывая ответы на возможные вопросы журналистов и складывая их в PRESSCONF.DOC. Затем разобрал письма и другую корреспонденцию по выборам. (Боже, как я ненавижу эту бюрократию, – может, стоит нанять секретаря?)
Ужин с Клэр, которая провела полдня за приготовлением моего любимого кроличьего рагу. Мне всякий раз неловко видеть, как она батрачит на кухне – зачем она всегда так старается мне угодить? Когда она пытается быть хорошей девочкой, я чувствую себя вдвойне виноватым. Кролик получился восхитительным, но разговор был по-прежнему лишен интеллектуальной искры. Почему бы Клэр не увлечься изобразительным искусством или классической литературой? Пьесами Ибсена, операми Вагнера или Вирджинией Вулф? Что за хлам она вычитывает из этих дурацких женских журналов, которые валяются у нее на тумбочке? Почему я должен прикусывать язык всякий раз, когда мне хочется обсудить поворот сюжета в «Прозорливости бытия», и напоминать себе, что моя жена-моно никогда в жизни этого не поймет?
Остаток вечера провел, развалившись перед телевизором, и преуспел в опустошении бутылки «Шато Лафит Ротшильд» (1996) куда больше, чем в «Прозорливости бытия».
– Писал все утро, – говорю я, поднимая взгляд от дневника. – Приготовил себе на обед сэндвич, потом поговорил по телефону с Камиллой и Роуэном. После полудня разобрался с письмами и прочим занудством, а вечер провел перед телевизором.
– Кажется, ваши дни проходят по одной и той же схеме. – Детектив смотрит на меня, приподняв левую бровь. – В среду, по вашим словам, вы делали ровно то же самое, что и в четверг.
Черт. Опять вляпался.
– Я писатель, – говорю я, стараясь контролировать свой голос. – За годы работы я научился распознавать симптомы творческой мании. И стараюсь выжать из этого состояния как можно больше. Поэтому я и провел всю неделю дома – я писал. Так говорит мой дневник. Я выхожу, только если это нужно.
– «Творческая мания». – Ричардсон повторяет мои слова, задумчиво сморщив лоб. – Помнится, я встречал этот оборот в дневнике Софии.
Ничего удивительного, ведь именно у Софии я этот оборот и позаимствовал. Факт: она произнесла его впервые в тот день, когда мы познакомились, и относилось это к моей работе. Словосочетание мне приглянулось – краткое описание самых продуктивных фаз, которые время от времени у меня случаются, – так что я записал его и выучил на следующий день.
– Ну конечно, ведь София сама была начинающим литератором. – Я решил напомнить об этом Ричардсону. – Приступы творческой мании знакомы любому писателю, и он всегда им рад.
– При этом ни одна строчка в ее дневнике не указывает на то, что она считала себя литератором. – Глаза детектива прожигают мои. – Никаких ссылок на неопубликованные рукописи, – добавляет он. – Ни слова, например, о том, что она трудится над каким-то литературным шедевром.
– Это странно, инспектор, – говорю я, отчаянно пытаясь держаться невозмутимо. – Она совершенно точно упоминала рукопись о пациентах психиатрической лечебницы.
– Забавно слышать. – Ричардсон кривит рот. – Мисс Эйлинг всяко должна кое-что знать об этих лечебницах. Эта тема в ее дневнике крутится постоянно.
Мой рот наполняется чем-то прогорклым.
– Что вы имеете в виду?
– То, что она очень долгое время провела в соответствующем учреждении и вышла оттуда всего два года назад.
– Она была в изоляции?
– Да. Семнадцать лет.
– Я этого не знал, инспектор.
Должно быть, детектив заметил, как дрогнул мой голос в конце этой фразы, – судя по тому, как он подается вперед, глядя на меня твердо и безжалостно. Он сейчас похож на леопарда, внутри которого свернулось кольцом напряжение, – голодный зверь таращится на свою жертву.
– Мисс Эйлинг убили, – рычит он, приблизившись ко мне так, что его лицо оказывается всего в нескольких дюймах от моего. – Я чувствую это нутром, сколько бы ни говорил мой помощник о самоубийстве. При любом раскладе протокол вскрытия будет готов до конца дня. Он подтвердит мои подозрения, я уверен. София Эйлинг не надевала на себя плащ, не набивала карманы камнями, не заходила в реку Кэм и не топилась в ней, как Вирджиния Вулф. Да, я тоже знаю биографии литературных деятелей. И я установлю личность убийцы до того, как закончится этот день. Запишите мои слова, мистер Эванс. Я это сделаю.
Официальные рекомендации для моно и дуо, которым исполняется 18 лет / 23 года
Как превратить в факты информацию из вашего дневника
1. В конце каждого дня делайте записи в дневнике, даже если вы дуо и в вашем распоряжении два дня. Заносите туда все для вас значимое со всеми подробностями, которые, по вашему мнению, могут быть важны.
2. Что такое факты. Факты – это информация, которую вы узнали из своих дневников и которая никогда не будет забыта. Факты немедленно распознаются сознанием, поскольку они были успешно перемещены в отдел долгосрочного хранения вашего мозга.
3. Прочитывайте вчерашнюю дневниковую запись каждое утро, как только проснетесь. С этого должен начинаться каждый ваш день. Чем больше усилий вы затратите на изучение своего дневника, тем больше информации вы усвоите. Исследования показали, что те моно, которые тщательно работают с дневниками, способны заучить не меньше фактов о себе, чем дуо. В том, что касается работы с дневниками, моно и дуо равны.
4. Относитесь ко всему спокойно. Вы не сможете преобразовать всю дневниковую информацию в факты, хранящиеся у вас в голове, как бы вы ни старались. Согласно результатам научных исследований, моно и дуо усваивают примерно 70 % записанного в их дневниках (из этого правила, разумеется, есть исключения).
Глава третья София
2 сентября 2013 г.
Жарко. Душно. Кругом начинающие писатели, забили весь зал. Прячут свои амбиции под вежливыми улыбками и затрапезным шмотьем. Он стоял за кафедрой, время его коснулось, это видно. Бока заплыли. Шевелюра уже не такая буйная, спереди даже поредела. Но никто из присутствующих этого не заметил бы. Кроме тех, кто знал его тощим парнишкой двадцати пяти лет от роду с густой копной волос на голове.
О, они ему хлопали. Еще как. Никто не пишет так, как Марк Генри Эванс. Ничьи книги не продаются так, как книги Марка Генри Эванса. Я топталась в дальнем конце зала. Даже аплодировала вместе со всеми. Так было надо. Главное – не выделяться. Прикинуться нормальной, как советовала Мариска.
Он говорил о вдохновении. О фазах продуктивного творчества. О ловушках литературной славы и успеха. Я, пока он говорил, думала только об одном: как поймать в ловушку его самого.
Я подошла после выступления. Весьма довольная тем, как выгляжу. Волосы до плеч гладкими платиновыми волнами. Брови идеальной формы. Ногти цвета крови. Восхитительно малиновые губы. Я даже оделась, как подобает убийце. Соблазнительное черное платьице от Александра Маккуина, декольте намекает на глубину возможностей.
Прекрасное выступление, мистер Эванс, сказала я, послав ему зазывно-мегаваттную улыбку. Он улыбнулся мне в ответ. Метнул взгляд вниз. Прожег мои формы. Ни проблеска узнавания, хвала Господу (и пластическому хирургу, который все-таки отлично справился с задачей).
Мне так близки ваши рассуждения о творчестве, промурлыкала я. Это ведь о радостях творческой мании, не правда ли? Безумие, вообще говоря, часто проявляет себя как мания. Разве творчество и одержимость – не две стороны одной медали? И разве литературный гений, такой как ваш, мистер Эванс, не балансирует на ее ребре?
Его глаза сказали все.
Он у меня на крючке. Пленен моими словами. Мой – только протяни руку.
Песец, до чего примитивны мужчины.
Может, поужинаем вместе? – предложила я, накручивая на палец пероксидный локон. Небрежно. Кокетливо. И при этом убийственно. Обсудим подробнее этот милый вопросик насчет творческой мании.
Можно придумать что-нибудь поинтереснее ужина, фыркнул он в ответ. Не отрывая глаз от моих сисек.
Он был на высоте той ночью.
Сосал.
Слизывал сперму с моих буферов.
О да.
5 сентября 2013 г.
Господи, эта долбаная голова меня добьет.
Шесть дней после йоркской истории. Ни звонка, ни эсэмэски.
Наверное, потерял мой номер.
Почему этот идиот не звонит?
6 сентября 2013 г.
Сегодня ровно девять месяцев с тех пор, как меня выпустили из Сент-Огастина. Тощую. Высохшую. Волосы – как шерсть у стриженой овцы. Спасибо предшественнице, которая умудрилась повеситься на собственной косе, привязав ее к стропилам. За двенадцать лет до того, как я туда попала. С тех пор они стригут всех своих подопечных. Так, по крайней мере, сказала Мариска – у которой на голове был такой же, как у меня, унылый ежик – в одну из своих спокойных минут, когда мы бродили по заднему саду. Там, где позволялось прогуливаться небуйным психам. Ранним летним вечером, под низкими кривыми тополями.
Как жаль, что она мертва. Остановка сердца. Всего тридцать шесть лет. Когда-то была красавицей.
Посмотрели бы санитарки на меня сейчас. Ни за что бы не узнали. Формы округлились. Щеки опять налились. Лицо перестало быть сморщенным и землистым. Фарфоровые виниры. Волосы ниже плеч уложены мягкими волнами. Почти как в тот день, когда меня погрузили на катер и повезли в Сент-Огастин. Я снова похожа на женщину. Нос определенно стал лучше. Смею сказать, изящнее. Уши наконец прижались. Лепные щеки, подбородок а-ля Венера Милосская. В губах немного филлера, да здравствует гиалуроновая кислота. Дерзко торчат роскошные сиськи, век живи силикон.
Тщеславие подходит мне больше безумия.
У меня украли семнадцать лет жизни. Семнадцать долбаных лет. Я не могу получить их обратно.
Зато я могу получить обратно свою внешность.
И я получу свою месть.
7 сентября 2013 г.
Капли дождя скользят по оконным стеклам. Их поглощает темнота.
Ужасный сон. Тот же самый. На меня наваливаются санитарки. Повсюду руки. Прижимают. Не пускают. Душат. Вихри света над их головами. Осколки темноты. Вверху мигающими эллипсами пляшут звезды, как на «Звездной ночи» Ван Гога. Но в этих звездах нет эксцентрики. Нет игры. Они таят в себе злобный умысел. В них прячутся неумолимые руки. Руки гнут меня вниз. Руки вырывают у меня свободу.
Руки меня душат.
У свободы много преимуществ. Я могу пить сколько захочу. Трахаться с кем захочу. Выпивка и секс не были в Сент-Огастине обычным явлением. Выпивка доставалась тем, у кого хватало средств хорошенько подмазать служительниц. Трахаться могли те, кому нравились женщины. Ушибленные женщины.
Вдобавок я могу печатать в своем дневничке все, что мне заблагорассудится. Не нужно громоздить фасад для санитарок. Ломать чертову комедию. Прикидываться, что у меня «нормальные» мозги. Потому что эти сучки постоянно читали мой дневник. Приходилось писать то, что они хотели там найти. Очень мне было надо торчать семнадцать лет в Сент-Огастине. Могла ведь сократить себе срок. Могла вырваться из этих злобных смирительных рук намного раньше.
Меня вразумила бедная покойная Мариска, которую я так и не успела поблагодарить. Но лучше поздно, чем никогда.
Мы были в тот день в заднем саду. Солнечный свет струился сквозь кроны низких тополей. Вдалеке по морю катились белые гребни. Она сидела на земле, вертя в руке травинку. И с интересом ее изучая. Словно впервые видела зелень.
Ты как? – спросила я, решившись заговорить первой. Она одарила меня долгим насмешливым взглядом. Снова стала крутить в пальцах травинку. Сначала медленно. Потом быстрее.
Хорошо, насколько это возможно, ответила она.
А как ты, солнышко?
Как ты думаешь? – сказала я.
Горим мы обе огнем, огрызнулась она, переводя жгучий взгляд на тополя. Те, что росли по всему периметру острова, отгораживая нас от свободы.
Затем она подалась вперед, бросив травинку на землю, и глаз ее заговорщицки блеснул.
Я тут вчера вечером подслушала, что говорят о твоем диагнозе санитарки. Какая у нас София уникум. Как София от всех отличается.
Я всегда знала, что я особенная, сказала я.
Ты ничего не пишешь в айдай, который они тебе дали, продолжила Мариска, прищурившись.
Не люблю возиться с дневниками, согласилась я.
Почему это? Резкий вопрос сопровождался небрежным пожатием плеч. Но в глазах мерцало любопытство.
Мне не нужно, сказала я.
Не хочешь сохранить свое прошлое? Факты, которые пригодятся в будущем? Мариска насмешливо подняла брови и провела пальцами по стриженым волосам. Все люди ведут дневники, солнышко. Что за жизнь без фактов? Всем нужно немного прошлого.
Я дотронулась до своей головы.
Факты здесь, сказала я. Все. Я помню, что со мной происходило, даже после двадцати трех лет.
Она вздернула голову и посмотрела на меня с интересом. Переваривая мои слова. Может, даже относясь к ним серьезно. Большинство обитателей Сент-Огастина старались ко всему относиться серьезно. Кроме всего прочего, каждой из нас приходилось жить с бедами других. С паранойей. Шизофренией. Галлюцинациями. Навязчивыми идеями. Припадками. Нам приходилось страдать вместе. Выручать некому. Раз уж нас собрали на этом гнусном острове.
Хорошо, когда можешь держать все в голове, сказала Мариска. Непроницаемое лицо. Не знаю, был ли в ее словах сарказм. Надеюсь, ты не проговорилась санитаркам об этой своей суперспособности, солнышко?
Я хмыкнула.
С какой такой радости? – сказала я.
Это хорошо, сказала она. А то трое здешних обитательниц как-то похвалились своей полной памятью – лежат теперь на том краю острова в шести футах под землей. Очень неприятный для них факт.
Прищурившись, я посмотрела туда, куда она показывала, мимо качавшихся на ветру корявых тополей.
Что с ними случилось? – спросила я.
Она пожала плечами.
Никто не знает. А может, никто просто не хочет знать. Мой дневник говорит, что начальство замяло дело и позаботилось о том, чтобы никто ничего не спрашивал. Так что пиши-ка ты в свой дневник, солнышко. Каждый вечер. Как все остальные. Как нормальный человек. Как я.
Пустая трата времени, хмыкнула я.
Не пустая, сказала она. Совсем не пустая. Санитарки тоже читают наши дневники.
Это, блин, шутка такая? – спросила я.
Мариска закатила глаза. Потом с сожалением на меня посмотрела. Как будто впервые в жизни видела такую дуру.
У санитарок есть отпечатки наших пальцев, объяснила она. Они читают наши дневники, чтобы распознать симптомы ненормальности. Или обнадеживающие признаки нормальности. Хотя разница между нормой и болезнью, как мы с тобой знаем, очень слабая. Если ты хочешь выйти на свободу, попробуй хотя бы притвориться нормальной. Веди дневник, солнышко. Чем раньше ты начнешь это делать, тем скорее тебя здесь не будет. Изоляция кончится. Тебе ведь хочется свободы, правда? Она усмехнулась, в глубине ее горла что-то хрипло булькнуло. Если слишком долго сидеть под замком в чистилище, то выбраться из него можно лишь двумя способами – в гробу или в лодке. У тебя еще есть шанс на обратный билет. Если ты правильно разыграешь дневниковую карту.
Я распрямила спину.
Твой дневник – это документ, в твоем дневнике должны быть ключевые факты твоей жизни, сказала Мариска с многострадальческим вздохом. Словно объясняла ребенку. Даты, время и важные события. Факты, которые тебе понадобятся в будущем. Так, чтобы это могло убедить санитарок.
Хочешь, покажу тебе свой дневник? – предложила она с ехидной улыбкой. Губы изогнулись в легком веселье. А то вдруг понадобится вдохновение.
Однако от следующих ее слов у меня перехватило дыхание.
Когда-то твоя мачеха сказала твоему отцу, что нашла в корзине твои дневники. Отец подумал, что ты сошла с ума. Поэтому он и решил отвезти тебя в психиатрическое отделение в Кембридже. Поэтому ты в конце концов и попала сюда. Поэтому начальство так мечтает почитать твои дневники. Поэтому они держат тебя здесь так долго – боятся, что ты из тех помешанных, у которых полная память. Поэтому они стараются изо всех сил, чтобы ты не сбежала. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не начнешь писать в дневник, который они тебе дали. Подумай о моих словах, солнышко. Пока вчерашний разговор тех двух санитарок еще держится у меня в черепе. Ты ведь не хочешь присоединиться к трем дурочкам, что закопаны на том краю острова, правда?
Что-то щелкнуло у меня в голове. Тусклый солнечный свет, пробивавший тополя, внезапно приобрел зловещий оттенок. Все наполнилось жутким смыслом. Мне многое стало ясно, и это многое пугало. Я была благодарна Мариске за то, что она раскрыла мне глаза на реалии Сент-Огастина. И на возможности, которые откроются за его периметром.
Например, возможность отомстить. Желанная и одновременно заслуженная.
Я пробормотала слова благодарности. За то, что она подтолкнула меня к действиям. Заставила отчаянно мечтать о том, как я отсюда выберусь.
И вот я сижу под мокрым от дождя карнизом. Измученная кошмарами. Ищу утешения в гигантской бутылке водки.
Но я, по крайней мере, свободна, спасибо Мариске. Проклятый сердечный приступ. Как обидно, что она никогда больше не вернется в Амстердам. Когда ее увозили в морг, я поцеловала ее в холодные губы. Она была права: Внешние Гебриды покидают в гробу.
Я не повторю ошибок, приведших меня в Сент-Огастин. Те, кто не помнит прошлого, обречены совершать одни и те же промахи. У тех, кто помнит, промахов может быть намного меньше. У меня впереди много дел. Мне нужно сосредоточиться. Сейчас пойду спать. Вот только допью водку.
Начну с того, что буду снимать трусы перед человеком, который засунул в задницу всю мою жизнь.
Регулярно.
Проснувшись сегодня утром, я вдруг понял, что не могу вспомнить ничего из происходившего два дня назад. Это катастрофа. Как будто огромный нож вонзился мне в сердце. Весь день я провел в оцепенении. Я всегда считал себя дуо. Все вокруг были уверены, что я дуо, как мой отец (а не моно, как мать), – и не я ли, между прочим, был первым учеником каждый год начиная с семи лет? По закону о классовой регистрации (1898) я должен завтра зарегистрироваться в Моно-департаменте. А также сообщить начальнику Кембриджширского отделения полиции, в котором сейчас служу. От моей будущей карьеры останутся жалкие огрызки – в отставку я уйду все тем же простым констеблем. [Для себя: помолчу некоторое время и посмотрю, что из этого выйдет. Как они узнают, что я моно, если я буду держать язык за зубами? Выход есть, я уверен. Все говорят, что в усвоении дневниковой информации моно и дуо равны. Отныне я буду записывать все еще подробнее и внимательно изучать. Вставать еще раньше каждое утро – если постараться, наверняка можно выучивать больше семидесяти процентов. Я не позволю превратить в пар мои мечты и амбиции.]
Дневник Ханса Ричардсона, 1990Глава четвертая Ханс
13 часов 15 минут до конца дня
Марка Генри Эванса пришлось отпустить, к сожалению. С куда большим удовольствием я захлопнул бы за ним дверь камеры, той, что находится в глубине нашего отделения.
Этот человек мне лгал. От него явственно несло чем-то подозрительным.
Но у меня ничего против него не было. Кроме мутного и бессвязного дневника покойницы, которая путалась с ним, несмотря на какую-то обиду. Тухло-ботоксная, экс-булимическая, просидевшая семнадцать лет в психушке тетка. Которая, по ее словам, открыв в один прекрасный день глаза, обнаружила, что помнит все свое прошлое. Ее дневник никак не тянет на прямую, неопровержимую улику, которой можно пригвоздить Эванса.
Я изучаю расстановку сил на шахматной доске и двигаю вперед белую пешку.
Мужчина лжет. Я ему не верю. Но женщина еще хуже. Нельзя доверять ни единому слову из ее дневника. Факт: белок, ответственный за краткосрочную память, подавляется после двадцати трех лет. Претензии Софии Эйлинг на обладание полной памятью противоречат как науке, так и логике.
Большей нелепости я, кажется, не слыхал никогда в жизни.
Очередь черных, и я двигаю вперед их пешку. Вполне самоубийственный ход.
Вчерашние события отпечатаны у меня в голове с кристальной ясностью. Я помню все, что происходило в этот день. Ярко и красочно. Каждый свой шаг, с того момента, когда я проснулся утром в легком похмелье, и до того, как заснул опять над книгой «Десять заповедей, которые нужно знать, чтобы продвигаться по службе». События, происходившие до моего восемнадцатого дня рождения, помнятся так же ярко. Например, курс криминологии, которую я тогда изучал, – до мельчайших подробностей. Я даже вижу поры на носу седоватого профессора, читавшего нам «Введение в криминологию» (он же написал пятитомный учебник к этому курсу). От него еще несло застоявшимся табаком, нестираным вельветом и горелой колбасой.
Но как, черт побери, можно помнить все после двадцати трех лет? Это немыслимо.
Я двигаю белого слона вперед по диагонали, и пешка-самоубийца выходит из боя.
Если что-то похоже на сырую неочищенную фантазию, то оно, скорее всего, ею и является. Во мне борются два желания. Первое – дочитать сегодня дневник Софии. Второе – оставить его на завтра. Факт: в первые двадцать четыре часа после того, как я взялся расследовать преступление, меня должны интересовать только железобетонные, неопровержимые улики. Особенно когда речь идет об убийстве. Да, я рассчитываю установить личность преступника до конца сегодняшнего дня.
Я встаю со стула, ибо мне срочно требуется новая доза кофе. Но не успеваю я сделать шаг к кофейному автомату, как в дверь кабинета влетает юный Тобайас.
– Я прогнал ее отпечатки через несколько баз, – говорит он. – Ничего не находится.
Я не удивлен. София не похожа на человека с криминальным прошлым.
– Я также перепроверил данные из ее водительских прав, – продолжает он. – Действительно, София Алисса Эйлинг была дуо и родилась двадцатого ноября тысяча девятьсот семидесятого года на Бермудах. Получила права в августе две тысячи тринадцатого. Только в налоговом управлении заявляют, что никакой Софии Алиссы Эйлинг у них в базе нет. Также пусто в службе регистрации гражданских актов, и в Министерстве внутренних дел, и в электоральной базе – очень странно. То же самое с Министерством памяти и Департаментом по делам дуо.
– Покопайся еще, ладно? В какой-нибудь базе ее имя должно всплыть.
– Ага, – кивает он. – Еще я проверил регистрационный номер машины. Она купила ее на стоянке в Кембридже двадцать второго августа две тысячи тринадцатого года. Подержанный черный «фиат», за две тысячи девятьсот фунтов.
Я замираю.
– Но я по-прежнему не могу найти ее медицинскую карту, – продолжает он, размахивая руками. – У здравохрана нет файла для Софии Алиссы Эйлинг. В больнице Адденбрука – тоже. На всякий случай я отлистал назад, почти на десять лет со дня ее рождения. Так ничего и нет.
Дневник Софии может оказаться еще большим бредом, чем я думал. Тобины раскопки жирнее перечеркивают то, что в нем написано. А моим подозрениям требуются железные подтверждения.
– Сделай, пожалуйста, две вещи, – говорю я. – Первая: нужен полный отчет обо всех финансовых операциях Эйлинг.
Тоби кивает.
– Вторая: можешь выяснить, находилась ли она в психиатрической лечебнице под названием Сент-Огастин? У меня мало информации об этом учреждении, знаю только, что оно, возможно, где-то на Внешних Гебридах.
– На Внешних Гебридах? – щурится Тоби.
– Слишком общо, конечно. – Я пожимаю плечами. – Но давай за дело.
Кивнув, он исчезает за дверью. Я достаю диктофон, набираю файл Софии Эйлинг и произношу: «Родилась на Бермудах», «20 ноября 1970 года» и «подержанный черный „фиат“ с затемненными стеклами». Факт: когда пытаешься разгадать загадку, может пригодиться любая деталь, даже незначительная с виду.
Я нажимаю на кнопку, дабы убедиться, что машинка правильно транскрибировала мои слова. Сразу после этого в нескольких ярдах от стола раздается шарканье чьих-то ног. Должно быть, помощник Хэмиш в своих тяжелых ботинках. Проклятье. Трудно было экспертам подержать его в заповеднике на пару часов дольше? Лишняя отсрочка мне бы сейчас не помешала.
– Если вы по-прежнему думаете, что это самоубийство, предлагаю дождаться протокола вскрытия, – говорю я.
– По пути на Парксайд я заглянул в морг. Мардж и компания приступили к внешнему осмотру тела. Я упросил Мардж дать предварительную информацию – сказал, что это необходимо для следствия. Она согласилась.
На лице Хэмиша явное самодовольство.
– И?..
– Они по-прежнему не исключают возможности самоубийства. По крайней мере, на этой стадии. Пока там нет признаков внешних повреждений.
– Хм…
– Не понимаю, почему вы так уверены, что здесь нечисто.
– На случай, если вы не заметили: на ней был плащ слишком большого размера. – В мой голос проползает раздражение. – Он явно ей велик. Это не ее плащ.
– Но…
– Кто-то надел на нее этот плащ. Этот кто-то сильно испугался. Этот кто-то хотел избавиться от тела чем скорее, тем лучше. Камни в карманах – всего лишь неуклюжая попытка замести следы.
– Я вас не понимаю.
– Факты говорят, что на этой неделе течение в Кэме ускорилось. Прошло много дождей.
– И что?
– Часть камней, которые тянули ее вниз, могло унести течением. Тело всплыло и запуталось в тростниках.
– Даже если так, она все равно могла покончить с собой, – упрямится Хэмиш. – Не стоит так уж цепляться к плащу не по размеру. В этом сезоне на них, кажется, мода. Я видел такие, когда ехал в последний раз из Кембриджа в Эли: болтаются на человеке как на вешалке. Даже у моей жены такой есть. Надевала вчера на концерт в «Хлебной бирже».
Я вздыхаю. Факт: от Хэмиша зачастую больше вреда, чем пользы. Частично тому виной его непреклонное самомнение – распространенная болезнь среди детективов-дуо Кембриджширского отделения. Дело осложняется почти полной неспособностью отойти в своих мыслях на шаг в сторону – огромный недостаток для детектива. Хотя, наверное, моего помощника стоит пожалеть: иногда он не замечает очевидного. И раз уж он ненадолго попал во владения доктора Шелдон, нужно расспросить подробнее, что он там увидел.
– Мардж не нашла на теле следов каких-нибудь веществ? – говорю я.
– Я не спросил.
Хочется взвыть. Это первый вопрос, который задал бы патологоанатому любой уважающий себя детектив.
– Приблизительное время смерти?
– Она пока не знает, – говорит Хэмиш. – По предварительным оценкам, между тридцатью двумя и тридцатью четырьмя часами тому назад. Судя по трупному окоченению, она сказала.
Значит, Софию Эйлинг убили в четверг вечером.
Позавчера.
Надеюсь, ее убил не моно. Иначе это весьма осложнит расследование. Но даже если это сделал дуо, я должен поймать виновника до конца дня. Потому что сегодня убийца-дуо еще помнит о том, что он сделал. И мне будет легче получить чистосердечное признание.
– Что еще нашла Мардж?
– Платиновый цвет – ненастоящий. Эйлинг была натуральной шатенкой. Ей также делали косметические операции. Подбородок, нос, уши и щеки. Силиконовый бюст, ботокс и филлеры.
Хоть одно не бред – сумма, которую женщина выложила пластическому хирургу.
– Что-нибудь еще?
– Кажется, все. Мардж по-прежнему рассчитывает прислать отчет до конца дня.
Я отдал бы все, лишь бы узнать точную причину смерти. Но у меня мало других возможностей, кроме как дожидаться отчета доктора Шелдон. Тем временем надо, чтобы Хэмиш перестал морочить мне голову. Надо его чем-то занять.
– Не могли бы вы кое-что для меня сделать? – говорю я, двигая черного слона назад по короткой диагонали и убирая с доски белую пешку. – Если не путаю, у Марка Генри Эванса сегодня днем пресс-конференция в Гилдхолле. Не могли бы вы сходить на нее и доложить, что там происходит?
– Марк Генри Эванс? – (Я отмечаю ноту изумления в голосе Хэмиша.) – Я видел по пути сюда предвыборные афиши. Это он баллотируется как независимый кандидат от Южного Кембриджшира?
– Так и есть. Наш милый, скользкий мистер Эванс.
– И какая связь между Софией Эйлинг и Марком Эвансом?
– Она говорит, что они трахались. Он – что нет.
Перед тем как двигаться дальше, нужно твердо выучить ключевые факты, относящиеся к моему нынешнему печальному положению. Я выуживаю свой айдай, кладу палец на дактилоскопический сенсор и нахожу запись, которую сделал два дня назад.
Сегодня было два прокола. Мы с Хэмишем обсуждали что-то тривиальное, и я сказал, что мне нужно на всякий случай свериться с дневниковой записью двухдневной давности. Хэмиш посмотрел на меня недоуменно и слегка подозрительно. Я тут же исправился, конечно. Сказал, что имел в виду запись трехдневной давности, а не двухдневной, и быстро перевел разговор на что-то другое. Насколько беспечным нужно быть, чтобы совершить столь явную ошибку.
[Вним.: следить за тем, что говорю в присутствии Хэмиша. Еще один прокол, и он заведет против меня дело. Будет ужасно, если все, что я выстраивал столько лет, обрушится мне на голову. Высокое начальство разжалует меня в ту же минуту, как только узнает, что я притворялся дуо. Или выставит без выходного пособия. Мой безупречный послужной список – и внушительное число преступлений, которые я раскрыл за один день, пока мог держать в голове подробности, – не будут значить для них ничего вообще. В полиции до сих пор царят пещерные взгляды во всем, что относится к моно, – ни одного из нас не сочли достойным высокого поста. Я наверняка писал, как комиссар Мэйхью заявил в интервью от 2014 года, что ведомство и без того слишком прогрессивно и что моно должны быть благодарны, когда их берут на службу хотя бы констеблями.
Второй прокол случился вечером. Закончив работу в 18:20 (спокойный день, кстати), я решил пробежаться до Гранчестера и обратно. На окраине Ньюнема, там, где начинается тропинка через луг, стоял побитый «фиат». За рулем – блондинка, лица не разглядеть из-за тонированных стекол. Когда я пробегал мимо, она смотрела прямо на меня; я вежливо кивнул и побежал дальше.
Эй, крикнула женщина. Удивленно обернувшись, я увидел, что она выскочила из машины и несется ко мне. Одета в черное с головы до пят, под цвет своего «фиата».
Вы Ханс Ричардсон? – хмуро спросила она.
Я кивнул, изумляясь, откуда она знает мое имя.
Гребаная ты сука! – завопила эта женщина. В следующую секунду ее правая рука метнулась к моему лицу.
Я вовремя пригнулся. Я так и не понял, почему я гребаная сука. И чем заслужил ее оплеуху. Понял, однако, что эта женщина вознамерилась оскорбить действием сотрудника полиции.]
Я решаю, что прочел достаточно. Захлопываю свой айдай дрожащими руками. Сегодня мне нужно сделать две вещи:
1. Следить за Хэмишем. Он почует неладное, стоит мне промахнуться еще раз, особенно если учесть, что он кристально четко помнит все происходившее два дня назад (в отличие от меня). Держать его на расстоянии вытянутой руки, насколько возможно.
2. Разобраться с делом до конца дня, пока я удерживаю его в голове целиком. Факт: по воскресеньям у нас работает всего несколько патрульных нарядов – у Тоби и почти всех моих толковых помощников завтра выходной. Если я сегодня упущу нити следствия и возьмусь за них вновь только в понедельник, от дела Эйлинг останется лишь несколько скупых фактов в моем диктофоне, блокноте и айдае. В основном то, что я смогу записать сегодня, то есть явно недостаточно. Хуже того, Хэмиш в понедельник будет помнить о сегодняшнем дне все, вплоть до мелких, но важных (или неважных) подробностей. В отличие от меня.
Я бросаю взгляд на стенные часы. Надо торопиться. До полуночи осталось всего тринадцать часов. Одновременно надо избегать Хэмиша.
На первый взгляд миссия невыполнима. Особенно если прикинуть, что у меня есть на данный момент. Кучка предательских черных и белых садовых камней да завравшийся политикан-литератор.
Может, стоит дать еще один шанс айдаю покойницы?
«Санди таймс», 24 мая 2015 года
Десять вещей, которые нужно знать о мире, где люди обладают полной памятью
Марк Генри Эванс
1. Секс с одним и тем же человеком постепенно становится все менее интересным, из-за этого участятся измены. Повторения плодят скуку, особенно если люди помнят, как они двадцать лет занимались этим в одной и той же миссионерской позе.
2. Те, кто много лет вместе (возьмем, к примеру, двадцатилетнее партнерство), будут точно знать, почему они до сих пор не разошлись.
3. Людей будет разделять цвет кожи, а не число дней, которые они помнят.
4. У детей до восемнадцати лет будет чуть меньше наглости и чуть больше уважения к родителям.
5. Никому не составит труда отличить факты от фантазии.
6. Вместо предметов люди будут коллекционировать впечатления, никто не станет забивать домá ненужным хламом.
7. Люди будут постоянно пьяны (или под наркотиками), пытаясь убежать не только от настоящего, но и от прошлого.
8. Люди станут вести дневники от скуки, а не от нужды, и капитализация «Эппла» окажется в два раза ниже той, что сейчас.
9. Общество будет ограждать себя от людей с неполной памятью, помещая их в заведения для умалишенных.
10. Люди будут понимать истинный смысл любви и ненависти.
Роман Марка Генри Эванса «Прозорливость бытия» повествует об убийстве, совершенном в темном, искореженном мире – в альтернативной версии современной Британии, где большинство людей обладают полной памятью. Книга выйдет из печати в феврале 2016 года, твердая обложка, цена 11,99 фунта.
«Санди таймс», 31 мая 2015 года
Письмо в редакцию
Сэр,
«Десять вещей» Марка Генри Эванса (24 мая 2015 г.) – это десять ящиков дерьма. Ваш романист предлагает читателям своего будущего романа умерить подозрительность и поверить в параллельный нашему мир-антиутопию, где люди обладают полной памятью. Сей высококонцептуальный замысел настолько высосан из пальца, что становится смешно. Как подобный мир вообще может существовать? Если люди и вправду поймут истинный смысл ненависти (как утверждает мистер Эванс), они станут убивать друг друга без зазрения совести. Произойдут мировые войны, террористические акты, появятся диктаторы-мегаломаньяки, религиозные экстремисты и прочие ужасы. Цивилизация перемелется в пыль и вскоре исчезнет, изувеченная собственной ненавистью. Или человечество попросту сметет себя с лица земли ядерным апокалипсисом.
Я потрясен тем, что ваша газета решилась предложить разумным читателям подобную ахинею в качестве рекламы новой книги какого-то литератора. Далеко не лучший способ потратить 11,99 фунта. Лично я за эти деньги поставлю на свой айдай новую программу.
Вам должно быть стыдно, мистер редактор.ВОЗМУЩЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬОксфордГлава пятая София
8 сентября 2013 г.
Мариска высекла искру. Материал для растопки пришел два дня спустя с газетной заметкой.
Раздел «Литература и искусство». С фотографии на заглавной странице мне улыбается Марк Генри Эванс. В руках у него книга «На пороге смерти», он ее сейчас будет подписывать. Довольный, словно кот, который поймал крысу и заглотил по этому поводу целую бутыль шампанского.
В тот же вечер я впечатала первые слова в дневник, выданный мне начальством. Это оказалось нетрудно. В конце концов, я знала, что такое быть дуо. Слова давались мне легко. Текли, словно хорошая водка. Я прилежно фиксировала дату, время и событие. Я записывала «факты» своего убогого существования. Все и каждый. Я писала, чтобы освободиться. Чтобы спастись. Чтобы отомстить.
Без малого двадцать лет закупоривать в себе мечту о расплате – и вот она льется наружу потоком слов.
10 сентября 2013 г.
Песец подкрадывается незаметно. Когда его меньше всего ждешь. Именно такой песец явился ко мне в 1995 году. Оглушил и раскатал. Правда восставала от сна – вспышка за вспышкой. Правда, которую я хотела забыть. Правда, что осталась позади. Правда, вымаранная из моих дневников.
Все произошедшее после моего двадцать третьего дня рождения проматывалось теперь у меня в голове. Неслось на меня безжалостной волной.
Наваливая на душу непосильный груз вины, страха и раскаяния.
Вина. Смерть персидского кота Катапульта через три месяца после моего двадцатитрехлетия. С каким горем я зарывалась лицом в его шкуру. Такую мягкую. Такую бархатную. И такую безжизненную. Правда состояла в том, что мне было лень записывать в дневник симптомы его болезни. И хотя он тяжело дышал вот уже несколько дней подряд, я не пошла с ним к ветеринару. Потом у Катапульта остановилось сердце.
Страх. Шок, когда через две недели после двадцатитрехлетия меня чуть не сбила машина на Тринити-стрит. Она неслась вперед – неудержимо, носом прямо на меня. Блики солнца на хромированном крыле – дьявольский узор. Вращение колес злобно и целенаправленно. Отвратительный визг тормозов. Невозможность пошевелить языком, когда я лежала рядом с помятым велосипедом. Страшная, холодная уверенность, что ровно через секунду я испущу дух под двумя тоннами железа.
Хуже всего была вспышка понимания, что я устроила это сама. Что мне некого и нечего винить, кроме собственной глупости. Мне хватило идиотизма проигнорировать знак одностороннего движения и покатиться навстречу машинам.
Раскаяние. Идиотский разрыв с Алистером через полгода после двадцатитрехлетия. Боль, как от удара, заполнившая его глаза, когда я сказала, что достойна лучшего. Правда была в том, что вот уже несколько месяцев я за спиной у Алистера встречалась со своим бывшим одноклассником Джеком. Раскаяние обожгло меня позже, когда выяснилось, что Джек – мудак и путается со всеми подряд. Это была очень большая ошибка – бросить Алистера. Огромная. Когда-то этот мальчик меня любил. Но к тому времени я уже стала ему безразлична.
Слишком поздно.
Несметное число раз я блевала в очко. Через минуту после еды. Стараясь не смотреть на рвоту в унитазе. Зато я буду худая, как Лора, от которой млеют все парни в округе. Господи, как же я завидовала ее гибкой, стройной фигуре. И соответственно, умению накручивать мужчин на пальчик, как накручивала она локоны, обрамлявшие лицо. Как они будут пыхтеть от одного моего вида. Теряя на бегу штаны.
Правда заключалась в том, что я не записывала в дневник эти туалетные эпизоды. Делала вид, что их просто не было. Смыто и забыто. А потому продолжала блевать. Снова и снова. Даже после того, как под угрозой лишения ежемесячной выплаты пообещала отцу бросить эту привычку.
Шрамы, накопленные после двадцать третьего дня рождения. Багаж, который я считала выброшенным. Невыученные уроки. Нарушенные обещания. Выболтанные тайны. Повторенные ошибки. Все, о чем я жалела. Все возможности, которые я упустила. Боль, разрывавшая сердце. Страх, заполнявший внутренности. Ужас, поселившийся в голове. Шрамы в душе как напоминание о собственной глупости.
Такой была абсолютная величина правды, свалившейся мне на голову. Невыносимой и нежеланной. Ужасной в своей неотвратимости. Неизмеримой в обхвате. Убийственной в дозировке.
Она пробила мне душу. Превратила в эмоциональную калеку. Я не могла больше прятаться под накидкой самообмана. Не могла убавить громкость ужасной реальности, затоплявшей мне мозг.
Несколько дней я провела в оцепенении.
Потом поняла, что в забвении есть покой.
Но я разучилась забывать.
11 сентября 2013 г.
Почему я не могу быть как все нормальные люди? Как домохозяйка-моно из соседнего дома, где она живет с мужем и котом. Просыпается каждое утро в хорошем настроении. Готовая начать новую страницу своей жизни. Без единого эмоционального пятнышка с предыдущих страниц. Блаженная в своем избирательном неведении.
Она не узник нежеланного прошлого.
Освобожусь ли я когда-нибудь от тяжелых воспоминаний? От травм, что закупоривают сознание. Затопляют его. Давят. Освобожусь ли от багажа памяти. От знания того, чего я знать не хочу.
Некоторое время я пыталась делать вид, что все в порядке. Что я все та же девчонка, что и раньше. Хотя той девчонки больше нет. Потом бросила. Нет смысла притворяться, поняла я. И тогда я сделала самую большую глупость в своей жизни. Выбросила старые дневники, решив, что они мне больше не нужны. Кроме всего прочего, эти дневники издевательски напоминали о двух годах относительного блаженства.
Мне хватило тупости думать, что никто не заметит.
Большая ошибка, как говорится.
Огромная.
Отец думал, что нашел для меня подходящее лекарство, правда? Таблетку изоляции. Раз уж он притащил меня в Сент-Огастин, найдя дневники в мусорной корзине, то всяко потому, что счел мой поступок безумием. Мое отчаяние – расстройством ума.
Я просто не успела прийти в себя. Понять, что отличаюсь от других людей и что это нужно скрывать.
Папочка хотел как лучше, я уверена.
Будь проклят и он сам, и этот его билет в Сент-Огастин в один конец. Мне понадобилось семнадцать лет, чтобы получить обратный.
12 сентября 2013 г.
Почему не звонит Марк Генри Эванс? Все же не стану набирать его номер первой. Ни за что. Как бы ни хотелось себя пожалеть. Маленькая мисс Память сидит в своем коттеджике одна-одинешенька.
Память – странная штука, кстати говоря. Почему-то со временем воспоминания становятся все туманнее.
Если ты способен помнить все, проблема в том, что на самом деле ты помнишь далеко не все. Некоторые воспоминания исчезают навсегда. Другие распадаются на смутные фрагменты. Теперь это дымчатые облака взвеси, размытое ничто. Бесформенные куски и кусочки с обгрызенными краями. Затененные осколки света и тьмы. Пресные остатки звука и цвета.
Зато тяжелые воспоминания держатся упорно. Самые богомерзкие – особенно. Они отказываются уходить в туманный путь. Они заползают мне в голову в самые неподходящие моменты. И воют там, словно призраки, посреди ночи.
В этом, мать его так, все дело.
Пора, однако, перестать себя жалеть. Какой смысл выть над старым дерьмом. Пришло время для нового. Время перемен. Теперь-то я найду применение своей памяти. Себе на пользу и в удовольствие.
Моя память уничтожит его.
13 сентября 2013 г.
Позвонил. О да, великий Марк Генри Эванс наконец-то позвонил. У него встреча в Лондоне в три часа, сказал он. Но после этого он свободен.
Вполне понятно, что ему от меня нужно.
Возможно, сказала я.
Ему пришлось просить. О да, ему пришлось меня упрашивать.
Фойе «Кандински» несколько часов спустя. Маленький бутик-отель, укрытый среди обычных домов Южного Кенсингтона. Неприметный вход. Сдержанная элегантность. Симпатичная полька за мраморной стойкой регистрации. Мэтью и Вероника Адамс, сказала я. Она сверилась с компьютером и кивнула. Комната 261. Указала рукой на лестницу. Плюшевые ковры. Расплывчатые блики. Свечи пахнут магнолией.
Он открыл дверь через десять секунд. Все еще в пиджаке. И галстук не развязан.
Ну так я развязала.
Все идет по плану. Я могу быть довольна тем, как развиваются события.
Кроме всего прочего, можно иногда побаловать себя хорошим трахом. Столько лет прошло. Плюс ко всему он не разучился.
Я даже знаю, что сделаю для него завтра.
То, чего он меньше всего ждет.
«Уайред», 6 августа 1991 года
Всемирная паутина благих пожеланий?
Интернет расширит память и сделает жизнь лучше
Творение британского ученого станет величайшим изобретением, сделанным человечеством на благо человечества: так объявлено вчера.
Тридцатишестилетний дуо Тим Бернерс-Ли анонсировал запуск общественного хранилища памяти под названием «Всемирная паутина». Он описывает ее как набор средств хранения и обмена памятных записей в «интернете» без центрального администрирования и центральной базы данных.
Бернерс-Ли, сотрудник Швейцарской лаборатории при Европейском совете по ядерным исследованиям, создал простую систему кодирования, известную как HTML (hypertext mark-up language)[3]. Он также разработал свод правил под названием HTTP (hypertext transfer protocol)[4], которая позволит компьютерам обмениваться памятными записями. До сих пор «интернетом» пользовались только профессионалы отрасли и научные работники, но в недалеком будущем его возможности смогут оценить все.
Бернерс-Ли настаивает на некоммерческом использовании и дальнейшем развитии своего детища. «Технология ничего не стоит, если она не служит удовлетворению основной человеческой потребности: перемещать и сохранять воспоминания», – сказал он.
Ученый-дуо прокомментировал это так: «Явление станет массовым. Ошеломляет сама мысль о том, что незнакомые люди по всему миру смогут пересылать друг другу памятные записи простым нажатием кнопки». На что другой ученый насмешливо ответил: «Когда-то говорили, что сегвеи – это революция на транспорте. А сегодня на них катаются ленивые туристы».
Глава шестая Ханс
12 часов 30 минут до конца дня
Все то же – я в жизни не читал ничего нелепее этого дневника. Записи – один чудовищный, вопиющий парадокс. Она утверждает, что помнит все, но не совсем. Ее так называемые воспоминания становятся со временем смутными, она говорит.
Как можно вспоминать смутно? Так не бывает. Человек или помнит, или нет. Человек или усваивает значимые для него факты, или нет. Хорошо выученные факты достигают сознания. Плохо выученные – не достигают. Это зависит от того, сколько сил человек тратит на изучение своих дневниковых записей. Но в обоих случаях в голове у людей хранятся твердые факты – или не хранятся.
Все просто: черное и белое. Как эти галечные камни в карманах плаща покойницы.
Я двигаю фигуру вперед и связываю коня.
У меня в голове нет ни одного ощущаемого и в то же время стабильного кадра, оставшегося, скажем, с понедельника. Однако я знаю, чтó в тот день было важным. Чему этот понедельник меня научил. (Факт: бóльшая часть ежедневного опыта повторяется изо дня в день и не стоит усвоения.) В моем дневнике есть описание того, что происходило в понедельник и было для меня действительно важно. Словами, черным по белому. Если я усвою эти факты как следует, я смогу вытаскивать их из головы так же быстро, как, скажем, дату самоубийства Гитлера в берлинском бункере в конце Второй мировой войны (30 апреля 1945 года). И они будут такими же четкими, как мои воспоминания до восемнадцати лет.
Короче говоря, слова в дневнике станут фактами в голове, если я как следуют их усвою.
Это же так просто.
Как тогда воспоминания могут быть смутными?
Эта женщина не в своем уме. А значит, новые набеги на ее дневник, скорее всего, пустая трата времени.
Но одну деталь, пожалуй, стоит проверить. Я нажимаю кнопку телефона у себя на столе.
– Хэмиш? – говорю.
– Да?
– Прежде чем отправиться в Гилдхолл, позвоните, пожалуйста, в лондонский отель «Кандински» и выясните, останавливался ли у них в номере двести шестьдесят один Мэттью Адамс. И была ли с ним когда-нибудь женщина. По имени Вероника Адамс.
Сержант-шофер подруливает к парковке перед коттеджем Софии в Гранчестере. Машина останавливается, и я спрыгиваю на землю. Наше второе за утро появление становится для местных сенсацией. Из дверей ближайшего дома высовывается голова любопытной Софииной соседки.
– Доброе утро, – говорю я, шагая к ней по садовой дорожке и доставая свое бейдж-удостоверение. – Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска. Могу я задать вам пару вопросов о вашей соседке Софии Эйлинг?
Женщина подозрительно поджимает губы.
– Не волнуйтесь, пожалуйста. Это всего лишь рутинный опрос.
Она кивает, хоть и сморщив лоб. По туману в глазах я догадываюсь, что она моно, как и Клэр Эванс. Факт: двадцать лет детективной работы научили меня тому, что ум в человеке коррелирует с ясностью и четкостью взгляда и что этих двух признаков, к сожалению, лишены некоторые моно. Обидно, что недостаток ума у некоторых вызывает предубежденность против всех.
– Тогда ладно, – говорит она. – Заходите.
Я вступаю в гостиную, и в нос мне ударяет мощное «здрасьте» горелого жира и просроченного масла. В комнате полно мебели, сплошь в ситцевой обивке с цветочным рисунком. С каминной полки ухмыляется фарфоровый бульдог, на полу чуть поодаль стоит продавленный диван с завитками незабудок. Рыжий персидский кот бросает на меня подозрительный взгляд из угла и мчится прочь мимо резных напольных часов.
– Ваше имя, если можно?
– Миссис Марта Браун.
– Класс?
– Моно.
– Вы когда-нибудь разговаривали со своей соседкой Софией Эйлинг?
– Да. Но я посмотрю в дневнике на всякий случай.
Из складок фартука она достает дневник, набирает что-то на клавиатуре, энергично кивает:
– Да, мы говорили пару раз. Обычно про Руфуса.
– Про Руфуса?
Она показывает на кота, который с довольным видом точит когти о корпус часов.
– О чем конкретно вы с ней разговариваете? – спрашиваю я.
– София часто заглядывает, чтобы отдать мне его обратно. Особенно перед тем, как уехать в Лондон. Дневник говорит, что Руфус повадился забираться по ночам к ней в коттедж. Прямо не знаю, за что он ее так полюбил. Наверное, кормит его тайком.
– И часто мисс Эйлинг ездит в Лондон?
Прежде чем ответить, миссис Браун несколько секунд изучает свой дневник.
– Да, она там прилично времени проводит.
– Не знаете почему?
Мой вопрос вызывает лишь пустоту во взгляде миссис Браун.
– Я не думаю, что вообще… э-э… спрашивала почему, – говорит она, в легком волнении всплескивая руками. – Но давайте я поищу по ключевым словам.
Пока миссис Браун снова всматривается в дневник, я ловлю себя на том, что разглядываю ее когтистого кота. Может, София столь благосклонно относилась к ночным визитам Руфуса, потому что у нее когда-то тоже был любимый персидский кот. Может, ее дневник и не полный бред.
– Инспектор, – прерывает мои мысли миссис Браун, – я впечатала «Лондон + соседка». Ничего не находится, к сожалению.
– Вы знаете, чем мисс Эйлинг обычно занимается здесь, в Кембридже?
Миссис Браун хмурится и что-то печатает в дневнике.
– Он говорит, что София – милая, обаятельная соседка. – Она смотрит на меня честными глазами. – Стильная одежда, прическа всегда в порядке. Все время ездит на этом своем «фиате». Но очень скрытная насчет личной жизни. Я как-то пожаловалась на это мужу. Он сказал, чтобы я занималась своими делами и не совала нос…
– Когда мисс Эйлинг сюда переехала?
– Сейчас посмотрю… Октябрь две тысячи тринадцатого. Очень мне понравилась после предыдущих жильцов.
– К ней кто-нибудь приходит?
Глаза миссис Браун пусты. Она вздыхает и опять тянется к дневнику.
– Набила «гость + соседка», – говорит она через секунду. – Вроде бы ничего.
– Когда вы в последний раз видели мисс Эйлинг?
– Сейчас посмотрю… София принесла мне кота две недели назад, в пятницу, перед тем как сесть на вечерний поезд до Лондона.
– И с тех пор вы точно ее не видели?
– Гм… может, и видела. – По лицу миссис Браун внезапно пробегает испуг. – Но тогда я, наверное, решила, что про это можно забыть. Не стоит записи в дневнике. Я точно не видела ее вчера. Кстати, инспектор, вы уже второй раз за это утро в Гранчестере. В прошлый раз вы заходили к ней в коттедж. С ней что-то случилось? Что-то плохое?
– Этого я не могу сказать. Простите. Спасибо за помощь.
– Надеюсь, с Софией ничего не стряслось, – бубнит у меня за спиной миссис Браун, пока я выхожу из ее коттеджа. – Она и вправду такая милая и обаятельная. Хоть и кормит Руфуса от меня тайком.
Лучше не отвечать, думаю я. Особенно если учесть, что мое впечатление от Софии Эйлинг слишком далеко от понятий «милая» и «обаятельная».
Тяжелая входная дверь коттеджа Софии сопротивляется с тем же упрямством, что и в прошлый раз, но я все же умудряюсь протиснуться внутрь и оказываюсь в гостиной. Проводя сегодня утром поверхностный осмотр, я отметил пять главных особенностей.
1. В гостиной из мебели всего два предмета: красный кожаный диван и лакированный столик. Голые стены, никаких картин. Нет журналов на столике. Нет ковра на полу. Вообще никаких украшений.
2. Над кроватью картина масляными красками, на картине персидский диван, на нем развалилась знойная блондинка с манящим лицом и раздвинутыми ногами. Блондинка очень похожа на саму Софию.
3. Свой айдай она оставила на столике у зеркала, между пузырьком «Шанель № 5» и английским переводом «Камасутры». Когда я открыл дневник, он, к моему удивлению, не потребовал пароля. Дактилоконтроль тоже выключен. Это заставило меня задуматься: она положила его сюда специально, чтобы кто-нибудь прочел, или ей просто наплевать на секреты?
4. На прикроватной тумбочке – стопка книг. Все они написаны Марком Генри Эвансом, и почти все снабжены уценочными ярлыками. На самом верху – замусоленный роман «На пороге смерти» в мягкой обложке, раскрытый на сорок четвертой и сорок пятой страницах. Бегло просмотрев текст, я убедился еще раз, что Эванс любит вычурные усилительные прилагательные и свободно обращается с активными глаголами.
5. На кухонной столешнице – полупустая бутылка водки, в холодильнике – упаковка сыра бри с клубничной добавкой.
В этот раз я изучаю верхнюю одежду, висящую на крючках за дверью. Три пальто из дорогой шерсти. Я смотрю на ярлыки: «Диор», «Прада» и «Москино». Все десятого размера. Это подтверждает мои подозрения насчет плаща «Акваскутум», обернутого вокруг тела, – плащ был не ее.
Я наклоняюсь, чтобы проверить ящик для обуви. В ряд выстроились четырнадцать пар остроносых шпилек-убийц, все ярко-кислотного цвета. Кроваво-красные «Джимми Чу» на четырехдюймовых каблуках. Светло-синие «Маноло Бланик», не менее гравитационно-аномальные. Канареечно-желтые «Кристиан Лубутен» высотой с башню. Названия брендов прекрасно читаются на подошвах. Но когда мы нашли Софию сегодня утром, на ней были ботинки «Ланвен» без каблуков. Спокойного черного цвета. Похоже, перед выходом из коттеджа София надела единственную практичную пару, которая у нее была. Осталось выяснить почему.
Я шагаю на кухню, надеваю перчатки и начинаю одну за другой открывать дверцы шкафов и буфетов. Вскоре я обнаруживаю в нижнем ящике небольшой запас кошачьего корма. Значит, миссис Браун была права насчет Руфуса.
Следующий этап: спальня. Я подхожу к гигантскому шкафу красного дерева в углу комнаты и заглядываю внутрь. В ноздри мне бьет мускусно-бергамотный запах – полки битком набиты одеждой. Я вытаскиваю наугад блузку и два платья. Дорогая гладкая материя ласкает пальцы. Я проверяю бирки: «Эли Сааб», «Миссони» и «Александр Маккуин». Все – восьмого размера, указывающего на то, что хозяйка предпочитала носить пальто на два размера больше всей другой одежды.
Я перемещаюсь к трюмо в противоположном конце комнаты и начинаю поочередно выдвигать ящики. Поиски приводят к следующему.
1. Огромный косметический набор с двумя дюжинами ярко-красных губных помад разных оттенков и пузырьков с лаком для ногтей тех же тонов.
2. Внушительный запас нижнего белья. Я не эксперт по этой части, но София явно отдавала предпочтение модным кружевным и атласным штучкам.
3. Полный ящик секс-игрушек, включая розовые вагинальные шарики от Энн Саммерс, три вибропули и два вибратора «стоящий кролик». Еще там лежат семь кружевных глазных масок, все черные.
4. Запертый деревянный ящик девять на двенадцать дюймов. Я трясу его. Внутри шуршат какие-то бумаги.
5. Пыльный фотоальбом в глубине нижнего ящика. Я переворачиваю страницы и обнаруживаю множество фотографий шатенки двадцати с небольшим лет, снятых в окрестностях Кембриджа. Вот она на ялике, в руках – бутылка шампанского, рядом – две безумного вида девчонки в коротких платьях. Вот она растянулась на траве, голова на чьих-то коленях. Вот она едет на велосипеде мимо университетской библиотеки и машет кому-то рукой, рюкзак набит книгами. Вот ковыряется разделочным ножом в кости для жаркого, одетая в нарядное черное платье, на голове бумажная корона из рождественской хлопушки.
Я наговариваю в диктофон список находок, потом с альбомом в руках сажусь в кресло рядом с кроватью. Я разглядываю лицо шатенки на фотографиях, отмечая выпуклый нос и слегка оттопыренные уши. Длинные кудри ниже плеч. Тело с плоской грудью в некоторых ракурсах выглядит болезненно-изможденным. Мало сходства с пышной блондинкой, которую мы вытащили сегодня утром из Кэма. Но возможно, в альбоме юная допластическая версия Софии Эйлинг. Или даже булимийная инкарнация, как подсказывает ее дневник. Не зря же на этих фотографиях она тощая, как полицейская дубинка.
Я еще раз перелистываю альбом, всматриваясь в изображения девушки. Глаза яркие, сияют бодрым восторгом юности. Лицо горит живой энергией. На многих снимках улыбается, хотя иногда камера выхватывает и более меланхолическую сторону ее натуры. Улыбка широкая, почти всегда захватывает глаза. Лицо юной девушки в лучшие годы кембриджского студенчества.
А не женщины, оставляющей в дневнике вывернутые мучительные записи о расплате и мести.
Но чем дольше я вглядываюсь в этот альбом, тем настойчивее становится у меня в голове бормотание, что нужно, пожалуй, вернуться к дневнику Софии. Слишком круто должна была измениться ее жизнь после этих снимков. Пройден страшный путь, в конце которого ее косметически улучшенное тело всплыло сегодня утром из-под древесных корней. Если я действительно хочу поймать убийцу, я должен прочертить все тайные повороты на траектории ее жизни. И выяснить, как вписывается в них Марк Генри Эванс.
С громким стуком я захлопываю альбом. Он поедет со мной в полицейское отделение вместе с принадлежавшей Эйлинг книгой «На пороге смерти». (Факт: я прочел этот роман Эванса, как только он вышел в твердой обложке, но всегда полезно освежить впечатления.) Загадочный деревянный ящик я, конечно, тоже беру с собой.
Я возвращаюсь на Парксайд, где сержанту Дональду Ангусу нужно ровно тридцать секунд, чтобы взломать замок на Софиином ящике. Перед тем как открыть крышку, он усмехается и показывает мне большой палец.
– Что за черт, – произносит он, уставившись внутрь ящика.
Он вынимает гигантскую кипу бумаг и начинает в ней копаться. В основном это газетные вырезки. В углу ящика расположилась флешка на сто сорок четыре гигабайта.
– Она на нем помешалась, – говорит сержант несколько секунд спустя, выгнув густые брови.
– Это мы уже знаем, – отвечаю я, заглядывая ему через плечо и отмечая, что вырезки расположены в хронологическом порядке.
Первой идет заметка из «Таймс» от 17 января 2012 года, раздел «Литература и искусство». Текст сопровождается фотографией Марка Генри Эванса с презентации книги, где он раздавал автографы. Чуть позади автора топчется его жена Клэр, лицо немного смазано. «„На пороге смерти“ занимает первое место в списке бестселлеров „Нью-Йорк таймс“», – сообщает заголовок. Подзаголовок гласит: «Доказывая, что успех приходит и к тем авторам, чьи романы нужно читать дольше четырех часов».
София писала у себя в дневнике о газете с улыбающимся Марком Эвансом.
– Но почему? – нахмурившись, спрашивает Дональд.
Я качаю головой:
– Этого я не знаю.
– Может, Эванс говорит правду?
Я пожимаю плечами.
– Не знал, что у этого человека такие высокие запросы, – говорит через некоторое время сержант, помахивая передо мной другой вырезкой.
Я схватываю заголовок до того, как Дональд возвращает ее в стопку. «Писатель-дуо, муж жены-моно, приглядывается к месту в парламенте от Южного Кембриджшира». Заметка украшена фотографией Марка Генри Эванса на политической конференции, он стоит под руку с женой. В подзаголовке – риторический вопрос: «Неужели независимые кандидаты наконец-то дождались своего часа?»
– Хм… – Мне приходит в голову одна мысль. – Покажите мне, пожалуйста, последнюю заметку в этой стопке.
Дональд добирается до последней вырезки, датированной всего шестью днями тому назад. На ней фотография – голубоглазая блондинка развлекается на яхте в компании мужчины с волосатой грудью. Сопроводительный заголовок кричит: «Налоги ни при чем. Джастин и Шантель играют свадьбу».
Я просматриваю заметку из «Дейли мейл», которую держит Дональд. В ней говорится:
Джастин Уинвард, самый многообещающий британский автор-исполнитель-дуо, женится в сентябре на модели-моно Шантель Хьюстон. Близкие друзья этой пары рассказали, что вчера вечером, сразу после сверхуспешного концерта на «О2 Арене», Уинвард сделал скандально известной блондинке предложение, преподнеся ей кольцо с бриллиантом в четыре карата.
Этот брак будет вторым для Уинварда – первый, с актрисой-дуо Гвинет Лэнгли, закончился разводом в октябре прошлого года. Уинварду 32 года, он занимает 137-е место в списке самых богатых людей Британии по версии «Форбс»: его состояние оценивают в 75 миллионов фунтов. Хьюстон 22 года, известность пришла к ней два года назад, после выхода «Большого брата», но больше всего она знаменита своим бюстом размера 36DD и коротким кинороманом с футболистом Харольдом Дуайтом.
Это великосветское моно-дуо-бракосочетание привело в восторг сторонников закона о смешанных браках, который в пятницу будет направлен на подпись королеве. «Смешанные союзы отлично работают, – говорит писатель-дуо Марк Генри Эванс, независимый кандидат в члены парламента от Южного Кембриджшира. – Мы с Клэр, моей женой-моно, уже двадцать лет вместе. У Джастина и Шантель есть все шансы стать успешной семейной парой».
Однако близкий друг Уинварда, дуо, отказавшийся назвать свое имя, намекнул, что исполнитель и автор песен знает о щедрых налоговых льготах, обещанных тем, кто вступает в моно-дуо-союзы. «Джастин – хитрая лиса, – говорит он. – Он знает толк в налогах и в реальности. Эти 36DD не ослепят его настолько, чтобы он забыл о важности брачного договора».
Я хмыкаю и смотрю на Дональда – в голове у меня вдруг сощелкивается.
– София Эйлинг была помешана на Марке Эвансе, – говорю я. – Но не только на нем – ее мысли занимал еще один человек. Женщина со всеми физическими данными, которых Софии не хватало в молодости. Светлые волосы, голубые глаза и большие сиськи.
– Кто это? – Дональд поднимает бровь.
Я улыбаюсь, прежде чем ответить:
– Клэр Эванс.
«Экономист», 27 января 1998 года
«Эппл» представляет айдай
Стив Джобс, исполнительный директор «Эппл», всегда скрупулезно ведет свой дневник. При этом, по отзывам многих, он постоянно стремится туда, куда не ступала нога ни одного дуо. Выход на прошлой неделе айдая, новейшего продукта «Эппл», лишний раз подтверждает эту репутацию.
На презентации мистер Джобс ясно дал понять, что считает айдай прорывом мирового значения. Бумажный дневник – последний бастион аналоговой эры, сказал он: наконец-то дневники вступают в век электроники.
Именно этой цели Джобс намеревается достичь с помощью айдая. Это устройство с диагональю экрана шесть дюймов (15 см) и весом всего 25 унций (0,7 кг). Оно снабжено сенсорным экраном, полной клавиатурой и дисковым переключателем. У него имеется диод, который загорается фиолетовым каждое утро, напоминая пользователю о необходимости изучения вчерашних записей. Программное обеспечение включает эффективную поисковую функцию (что заметно облегчает извлечение фактов), рабочий список, ежедневник и календарь. Записи легко редактируются и стираются. Стоимость устройства – 79 фунтов за базовую версию и 99 – за более продвинутую, с более объемной, в буквальном смысле слова, памятью. Эта цена делает его доступным массовому пользователю.
Мощные средства защиты информации превращают айдай в поистине уникальный продукт. Автоматическая самоблокировка срабатывает после двух минут бездействия и снимается только после того, как распознает отпечаток пальца пользователя. В качестве дополнительного уровня безопасности предусмотрена защита паролем. После громких прошлогодних скандалов, связанных с похищениями дневников высокопоставленных лиц, инвесторы «Эппл» восторженно оценивают рыночный потенциал айдая. За три дня продаж нового устройства курс акций компании достиг небывалой высоты.
Глава седьмая Клэр
Нельзя терять голову. Ни в коем случае. Несмотря на то что полицейские увезли моего мужа на допрос, я точно знаю: он не убивал Софию Эйлинг. Факт: Марк мухи не обидит. Он из тех мужчин, которые не переносят насилия. На фильмах Квентина Тарантино он закрывает глаза, когда начинаются драки (что бы там Марк обо мне ни думал, я хорошо усваиваю мелкие случайные факты из своего дневника).
Но он совершенно точно с ней спал.
Я смотрю на свои руки. После работы в саду у них замызганный вид. И беспомощный. Руки женщины, что послушно сливается с бесцветным фоном, на котором ее муж совершает смелые, яркие поступки. Например, пишет книги, которые расходятся миллионными тиражами, или баллотируется в парламент.
Заводит романы.
Значит, Марк Генри Эванс, тот самый человек, который в капелле Тринити-колледжа клялся любить и беречь меня больше всех других, на самом деле меня обманывал. Ради этого он уезжал на выходные из Кембриджа. Факт: он говорил, что у него в Лондоне рабочие встречи. Иногда он даже брал меня с собой на презентации книг и благотворительные балы. И все это время я была ему нужна только для видимости.
Я не дура. Я способна прочесть между строк. Если Марк умеет писать, то я умею читать.
А между строк написано, что Марк – бессовестный вероломный изменник. Обманщик, способный не моргнув глазом предать женщину, с которой двадцать лет делил постель. Лотарио[5], не упускающий ни одной суки из тех, что ловят каждое его слово. Я насмотрелась на них за все эти годы. Я усвоила факты их существования. С горящими глазами они валят на его чтения. Стоят в бесконечных очередях за автографами. Гогочут вокруг, как стая возбужденных гусынь.
Если у Марка был роман с Софией Эйлинг, он все эти двадцать лет мог с такой же легкостью спать и с другими женщинами. Пока я сидела дома и сгребала сухие листья с садовых дорожек.
Схватив подпирающие навес грабли, я зашвыриваю их подальше. С громким радостным стуком они врезаются в цветочный горшок и брякаются оземь.
От потрясения у меня стучат зубы.
Не буду плакать. Как бы мне этого ни хотелось. Несмотря на то что измена Марка – это натуральная оплеуха. Пощечина моей гордости и самоуважению как жены и женщины.
Вероломству нет оправдания. Никогда и ни за что.
Но как так вышло? Я считала Марка хорошим мужем, несмотря на все недостатки и неравенство нашего смешанного брака. Я полагала, что политические амбиции удержат его от походов на сторону. Не нужно быть гением, чтобы предсказать судьбу его избирательной кампании, когда пресса узнает, что он спит со всеми подряд.
Я ковыляю по садовой дорожке и заползаю в оранжерею. Ее наполняет аромат моих ценных гардений, смешанный со сладостью «Царицы ночи». Желудок отзывается на это сочетание резким тошнотным спазмом. Подскакивает Неттл, приветствуя меня своим мокрым языком. Я треплю его за уши и падаю в ближайшее кресло рядом с орхидеей, на ней два желтоватых цветка-ракушки – наверное, распустились ночью.
Я срываю цветки и сминаю в руках.
В голове пищит ехидный голосок. Он говорит, что мне следовало приложить усилия и постараться понять факты нашей семейной жизни, а не просто заучивать их наизусть. Почему в наших отношениях стало больше удобства, чем страсти. Функции вместо влечения. Почему у нас с Марком два года нет секса. Почему он меня сторонится. Почему нет ребенка в нашей жизни.
Я уже не так красива, как раньше. Двадцать лет брака – это двадцать лет увядания. Двадцать лет гусиных лапок вокруг глаз. Двадцать лет жалкой обвисшей кожи. Двадцать лет уничтожающего эффекта гравитации. Мне страшно думать о жутких складках и двух лишних фунтах, набранных с тех пор, как отец вел меня по церковному приделу – вне себя от радости, что его старшая дочь выходит замуж за человека из высшего класса.
Но любил ли меня Марк когда-нибудь? Например, когда мы только познакомились? Может, я просто выдумала для себя эти факты? Наверное, любил, иначе не женился бы на мне осенью 1995 года. Но что, если все это время я лишь обманывала себя, неверно интерпретируя факты? Как бы ни было это нелепо и не вовремя, я хочу понять прямо сейчас. Выяснить, как и когда наши отношения пошли не в ту сторону. И туда ли они двигались с самого начала? Может, они и тогда были притворством?
Я встаю с кресла и иду по проходу. Факт: за время до 1998 года, когда изобрели айдай, у меня скопилась внушительная стопка бумажных дневников. Они лежат в кладовке, в огромном сейфе. Я щелкаю выключателем и подхожу к железному ящику. Факт: код у него 8412. Я набираю этот номер. В ответ загорается зеленая лампочка.
Я рывком открываю дверцу и вглядываюсь в дневники. Факт: в молодости я записывала очень много, особенно после того, как мне исполнилось восемнадцать. Гораздо больше, чем сейчас. И очень подробно. Юность вообще многословна, теперь я обращаюсь со словами куда экономнее. А может, я слишком боялась упустить что-нибудь важное и потому отчаянно стремилась записать все. Пока мудрость, пришедшая с возрастом (и с унылым пониманием), не открыла мне истину: нет никакой нужды писать все подряд, ибо ежедневные события слишком мало друг от друга отличаются.
Факт: мы с Марком познакомились 26 мая 1995 года. Я достаю тетрадь с надписью «Май – август 1995» и долистываю до этой даты.
17:35. Пришла в «Универ-блюз» и получила от Дженкинса нагоняй за опоздание. Эмили бросила на меня сочувствующий взгляд. [Вним.: больше не опаздывать, иначе потеряю работу.] Протянула первые полтора часа без особых накладок, разве что принесла заказчику обычную колу вместо диетической. [Вним.: собирать пустые тарелки по пути из зала, как советует Эмили: «пришла с подносом и ушла с подносом».]
Начала уже думать, что наконец-то привыкаю к работе официантки, когда в 20:17 появился мужчина под руку с рыжей. Эмили отвела их за столик. Я подошла через несколько минут – принять заказ. Он поднял взгляд от меню и улыбнулся. Не знаю, что на меня нашло, но только ручка и блокнот вдруг вывалились из рук. Из-за его улыбки? Или из-за красивой стрижки с челкой набок? Ответ придумать не успела, потому что ручка отскочила от стола и приземлилась девушке на колени, разбрызгав чернила по всей юбке. Задохнувшись, я забормотала извинения, схватила салфетку, чтобы промокнуть пятна. Чернила уже расползлись по материи, девушка вскрикнула. Дальше – хуже. Подскочил Дженкинс, принялся орать во все горло, а рыжая подхватила сумку и с ругательствами выбежала из ресторана.
Мужчина, однако, остался сидеть. Повернулась к нему и сказала первое, что пришло в голову: я сама заплачу за его ужин, если он останется (что, по прикидкам, перекроет мой дневной заработок в 12,75 фунта). Мужчина улыбнулся и сказал, что хочет маленький бокал бордо. Дженкинс успокоился и с багровой физиономией вернулся за стойку, а я убежала выполнять заказ. Принесла полный графин на 0,75 литра и корзинку с хлебом – щеки у меня по цвету сливались с вином, – извинилась еще раз и исчезла.
Он просидел за столиком минут двадцать. Я сновала туда-сюда и постоянно чувствовала на себе его взгляд, с интересом меня изучающий. Ушел, когда я была на кухне. Подошла к столу убрать посуду. Нашла под бокалом 20 фунтов, хотя вино стоило всего 3,80. И записку на салфетке: «Ну и вечер! Я хотел бы отплатить удовольствием за удовольствие. Эмили говорит, в понедельник у вас выходной. Я буду ждать в ресторане отеля „Дю Вен“ в понедельник (29 мая) в 19:30. Марк Генри Эванс».
Остаток смены прошел как в тумане. Тихо ушла домой в 23:45. Дженкинс посмотрел многозначительно (и отдал только 11,20 фунта от чаевых Марка, забрав штраф в 5 фунтов за «ужасающую неуклюжесть»). Не решила еще, что делать с этим приглашением. [Вним.: может, стоит в понедельник утром купить новое платье.]
Неожиданная мысль меня ошеломила. Что, если Марк тогда просто веселился, глядя на стремительную неумеху? А за двадцать лет семейной жизни веселье сменилось утомительным пренебрежением. Я ведь не написала, что у него в тот вечер был влюбленный взгляд. Его глаза всего лишь изучали меня «с интересом».
Наверное, стоит проверить запись за понедельник. Удостовериться, что все эти годы я просто себя обманывала. Вычитывая из фактов больше, чем нужно, – особенно из тех, что соединили нас в самом начале.
Глубоко вздохнув, я перелистываю несколько страниц.
05:41. Проснулась вся в поту. Ужасный сон про Дженкинса с его воплями, что я никуда не гожусь и всегда такой буду. Как хорошо, что сегодня не надо идти в «Универ-блюз». Этот Дженкинс достал меня до печенок, уже по ночам снится.
[…]
19:35. Явилась в «Дю Вен», последовав совету Эмили насчет того, что уважающая себя девушка должна приходить на свидание на пять минут позже, и очень смущаясь из-за нового платья и каблуков. (Мама была вне себя от счастья, когда я проговорилась по телефону о свидании, и сказала, что обязательно нужны подходящие туфли.) Метрдотель показал столик, за которым сидел Марк с дюжиной роз (половина – розовые, остальные – белые). Щегольская серая рубашка с крахмальным воротничком, две верхние пуговицы расстегнуты. Запах дорогого одеколона. Поблагодарил меня за то, что пришла, вручил цветы и только потом перевел взгляд на ложбинку между моих грудей. [Вним.: со следующей получки купить еще одно короткое облегающее коктейльное платье.]
Стала опять извиняться, но он приложил к губам палец. Сказал, что я сделала доброе дело, поскольку внимание этой рыжей ему «поднадоело до удушливости». Не совсем поняла, что он имел в виду, но в целом получилось, что он на меня почти не сердится. Метрдотель разлил шампанское (заметила на бутылке этикетку «Крюг Гранд Кюве 1977», это очень круто) и подал меню. Чуть не подавилась, когда увидела цены: в среднем от двадцати до двадцати пяти фунтов за блюдо. Взяла свиной желудок, самое дешевое, что там было. Марк заказал хвост омара, поднял тост «за памятное знакомство», улыбнулся, и мы чокнулись бокалами.
За ужином узнала о нем много разных фактов: дуо (пришлось проглотить), работает в Тринити на кафедре английской литературы. Получил степень бакалавра и магистра в одном и том же колледже до двадцати трех лет. Подумывает в один прекрасный день бросить преподавание и написать что-нибудь стоящее. Хотя дюжина рассказов, им сочиненных, остается неопубликованной, и вот уже шесть лет подряд он безуспешно отправляет их на конкурс «Таймс» с призовым фондом в 30 000 фунтов. Мне стало его жалко, я ведь знаю, что это такое, когда тебя никуда не берут. Единственный сын промышленника, владельца замка Энсли в Бакингемшире. Отец надеется, что Марк займется семейным бизнесом, но его это совсем не интересует. Я, в свою очередь, призналась, что УБ – моя вторая работа после школы, первая была – стажер в парикмахерской. Не сказала, что я моно, но он наверняка и так понял.
Набравшись храбрости, спросила, почему он пригласил меня на ужин. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что я самая красивая девушка из всех, кого он видел в жизни. У него упало сердце, когда я подошла, чтобы принять заказ, сказал он. Охмуряет, ну и ладно. Он точно умеет обращаться со словами. Итак, Марк влюбился в меня с первого взгляда. Мне должно это льстить.
Странно: старая запись через двадцать лет читается абсолютно по-другому. В тот судьбоносный вечер я интерпретировала слова Марка так, будто он влюбился в меня с первого взгляда. Девятнадцатилетняя версия Клэр настолько хотела в это поверить, что даже заучила свою интерпретацию как факт. Но та Клэр была романтичной, сопливой молодой идиоткой. Усталые тридцатидевятилетние глаза видят кое-что другое.
Это было желание, а не любовь. Марк никогда не любил меня, даже в самом начале. Он просто хотел меня соблазнить, думая, что я самая красивая девушка в его жизни. Вот что он на самом деле сказал в тот вечер. А я вычитала из его слов больше, чем было нужно.
Сморгнув пару слезинок, я открыла страницу, датированную 2 июня 1995 года.
22:05. Кончили ужинать. Фуа-гра – это что-то невероятное, икра белуги еще лучше. Слова Марка меня ослепляют. Можно развить вкус к таким вещам. Три бокала шампанского звенели в голове, когда мы выходили из летнего домика, двадцать четыре розы, белые и розовые, оттягивали руки. Он стал звать меня к себе в Тринити еще чуть-чуть выпить, сказав, что потом проводит. Я не решалась. Тогда он опять улыбнулся мне этой своей улыбкой. И я сказала «да». Провести меня мимо дежурного оказалось не так просто, но Марк вскоре нашел незапертую боковую дверь. Он втолкнул меня в комнату с огромным камином и окнами, выходящими на темный четырехугольник газона. Протянул полный бокал портвейна, от которого голова закружилась еще сильнее.
Следующее, что я помню: он начал целовать меня в губы. Он уже целовал меня вчера вечером, когда мы прощались, но тот поцелуй был целомудренным, хотя и долгим. Этот другой. Требовательный, почти насильный. Марк стал расстегивать молнию у меня на платье. Я пыталась протестовать и отталкивать его руками, но руки были вялыми после шампанского и портвейна. Очень скоро платье и лифчик куда-то делись, и он занялся моими сосками. Почувствовала, как меня окатывает тревожной волной. Но это было так приятно. Так правильно. В конце концов, Марк – джентльмен. Он не из тех мужланов, что болтаются по району, в котором я выросла. Руки его двинулись вниз, и через секунду с моего тела свалилась последняя часть одежды. Мне стало страшно, я от кого-то слышала, что в первый раз это больно. Попробовала его оттолкнуть, но руки не убеждали даже меня саму.
Потом это произошло. Острая разрывающая боль, затем просто неприятные ощущения. Но он действовал мягко, и все закончилось через несколько минут. Не могу сказать, что мне очень понравилось, но в следующий раз должно быть лучше. Он застонал, скатился с моего тела, забился под одеяло и начал сопеть. Не зная, что делать, я несколько минут с тоской и недоумением изучала его профиль. В конце концов сползла с кровати, натянула платье и в 23:35 выскользнула из комнаты, оставив там розы. Слава богу, когда я бежала через прямоугольный двор к боковой двери, дежурного на месте не было. Свежий ночной воздух и энергичная прогулка к дому на Милл-роуд прочистили мне голову. Когда в 23:55 я пробиралась внутрь, было слышно, как возится миссис Перкинс, но больше я никого не побеспокоила.
Что же я наделала? Господи, ведь Марк – дуо. У союзов моно и дуо нет будущего. Но папа с мамой растают от одного его вида, когда познакомятся. В любом случае он должен завтра позвонить. Он сказал за ужином, что в выходные хочет прокатить меня на своем «ягуаре» до Норфолка: мы устроим пикник в прибрежных дюнах с большой бутылкой винтажного «Боленже» из погреба его отца.
Слезы текут как из крана, – теперь я понимаю, что происходило в следующие дни. Я листаю до записи за 3 июня.
04:22. Проснулась с потными ладонями и несущимся пульсом. Ужасный сон про Дженкинса с багровым лицом. Орет из-за стойки, что я – бесполезное ничтожество. Запись от 29 мая говорит, что мне снилось что-то похожее. Ужасно.
[…]
22:45. Марк сегодня так и не позвонил. Но он наверняка позвонит завтра насчет Норфолка. На воскресенье отличный прогноз – 28 градусов и солнце. Представляю, как мы будем гулять рука об руку по галечному берегу, с плетеной корзинкой для пикника.
Запись за 4 июня гласит:
21:15. Телефон так и не звонил. Надежды на пикник в Норфолке под синим небом и ясным солнцем давно испарились. Все же беспокоюсь, не случилось ли чего с Марком. [Вним.: надо завтра позвонить самой. Вдруг с ним действительно что-нибудь не то.]
Только теперь я понимаю, почему Марк повел себя именно так, когда пятого июня я ему все-таки позвонила.
18:04. Перед тем как сесть на велосипед и поехать в УБ, позвонила Марку с телефона миссис Перкинс. Он извинился, что не позвонил на выходных сам, сказал, что были срочные семейные дела. Голос отрешенный, как будто чем-то занят. Сказал, что ему нужно уходить. Я в замешательстве повесила трубку. Наверное, надо радоваться, что с ним ничего не случилось…
Я листаю страницы, просматривая их на ходу. Они подтверждают мое все растущее подозрение насчет первых дней наших отношений: Марк преследовал меня со всей страстью до той самой ночи и секса в Тринити, а после нее полностью потерял интерес. Он не позвонил, чтобы пригласить меня на пикник. Или на ужин, если на то пошло. На самом деле он не позвонил вообще.
Правда, которую я не видела: Марк просто хотел секса со мной – в то время симпатичной девятнадцатилетней невинной девочкой.
И ничего больше.
Неудивительно, что неделю спустя я наткнулась на него с другой девушкой. Так говорит мой дневник – простыми фактами. Наверное, стоит вновь изучить события того вечера – теперь, когда до меня наконец-то дошла правда о его тогдашнем поведении.
Мазнув рукавом по глазам, я открываю тетрадь на записи за 12 июня 1995 года.
18:30. Первые два часа в УБ прошли тихо. Эмили сказала: это потому, что в Тринити, Джизас и Клэр сегодня майские балы.
21:32. Пришли посетители, сели у окна. К своему ужасу, я увидела в окно Марка – он шел по противоположному тротуару, при белом галстуке-бабочке, под руку с девушкой в потрясающем персиковом платье и белых перчатках. Они явно шли на бал: наверное, в Тринити. Несколько секунд я глотала воздух, потом бросилась к Эмили и упросила ее прикрыть меня (Дженкинс, слава богу, был занят с клиентом). Выскочила из УБ, но Марк с девушкой уже скрылись из виду. Решив высказать Марку все, что я о нем думаю, побежала туда, куда они направлялись. На Честертон-роуд их не было, и я помчалась обратно, сообразив, что они могли пойти через пешеходный мост над шлюзом Джизас-Лок.
В конце концов обнаружила их на дорожке у самой реки. Побежала в ту сторону, очень хотелось закричать на Марка, но я молчала. И тут девушка шагнула вперед и сделала в точности то, что хотела сделать я, – стянула с руки перчатку и хлестнула Марка по лицу. Замахнулась, чтобы врезать еще раз, но потеряла равновесие. Высокие каблуки подвернулись, она ударилась головой о фонарный столб и рухнула на землю клубком рук, ног и ткани. Поднялась, встала на колени, попыталась стукнуть Марка еще раз, но теперь это вышло гораздо слабее.
Я подумала, что стоило бы, пожалуй, присоединиться к девушке и отлупить Марка вместе с ней. Но потом сказала себе, что он и так получил по заслугам, а Дженкинс высосет всю мою кровь, если меня не будет на месте слишком долго. Повернулась, пошла к УБ, однако вскоре меня захлестнула новая волна гнева. Выкинув Дженкинса из головы, развернулась посреди Честертон-роуд на сто восемьдесят градусов и вновь побежала по мосту на другую сторону. К тому времени Марка и девушки около Джизас-Грин уже не было. Я решила, что они где-то впереди, и побежала по дорожке дальше. В конце концов нашла Марка на Магдалин-стрит. Он был один. Девушка в персиковом платье пропала.
Я переворачиваю страницу и замираю. Следующие листы исчезли. У самого корешка от них остались тонкие полоски бумаги. Остальное аккуратно отсечено, скорее всего бритвой или перочинным ножом.
Слезы испарились. Я вожу дрожащим пальцем по срезам бумаги. Недоумение и нежелание верить своим глазам заставляют меня пересчитать их – всего двенадцать. Следующая дневниковая запись перебрасывает меня на тринадцать дней вперед. Видимо, я когда-то вырезала эти страницы.
Но зачем?
Может, запись от 25 июня объяснит, почему исчезли предыдущие.
05:50. Мокрые простыни – спасибо приснившемуся Дженкинсу за очередные вопли («Ты никому не нужна, Клэр. Ты ничтожество»). Пыталась заснуть опять. Проверила предыдущие записи. С тех пор как я начала работать в УБ, этот сон снился мне четыре раза. Дженкинс преследует меня днем и ночью. Хорошо бы уволиться. Но здесь платят лучше, чем в салоне причесок.
10:30. С трудом выбралась из тяжелого полусна после того Дженкинса. Тупое сосущее чувство пригвоздило меня к кровати, я просто лежала, разглядывая потолок в паучьих трещинах.
12:30. Решила послушаться Эмили. Вытащила себя из койки и позвонила в поликлинику на Бридж-стрит. Записалась на прием к Артуру Девайну в 11:00 29 июня. [Вним.: рассказать доктору Девайну о черной бездонной яме, которая меня заглатывает, о том, как я не могла заснуть вчера ночью, и об этой ужасной душащей боли в груди. Но не говорить про то, как вчера утром, перед тем как уехать в УБ, мои мысли кружились вокруг большого разделочного ножа, который лежал на кухне у миссис Перкинс.]
21:58. Уронила на пол бокал для вина. Дженкинс прорычал, что вычтет его стоимость из следующей получки вместе с двумя тарелками, которые я разбила вчера. [Вним.: нужно быть внимательной, особенно в ближайшие недели. Не то от моей зарплаты ничего не останется.]
22:53. Вышла из УБ и обнаружила за дверями Марка с очередной кипой роз. После того как я неделю не обращала внимания на его несчастную фигуру (получается, он стоит тут уже седьмой день подряд, и букеты все растут), мне вдруг стало его жалко. Может, он и вправду осознал…
Судя по этой записи, я провалилась в ужасную депрессию, узнав, что Марк за моей спиной встречается с другой девушкой. Настолько ужасную, что пришлось звонить врачу. Из-за этой депрессии я могла сделать любую глупость, например вырезать из дневника двенадцать страниц.
И все же, если на этих страницах было что-то важное, не все потеряно. Факт: я очень старательно изучаю свой дневник. Я трачу на его чтение куда больше времени, чем мой муж. (Я погружаюсь в него каждое утро, тогда как Марк свой айдай лишь поверхностно проглядывает; высокомерный, как все дуо, он не замечает того факта, что работает над дневником меньше меня). Я могу доверять фактам, сохранившимся у меня в голове.
Чтобы проверить себя, я зажмуриваюсь и пытаюсь вытащить из нее какие-нибудь факты о тех двенадцати днях. Вот что происходило в ночь Тринити-бала вскоре после того, как я нашла Марка на Магдален-стрит.
– Марк! – окликнула я его.
Он замер на полушаге и обернулся. Понял, что это я, плечи стали жесткими.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он.
– Я все видела, – сказала я, подходя ближе. – Как вы держались за руки.
Тут у Марка отвалилась челюсть. Еще я заметила, что после той потасовки с девушкой куда-то подевался его белый галстук-бабочка.
– На Джизас-Грин я тоже все видела. – Слова накатывались волной. – Все. Ты с ней спишь, да? Она твоя девушка?
– Я сейчас… все объясню…
– Ты мне все врал! Эти твои розы. Сладкие слова. И сейчас врешь. Иди к черту, Марк. Я не желаю тебя больше видеть.
После этих слов я развернулась и зашагала обратно к «Универ-блюзу».
Он даже не попытался меня догнать. Или извиниться. Или попросить, чтобы я передумала, если на то пошло.
А вот что происходило 24 июня, за день до того, как я позвонила в поликлинику на Бридж-стрит.
Когда я уходила из УБ, ко мне подошла Эмили: вид озабоченный, на лбу глубокая складка.
– В последнее время ты сама не своя, – сказала она.
– Все в порядке.
– Нет, Клэр. Не в порядке. Я же вижу по твоему лицу и по тому, как ты себя ведешь.
– Тебе кажется.
– Ты только что разбила две тарелки. И сказала Дженкинсу, что это просто рассеянность. Но я видела, как ты перед тем хлюпала носом.
– У всех бывают неудачные дни. Разве это не факт?
– Мне только семнадцать лет. Я еще помню мелочи, которые ты не записываешь в дневник. Например, как ты приходишь сюда каждый день, не поднимая глаз от земли, будто надеешься, что она тебя проглотит. Поверь мне, милая. В последние две недели с тобой творится что-то странное.
Я не смогла придумать подходящего ответа.
– Сходи к врачу. Он пропишет тебе таблетки, будешь чувствовать себя лучше.
– Не нужен мне врач.
– Подумай как следует, ладно? – Она похлопала меня по плечу и указала на дверь ресторана. – Этот дуо, кстати, опять тебя ждет, и роз у него еще больше, чем вчера. Представить только, стоит все дни перед закрытием, и букет с каждым разом только растет. Может, тебе стоит послушать, что он скажет.
Эмили не обманула. Когда я вышла из УБ, у дверей стоял Марк с гигантским букетом малиновых роз.
– Прости меня, Клэр, – сказал он.
Я подумала, может, стоит послушаться Эмили. Но вместо этого оттолкнула его локтем, вскочила на велосипед и уехала.
Надо радоваться, что хотя бы эти факты от 24 июня еще сидят у меня в голове – не зря я так старалась, заучивая дневниковые записи. Неужели можно обойтись без пропавших двенадцати страниц? Но есть ли другие факты между 13 и 24 июня, которые касаются Марка и на которые, после всего случившегося, мне нужно посмотреть свежим взглядом? Эти факты подтвердят мое растущее подозрение, что никакой любви в этом уравнении не было и наши отношения с самого начала держались всего лишь на плотском желании.
Я замираю.
В голове нет других фактов об этих двенадцати днях.
Я крепко зажмуриваюсь, пытаясь что-нибудь вытащить. Все равно что. Но внутри меня темно и гулко. Я встаю и как безумная хожу из угла в угол, силясь добыть хоть какие-нибудь подходящие факты. Однако бóльшая часть этого времени заполнена грызущей пустотой. У меня нет ни единой детали того, что происходило наутро после бала в Тринити, когда я в гневе умчалась от Марка. То же самое и с другими днями. Как будто их вообще не было. Их поглотил вакуум, черная дыра в моем прошлом.
Наверное, я плохо старалась – или вообще не старалась, – выучивая эти страницы, перед тем как вырезать их из дневника. Должно быть, после того вечера я провалилась в по-настоящему сильную депрессию, раз уж решилась не заучивать факты за целых двенадцать дней. Хуже того, я испортила собственный дневник. Теперь я знаю, что случится, если я перестану перечитывать записи, – я как будто стерла часть своего прошлого.
Часть моего сознания, может, даже часть моей души.
Что же я сделала с этими страницами? Я могла бросать их в камин и смотреть, как они сгорают. Однако в этом доме должны храниться и другие письменные свидетельства за период с 13 по 24 июня.
Вдалеке хлопнула дверь. В коридоре слышны шаркающие шаги. Я сую дневник обратно в сейф и снова набираю номер 8412. В ответ мигает зеленая лампочка.
Пришло время выяснить отношения с мужем. С моим завравшимся спутником жизни.
Путь к политическим вершинам усеян костями тех, кто не сумел выкрутиться. Игнорируйте этот факт, но знайте, чем вы рискуете.
Роуэн Рэдфорд. Крутись и добивайся успехаГлава восьмая Марк
Я со вздохом вваливаюсь через переднюю дверь. Факт: я описывал в романах полицейские допросы. Однако в жизни это оказалось куда неприятнее, чем все мои фантазии. После двадцати семи минут словесной грызни с боевым бульдогом мне позарез необходима кружка горячего чая.
Сильнее всего мои нервы дрожат от того, как закончилось это интервью. Вскоре после выпада Ричардсона насчет Вирджинии Вулф я оборвал разговор, сказав, что мне нужно уходить. Ричардсон проверил протокол, отпечатанный сержантом Ангусом, и вложил мне его в руки. Первый и последний абзацы заставили меня передернуться.
Свидетельские показания
УП акт 1967, п. 9; МС, акт 1980, пп. 5А (3) (а) и 5Б;
Уголовно-процессуальный кодекс 2005, п. 27.1
Протокол допроса: Марка Генри Эванса
Дата: 6 июня 2015 года
Профессия: литератор
Класс: дуо
Я женат двадцать лет. У меня нет детей. София Эйлинг подошла после моей речи в Йорке и сказала, что любит мои романы. Очевидно, она читала их много лет, и надеялась, что ее неопубликованная рукопись будет столь же успешной. Она сказала, что без ума от меня. Я сказал, что польщен. Она пригласила меня на ужин. Я отказался, потому что не принимаю приглашений от людей, с которыми встречаюсь на писательских конференциях, даже если они красивые блондинки.
[…]
Я был дома в четверг. Я почти весь день писал у себя в кабинете. Потом я разбирался с письмами. Я не покидал дома. Я разговаривал по телефону во второй половине дня с моим агентом Камиллой и руководителем моей кампании Роуэном. Вечером я заснул перед телевизором у себя в кабинете. В среду я все утро писал. Потом пообедал, и поговорил по телефону с Камиллой и Роуэном. Во второй половине дня я разобрался с письмами и прочим занутством, потом провел вечер перед телевизором.
Подпись:…………….
– Я не могу это подписать, – сказал я, пододвигая лист бумаги Ричардсону и кладя ручку на стол. – Здесь слишком много ошибок.
– Каких ошибок? – прищурился Ричардсон.
– В основном грамматических. И орфографических. «Занудство» пишется через «д». Две лишние запятые.
Густые брови Ангуса выгнулись домиками, он стал похож на оскорбленного паука. Сомневаюсь, что кто-либо когда-либо занимался критикой сержантских запятых.
– А-а, – вздохнул Ричардсон. – Можно было ожидать. Литераторы часто скатываются в педантизм.
– В то время, как полицейские пишут левой ногой.
– Вообще-то, полицейские обычно в состоянии согласовать слова в предложении. Но оставим в стороне грамматические ошибки – вы должны подписать протокол, если в нем изложена правда. Вы ведь рассказали нам правду, не так ли? – (Я молчал.) – Ох, дорогой мистер Эванс. Неужели вы нам все-таки солгали? Не в этом ли истинная причина вашего нежелания подписать документ?
Я схватил авторучку, нацарапал на протоколе свое имя и стремглав вылетел из кабинета.
Но я сегодня не единственный, кто топает по коридору. Я слышу решительные шаги в нескольких ярдах позади себя и разворачиваюсь. Появившаяся из прихожей Клэр стоит, скрестив на груди руки, и смотрит прямо на меня. Нос ее сморщен, как будто в дом прямо сейчас вошло нечто отвратительное.
– Ты с ней спал?
Не столько вопрос, сколько утверждение. Оно пронзает разделяющий нас воздух.
Я молчу. Неожиданная усталость наваливается мне на плечи. Снимаю пиджак, швыряю его на спинку кресла и ухожу на кухню. Клэр идет за мной. Не осмеливаясь посмотреть ей в глаза, я чувствую, как они прожигают мне спину.
Я щелкаю тумблером чайника и достаю чашку с верхней полки буфета.
– Ты мне лгал. – Она располагается у столешницы, перегораживая мне путь к чайным пакетикам. – Говорил, что у тебя в Лондоне работа. Твоя работа оказалась сексом.
Меня передергивает.
– У тебя разыгралось воображение. Эта София – сумасшедшая фанатка, она все придумала. Ее семнадцать лет держали в сумасшедшем доме. Даже Ричардсон сказал, что ее дневник – «бурная река полусознания».
Клэр фыркает.
– У тебя хватает наглости врать мне прямо сейчас, – объявляет она; глаза пылают красным. – Ты подлец. Человек, который спит с посторонними женщинами и красиво рассказывает всему свету про то, как мы столько лет счастливо женаты.
Я не могу придумать подходящего ответа.
– ТЫ ПОДЛЕЦ, МАРК!
Плошка для овсянки, оставленная здесь утром, летит через всю кухню. С жутким грохотом она врезается в стенной шкаф в нескольких ярдах от меня и рассыпается на дюжину осколков. Один попадает мне в ботинок и отлетает от него. Неттл подскакивает на плиточном полу, испуганно тявкает и начинает выть.
– ТЫ…
– Клэр! – Я поднимаю руки, отчаянно пытаясь ее утихомирить. Ее колотит от собственного гнева, пальцы сжаты в кулаки. – Клэр! – В моем голосе пронзительная мольба. – Пожалуйста, успокойся…
– ТЫ ПО УШИ В ДЕРЬМЕ!
Она абсолютно права. Хотя Ричардсон и отпустил меня домой, я чувствую, что этот боевой детектив не оставил решимости упрятать меня в камеру в глубине своего участка.
– И скоро провалишься еще глубже вместе со своей политической карьерой, – продолжает Клэр, вдруг понижая голос до шепота. Что лишь умножает звучащую в ее словах угрозу.
Она одаривает меня кривой улыбкой – я никогда не думал, что она умеет так улыбаться. У нее глаза убийцы. Наверно, такое лицо и должно быть у оскорбленной женщины.
– Я подаю на развод, – объявляет она.
Я вытираю глаза и заглатываю остатки холодного чая. Он оставляет на языке терпкий, даже горький вкус. Слова Клэр все еще стучат у меня в ушах. Она исчезла наверху, победоносно захлопнув за собой дверь спальни. Очень хочется броситься следом и успокоить ее. Если повезет, ее можно убедить не делать глупостей. В свете сегодняшних событий я нужен ей всяко больше, чем она мне. Но пока не поздно, надо сделать все возможное, чтобы пресса не узнала о моем недавнем визите на Парксайд.
Пресса. Что за черт.
Я забыл, что в полдень у меня пресс-конференция в Гилдхолле.
Чтоб вам всем.
Словно по сигналу, звонит телефон. Я со стоном достаю его из кармана. Я уже знаю, кто это.
– Где тебя черти носят, Марк? – Грубый голос Роуэна полон отчаяния.
– Прости, меня задержали…
– Немедленно тащи свою жопу сюда, дубина. Уже без двух минут двенадцать.
С портфелем в руках я несусь через розовомраморное фойе Гилдхолла, опаздывая на двадцать минут на собственную пресс-конференцию. Недостойный моего положения галоп через продуваемую ветрами Маркет-сквер, слава богу, прочистил мне мозги. Я приглаживаю чуб, жалея, что перед выходом не смазал его гелем. Но вообще-то, я еле успел надеть костюм.
Роуэн корчится у основания лестницы, рядом с деревянным морским коньком меланхоличного вида. Лоб сморщен от глубоких мыслей.
– Извини, Роуэн…
– Считай, тебе повезло, они там наверху еще ждут, – говорит он, злобно таращась. – Их немало. «Таймс», «Дейли телеграф» и «Индепендент». Би-би-си и Ай-ти-ви. Даже эта болонка из «Дейли мейл», которая сует в обзоры всех четырех своих бывших мужей, как говорит мой дневник. Постарайся не настроить ее против себя, если сможешь. Я не ожидал такого интереса. Но реклама плохой не бывает, и я уже раздал им копии твоего заявления.
Роуэн заставляет меня нервничать.
– Покайся за опоздание. – Он трясет у меня перед носом указательным пальцем. – Говори вежливо. Держись серьезно, но без помпы. Скажи, что ты будешь отличным парламентарием. Не обосрись. Ради бога, не обосрись.
Я смиренно киваю, и он тащит меня по ступенькам, потом по коридору, потом распахивает двери. Я леплю на лицо улыбку и шагаю вперед через обшитую деревянными панелями комнату. Роуэн топает позади. На сцене возвышаются три микрофона: на одном логотип Би-би-си, на другом – Ай-ти-ви.
– Прошу прощения за то, что заставил ждать, – говорю я самым что ни на есть извиняющимся тоном. – Роуэн дал вам текст моего заявления. Я с радостью отвечу на все вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Вся комната в поднятых руках. Я останавливаюсь на лысеющем мужчине в последнем ряду: у него безобидный вид.
– Би-би-си, – говорит он. – Как вы относитесь к успешному прохождению закона о смешанных браках, мистер Эванс?
– Рад, конечно. – Рот у меня растягивается в широкую улыбку. – Особенно после того, как я потратил столько сил на его продвижение и получил такую поддержку от поклонников моих книг. С таким же энтузиазмом я буду работать во благо Южного Кембриджшира, если меня выберут в парламент.
Пора двигаться дальше. Я указываю на женщину в роговых очках, сидящую в середине комнаты.
– Дайан Тейт, «Дейли телеграф», – говорит она. – Вчера королева подписала закон, но это не понизило градус недовольства среди моно-населения страны. Как насчет реальной стоимости этого закона? Многие по-прежнему озабочены тем, что правительство намерено собирать налоги с трудящихся моно и еще больше увеличивать доходы дуо. Вы состоите в смешанном браке, мистер Эванс. Закон для вас финансово выгоден. Не по этой ли причине вы продвигали его с пылом рекламного агента?
Комната взрывается приглушенными смешками.
– Спасибо, Дайан, – улыбаюсь я ей. – Преимущества закона долгое время обсуждались в парламенте. Напомню главный вывод: в долгосрочной перспективе закон будет способствовать росту британской экономики. Я верю, что страна выиграет от принятия закона, и поэтому поддерживаю его. Разумеется, мне выгодны налоговые льготы. Но точно так же они выгодны моей жене Клэр. Закон о смешанных браках дает преимущество как дуо, так и моно. Если закон будет применяться успешно, около двадцати тысяч граждан-моно получат возврат налогов в ближайшие пятнадцать лет.
Тейт закатывает глаза. Я набираюсь сил перед следующей атакой.
– Успешно! – Она иронически фыркает, поднимаясь на ноги. – Социальные барьеры между моно и дуо не упадут за одну ночь, как бы правительство ни старалось протащить через парламент непродуманные законы. Были ваши родители у вас на свадьбе, мистер Эванс?
Проклятье.
– Нет. – Я пожимаю плечами, решив отвечать правду. – Но мой дневник говорит, что родители Клэр там были. Отец вел ее к алтарю, и на лице его была радость. Вы правы насчет социальных барьеров, Дайан. Мы все – продукт собственных предубеждений. Эти барьеры тормозят прогресс нашего общества. Но чтобы разрушить их полностью, нам всем нужно решиться и начать эту ломку. Закон – шаг в верном направлении.
Роуэн потихоньку толкает меня в спину, подсказывая, что пора наконец переходить к следующему. Я выбираю бородача в третьем ряду, одетого в голубой свитер с высоким горлом.
– «Кембридж ивнинг ньюс», – говорит он. – Судя по вашему заявлению, вы намерены поддерживать в Южном Кембриджшире детей от смешанных браков, если победите на выборах. Чего вы хотите этим добиться?
Слава тебе, Господи, за безобидный вопрос. Пришло время для домашней заготовки, подготовленной и заученной с помощью Роуэна.
– Согласно переписи две тысячи одиннадцатого года, в Кембридже, как и в Лондоне и в Оксфорде, проживает немало смешанных пар, – говорю я. – В Кембридже, соответственно, немало детей от смешанных браков. Последние исследования подтверждают, что эти юноши и девушки, в том числе моно, чаще получают высокие оценки в школе и поступают в университеты. Смешанные браки дают удивительные и неожиданные результаты. Будучи избран, я начну кампанию по возмещению платы за школьное и университетское обучение для таких детей. Они заслуживают самой широкой помощи.
Во втором ряду вскидывает руку женщина с длинными черепаховыми серьгами. Я ей киваю.
– Мистер Эванс, – говорит она, не потрудившись представиться, – ваша жена работает?
Что за странный вопрос.
– Нет, – говорю, – не работает.
– Вы сказали, что налоговая льгота будет для нее выгодна. Но она не работает.
Господи боже. Наверное, моно. Факт: неумные, близорукие люди имеют свойство действовать мне на нервы, особенно когда цепляются к посторонним мелочам. Однако отвечать нужно корректно.
– Вы правы, – говорю я, – в настоящее время Клэр не платит налогов. Но в будущем она, вполне возможно, найдет себе дело по душе. Если так, она окажется в числе тех моно, которым будут выгодны налоговые льготы.
И хотя единственное дело, которым Клэр сейчас намерена заняться, – это дело о разводе, я полагаю, что мелкая невинная ложь еще никому не повредила. Роуэн пихает меня локтем, указывая, что нужно двигаться дальше. Он слишком хорошо умеет распознавать на слух кривые ответы.
Мне машет женщина с вишневыми губами, вокруг шеи у нее намотан шарф цвета розовой жевательной резинки. Я указываю на нее.
– «Дейли мейл», – шипит Роуэн мне в ухо. – Будь осторожен.
– В вашем обращении сказано, что вы уже двадцать лет состоите в смешанном браке, – говорит женщина, скаля зубы в широкой угрожающей улыбке. – Это очень впечатляет, мистер Эванс. В чем секрет такого успеха?
– Не злиться друг на друга одновременно. – После моих слов по комнате пробегает волна смешков. Это побуждает меня подбросить им другую заученную остроту. – Зарабатывать больше, чем Клэр может потратить.
Ответом мне становится громкий хохот. Отлично.
– Разница между моно и дуо меньше, чем люди думают, – продолжаю я, отмечая краем глаза одобрительную мину на лице Роуэна. – Мы с женой научились жить с тем, что у нас есть общего. Каждое утро мы повторяем друг другу свои супружеские клятвы и тот факт, что мы друг друга любим.
– Вы только что пели гимны деткам от смешанных браков, – настаивает женщина, все так же улыбаясь. – Но вы женаты двадцать лет, и у вас нет детей.
– Мы пытались, – отвечаю я, понурив голову для пущего эффекта. – Мой дневник говорит, что Клэр уже много лет мечтает о маленьком. Если повезет, может, когда-нибудь и случится в семье Эванс прибавление.
По комнате проносится сочувственный ропот.
– Я глубоко понимаю ту ментальную и эмоциональную боль, от которой страдают бездетные пары, – продолжаю я. – И буду всячески поддерживать дальнейшие шаги, призванные упростить процесс усыновления. Они позволят многим парам познать родительское счастье. Мне известно, что сто сорок одна пара в Южном Кембриджшире стоит в очереди на усыновление. Эти люди заслужили право стать родителями. Если меня выберут, я сделаю все, чтобы это произошло.
Роуэн может мной гордиться. Кроме всего прочего, я умудрился скрыть тот факт, что не спал со своей женой уже черт знает сколько времени (дата нашего последнего сексуального контакта от меня ускользает). Факт: Клэр никогда не осмелится признаться публично, что наша сексуальная жизнь впала в анабиоз. Правда о наших отношениях останется тайной, известной лишь нам двоим.
У правой стены добивается моего внимания мужчина в костюме и с вычурным коком на голове. С фланга, вцепившись в телевизионную камеру, его подпирает другой мужчина в пиджаке с подплечниками. Объективы направлены прямо на меня.
– Мистер Эванс, – говорит первый, – Брюс Бернард, «Крайм-бит», Ай-ти-ви. Сегодня утром в реке Кэм найден труп женщины.
Черт.
Даже осознавая, что камера этого Бернарда следит за каждым моим вздохом, я ничего не могу поделать с кровью, отливающей от лица. Так вот почему столько журналистов вынюхивает что-то сегодня в Кембридже – и на моей пресс-конференции.
– Личность женщины уже установлена, это София Алисса Эйлинг, проживавшая в Гранчестере, – говорит Бернард. – Сегодня утром вас допрашивала полиция. Можете вы объяснить почему?
Вся комната затаила дыхание. Рядом закоченел Роуэн – могу поклясться, ему тоже срочно нужен глоток воздуха. Я обязан был рассказать ему об утреннем визите Ричардсона и моих следующих мытарствах на Парксайде, но у меня просто не было времени.
Неужели София действительно жила в Гранчестере? Что она там забыла?
– Я… я… гм…
Я глотаю воздух, срочно подыскивая подходящий ответ. Почуяв запах жареного, журналисты вытягивают шеи. Словно стая жадных до свежей крови гиен приближается к своей жертве.
– Я… гм… ужаснулся, услыхав эту новость, – говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал так же. – И я понял, что мой долг… гм… помочь полиции. Мой дневник говорит, что я встречался с мисс Эйлинг два года назад на писательской конференции. Судя по ее поведению, она не совсем адекватно относилась ко мне и моим книгам. Полиция, насколько я понимаю, пытается составить ее психологический портрет. Вы ведь журналист из «Крайм-бит», Брюс. Вы наверняка усвоили, что в этом деле могут быть полезны даже самые мелкие детали. Судя по всему, полиция отнюдь не отвергает возможности самоубийства. Между прочим, мисс Эйлинг провела семнадцать лет в изоляции как психически нездоровый человек и вышла оттуда всего два года назад.
Господи боже, неужели выкрутился? Этой последней пикантной подробностью насчет Софии я, кажется, отвел угрозу. Бернард что-то строчит в блокноте, сдвинув от усердия брови. Я незаметно вздыхаю с облегчением. Роуэн, кажется, тоже чуть-чуть расслабляется. Женщина в первом ряду машет мне мобильным телефоном. Я поднимаю руку, надеясь, что ее вопрос отвлечет внимание от Софии.
– Джейн Макдональд, «Женский еженедельник». В прошлом году я брала интервью у вас и у вашей очаровательной жены.
А, да. Факт: в декабре к нам домой приходила брать интервью журналистка по имени Джейн Макдональд. Мой дневник также содержит несколько грубых ремарок по этому поводу. Как выяснилось, ее больше интересовали орхидеи Клэр, чем написанные мною книги, хоть она и утверждала, что изучает нетрадиционные источники литературного вдохновения.
– Мой дневник говорит, что Клэр – необыкновенная женщина, – произносит Макдональд. – На меня произвели огромное впечатление ее пироги и мысли о домашнем хозяйстве. Мы даже поместили в рождественском выпуске несколько фотографий вашей гостиной. С тех пор мы с Клэр иногда перезваниваемся. Мы обе любим экзотические цветы, знаете ли. Точнее сказать, мы время от времени обмениваемся эсэмэсками.
Интересно, куда ее приведет этот бессвязный бубнеж. Но журналистов полагается дослушивать до конца. Так что я лучше помолчу.
– Ваша жена прислала мне эсэмэску… – говорит она, и тон ее намекает на зловещее продолжение. – Всего минуту назад. Очень интересную.
О нет. Я знаю, что сейчас произойдет. Будь ты проклята. Почему я не прервал эту Макдональд раньше и не вызвал кого-нибудь другого? Теперь уже поздно. Комната погрузилась в нетерпеливое молчание. Журналисты подались вперед сплоченной группой, вновь почуяв запах крови. Я прячу правую руку под крышку трибуны и сжимаю пальцы в кулак в надежде остановить дрожь.
Женские козни в собственном доме.
– Она говорит, что разводится с вами, мистер Эванс.
Ярость выгравирована поперек лба Роуэна, выводящего меня из зала для конференций. Сомневаюсь, чтобы когда-то раньше видел его в таком бешенстве.
– Почему ты не сказал мне про Клэр? – спрашивает он, давясь словами. – И про эту утопленницу?
– Я не успел…
– Не успел? Ты же, мать твою, чуть все не угробил!
– Я знаю, но я честно старался все спасти, когда эта баба вдруг вытащила Клэр.
– Спасти?! – Роуэн краснеет еще сильнее. – Ты закопал себя еще глубже – зачем ты наплел, что у вас с Клэр «небольшие разногласия»? И что «скоро все наладится». На этом месте мне очень хотелось встать и захлопнуть тебе рот. Ты понимаешь, что ты наделал?
Я молчу.
– Ты продолбал все, что мог. А попутно оттяпал собственные яйца. Ты признал, что разосрался с Клэр. Из чего следует, что насчет развода она – серьезнее некуда.
Будьте вы все прокляты! Роуэн прав.
– Могу себе представить завтрашние заголовки: «Смешанный брак Марка Эванса рушится: так ли хороши эти хваленые союзы?» Твоя политическая карьера расползается, не успев начаться.
– Но я уверен, что Клэр можно убедить, она передумает…
– Долбаный идиот! – Роуэн смотрит на меня зверем. – Даже если завтра Клэр проснется вся из себя благодушная, и ежу понятно, что ваш брак налетел на риф. Ты, должно быть, разозлил ее как черт знает что, раз уж она устроила такую драму.
Я скрежещу зубами.
– Никто не станет голосовать за человека, который не в состоянии навести порядок в собственном доме.
– Но я не мог придумать ничего другого…
– Ты должен был сказать, что это не Клэр. Что для нее просто немыслимо написать такую эсэмэску. Люди время от времени получают фальшивые эсэсмэски и звонки. Эта была послана другим человеком. Человеком с дурными намерениями. С неясными мотивами. С гнусными интенциями. Ты же, блин, писатель, Марк, ради бога! Мог бы подобрать подходящий эпитет. Суть одна: кто-то хочет тебя урыть.
Доктор крутильных наук совершенно прав. Нужно было сказать что-нибудь из этой серии. Снова навалилась усталость – я замечаю в нескольких футах стул и падаю на него. Роуэн, однако, остается стоять, скрестив на груди руки.
– Первое правило политики – все отрицать, – рычит он, плюясь словами. – Особенно если видишь, что все летит к черту.
Сегодня же запишу эти слова себе в дневник.
– Прости, – говорю я, понурив голову. – У меня просто отключился мозг, когда эта тетка вытащила Клэр. Очень тяжелый день. Особенно после того, как в дом явилась полиция.
– Не напоминай мне про утопленницу. – Роуэн бросает на меня очередной испепеляющий взгляд. – Этот айтивишник чуть не довел меня до инфаркта. Допрашивают тех, кто виноват, заруби себе на носу. Но ты правильно сделал, когда сказал, что она чокнутая самоубийца. Если надо, ты нормально импровизируешь. С Клэр все хуже. Намного хуже.
– Что же нам делать?
Роуэн вздыхает:
– Не нужно быть долбаным гением, чтобы понять: сломано все. Практически все. Так что включаем режим «не сломать, что осталось». Режим «собираем вместе чертовы обломки». Режим «стираем говно с собственножопно обосранных штанов». У тебя есть две возможности.
– Ну?
– Первое. Убеди людей, что Клэр погорячилась. Что она слишком нервничала, когда посылала текст этой тетке. Что это была большая ошибка с ее стороны. Она по-прежнему тебя любит. Она считает, что ты будешь блестящим парламентарием.
Я качаю головой.
– Второе. Она должна сделать заявление для прессы – желательно в ближайшие два часа, – что не посылала никаких эсэмэсок. Учитывая, что именно Клэр вывалила тебе на голову эту кучу говна, только она может тебя отмазать.
– Но как мне ее уговорить?
Роуэн опять вздыхает и валится на соседний стул.
– Она твоя жена, не моя, – сообщает он. – Ты знаешь про нее больше фактов, чем я. Что там она любит, цветы или модные подштанники. Или чтобы ты валялся у нее в ногах. Удачи, Марк. Тебе сейчас пригодится.
Моно и дуо – сначала люди и только потом – те, кто способен помнить события одного либо двух дней.
Манифест Антидискриминационного интернационала, 2015Глава девятая Ханс
10 часов 45 минут до конца дня
Соседи Марка Эванса, должно быть, интересуются либо тем, что у них под носом, либо только собой. Либо и тем и другим. Я обошел уже четыре дома, и никто в них не видел и не слышал ничего для меня значимого. Черт побери – я зря потратил тридцать пять минут своего драгоценного времени. Все же в плотном ряду домов напротив того, где живут Эвансы, остается еще пара дверей. Я стучу в предпоследнюю – мне открывает усталая женщина с мальчиком на руках. Под глазами у нее фиолетовые мешки, блузку усеивают пятна от морковного пюре. Ребенок держит в руке огромную синюю погремушку. На вид ему около года.
– Добрый день, – говорю я, протягивая бейдж. – Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска. Могу я задать вам несколько вопросов о Марке и Клэр Эванс?
Она морщит нос.
– Что там у них? – спрашивает.
– Сначала ваше имя, мадам, если не возражаете.
– Мэри-Джейн Резерфорд. – Женщина вздрагивает оттого, что мальчик бренчит погремушкой ей в ухо.
– Дуо?
– Безусловно. Только не на целый день, инспектор. Иначе Фред сведет меня с ума. Что именно вы хотите узнать?
Значит, придется отбросить все вопросы, которые я собирался задать первоначально. Не зря в учебнике криминалистики написано, что детективы должны доверять своей интуиции и гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства.
– За что вы не любите мистера и миссис Эванс? – спрашиваю я.
У нее на лице вспыхивает удивление.
– Как… откуда вы знаете, что я…
– Это сказал ваш нос, как только я назвал их имена. Что вам в них не нравится?
Она поджимает губы. Юный Фред снова трясет погремушкой, на этот раз перед моим лицом. Треск действует мне на нервы. Не вооружайте преступников ружьями, а младенцев – гигантскими погремушками.
– Наверное, так нельзя говорить…
– Я никому не скажу.
– Конечно нельзя, но они… Я всегда думала, что Ньюнем – это город дуо. Только дуо. Даже если часть семьи состоятельна и знаменита, есть эксклюзивные районы, как наш, их нельзя засорять людьми… определенного класса. Понимаете, к чему я?
– Безусловно. Но Клэр Эванс не нравится вам и как человек?
Она морщится.
– Почему?
– Она всегда так завистливо на меня смотрит, когда я прохожу мимо с Фредом. Этот факт очень часто всплывает у меня в дневнике. Наверное, потому, что она сама давно мечтает о ребенке. Но должна же она понимать…
Женщина умолкает с хмурым видом.
– Что должна понимать миссис Эванс?
– Разве вы не слышали утренние новости? – спрашивает она. – У дуо-моно-пар есть один шанс из четырех зачать ребенка-моно. Двадцать пять процентов, подумать только. Это весьма большой процент, по моему скромному мнению.
– Не понимаю, что в этом плохого.
– В этом мире более чем достаточно глупых моно, инспектор. Большинство убийств совершают моно. Разве это не факт? Моно и без того создают нам достаточно проблем. Дуо не должны раздавать направо и налево свои хромосомы. Вы со мной не согласны?
– Не все моно глупы…
Она щурит глаза, ноздри раздуваются.
Проклятье. Остаток взрывоопасного ответа нужно проглотить, иначе она выставит меня из дома.
– …но я не сомневаюсь, что очень многие разделяют ваши чувства, – добавляю я, очень стараясь, чтобы голос звучал ровно.
Факт: такие дуо, как эта Резерфорд, попадаются мне все время. Я не имею права выходить из себя, хотя заорать очень хочется.
Огромная погремушка несется к моей голове. Чтобы уклониться от снаряда, я выворачиваю шею и делаю это как раз вовремя. Он врезается в землю с пронзительным треском, что вызывает у Фреда громкий вопль восторга.
Миссис Резерфорд вздыхает.
– Простите, инспектор, – говорит она. – Фред просто шалит. Вы хотите спросить что-то еще?
– Нет, спасибо. – Я качаю головой. – Я уже все понял. Просто хотел узнать, от чего болит голова у людей на этой улице.
Пришло время последней двери, за которой живет кудрявая соседка в пурпурном платье, выходившая сегодня утром на крыльцо потаращиться на меня и на Клэр. Я стучу начищенным медным кольцом – женщина появляется через секунду, темные глаза горят огнем. Сейчас на ней цветастое вязаное платье, напоминающее восточный халат, в ушах большие кольца. Наманикюренные ногти выкрашены в пурпурный и зеленый цвета, в тон одежде, на каждом блестит фальшивый хрусталик.
– Здравствуйте, – говорю я, протягивая удостоверительный бейдж. – Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска.
– Я видела, как вы сегодня утром выводили Марка из дому, – говорит она, слова выкатываются с носовым призвуком. – Он что-то не так сделал? Что-то плохое?
– Я не имею права отвечать, – говорю я, отчего ее лицо заливается недовольством. – Ваше имя, мадам?
– Кармен Миранда Скотт-Томас.
– Замечательное имя.
– Моя мама живет в Бразилии, она назвала меня в честь знаменитой самба-певицы. Но мой муж – англичанин.
– Вы дуо?
– Да.
– Могу я задать вам несколько вопросов о мистере и миссис Эванс?
– Конечно, – говорит она. – Входите.
Я захожу в гостиную. В ноздри ударяет мощная струя запаха сандалового дерева и пачули. В отличие от жилища Марты Браун, эта комната – сплошной плюш и бархат. В противоположной стене – балконные двери, ветер надувает пузырем расшитые бисером пурпурные шторы. Миссис Скотт-Томас указывает мне на мягкий диван с болотного цвета подушками. Я качаю головой, предпочитая стоять.
– Замечали ли вы что-нибудь необычное, – спрашиваю я, – вчера или позавчера? Кто-нибудь к ним приходил?
Миссис Скотт-Томас морщит лоб.
– Нет, – говорит она, – не думаю. Но опять-таки мне отсюда видна только их парадная дверь. Заднюю я не вижу.
– Как насчет этой женщины? – Я протягиваю ей цветную фотокопию водительского удостоверения Софии. – Вы ее когда-нибудь видели?
Миссис Скотт-Томас с большим интересом изучает Софиино лицо. Но потом снова качает головой:
– Нет.
Нужно менять направление расспросов – мелкие отклонения от нормы тоже важны.
– Тогда скажите: может, что-то, наоборот, не происходило – из того, что обычно происходит?
У нее загораются глаза.
– Кажется, Марк вчера не выходил из дому. Но я могла просто не заметить.
– Обычно он не проводит целый день дома?
– Сейчас проверю. – Она идет к лежащей на диване сумке и достает оттуда дневник. – Ах да… дневник говорит, что каждый вторник и каждую пятницу Марк выходит по утрам на долгую пробежку. До Уотербича и обратно. Я как-то спросила зачем – зачем ему нужно дважды в неделю утрамбовывать асфальт? Он сказал, писателям надо двигаться, чтобы идеи тоже двигались у них в голове. Здорово, правда? Наверное, поэтому я и записала.
Действительно интересно. Если пробежки по пятницам так прочно вписаны в еженедельное расписание Марка, то удержать его дома должно было что-то очень неожиданное. Он сказал, что не хотел оставлять жену. Но могло быть и другое. То, о чем он не сказал.
– Что-нибудь еще не происходило, хотя должно было произойти?
– Два дня назад тут проезжал «фиат». А вчера его не было.
– Старый черный «фиат»?
Она кивает, на лице – оттенок удивления.
– В какое время?
– Ранним вечером. Направлялся в ту сторону. – Она указывает на западный край Гранчестерских лугов, на ту площадку, от которой начинается тропа в Гранчестер.
– Вы видели, кто был в машине?
– Женщина, это точно. Кажется, блондинка. Лицо не рассмотрела: стекла слишком темные.
– Она часто здесь катается?
– О да. – Миссис Скотт-Томас энергично кивает. – Обычно притормаживает перед их домом, потом опять разгоняется. Странно, да? Но это точно факт. Ой, смотрите, вон опять Марк…
Она показывает на окно. Марк Эванс подъезжает к своему особняку в пыльном черном «ягуаре». Выпрыгнув из машины, он долго и подозрительно смотрит на моего шофера и патрульную машину, припаркованную всего в нескольких ярдах от его дома. Хмуро оглядывается по сторонам, потом делает несколько шагов и распахивает заднюю дверцу. У меня округляются глаза при виде того, что он достает с сиденья, – гигантского букета бордовых роз. Наверное, не меньше сотни.
– Боже мой, инспектор! – пораженно выдыхает миссис Скотт-Томас; глаза у нее становятся круглыми, как хрустальные тарелки на стене. – Я в жизни не видала столько роз.
– Согласен.
– Марк, наверное, поругался с женой. Всерьез поругался. Серьезнее некуда.
– Откуда вы знаете?
– Чем гуще тень, тем глубже задница. Чем больше букет, тем выше куча дерьма. Мне приходят в голову два случайных факта. Марк любит красивые жесты, как моя мать. Театральные. Вот бы моему мужу хоть немножко такого. Никогда не дарит мне цветов.
– Извините, – говорю я, направляясь к дверям. – Мне нужно срочно поговорить с мистером Эвансом.
На свете есть три типа мужчин: распущенные ублюдки, утонченные хамы и карикатурные мерзавцы. Однажды я имела несчастье встретить того, в ком соединились все трое.
Дневник Софии ЭйлингГлава десятая Марк
Никогда не пытайтесь победить собственную входную дверь, если у вас в руках сотня роз (притом что я неплохо придумал, решив по пути из Гилдхолла опустошить полки единственной цветочной лавки во всем Ньюнеме). Ключ не желает поворачиваться, а цветы грозят выпасть из рук. Представляю, как они сейчас ударятся оземь и взорвутся вулканом летучих бутонов и обезглавленных стеблей. Вдобавок ко всему у меня кружится голова от их приторно-сладкого запаха.
– Добрый день, мистер Эванс, – произносит знакомый голос. – Сколько у вас цветов! Очень красивые.
Ключ с лязгом падает на землю. Я поворачиваюсь: ко мне шагает мой заклятый враг со слегка изумленным выражением на лице. В груди поднимается волна страха. Что здесь делает Ричардсон? Не мог же он так быстро выяснить, что случилось с… Он пришел меня арестовать?
Не дрожать. Ни в коем случае.
– Что… что вы здесь делаете?
– Всего лишь хотел задать вам еще один вопрос насчет романа «На пороге смерти», – говорит он.
Детектив старательно доводит меня до белого каления. Это из-за него мне сейчас оттягивает руки символ удушающего отчаяния – сотня роз, чьи разбухшие бутоны олицетворяют собой все, что за сегодняшний день расцвело пышным цветом. Ричардсону я обязан неизбежным крахом, во-первых, моего брака, а во-вторых, вожделенной политической карьеры – ведь именно ему хватило такта отпустить замечание насчет Софии в присутствии моей жены. Этот человек нагоняет на меня страх и раздражает одновременно.
Возможно, намеренно.
– Я уже рассказал вам все, что знаю о Софии. – Я сжимаю зубы так сильно, что слова выходят со свистом.
– Ну, – он пожимает плечами, – я не собирался спрашивать вас о мисс Эйлинг. Я только хотел узнать, зачем в двухтысячном году Гуннар и Сигрид отправились в свой медовый месяц аж на Шпицберген, если им действительно хотелось посмотреть на северное сияние.
– А что здесь не так?
– Шпицберген слишком далеко на севере. Не самое лучшее место в мире, чтобы наблюдать эти красоты на пике солнечного цикла. У них было гораздо больше шансов увидеть северное сияние в Вальберге, родном городе Гуннара, чем на Шпицбергене.
Проклятье. Нужно срочно что-то придумать.
– Они предполагали, что смогут увидеть там северное сияние. Я никогда не говорил, что они его видели.
Детектив достает из портфеля потрепанный экземпляр романа и быстро его перелистывает.
– Но вот же, в книге написано: «Небо ожило, и Гуннар заключил ее в объятия». Шестнадцатая страница.
– Это просто… гм… фигура речи.
– Тогда почему в следующих строчках: «Темно-изумрудные знамена мерцали над их головами, рассекая небеса золотисто-опаловыми лезвиями, прежде чем исчезнуть в танце, словно вздымающиеся занавеси зеленого огня»?
На лбу у меня выступают бисерины пота. И вовсе не оттого, что приходится держать на весу сотню тяжелых роз. Нужно думать хорошо и быстро, иначе детектив возьмет надо мной верх.
У меня есть четыре возможности:
а) сказать, что невозможно помнить все, что писал раньше. Поэтому я всегда возвращаюсь на страницу назад, когда сочиняю эти чертовы романы;
б) признать, что не знаю ничего о Шпицбергене, в том числе о шансах увидеть там северное сияние;
в) сказать, это был поэтический прием;
г) все вышеперечисленное.
Но тут мне приходит в голову блестящая идея.
– До сих пор только моно подвергали мои книги столь скрупулезному построчному анализу. Вы ведь не можете быть моно, инспектор?
Он вздрагивает. Мне показалось или и вправду его глаза прорезало чем-то темным? Но он тут же резко расправляет плечи.
– Если вы правы и я действительно моно, мистер Эванс, то я, безусловно, не в состоянии достаточно хорошо выполнять свою работу. Что недопустимо, поскольку я рассчитываю поймать человека, убившего Софию Эйлинг, до конца сегодняшнего дня.
Я сглатываю.
– Всего доброго, мистер Эванс. Я непременно буду держать вас в курсе того, как идет следствие.
– Очень хорошо, инспектор. – Слова выходят со скрипом.
– Надеюсь, кстати, что вы как-нибудь доберетесь до Уотербича. Жаль, что вы не смогли этого сделать вчера утром. Иногда дела удерживают нас дома, не правда ли?
Пот уже льется у меня по лбу – детектив умудрился достать меня до печенок. Как, черт возьми, он раскопал, что вчера утром я пропустил обычную пробежку?
Я делаю глубокий прерывистый вдох. Я не поддамся панике. Несмотря на то, что страх уже стучится в заднюю дверь моего сознания и умоляет впустить. Нужно сосредоточиться на текущей задаче. Сделать то, на чем настаивал Роуэн. Спасти наш брак, пока это еще не поздно. Не позволить моей жене уничтожить себя и нас обоих.
Клэр, наверное, в спальне – судя по тому, что я не нахожу ее нигде в доме. Я подхожу к двери, шатаясь и сооружая на лице подходящую покаянную мину. Розы по-прежнему оттягивают руки, наполняя ноздри приторными миазмами.
– Клэр?
Она не отзывается.
– Пожалуйста, Клэр, прости меня.
Нет ответа.
– Пожалуйста, скажи что-нибудь. – Я решаюсь на умоляющий тон. – Пожалуйста, давай начнем все сначала.
Я не слышу ничего. Даже легчайшего приглушенного дыхания или шороха. Может, ее там нет.
Я поворачиваю дверную ручку. Та сразу поддается.
Комната погружена в темноту. Шторы все так же опущены, хоть их и разделяет тонкий просвет. Треугольный осколок послеполуденного света безнадежным штрихом протянулся по полу. Постель не застлана. Одеяло громоздится сбоку большой неопрятной кучей.
Моей жены здесь нет.
Я подхожу к окну и раздвигаю шторы, потом распахиваю дверь гардеробной, удостоверяясь, что там ее тоже нет.
В мозгу один за другим вспыхивают жуткие сценарии. Пока я в беспомощном молчании стою у растерзанной супружеской постели с вонючими розами в руках, Клэр пьет кофе с журналисткой из «Дейли мейл» (той, у которой четыре бывших мужа). Сердечный тет-а-тет двух обиженных женщин, результатом которого станет разоблачительный материал о ночных похождениях Марка Генри Эванса. Крупнейший за год тираж с моей взъерошенной дикоглазой физиономией во всю первую полосу. Или другой, столь же ужасный сценарий, когда Клэр вершит суд на собственной пресс-конференции, заявляя, что подготовка к разводу идет полным ходом и что она не намерена больше иметь дел с загулявшим мужем. Особенно после того, как он спал с женщиной, чье тело только что выловили из Кэма.
Я обязан найти свою жену.
Я достаю мобильный телефон и набираю ее номер.
Ничего. Ее телефон переключен на автоответчик:
– Вы звоните Клэр Эванс…
Я прерываю звонок.
Куда, черт возьми, она могла подеваться?
Нужно проверить все возможности. Вычислить местоположение моей жены, пока это еще не поздно. Вымолить у нее прощение до того, как два бедствия, с разводом и трупом, выйдут из-под контроля.
Эмили Уэйд. Ну конечно. Моя жена изливает горе лучшей подруге. Факт: Эмили, бывшая официантка из «Универ-блюза», живет в муниципальной квартире где-то на Грейндж-роуд. Три недели назад я изумлялся у себя в дневнике тому, что Эмили унесла с собой в пакете семь эклеров, после того как Клэр привезла ее к нам на чай.
Я снова достаю телефон и ищу номер Эмили. Но ее нет в списке контактов.
Я готов завыть.
Но еще не все потеряно. Ее номер – или адрес – может храниться у меня в компьютере. Я мог его куда-нибудь впечатать. Оставив розы на трюмо, я выскакиваю из спальни, лечу вниз по лестнице, прочь из дома через дверь в сад. Ветер за это время превратился в вой и визг, от которых болят уши.
Я добегаю до кабинета. Дверь приоткрыта.
Черт.
Готов поклясться, что захлопнул ее сегодня утром, когда Клэр увела меня отсюда.
Могла полиция устроить в мое отсутствие обыск? Как-то же Ричардсон пронюхал про Гранчестерские луга. Но ему всяко понадобился бы ордер. Значит, Клэр. Она точно знает, где лежат запасные ключи от всех дверей в доме, в том числе и ключ от кабинета.
Я толкаю дверь. На экране ноутбука крутится заставка с северным сиянием. Проклятье. Когда Клэр утром постучала в дверь, я забыл выключить компьютер. Я нажимаю несколько кнопок, проверяя, не рылась ли она в моих файлах или в почте. Но похоже, что нет. Факт: мои письма, как и айдай, блокируются после двух минут неактивности. Письменный стол тоже, кажется, никто не трогал. По крайней мере, бумаги, папки и другая канцелярия в том же виде, как я оставил.
Однако интуиция подсказывает мне, что Клэр искала что-то другое. Я оглядываю кабинет. Вроде бы ничего необычного. Взгляд останавливается на встроенных книжных полках у противоположной стены.
Проклятье.
Я всегда тщательно выравниваю бумажные папки – равно как и корешки книг – на каждой полке. Беспорядок действует мне на нервы. (Ричардсон, должно быть, страдает похожей формой ОКР[6], если судить по безукоризненному порядку у него в кабинете.) Одна из папок в самом нижнем ряду слегка выступает. Кто-то достал ее и, особо не задумываясь, засунул обратно.
Мне не нужно проверять наклейку, я и так знаю, что внутри. Факт: часть материалов из этой папки преследует меня вот уже двадцать лет. Поэтому я держу ее на самой нижней полке – там они почти не попадаются на глаза и не лезут в голову.
Я достаю ее и заглядываю внутрь. Папка пуста. Из нее вынули все бумаги.
Чертов ад. Кажется, мне конец.
Как и предрекал Роуэн.
– Мозг, с которым ты отправляешься спать, всегда не тот, что будит тебя наутро, – проговорил Расмус, со значением глядя на Гуннара.
Гуннар чуть не застонал. Его лучший друг имел привычку сообщать банальности.
Марк Генри Эванс. На пороге смертиГлава одиннадцатая София
11 ноября 2013 г.
Сил нет.
Голова раскалывается.
От этих дурацких частных расследований куда меньше толку, чем все думают. Две недели слежки оказались сплошным мучением. Особенно если часами сидеть как последняя дура за рулем, который еле поворачивается. В раздолбанном «фиате» с хитрожопым обогревателем. Надо было покупать «БМВ». Но блестящий «бумер» привлечет слишком много внимания. Мне нужен невзрачный наблюдательный пункт, из которого я могу незаметно шпионить.
В жопу «фиат».
Мне осточертело зевать и вертеть большими пальцами. Красить ногти, чтобы убить время. Вглядываться сквозь заиндевевшие стекла. Ждать, когда кто-нибудь выйдет из того особняка.
Вдобавок я так ничего о ней и не узнала. Кроме того, что она по утрам выгуливает собаку. И что ездит по средам в Линтон, в Кембриджскую цветоводческую школу – очевидно, затем, чтобы в компании таких же занудных домохозяек втыкать в горшки цветочки. И что навещает кого-то в муниципальной квартире на Грейндж-роуд. И что странно одевается. Отвратительно, блин. Разгуливает целыми днями в мешковатых рубашках и таких же штанах цвета хаки. Как будто ей в два раза больше лет, чем на самом деле.
За деньги можно купить многое, но не вкус.
Неудивительно, что ее муж кидается на других женщин.
И на этом более-менее все – вся ее жизнь. Убожество.
Забавно, как за полмесяца может поменяться настрой. Две недели назад я считала, что правильно сделала, переехав в Гранчестер. Удобнее будет следить за важными для меня людьми.
Однако поражает, как мало узнаешь о человеке. Результатом онлайн-поисков стало потрясающее откровение о том, что она моно и домохозяйка. В Сети есть несколько ее фотографий. На них она снята вместе с мужем на книжных презентациях и благотворительных базарах. Эти мероприятия даже близко не положены ей по статусу. Замотана в плохо сидящее тряпье. Всегда или в отдалении, или прячется за мужнину спину. Страдальческое выражение лица, выпученные глаза. Похожа на испуганную лань, пойманную в лучи фар. Но что полезного можно выковырять из фотографий женщины на разных приемах, одетой дорого, но безвкусно. Кроме факта, что у нее есть муж, который платит за эти долбаные шмотки?
Тяжело искать грязь под стерильной оболочкой. Но я буду копать дальше. Грязь найдется.
Никто не без греха.
В каждом свое дерьмо.
И в нем тоже. И в его замшелой жене-моно, у которой мозгов меньше, чем у ее золотистого ретривера.
Грязь найдется.
Не отклоняться от цели. Продолжать начатое. Разобраться с демонами прошлого. С призраками, которых я однажды попыталась забыть, но так и не смогла. Встретиться с ними лицом к лицу. Найти и придушить.
Нужно сосредоточиться на позитиве, как нас учили в Сент-Огастине. Итак, у меня есть следующее.
Туфли. Самые шикарные шпильки, на которых еще можно ковылять. Чем выше, тем смешнее. (Не знаю, кто изобрел для женщин эти шестидюймовые каблучищи, но надеюсь, что он – или это была она? – теперь на небесах на почетном месте.)
Роскошное белье. Шелковые кружевные комбинации. Чем больше декаданса, тем лучше. Так отзываются многолетние блуждания по коридорам в простой белой рубахе и белых штанах на резинке. На заднице – толстые хлопковые трусы. Такие, как носят бабушки. На сиськах – строгий лифчик без бретелей. Никаких металлических косточек, чтобы пациентки друг дружку не покололи. На ногах дешевые носки и тонкие бумажные шлепанцы. Никаких ремней и шнурков, чтобы не на чем было повеситься.
Чужие секреты. Я раскрываю их медленно, но уверенно. Досье становится все толще.
Секреты есть у всех. Два сорта секретов, если точнее. Первые прячут от других, вторые – от себя. Помощник в этом деле, разумеется, жалкая, дефективная людская память.
Говорят, в стране слепых одноглазый – король. А это значит, что в мире несчастных беспамятных людей у женщины, которая помнит, есть шанс стать королевой.
Я заставлю Марка Генри Эванса раскрыть свои секреты.
Жестоко.
29 ноября 2013 г.
В воскресенье опять был «Кандински». В фойе – сплошное Рождество, включая елку, увешанную блестящими шарами. Портье протянул мне ключи от номера 261. Сказал, что мистер Адамс еще не приезжал. Повернув ручку, убедилась, что так и есть. В номере никого. Подошла к окну, поглядела вниз на тротуар и на мерцающие фонари. Вокруг дальних столбов клубится туман. Точно бесплотный призрак из прошлого. Вернулся, чтобы поселиться у меня в душе.
Я вдруг почувствовала себя одинокой. Мне предстояла долгая бурная ночь. И все равно я чувствовала одиночество.
Секс – это всего лишь скрещение тел. Обмен жидкостями. Отдушина для животных желаний.
Инструмент шантажа.
Конечно, только после того, как я соберу достаточно инструментов, чтобы его свалить. Здания не сносят молотком и зубилом. Для этого нужен хороший бульдозер. Большая, красивая чугунная баба. И побольше динамита, мать вашу.
Я думала о том, чтобы его убить. Погасить свет в его глазах. О да. Когда только вышла из Сент-Огастина. Я даже подыскивала подходящий способ. Размозжить ему голову ледорубом, в стиле Шэрон Стоун. Набросить ему на шею петлю из стрингов. Смотреть, как он задыхается. Стукнуть по голове кувалдой. Слушать, как замечательно трещит череп. Разодрать ему щеки стальными набойками от «Кристиан Лубутен». Наблюдать, как алые капли крови собираются в лужу и как его жизнь выходит из них пузырями.
Я смогла бы даже уйти незамеченной. Детективы сбились бы с ног, складывая вместе первоклассные детали моего злодеяния, особенно через пару дней, когда выяснится, что у них нет ничего, кроме скудных фактов в собственных дневниках. Потому что никогда в жизни они не смогут записать все. А моя жертва будет слишком далеко, чтобы объяснить, что с ней случилось.
Но месть лучше разбивать на этапы.
Боль лучше отмерять дозами.
Долгий тюремный срок – вот чего он заслуживает. Затяжное, изматывающее мозги заключение. После того, как потеряет все, включая свою убогую жену. Медленное неотвратимое гниение, которое было бы уготовано мне в Сент-Огастине, если бы Мариска не открыла мне глаза. И если бы потом мне не хватило ума выбраться из этого чистилища.
Но как бы то ни было, в этот краткий миг я чувствовала себя одинокой. Окно, номер 261, «Кандински», воскресенье.
Я ничего не могла с собой поделать.
И не знала почему. Возможно, пришло понимание, что несколько дней назад мне исполнилось сорок три. Папы и бедной мамы больше нет. Мачехе Эгги насрать на мой день рождения с большой колокольни. И нет, я не могу сказать мужчине, с которым трахаюсь вот уже два месяца, что мне стукнуло сорок три года.
Тот день я отметила, залив в себя полбутылки водки. В компании рыжего кота Руфуса.
Даже кот – и тот чужой.
Сорок три. В этом возрасте пора думать о том, чего ты не смог достичь в жизни. В этом возрасте малейшую рану, даже подконтрольный разрез скальпелем приходится залечивать очень долго. В этом возрасте легко догадаться, что проторчать семнадцать лет в психиатрической лечебнице – не лучший способ потратить часть своей взрослой жизни. В этом возрасте понимаешь, что ни один из этих семнадцати ты не получишь обратно.
В этом месте я громко выругалась. На всю свою кривую жизнь. На всю ее очевидную мудацкую несправедливость.
Но сразу после этого я стиснула зубы. Решила, что хватит себя жалеть.
Потому что одиночество – для слизняков. А жалость к себе – для идиотов.
Несправедливая жизнь ударила меня по лицу, потом под дых. И тем не менее хватит распускать нюни.
Нужно радоваться и брать удовольствия, которые мне даны.
С этой самой минуты.
Звук открывающейся двери отвлек меня от этих мыслей. Он вошел с обычным игривым желанием на лице. В руке – красиво обернутый и перевязанный лентой пакет.
– Подарок к Рождеству, немного заранее, – сказал он, со смешком протягивая его мне.
Я развернула коробку. Лифчик с трусиками от «Ажан провокатер» – вот что там оказалось. 36–26–37 (после стольких часов, потраченных на изучение моих форм, он не ошибся с размером). Алое кружево, изящное, как филигрань. Черные резинки до бедер и подвязки.
Ну конечно. Как я не догадалась, что он тащится от подвязок.
Жене он дарит розы. Неделю назад я видела, как он исчезает в дверях своего ньюнемского особняка с внушительным букетом в руках. Половина – розовые. Остальные белые. Наверное, это что-то значит для его жены. А любовнице он дарит подвязки.
Развратные провокаторские подвязки.
Марк Генри Эванс ведется на затасканное клише. Неудивительно, что такие же клише переполняют его романы.
– Поиграй в модель, дорогая, прошу тебя.
В этом месте до меня дошло, что Марк Генри Эванс тоже играет в модели, но по-своему. В его романах полно живых мерзавцев. Даже герои у него способны на предательство. Наверняка он срисовывает их с самого себя.
Я согласилась, конечно. Это сработало. Через секунду он был на мне, колыхаясь. Потея, как свинья. Перевернул меня. Забавно, что некоторые мужчины трахаются по-собачьи. Через несколько минут он кончил. Наелся. Рухнул рядом и засопел в подушку. Посткоитальное блаженство выгравировано у него на лице.
Я дотянулась до валявшегося на тумбочке бумажника. Девять хрустящих двадцатифунтовых банкнот, пачка кредитных карточек и полоска бумаги со словами «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ И МОЙ».
Я скопировала текст (никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем) и принялась изучать мужской профиль в тусклом свете лампы. Я могла бы протянуть руки и задушить его. Или скрутить из чулок и бретелек неумолимую петлю. Или перерезать ему горло перочинным ножом.
Терпение.
Терпение, София. Терпение – добродетель святых.
И грешников.
И тогда я встала, подошла к противоположной стене и выключила спрятанную в углу камеру размером с булавочную головку.
Детектив обязан добраться до правды в человеке, как бы эту правду ни заслоняли ложные факты.
Учебник криминологии, том IV («Оксфорд юниверсити пресс», 1987)Глава двенадцатая Ханс
10 часов до конца дня
Она ненормальная. Совсем бешеная. И никакого понятия о том, как работают толковые детективы. Но странным образом ее дневник убеждает. Непостижимый сарказм в паре с хорошей дозой безумия заставил бы переворачивать страницы и куда более стойкого инспектора. Я склоняюсь к тому, чтобы читать дальше, хотя дневник и без того отобрал у меня двадцать минут драгоценного времени.
Но сначала мне нужен кофе. Голова криком кричит, требуя свежей кофеиновой инъекции. Я встаю с кресла, скривившись от того, как впиваются в ноги иголки с булавками. И тут влетает Тоби с кипой бумаг.
– Ханс, – говорит он, – я нашел ее банковский счет в «Барклайсе»…
– Подожди, я попробую угадать. Там полно денег.
– Она получает четыре тысячи сто двадцать девять фунтов и двадцать три пенса в месяц от трастового фонда, которым управляет Швейцарская служба по делам наследования, – говорит Тоби, водя пальцем по верхнему листу. – Переводы приходят с первого апреля две тысячи тринадцатого года. Последний был первого июня две тысячи пятнадцатого, пять дней назад.
– Кто плательщик?
– Я звонил швейцарцам, хотел узнать. Они отказываются сотрудничать. Говорят, что серьезно относятся к финансовым тайнам своих клиентов.
Я рычу. Черт бы побрал упрямых швейцарцев. Достаю дневник и впечатываю «Швейцария + контакт», потом, прищурившись, смотрю на результат.
– Чтобы разговаривать со швейцарцами, нужны швейцарцы, – поясняю. – Я это прочно усвоил. Позвони Генриху Хайнцу, Федеральное управление Швейцарии. Я когда-то ему помогал. Он мой должник.
– Ага, сделаю, – кивает Тоби. – Еще я говорил с Эдвардом Перри, хозяином квартиры Эйлинг. Она платила тысячу семьсот девяносто пять фунтов ежемесячно. Коттедж тринадцать месяцев стоял пустым, пока в октябре две тысячи тринадцатого она не позвонила Перри и не сказала, что хочет переехать на следующий день. Идеальный съемщик, он говорит. Вообще никаких проблем.
Я наговариваю обе суммы вместе с датой на свой диктофон и снова обращаюсь к Тоби:
– Сент-Огастин.
– А, да. Действительно, есть такая частная лечебница – Монастырская больница Сент-Огастин, на Внешних Гебридах. Занимает пять акров на острове Хеллисей. Толку от них как от швейцарцев. Отказываются отвечать, лечилась ли у них Эйлинг.
Он копается в бумагах, которые еще держит в руках, и зачитывает вслух с одного из листов:
– У них на веб-сайте сказано: «Мы предоставляем конфиденциальную стационарную медицинскую помощь самого высокого качества женщинам с психическими расстройствами. Наши эксклюзивные пятизвездочные жилые помещения рассчитаны на 25 пациенток».
Он протягивает мне фотографию. Я всматриваюсь: на снимке – внушительное бетонное здание в обрамлении шишковатых кустов и чахлых деревьев. Местность вокруг уныла и открыта всем ветрам. Горизонт затеняет неприступный серый океан, вода пробита белыми гребнями.
– Секретность покупается за деньги, – вздыхаю я. – Попробуй сунуться к ним еще раз.
Я выхожу из кабинета в надежде добраться до кофе и тут же натыкаюсь на засаду, устроенную Фионой Эллертон из компьютерной службы. Сегодня, отмечаю я, ее украшают стильные очки в толстой оправе и обтягивающие брюки с леопардовым принтом.
– Питер сумел хакнуть флешку Эйлинг, – говорит она; на лице – возбужденные морщинки (как вчера утром, когда мы случайно столкнулись у кофейного автомата). Хотя причиной возбуждения вполне может быть сама Софиина флешка. – Провозился больше двадцати минут, подбирая пароль, – продолжает Фиона. – Видимо, там была действительно сложная комбинация букв и цифр. Но под конец все сошлось.
– Что на флешке?
– Давай ты спустишься и посмотришь сам.
Кофе зовет, но перспектива проследовать за Фионой в ее логово выглядит в два раза притягательнее. Она ведет меня по двум лестничным пролетам в подвал, и обтягивающие брюки морщатся на ягодицах с каждым ее шагом. Составной запах потных носков и кукурузных чипсов «Монстр Мунк» с добавками сыра и лука приветствует мои ноздри, едва мы входим в ее офис. Повсюду большие экраны мигают под жестким флуоресцентным светом. В углу комнаты над компьютерным терминалом склонились два юных Фиониных помощника. Оба с раскрытыми ртами таращатся на светящийся экран. Один трясет головой, губы складываются возбужденным кольцом. Другой, простоватого вида юнец с трехдневной щетиной на подбородке, пучит глаза так, что они, кажется, вот-вот выскочат из-под век.
– Питер, – говорит Фиона, – покажи, пожалуйста, Хансу видео. Скажем, за двадцать четвертое ноября тринадцатого года. Оно яснее всех.
Кажется, я знаю, что сейчас будет.
В ответ юнец фыркает. Затем находит файл, нажимает кнопку и тянется за чипсами.
На экране появляется гигантская кровать. Белые простыни, одеяла и подушки девственной чистоты. В левой части экрана возникает мужчина с портфелем в руке. Одет в темный костюм и стального цвета галстук. Левую руку занимает перевязанный лентой пакет. Мужчина ставит портфель на пол рядом с кроватью и выходит из поля зрения камеры.
– Вот, заглянул по пути в «Хэрродс», – говорит мужской голос; он мне знаком: всего пару часов назад я слышал эти же самые зажатые модуляции. – Подарок к Рождеству, немного заранее.
Вслед за звуком рвущейся бумаги раздается короткий радостный возглас.
– Изумительно! – говорит женщина хрипло и с придыханием. И все же в голосе пробивается оттенок циничного удивления.
– Алый – ведь твой цвет, правда?
– Ох, ты меня балуешь, малыш, – говорит она; голос превращается в сладкое журчание, но я различаю в его глубине притворную нотку. – Обожаю «Ажан провокатер», особенно если хорошо сидит.
– Поиграй в модель, дорогая, прошу тебя.
Женщина возникает на экране и проходит вдоль кровати спиной к камере. На ней халат кимоно, пергидрольные волосы скручены в пучок. В руках коробка, из которой свешивается веревочка красного кружева. Вскоре женщина опять исчезает из поля зрения камеры. Несколько секунд спустя отделенная от тела рука бросает угольно-черный бумажник на тумбочку, а серый галстук – на кровать. Ткань вытягивается на простынях, как длинная рана.
Мужчина снова попадает в объектив. Пиджака на нем нет, две верхние пуговицы на рубашке расстегнуты. Он шагает к стоящему рядом с кроватью холодильнику и достает оттуда бутылку шампанского, украшенную золотой фольгой. Потом придвигается к камере и снова исчезает из виду. Через несколько секунд раздается хлопок пробки и следом – бульканье жидкости.
На экран возвращается женщина минус кимоно. Тело теперь упаковано в прозрачный алый лифчик и символические трусики. Бедра охвачены черными подвязками, чулки держатся на резинках.
Наконец-то я вижу ее лицо. По крайней мере, бо́льшую часть. Верхняя половина закрыта маской из черного кружева. Открытая нижняя выглядит знакомой, хоть кое-что с тех пор изменилось. Подбородок, который я видел в Райском заповеднике, был мертвенно-белым, здесь же, на экране Питера, он пылает знойной решимостью. Лицо на записи кажется более угловатым – она немного поправилась с тех пор, как снималось видео. И если сегодня утром ее губы перекашивала страшная гримаса смерти, то сейчас на них играет опасная многообещающая улыбка.
А еще они покрыты убийственно красной помадой.
– Ты выглядишь ошеломительно, – говорит мужской голос.
Женщина не отвечает. Вместо этого она шествует к кровати и располагается точно в центре экрана. Усаживается на простыни и наматывает развязанный галстук себе на шею. Поднимает руки и распускает пучок на голове – секундой позже белокурые волосы рассыпаются по плечам. Остановив взгляд на какой-то точке за камерой, женщина кокетливым взмахом отправляет волосы за спину. Просовывает между зубов язык и облизывает большой палец – весь, до самого основания.
– Маленькая шалунья, – говорит мужчина, когда она засовывает палец себе в рот. Голос напряжен от желания.
Женщина по-прежнему молчит. Вместо ответа она раздвигает ноги и опускает свой тщательно облизанный палец в ало-кружевную расщелину.
– Легко догадаться, что произойдет дальше, – говорит Фиона хрипло.
Юный Питер, однако, не сводит глаз с экрана.
– Она знает пару трюков, – говорит он, набивая рот новой порцией чипсов.
Фиона закатывает глаза.
Мужчина на экране бросается на женщину, все еще в рубашке, видимо решив обойтись без возбуждающих игр. Он даже не позаботился снять брюки – те сбились в кучу у него под коленями. Двигается резко, даже грубо.
– Думаю, картина тебе ясна, Ханс, – говорит Фиона, снова закатывая глаза.
– Определенно, – киваю я. – На флешке есть еще видео?
– Всего шесть. Два сняты в одном и том же месте, остальные – в разных.
– С другими позами и реквизитом?
Фиона кивает:
– Костюм французской горничной, шлепалка и хлыст, несколько мощных вибраторов. На всех видео она в маске. Наверное, кружево на глазах – это его фетиш.
Мужчина на экране снимает свой галстук с женской шеи и связывает своей партнерше запястья. Опускает ее на кровать и продолжает толчки. Его хрипы сопровождаются преувеличенно тонкими, прерывистыми вздохами женщины.
– Хотела бы я знать, кто он такой, – говорит Фиона, толкая вверх по носу очки в роговой оправе.
Юный Питер поворачивается и смотрит на нее, изо рта у него торчит недоеденный чипс.
– Это Марк Эванс, – говорит он. – Два дня назад мне засунули под дверь его предвыборную брошюру. Надо сказать, он там выглядит куда лучше, чем кандидат от лейбористов у них на листке.
– Я уже приводил его сюда для разговора, – вставляю я. – Держался словно канарейка, которая не желает петь. Мне надо придумать, как заставить его говорить.
Мужчина на экране переворачивает женщину лицом вниз.
Я дергаюсь.
– Но зачем она записывала эти видео? – спрашивает Фиона.
– Разве не понятно? – говорю я. – Чтобы уничтожить его.
Я возвращаюсь в кабинет с большой кружкой кофе в руке, но лишь затем, чтобы обнаружить там Хэмиша, припарковавшего свою задницу у меня на столе. Он сует себе что-то в нагрудный карман. Я замираю, прищурив глаза. Неужто помощник рылся в моих вещах в поисках неопровержимых свидетельств того, что все это время я маскировался под дуо? Все же вряд ли. Я просто становлюсь параноиком. Судя по вздымающейся груди, Хэмиша переполняет информация. И в этом, к сожалению, единственная польза от его появления.
– Ханс, – говорит он, не слезая со стола, – я заходил к вам через двадцать минут после пресс-конференции Эванса, но вас не было, так что я решил сходить на обед.
– А, да. – Я киваю. – Я случайно столкнулся с Эвансом, когда она уже закончилась. Он был весь обвешан цветами. И весь всклокочен. Что случилось в Гилдхолле?
– Они все время к нему цеплялись. В том числе из-за вашего разговора сегодня утром.
– Как, черт побери, они узнали?
– Меня не спрашивайте. – Хэмиш вскидывает вверх руки. – Брюс Бернард из Ай-ти-ви как-то пронюхал. Тот самый мужик с большим чубом, что утром в заповеднике путался у нас под ногами.
Я со стоном опускаюсь в кресло и залпом выпиваю кофе.
– Они, наверное, хотели знать, зачем я его сюда приводил.
– Он более или менее выкрутился. Ему даже хватило наглости сказать, что он помогал нам составить психологический портрет Софии Эйлинг. Добавил, что она семнадцать лет провела в изоляции и выписалась всего два года назад. Это вызвало среди журналистов приличное оживление.
Выходит, некого винить, кроме себя самого, за то, что поделился с мистером Эвансом этим обрывком информации.
– Теперь пресса будет гоняться за нами, – говорю я со вздохом, – если уже не начала.
– Этот Бернард вился вокруг меня, как муха, когда я выходил из Гилдхолла.
– Не обращайте на него внимания. А что другие?
– Журналистка из «Женского еженедельника» взорвала настоящую бомбу, народ с мест повскакивал.
Я вскидываю бровь и смотрю на Хэмиша.
– Она получила эсэмэску от жены Эванса. Оказывается, Клэр Эванс подает на развод.
– Что?!
– Да. После этого все как с цепи сорвались.
– Кажется, это устроил я. Что ответил Эванс?
– Стал бормотать, что сегодня утром они просто слегка поцапались. И что скоро все наладится. Надо было видеть лицо руководителя его кампании. Редфорд, кажется, его зовут. У бедняги был такой вид, будто его сейчас вырвет.
– Неудивительно.
– Он потом выскочил вперед и утащил своего клиента за двери, пока тот не ляпнул что-нибудь пострашнее. На этом все и кончилось. Вся пресс-конференция. Кругом недовольные морды, конечно. От разводов у журналистов подскакивает пульс, как от мало чего другого.
– Красота, – говорю я, перескакивая мыслями к нашей утренней встрече с миссис Эванс. Особенно к тому потрясению, которое отразилось у нее на лице, когда я предположил, что ее муж мог заниматься внебрачными шалостями.
Так вот почему Марк Эванс тащил домой сотню роз. Я мог бы и сам догадаться. Я выуживаю диктофон и говорю в него:
– Разгневанная жена Клэр Эванс сообщает журналистам, что подает на развод.
– Один из наших патрулей нашел «фиат» Эйлинг, – сообщает Хэмиш.
У меня пересыхает во рту – я должен держаться спокойно. Черт бы побрал этот сверхстарательный патруль. Нужно что-то сказать. Что угодно.
– Ваша задница перегораживает мне путь, – говорю я.
– Извините. – Хэмиш перемещается в кресло.
Нужно что-то сделать с руками. Я глубоко вдыхаю, потом тянусь вперед и наугад двигаю белого ферзя. Хэмиш наблюдает за моим фиглярством, страдальчески сморщив лоб.
– Все равно не понимаю, что вы находите в этих шахматах. – Он качает головой в притворном раздражении. – Короче, ее «фиат» нашли в Ньюнеме. Припаркован на площадке у дальнего края Гранчестерского луга. Там, где сплошные рытвины. Рядом с Конькобежным лугом – оттуда еще ведет тропа к Гранчестеру.
В голове у меня щелкает.
Дневник Софии говорит, что она подсматривала за домом Эвансов из неудобного наблюдательного пункта – собственного «фиата». Два дня назад Кармен Миранда Скотт-Томас тоже видела там «фиат». Значит, София шпионила за Марком и Клэр. Поэтому ее «фиат» и припаркован на краю Гранчестерского луга. Но для чего ей понадобилась эта слежка? Что она искала? Какая именно цепь событий закончилась ее гибелью в воде?
Я начитываю в диктофон:
– Черный «фиат» жертвы найден на дальнем краю Гранчестерского луга.
– Эксперты уже там, – говорит Хэмиш. – Как и Мардж, они надеются подготовить рапорт до конца дня.
– «Кандински»?
– Не торопитесь, Ханс. Я как раз к нему подбираюсь. В регистрационной книге «Кандински» нет Марка Генри Эванса. Однако Мэтью и Вероника Адамс действительно были там постоянными гостями с сентября тринадцатого года по июль четырнадцатого. Останавливались двенадцать раз, почти всегда в выходные. В номере двести шестьдесят один, как вы и сказали. Всегда на одну ночь.
– Это уже лучше, – говорю я и начитываю в диктофон: – Двенадцать свиданий в «Кандински», два записаны на пленку.
– Вероника Адамс, наверное, и есть София Эйлинг, – говорит Хэмиш. – Если так, она точно была любовницей Эванса.
Я удивленно поднимаю бровь. Кажется, мой помощник время от времени все же способен делать мысленный шаг в сторону.
– Очень хорошо, – говорю я. – Именно поэтому от Эванса идет такая вонь. Когда я во второй раз заходил в коттедж Эйлинг, я нашел там флешку. На ней шесть видео, где они заняты постельной акробатикой.
– Что? Она записывала, как они занимались сексом? – Рот у Хамиша – разверзшаяся пропасть.
– Именно. Шантаж, я считаю.
– Но для чего?
– Я должен дочитать ее дневник.
– Ну хорошо, Эванс – чертовски темная фигура, – говорит Хэмиш. – Оттого и хочется показать на него пальцем. Но все равно без результатов вскрытия мы не можем заключить, что это убийство. Пока что на теле Эйлинг не обнаружено ни одного признака внешних повреждений.
– Да ну, бросьте, Хэм…
– В учебнике криминологии написано, что нельзя делать скоропалительных выводов о естественной или насильственной природе смерти, равно как о личности виновного.
Я вздыхаю. Хэмиш возвращается в свое обычное состояние – «все по правилам», а значит, споры с ним – пустая трата времени. Надо его чем-то занять.
– Мне нужно больше информации об Эйлинг, – говорю я. – В особенности о ее прошлом. Подробности о родителях – скорее всего, покойных. У нее может быть мачеха по имени Эгги. Мне нужен полный отчет о том, в какую она ходила школу, в какой университет и так далее. Двадцать лет назад она могла учиться в Кембридже.
– Она была студенткой Кембриджа?
Хэмиш смотрит на меня и моргает.
– Видимо, да.
– Неужто у нашей сисястой блондинистой бомбы имелись когда-то мозги?
Успех определяется четырьмя параметрами. К сожалению, их никто не знает.
Марк Генри Эванс. Черновик «Прозорливости бытия»Глава тринадцатая София
1 декабря 2013 г.
Кажется, я докопалась до грязи. Битый час без пяти минут протряслась сегодня утром в «фиате». Ждала. Зевала. Ругалась. Не сводила осоловевших глаз с особняка в отдалении. К моему удивлению, она вышла из дому. Прыгнула в «рейнджровер» и покатила. Нажав на газ, я незаметно поехала за ней – осторожно, на безопасном расстоянии, прочь из Ньюнема. Сначала по Фен-Каузвей, потом по Трампингтон-роуд. Уверенная, что она направляется в «Уэйтроуз» за покупками.
Но она поехала налево, по Лонг-роуд, потом резко повернула направо, на Робинсон-уэй. Эту улицу я знаю очень хорошо. Потому что на ней находится больница Адденбрука. Я провела там двадцать два дня своей жизни под седативами и надзором, после того как папаша нашел в мусорной корзине мой дневник. Помню, придя в себя у них в палате, я рыдала так, что горели глаза и горло.
Она припарковала машину и вышла. Шагнула через парадную дверь в главное здание. Я колебалась. Сразу за двойными дверями там прятались жуткие демоны. Темные осколки, перемоловшие мою душу. Но я стиснула зубы. Сказала себе, что должна это сделать. Должна узнать, что ей там надо.
Так что я глубоко вздохнула и пошла следом.
Большое фойе с незнакомой отделкой. Наверное, перестроили после того, как я была здесь в последний раз. Но люди на вид такие же. Шагают туда-сюда врачи в белых халатах. Суетятся сестры в синих костюмах. И воздух все тот же. Воняет антисептиком. Приторный, болезненно-сладкий бич всех больниц, маскирует имманентный распад.
Скрывает медленное гниение человеческих существ.
Как по сигналу, я начала задыхаться. Мне не хватало воздуха. Перед глазами прокручивались картины адденбрукских мытарств. Память о руках, прижимавших меня к полу. Врачи, неодобрительно меня разглядывавшие. Сестры, втыкавшие острые иглы в мои руки и бедра. Вслух обсуждавшие, не надеть ли на меня намордник. Смирительная рубашка, которую они принесли, чтобы обуздать мое сопротивление. Приглушенный обмен мнениями за стенами палаты, в которой меня заперли. Разговоры шепотом о том, что я безнадежный случай и Адденбрук ничего не может со мной поделать. Но есть подходящая психиатрическая лечебница, там должны разобраться.
Соберись, София.
Прислонившись к ближайшей стене, я набрала в легкие побольше воздуха. Постаралась утихомирить скачущие мысли. Усмирить панические волны, ломавшие мою душу. Стереть прошлое. При этом собрать в кулак всю свою волю и не выбежать с криками из этого фойе на свежий воздух.
Слава богу, сознание быстро переключилось на рабочий режим. В тот же миг я заметила, что ко мне несется встревоженная и удивленная сестра. Но я уже знала, что должна шевелиться. Вести себя нормально. Без истерик. Потому что меньше всего на свете мне в этот момент хотелось, чтобы полные энтузиазма сотрудники Адденбрука бросили меня на каталку и обмотали веревками. И накачали до краев седативами.
Нездоровый вид в больнице – плохая затея. Все равно что виноватый вид в суде.
Мне хватило присутствия духа сообразить, что Клэр Эванс давно исчезла. Дверь в конце фойе. Длинный коридор с жестким светом. Проход, ведущий в соседнее крыло. Его я знала слишком хорошо.
Служба междисциплинарной психиатрии.
Я заставила себя побежать за ней, несмотря на то что истерика еще пузырилась у меня в горле. Я понимала всю абсурдность ситуации: в поисках грязи я добровольно вступаю в психиатрическое крыло больницы. В то самое место, откуда начался мой крутой спуск к семнадцати годам позора и унижений. В ту даль, где мои надежды и мечты растворились среди недосягаемых теней.
Шевелись, София.
Я быстро поняла, что она исчезла в лабиринте коридоров. Ни малейшего представления, куда она ушла. Несколько минут я ошеломленно бродила взад-вперед, изо всех сил стараясь не завыть. Уверенная, что я ее потеряла. Затем краем глаза я ее все-таки заметила. На другом конце прохода. Меня окатило задыхающимся недоверчивым «уффф».
Импозантный мужчина с серебристой щеткой волос на голове приглашал ее в консультационный кабинет. За ними закрылась дверь. Я помчалась вперед.
«Кабинет 27: Хельмут Джонг, ДМ, БХ, КМН, ЧСМИП»[7] – гласила надпись.
Итак, Хельмут Джонг, ДМ, БХ, КМН, ЧСМИП, вскоре займется консультациями двух видов. И только часть из них будет проходить в стерильном дискомфорте кабинета 27.
Консультации для психов. Или, выражаясь деликатнее, для психически неуравновешенных. Человек не пойдет на консультацию к психиатру, если он в своем уме. Женщина, вошедшая в эту дверь, должно быть, страдает дисфункцией нейронных связей.
Джонг также займется мной.
Подобно Марку Генри Эвансу, Хельмут Джонг, ДМ, БХ, КМН, ЧСМИП, проведет немало приятных минут в моем обществе.
О, счастливчик.
10 мая 2014 г.
Сто лет не писала. Ну или месяцев. Но когда происходит что-то хорошее, писать не очень интересно. Записи помогают выпустить пар, если из-за чего-то злишься. Когда есть чему радоваться – или над чем злорадствовать, – от них, наоборот, становится приятнее. В этом смысл моего айдайчика. Моно и дуо нуждаются в дневниках, чтобы выжить. Я – нет. Назначение моего дневника куда выше и благороднее. Потому что это, блин, хроника мести.
Сегодня я имею право самодовольно улыбаться. Потому что все идет по-моему. Грязь, которую я искала, наконец нашлась.
И не просто грязь, как выясняется.
Густой навоз. Липкая хлюпающая мерзость.
Об этом говорит ее медицинская история. Свежевыловленная из глубин жесткого диска доктора Джонга.
Пожалуй, стоит поблагодарить папашу за вдохновляющую идею. Когда он был жив, ему случалось, несмотря на многочисленные проколы, сказать что-то полезное. «Успех определяется двумя параметрами», – говорил он.
Воля. И деньги.
Или «решимость и бабло», как он перефразировал это для Эгги, картинно изогнув брови. Не догадываясь, что я подслушиваю. «Проблемы испаряются, если подбросить достаточно наличных», – добавлял он для уверенности.
Эгги восприняла его слова всем сердцем и со всей энергией. Наверняка это она подмазала врачей Сент-Огастина зимой 2008-го, через пару недель после отцовского инфаркта. Щедро заплатила за диагноз, который ей нравился. Краткое, но авторитетное заключение подтвердило, что я по-прежнему не способна управлять отцовским имуществом, и оставило меня гнить на Внешних Гебридах еще несколько лет.
В настоящее время я не испытываю недостатка ни в деньгах, ни в воле. У меня до черта решимости. И куда больше бабла, чем во времена Сент-Огастина.
Но отец недооценил важность третьего параметра.
Силы соблазна. Особенно в сочетании с тонкими черными чулками и дерзкими алыми трусиками.
Все мужчины одинаковы. Не важно, писатели они или психиатры. Они подчиняются своим членам. Чтобы получить доступ к их жестким дискам, нужно всего лишь добиться жесткости в определенных частях их организмов. Пароль у доктора Джонга оказался легким. Всего-то имя его покойной жены. Помогло еще и то, что в наши дни у большинства психиатров есть удаленный доступ к рабочим записям. Изящная машинка размером с ладонь, которую они носят в кармане.
До чего же, блин, удобно.
Мне даже не пришлось особенно страдать, вопреки переживаниям Хельмута Джонга, ДМ, БХ, КМН, ЧСМИП. Этот человек не утратил привлекательности, несмотря на свои почтенные шестьдесят четыре года. И волос тоже (серебристая седина делала его похожим на милого снежного леопарда). И мастерства в постели, если на то пошло. Несмотря на то, что он уже год был вдовцом и давно не практиковался.
Поразительно, между прочим, что скрывают психиатры. Например, тот факт, что он случайно прописал престарелой пациентке 25 миллиграммов валиума – ежедневно, в течение четырех недель – вместо 2,5. Потом написал несчастной женщине униженное письмо, умоляя не подавать на него в суд за профессиональную небрежность.
Ему чертовски повезло, что у пациентки не развилась зависимость. И что она никому ничего не сказала.
Они сошлись на двадцати пяти тысячах фунтов.
История болезни Клэр Эванс, кстати, не менее увлекательна. Она долго сидела на антидепрессантах. Но это не самое интересное. У нее склонность к самоповреждениям, особенно когда она не пьет прописанные ей таблетки. Дважды резала себя ножом. Оба эпизода были достаточно серьезны – ее пришлось отправить в Адденбрука под бдительное око Хельмута. Два шва во время второго визита в апреле 2013-го. Тогда ее продержали под наблюдением до утра – на всякий случай, чтобы не стала резаться снова. Увеличили ежедневную дозу антидепрессантов.
Такой она до сих пор и остается.
Ага. Наша замшелая сучка хранит свой грязненький секретик.
Депрессию со склонностью к суициду путем вскрытия вен.
Красота.
По чистой случайности я кое-что понимаю в суицидах.
Самоубийства – а также неумелые попытки – были в Сент-Огастине обычным делом. На моих глазах одна из обитательниц попыталась выпрыгнуть из окна. Несмотря на то, что там был всего лишь третий этаж. Кто-то проходил мимо и быстро среагировал. Ее притащили назад и накачали лекарствами так, что она все равно отправилась в лучший мир. Брюнетка через три двери от меня сделала лучше. Билась головой о стену до тех пор, пока она не треснула. Голова, а не стена. У блондинки с волосами медового оттенка, обитавшей через семь дверей от меня, вышло даже стильно. Она привязала к простыням ремешок от сумочки «Эрмес Биркин». Бог знает, где она ее взяла (вкус к полезным аксессуарам у нее, по крайней мере, был). Выскользнула из комнаты перед рассветом. В это время санитарки не так внимательны. Ее нашли в дальнем саду, когда солнце уже взошло, – висящей на чахлом тополе. После этого лишь немногим психам разрешали там гулять. Исключительно индивидам, не представлявшим угрозы для себя и окружающих.
Как Мариска ван Дайк и я.
Я ни разу не пыталась покончить с собой. В какую бы темную бездну ни погружалась. Сколь бы сильно ни ненавидела каждую секунду своего заключения. У меня и мысли не было о том, чтобы себя убить.
Наверное, я в душе инстинктивно живучая. Стайер.
В отличие от набитой таблетками Клэр с порезанными запястьями.
Ее история болезни многое проясняет. Такое действительно бывает с моно, у которых есть все, чтобы почувствовать себя несчастными.
Я долго не могла понять, почему так. Но все же додумалась. Ответ подсказали ее сетевые фотографии. Она всегда выглядит на них как будто не в своей тарелке. Временами даже испуганной, особенно на благотворительных вечерах и других мероприятиях, обычных для дуо. Для богатых, образованных дуо из лиги ее мужа. Для людей выше ее классом. Для тех, кто в два раза дольше, чем она, способен помнить события и в два раза лучше понимать мир. Для блестящих и умных людей. Которые наверняка заставляли ее чувствовать свою ущербность.
Она моно замужем за дуо. Она не может вписаться в мир своего мужа. И никогда не сможет. Моно и дуо вместе не живут. Один из них обязательно слетит с катушек. А то и повесится.
Я жду не дождусь, когда смогу обратить этот кусок навоза себе на пользу.
В нужное время, конечно.
Терпение, София.
Терпение. Это четвертый параметр успеха. После семнадцати лет в Сент-Огастине я могу себе позволить терпение.
31 июля 2014 г.
Что за удача. Трудно поверить, но она действительно упала мне в руки. Фортуна воистину благоволит тем, кто умеет ждать.
Он позвонил сегодня вечером. Во-первых, извинился за то, что наше следующее рандеву переносится на конец августа. Сказал, что две недели пробудет с Клэр на Невисе.
Я знаю почему. Джонг, кроме всего прочего, прописал им регулярные поездки в теплый климат как способ борьбы с депрессией у его жены. Солнце, сон и секс, писал он, в долгосрочной перспективе помогут ей лучше, чем лексапро и престик.
На секунду захотелось наорать на Марка из-за того, что жена для него важнее меня. Эта глупенькая суицидальная моно. Но я успокоила себя тем, что он наверняка не выполнит предписание – по крайней мере, в том, что касается секса. Особенно после секса, полученного в другом месте. Больше этого не выдержит никакой мужчина. Даже сатир. Члены не могут толкаться постоянно. Зато потом, когда мужчины возвращаются с Карибов с классным загаром на своих торсах, трахаться с ними становится куда приятнее. Так что я захлопнула рот. Стала слушать, что он скажет дальше.
Он решил это сделать. После стольких лет размышлений о политике он наконец решился. Баллотируется как независимый кандидат от Южного Кембриджшира. В конце концов, он известный писатель и достиг здесь всего, чего хотел. Слава, деньги, вся эта хрень. Настало время двигаться к чему-то большему, лучшему, к тому, что принесет удовлетворение. В мир политики, где он сможет влиять на жизнь людей. Возможно, даже менять ее к лучшему.
Это решение означает две вещи, добавил он.
Мы должны быть предельно осторожны в том, что касается нашей связи, и приложить все усилия, чтобы никто о нас не узнал. Необходимо более скрытое место. «Кандински», с его публичным фойе, больше не подходит. Он склоняется к тому, чтобы снять в Лондоне приличную квартиру. Где-нибудь в Челси, например. Даст мне ключ при первой же возможности.
Да уж, не Нельсон, подумала я. Нельсон открыто похвалялся своей любовницей перед всем Лондоном. Политический кандидат Марк Генри Эванс твердо намерен держать свою в тайном шкафу где-то в Челси.
Мы не сможем встречаться так же часто, как раньше, добавил он. В выходные ему придется заниматься в Кембридже делами кампании.
Ничего страшного, проворковала я.
Минутой позже он сказал «до свидания» бурлящим от облегчения голосом. Значит, я говорила достаточно убедительно. Ах, эта роль благоразумной, все понимающей любовницы. Я доиграю ее до самого конца. Однако, перед тем как повесить трубку, мне пришлось спрятать ликование в голосе. Что за подарок судьбы. Невозможно желать лучшего.
Итак, Марк Генри Эванс входит в клетку со львами, известную как политическая арена.
Что за дивная новость. Дикий и беспощадный мир политики. Где несчастных кандидатов терзают национальные и местные медиа. Их предвыборные платформы. Их послужные списки. Их манеру одеваться. Их речевые ошибки. Личную жизнь. Скелеты, которые они прячут в своих шкафах.
Любовниц среди прочего.
И депрессивных суицидальных жен.
Таким образом, Марк Генри Эванс преподнес мне свою собственную голову. На блюде. Его страшное падение начнется, я теперь это знаю, вместе со всеобщими выборами 2015 года. Гораздо раньше, чем я надеялась, и с гораздо более высокого насеста, чем я предполагала. Чем тщеславнее человек, тем с большей высоты он валится. Ах, эти убийственные радости политики. Блестящие возможности. Сладость разрушения. Я буду наблюдать весь процесс в замедленной съемке. Кадр за кадром. Кирпич за кирпичом.
Хорошее приходит к тому, кто умеет ждать. Отвратительное – тоже.
Я ждала достаточно долго.
Посмотри человеку в глаза, и они расскажут все, что тебе нужно, о его уме и проницательности. Хватит ли ему хитрости и дальше прятать от тебя свои тайны.
Учебник криминологии, том IV («Оксфорд юниверсити пресс», 1987)Глава четырнадцатая Ханс
9 часов 30 минут до конца дня
Этот психиатр, должно быть, делает неплохие деньги на том, что слушает других людей. Он кивает, показывая, что весь внимание, никогда не перебивает, жесты всегда открытые, руки повернуты ладонями вверх.
Волосы у него и в самом деле эффектного серебристого оттенка, как и говорит дневник Софии.
Я еще раз обвожу взглядом кабинет: полированная мебель, приглушенный свет. Стопка глянцевых альбомов на комоде. Угол комнаты занимает уютный диван, заваленный пухлыми пастельно-голубыми подушками. Приятно пахнет белым мускусом. Помещения такого сорта настраивают людей на разговор о себе самих. Ну и отлично.
– Итак, доктор Джонг, – я решаю обойтись без игры в догонялки, – вы дуо и психиатр-консультант в этой больнице.
– Совершенно верно.
– Клэр Эванс – ваша пациентка?
На лице психиатра мелькает удивление.
– Гм… да. Если я правильно усвоил мой дневник, она одна из первых моих пациенток. Я начал с ней работать, еще когда был младшим консультантом.
– Какими психическими расстройствами она страдает?
– Я не могу вам сказать. – Он качает головой, решительно изогнув рот. – Это врачебная тайна.
– Ответ – депрессия, – говорю я. – Осложненная двумя некритичными случаями самоповреждения. Во второй раз она порезала себе запястья и сутки провела здесь. С апреля две тысячи тринадцатого года вы удвоили ей дозу антидепрессантов.
Глаза у психиатра становятся круглыми, как пулевые отверстия.
– Откуда… откуда вы знаете эти факты? – спрашивает он. – Она вам рассказала?
– Иногда мы сами натыкаемся на те или иные вещи.
– Тогда зачем вы сюда пришли?
– Удостовериться в том, что я и так знаю. – (Психиатр моргает.) – Я знаю, например, что вы прописали одной пациентке двадцать пять миллиграммов валиума в день на четыре недели. А также то, что вы убедили ее не подавать на вас в суд, выписав чек на двадцать пять тысяч фунтов. – (Он ахает.) – Мне не составит труда направить вашему начальству письмо с указанием на этот мелкий факт, – продолжаю я максимально добрым и обнадеживающим тоном. – Мой дневник говорит, что раньше я уже переписывался с вашей администрацией.
– Чего вы хотите, инспектор? – Вместо глаз у него теперь узкие щели.
– Я хочу, чтобы вы были со мной откровенны. Как видите, мне уже известна история болезни миссис Эванс. Но мне очень бы помогло ваше профессиональное мнение по нескольким смежным вопросам. Что стало причиной ее депрессии?
– Я не знаю точного ответа. – Он качает головой, все еще немного хмурясь. – Даже после стольких лет лечения.
– Каким именно депрессивным расстройством она страдает?
Он все еще колеблется.
– Двадцать пять миллиграммов, доктор Джонг, – говорю я тихо, но четко. – Для валиума это немало, да?
Он утомленно стонет, поднимая ладони в знак согласия.
– Мне нужно заглянуть в записи для уверенности, – говорит он.
– Да, конечно.
Психиатр достает электронное устройство размером с ладонь, набирает в нем что-то, потом отвечает.
– Клэр Эванс – нестандартный случай, притом что налицо все симптомы клинической депрессии, – зачитывает он. – Это также не классическая биполярность, хотя ей и помогли медикаменты, которыми раньше лечили биполярность. Я прописывал ей трициклические антидепрессанты, но они вызвали побочные эффекты…
– Вы не ответили на мой вопрос.
– Диагностика душевных болезней – непростое дело, инспектор. Это до сих пор больше искусство, чем наука. Я склоняюсь к тому, что ее случай – НУК: не указанный конкретно тип неустойчивого состояния.
– Которое проявляется в суицидальных наклонностях.
– «Суицидальные» – неверное слово, инспектор. – На этот раз Джонг трясет головой куда увереннее. – Я не вижу в миссис Эванс склонности к суициду. Оба случая самоповреждения были попытками совладать с глубоко укоренившимися эмоциональными проблемами. Возможно, таким образом высвобождались долго сдерживаемые фрустрации.
– Вызванные личными обстоятельствами?
Психиатр молчит.
– Такими, как сложные отношения с партнером? Отягощенные тем фактом, что она – моно, вышедшая за дуо?
Глаза его на секунду округляются.
– Можно сказать и так, – кивает он со вздохом. – Она часто сравнивает себя с мужем. Границы памяти особенно. В результате возникает хроническое состояние низкой самооценки – скажем так.
Значит, Софиины подозрения насчет Клэр Эванс оказались верными. Покойница была проницательнее, чем я предполагал.
– Кстати, был ли у вас когда-нибудь секс с женщиной по имени София Эйлинг?
На лице Джонга потрясение. Однако он тут же расправляет плечи и напрягает подбородок.
– При чем здесь моя личная жизнь? – парирует он, выворачивая ладони еще больше, словно защищаясь. – Что вы там у себя расследуете?
– Убийство.
– Но…
– София убита.
– Что?
– Сегодня утром ее нашли в Кэме.
Психиатр смотрит на меня, раскрыв рот.
– Нет. – Он трясет головой, в лице ни кровинки. – Это невозможно. София мертва?
– Если вы расскажете подробнее о ваших отношениях, это поможет нам выследить убийцу.
– Но у кого поднялась рука на такую прекрасную женщину? – говорит он, вздымая вверх ладони.
– Отличный вопрос, доктор Джонг. – Я одобрительно киваю. – Именно это я и намерен выяснить до конца сегодняшнего дня.
– Как она умерла? – Под конец вопроса у него задрожал голос. Судя по виду, ему сейчас самое место на собственном мягком диване с пухлыми подушками.
– У нас пока нет результатов вскрытия, – говорю я. – Когда и где вы познакомились?
Он дрожащими пальцами достает айдай и что-то в него впечатывает.
– Я… гм… факты говорят, что мы познакомились на вечере с чаем и танцами. Кембридж, Гилдхолл, декабрь две тысячи тринадцатого. Я стал ходить на бальные танцы через год после смерти жены. София в тот день была настоящим украшением зала. Моложе, чем большинство женщин. И в два раза красивее. Я был польщен, когда она сама подошла и пригласила меня на танец.
Значит, наша маленькая сумасшедшая довальсировалась до постели психиатра. Как и утверждает ее дневник.
– Потом увлечение танцами переросло в нечто большее, верно? – Я решаю избавить его от описания инструментов – типа дерзких малиновых трусиков, – которые, очевидно, были пущены в дело.
– Да. – Психиатр слегка смущается.
– Как долго это продолжалось?
– Около трех месяцев.
– И как закончилось?
Психиатр хмуро стучит по клавишам в своем дневнике.
– Хотел бы я, чтобы эти факты были другими, – говорит он со вздохом. – Но она позвонила мне в марте две тысячи четырнадцатого. Я как раз собирался пригласить ее в Чилтерн-Хиллс. Выходные на природе, все такое. Она сказала, что ей было очень приятно проводить со мной время. Но она хочет двигаться дальше. Так она сказала.
– Вас это удивило?
– Конечно. Я думал, все идет хорошо. Наверное, всему виной разница в возрасте. София никогда не говорила, сколько ей лет. Очень была скрытной в этом. Но она… наверняка она была… не меньше чем на двадцать лет меня моложе.
София попросту бросила его, получив что хотела. Это следует из ее дневника.
– Я… я ее не виню, – говорит он, и глаза превращаются в умоляющие круги.
Наш маленький проницательный психиатр, должно быть, понял, что полиция не обязана исключать его из списка подозреваемых, особенно после того, как он признался, что был Софииным любовником.
– У меня только позитивные факты о проведенном с ней вместе времени, – продолжает он, помахивая для убедительности передо мной дневником. – София очень… София была энергичной и отзывчивой женщиной. Мне было хорошо с ней. Надеюсь, ей тоже было со мной хорошо.
Любовник-писатель говорил, что у нее расстроенная психика. Соседка назвала ее милой и обаятельной. Теперь любовник-психиатр описывает ее как энергичную и отзывчивую. Поразительно, как по-разному могут разные люди относиться к одной и той же покойнице.
– Ей было очень хорошо с тем, что она от вас получила, – говорю я. – Она упоминала когда-нибудь Клэр Эванс?
По лицу психиатра пробегает изумление.
– Нет, – говорит он, и удивление быстро сменяется хмурым недовольством. – Не думаю. Я не заучивал такого факта. Надо опять свериться с дневником.
Он кликает по айдаю и качает головой.
– Дневник ничего не говорит, – повторяет он. – Почему вы спрашиваете? Они были подругами?
– Ну уж нет, – я качаю головой, – точно не подругами. Кстати, вам нужно сменить пароль на своем ручном устройстве. На том, что дает удаленный доступ к историям болезней ваших пациентов. Имя покойной жены – слишком легко догадаться.
Психиатр застывает в своем кресле. Его реакция становится тем самым подтверждением, которое мне нужно. Я просто обязан прочесать частым гребнем все оставшиеся страницы необычного дневника, что лежит у меня на столе. Надеюсь, он поможет мне выяснить, почему бывшая любовница Джонга помешалась на его же замороченной пациентке.
Мужики – козлы.
Дневник Софии ЭйлингГлава пятнадцатая Клэр
Руки дрожат, как бы ни старалась Эмили меня успокоить. Она приготовила чашку горячего шоколада и накормила меня морковным тортом. Влажная сладость еще держится у меня на губах. Но слезы текут и текут по щекам – те самые слезы, которые я как-то умудрилась удержать, когда говорила с Марком.
Слова тогда прозвучали спокойно, даже сдержанно. Ясная твердость моего голоса удивила меня саму.
– Я подаю на развод, – сказала я.
Он лишь моргнул в ответ, не поняв сначала сути. Зато потом у него отвалилась челюсть. Я убежала наверх, довольная собой, понимая, как больно его ударила. Прямо в мягкое развратное брюхо. За пару минут до того, как он явится в кембриджский Гилдхолл. Но секунды шли, и мне захотелось ударить его еще сильнее. Отличная возможность представилась, когда Джейн Макдональд прислала эсэмэску о том, что она сейчас находится у Марка на пресс-конференции.
Я ответила сразу.
«На пресс-конференции моего без пяти минут бывшего мужа? Мы разводимся».
В тот момент я решила, что это отличная идея. Трудно придумать более театральный способ свалить Марка. Журналисты в Гилдхолле, должно быть, в ту же секунду выпустили из него кишки. Телефон трещал не переставая. Я ответила на один звонок с незнакомого номера.
– Алло? – сказала я.
– Добрый день, – сказал высокий женский голос на другом конце. – Могу я поговорить с Клэр Эванс?
– Я слушаю.
– Восхитительно! – Голос перекатился в оживленный щебет. – Это Джемма Годдард из «Сан». Мы были просто поражены вашей эсэмэской. Что происходит? Ваш муж вас обманывал?
Очень хотелось выложить ей все. Но что-то меня удержало. Признание, что Марк гулял на стороне, едва встав из супружеской постели, вдруг показалось мне пощечиной. На кону была моя гордость как жены и как женщины. Выходило, будто я не способна удержать при себе собственного мужа.
Мое молчание, видимо, было сочтено знаком согласия, и Годдард заверещала:
– Отлично! Вас наверняка распирает желание все рассказать. Мы будем счастливы предложить вам пятнадцать тысяч фунтов за эксклюзивный материал. Обличительная исповедь, откровенный рассказ о том, что было не так в вашем браке все эти годы…
Уверенность испарилась из моего сердца. Мысли сбились в беспорядочную взвесь. Я нажала на кнопку и отключила телефон. Мне нужен был сочувствующий друг, который выслушает рассказ о моих бедах. И уж всяко не интервью «Сан» с разговорами о любовных связях.
С тех пор прошел час, и вот я здесь, все плачу и плачу. После приезда к Эмили я извела, наверное, целую коробку бумажных платков. От доброты и участия у нее на лице все во мне пузырится.
Я снова тру глаза.
– Как я могла позволить ему так долго меня морочить? – говорю я, подавляя рыдания. – Почему я не догадалась сразу, когда он только начал кататься в Лондон? Как было не понять, что у него там любовница?
– Ты здесь ни при чем. – Эмили гладит меня по плечу. – Не вини себя.
– Но ведь это как надпись на стене, – твержу я, не в силах унять дрожь в голосе. – Факты были с самого первого дня, Эм. Марку нельзя доверять. Он никогда меня не любил, даже в самом начале. Как я могла убедить себя в обратном?
– Глупости, – говорит Эмили, протягивая мне очередную салфетку. – Никто не мог предвидеть, что все так обернется. Брось себя винить, ласточка. Будет только хуже. Это Марк должен чувствовать себя по уши в дерьме, а не ты.
– Но что же мне делать? – говорю я, вытирая щеки.
– Думать о том, как заключить сделку. – С неожиданной ухмылкой Эмили выдает одно из своих практичных решений. – Сколько можно содрать с этого козла. Пятидесяти процентов тебе хватит до конца жизни. Свяжись с адвокатом О’Салливаном. Я недавно читала в «Сан», что он сумел отсудить семьдесят пять миллионов для Петронеллы Круз.
– Для кого?
– Для актрисы, что застала своего мужа в постели с другой женщиной.
Я вздыхаю.
– Подумай об этом – а если ляжешь отдохнуть, то почувствуешь себя лучше, – говорит она, снова сочувственно меня поглаживая. – Ты ревешь уже целый час. И выглядишь ужасно. Пойдем со мной, ласточка. У нас есть запасная кровать. Тебе надо отдохнуть.
Приходится слушаться. Все равно я не могу придумать ничего лучшего. Я беру сумку и тащусь за Эмили по коридору. Она приводит меня в убогую комнатушку с узкой койкой.
– Ложись, – говорит Эмили, взбивая подушку и отодвигая тонкое покрывало.
Я бросаю сумку на стол и ныряю в постель. Она пахнет нафталином и заполнена мелкой пылью, как любая постель, которую не трогали неделями. Эмили натягивает на меня покрывало, целует в лоб, потом подходит к окну и начинает возиться с занавесками.
– Скоро тебе станет лучше, ласточка. На кухне тебя будет ждать добавка морковного торта, когда встанешь. И конечно, чашка шоколада. Я испеку твои любимые булочки.
Она закрывает дверь.
Несмотря на уверения Эмили, лежание в кровати нисколько меня не успокаивает. Только кружится голова от пыльной, пахнущей нафталиновыми шариками койки. Я встаю и ковыляю к окну. Раздвигаю занавески, распахиваю ставни, и тут меня приветствует замечательный вид на Баррелс-Филд – квартала студенческих домов Тринити-колледжа.
Бал в Тринити. Я рычу. Вечер, когда я должна была увидеть эти настенные письмена.
Я тащусь за сумкой и достаю бумаги из папки с названием «Летний семестр 1995 года», которые я унесла из кабинета Марка. Благодаря его страсти расставлять все в хронологическом порядке мне не понадобилось много времени, чтобы найти нужное.
Я перелистываю пожелтевшие страницы, стараясь не закашляться от поднимающейся в воздух разноцветной пыли. В стопке – разнообразные квитанции и корреспонденция. Я перебираю листы, относящиеся к постановке «Двенадцатой ночи» в театре «Эй-ди-си» на майской Шекспировской неделе, – наверное, Марк был занят в спектакле. Останавливаюсь на письме из казначейства Тринити. Оно подтверждает право Марка на стипендию (975 фунтов за летний семестр) и на программу питания (три раза в день, включая парадные обеды).
Достаю корешок от приглашения на бал в Тринити.
«Белый галстук обязателен. Общее фото для желающих в 7:00 утра, развоз в 7:30».
За корешком лежит сложенная страница «Таймс». Я разворачиваю бумагу и разглаживаю руками непослушные складки. Выпуск от 15 июня 1995 года.
Я задерживаю дыхание. Дата совпадает с двенадцатью днями, пропавшими у меня из головы.
«Мальчик пяти лет, дуо, найден живым в Корнуолле после того, как его родители погибли в автокатастрофе» – гласит самый большой заголовок. Я просматриваю репортаж, но не вижу в нем ничего особенного. Для чего Марк держит в папке одиннадцатую страницу «Таймс»? Я просматриваю другие заметки. Взгляд натыкается на небольшую колонку в нижней части страницы. «Пропала студентка». В сопровождающем тексте написано:
Полиция обращается с просьбой о помощи в розысках молодой женщины-дуо, пропавшей вечером 12 июня. Анну Мэй Уинчестер, 24 года, выпускницу колледжа Люси Кавендиш, в последний раз видела ее соседка по квартире, когда Анна одевалась на майский бал в Тринити. Полицию известили об исчезновении после того, как мисс Уинчестер не пришла на бал. Ее описание: белая, стройное телосложение, рост 5 футов 7 дюймов, темно-каштановые волосы, карие глаза. Была одета в бальное платье персикового цвета и белые перчатки до локтей.
Я замираю. Не мой ли собственный дневник в записи от 12 июня 1995 года говорит, что я видела, как Марк держал за руку девушку в «потрясающем персиковом платье и белых перчатках»? Я перелистываю оставшиеся в стопке бумаги и достаю еще две сложенные газетные вырезки. Первая представляет собой третью страницу «Кембридж ивнинг ньюс» от 17 июня 1995 года. Заголовок: «Исчезновение выпускницы Кембриджа вызывает все большую озабоченность». Рядом – фотография худой шатенки со смеющимися глазами.
Неужели это та самая студентка, которую я видела под руку с Марком много лет назад? Побелевшими пальцами я хватаю страницу и быстро пробегаю сопроводительный абзац.
Все больше опасений вызывает судьба выпускницы колледжа Люси Кавендиш, пропавшей в районе Честертона вечером 12 июня.
Дуо Анну Мэй Уинчестер в последний раз видели 24 мая в ее комнате на Джордж-стрит. В тот вечер она вместе с друзьями собиралась быть на майском балу в Тринити. В прошлом году мисс Уинчестер получила степень магистра истории искусств и с января проходит стажировку в Музее Фитцуильяма.
Бывшая соученица мисс Уинчестер, дуо Лора Петерсон, глубоко озабочена исчезновением своей подруги.
– Я не понимаю, как Анна могла пропасть, – говорит она. – Это какое-то наваждение. Она должна была прийти на бал к десяти вечера. Мы договорились встретиться на мосту Тринити в двадцать два сорок пять, чтобы вместе смотреть салют. Но она так и не пришла. Мы искренне надеемся, что с ней все в порядке. Все ее очень любят.
Ханс Ричардсон, констебль криминальной полиции из Кембриджширского отделения, говорит:
– Родители Анны очень обеспокоены ее исчезновением и утверждают, что это совершенно не в ее характере. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, сообщите.
У меня пересыхает во рту. Ханс Ричардсон? Тот самый седовласый детектив, который объявился у нас в саду сегодня утром и перевернул вверх тормашками всю мою жизнь?
Я откладываю заметку в сторону и беру в руки третью сложенную страницу. Она тоже из «Кембридж ивнинг ньюс», но датирована 18 июня 1995 года. На этот раз я знаю, что искать. Глаза останавливаются на заметке в самом низу страницы, озаглавленной «Найдена сумка пропавшей девушки». И текст:
Инкрустированная бриллиантами дамская сумочка от Шанель, принадлежащая пропавшей Анне Мэй Уинчестер, обнаружена сегодня у подножия пешеходного моста через реку Кэм недалеко от паба «Форт-Сент-Джордж» у Мидсаммер-Коммон. Ее выловил из воды во время тренировки студент-дуо Джеймс Темпест-Стюарт, член гребного клуба «Питерхаус».
– Мы с друзьями повернули к шлюзу «Бейтс-Байт» и сразу увидели: что-то плавает в реке у подножия моста. – говорит он. – Подгребли, чтобы рассмотреть. Это оказалась женская сумка. Ремешок зацепился за железный прут на опоре.
Констебль Ханс Ричардсон из отделения полиции Кембриджшира подтвердил, что в сумке находился билет на майский бал в Тринити, на имя мисс Уинчестер. Если кто-нибудь располагает информацией о ее местопребывании, настоятельно просим сообщить полиции.
Множество вопросов тут же хлынуло мне в голову. Почему я не выучила ничего из тех двенадцати дней после бала? И зачем вырезала эти страницы из своего дневника? Меня настолько травмировало известие, что Марк спал с другой девушкой всего через несколько дней после того, как лишил меня невинности? Понимание, что он преследовал меня только ради секса, разбило мне сердце? Или я пожелала забыть что-то другое? Что-то более страшное? Например, пропажу двадцатичетырехлетней женщины по имени Анна Мэй Уинчестер?
Сначала женщина, которая утонула. Потом женщина, которая пропала.
Но что, если я вычитываю из газет слишком многое? Может, Анна с Марком были просто друзьями. В конце концов, оба – студенты Кембриджа. Я бы тоже переживала, если бы мой друг исчез бесследно. Может, Марк потому и собрал эти заметки. Ну да, в день Тринити-бала я видела его с девушкой в красивом персиковом платье и белых перчатках. Но ведь это могло быть простым совпадением. В тот вечер в Кембридже проходило еще два бала. По городу могла разгуливать дюжина девушек в персиковых платьях и белых перчатках.
Не может быть, чтобы я видела в тот вечер Анну Мэй Уинчестер. Что именно она держала Марка за руку. Девушка, с которой он спал.
Или может?
Тут мне в голову приходит другая опасная возможность. Если Анна Мэй Уинчестер действительно была той девушкой, с которой спал Марк, то последней в вечер бала ее видела вовсе не соседка по квартире. Я, Клэр Эванс – в то время Клэр Буши, – видела, как она шла на бал в Тринити. Держала Марка за руку, а минутами позже его ударила.
В этом случае последним человеком, видевшим Анну в тот вечер, был Марк.
Черная безысходность вдруг заливает мне душу. Мне отчаянно хочется добыть хоть какие-нибудь факты из того двенадцатидневного вакуума. Какие угодно. Я встаю из-за стола и принимаюсь ходить взад-вперед по комнате, силясь утрясти информацию у себя в голове. Я строю рожи паутине в углу потолка в надежде, что это включит какую-нибудь ассоциацию. Я всматриваюсь в красное кирпичное здание за окном. Но внутри у меня только тьма и раздражающая пустота. Наверное, это просто невозможно – зачерпнуть то, что даже не пытался заучить с самого начала.
Я со вздохом возвращаюсь к столу и продолжаю перебирать бумаги из папки Марка. Останавливаюсь на паре счетов из кембриджской юридической фирмы под названием «Харрисон и К°» – «за оказанные услуги». Счета датированы 20 и 24 августа соответственно; один на 135 фунтов, другой на 229. Я спрашиваю себя, за каким чертом Марку понадобились услуги юридической фирмы. Еще там лежит счет за кольцо с двухкаратным солитером от ювелира Эрнеста Джонса, 13 июля 1995 года на общую сумму 1888 фунтов.
Я втягиваю в себя воздух и валюсь на койку.
Разве Марк не сделал мне предложение в 21:07 14 июля 1995 года на последнем этаже отеля «Де Вир», опустившись на одно колено и протянув кольцо с солитером? В отличие от событий той двенадцатидневной пустоты, этот факт выплывает из головы в ту же секунду. Дополнительный факт: я смотрела на ослепляющее кольцо, раскрыв рот и не в силах вымолвить слово. Но как только потрясение прошло и я поняла, что Марк действительно настроен на мне жениться, я оказалась на седьмом небе (хоть и постаралась изо всех сил скрыть это головокружение).
По случайности этот бриллиант все еще у меня на левой руке. Я столько лет носила кольцо, что забыла его снять, когда сказала Марку, что подаю на развод.
Закусив губу, я смотрю на сверкающий камень. Солитер переливается даже в тусклом свете, грани пронзают полумрак комнаты. Мне должно льстить, что двадцать лет назад Марк заплатил за него целых 1888 фунтов. Я ведь знаю из журнала «Космополитен», что мужчина должен потратить на обручальное кольцо не меньше двух месячных зарплат. Если в Тринити Марку платили всего 975 фунтов в семестр, он, чтобы купить это кольцо, должен был либо выпросить у кого-то деньги, либо одолжить их, либо глубоко залезть в личные сбережения.
Для меня.
Но любил ли он меня когда-нибудь по-настоящему? Или предложение было вызвано чем-то другим? Если с первого дня нашего знакомства я была нужна ему только для секса, почему он в конце концов предложил мне выйти за него замуж?
Кажется, я знаю ответы на эти вопросы. Невозможно игнорировать факты, которые я когда-то выучила.
Набрав воздуха, я пытаюсь стащить кольца с пальцев. Обручальное слезает легко, но свадебное отказывается двигаться с места. Двадцать лет замужества – это десять распухших пальцев, включая левый безымянный. Сжав зубы, я дергаю сильнее. К счастью, резким натирающим рывком этот золотой ободок удается снять.
Я кладу кольца на стол. Чувствую себя так, словно сняла с руки две огромные гири. Даже плечам становится легче.
Я чувствую странную свободу.
Но где-то в животе остается тревога. Вопросы и сомнения кружат над моим сознанием, точно стервятники, и отказываются улетать. Сегодня утром я была твердо уверена, что Марк не имеет отношения к смерти Софии Эйлинг. Марк не убийца, думала я. Он врун и подлец. Человек, который спит с посторонней женщиной, отнимая у своей жены счастье и разум.
Но теперь на ринг выходит пропавшая женщина.
Мне в голову приходит мысль.
Может, стоит спросить детектива – вдруг он укажет на причины пропажи мисс Уинчестер. Или даже высветит что-то в этой страшной тьме и пустоте у меня в голове. А по ходу дела я смогу задать ему пару каверзных вопросов о ночных похождениях моего мужа.
«Если кто-нибудь располагает информацией о ее местопребывании, настоятельно просим сообщить полиции».
Прошло двадцать лет, но лучше поздно, чем никогда.
Я достаю из сумки телефон. И в эту секунду стучат в дверь.
– Входите, – говорю я.
Дверь со скрипом отворяется. На пороге – Эмили. Лицо красное от волнения.
– Прости, что беспокою тебя, ласточка. – Она врывается внутрь, вытирая о фартук перепачканные в муке пальцы. – Ты, кажется, чем-то занята со всеми этими бумагами. Все в порядке? Немножко отдохнула?
– Нет, вообще-то.
– Тут… гм… тут звонил Марк по обычному телефону, – говорит она. – Спрашивал, не здесь ли ты.
У меня перехватывает дыхание.
– Что ты ему сказала?
– Сказала – да.
– Ты сказала ему, что я здесь?
– Э… ну, да так. Он сказал, что сейчас приедет с тобой поговорить.
– Что он сказал? – Я с ужасом таращусь на нее.
– Ну прости. – Эмили всплескивает руками, рассыпая по ковру муку. – Но ведь мы не обязаны его впускать. Даже если он устроит под дверью сцену. Но он всяко не осмелится. Особенно если узнает, что у меня тут через коридор живут два любопытных соседа, которые только и ждут, чтобы наябедничать на него прессе.
Я вскакиваю и начинаю запихивать Марковы бумаги обратно в сумку.
– Ну прости, Клэр. – Лоб Эмили тонет во множестве морщинок. – Ужасная была глупость говорить, что ты здесь. Зато потом я ему сказала, что он последний человек на свете, которого ты хочешь видеть, после всего, что он с тобой сделал.
Я подхожу ближе и сжимаю руку своей лучшей подруги, показывая, что нисколько на нее не сержусь.
– Нет ничего плохого в правде, Эм. Я устала от лжи. Мне все равно нужно идти.
– Куда? – Удивление заливает лицо Эмили.
– К детективу – вдруг он поможет мне выяснить, что случилось двадцать лет назад.
– Двадцать лет назад?
– Да. Летом девяносто пятого.
Закон Великобритании о правах человека от 1953 года
(Поправка) 2007 (№ 2007/1574) ст. 8 (1) и ст. 8 (2)
Статья 8. Право на защиту конфиденциальности и памяти.
1. Моно и дуо пользуются одинаковым правом на защиту своей частной и семейной жизни, своего жилья и дневников, как при жизни, так и после смерти. За исключением случаев, когда в завещании прямо высказано пожелание о сохранности личного дневника после смерти владельца, этот документ – как в электронной, так и в рукописной форме – должен быть либо уничтожен, либо кремирован вместе с покойным.
2. Государственным органам запрещается препятствовать осуществлению этого права, за исключением установленных законом случаев, когда затронуты интересы национальной и общественной безопасности либо возникает необходимость предотвращения беспорядков и преступлений. Таким образом, государственные органы могут быть наделены полномочиями по проверке дневников умершего в целях обеспечения этих интересов.
Глава шестнадцатая Ханс
8 часов 30 минут до конца дня
Часы на стене сообщают, что уже половина третьего. Время обеда давно прошло, и живот урчит, усиленно напоминая, что я занимаюсь делом Эйлинг вот уже десять часов без перерыва. Нужно сделать передышку и что-нибудь зажевать. Но телефон у меня на столе извергает пронзительный звон. Я со вздохом снимаю трубку.
– Ханс, – говорит женский голос, – это приемная. Здесь женщина, она хочет тебя видеть. Говорит, что ее зовут Клэр Эванс. Ты вроде бы приходил к ней домой сегодня утром.
Я резко выпрямляюсь в кресле:
– Пусть ее кто-нибудь проводит.
– Фиона. Она как раз здесь.
Прямо скажем, неожиданное развитие событий. Что привело Клэр Эванс ко мне на Парксайд? Факт: если я что-то подозреваю в человеке, то мои подозрения часто оправдываются. А сейчас интуиция говорит мне, что миссис Эванс – женщина с тайнами. Да, конечно, я уже знаю, что она сидит на антидепрессантах и в прошлом наносила себе раны. Внутренний голос, однако, подсказывает, что я лишь поскреб эти факты.
В дверях, всего в нескольких ярдах от меня, уже маячат две женские фигуры. Лавандовые глаза миссис Эванс с утра потемнели на пару тонов. И еще их теперь обрамляют припухшие веки.
– Проходите, мадам, – говорит Фиона, многозначительно подмигивая мне, после чего исчезает.
– А, миссис Эванс. – Я встаю, чтобы ее встретить. – Рад видеть вас снова. Садитесь, пожалуйста.
Она усаживается в то же кресло, которое раньше занимал ее муж. Руки движутся куда более нервно, чем при прошлом разговоре. И что-то в них изменилось. Исчезли украшения с пальцев, хотя золотой браслет на запястье никуда не делся. Готов поклясться, что утром видел у нее на левой руке кольцо с бриллиантом и рядом – свадебное. Я приглядываюсь – на пальце вместо колец теперь два свежих бледных круга. Похоже, доклад Хэмиша о том, что происходило на пресс-конференции в Гилдхолле, был точен.
– Чем могу быть полезен? – спрашиваю я.
Она не отвечает. Только разглядывает свои голые пальцы. Факт: молчание иногда говорит больше, чем неудержимая болтовня. Сейчас оно сообщает мне, что миссис Эванс борется с чем-то клокочущим у нее внутри.
– Дневник мисс Эйлинг говорит, что ее роман с моим мужем начался примерно два года назад? – Она поднимает голову и смотрит прямо на меня. В глубине ее глаз бушует смятение.
Я киваю.
Она вздыхает:
– Я так и думала. Марк тогда стал часто уезжать в Лондон. Так мой дневник говорит.
– Мне очень жаль. Сообщать женам, что их мужья, вполне вероятно, гуляют на стороне, – не самая приятная часть моей работы.
Она пожимает плечами:
– Я должна была сама догадаться, когда Марк стал уезжать из Кембриджа. Но я не умею читать знаки. Хотя они были с самого начала.
Выходит, Марк Генри Эванс – серийный гуляка.
– Значит, вы решили подать на развод.
Лицо Клэр Эванс заливает изумление. Но она тут же расправляет плечи и вздергивает подбородок:
– Слухи в нашем городке расходятся быстро.
– Получается, это решение вызвал мой визит. Иначе вы бы не узнали, да?
– Если бы вам изменяла жена, вы бы захотели с ней оставаться?
– Я не женат. Работа отнимает почти все мое время.
– Счастливый человек, – говорит она, прежде чем снова замолчать и уставиться на свои руки.
Я жду, когда она заговорит. Факт: большинство людей чувствуют себя неудобно во время долгого молчания. Им отчаянно хочется заполнить паузу словами. Зато рожденные в отчаянии фразы, как я чертовски хорошо усвоил за эти годы, могут рассказать о многом.
– А дневник мисс Эйлинг не говорит о том, что Марк… что Марк ее любил? – произносит она с неожиданной поспешностью.
– Я не могу ответить на этот вопрос.
Мне показалось или в ее глазах действительно мелькнуло облегчение? Отчетливый проблеск надежды, что ее муж никогда не любил свою пассию? Если так, она, видимо, подсознательно рассчитывает на примирение.
– Вы все еще подозреваете Марка?
– Мы проверяем все варианты. В том числе мужчин, с которыми мисс Эйлинг состояла в интимных отношениях.
– Вы что-нибудь нашли?
– Тоже не могу ответить.
– Вы словно каменная стена. – Она поднимает на меня глаза. – Как будто вы женаты на своей работе.
– Но ведь вы, полагаю, пришли сюда не для того, чтобы сказать, как я похож на каменную стену. Что в действительности привело вас на Парксайд, миссис Эванс?
Она открывает рот, но через пару секунд закрывает снова. И опять я жду, когда она заговорит.
– Я… э-э… Я пришла спросить вас о девушке по имени Анна Мэй Уинчестер.
– Анна Мэй Уинчестер? – Теперь моя очередь удивляться.
– Да. Выпускница Кембриджа, которая пропала по пути на Тринити-бал в июне девяносто пятого. Вы тогда были констеблем криминальной полиции и вели ее дело. Так, по крайней мере, в то время писали в газетах.
Конечно. Факт: Анна Мэй Уинчестер действительно исчезла по дороге на бал в 1995 году. Это было одним из первых расследований, которое я вел как констебль криминальной полиции. Но почему Клэр Эванс интересуется делом Уинчестер? Я напрягаю мозги, силясь вытащить оттуда фактическую связь между Клэр и Анной. В голове, однако, полная и жалкая пустота.
– Почему вы ею заинтересовались?
– У меня в голове почти сплошная черная дыра между тринадцатым и двадцать четвертым июня, – быстро говорит она, и по лицу пробегает стыдливая тень. – Поэтому я раскопала несколько газетных статей за тот период. Многие из них – об Анне. Я понадеялась, что вы мне про нее расскажете.
Все это выглядит странно и одновременно интригует.
– Разве вы не сохранили дневниковые записи за те двенадцать дней?
– Я… э-э… да, сохранила. Но потом я… э-э… кажется, я их потеряла.
Я поражен. Утеря дневника – серьезное дело. Обычно люди стараются не терять единственную связь со своим прошлым. Факт: закон о защите личных дневников (1995) заметно снизил число краж и вымогательств, обязав граждан установить в домах сейфы для хранения бумажных версий (хотя кражи дневников у тех, кто приносит их в общественные места, все еще остаются серьезной проблемой).
– Потеряли? Вы сообщили о пропаже, как того требует закон о защите личных дневников?
– Э-э… нет. – Смущение заполняет ее глаза. – Скажем… сначала мне нужно поискать как следует в доме.
– Но вы наверняка постарались заучить эти страницы до того, как их потеряли.
У нее дрожит нижняя губа.
– Наверное, я плохо старалась, – говорит она со вздохом, не поднимая на меня глаз. – Я куда-то переложила эти страницы, вот и все. Поэтому я здесь. Я понадеялась, вы скажете мне, что случилось с Анной.
– Миссис Эванс… – Я тоже вздыхаю. – В данный момент я расследую преступление. Я по уши в этом деле. Вы знаете, что это за расследование. С сожалением должен сказать, что срочная работа не позволяет мне отвлекаться на исторические происшествия.
– Прошу вас, инспектор! – Резкая, отчаянная нота звенит в ее голосе. – Не могли бы вы хотя бы сказать, что случилось с девушкой? Ее потом нашли?
Наверное, стоит ответить на этот вопрос. В конце концов, Клэр Эванс – моно, как и я. Моно должны помогать друг другу (а кто еще им поможет?). Факт: я также понимаю, что история потерявшейся девушки может проесть человеку психику, воплотив в себе неотвеченные вопросы.
– Сейчас посмотрю, – говорю я, поворачиваюсь к стеллажу у себя за спиной и достаю оттуда фиолетовый блокнот с надписью «Вынужденные и добровольные исчезновения. Уроки».
Я листаю страницы, затем провожу пальцем по столбцу с буквами «У-Ф-Х» в заголовке. Глаза притягивает главная запись, обведенная флуоресцентным маркером.
Фон Майер, Лизль. Что еще я могу написать бедной Лизль, кроме страшного, разрывающего душу признания, что я мог разобраться с ее делом в течение одного дня и что всю жизнь меня будет мучить боль от несделанного? [Вним.: Нужно…]
Боль, как от удара, заставляет сжаться сердце. Я с трудом дышу. Перевожу взгляд от Лизль к предыдущей графе в том же столбце.
Уинчестер, Анна Мэй. Пропала по пути на Тринити-бал в июне 1995-го, через девятнадцать дней неожиданно объявилась в квартире своей подруги, истощенная и растрепанная. Врач сказал, что уровень стресса у нее выше потолка. Когда ее спрашивали о причинах отсутствия, закрывалась, как моллюск в раковине, – к сожалению, я вытянул из нее очень мало. [Вним.: после разговора с Уинчестер вышел с чувством, что мне надо глубже изучить технику допросов. Найти время для следующей ступени лондонского курса «Как получать от людей полезную информацию».]
Я поднимаю взгляд на Клэр Эванс.
– Да, она нашлась, – говорю я.
– Нашлась? Правда?
– Через девятнадцать дней после исчезновения.
– Ну слава богу. – На ее лице написано облегчение.
– Что с ней случилось?
– Мы так и не узнали.
– Но почему она пропала?
– Она отказалась отвечать.
– Как странно.
– Странные вещи в моей работе случаются, – говорю я, пожимая плечами. – Люди вообще странные. И все время делают странные вещи. Это, к сожалению, факт, и он доставляет детективам вечную головную боль. Вы были знакомы с Анной?
Она качает головой.
– Тогда почему этот случай так для вас важен?
Перед тем как ответить, она несколько секунд смотрит на мою шахматную доску.
– Меня поразило это необычное происшествие, вот и все. Оно совпадает по времени с пропущенными днями у меня в голове.
Ответ Клэр Эванс звучит не слишком откровенно. Только отчаявшийся человек способен ехать на Парксайд лишь затем, чтобы узнать судьбу девушки, исчезнувшей на какое-то время двадцать лет тому назад.
– Кто-то из ваших знакомых беспокоился из-за исчезновения Анны? – Я решаю надавить сильнее.
– Я не уверена, что Ма… – говорит она и проглатывает слово. – Нет, я никого не знаю.
Меня вдруг осеняет.
– Возможно, ваш муж? Он же учился на магистра в Кембридже в то самое время?
Рот у нее крепко сжат. Но она быстро расправляет плечи и бормочет:
– Нет, я не думаю, что они с Марком были знакомы.
– Вы уверены?
Кивок. Но она явно что-то скрывает.
– Не могли бы вы, кстати, сказать, чем вчера занимался ваш муж?
Она моргает в ответ на столь быструю смену темы.
– Я обязана отвечать? – огрызается она, и глаза опять темнеют.
– Нет, не обязаны. – Мое лицо остается спокойным. – Но я ответил на ваш вопрос о мисс Уинчестер. Мой же вопрос касается человека, с которым вы намерены развестись.
Она вздыхает.
– Хорошо, – говорит она. – Вчера Марк был дома.
– Никуда не выходил?
Она качает головой:
– Нет. Я плохо себя чувствовала и почти весь день провела в постели. Марк постоянно приходил проверять. Он также приготовил мне обед и ужин. Но я почти ничего не ела.
– Что с вами было?
Она колеблется, перед тем как ответить.
– Просто небольшая хандра.
Ответ звучит достаточно честно.
– Не знаете почему?
Она несколько секунд сжимает губы, потом качает головой:
– Нет.
Глаза ее затуманиваются. Клэр Эванс, скорее всего, говорит правду.
– Как насчет позавчерашнего дня? Чем занимался ваш муж?
– Минутку.
Она открывает сумку, набитую старыми бумагами, и достает оттуда айдай. Хмуро нажимает несколько кнопок.
– Марк обедал в кабинете, чтобы не отрываться от работы, – говорит она, бросая на меня взгляд. – После ужина он вернулся туда же продолжать работу. Похоже, в четверг он тоже не выходил из дому.
Я чувствую, что миссис Эванс говорит мне правду, так действительно написано у нее в дневнике. Детали также совпадают с тем, что отвечал ее муж сегодня утром. Увы.
– Спасибо за помощь, – говорю я.
– Мне нужно идти, – говорит она, возвращая дневник на место и защелкивая сумку.
Она встает, и вид у нее сейчас слегка спокойнее того, с которым она садилась в это кресло. Но перед тем как направиться к дверям, она смотрит мне прямо в глаза.
– Марк не убивал Софию Эйлинг, – говорит она, решительно вздернув подбородок. – Он спит с другими женщинами, это правда. Поэтому я с ним развожусь. Но он не убийца. Он не способен ударить человека. Это факт, в котором я убеждена.
– Надеюсь, вы правы.
Она вздыхает.
– Спасибо, что потратили на меня время, инспектор, – говорит она и выходит за дверь.
Анна Мэй Уинчестер? Что за чертовщина.
Я уже готов броситься вниз по лестнице в архивохранилище, когда вдруг соображаю, что в дверях снова возникла Фиона. Улыбка у нее на лице почти такой же ширины, как пакет в руках.
– Я вижу, ты куда-то торопишься, – говорит она, протягивая мне этот предмет. – Но сначала, пожалуйста, расследуй этот сэндвич.
– Ты звезда, Фи. – Я выхватываю пакет у нее из рук. – Как мне с тобой расплатиться?
– У тебя был голодный вид, – говорит она, наблюдая с усмешкой, как я разворачиваю фольгу и запихиваю в рот кусок хлеба. – Я посмотрела у себя в дневнике, что время твоего обеда давно прошло. Вот мне и стало тебя жалко. Расплатиться легко, кстати. Накормишь меня обедом на этой неделе.
Поразительнее всего то, что Фиона не поленилась записать и выучить, в какое время я обычно обедаю. Трудно также не восхититься ее артистичной попыткой вытащить меня на свидание.
– Клэр Эванс – та еще штучка, правда? – говорит она и снова многозначительно подмигивает. – При этом неудивительно, что ее муж решил поискать поле позеленее…
– Ты язва, Фиона.
– Я просто честный человек. Ей слишком далеко до той дамы, что была на экране у Питера. Пышности у этой Клэр как-то не в тех местах.
– Замужние дамы часто набирают лишние фунты. Это факт.
– Что я слышу? – Она закатывает глаза. – Ты защищаешь Клэр Эванс?
– Нет, конечно, – я трясу головой, пытаясь одновременно затолкать в себя остатки сэндвича так, чтобы это выглядело пристойно, – просто указываю на очевидное.
– Ха. Неужто ты неравнодушен к грудастым блондинкам?
Хочется зарычать, но рот у меня забит хрустящим беконом. Я почти готов поверить, что Фиона со мной кокетничает. Или просто пытается выяснить, какие женщины мне нравятся.
– Как движется дело? – Она фыркает, мое лицо ее смешит.
Я проглатываю остатки сэндвича и только потом говорю:
– Пока больше вопросов, чем ответов. Неожиданный визит миссис Эванс добавил загадок на мою голову. Причем много.
– Грудастые блондинки часто создают проблемы. – Она вдруг кривовато усмехается. – Тебе лучше иметь дело с худыми смирными шатенками.
– Не всегда, – говорю я, не в силах отвести взгляд от альбома Софии у меня на столе – того, в котором хранится множество фотографий худой шатенки, ее предыдущей инкарнации. – И уж точно не тогда, когда передо мной стоит черноволосая красавица с таким добрым сердцем, что даже принесла мне обед.
Фиона изо всех сил старается спрятать улыбку. Кажется, я по-прежнему на хорошем счету у руководителя компьютерной службы, хотя не стоит обнадеживать ее слишком сильно. И обязательно записать сегодня в дневник следующие факты: Прекратить заигрывать с коллегами, даже если у них красивые глаза и завораживающие штаны с леопардовым рисунком. Потому что это опасно. Особенно если я все еще рассчитываю стать суперинтендантом до сорока пяти лет, что для моно, каковым я являюсь, будет беспримерным достижением.
Зарядив мозг беконом, я бегу в подвал, где хранятся ящики со старыми делами. Никто не знает точно, сколько папок томится там в забвении, но, по моим прикидкам, их должно быть не меньше десяти тысяч. Факт: оцифровка стоит денег, а полиция страдает от постоянных сокращений бюджета. Всем этим старым папкам предстоит покрываться подвальной плесенью даже во времена моей отставки.
В кавернозном помещении пахнет плесенью и сыростью; сморщив нос, я шагаю в дальний конец. У последнего ряда полок поворачиваю специальный штурвал, отчего стеллажи с лязгом движутся по проложенным в полу рельсам. Секунд через тридцать открывается проем между двумя соседними рядами с табличками «У-Ф» и «Х-Ц». Я ныряю в это пространство и разыскиваю взглядом нужный ящик. Выдергиваю тот, что отмечен буквами «Уи-Ун», и начинаю рыться в делах. К моей радости, между «Уинч, Гарри» и «Уиншелл, Бертран» втиснута папка «Уинчестер, Анна Мэй».
Я открываю папку и обнаруживаю наверху отчет.
Для сведения: старшему суперинтенданту следственного отдела Джеффри Монагану
Показания Уинчестер, Анны Мэй (объявлена пропавшей, дело № 14745), 9 июля 1995 года
9 июля 1995 года в больнице Адденбрука мною взяты показания у Анны Мэй Уинчестер (проживающей по адресу: 288, Брук-лейн, Котон). Она находилась в розыске как пропавшая в течение девятнадцати дней (с 12 июня по 1 июля 1995 года).
Мои записи говорят, что первая безуспешная попытка взять показания у мисс Уинчестер состоялась 2 июля 1995 года. Она трясла головой и отказывалась объяснять, что с ней произошло. Она также кричала и требовала, чтобы я ушел. Лечащий врач вывел меня из палаты и попросил прийти через неделю, добавив, что уровень стресса у мисс Уинчестер сейчас значительно выше нормы. Я не должен возбуждать ее еще сильнее и тем мешать ее выздоровлению, сказал он. Соответственно, я вернулся неделю спустя для второй попытки. Разговор продолжался десять минут: на этот раз она вела себя спокойнее, но по-прежнему отказывалась сообщить, что с ней случилось. Тем не менее я получил устные заверения мисс Уинчестер в том, что она не была ограблена, похищена, изнасилована либо избита и что ее не удерживали против ее воли.
Поскольку мисс Уинчестер выразила твердое желание сохранить «в тайне» свое местопребывание и события, происходившие с ней в течение этих девятнадцати дней, мы вынуждены отнестись с уважением к ее желанию. Она взрослый человек, и врач до сих пор не готов ставить официальный диагноз ее душевному состоянию. По моему мнению, однако, мисс Уинчестер страдает серьезным психическим расстройством, которое, возможно, как-то связано с ее отсутствием. Ее ответы, несмотря на связность, не показались мне достаточно осмысленными. Я уже составил черновик письма врачам Адденбрука, в котором выражаю озабоченность ее душевным состоянием.
По результатам консультации с детективом-интендантом Саймоном Харрисом мы решили закрыть дело Уинчестер.
Констебль криминальной полиции Ханс Ричардсон, 10 июля 1995 года.
Я рычу и трясу головой. Я понятия не имел, что в бытность свою констеблем имел привычку составлять такие помпезные рапорты.
Я перебираю пачку пожелтевших листов – задокументированное расследование, которое я проводил много лет назад. Снова рычу, добравшись до фотографии Анны Мэй. На ней почти ничего не видно, контуры лица превратились в бледные размытые очертания. Из-за вечной подвальной сырости поляроидный снимок за все эти годы выцвел почти полностью. Видно лишь, что у этой призрачной Анны тонкое лицо, а длинные волосы падают на плечи.
Отложив в сторону вылинявший поляроид, я быстро просматриваю бумаги. Очень скоро я вспоминаю сам некоторые ключевые факты из дела Уинчестер:
1. Анна была белой, рост – примерно 5 футов 7 дюймов, очень худой. Темно-каштановые волосы, карие глаза. Эти детали мы сообщили прессе.
2. Последней ее видела соседка по квартире Мэри Элис Сандерс, дуо, это было 12 июня 1995 года. Анна поселилась у Сандерс в свободной комнате в октябре 1994-го, через два дня после того, как отец Анны женился во второй раз. Примерно в 19:15 Мэри Элис, проходя мимо комнаты соседки, видела, как та наносит блеск на губы. К этому времени Анна уже была одета в бальное платье персикового цвета до щиколоток, на руках – белые перчатки до локтей.
3. Обыск в комнате Анны не выявил ничего подозрительного. Отец Анны и ее друзья подтвердили, что вплоть до исчезновения ее поведение ничем не отличалось от обычного.
4. Ее однокурсница Лора Петерсон, дуо, утверждала, что они с Анной договорились встретиться на мосту Тринити в 22:45, чтобы смотреть вместе салют, но Анна так и не пришла.
5. По всей видимости, у Анны не было постоянного друга, хотя, по словам Лоры, она часто встречалась с университетскими парнями.
6. В принадлежащей Анне промокшей сумке «Шанель», выловленной гребцом клуба «Питерхаус» из-под моста неподалеку от Мидсаммер-Коммон 17 июня 1995 года, находились билет на майский бал в Тринити (на ее имя), палочка туши для ресниц, тюбик с розовым блеском для губ и компактная пудра. Там также находился ее дневник и набор для теста на беременность – об этих находках прессе сообщено не было. Речная вода размыла чернила в дневнике, и записи расшифровать не удалось. Я отослал дневник экспертам, чтобы те проанализировали следы от нажима, но ко времени Анниного возвращения их отчет еще не был готов.
К сожалению, я не вижу связи между Анной Мэй Уинчестер и Клэр Эванс. Тогда почему Клэр пришла на Парксайд спрашивать об Анне? И откуда такое облегчение у нее на лице, когда я сказал, что через девятнадцать дней девушка нашлась?
Я снова просматриваю бумаги, но связь между двумя женщинами так и остается безнадежной иллюзией. Скорее всего, это копание в допотопных заморочках некогда пропавшей Анны Мэй Уинчестер – непозволительная трата времени. Наверное, миссис Эванс говорит правду и ее интерес к делу Уинчестер действительно объясняется тем, что оно совпадает по времени с фактическим провалом у нее в голове.
Нужно срочно возвращаться к делу Софии Эйлинг. Особенно если я хочу до конца дня поймать убийцу.
Я уже готов захлопнуть папку с именем Уинчестер, когда вдруг замечаю в правом нижнем углу верхнего рапорта нацарапанные карандашом очень мелкие буквы и цифры: АЗП007.
Факт: вскоре после поступления в полицию я придумал простенький код для собственного пользования. Эти знаки говорят мне, что в закрытом на ключ нижнем ящике моего письменного стола хранится предмет, имеющий отношение к расследованию дела Уинчестер. На предмете будет маленькая наклейка с номером 007.
Предмет предназначен только для моих глаз.
Это обнадеживает. Полагаю, на дело Уинчестер стоит потратить несколько лишних минут. Я отправляю папку обратно в ящик и бегу по лестнице к себе в кабинет, захватив по пути чашку кофе из автомата.
Закрываю дверь, отпираю нижний ящик стола и начинаю в нем рыться. Вскоре выкапываю АЗП007.
Это аудиокассета без наклеек.
Факт: АЗП007 – это сокращенно «аудиозапись показаний № 7».
Ну конечно. Факт: в самом начале службы я сделал несколько тайных записей своих бесед с людьми. Мой первый учитель как-то признался – однажды вечером, после многих стаканов пива, – что успешно разрешил один сложный случай после того, как тайно записал на диктофон разговор с вроде бы посторонним уголовником и потом прослушал запись. Вдохновленный его примером, я стал носить под рубашкой диктофон, включавшийся по голосовой команде, на некоторые беседы, особенно если предстояло иметь дело со сложными людьми. Никаких санкций у меня при этом, конечно, не было. Но в те времена я был убежден, что эти тайные записи являются полезной мерой предосторожности. Если вдруг встанет вопрос о качестве моей работы, у меня будет чем прикрыть задницу. Можно также прослушать их, если во время беседы я что-то упустил. Оглядываясь назад, я дивлюсь своей беспечности.
Видимо, уверенность приходит с опытом.
№ 7 – это наверняка тайная аудиозапись моей беседы с Анной. Рапорт от 10 июля говорит о том, что разговор продолжался десять минут. Пожалуй, я потрачу их еще раз. Возможно, в этой беседе Анна называла имя Клэр Эванс, но тогда, давно, это не показалось мне достойным упоминания в рапорте.
Плеер для микрокассет лежит в дальнем углу того же ящика. Я достаю его, ставлю кассету и нажимаю на кнопку. Вслед за статическим потрескиванием раздается мужской голос. Я морщусь (не знал, что в молодости мой голос звучал так пискляво).
М: Не могли бы вы мне сказать, где вы находились между вечером бала и днем, когда вы появились у Лоры?
Ж: Это секрет.
М: Что с вами произошло за эти девятнадцать дней?
Ж: Много чего. Много разного.
М: Например?
Ж: Многое происходит. Нравится нам это или нет.
М: Но что «многое»?
Ж: Я же сказала: это секрет.
М: Через несколько дней после вашего исчезновения мы нашли под мостом сумку, недалеко от Мидсаммер-Коммон. В ней находился билет на бал на ваше имя. Как ваша сумка туда попала?
[Пауза.]
Ж: Сумки иногда плавают.
М: У вас ее отобрали?
Ж: Попробовали бы они это сделать.
М: Значит, вы потеряли сумку?
Ж: Нет.
М: Как же тогда с ней расстались?
Ж: Мне она больше не нужна.
М: Почему?
Ж: У меня достаточно багажа за плечами.
М: Я вас не понимаю.
Ж: Кроме денег, ничего не нужно.
М: На что вы потратили свои деньги?
[Пауза.]
М: Мы также нашли в сумке ваш дневн…
Ж: Дневники нафиг не нужны.
[Короткая пауза.]
М: Как же вы вели записи? Где-то в другом месте?
Ж: Я похожа на человека, которому надо срочно что-то вспомнить?
М: Мы нашли у вас в сумке набор для теста на беременность. Вы думали, что беременны?
[Долгая пауза.]
Ж: Я больше не хочу… говорить. Утром сестра что-то опять мне вколола.
М: Но мы должны выяснить, что с вами случилось. Пожалуйста, будьте откровенны.
Ж: Все задают одни и те же мудацкие вопросы. Папаша утром уже спрашивал.
М: Он волнуется. Думает, что с вами могло случиться что-то плохое.
Ж: Ага, сейчас. Папашу волнуют только он сам и бабы, которых он трахает. Всегда так было. Я давно должна была понять.
М: Почему вы так долго не возвращались?
Ж: Потому что не хотела ничего делать.
М: Вы знаете, что вы не хотели ничего делать и что с вами не случилось ничего плохого. Вы также знаете, что у вас были деньги. Отсюда следует, что вы куда-то записывали эти факты. Не могли бы вы мне сказать, что еще вы записывали в этот период?
[Пауза.]
М: [Вздох.] Лора сказала, что вы договорились встретиться с ней в двадцать два сорок пять, чтобы вместе смотреть салют. Почему вы…
Ж: Лора – сука! Хитрая тщеславная сука! Всегда такой была. Я должна была давно догадаться.
М: Через девятнадцать дней вы пришли к ней домой. Где вы были до этого?
Ж: [Громкий стон.] Хватит на меня давить!
М: Почему вы решили прийти к Лоре?
Ж: Сука – она сука и есть. Да и вы ничем не лучше, обязательно надо додолбаться.
М: Как вы жили? Чем питались?
Ж: Я не хотела есть.
М: Что вы делали, когда шли на бал? С вами что-то случилось?
Ж: Мужики – ублюдки. Особенно этот.
М: Кто – этот?
Ж: Все они козлы. Особенно Марк. Он долго меня морочил.
М: Какой Марк?
[Пауза.]
М: [Вздох.] Послушайте… Вас кто-то обидел? Этот Марк, например? Вас ограбили, похитили, нанесли увечья, изнасиловали, удерживали против вашего желания?
Ж: Нет. Да нет же, мать вашу! Меня никто не грабил. Не похищал. Не насиловал. Нигде не удерживал. Ответ – нет. Я вам ясно сказала? Что случилось – секрет. Можете теперь отгребаться и оставить меня в покое?
М: Рад слышать, что с вами все в порядке. Я сейчас уйду.
Ж: Слава тебе господи.
[Гудок, указывающий, что запись остановлена.]
Я выключаю микрокассетный плеер с горящим от смущения лицом. Писклявый голос – это ладно. Гораздо хуже, что я повторил все до единой ошибки со страницы 379 руководства «Как проводить дознания». Например, нарушил предписания, утверждающие, что «слушать нужно активно, это способствует взаимопониманию» и «наводящие вопросы следует задавать только в самом крайнем случае».
Так что я был не просто наивным констеблем. Я был ничтожеством.
Хочется провалиться под землю. Наверное, нельзя быть таким требовательным к помощникам. Остается только надеяться, что с тех пор я все-таки немного научился проводить допросы.
Кофе в чашке стал холодным, как камень, но я все равно отправил его в желудок одним гигантским глотком. Жидкость прокатилась по горлу, как прогорклый сироп от кашля. Анна упоминала человека по имени Марк. Точнее, «козла» по имени Марк. Во время беседы я мало что понял из ее ремарки, но должен был разобраться с этим позже. Нужно было постараться и вытащить фамилию этого Марка из ее упрямого рта.
Почему я этого не сделал? Глупый юнец.
Следственные ошибки того давнего, 1995 года собираются кучей, как мертвые мухи. «Марк» – это наверняка Марк Генри Эванс. Больше некому. Он, видимо, тоже был ее парнем, иначе как бы он ее, по ее же словам, «морочил»? Вот почему его жена Клэр час назад явилась на Парксайд расспрашивать об Анне.
Марк, Анна и Клэр двадцать лет назад были между собой связаны. Но как? Марк сделал с Анной что-то ужасное в ночь Тринити-бала, из-за чего она исчезла на девятнадцать дней? И почему у Клэр нет ни одного факта за тот же самый период?
«Дейли телеграф», 2 февраля 2015 года
Психиатр, избивший моно, признал себя виновным
Британский психиатр признался, что наносил моно, уроженцам Венгрии, удары палкой по голове и одновременно серьезные психические травмы с целью улучшить их кратковременную память.
Стив Темпл, дуо, сорока семи лет, признал себя виновным в двадцати пяти случаях сознательного совершения актов физического и морального насилия. Десять лет назад он переехал из Лондона в Будапешт ради проведения экспериментов над моно, получив грант от сомнительной организации под названием «Фонд равноправия моно» (ФРМ).
В свою защиту доктор Темпл заявляет, что все потерпевшие моно подписали полный отказ от претензий и согласие на участие в экспериментах по проверке его нетрадиционных методов. Все они, настаивает доктор, стремились улучшить свою память. Огромный процент индивидуумов, говорит он, испытывает постоянный стресс из-за низкого статуса выполняемой ими работы и дискриминации, которой они подвергаются, особенно когда дело касается высшего образования и оплаты труда.
Доктор Темпл считает, что ему удалось подтвердить результаты экспериментов 2005 года, проводившихся в Гарвардском университете на мышах и затем на двух добровольцах, а потому его новаторские методы достойны поощрения, а не осуждения. Он утверждает, в частности, что ему удалось конвертировать женщину из моно в дуо серией ударов по голове с одновременным нанесением ей словесных оскорблений. Также, по его словам, он трансформировал моно мужского пола в человека, чья память «значительно превосходит таковую у дуо».
Как указывают юристы, защиту доктора Темпла сильно поколебал тот факт, что так называемая моно, конвертированная в дуо, отказалась давать показания в суде, что же касается мужчины-моно со «значительно превосходящей» памятью, то он на прошлой неделе исчез по пути с работы домой.
Судебное разбирательство продолжается.
Глава семнадцатая Марк
Эмили Уайд стоит в дверях своей квартиры. По фартуку, повязанному вокруг ее обширной талии, размазались взбитые сливки. У моих ноздрей плавает крепкий запах топленого масла и карамелизированного сахара. Наверное, она что-то печет.
Но рот ее изогнут в мрачной, неумолимой ухмылке. И кулинарная лопатка наставлена прямо на меня.
– Клэр здесь нет, – говорит Эмили.
– Но ты же сказала, она у тебя.
– Была. – Эмили прищуривается. – А потом ушла. Десять минут назад.
– Я тебе не верю.
– Это правда. – Слова выкатываются с приглушенным рычанием. – Я не вру. В. Отличие. От. Некоторых.
– Пожалуйста, Эм! – решаюсь я на мольбу, несмотря на ясную цель ее намека. – Мне нужно поговорить с Клэр…
– Ее нет! – злобно обрывает Эмили, едва не тыча в меня лопаткой. – Ушла сразу после твоего звонка. Сказала, что ей куда-то нужно – что-то выяснить из прошлого. Но если бы и была, она не стала бы с тобой разговаривать. После того, что ты сделал. Она рассказала мне все.
– Ты сказала «прошлого»? Клэр что-то говорила про лето девяносто пятого?
Я отмечаю короткий проблеск удивления в глазах Эмили – всего на долю секунды, перед тем как их снова заливает злость.
– Не твое дело! Ты достаточно ее измучил. Кстати, Клэр вполне серьезно настроена насчет развода. Через два дня будешь разговаривать с адвокатом. Получишь от него по голове толстым счетом.
Она со стуком захлопывает дверь, обрубая плывущие по коридору запахи чего-то горелого.
Нужно срочно найти Клэр. Пока она не сделала с собой чего-нибудь еще более ужасного. И со мной. С нами обоими. Но я понятия не имею, куда она могла подеваться.
Нужно думать.
Может, поставить себя на место Клэр? Если она взялась копаться в моей папке «Летний семестр 1995», значит ей срочно понадобились какие-то подробности о себе самой за этот период. Факт: она оставила пустую папку, забрав все бумаги, это говорит о том, что она либо торопилась уйти из кабинета, либо не знала наверняка, что ищет.
Но зачем Клэр вдруг понадобилось то лето?
Я рассеянно стучу пальцами по рулю «ягуара». Суть не улавливается.
Факт: мы с Клэр познакомились в конце мая 1995 года. Может, она решила вытащить на свет какие-то важные детали из первых дней нашего романа? Что-то волнующее ее сильнее, чем этот кошмар с Софией Эйлинг? Если так, что именно она ищет? Может… может, ей не дает покоя та беспорядочная цепь событий, кульминацией которой стал алтарь капеллы Тринити-колледжа? Драмы, заставившие нас прошагать по церковному проходу еще до того, как листья на деревьях взорвались красным и желто-коричневым? Я стучу по рулю еще сильнее, но понимаю лишь то, что надо свериться с собственными дневниковыми записями того давнего судьбоносного лета. Переосмыслить факты.
Черт. Мой старый чернильно-бумажный дневник не вытащишь на свет простым нажатием кнопки. Проклиная мистера Джобса за то, что так поздно изобрел свой айдай, я завожу машину и жму на газ, как только мотор подает признаки жизни. Мчусь по Грейндж-роуд, лишь символически обращая внимание на знаки ограничения скорости.
За четыре минуты я добираюсь от квартиры Эмили до нашего дома. Давлю на визгливые тормоза, выпрыгиваю из машины и несусь по садовой дорожке к кабинету. Распахиваю дверь и бросаюсь прямиком к заказному платиновому сейфу в дальнем конце комнаты (каждый из нас – на свой лад параноик). Факт: двенадцатизначный код от сейфа – 280276140669. Я набираю его, и прочная металлическая дверь бесшумно отъезжает вправо.
Как и папки с архивом, мои бумажные дневники выстроены в строгом хронологическом порядке. Я провожу пальцем вдоль аккуратно подогнанных корешков и выбираю тетрадь с надписью «Май – сентябрь 1995». Не имея ни малейшего понятия, откуда начинать читать, я полагаю, что лучше всего для этого подходит день нашего с Клэр знакомства. Факт: это произошло 26 мая 1995 года. Я пролистываю несколько страниц рукописных каракулей и нахожу соответствующую запись.
Вот ее последняя часть:
Я повел Ханну Астор-Дарлингтон на ужин в «Универ-блюз», но она выскочила из ресторана через несколько минут – после того, как официантка уронила ей на колени ручку, заляпав всю юбку чернилами. Пожалуй, стоит записать искрометный диалог, предшествовавший ее бегству. Я вчера читал «Десять советов писателям» профессора Хайсмит – она там пишет, что, если начинающие литераторы хотят качественно воспроизводить в своих книгах диалоги, должны записывать в дневники отрывки повседневных разговоров. Хайсмит наверняка права (хотя у меня есть смутное подозрение, что хорошо написанный диалог так же похож на реальный разговор, как хорошее порно – на реальный секс).
– О боже. Простите меня, пожалуйста, мисс.
– Черт. Посмотри, что ты сделала с моей юбкой. Я купила ее на прошлой неделе.
– Простите, мисс. Я заплачу за химчистку. Или за новую юбку.
– Дура. С твоей жалкой зарплатой тебе за всю жизнь не наскрести на новую. Господи, меня уже тошнит от этого заведения. Одни тупые моно.
– Успокойся, Ханна.
– Лучше бы мы пошли в «Отель дю Вен», Марк. Дневник говорит, там куда цивилизованнее. Эта дура испортила мне юбку от Диора. Господи, я уже и есть не хочу…
Лично я бы сказал, что фиолетовые кляксы придают ткани довольно интересную авангардность (хотя теперь это скорее юбка от Бэнкси, чем от Диора). К сожалению, моя спутница придерживалась иного мнения. Подобрав юбку, она бросилась прочь из ресторана, заполнив уши несчастной официантки еще более красочными ругательствами. Не могу сказать, что я сожалел об ее уходе. Ее общество бывает удушающе-надоедливым. У нее также есть склонность к мелодрамам – мне, очевидно, полагалось выскочить вслед за ней с сочувственным выражением лица. Но я решил, что не стоит труда гоняться за напыщенной мисс Астор-Дарлингтон. Кроме всего прочего, сегодня в постели она была совсем невыразительна. Лежала и молчала как дохлая рыба, предоставив всю тяжелую работу мне, а ее обвислые сиськи возбуждали, как два мешка с песком.
Официантка-моно, однако, совсем другое дело. Щеки румяные, как у девочки-подростка, а на лице – смесь детской невинности и наивного шарма. Вдобавок я с удовольствием рассмотрел великолепную ложбинку, когда она наклонилась поднять ручку. Тесный топ едва скрывал ее груди. (Наверное, еще и поэтому мне нравится ходить в «Универ-блюз» – своих официанток-моно они наряжают, как шлюх.) Задница у нее тоже впечатляюща, даже монументальна. Глаза, несмотря на переполнявший их страх и желание провалиться сквозь землю, сверкали, точно знойный летний полдень. Был бы я поэтом, сочинил бы что-нибудь липко-лирическое об их лавандовых красотах. Она извинилась и предложила заплатить мне за испорченный ужин из своего кармана. Я с удовольствием согласился, зная, что это даст мне возможность еще некоторое время полюбоваться на ее пышные прелести.
Минут двадцать я наблюдал, как она снует взад-вперед по залу; еще я отметил, что несколько посетителей-мужчин тоже бросают на нее плотоядные взгляды. Бордо, которое она мне принесла, к сожалению, больше походило на кошачью мочу – наверное, самая низкая, пятая категория, до которой мой папаша не снизойдет никогда в этой жизни (в следующей тоже). «Универ-блюзу» неплохо бы выучить пару-тройку правил о том, как хранить бордо. Но я все же умудрился выпить весь графин. Жизнь слишком коротка для плохого вина, но даже самое ужасное пойло становится переносимым в присутствии хорошенькой женщины. Я оставил ей немного чаевых и записку с приглашением на ужин в «Отель дю Вен», в понедельник, в 19:30, узнав у другой официантки (Эмили), что в этот день у нее выходной.
Можно не сомневаться, что Очаровательная Пышная Блондинка Со Сверкающими Глазами придет как миленькая. С виду она легкая добыча. Я даже склонен думать, что ангелоподобные официантки-моно могут стать неплохим освежающим контрастом к тем фасонистым дуо (с двуствольными фамилиями), которые бормочут Кафку даже во сне. Особенно если упомянутые официантки наделены восхитительными грудями, которые так и просят, чтобы их помяли.
«Помяли»? Открыв рот, я смотрю на выцветшее слово. Неужто в молодости я действительно вываливал в свой дневник столь отвратительный мусор? Я наверняка был пьян в тот вечер и ничего не соображал. Плохое бордо туда же. В афоризме о том, что несдержанность и плохая проза молодых писателей непременно догонят их в зрелые годы, есть доля правды. Я громко вздыхаю и переворачиваю несколько страниц – к финалу понедельничной записи.
Ужин в «Дю Вен» был прекрасен. Очаровательная Блондинка [Вним.: ее зовут Клэр Буши] явилась в коктейльном платье с глубоким вырезом, и я почти весь вечер наслаждался тем, что открывалось взору. Разговор тоже был неплох, хотя более интеллектуальные темы от нас бежали. Сам не знаю почему, я рассказал ей о своих попытках добиться публикации, в частности о том, что мне никак не удается попасть в длинный список конкурса рассказов «Таймс». Не понимаю, что на меня нашло и почему я так запросто выболтал ей все это, сидя над прямоугольной тарелкой с хвостом омара. Может, потому, что мое подсознание втайне брезговало рассказывать о том, что для меня важно, заполняющим мою жизнь подружкам-дуо – из страха признать, что в литературном департаменте я – главный неудачник. А может, мне развязали язык ее большие горящие лавандовые глаза. Она в буквальном смысле лучилась изнутри сочувственным светом, окружая меня тихим, но явным участием. Я вышел из ресторана в гораздо лучшем настроении, чем пришел. В конце концов, может, это и неплохо – бывать в компании простодушных моно с освежающе-ясными экзистенциальными взглядами, хотя бы потому, что они не станут судить тебя за то, чего ты в этой жизни (пока) не добился.
Она уступит, рано или поздно. Особенно если я и дальше буду носить ей розы и поить ее винтажным шампанским. Мне уже удалось произвести на нее впечатление с помощью «Крюга» 1977 года. Очень мило, поскольку фифы-дуо, которые крутятся вокруг меня в Тринити, редко вообще чему-то удивляются. [Вним.: в следующий раз заказать икру. Готов спорить, она ее никогда не пробовала. Это поставит меня в выигрышную позицию, из которой я смогу покорить ее холмы наслаждения.]
Изо рта у меня вырывается еще один стон. «Холмы наслаждения»? Это не просто плохо, а удручающе плохо. Я собираюсь листать дальше, но тут мне попадается на глаза начало следующей записи (30 мая 1995):
Анна Мэй Уинчестер всерьез настаивала сегодня утром за кофе, что когда-нибудь я стану политиком.
– В тебе есть политическая жилка. Вижу по глазам.
– Политическая? Ты, наверное, шутишь. Я всегда хотел стать писателем.
– Писателем ты тоже будешь. Но литература не даст тебе того удовлетворения, к которому ты так страстно стремишься.
– Правда?
– Я по глазам вижу, что ты – человек, которому постоянно нужно что-то доказывать. И себе, и окружающим. Политика поможет тебе заполнить внутреннюю пустоту.
– Мы знакомы всего несколько дней. Откуда ты все это знаешь?
Она ответила с усмешкой:
– Мы родственные души, Марк. Родственные души знают, что друг другу надо.
[Вним.: серьезно рассмотреть возможность когда-нибудь в будущем заняться политикой. Может, Анна и права. Если ей удалось всего за несколько дней узнать обо мне столь глубинные вещи, это могло быть предначертано звездами.]
Если бы двадцать лет назад Анна не произнесла тех слов, может, и не было бы сегодня утром этой чертовой пресс-конференции. Поразительно, как отзываются много лет спустя незначительные, казалось бы, разговоры.
Но сейчас меня интересует Клэр, а не Анна. Я со вздохом переворачиваю страницы к 3 июля 1995 года.
Клэр Буши отдалась мне вчера вечером после угощения икрой и шампанским (так что моя ма́стерская стратегия сработала). Вообще-то, приличную часть «Рюинар Розе» я выпил сам – почти три четверти бутылки. Удивительно, как после этого я вообще оказался на что-то способен.
Попутно меня ждал сюрприз – она оказалась жеманной девственницей. Но этого следовало ожидать. Розовая младенческая невинность должна была откуда-то взяться.
Теперь я убежден, что ничто не удовлетворяет лучше «дефлорации девы невинной» (вчера видел эту фразу в учебнике по средневековой дуо-литературе), особенно если дева столь мила и щедро одарена природой, как Клэр (может, потому я и оказался способен?). Понимаю теперь, почему определенным мученикам обещают на небесах девяносто восемь девственниц – или семьдесят две? Проснувшись сегодня утром, я обнаружил, что ночью она ускользнула – видимо, когда я впал в послеоргазменный ступор. Надеюсь, по пути она не встретилась с главным дежурным.
Я морщусь от вычурного тона этой записи. Притом что пылкому двадцатипятилетнему обалдую простительно изредка похвастаться достойной победой, юный Марк Генри Эванс ныне официально признается идиотом.
Факт: моя следующая встреча с Клэр была далеко не так приятна. Однако нужно перечитать мой собственный отчет об этом столкновении – это поможет понять, что именно так занимает ее в прошлом. С трудом сглотнув, я перелистываю несколько страниц, до 12 июня 1995 года.
Сорок минут прождал на улице; вышла девушка, сказала, что Анна ездила в Котон к родителям за каким-то ожерельем и будет позже. Потом явилась Анна, в очень красивом персиковом платье и на высоченных каблуках (никаких украшений на шее – кто-то из них соврал, или она, или девушка). Лицо покраснело от возбуждения. Не извинившись за то, что заставила ждать столько времени, она запросто взяла меня под руку и промолчала первые пятнадцать минут, пока мы шли к Тринити. Затем, к моему удивлению, выпалила:
– Мне надо уехать на пару дней.
– Не вижу проблемы.
– Ты говорил, что хотел бы пригласить меня в Корнуолл на выходные. Сказал, что можно взять лодку и целый день расслабляться на воде, пуская за кормой рябь.
– У меня в дневнике нет таких фактов.
– Но ты так говорил. Я эти факты записала. Поедем в Корнуолл в пятницу?
– Я не могу уехать на все выходные. У меня есть дела.
– Давай тогда хотя бы переночуем в Норфолке. Ты говорил, что хотел бы как-нибудь поехать со мной на пикник в дюны. Откроем бутылку шампанского и будем смотреть, как солнце садится в болото.
– Э-э… да. Этих фактов у меня тоже нет.
– Ты, блин, разборчив в фактах на заучку, Марк.
Я пожал плечами, потом ответил:
– Невозможно записывать все, что говоришь.
– Мне нужно где-то отсидеться и придумать, что делать с мачехой. Она сводит меня с ума своими угрозами.
– Прости, Анна. Но я не могу просто так все бросить и куда-то с тобой помчаться. В Кембридже, между прочим, майская неделя. На эти выходные много чего запланировано.
– Но ты же говорил, что готов ради меня на все. А это такая мелочь. Особенно когда мне нужна помощь.
– Я действительно такое говорил?
Она застыла как вкопанная и уставилась на меня, уперев руки в бока:
– Значит, это были пустые слова? Ты мне попросту лгал!
– К чему столько эмоций?
– Как ты смеешь говорить об эмоциях?! Как ты смеешь вообще так говорить?!
– Успокойся, Анна.
– Пошел к черту, Марк!
Так за несколько минут прогулка под руку превратилась в драку. Я и подумать не мог, что у Анны настолько взрывной характер, – до той самой секунды, когда она подняла руку и хлестнула меня по лицу. Не знаю, из-за чего она вдруг так на меня разобиделась: видимо, мои слова оказались для ее ушей не совсем приятными. Пришлось защищаться от столь решительного нападения, ибо меньше всего мне хотелось явиться на бал с черным глазом, в тон фраку. В какой-то несчастливый миг Анна потеряла равновесие, неловко качнулась на своих высоченных каблуках и со страшной силой ударилась о фонарный столб. Я от испуга открыл рот, но через секунду услышал сдавленный крик:
– О БОЖЕ! ЧТО ЗА ЧЕРТ!
Я наклонился, чтобы помочь ей подняться, но она оттолкнула мою руку и даже замахнулась, чтобы ударить во второй раз. К счастью, я успел увернуться от ее разъяренных ладоней. В конце концов я ушел, а она осталась стоять на коленях под столбом, сжимая руками голову и пронзительно визжа.
Я прошел через всю Португал-плейс, но на Магдален-стрит меня ждало новое потрясение. Передо мной предстала Клэр Буши со сложенными на груди руками и горящим взором:
– Я все видела, Марк! Вы держались за руки. И я все видела на Джизас-Грин. Все! Ты с ней спишь, да? Не желаю тебя больше видеть.
Я хотел было парировать, что вольному воля и что между нами с самого начала не было ничего особенного. Однако Клэр умчалась прочь до того, как я успел открыть рот, так что ей не пришлось слушать мой ответ. Проклиная женские закидоны (в этом городе, похоже, все девицы ненормальные, только каждая по-своему), я прошел дальше по Тринити-стрит и лишь застонал при виде змеящейся очереди из тех, кто рвался на бал. В очереди я заметил Элеонор Рузвельт, неотразимую в своем желтом платье, и решил к ней присоединиться…
Да, именно в этот вечер начались мои проблемы с двумя женщинами. Я со вздохом пролистываю еще несколько страниц к 15 июня 1995 года.
Прочел сегодня в «Таймс», что в понедельник Анна не появилась на балу в Тринити. Последний раз ее видели у нее в комнате, когда она туда собиралась.
У меня отвалилась челюсть. Холодный пот пробежал по спине. Куда понесли черти эту истеричку, после того как я оставил ее на Джизас-Грин?
Собрался звонить в полицию и выкладывать им, что сопровождал Анну часть пути на бал. Но что-то меня удержало. Если все узнают, что, перед тем как она пропала, мы подрались, будет кошмар. Хуже того: за день до ее исчезновения мы тоже поссорились (так утверждает мой дневник за 11 июня, хотя он же говорит, что после ссоры у нас получился отличный примирительный секс). Если меня арестуют как виновного в исчезновении Анны, будет катастрофа. Если кто-то другой, скажем… что-то сделал с ней вскоре после того, как я ушел с Джизас-Грин, меня всяко измордуют за то, что оставил ее – в жутком состоянии, на коленях – по пути на бал. А если она в истерике что-то сделала с собой сама (например, бросилась в реку), меня опять же обвинят и арестуют.
Час спустя зазвонил телефон, и я лишний раз убедился, что о наших отношениях лучше молчать. Женщина на другом конце провода представилась Лорой Патерсон, сокурсницей Анны.
– Мой дневник говорит, что Анна не стала со мной встречаться вечером третьего июня, потому что ее пригласил на ужин парень по имени Марк Эванс. Вы с ней в последнее время виделись?
Я открыл рот, не сразу придумав, что сказать. Решил признаться, что в тот вечер мы действительно ужинали вместе, но в последнее время не виделись (слова «в последнее время» в моей интерпретации были равны протяженности моей кратковременной памяти, то есть мы не виделись с ней вчера и позавчера). Лоре явно не понравился мой ответ, но она объяснила, что пытается помочь полиции, которая ведет расследование. Я обещал позвонить, если узнаю что-то имеющее отношение к Анне, и очень просил ее сделать то же самое. Дрожащей рукой я повесил трубку, понадеявшись, что Лора не знает, что после 3 июня мы с Анной три раза спали вместе.
И тут до меня дошло. Запись от 12 июня говорит, что Клэр Буши наблюдала всю нашу с Анной перебранку: «И я видела все на Джизас-Грин. Все!» Я понял, что, если полицейские вдруг начнут допрашивать Клэр по поводу исчезновения Анны, ей будет в чем меня обличить. Я должен как-то удостовериться, что она не знает, кем была эта девушка. И если даже случайно она наткнется на имя Анны (и на тот факт, что Анна растворилась в загадочном тумане), я должен быть уверен, что Клэр не вмешается.
В 18:30 я схватил бумажник и, выскочив из задних ворот Тринити, понесся к «Универ-блюзу» (к сожалению, я понятия не имел, где Клэр живет). Когда я появился в дверях, она бросила на меня злобный взгляд. Я стал умолять ее выйти на два слова, замечая одновременно, как несколько посетителей поворачивают в нашу сторону головы. Она поджала губы, сложила руки и ответила отказом. Я продолжал умолять, насколько можно повышая голос, отчего хозяин ресторана (кажется, его фамилия Дженкинс) устроил мне разнос за оскорбление его персонала. Я вернулся к «Универ-блюзу» после окончания смены Клэр, примерно в 22:30. Она вышла из ресторана и прошагала мимо меня, отказавшись признать, что я существую. Ее глаза – каменные колодцы с лавандой. Я шел позади и просил прощения за свое поведение. Но она вскочила на велосипед и укатила прочь, расправив плечи.
Завтра я снова буду стоять у ресторана. Потому что Клэр должна быть за меня, а не против.
Я вздыхаю и качаю головой. Факт: двенадцать дней спустя Клэр меня простила. Чтобы лишний раз в этом убедиться, я смотрю на запись от 24 июня 1995 года. В ней говорится:
Клэр вышла из ресторана примерно в четверть одиннадцатого. Взгляд ее задержался на огромном букете малиновых роз у меня в руках. Но, поджав губы и расправив плечи, она продолжила свой путь к велосипеду. Я двинулся следом, изрыгая извинения как можно более униженным тоном. К моему удивлению, она глубоко вздохнула, обернулась и, прищурившись, посмотрела на меня:
– Никогда не смей меня больше обманывать.
– Прости, Клэр. Дай мне шанс, и я докажу, что, кроме тебя, мне никто не нужен.
Я сунул букет роз в корзинку ее велосипеда. Она вежливо кивнула и покатила прочь, но я отметил, что ее плечи образуют уже не столь резкую линию. Притом что она уже готова меня простить, надо продолжать делать все возможное, чтобы в случае чего она была на моей стороне. Завтра вечером буду снова торчать перед «Универ-блюзом», вооруженный очередным гигантским букетом. Похоже, она неравнодушна к малиновым розам, и я уже убедился, что настойчивые упрашивания – ключ к ее сердцу.
Я со стоном перелистываю еще несколько страниц к записи от 4 июля 1995 года.
На этот день пришелся двойной ракетный удар. В десять утра зазвонил телефон – на линии была Лора Паттерсон.
– Я только хотела сказать, что три дня назад Анна явилась ко мне домой.
– Правда? Ну слава богу. Что случилось? Где она пропадала?
– Нам остается только гадать.
– Как?
– Она ничего не сказала. Вообще отказалась говорить.
– Я не понимаю.
– У нее был больной и растрепанный вид. Одета во все то же бальное платье.
– Что? Она пришла к тебе в том же самом платье?
– Да. Хоть от него и остались одни клочья. Ссадины у нее на руках мне совсем не понравились. Жирные, спутанные волосы. Но хуже всего глаза. Она… как безумная. Короче, я вызвала «скорую помощь».
Внутри у меня прокатилась волна облегчения, хотя я все еще боялся, что меня обвинят в Аннином, теперь уже временном, исчезновении. Я стал расспрашивать Лору о подробностях. Она сказала, что Анна до сих пор отказывается что-то кому-то объяснять. Мне стало еще легче – если Анна молчит о том, что с ней происходило, то и меня обвинять не в чем.
Но когда позже я встретился с Клэр на обеде в «Оливковом дереве», от легкости не осталось и следа. Она появилась в этом бистро с пылающими щеками и сверкающими глазами. Я должен был с самого начала догадаться: что-то здесь не так. Но я был слишком поглощен решением непростой задачи – как расстаться с нею, не разбив ей сердце уж очень сильно. До меня, кроме всего прочего, стало доходить, почему бесперспективны долгие отношения между моно и дуо.
Официант принес крем-брюле, и я уже почти выпалил, что она достойна лучшего парня, чем я. Забавно, но я собрался воспользоваться самым затертым клише из книжки «Как расстаться с девушкой, которую ты недавно трахнул, и сохранить при этом свою ценную задницу». Наверное, это свойственно всем мужчинам – в минуты отчаяния прибегать к затасканным оборотам. Но не успел я открыть рот, как Клэр положила на стол ложечку, вытерла салфеткой дрожащие руки и выпалила то, чего я не желал слышать еще миллион лет.
– Я беременна.
Вилка с лязгом упала на бетонный пол. Несколько секунд я таращился на Клэр, с ужасом раззявив рот.
– Не смотри на меня так, Марк. Скажи что-нибудь, пожалуйста.
Я моргнул, ибо черные точки неверия еще плясали у меня перед глазами.
– Ты уверена?
Слова вывалились у меня изо рта мучительной кашей. Клэр в ответ решительно кивнула. Потом объяснила, что пять дней подряд ее каждое утро рвало в ванной у миссис Перкинс, а позавчера она поигралась с тестом на беременность. Голубая полоска на индикаторе (плюс факт, что у нее уже двухнедельная задержка) заставила ее пойти сегодня утром к врачу. Тот подтвердил, что она беременна. Около четырех недель, сказал врач.
Будьте вы прокляты, фертильные девственницы-моно, – ни о чем другом я не мог в этот миг думать. Но как бы ни хотелось мне выскочить сейчас из бистро, занудное чувство ответственности удержало меня на месте. Пригвоздило к стулу. На тонком как лезвие обрыве, у самого края разверзшейся пропасти под названием «долг».
– Что мы будем делать с ребенком?
«Аборт», очень хотелось сказать мне. Этот дуо-моно-ублюдок разрушит мою жизнь. Если уже не разрушил. Но я прикусил язык. Слух о том, что я отправил на аборт женщину с моим отпрыском, разорвет в клочья мою репутацию. Как я посмел даже подумать о том, чтобы убить собственное дитя?
Тем не менее из-за моего долгого молчания у Клэр тревожно потемнели глаза.
– Неужели ты совсем не рад?
Я погрузил ложку в крем-брюле и отправил в рот гигантскую порцию.
– Мы поженимся?
Вместо ответа на этот вопрос я чуть не подавился, но как-то взял себя в руки.
– Давай обсудим потом, ладно?
От этих слов Клэр глубоко насупилась. Хватаясь хоть за что-то подходящее, я пообещал ей, что мы завтра увидимся за обедом и как следует все обсудим. Клэр явно не удовлетворил мой ответ, но она все же согласилась встретиться завтра в час дня в «Бэкстрит-бистро». Словно в тумане, я потащился обратно в колледж, едва увернувшись на Тринити-стрит от ехавшего по встречной полосе велосипеда.
Что же мне, тысяча чертей, теперь делать? Я в глубокой заднице из-за того, что трахнул невинную деву в самый неподходящий день месяца.
Я нахмурился. Может, Клэр хочет напомнить себе какие-то факты из тех, что я только что прочел? Если да, то какие именно? Всю историю с Анной? Вряд ли. Клэр, насколько я знаю факты, так и не выяснила имени девушки, ударившей меня по лицу на Джизас-Грин.
И потом, это ведь было так давно.
Может, она хочет узнать, что в действительности произошло в то утро перед нашей свадьбой?
Наша свадьба. Черт! Факт: я чуть не опоздал к алтарю. Страшный, отвратительный кавардак. Если бы я разобрался с Анной раньше, когда еще была возможность. Если бы я тогда смог поговорить с ней по-доброму, подобрать нужные слова (и после этого у меня хватает наглости считать себя художником слова). Я со вздохом переворачиваю страницы до 8 июля 1995 года.
Сегодня утром я решил навестить Анну в больнице. Я на цыпочках вошел в ее палату, с ужасом думая о том, как она меня встретит. Но волновался я напрасно. Она робко полуулыбнулась, словно никакой ссоры никогда не было, и вновь опустила глаза на книгу, которую держала в руках («Алиса в Стране чудес»). Я расположился рядом с кроватью, отметив про себя, что вид у Анны одновременно изможденный и отстраненный. И уж точно передо мной была не та пылкая девушка (в конце концов, не я ли описывал ее раньше как настоящую тигрицу в постели, с когтями для пущего сходства?).
– Прости меня за глупую ссору в тот день. Я заслужил все твои оплеухи.
Анна даже не подняла взгляда от книги, которую все еще держала в руках. Немоту я счел за прощение и, набравшись храбрости, спросил, где она была. Но она лишь вздохнула в ответ.
– Надеюсь, это не из-за меня, Анна.
– Ты меня очень разозлил в тот вечер. Я ударилась о фонарный столб. И все вернулось.
У нее задрожала нижняя губа.
– Что вернулось?
– Прошлое. Все. Как волна.
– А?
– Правда – это бремя. Особенно та правда, которую мы прячем от самих себя после двадцати трех лет.
– Что ты имеешь в виду?
– Когда ты ушел, я еще долго сидела на Джизас-Грин и выла. Слишком много навалилось сразу. Невыносимо много.
– Ничего не понимаю.
– Но ведь что-то хорошее в этом тоже может быть. Бо́льшая часть памяти – дерьмо. Но другая часть дает надежду. Дьявол в деталях, Марк. Мелочи – вот что важно.
– Я действительно не понимаю, что…
– Я помню день, когда мы познакомились. В фойе Музея Фицуильяма, в том месте, откуда уходит вверх большая лестница. Я видела искру в твоих глазах, когда шла тебе навстречу. Ты понимал уже тогда, что́ между нами происходит. У нас родственные души, хоть мы еще и были в тот миг чужими. Искра была у тебя в глазах, когда ты пожимал мне руку – ты задержал ее дольше, чем нужно. Все это ко мне вернулось. Твоя искра.
– Может, ты и права насчет искры, только…
– Изгиб твоих губ. Его я тоже помню. Ты просил мой телефон, и твои губы изгибались в отчаянии – словно сама мысль о том, что ты вновь меня потеряешь, была для тебя невыносима.
– Поразительно – ты записала все эти факты.
– Я помню мельчайшие жесты, говорившие о твоих чувствах. Каждый по отдельности. Как ты отодвинул прядь волос от моего лица – твои пальцы ласкали мою кожу, точно дыхание бабочки. Никто – даже Алистер – не был со мной так нежен. Я все это теперь вижу. Я нужна тебе, Марк. Это у тебя внутри.
– Сколько же ты потратила времени, чтобы записать эти факты?
– Я люблю тебя, Марк. И ты меня любишь, разве нет? Скажи. Мне нужно услышать эти слова из твоих уст.
В тот самый миг мне в голову ворвался факт: через несколько недель я женюсь на Клэр Буши. Следом возникла другая мрачная уверенность: Анну нужно остановить. Как ни приятно мне было слушать о том, что она меня любит.
Так что я вздохнул и выпалил с неуклюжей и отчаянной поспешностью:
– Я… гм… встретил недавно другую девушку. И я… гм… скоро на ней женюсь. Прости, Анна. Прости, пожалуйста.
Она задохнулась, глаза потемнели от потрясения. Несколько секунд я подбирал слова и наконец произнес – мягко, но спотыкаясь:
– Все должно было быть по-другому. Но я очень рад, что с тобой все в порядке. Пожалуйста, будь осторожна, Анна. Пожалуйста, поправляйся быстрее.
Я с усилием поднялся на ноги и вышел из палаты, так и не решившись взглянуть ей в лицо. И все же волна облегчения прокатилась по моему телу, как только я вышел на яркий солнечный свет. Ничто больше не висит надо мной, подумал я, раз Анна не собирается обвинять меня в своем исчезновении (хоть мне по-прежнему интересно, где она пропадала девятнадцать дней).
Многое пошло не так в нашем разговоре, и я должен был заподозрить неладное. Нельзя было вываливать на нее – да еще так резко и грубо, – что вот, мол, встретил другую девушку, пока тебя не было, и теперь на ней женюсь. Факты из прошлого – это проклятие, особенно когда оглядываешься и понимаешь, что все можно было сделать намного лучше. Особенно в свете того, что произошло в день нашей с Клэр свадьбы. Я со стоном листаю страницы до 30 сентября 1995 года.
Телефон у меня в комнате зазвенел, как только я застегнул на рубашке последнюю пуговицу. Это была Пиппа.
– Я только что в последний раз попыталась убедить маму с папой.
– Можно догадаться. Отец стоит на своем.
– Боюсь, что так. Он ни при каких обстоятельствах не будет присутствовать на свадьбе дуо и моно, даже если женится его собственный сын.
– И произнес очередную речь о моей глупости?
– Гм… да… так и было. Правду сказать, Марк, он объявил, что только сын-идиот способен жениться на идиотке-моно, а он не хочет иметь ничего общего с сыном-идиотом. Чтобы ты знал, мама не собиралась слушать его и хотела приехать сегодня в Кембридж. Но отец ее уболтал.
– Ну и ладно. Но тебя-то я сегодня увижу?
– Ну… вообще-то…
– Ты тоже не приедешь?
– Прости. Отец пообещал лишить наследства всех, кто будет на свадьбе. Меня в том числе. Он не желает терпеть рядом с собой никчемных дур, идиотов-сыновей и слабоумных дочерей.
– Все в порядке. Ты не обязана приезжать. Особенно если это разозлит отца.
– Не обижайся, Марк.
Я повесил трубку. Повздыхав над безволием сестры и узколобостью своего семейства, я стал одеваться. Глядя в зеркало на свое затравленное отражение, начал прилаживать галстук-бабочку. Попутно отметил, что, после того как Клэр вывалила на меня новость о своей беременности, на лбу прибавилось морщин. Но я принял решение и должен его исполнить. Даже если вся моя семья столь же твердо вознамерилась повернуться к нашему смешанному браку своей снобской, чванливой задницей.
В эту минуту я услыхал позади тихое шуршание. Но обернуться и посмотреть, в чем дело, я не успел – в зеркале возникло отражение другого лица. Оно было бледным и изможденным, алые губы притягивали взгляд.
– Значит, ты сегодня женишься.
В этот самый миг я должен был что-то сделать. Как-то защититься. Вместо этого я замер с застывшими на галстуке-бабочке пальцами, точно кролик перед удавом. Перед шипящей коброй-убийцей с малиновыми губами. В следующую секунду я осознал, что она приставила мне к горлу лезвие холодного как лед ножа.
– Говорят, она моно. Маленькая глупенькая моно. Что на тебя нашло, Марк?
Я почувствовал, как острие протыкает мне кожу и резкая боль кольцом охватывает горло. Не шевелясь я смотрел, как решительно течет вниз ручеек крови. Он уже собрался лужицей на узле моего белого галстука, окрасив его в ярко-красный цвет.
– Что ты здесь делаешь?
Слова вылились дрожащим шепотом. Я мог лишь хватать ртом воздух, а она в этот миг передвинула холодное металлическое лезвие на пару миллиметров в сторону – туда, где еще оставалось чистое место.
– Пришла тебя поздравить. И посочувствовать, если тебе это нужно.
– С большим ножом.
– Стащила в пабе «Форт Сент-Джордж», когда никто не видел. Через пару часов после того, как все вдруг вернулось. После того, как ты ушел. Сперва хотела сама себя зарезать. Слишком много было сразу. Но не стала. Потому что поняла, что я тебе нужна, подо всем этим.
Она замолчала и втянула воздух дрожащим ртом. Нужно, чтобы она все время говорила, а не то проткнет мне горло в этой второй точке.
– Хорошо, что ты этого не сделала, было бы глупо.
В ответ Анна лишь повела глазами:
– Я стайер, Марк. Я не собираюсь сходить с дистанции.
Очень хотелось спросить, зачем она держит нож у моего горла, но я решил, что, пожалуй, не стоит напоминать ей об оружии в собственной руке.
– Конечно не собираешься, я вижу.
– Тебе никогда не понять, что со мной произошло, Марк. Тогда, на Джизас-Грин.
– Я думал, ты меня простила.
– Я думала, ты меня любишь.
Мне вдруг пришло в голову, что эта вооруженная ножом девушка принадлежит к особой породе и очень опасна. Особенно когда нож приставлен к моему горлу и уже успел порезать до крови.
– Мудак ты, Марк. Только мудак мог купиться на хорошенькую мордашку. Особенно если эта мордашка дуры-моно.
– Но Клэр бе…
– После того как ты ушел из больницы, я больше ни о чем не могла думать – только об этой, на которой ты женишься. Когда все помнишь, оно вертится в голове снова и снова. И растет гнев.
– Прости, я был тогда слишком резок. Прости меня.
– Да, только я размечталась о красивом белом платье, а тут ты раз – и заявляешься в Адденбрука… – У нее на лице появились мокрые дорожки слез. – Тебе нравится калечить людей, да, Марк?
Очень хотелось резко выпрямиться и провести какой-нибудь защитный прием, ибо если кто-то и мог вскоре стать калекой, то я (не физически, так морально – ибо, как она любезно указала минуту назад, я через пару часов должен был жениться на моно). Но тут я осознал, что Анна опустила нож и теперь хмуро смотрит в зеркало на свое заплаканное отражение, словно впервые ясно его видит.
Мой локоть резко дернулся, ударив ее по ребрам. Она отлетела примерно на ярд, лицо перекосилось. Я резко развернулся и навалился на Анну, хватая ее за плечо и толкая вниз, чтобы она упала на спину. Она со стуком ударилась о пол, ноздри раздулись от потрясения.
– Помогите!
Но несмотря на это, нож оставался у нее в руке. Я упал на колени, отчаянно желая его отобрать. Под Аннины вопли я придавил локтем ее правое плечо и потянулся к ножу. Я уже почти схватил его, когда она вывернула руку и, резко дернувшись, ударила коленом мне в пах. Я взвыл, не в силах пошевелиться от боли. Только смотрел, как нож, сверкая, взмывает вверх, прямо ко мне, как лучи солнца, пройдя сквозь окно, отражаются от лезвия.
– Помогите!
Я метнулся в сторону, пытаясь уклониться от ножа. Но слишком поздно. Жгучая боль пронзила предплечье. Опустив глаза, я понял, что Анна во второй раз проткнула меня острием. Нож аккуратно прорезал рукав белой рубашки и продырявил кожу.
Новая яркая вспышка. Я посмотрел вверх – Анна стояла на коленях, воздев нож над моей головой. Лицо ее пылало красным. Малиновые губы растянуты. Зубы обнажены в злобном оскале. Глаза – готов поклясться – превратились в бушующие вихри безумия.
На этот раз я вообще не мог шевелиться. И дышать. Я только смотрел на Анну. Возможно, виной тому шок от вида крови на белом рукаве и волны боли, залившей мне руку. Или ужас от сознания того, что она хочет моей смерти.
Нож двинулся по дуге вниз.
Я застыл, точно жертвенный агнец, назначенный к закланию.
И тут нож резко пошел в сторону и со стуком упал на пол.
Я кое-как отвел глаза и увидел, что, кроме нас с Анной, в комнате есть кто-то еще. Два моих свидетеля на свадьбе – Уильям и Пол – примчались мне на выручку. Уильям – слава ему! – быстро сообразив, в чем дело, выбил нож у Анны из руки, а Пол прижал ее к полу (помогло то, что он полузащитник в команде Тринити по регби).
– Она меня чуть не убила. – Я поднялся на колени и показал на Анну. – Она сумасшедшая!
– Нет!
Это свое опровержение она прокричала, лежа на полу и пытаясь выкрутиться из рук Пола.
– Я только хотела, чтобы ты понял. Мы родственные души, Марк! У нас был шанс. Я видела это в твоих глазах в первый же день. Искру узнавания. Но ты ушел и все испортил.
Уильям указал на мою правую руку. Я посмотрел вниз. Рукав пропитался кровью.
– Она тебя ранила, Марк. Я позвоню в полицию.
– Я не хотела его убивать. Пожалуйста, не надо в полицию! Пожалуйста! Я просто хотела вернуть все обратно. Я знаю, это невозможно. Я теперь все помню. И от этого еще хуже.
Я кое-как поднялся на ноги и посмотрел на Анну. Она тряслась от рыданий. Малиновая помада размазалась. Тушь для ресниц перепачкала лицо. Она была похожа на изможденный скелет. Пустая оболочка той жизнерадостной девушки, что шла ко мне, широко улыбаясь (так дневник говорит) по фойе Музея Фицуильяма, а после говорила, что я стану либо поэтом, либо политиком, либо подлым убийцей с топором. Меня окутала жалость. Искра узнавания – совсем мимолетная – того, что когда-то связывало нас физически. Даже вспышка сожаления – но очень слабая – о том, что отныне невозможно. О том, как хорошо нам было бы вместе, если бы не вмешались обстоятельства. Несмотря на нестабильную психику и испорченный характер, Анна Мэй – самая умная, проницательная и сообразительная женщина из всех моих знакомых (тому свидетельство – этот дневник, я ведь записывал несколько наших с ней жарких дискуссий об относительной важности Ибсена, Вагнера и Вулф). Запись о нашей первой судьбоносной встрече говорит, что в мисс Уинчестер есть что-то поистине очаровательное, несмотря на слегка оттопыренные уши, – но ни за что на свете я не признаю этого сейчас. В день моей женитьбы на другой женщине.
Однако эти мысли, вспыхнув у меня в голове, быстро утонули во всепоглощающей легкости. При всем своем уме и сообразительности Анна оказалась буйнопомешанной. И я поступаю очень правильно, вступая в брак с женщиной, которая носит моего ребенка. И я на сто процентов уверен, что милая, очаровательная Клэр Буши – точно не сумасшедшая.
– Отпустите ее.
Хмурые складки на лбу у Пола намекали на то, что я свихнулся вслед за этой девушкой.
– Она чуть не заколола тебя ножом, чувак.
– Отпусти ее, Пол.
Пол ослабил хватку.
Я подошел и встал чуть в стороне от Анны. Мне было жаль ее, всего сказанного и сделанного.
– Уходи. Просто уходи. И пожалуйста, больше не напоминай мне о себе. Иначе, боюсь, мне придется сообщить в полицию. Не забывай, что мои друзья видели, как ты бросалась на меня с ножом.
Я поднял правую руку в мокром красном рукаве.
Анна отпрянула, словно только сейчас увидела мою окровавленную руку:
– Я не хотела, Марк! Правда!
Голос напоминал хныканье.
– Уходи, Анна.
Она встала и, шатаясь, со вздрагивающими от рыданий плечами, вышла за дверь. Уильям обошел комнату, прищелкивая языком и дивясь беспорядку, который она тут устроила.
– Как ты мог ее отпустить? Посмотри, что она сделала с твоей рукой. Хотя тебе повезло. Рана, кажется, неглубокая.
– Насчет полиции я, вообще-то, шутил. Но завтра позвоню в Адденбрука. Она не в своем уме. Пусть пришлют врача, чтобы проверил ей голову.
[Вним.: завтра утром первым делом обязательно позвонить в Адденбрука. Бедняжка Анна действительно рехнулась. Сказать, что она бросалась на меня с ножом, что она может быть опасна для окружающих. Это для ее же блага.]
Пол, в свою очередь, тоже нахмурился:
– Не у тебя ли через пять минут клятва верности, чувак?
– Черт!
Я подскочил к шкафу и вытащил оттуда пиджак-визитку. Пол с Уильямом смотрели разинув рты, как я натягиваю его прямо на окровавленную рубашку и прикалываю бутоньерку.
– Кровь никто не заметит. У нас нет времени. Отца Уолтера хватит кондрашка, если нас не будет у алтаря к приезду Клэр.
Мы успели. Мы явились туда в 12:29, пронесясь без всякого почтения мимо каменных статуй Ньютона, Бэкона и Теннисона. Слава богу, Клэр с отцом еще не показывались – спасибо ей за столь изящное опоздание. Пока мы втроем шли по проходу, я отметил, что мать Клэр и три ее сестры – все они сидели слева, и столь цветистых шляпок я не имел несчастья видеть на свадьбах никогда в жизни – обернулись посмотреть на нас, с явным облегчением на лицах. (Они наверняка не исключали возможности, что столь ценный жених-дуо в последний момент ускользнет.) Правая от прохода сторона была предсказуемо пуста. Отец Уолтер шагал взад-вперед с хмурым видом и глубокой складкой на лбу. Бедняга, похоже, не привык, чтобы женихи являлись к алтарю за минуту до начала церемонии.
Я подскочил и резко остановился перед ним, пытаясь усмирить дыхание:
– Простите, отец. Нас задержали.
– Я уже почти решил, что вы передумали.
По неодобрительному взгляду отца Уолтера я понял, что этот человек никогда раньше не проводил дуо-моно-церемоний. (Ну что ж, все когда-то случается впервые.)
– Нет, не передумал.
– Вы уверены?
– Конечно.
В этот миг в церковной прихожей что-то шумно задвигалось. Двери резко распахнулись. По проходу шагала Эмили в сиреневом платье с оборками, с букетом розовых и белых роз. За ней – Клэр под руку с отцом, одетым в костюм-визитку на три размера меньше, чем нужно. Лицо у него подозрительно горело – то ли от возбуждения, то ли от дополнительной порции виски. Клэр сияла. Она выглядела великолепно, несмотря на легкую выпуклость под неожиданно элегантным платьем.
– Ты очень красивая.
Я не кривил душой. В конце концов, я женюсь на девушке с несомненной внутренней грацией и обаянием, пусть она и моно. На женщине, олицетворяющей собой свежую, земную непритязательность. Простоту и деликатность, согревшую мое сердце. Она, должно быть, услыхала мой шепот, ибо улыбнулась лучистой улыбкой.
К счастью, церемония прошла без приключений (хотя и прерывалась пару раз из-за громких рыданий с левой стороны от прохода).
– Берешь ли ты себе в жены Клэр Буши? Будешь ли ты любить ее, беречь ее, почитать и защищать ее, забыв обо всех других, и хранить ей верность, пока смерть не разлучит вас?
– Да.
– Будешь ли повторять себе каждое утро своей жизни тот факт, что ты любишь Клэр Буши?
– Да.
Но я все же заметил, как сузились глаза моей жены, когда я наклонился ее поцеловать за миг до того, как гости стали кричать и хлопать в ладоши. Когда под звуки свадебного марша Мендельсона мы вышли из дверей церкви, она первым делом спросила:
– Что у тебя на воротнике, Марк? Кровь?
– Порезался, когда брился. Ерунда. Царапина.
Слова слетели с языка почти без запинок. Я даже умудрился непринужденно пожать плечами.
– У тебя на лбу красная помада. Ее почти не видно под волосами. Но я уверена, что это помада.
Рот у меня раскрылся, точно зияющая рана, и в тех обстоятельствах это была худшая реакция. Она указывала на мою вину – по крайней мере, с точки зрения Клэр. Хуже того, я дотянулся двумя пальцами до лба, размазав помаду обличающим малиновым пятном. Если бы только Уильям с Полом заметили этот оставленный Анной след. Но большинство мужчин – как и я сам – редко обращают внимание на мелочи, столь значимые для женщин.
В глазах у Клэр проступило пламя.
– Ты был сегодня с другой девушкой? И она поцеловала тебя в лоб? Что ты делал сегодня утром, Марк? Ты спал с другой женщиной? За полчаса до того, как жениться на мне?
– Что за чушь!
В этот миг кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся и обнаружил рядом с собой отца Клэр. Наши гости наконец-то до нас добрались. Две мясистые руки заключили меня в объятия, едва не сломав ребра.
– Ну вот и породнились, сынок.
Его голос грохотал у меня в ушах, изо рта несло едким горячим запахом виски. На загривке я разглядел татуировку с голой женщиной. Выбравшись из его объятий, я посмотрел на Клэр в окружении матери и сестер, они изливали свои восторги от того, как ловко ей удалось заполучить дуо. Гроза в глазах Клэр, слава богу, утихла – она выглядела весьма довольной всеобщим вниманием.
– Слава тебе господи! Я выдала тебя замуж!
Даже голуби на стропилах и те, должно быть, услыхали вопль почтенной миссис Буши. Ну а я лишь поморщился, когда, взмахнув руками и едва не сбив с головы свою огромную цветастую шляпу, она клюнула Клэр в щеку и тут же потянулась за церемониальной брошюрой, чтобы было чем обмахивать темные мокрые круги у себя под мышками.
Слава богу, подумал я. Катастрофа миновала.
Торжество прошло без особой нервотрепки. Уильям, как и ожидалось, произнес отличную речь, сочиненную специально для того, чтобы всех запутать. Беспамятного отца Клэр к концу вечера пришлось отдирать от пола. Бутылки «Шато Марго» 1982 года (которые я добыл по дешевке – за 59 фунтов – в погребах Тринити благодаря прекрасным отношениям с колледжским казначеем) не пошли ему впрок. Я не уверен, что этот человек вообще когда-либо осознавал, что именно он пьет. Надо было закупить в супермаркете полбочки дешевой бормотухи. И я сбился со счета, отмечая, сколько раз сестры Клэр строили глазки Уильяму и Полу.
После всего этого и за шесть минут до полуночи мы с Клэр расстались у парадных ворот Тринити. Черный кэб, который я вызвал, чтобы он увез ее обратно на Милл-роуд, уже ждал за воротами на вымощенной камнями улице.
– Значит, до четверга. Вот увидишь, тебе понравится домик, который я для нас нашел, – номер двадцать три по Милтон-роуд. Оттуда удобно будет ездить в «Универ-блюз» на работу. Домик маловат, конечно. Но выглядит уютно. Жаль, что нельзя переехать прямо сейчас: аренда начинается с четверга. Я пришлю грузчиков на Милл-роуд, чтобы забрали твои вещи, как только сам перееду из Тринити.
Клэр открыла рот. Но ничего не сказала. Я только заметил, как задрожала ее нижняя губа.
– Нам будет очень хорошо на Милтон, Клэр. По крайней мере, мы постараемся. Я обязательно найду литературную работу – это лучше, чем болтаться по Тринити и притворяться, что я умный гуманитарий.
Из глаз ее брызнули слезы.
– Я не хочу писать сегодня в дневник про все эти дела, Марк. Про помаду у тебя на лбу. Я бы лучше забыла, что вообще ее видела. Потому что во всем остальном это был прекрасный день.
В этот миг я почувствовал, насколько сильно я вымотался. День был длинным. С утра меня чуть не зарезала сумасшедшая, с которой я когда-то встречался. После полудня я, к отвращению своих родных, женился на моно. Мне хотелось лишь одного – добраться до комнаты и рухнуть в кровать.
– Я не изменял тебе, Клэр.
Я поцеловал ее в щеку и потащился домой. В душе я был рад, что домовое начальство когда-то выпустило циркуляр, отдельно указывавший, что комната, которую я занимаю, предназначена только для одного жильца, даже если он женат. Значит, впереди у меня целых пять благословенных ночей, когда мне есть где побыть одному и подумать.
Что за странное начало семейной жизни, однако. Эта дневниковая запись наверняка самая длинная. Двадцать две страницы. Но и день, похоже, был самым насыщенным в моей жизни – пока.
Мне есть о чем подумать завтра. Я не знаю, что принесет мне брак с моно. (Судя по сегодняшнему поведению родственников Клэр, меня ждет много веселых минут.) Но я правильно сделал, женившись на женщине, которая носит моего ребенка. Это благородный поступок. Настоящий мужчина должен брать на себя ответственность. Я ложусь спать с этим фактом, и пусть все мое семейство ослеплено классовыми предрассудками. Наступит день, и они поймут, как были не правы.
Я поднимаю глаза от дневника. Становится немного яснее. Клэр не изменилась даже после долгих двадцати лет семейной жизни. Она ревновала, увидев, как я держу Анну за руку, направляясь с ней на бал. Она быстро догадалась, что я спал с Анной (и не ошиблась). Точно так же она ревновала меня к воображаемой сексуальной партнерше в день нашей свадьбы – только потому, что заметила помаду у меня на лбу.
Теперь я знаю, зачем Клэр вытащила бумаги из папки 1995 года. Она ищет свидетельства того, что я обманывал ее еще в день нашей свадьбы. Надеется доказать, что с того самого дня страдает от моего вероломства. И разбить вдребезги мои политические устремления, особенно если учесть, что я построил свою кампанию на нашем с ней крепком и нерушимом моно-дуо-союзе. Или даже соорудить себе пьедестал – многострадальной моно-жене и домохозяйке с воистину добрым сердцем, которое столько лет заставляло ее терпеть изменника и повесу, мужа-дуо.
Но понимает ли она, что происходит с нами сейчас? И должен ли я рассказать ей о том, что случилось позавчера?
«Би-би-си уорлд ньюс», 11 октября 2014 года
Саммит МФП закончился досрочно
Международный фонд памяти (МФП) завершил свою научную конференцию по вопросам улучшения памяти на день раньше, чем это планировалось, из-за протестов пражских активистов.
Устроив мирную сидячую демонстрацию, протестующие блокировали подходы к отелю, где проходила конференция. За несколько часов до этого они выпустили обращение: «Мы требуем от МФП прекратить финансирование исследований по улучшению памяти, ибо считаем, что более глубокая память не принесет ничего, кроме более глубоких страданий и ненависти».
В своей заключительной речи, произнесенной перед почти пустым залом, министр Чехии по исследованиям памяти Павел Новак сказал: «Очень жаль, что эта конференция запомнится лишь своим неудачным финалом».
Глава восемнадцатая София
1 февраля 2015 г.
Поговорим о нашем долбаном прогрессе. Итак, Марк Генри Эванс имел несчастье напороться на меня в Йорке. С чего и началось наше взаимовыгодное сотрудничество. Он получает до фига секса. Я – тонны грязи.
Смешно, с какой легкостью любовь переходит в ненависть. Как подкидывать монетку. Пенни падает или на одну сторону, или на другую. Орел или решка. Любовь или ненависть. Никакой середины.
Мелочи копятся. Обиды копятся.
Копятся эти долбаные воспоминания.
Когда-то я помнила о Марке больше хорошего, чем плохого. Теперь, наоборот, больше плохого, чем хорошего. В этом все дело, черт бы его побрал. Потому что общая сумма мелких, но осевших в памяти жестов усиливает любовь. Потому что нагромождение крохотных, но незабываемых обид питает ненависть.
Досье уже достаточно толстое. У меня есть все, что надо, о его суицидальной депрессивной жене. Спасибо милому, любезному Хельмуту Джонгу (жаль, что между нами все кончено). У меня даже есть все, что надо, на самого Марка. Спасибо моей стратегически расположенной маленькой видеокамере.
С этим досье можно в любой момент идти к прессе. Размахивая флешкой на 144 гига, полной головокружительных постельных эскапад. Захватывающих сцен секса и насилия. Остается сделать один-единственный телефонный звонок. Не обязательно даже показывать им видео. Достаточно сказать, что оно существует.
Когда взорвется ад, расплавится рай. Отдельно – маленький укромный раек Эвансов в деревне Ньюнем. Куда не доносилось даже запаха скандала – пока. Однако нужно дождаться момента. Потому что правильный момент решает все.
Терпение, София, терпение.
Месть удается, только если умеешь ждать.
А скандалы скандальны в нужный момент.
11 февраля 2015 г.
Итак, у домохозяйки-моно есть еще одна тайна. Цветоводческая школа в Кембридже – никакая не цветоводческая. За этой долбаной вывеской распускаются другие бутоны. Помешанные графоманы-моно, если быть точной.
Сегодня утром она осталась дома. Проехав через Ньюнем, я отметила припаркованный у ограды «рейнджровер». Наверное, заболела. Тогда я поехала в Линтон вместо нее. Проверить, что за цветочки она втыкает в горшки каждую среду с утра пораньше. Никогда ведь не знаешь, что за грязь могла прилипнуть к этим саженцам.
В заросшем лилиями фойе меня приветствовал человек, похожий на лепрекона. Видом и запахом это место напоминало похоронное бюро.
Как вы нас нашли? – спросил он.
Клэр Эванс, сказала я.
А, ответил он, стукнув себя пальцем по носу и подмигнув. Я ждала, что он спросит: «Цветы или рассада?» Вместо этого он произнес:
Роман или рассказ?
Я удивленно на него уставилась.
То же, что и Клэр Эванс, выкрутилась я.
Тогда рассказ, кивнул он и указал на лестницу в подвал. Комната «В-112».
Отступать было поздно. Особенно когда дело повернулось столь неожиданным образом. Так что я спустилась в подвал. Двенадцать плохо различимых туповатых лиц повернулись в мою сторону, когда я не спеша вошла и уселась за стол, прогибавшийся под тяжестью блокнотов и тетрадей.
Добро пожаловать, сказал человек во главе стола. Слезящиеся глаза и тонкие усы. В нашем моно-литобъединении мы всегда рады новым членам. Последний новичок пришел к нам три года назад. Как вас зовут и что вы сейчас пишете?
Я моргнула, в голове на миг стало пусто. Но тут же пришло вдохновение: меня зовут Мариска ван Дайк, я пишу историю женщины, которая семнадцать лет провела в психиатрической лечебнице и хочет отомстить обидчикам.
Мило, сказала какая-то женщина. По теме близко к тому, над чем работает Клэр. Рассказ о моно, которая двадцать лет чувствует себя узницей в своем клаустрофобном браке, но потом разрывает кандалы.
Я уставилась на нее. Значит, в глубине своего жалкого умишка наша дорогая домохозяйка-моно пестует литературные амбиции.
Как вы следите за идеями и за тем, что приносит вдохновение? – спросил кто-то. Мы всегда открыты новым предложениям.
Идеи просто приходят мне в голову, сказала я, отчего лица в этой комнате сделались недоверчивыми. Посыпались новые вопросы – сначала я отвечала на них, вертясь на стуле, под конец же меня почти буквально с него стащили и вышвырнули за дверь. Случилось это после того, как кто-то спросил: вы не пробовали писать в дневник дважды в день, это работает?
Я и раз в день не всегда записываю, сказала я. Какое там дважды.
Большая ошибка, как говорится.
Огромная.
Она дуо, она хочет внедриться в нашу драгоценную группу, выдохнула какая-то женщина. С огромными от ужаса глазами. Ее нужно гнать, если это так.
Я не дуо, сказала я. Мне вообще не нужен дневник.
Она сумасшедшая! – завопил кто-то. Совсем свихнулась.
Все равно дуо! – воскликнул другой. Только ненормальная.
В нашем тесном литературном кружке не место неадекватным дуо, сказал человек во главе стола, скорбно поводя усами. Не могли бы вы нас покинуть, мисс ван Дайк?
Это вы неадекватные, сказала я, вставая со стула. А не я. Собрались писать, а сами даже читать толком не умеете. Долго вам придется ждать, чтобы кто-нибудь напечатал вашу моно-лажу.
Если бы взгляды могли убивать, я бы в этом Линтоне упала замертво. Но у меня хватило ума ретироваться. В прошлый раз, когда кто-то узнал, что я не веду дневник, дело кончилось Внешними Гебридами.
Итак, домохозяйка-моно надеется вылечить свою суицидальную депрессию, вывалив ее на бумагу. Как это убого. А может, она желает повторить литературный успех собственного мужа? Как это наивно.
Жаль, что сегодня обошлось без новой грязи. Просто убогий секретик. Лишнее подтверждение того, что она ничтожна и наивна одновременно. Могу спорить, двадцать лет назад, когда он решил на ней жениться, он этого не понимал.
Из чего следует, что он сам – такое же ничтожество.
14 февраля 2015 г.
Невероятно. Я чуть не упустила новую грязь.
Что за открытие! Что за радость!
Началось с того, что он позвонил сегодня утром. Отменить меня. И извиниться.
Он не сможет провести со мной Валентинов день, сказал он. Как бы ему ни хотелось. Как бы он ни фантазировал о том, чтобы попробовать это на кровати со столбиками.
Почему? – спросила я.
Только что позвонил представитель муниципалитета, сказал он. Мэр Кембриджа заболел, а значит, не сможет открывать в Гилдхолле благотворительный бал-маскарад, приуроченный ко Дню святого Валентина, как это было запланировано. Не согласится ли известный автор и житель Кембриджшира взять на себя столь почетную обязанность? Часть выручки от бала отчислят в благотворительный фонд, который автор всегда предпочитает.
Это важно, добавил он. Его политической кампании пойдет на пользу любая публичность.
Конечно, промурлыкала я. Хорошее редко случается по плану, разве нет? Разве можно упускать возможности, если они сами идут в руки? Приятного бала, дорогой. Маски чертовски подходят литераторам, ты согласен? Они ведь и сами любят прятать свою некомпетентность за цветистыми оборотами и кучей прилагательных. Проверь, чтобы «Кембридж ивнинг ньюс» сфотографировала тебя как нужно, милый. Не забудь показать им свои политические мускулы – или литературные грамоты.
Ты понимаешь меня лучше всех на свете, запел он в ответ. Ты самая проницательная. Самая умная.
Этот человек, несмотря на все свои грехи, умеет выбирать слова.
Ты мне льстишь, сказала я.
Давай встретимся в следующую субботу, там, где всегда, предложил он.
Отлично, сказала я. Разговор еще не закончился, но множество вопросов уже прожигали мне голову.
Я достала смартфон. Вбила туда имя Марка, затем «благотворительный фонд». Первой выпала ссылка на сайт Фонда исследований синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН), где Марк и Клэр Эванс числились основными жертвователями.
Синдром внезапной смерти новорожденного? Как я пропустила это раньше? Почему Марк с женой поддерживают именно этот фонд? Из тысяч других по всей Британии? У Марка с Клэр нет детей. А может, были? Как я могла пропустить такую важную деталь?
Стыдись, София.
Ровно в тот момент, когда я подумала, что выкопала всю грязь, которую можно найти.
Новый факт может оказаться куда мерзее старых.
15 февраля 2015 г.
Черт бы побрал этот СВСН-фонд. Позвонила им утром, представилась журналисткой из «Санди таймс». Сказала, что пишу очерк о мотивах, стоящих за щедрыми филантропическими пожертвованиями. Материал сыграет на душевных струнах наших самых богатых читателей. И они станут давать больше денег достойным благотворительным фондам вроде вашего.
Я поставила ударение на нужном слове. Деньги.
Но они не клюнули. Не стали отвечать, почему Марк поддерживает их столько лет. Мы не даем информации о наших жертвователях, в том числе об их мотивах. Так сказал женский голос в телефоне. Правила конфиденциальности.
Ты бестолковая и задолбанная правилами моно-дура, плюнула я в трубку. Перед тем, как прекратить разговор.
Но не все потеряно. Должны быть свидетельства о рождении и о смерти. Где-то. По крайней мере.
Просто нужно копать дальше.
Технологии формируют нас, хотим мы этого или нет. На сегодняшний день мы полностью зависим от внешних устройств, которые служат для нас хранилищами фактов, допущений и воспоминаний. Мы, по сути, представляем собой общую сумму наших цифровых воплощений. Мы пользуемся айдаями и социальными сетями, чтобы определить и обмануть самих себя, ибо наши хранилища содержат то, что мы предпочитаем помнить. И то, что должен видеть внешний мир. При этом наш столь тщательно сконструированный публичный образ зачастую имеет мало общего с нашим истинным внутренним «я». Эти два лика нашей натуры трудно сопоставимы и часто противоположны.
Курс современных технологий («Гардиан», 2 апреля 2015 г.)Глава девятнадцатая Ханс
7 часов 15 минут до конца дня
Она дважды права. Человек в приемной действительно похож на лепрекона в окружении лилий. Его лицо обрамляют колючие космы рыжих волос и роскошная рыжая борода. Еще она верно заметила, что здесь пахнет как в похоронном бюро. Чувствуется даже слабая нотка ладана.
– У нас тут цветоводческая школа, – сказал он, всматриваясь в идентификационный бейдж у меня в руке. – Мы учим выращивать цветы.
– Бросьте, сэр.
– Мы учим составлять композиции.
– Послушайте, – говорю я, засовывая бейдж обратно в карман, – я знаю, какие композиции вы тут составляете. Скажем, на заседаниях моно-литобъединения, каждую среду, по утрам.
Рот его складывается в упрямую гримасу.
– Нет здесь никаких моно…
– Два варианта. Вы можете рассказать мне о членах вашего писательского кружка. Неформально. Сейчас.
Одна бровь вздымается, почти доставая до острого клока волос.
– Или вы можете явиться ко мне на Парксайд, где я сниму с вас формальные показания. Это займет… некоторое время. Вы же понимаете, хлопоты с протоколом, другие дела. Полицейские составляют свои композиции значительно дольше, чем цветоводы.
Он выдыхает, смиренно шипя.
– Что вы хотите узнать? – спрашивает он. – Мы не занимаемся ничем противозаконным. Мы не хотим, чтобы за нами шпионили дуо, только и всего. Нам не нужны снисходительные смешки. Или советы, как нужно писать. Вы дуо, надо полагать?
– Не… да… гм…
Бровь у этого человека уже выше острого клока волос. Черт.
– Э-э… Клэр Эванс. Как давно она состоит членом секции рассказов?
Он раскрывает картонную папку, достает из-под пластикового зажима листок и быстро проглядывает рукописный текст.
– Пятнадцать лет, – говорит он. – С первого дня, когда мы начали тут собираться, наверное.
– Большой срок. Можно посмотреть ваш листок?
– Я не имею…
– Полицейские иногда возятся со своими композициями сутки напролет, понимаете?
– Но…
– Мы вчера привезли к себе одного человека, а уйти он смог только через девять часов двадцать семь минут. И обед пропустил, и ужин.
Он со вздохом протягивает листок. Я читаю:
Ежегодная анкета участника литературного объединения
Январь 2015 года
Имя: Клэр Эванс (урожденная Буши)
Секция: рассказы
Член литературного объединения с: 28 марта 2000 г.
1. Чего вы хотите добиться как писатель?
Я давно мечтаю победить в конкурсе «Таймс» на лучший рассказ – мой муж не может добиться этой премии с 1989 года. К сожалению, шансы на победу у меня меньше нуля, хотя формально моно не запрещается участвовать в конкурсе. Этого никогда не случится, что бы там ни говорили о равных правах и поощрении разнообразия.
2. Как наша секция помогает вам в достижении этой цели?
Заседания секции заставляют меня выходить из дому каждую среду, дают мне направление и цель, даже надежду. Они помогают мне вырабатывать писательскую технику, хоть я и знаю, что еще многому должна учиться. Поднимают настроение, повышают самооценку – я чувствую, что могу чего-то достигнуть. Все потому, что, если твоя работа получает хорошие отзывы, это всегда обнадеживает. (Не знаю из-за чего, но женщины нашей секции часто говорят, что у меня больше шансов опубликовать рассказы, чем у любой из них, – думаю, у них просто доброе сердце.)
3. Кто или что вдохновляет вас в последнее время?
Мой муж. Его невероятные достижения. Они всегда вдохновляли меня, хотя не думаю, что я когда-нибудь ему это говорила. Он хорошо ко мне относится, несмотря на частые насмешки над моно. Иногда я спрашиваю себя: почему он так много для меня делает? Но затем я смотрю ему в глаза и понимаю, что, если это прекратится, если мы остановим то, что когда-то начали, ему будет намного больнее. Наш брак подал мне идею рассказа, над которым я сейчас работаю, он называется «Нежность – это день». Он о женщине, которая пытается вырваться из двадцатилетнего клаустрофобного брака, и ей это удается, но после этого ее муж спивается и умирает.
4. Чем наша секция может помочь вам как писателю?
Своим существованием, особенно если учесть, что ничего другого я не жду с таким нетерпением каждую неделю. (Мой дневник говорит, что я пропускала заседания, только если уезжала в отпуск за границу или болела.) Эти встречи дают мне возможность отдохнуть от работы в саду. Кроме того, всегда приятно иметь маленький секрет.
Было бы здорово обсудить на секции работы Вирджинии Вулф и Генрика Ибсена: я никогда не понимала, почему мой муж так помешан на этих двух авторах. Может, стоило бы разобрать построчно несколько ключевых пассажей из «Миссис Дэллоуэй» или «Кукольного дома».
Ага. Значит, Марк Генри Эванс помешан на Вирджинии Вулф. Это подтверждает мои подозрения насчет черных и белых камней.
Я просматриваю ответы на остальные вопросы. К сожалению, в них нет ничего нового для меня, это честный рассказ о писательском процессе. Но в глубине души мне приятно: Клэр Эванс, моно, всерьез старается чего-то добиться, вопреки всем противостоящим ей силам.
Может, стоит быть с ней помягче, когда мы увидимся в следующий раз.
– Клэр Эванс когда-нибудь упоминала при вас своего мужа? – Я поднимаю взгляд от бумаги. – Литератора Генри Эванса?
У него на лице ничего не отражается.
– Проверьте, пожалуйста, в дневнике, – говорю я.
Он кивает и быстро выуживает дневник из сумки. Пару секунд я наблюдаю за его акробатическими трюками с клавиатурой.
– Сейчас… Однажды мы обсуждали мистера Эванса, когда я спросил, почему она не хочет говорить мужу, что тоже пишет. Оказалось, она боится, что он станет над ней смеяться. Или скажет, что ее устремления бессмысленны, у нее все равно никогда ничего не получится. Я ее хорошо понимаю: моя жена тоже смеется надо мной, всякий раз…
– Сюда приходила женщина по имени Мариска ван Дайк? Со словами, что слыхала о вашем клубе от миссис Эванс.
– А, да. – Он хмуро кивает. – Я знаю из дневника, что эта Мариска не в своем уме. Из-за нее у меня были неприятности. Но подождите, я проверю.
Он снова стучит по клавишам.
– Вот… Она явилась однажды утром и через несколько минут выскочила из подвала. Я спустился узнать, что случилось. Мне сказали, что это была полоумная дуо, которая прикидывалась моно. И что я идиот, потому что впустил ее, не проверив по-человечески. И что за это меня надо выгнать.
– На передовой под раздачу попасть – раз плюнуть, – говорю я. – Вы рассказывали Клэр об этом случае с Мариской?
Он снова изучает дневник.
– Да. Клэр сказала, что никогда не слышала об этой сумасшедшей.
– Неудивительно, – говорю я, возвращая ему опросник. – Это все. Спасибо за помощь.
Я поворачиваюсь, чтобы уйти.
– Подождите минутку, – окликает он меня. – Для чего это? Зачем вы меня обо всем этом спрашивали?
Затем, чтобы найти убийцу, разумеется. Притом что я до сих пор не разобрался в мотивах. Но разве такое скажешь человеку, похожему на лепрекона.
– Я ищу горшок с золотом, – говорю я ему. – А нашел только цветочки и камешки – пока.
В кабинете меня ждет ухмыляющийся Тоби, вооруженный двумя многообещающими бумагами.
– Долго ждать не пришлось, – говорит он, шагая навстречу и протягивая мне листы.
Я всматриваюсь в верхний. Там написано:
Регистрационный округ: Кембриджшир
Время, дата и место рождения: 15:41, 5 марта 1996 г., родильный дом Рози, Кембридж
Имя: Кэтрин Луиза Эванс
Пол: женский
Класс: не определен
Отец – имя, дата рождения, класс, род занятий: Марк Генри Эванс, 14 июня 1969 г., дуо, безработный
Мать – имя, дата рождения, класс, род занятий: Клэр Эванс (урожденная Буши), 28 февраля 1976 г., моно, официантка
Адрес: 23, Милтон-роуд, Кембридж, CB4
У меня перехватило в горле. Значит, у Марка и Клэр Эванс действительно была дочь. Я беру другую бумагу.
Регистрационный округ: Кембриджшир
Дата и место смерти: 18 июня 1996 г., 23, Милтон-роуд, Кембридж, CB4
Имя: Кэтрин Луиза Эванс
Пол: женский
Класс: не определен
Дата и место рождения: 5 марта 1996 г., родильный дом Рози, Кембридж
Имя и фамилия сообщившего: Алан Бисскер
Род занятий: патологоанатом
Причина смерти: синдром внезапной смерти новорожденного
Я присвистываю себе под нос.
– Вот так открытие, – говорю. – Молодец, что так быстро. Раздобудь еще, пожалуйста, протокол вскрытия.
– Я как чувствовал, что он вам понадобится, – говорит Тоби. – Позвонил в контору Бисскера. Они прямо сейчас ищут в своих бумагах. Если повезет, протокол скоро будет у нас.
– Отличная работа, мой мальчик.
Тоби с довольным видом выскакивает из кабинета. Я беру черного слона и сталкиваю им с доски белую пешку.
Включаю компьютер. Через секунду вспыхивает экран поиска. Перехожу на сайт СВСН-фонда. Появляется ссылка «Жертвователи». Я нажимаю на нее и обнаруживаю следующее:
Мы с гордостью представляем наших горячих сторонников: популярного автора бестселлеров Марка Генри Эванса и его жену Клэр. В течение последних девятнадцати лет они с большой щедростью финансируют нашу работу. В 2007 году они основали исследовательскую стипендию для изучения синдрома внезапной смерти новорожденного в Кембриджском биомедицинском центре, а также в Гейдельберге – в Европейской лаборатории молекулярной биологии. Стипендия носит имя Уолтера Буши в память об отце миссис Эванс, умершем за год до этого.
Я перехожу на сайт предвыборной кампании Эванса и набираю в поисковой строке «Кэтрин Луиза Эванс».
Ничего не находится. Я на всякий случай повторяю поиск. Ищу ее имя во всей Сети. Ни единого упоминания его покойной дочери там нет.
Это странно. Очень странно. Разве существование Кэтрин, даже столь недолгое, не работает на политическую стратегию Марка? Неужели трагическая история ее преждевременной смерти не принесла бы ему несколько сочувствующих голосов от матерей Южного Кембриджшира? Сегодня утром, во время нашего разговора, он тоже ни разу не упомянул о Кэтрин. И ничего не сказал Софии – женщине, с которой спал много месяцев.
Молчание может указывать на шрамы. Глубокие шрамы. Ужасные шрамы.
Или его причина – страх. Темный страх. Ужасающий страх.
Марк и Клэр Эванс, очевидно, сделали все возможное, чтобы забыть о том, что у них когда-то была дочь. Несчастную Кэтрин Луизу просто удалили. Стерли начисто с грифельной доски, на которой записаны факты жизни Марка Эванса. Даже с веб-сайта его кампании.
Но почему это секрет? Была ли ее смерть травматичной настолько, что родители все эти годы боятся о ней вспомнить?
Я собираюсь снова открыть дневник Софии, когда вваливается Тоби, помахивая очередным листом бумаги.
– Вот, – объявляет он, протягивая лист мне. – Коронеры работают быстро.
– Потому что их мертвые клиенты с ними не спорят. Как насчет банковских операций?
Он виновато качает головой.
– Все еще ищем, – говорит он. – Банкиры вредные как черти.
– Оттого столько народу и желает им быстрой смерти. И потому коронерам есть чем заняться. Попробуй еще, ладно?
Кивнув, Тоби исчезает из кабинета. Я опускаю глаза к протоколу у меня в руке.
Протокол вскрытия
Эванс, Кэтрин Луиза
Подробное исследование не выявило анатомической причины смерти. Токсикологические анализы, равно как и консультации экспертов по невропатологии и микропедиатрии, также не позволили определить причину смерти.
Данный случай был представлен на рассмотрение Энтони Пэджета, доктора медицины и эксперта-дуо по сложным поведенческим патологиям из больницы Адденбрука в Кембридже. В его отчете от 24 июня 1996 года утверждается: «Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть Кэтрин согласуется с диагнозом синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН). На данный момент остается неясным, мог ли двухнедельный период пренатального воздействия селективного антидепрессанта-ингибитора обратного захвата серотонина (SSRI), известного как антидепрессант прозак и принимавшегося матерью в первый месяц после зачатия, способствовать ее смерти».
Соответственно, возможны следующие причины смерти:
анатомическая и токсикологическая причины смерти отсутствуют;
оказал ли влияние препарат прозак, воздействовавший внутриутробно в течение двух недель, – не установлено.
Смерть признана естественной, рекомендации отсутствуют.
Алан Бисскер, коронер, Кембриджшир6 июля 1996 годаЧто-то не сходится. Если коронер подтверждает, что Кэтрин Луиза Эванс действительно умерла от естественных причин, почему ее родители держат это в секрете? Зачем скрывать от людей ее недолгое существование? Разве оно не стало бы прекрасным материалом для избирательной кампании Эванса?
Вместо полного, убедительного ответа я вижу бессвязные фрагменты возможностей. Вглядываюсь в шахматную доску у себя на столе. Двигаю пару пешек с обеих сторон. Вытягиваю черную ладью из угла и обращаю белого слона в поспешное бегство, жалея, что в жизни задачи не решаются так же просто, как в шахматах. Ответ по-прежнему от меня ускользает.
Я со вздохом возвращаюсь к оставленному на столе айдаю. Вдруг у сумасшедшей тетки этот ответ уже есть?
– Что с ней? – Гуннар рванулся вперед, рот мучительно изогнут.
За стенами дома гремела гроза. Звук мало походил на завораживающий треск северного сияния, что они слушали в свой медовый месяц на Шпицбергене. Нынешний акустический взрыв, результат резкого скачка температуры и давления, словно олицетворял собой все, что с тех пор пошло между ними не так.
Сигрид всхлипнула и разжала кулак. На пол соскользнул детский слюнявчик.
Марк Генри Эванс. На пороге смертиГлава двадцатая София
25 февраля 2015 г.
Все становится по местам. Я собрала кусочки головоломки, мне есть чем гордиться. Читать протокол вскрытия было сплошным удовольствием. Отличное развлечение перед сном – лучше дильдо.
Итак, Клэр Эванс принимала антидепрессанты еще до того, как вышла замуж за Марка, – в течение двух недель после зачатия Кэтрин. Ничего удивительного. Психи – они всегда психи. Обидно, блин, но так и есть. Наверное, еще не знала про свою беременность. Как только выяснилось, что залетела, конечно, перестала. Залетела от Марка, от кого же еще. Что Марк – отец ребенка, можно не сомневаться.
Потому он на ней и женился. Иначе зачем ему идиотка-моно.
Все складывается.
Если бы я знала об этом раньше. Не стала бы тогда, давно, устраивать этот дурацкий концерт. Или нашла бы нож потупее. И уж точно не стала бы протыкать ему горло, чтобы достучаться до мозгов.
Но действительно ли Кэтрин умерла из-за того, что Клэр во время беременности сидела на антидепрессантах? Или там было что-то похлеще?
Энтони Пэджет, доктор медицины. Поразительно, как много в наше время можно узнать о человеке простым онлайновым поиском. Мне не понадобилось много времени, чтобы докопаться до нескольких замечательных фактов. Выпускник Тринити. Как и Марк (хотя Пэджет получил диплом за десять лет до того, как Марк туда поступил). Заведовал учебной частью медицинского отделения Тринити в 1994 году – как раз когда Марк стал работать на кафедре английской литературы. Сейчас ведущий эксперт по СВСН, живет в Гейдельберге, трудится в Европейской лаборатории молекулярной биологии. Одна из новаторских работ Пэджета, в которых изложена биомолекулярная теория младенческой смертности, представлена на соискание Нобелевской премии по медицине.
Светило, блин.
А также первый получатель стипендии Уолтера Баши в 2007 году.
Темная, блин, лошадка.
Я умею связывать разрозненные звенья. Память, если хотите, дает возможность видеть общую картину. Точнее понимать происходящее. Считывать тонкие намеки и сигналы. Понимать, что с чем связано. Видеть контекст. Замечать, как сопоставляются между собой несопоставимые вещи. Складывать в целое фрагментарные снимки. Прочерчивать связи между прошлым и настоящим. Что, в свою очередь, открывает всякие интересные возможности. Даже приводит к озарениям.
Два события в одной строке – совпадение. Но если их три и они зацеплены между собой – это, блин, схема.
Я вижу несколько четких связей между Пэджетом и Эвансом.
Достаточно для пестренькой картинки.
Копай, София, копай.
10 марта 2015 г.
Глупышки-докторишки. Особенно если это пресные мужики. С Хельмутом Джонгом вышло легко. Пэджета не понадобилось даже соблазнять. Я просто послала мистеру будущему нобелевскому лауреату письмо, предложив встретиться за кофе. Назвалась миссис Джессикой Ливингстон, давней знакомой по Кембриджу, которая планирует пожертвовать деньги на исследования СВСН. Письмо сочилось обещаниями, сладостью и легкостью. (Когда надо, я умею подлить сиропа.)
Я имею право на злорадство. С учетом того, что мне удалось вытянуть из нашего гения-злодейчика. Тысячестомильный перелет до Гейдельберга и обратно совершен не зря.
Я вошла в очаровательное кафе на берегу реки Неккар, когда солнце уже пряталось за Кёнигштулем. Профессор выглядел хуже, чем на сетевой фотографии, – видимо, она была сделана давно. Морщинистый, приземистый и почти совсем лысый.
Как я рада снова тебя видеть, Энтони, залепетала я. Сколько лет, сколько зим, да. Ты прекрасно выглядишь.
Спасибо, сказал он, ты тоже.
Поразительно, как люди подыгрывают в разговорах. Как они, блин, доверчивы. Даже если в их дневниках не записано о тебе ни одного факта.
Следующие пять минут мы обменивались любезностями. После чего я сделала первый за этот вечер залп.
У тебя есть какие-нибудь факты о Марке Генри Эвансе? – спросила я. Невозмутимо, словно мы обсуждали прекрасную погоду в Гейдельберге.
Ага, кивнул профессор. Я познакомился с Марком, когда он еще учился в Тринити. Много лет назад. Теперь это знаменитый писатель, возможно, будущий член парламента от Южного Кембриджшира.
Так жаль маленькую Кэтрин, сказала я, решив не осторожничать.
Ты о ней знаешь, пробормотал он. Глаза метнулись в сторону, словно он был в чем-то виноват.
Конечно, подтвердила я, решившись на импровизацию. Мой дневник говорит, что мы с Клэр Эванс были когда-то подругами, добавила я. Даже очень близкими. Пока я не вышла замуж и не уехала из Кембриджа. Я держала Клэр за руку на похоронах Кэтрин, бедняжка так плакала. Клэр мне рассказала по секрету, что на самом деле случилось с Кэтрин. Совсем не то, что все думают, правда ведь?
К чему ты клонишь? – выкрикнул в ответ профессор дрожащим голосом.
Ага, подумала я. У этого умника припрятана пара жирных кусочков.
Я клоню к тому, что ты способствовал сокрытию правды, сказала я, старательно пряча восторженную улыбку. Эта мелкая история с прозаком была всего лишь дымовой завесой, да? Над тем, что в действительности произошло с дочерью Марка и Клэр Эванс.
Ты меня шантажируешь? – задохнулся профессор, посерев.
Шантаж. Какое прекрасное и выразительное слово. Из него сочится столько восхитительных возможностей.
Это не был синдром внезапной смерти новорожденного, мой дорогой профессор, сказала я, теперь в моем голосе бушевала свежеобретенная уверенность. У тебя, кстати, устойчивая репутация ведущего мирового эксперта по СВСН, если не ошибаюсь. Она держится на исследованиях, которыми ты занимался в прошлом. Их много. Целый корпус. И если вдруг выяснится, что твой отчет о Кэтрин был ошибкой…
Вспышка страха в глазах этого человека сказала мне все.
У тебя нет доказательств, что Клэр… выдавил он, подрагивая нижней губой.
Тут я поняла, что наконец докопалась до грязи. До того, как на самом деле умерла Кэтрин. Клэр Эванс имеет к этому отношение. Теперь вопрос: что эта идиотка сделала с собственной дочерью?
Увы, есть, сказала я. У меня столько этих гребаных доказательств, что я хоть завтра могу идти к журналистам.
Новый проблеск страха в профессорских глазах. И вот эта его реакция включила у меня в голове окончательное понимание. То, что Клэр сделала с Кэтрин, все это время торчало у меня перед глазами. Только слепой мог этого не видеть.
Клэр убила собственного ребенка. В приступе послеродовой депрессии. Не надо забывать: она страдала от депрессии еще до замужества. И вскоре после родов эта разрушающая мозг меланхолия явилась обратно – вершить свою месть. А Марк наверняка помог все скрыть. Упросив старого друга по Тринити написать диагноз «СВСН». Профессионал подтвердил, что это был странный, неожиданный, необъяснимый, фатальный случай. Смерть от неустановленной причины. Диагноз, оправдывающий Клэр.
Или убийство.
Но как убить трехмесячного младенца, не оставив следов?
Я вцепилась в ручку кофейной чашки. В голове – вихри возможностей. И тут до меня дошло.
Хорошо, что некоторое время в Сент-Огастине я провела за чтением. Романы имеют свойство расширять кругозор. Тем, что позволяют залезть в голову придуркам, которые их пишут. Особенно некоторые романы некоторых авторов. Тех, что делают туеву хучу денег, описывая истории из собственной жизни.
Тонко завуалированная литература.
Клэр попросту задушила своего ребенка. Чем-то мягким. Чем-то безобидным. Например, подушкой. Или валиком. Или просто перевернула Кэтрин лицом вниз. Какое зверство. И как на нее похоже. Если так, то доказать это ужасное злодеяние почти невозможно. О событиях того дня могут рассказать лишь два письменных документа.
Дневник Клэр.
И дневник Марка.
У меня есть видеосвидетельство, что Клэр задушила младенца, сказала я. Спокойно. Уверенно. Притом что я только что это придумала. Кассета, доказывающая, что твой диагноз «СВСН» был неверен. Совсем неверен. Ты писал свой отчет под чьим-то влиянием? Людей, чьи жизни зависели от этого заключения? И все последующие годы ты покрывал ужасное преступление, совершенное Клэр Эванс, – верно я говорю?
Покрывал убийство. Что делает тебя пособником убийства, профессор.
В лучшем случае – некомпетентным специалистом по СВСН.
Профессор обмяк в своем кресле. Его ответ сказал все, что мне нужно было знать. Хоть прибивай гвоздем к стене.
Железным.
Сколько вы хотите? – спросил профессор дрожащим голосом. С таким видом, словно его сейчас хватит кондрашка.
Сколько? Я распахнула глаза пошире. Мне не нужны ваши деньги, профессор. У меня достаточно средств, чтобы жить в том стиле, к которому я привыкла. У меня, видите ли, спартанские вкусы. Они выработались сами за годы принудительной изоляции. Хотя я неравнодушна к хорошему белью. И к ярким туфлям на шпильке. Но ученому с мировым именем пора думать о Нобелевской премии, как вы считаете? Разве не станет настоящей трагедией, если этот драгоценный плод исчезнет из виду? Особенно после того, как он висел на расстоянии вытянутой руки. Вы уже почти коснулись его своими пухлыми пальчиками, и вот пожалуйста. Расстояния бывают иллюзорны, вы согласны? То, что нам близко, часто оказывается далеко.
Например, любовь. Или месть в данном случае.
Чего же вы хотите, миссис Ливингстон?
Лицо профессора стало серым. Этот цвет ему подходит.
Я хочу, чтобы вы мне помогли, профессор, сказала я.
12 апреля 2015 г.
Как же мне добыть бумажно-чернильные дневники Клэр и Марка девятнадцатилетней давности? Оба наверняка хранят их в сейфах. В гигантских стальных сооружениях с надежными запорами, глубоко внутри ньюнемского особняка. Из-за старых дневников в последнее время у всех паранойя. И не зря – похищение этих тетрадок и дневниковый шантаж превратились в многомиллионный бизнес. Таблоиды непрерывно печатают истории о таких кражах. Преступники требуют сумасшедшие деньги за то, чтобы вернуть тебе твой же собственный кусок дерьма.
Чтоб Стиву Джобсу изобрести свою фигню чуть пораньше. Хотя бы на три года. Жизнь была бы намного легче. И уж точно – проще.
У меня есть план. Сырой, зараза. Но должно сработать.
Надо только найти правильного человека. Который добудет для меня два дневника. Темной-темной ночью.
Не оставив, блин, ни следа.
Философ Кьеркегор писал: «Жизнь можно понять, только оглядываясь назад». Эта цитата применима и к смерти. Жизнь развивается линейно, но, несмотря на это, насильственную смерть мы понимаем только задним числом. Вы найдете убийцу, если сумеете аккуратно, шаг за шагом, пройти путь от настоящего к прошлому.
Учебник криминологии, том IV («Оксфорд юниверсити пресс», 1987)Глава двадцать первая Ханс
5 часов 30 минут до конца дня
Я по-прежнему считаю ее ненормальной. Человек в здравом уме не в состоянии наворотить эту сумасшедшую схему. Настолько извращенная и мощная интрига – всего лишь затем, чтобы раздавить другого человека. Дневник Софии не пройдет ни в одном суде. Факт: присяжные с опаской относятся к дневникам бывших пациентов психиатрических лечебниц. Я и сам все больше сомневаюсь, что его можно рассматривать как законную улику. Слишком там все извилисто и близко к абсурду.
Но что, если… что, если в нем все же есть зерно истины?
Крошечное.
Это зерно может пролить свет на личность ее убийцы. А моя работа, между прочим, состоит в том, чтобы узнать, кто убил Софию Эйлинг. Факт: никогда не терять из виду преступление. Мистер профессор Гризли много лет назад так и объявил в первую же минуту лекции, с которой начинался курс «Введение в криминологию». Слишком легко отвлечься на то, что не относится к делу, говорил он, размахивая для большей убедительности незажженной сигарой. Разве двадцать лет расследований, в том числе убийств, не научили меня хвататься за любую, даже самую слабую возможность? Разве не этот самый главный факт я усвоил лучше всех других за годы полицейской службы?
Стоит ли верить лежащему передо мной дневнику? София решила прибрать к рукам определенные страницы из дневников Марка и Клэр Эванс. Страницы, которые, как она считала, подтвердят, что Марк, подкупив медицинского эксперта, вынудил его скрыть истинную причину смерти своей дочери.
Этот посыл абсурден до нелепости. Он противоречит рациональному и фактологическому пониманию всего и вся. Однако сумасшедшей бабе, мозги которой, по ее словам, запоминают все, вполне под силу раскрутить столь диковинную схему. Тактику, на которую работает столь же страстное желание уничтожить.
Несколько секунд я изучаю шахматную доску у себя на столе, потом протягиваю руку и двигаю вперед черного ферзя. Ход усиливает давление на белого короля.
В дверь коротко стучат. Я поднимаю взгляд: снова Хэмиш, с глубокой морщиной на лбу. Вполне сопоставимой по размеру с той, что появилась у меня самого после последнего набега на дневник Софии.
– Я вышел на клерка из приемной комиссии университета, – говорит мой помощник. – Он был настолько любезен, что, несмотря на субботу, согласился зайти в свою контору на Трампингтон-стрит и посмотреть списки выпускников. Софии Алиссы Эйлинг в базе нет. Я попросил его на всякий случай проверить разные варианты написания имени. Но он все равно ничего не нашел. Он уверен, что у них не было такой студентки.
– Ага.
– Еще я поговорил с криминалистами, которые осматривали «фиат» мисс Эйлинг. Они нашли там пару интересных вещей.
Проклятье. Сердце с глухим стуком проваливается до самых оксфордских ботинок. Криминалисты сегодня тоже сверхстарательны.
– Багажник слегка влажный, говорят. Но это, скорее всего, из-за позавчерашней грозы. Еще они нашли на заднем сиденье несколько клочков зеленой травы.
– Это как раз неинтересно. – Я очень стараюсь говорить нейтрально. – Обрывки зеленой травы найдутся в любой кембриджской машине.
Хэмиш пожимает плечами.
– Они еще нашли несколько комков грязи на водительском сиденье и на коврике, – добавляет он. – Есть слегка сырые. Эйлинг, видимо, где-то гуляла под дождем.
– Гм…
– Четких отпечатков пальцев нет, к сожалению. Но в багажнике обнаружили пару длинных светлых волос. Оба от крашеной блондинки с темно-каштановыми корнями. ДНК та же, что у Эйлинг.
– Значит, она и есть та, про кого мы думаем, – говорю я.
– Именно.
– Тогда мне нужно от вас еще две вещи. Во-первых, не могли бы вы узнать, где находится сейчас дуо по имени Анна Мэй Уинчестер? Выпускница колледжа Люси Кавендиш, которая в девяносто пятом году пропадала девятнадцать дней, а потом явилась обратно. Я хочу знать, что с ней стало. Отдельно – не поменяла ли она имя.
– Хорошо.
– Во-вторых, не могли бы вы надавить на Мардж, чтобы она закончила протокол вскрытия как можно скорее? Нам просто необходимо знать хоть что-нибудь до конца дня.
– Почему вы так стремитесь закончить это дело до конца дня? – Хэмиш смотрит на меня прищуренным глазом. – Вы твердите об этом с самого утра.
– Потому что…
Проклятье. В голове вдруг стало пусто.
Хэмиш таращится на меня. Я слишком долго придумываю, что ответить. Нужно что-то сказать. Что угодно.
– Потому что… гм… на кону моя репутация.
Он дергает бровью.
– Подарить убийце один день, чтобы он мог скрыться, – значит подарить ему и второй, – продолжаю я, стараясь придать уверенности своему голосу. – И тогда мы его вообще никогда не поймаем.
– Ага, – кивает Хэмиш.
Но невозможно не заметить, какой опасной дугой выгнулась его нижняя губа.
– Обязательно запишите куда-нибудь эти факты.
– Да… конечно.
Он исчезает за дверью, рот его изогнут все так же скептически.
Черт. Черт. Черт. Было плохо, стало еще хуже. Две оплошности за два дня могут равняться карьерному самоубийству. Судя по виду, с которым Хэмиш выходил из моего кабинета, он что-то заподозрил. Или мне показалось?
Я подхожу к шахматной доске и в попытке успокоиться делаю четыре совершенно случайных хода. Хватит заморачиваться из-за Хэмиша, иначе я скачусь в паранойю, пусть сколь угодно оправданную. Лучше подумать о том, что он только что сказал.
Я рывком переключаюсь на расследование.
Закономерность действительно просматривается. Регистрационных записей, относящихся к женщине по имени София Алисса Эйлинг, совсем мало, и они очень разрозненные. В приемной комиссии университета заявляют, что никогда о ней не слышали. То же отвечают в службе регистрации актов гражданского состояния, Министерстве внутренних дел и местной избирательной комиссии. Даже в Министерстве памяти и Департаменте по делам дуо ничего о ней нет. Записи о существовании Софии имеются лишь в двух организациях – в агентстве по лицензированию водителей и банке «Барклайс». Хорошо бы проверить у бермудских коллег, есть ли она в их файлах. Действительно ли она родилась на острове и имеет бермудский паспорт. Подозреваю, там окажется все та же унылая пустота. В любом случае бермудцы ответят лет через сто.
Я работаю по другим часам.
Кто тогда, черт возьми, эта София Эйлинг?
Взгляд останавливается на фотоальбоме, который все еще лежит на краю моего стола. В нем множество фотографий двадцатилетней кембриджской студентки. Простоватой очкастой девушки со слегка оттопыренными ушами. Кто эта шатенка, пес ее подери? И из какой преисподней явилась блондинка, которую мы выловили из реки сегодня утром? Может ли София Алисса Эйлинг быть фальшивым именем? Или другим именем? Скажем, новым именем женщины, которую когда-то звали Анна Мэй Уинчестер? Могла плоскогрудая шатенка, вырвавшись из Сент-Огастина, переделать себя в пышнотелую блондинку? Чтобы потом ее убил Марк Эванс?
Я вздыхаю.
Белый король определенно в опасной позиции. Чтобы его защитить, я двигаю вперед слона. В дверь два раза осторожно стучат. Я поворачиваюсь – опять Тоби.
– Вам, наверное, будет интересно, что мы нашли, сэр, – объявляет он, улыбается во весь рот и шагает в кабинет.
Я с надеждой поднимаю бровь.
– Пришлось перевернуть небо и землю, но я добыл имя человека, – говорит он, – который стоит за переводами денег на счет Эйлинг в «Барклайсе». Если бы не ваш швейцарский контакт, ничего бы не вышло. Хейнс надавил, и вот…
– Имя?
– Основатель трастового фонда – дуо по имени Алан Чарльз Уинчестер. Банковский магнат родом с Британских Бермуд.
Я застываю.
– Я подумал, что вы захотите получить побольше информации об этом человеке, – продолжает Тоби с ухмылкой. – Ну я и поискал. Кое-что есть в Сети. В шестьдесят седьмом году Алан женился на дуо с Португальских Бермуд по имени Лили Феррера. В восемьдесят первом они решили переехать с Бермуд в Англию. Купили большой загородный дом в поселке Котон, это три мили от Кембриджа. Брук-лейн, двести восемьдесят восемь…
Он замолкает, переводя дух.
– Дальше.
– В восемьдесят третьем, возвращаясь в Котон после «Травиаты» в Королевском оперном театре, Алан и Лили попали в страшную аварию на шоссе Эм-одиннадцать. Алан отделался переломом руки, но Лили, получив множество повреждений, скончалась на месте – так было объявлено. Алан женился во второй раз в девяносто четвертом году, на танцовщице-моно из Беларуси по имени Агнесса Иванова. В конце концов он тоже умер – в две тысячи восьмом году, от сердечного приступа… – Тоби неожиданно хихикает, – занимаясь сексом в отеле «Риц» со своей личной помощницей Нолой Барр. Но вам должно быть интересно вот что, сэр: у Алана Уинчестера осталась дочь от Лили Ферреры. Она родилась в семидесятом году. Ее звали Анна Мэй.
– Господи боже.
– Я также позвонил еще раз в Сент-Огастин, – говорит он. – Представился бухгалтером из Швейцарской службы по делам наследования. Сказал, что проверяю старые счета и нашел расхождения в платежах. Возможно, из-за путаницы в том, сколько времени у них провела Эйлинг. Попросил сверить даты – когда именно она там лечилась. И знаете что?
По его лицу расползается триумфальная гримаса.
– Эйлинг была в Сент-Огастине с мая девяносто шестого по январь две тысячи тринадцатого, – заключает он.
– Ты настоящий талант, Тоби, – говорю я. – Я представлю тебя к повышению. Первоклассная работа.
– Повышение никому не повредит, – говорит Тоби, снова хихикая. – Чем выше этаж, тем лучше обзор, это я усвоил. Что еще мне сделать?
– Пока ничего. Я позвоню, если что-то понадобится. Отличная работа, Тоби. Просто отличная.
– Спасибо, сэр. – Тоби потешно салютует и исчезает за дверью.
Я шагаю к окну в надежде на глоток свежего мозгоочистительного воздуха. Я со свистом делаю глубокий вдох, но через секунду понимаю, что наполнил легкие раскаленным выхлопом проезжавшего мимо автобуса. Я строю рожу голубю, расположившемуся чуть ниже на жердочке, – птица отвечает мне столь же пренебрежительным взглядом. Ветер за день разгулялся – заблудившийся бумажный пакет описывает по Парксайду энергичные броуновские круги. На Паркер-Пис – большой зеленой поляне неподалеку от полицейского участка – бегают несколько мальчишек и одна девчонка. Один тащит желтого воздушного змея с оранжевым хвостом. Змей парит в воздухе, словно гриф в восходящем потоке.
София Эйлинг и Анна Мэй Уинчестер – это, вне всякого сомнения, одна и та же женщина.
Я должен был это понять намного раньше. Какая жалость. Я точно выяснил бы это несколько часов назад, если бы не чертов выцветший поляроид.
Теперь все сходится. Особенно если в айдае Софии содержится не зерно правды, а чуть больше. Даты, по крайней мере, совпадают.
Может, этот дневник не просто выведет меня к правде: может, в этом дневнике и есть фактическая правда.
Итак, Софиина жажда мести родилась из чего-то такого, что проявлялось в течение нескольких месяцев и привело ее к долгосрочному заточению на Внешних Гебридах. Это что-то зажгло неугасимый пожар ненависти к Марку Генри Эвансу, который тлел в ней подспудно все годы ее вынужденной изоляции.
Но из-за чего с самого начала могла вспыхнуть такая кошмарная злоба? Уж точно не из-за разбитого сердца.
Пожалуй, стоит отбросить рациональные доводы и поставить себя на место Софии со всеми ее травмами и памятью. Извращенной, как ее высоченные шпильки. Представить, каково это – из обычной дуо вдруг превратиться в человека, который после двадцати трех лет помнит все. Допустить, что она пишет правду, – это нужно сделать, если я хочу понять, почему она так стремится уничтожить Марка Генри Эванса и что настолько ужасное он ей сделал. Ученые, между прочим, нашли генетический выключатель кратковременной памяти. А то, что однажды выключено, можно включить снова. Была же недавно в газете заметка о сумасшедшем психиатре, который лупил моно палками по голове и тем углублял им память. Может, и есть шанс, ничтожная вероятность того, что обычный грешный человек обретет в один прекрасный день полную память.
Значит, если я теперь София и могу вспомнить все (оставим пока нечеткие фрагменты и обрывки), то какое из этих воспоминаний будет самым травмирующим?
Желтый змей вдалеке, спрямляя путь, поднимается по диагонали над детьми и зеленой лужайкой.
Воспоминание о том, как Марк бросил ее ради Клэр? Возможно, но вряд ли. Каким бы грубым и бездумным способом Марк ни променял шатенку-дуо на блондинку-моно, это случилось почти двадцать лет назад. Обычно люди такое переваривают и живут дальше. Факт: учебник по мотивации уголовных преступлений утверждает, что вражда, основанная на неразделенной любви, редко продолжается долго, в этом ее отличие от затяжных денежных конфликтов. Строчка из дневника «этот идиот бросил меня двадцать лет назад ради фифы с большими сиськами» содержит куда меньше эмоционального заряда, чем фраза «этот идиот задолжал мне кучу денег, и теперь мне нечем платить за квартиру».
Безответная любовь, скорее всего, не фактор.
Я смотрю, как желтый змей танцует над детскими головами, выписывая веселые зигзаги.
Скажем, память о Марке как-то связана с долгим заточением Софии в Сент-Огастине? Двадцать лет назад Марк мог написать докторам письмо, что она ненормальная (как это сделал я). Наши письма позволили психиатрам подтвердить диагноз и отправить Софию на Внешние Гебриды. Но ведь тщательно спланированная «месть» растянулась у этой женщины на два долгих терпеливых года. Должно быть что-то еще. Что-то радикальное.
Я вздыхаю. Звук получается таким громким, что пугает голубя на жердочке. Я хмуро смотрю на несущиеся над головой облака.
Нужно включить креативность. Не я ли, между прочим, недавно смеялся над Хэмишем, что он не способен помыслить на шаг в сторону.
На краю облака – вспышка света.
Желтый воздушный змей ныряет вниз, словно гриф, заметивший падаль.
О господи, нет.
Это может быть память о том, как на нее упало бремя – воспринятое как проклятие – самой памяти. Разве не утверждал этот сумасшедший психиатр, что конвертировал женщину-моно в человека с памятью гораздо более глубокой, чем у любого дуо? Жесткая комбинация физической и эмоциональной травмы, как он заявлял, сделала свое дело. Двадцать лет назад Марк мог совершить по отношению к Софии что-то столь же радикальное. В ночь Тринити-бала, например. И этот его поступок заставил ее вспомнить все, о чем она вспоминать не хотела. Когда я разговаривал с ней в первый раз, она была очень сильно возбуждена, это точно.
София, видимо, считает Марка виновным в том, что ее пришибло этой избыточной памятью.
Бинго.
Кажется, нашел.
Но точно ли Марк два дня тому назад нанес удар этой отчаянной и расчетливой женщине? И как она умерла?
Я иду обратно к шахматной доске. Пару минут изучаю фигуры, потом двигаю белого короля назад, уклоняясь от буйного черного ферзя.
Мне нужен протокол вскрытия до конца сегодняшнего дня. Но Мардж с помощниками могут провозиться долго. Сегодня, между прочим, суббота. Насколько я знаю Мардж и компанию, они вполне могли свернуть дела и отправиться пить пиво в «Летучего поросенка». И я могу их понять. Люди, которые весь субботний день прокопались во внутренностях раскисшего трупа, заслужили немного выпивки. Или много выпивки. Но завтра воскресенье, и протокола не будет до понедельника.
Мне этот чертов протокол нужен сегодня.
Кто помнит больше, чем признается? Кто лжет другим и кто обманывает себя? Что, если забыта правда? Как нам узнать истинных себя? А других?
Марк Генри Эванс. Из набросков к «Прозорливости бытия»Глава двадцать вторая София
15 апреля 2015 г.
Утром в «Таймс» очаровательная штучка – закон о моно и дуо. Столь дорогой Маркову сердцу проект, краеугольный камень его политической кампании. Кусок дерьма, призванный объединить разъединенную страну. Наивная попытка увеличить число дуо и тем вернуть Британии давно утраченную славу. Поразительно, на что в наше время способны власти. Еле-еле завуалированная попытка социальной инженерии. Эта страна напоминает мне долбаный Третий рейх.
Закон скоро уйдет на подпись к королеве. И вступит в силу в феврале следующего года.
Красота.
Если бы они только знали. Моно-дуо-брак – прямая дорога к депрессии. О да. У меня более чем достаточно свидетельств подпитанной таблетками женской истерии. Но хорошо бы доказать, что совершено убийство.
Попробуй найди этих чертовых воров-разбойников, когда они позарез тебе нужны. Эти люди умеют растворяться в воздухе.
Нужно постараться.
Сильно.
16 апреля 2015 г.
Температура накаляется – всеобщие выборы назначены на четверг, 25 июня. Марк будет крутиться как ненормальный. В ближайшие недели основное внимание прессы будет на нем, я считаю.
Буду держать наготове глаза и уши. Чтобы в нужный момент сорвать с него маску перед целым миром.
Когда любовь обернется ненавистью, расплавится преисподняя.
Точка плавления высока.
И он это заслужил. Я бы не врезалась в чертов фонарный столб на Джизас-Грин, если бы он не разозлил меня с самого начала. Когда я, блин, и так была вне себя. Мог бы проявить каплю сочувствия, каплю понимания. Вместо этого он взбесил меня в сто раз сильнее.
Поразительно, что может сделать с беззащитным мозгом столкновение с крепким, неподатливым железом. Снять шоры. Обрушить баррикады – с грохотом.
Когда у тебя в руках куча времени – например, в Сент-Огастине, – трудно думать о чем-то другом, кроме как о людях, толкнувших тебя в этот ад. О мелких, но значимых поступках, ими совершенных, и о том, как они сложились вместе.
У меня есть все необходимые инструменты, чтобы соорудить ему политический эшафот. Острое зубило полной памяти. Бритвенное лезвие твердой уверенности.
Время подходит. Я это вижу. Чувствую. В том числе и носом.
Падение этого человека неизбежно.
Еще чуть-чуть, София.
Еще чуть-чуть.
2 мая 2015 г.
У мистера Баррела ловкие руки. И шустрые ноги. Достаточно ловкие и шустрые, чтобы нанести в прошлую субботу ночной визит в Ньюнем и не оставить там ни единого следа. Безмятежной ночью, когда один из постоянных обитателей дома 303 по Гранчестер-мидоуз мирно спал. Другой находился в это время в Лондоне с высунутым из трусов членом. И парой губ у себя между ног. И камерой размером с булавочную головку, фиксировавшей каждый его вздох и стон.
Но шустрый мистер Баррел не добыл мне сокровищ. Он явился вчера. В потертой дырявой майке с надписью: «Мы за спокойный Кембридж». С половиной того, что мне было нужно.
Прости, сказал он, постукивая по ободку кепки. На жирных пальцах пятна, наверняка от мастурбации. Прости, не вышло, лапонька.
Мужик держит старые дневники в платиновом сейфе, сейф – в кабинете, а кабинет – в дальнем углу сада, добавил он. Металлический сундук требует навороченного двенадцатизначного кода. Штука похожа на бомбоубежище, дорогуша. А может, это оно и есть. Не поддался моим самым острым инструментам. Они для настоящих профи, лучшие из лучших, можешь мне поверить.
Какого черта, сказала я.
Насчет своих старых дневников мужик просто параноик, сказал Баррел, виновато разводя руками. В жизни не видал таких сейфов. Прости, дорогуша. В этот укрепленный железобетонный бункер не влезет ни один профессионал. Это просто невозможно. И сирена, лапушка. Запрограммирована так, что начинает орать, если три раза подряд ввести неправильный код.
Это все, что я могу тебе заплатить, сказала я, засовывая половину оговоренной суммы в его грязную лапу и указывая ему на дверь.
Но… но… запротестовал он.
Теряешь кураж, Баррел, рыкнула я. Двадцать лет назад ты спер мои трусы и был таков. А сейчас ты приносишь мне только половину товара. Ну и получай половину денег. Отдам остальное, если извернешься и добудешь то, что мне надо. Может, еще и премию добавлю.
Не надо мне твоей премии, сказал Баррел, пожимая плечами. Сверкнул золотой коронкой на зубе и исчез в дверях.
Я налила в стакан тройную порцию водки. Папаша, между прочим, однажды сказал, что всякое дело нужно отмечать правильной дозой бухла – если не с радости, то назло. Села у трюмо. Разорвала конверт, который оставил мне Баррел. Внутрь впихнуто несколько бумажных листов. Вытащила их с довольной ухмылкой. Моим глазам предстал размашистый почерк. В чем-то даже детский.
Я раскрыла рот. На первой странице стояла дата – 13 июня 1995 года вместо 13 июня 1996-го.
Мудак Баррел не умеет читать.
Очень хотелось запустить этими листами в стену. Или в себя, дуру, за то, что связалась с безграмотным аферистом. На черта мне понадобился этот бывший разнорабочий из колледжа Люси Кавендиш? Который двадцать лет тому назад спер с бельевой веревки мои трусы. Ну да, с тех пор он мой должник: я лишь посмеялась над его проделками, решив, что мне лень писать жалобу в колледж и требовать, чтобы его уволили.
Я все же пролистала всю стопку. К собственному удивлению и радости, обнаружила, что тринадцатый лист датирован 13 июня 1996 года. Баррел, наверное, вырезал двенадцать страниц из неправильного дневника, потом сообразил, что ошибся, и взял с полки правильный.
Так что читать этот мастурбатор все же умеет.
Перед тем как потратить десять минут на изучение нужных мне страниц за 1996 год, я произнесла тост за саму себя, подняв стакан водки. Предусмотрительно, блин.
Ибо вскоре после этого стакан водки полетел в стену.
Чтоб тебе сдохнуть, сука.
Я могла бы и догадаться.
Заранее.
3 мая 2015 г.
Я имею право ныть. И даже жаловаться. На гребаную избирательную людскую память. Которую иллюстрирует следующий пассаж из дневника этой женщины от 18 июня 1996 года.
15:15. Посмотрела на Кэт, когда на улице полил дождь. Еще спит. Тихо в своей кроватке. Мне показалось, в комнате прохладно, так что я набросила на нее одеяло. Вернулась в гостиную и снова села вязать.
16:30. Гроза усиливается – волнуюсь, что гром разбудит Кэт.
17:01. Вернулась посмотреть, как там Кэт, – может, ее пора кормить. Глаза еще закрыты. Лицо кажется бледнее, чем обычно. Потрогала щеку. Холодная. Такая холодная, что у меня заледенели пальцы и душа.
Не знаю, что было потом. Правда не знаю. Когда мир собрался в фокус, я стояла в детской на четвереньках. Руки дрожали, по лицу текли слезы. Не могла дышать. Марк на коленях в нескольких ярдах от меня держал Кэт на руках. Голова у нее свешивалась вниз.
Что ты наделала, Клэр? – визжал он.
Мир снова вышел из фокуса. Следующее, что я видела: кругом медики. Один прикрепляет какую-то штуку к моей деточке. Другой качает головой над серым лицом Кэт. Третий держит меня, чтобы я не вырывалась. У него на лице длинная царапина. Марк стоит в углу, вцепившись в спинку кроватки. Лицо белое, в глазах боль.
И тогда я поняла, что случилось с моей милой деточкой.
Больше писать не могу. Меня положили под наблюдение. Нет сил. Ничего не чувствую. Сознание разорвано. Меня поглотила бездна. Наверное, мне никогда из нее не выбраться. Но я должна записать все это до того, как засну.
Прости меня, Марк.
Ничтожество. Моно прячется от своего прошлого. Покрывает свои преступления. Утаивает грехи. Искажает правду. Пишет в дневник ложь. Решается верить только в то, во что ей хочется. Убеждает саму себя, что она ни в чем не виновата. Избавляется от мук совести.
Смешно, как люди отказываются признать вину. Даже наедине с собой.
Странно, как утешает амнезия.
Поразительно, как они забывают о том, что сделали.
Этим не докажешь, что Клэр Эванс убила свою дочь, увы. Этого мало, чтобы перед всем честным народом вынести ей обвинение. Чтобы заставить мир (и присяжных) объявить ее матерью-убийцей.
Каждое слово из этого пассажа я прочесала мелким гребнем. Вплоть до того, что скопировала сюда. Единственная фраза, которая бросает на нее легкую тень, – мучительный вопрос Марка:
«Что ты наделала, Клэр?»
Но этот вопрос может значить все, что угодно. Из него нельзя вычитать: «Ты задушила несчастную Кэтрин, мою маленькую заиньку».
Прости меня, Марк.
Это тоже может означать все, что угодно. Это не признание вины.
Этого мало.
Гребаный черт.
Надо все начинать заново.
4 мая 2015 г.
Минутку. История не закончена. Я перебрала еще раз тощую пачку затхлых листов. Вот небольшой фрагмент из более ранней записи (от 14 июня 1996 года):
08:15. Проснулась мокрая от пота. Тот же сон, как в старых дневниковых записях, но намного, намного страшнее. Лицо не Дженкинса. Теперь это лицо Кэт. Восемнадцатилетняя версия моей маленькой деточки. Карие глаза, как у Марка, и светлые волосы, как у меня. Рот искривлен от гнева. Все из-за тебя, мама, ты испортила мне жизнь. Ты сделала меня моно. Твоя проклятая кровь. У меня ничего теперь не получится, надо мной всегда будут смеяться, я теперь, как ты, гражданин второго класса.
Фрагмент записи за следующий день:
06:27. Проснулась, вся дрожа, лоб и ладони в поту. Тот же сон, что и прошлой ночью, но с жутким вывертом: моя взрослая Кэт – не моно. Вместо этого она дуо. И все равно она кричала на меня. «Ты меня позоришь, мама, – повторяла она раз за разом. – Потому что ты глупое ничтожество. Папа у меня супер, а ты – бесполезная и беспомощная». Почему мне теперь снится Кэт вместо Дженкинса? Почему эти сумасшедшие кошмары никак не кончатся?
Что объясняет расхристанную и бессвязную запись этой женщины от 16 июня.
17:15. Долго смотрела на малышку Кэт в кроватке. На этот раз она даже не плакала. Агукала, улыбалась, с веселым визгом тянулась за моим пальцем. Такая красавица. Невинный ангелочек. Такая милая, что я расплакалась. Что, если она станет моно, как я? Что, если я обрекла ее на пожизненную дискриминацию? А если окажется, что она дуо, будет ли она смотреть на свою мать-моно и бывшую официантку сверху вниз? Потеряю ли я ее любовь и привязанность, потому что не могу стать дуо, как она? Она будет меня презирать? Что, если день за днем она будет повторять тем же покровительственным тоном, как Марк сегодня утром: «Обязательно запиши это себе в дневник, мама, и выучи как следует»? Что, если я никогда не смогу ее понять? Будет ли моя дочь по-прежнему любить меня после того, как ей исполнится восемнадцать и она поймет, что она – моно? Возненавидит ли она меня за то, что я уготовила ей такую судьбу? И не возненавидит ли еще сильнее, если станет такой, как ее отец?
Вполне ясно, что именно запустило послеродовую депрессию у Клэр. Четко просматривается скользкий склон гормоноиндуцированного помрачения. Неудивительно, что всего через два дня, 18 июня, произошел срыв в безумие.
Что за фигня, мне уже почти жаль эту женщину. Несмотря на то, что двадцать лет назад она украла любовь всей моей жизни. Моя любовь с тех пор все равно превратилась в ненависть. Любовь или ненависть. Никакой золотой середины.
Простить или забыть. Забывать я не умею, а вот простить ее почему-то хочется. Бедная, измученная малышка. Крохотную малышку мне тоже жаль. Зато муж этой несчастной сплел целый заговор, чтобы скрыть убийство. Он у меня так просто не отделается. Я должна вбить ему в голову, что он с самого начала совершил глупость, женившись на моно. Именно это я пыталась сделать, когда утром в день свадьбы нанесла ему визит вежливости. Надо быть безнадежным идиотом, чтобы предпочесть ее мне. Как же мне, черт побери, до него достучаться?
Будет, кстати, очень мило, когда они разведутся. Приятно посмотреть.
Когда они наконец убедятся, что я была права.
5 мая 2015 г.
Может, и не придется все начинать заново. Надо подумать. Сильно. Даже если начнет раскалываться голова. Марк Генри Эванс вполне мог подойти к делу так же избирательно. Из всего, что произошло в его собственном доме 18 июня 1996 года, он мог тщательно отобрать и сохранить только некоторые факты. Подобно своей трусливой жене-моно, он мог соврать в собственном дневнике.
Но те, кто лжет другим, редко лгут себе.
В этом я уверена.
Фундамент лжи – правда. Потому что ложь – это уклонение от правды.
Чтобы лгать, надо знать правду.
Особенно если ты моно. Но даже если и дуо.
Я убеждена: Марк правдиво зафиксировал все, что случилось с его дочерью. Все, что сделала его жена в тот дождливый вечер. Я чувствую это нутром. Поэтому он так старательно прячет старые дневники. В сейфе, похожем на бомбоубежище.
Марк Генри Эванс лжет своей жене. Не стыдясь. Он лжет и мне с тем же пылом. Но он не станет лгать себе. Он – дуо, и у него хватает ума понять, что этого нельзя делать.
Непозволительно.
Особенно для долбаного литератора.
Большинство сочинителей пишут для того, чтобы осмыслить случившееся с ними самими. Тащат в книги весь свой земной опыт. Переводят в литературу факты. Беды. Желания. Ужас. Страх. Любовь. Потери. Факты, которые они усвоили из своих дневников. Обрывки разговоров, которые они записали. Все это красиво переосмысливается в образной прозе. Получает новую жизнь в тонких душещипательных текстах. Почти любой роман – завуалированное отражение автора. Его личности. Его прошлого. Фактов о себе самом, которые он выучил. Тем или иным способом.
Но вдохновляет писателя ад.
Вовсе не рай.
Хороший писатель превращает личные невзгоды в литературу. Марк – хороший писатель, несмотря на обилие огрехов. Я не кривила душой, когда на писательском фестивале хвалила его литературный гений. Взять, например, «На пороге смерти». Этот роман сильнее всех других превозносили критики. И он же вознес Марка в литературную стратосферу. И чуть не получил Букера в 2013 году.
Возьмем сцену, названную критиками «шедевром слезовыжимания». Главный герой Гуннар узнает о смерти своей девятимесячной дочери. Марк не смог бы описать эту сцену с такой убедительностью. Столь ярко и трогательно. С такой жестокой точностью.
Если бы скрывал правду от самого себя.
Теперь я понимаю, откуда пришел его успех. Как этот человек смог переродиться. Из безденежного безработного экс-гуманитария, лишенного родительского наследства за женитьбу на дуре-моно. В богатого писателя, автора бестселлеров, которого обожают миллионы. Потому что в его однообразном дуо-существовании стали происходить события. Разные события, ужасные и жестокие. Вот он и написал о них с большим чувством.
Такое всегда найдет отклик у читателей.
Мне нужны страницы из дневника Марка.
Но как залезть в этот чертов сейф-бомбоубежище? В сооружение, которое уже устояло под натиском лучшего похитителя трусов во всем Кембридже? Как насчет приставить пистолет к голове Марка Генри Эванса? Или нож с зазубренным лезвием к его же горлу?
Я типа спрашиваю.
25 мая 2015 г.
Часы тикают. Для меня.
Он позвонил сегодня утром попросить прощения. Поразительно, как он превратил извинение в настоящее искусство. Хроническая болезнь. Он не сможет в следующую субботу уехать из Кембриджа. За день до того королева должна утвердить закон о моно и дуо, и Роуэн решил приурочить к этому делу пресс-конференцию – в полдень в Гилдхолле. Самое лучшее время, говорит Роуэн. Подходящая возможность набрать политический капитал и общественный резонанс. Но такое развитие событий, к несчастью, отменяет наши планы на эти выходные. Так обидно.
Тут меня осенило.
Пресс-конференция в кембриджском Гилдхолле предоставляет мне прекрасную возможность поставить на колени Марка Генри Эванса. И это будет совсем не то коленное буйство, что запечатлено на моей стосорокачетырехгигабайтной флешке.
Теперь я знаю день и час, когда он предстанет перед лицом всего пресс-корпуса Великобритании.
В следующую субботу.
Когда величественные колокола большого собора Пресвятой Девы Марии, что буквально в нескольких шагах от Гилдхолла, начнут отбивать свои двенадцать ударов.
Но есть небольшая проблема. Крошечная, но важная. Я накосила много сена. Пышную впечатляющую кучу. Однако этому стогу недостает главного украшения. Так норвежская ель не будет идеалом красоты без звезды на макушке. Мне нужна вишенка на торте. Мне позарез необходимы дневниковые записи Марка с 13 по 24 июня 1996 года. В это время наступила смерть Кэтрин Луизы Эванс и появился протокол Пэджета. Они перекроют все мои видео со стосорокачетырехгигабайтной флешки.
Представляю в красках, как журналисты собираются на пресс-конференцию в Гилдхолле. И тут же погружаются в чтение ксерокопий соответствующих страниц из дневника Марка, которые я, конечно же, им преподнесу с непременным удовольствием. С подходящим случаю ликованием. Как они с жадностью набрасываются на неприкрашенный отчет Марка о том, что действительно произошло в детской комнате дома 23 на Милтон-роуд девятнадцать лет назад. Их обалдевшие лица. Ужас у них в глазах и не менее ужасные заголовки газет на следующий день.
Сердце мое наполнится блаженством. Ибо этот миг в Гилдхолле станет драматической кульминацией тяжелой двухлетней работы. В постели. И в других местах.
Мой великий очищающий финал.
Когда миру предстанет Марк Генри Эванс.
Изменник. Лжец. Соучастник убийства. Две первые ипостаси заставят людей разве что поднять брови. Разрушат его политическую карьеру. Третья его уничтожит. Полностью.
Мне нужны эти страницы из его дневника.
До. Следующей. Субботы.
Но как, блинский гребаный черт, мне до них добраться?
Внешность и вправду обманчива.
Дневник Софии ЭйлингГлава двадцать третья Ханс
5 часов 15 минут до конца дня
Кажется, я понимаю, о чем этот едкий дневничок. На Джизас-Грин Марк разозлил Софию, и в результате она ударилась головой о «чертову» железяку. Это, в свою очередь, погнало волну «полной памяти» – в чем София теперь и обвиняет Марка.
Выходит, моя дедукция была правильной. Имею право гордиться, что дошел до этого сам. Но неужели София действительно намеревалась показать дневниковые страницы на пресс-конференции в Гилдхолле и тем уничтожить Марка? На пресс-конференции сегодня в полдень?
Это похоже на безумие.
Я тянусь к доске, чтобы снести черного ферзя его белым двойником.
От дверей доносится очередной стук. Я поднимаю взгляд – снова Хэмиш. Лицо у него виноватое и даже сконфуженное.
– Вы правы, – говорит он. – Беру назад все свои слова.
– Ага.
– Мардж закончила вскрытие, – говорит он. – Пришло пару минут назад.
Он протягивает мне стопку бумаг. На верхнем листе напечатано:
Судмедэкспертиза Кембриджшира
Дата и время вскрытия: 09:49, 6 июня 2015 года
Вскрытие произвел(а): Марджери Шелдон, БМ, БХ, ККПА, ДМП (пат.)[8]
Имя: София Алисса Эйлинг
Дата рождения: 20 ноября 1970 года
Раса: белая
Пол: женский
Класс: дуо
Протокол вскрытия № 2015-289
– Я ухожу, а вы поразмышляйте над тем, что нашла Мардж. Там много интересного. Похоже, вы были правы с самого начала. А я все ищу подтверждение, что Уинчестер поменяла имя. Если что-то раскопаю, дам вам знать. Чувствую, оно почти рядом.
Хочется сказать, что ничего искать уже не надо. Но опять-таки его нужно чем-то занять.
– Очень хорошо, – говорю я.
Он исчезает за дверью. Может, Хэмиш по большому счету не такой уж напыщенный идиот. По крайней мере, ему хватило мужества признать свою неправоту. Вцепившись в бумаги, я жадными глазами поглощаю текст.
Внешний осмотр
Вскрытие начато в 9:49 утра. Тело доставлено в черном мешке. Потерпевшая одета в серый плащ («Акваскутум», размер 12), передние, боковые и внутренние карманы которого заполнены полированными черными и белыми садовыми декоративными камнями средним диаметром 50 мм. На ней также надета черная блузка без рукавов с высоким горлом («Александр Маккуин», размер 8), длинные черные брюки («Александр Кинг», размер 8) и черные ботинки на плоской подошве («Ланвен», размер 6). Белье состоит из черного кружевного бюстгальтера и черных кружевных стрингов («Ажан провокатер»).
Тело принадлежит белой женщине – рост 175 см, вес 116 фунтов. Черты лица соответствуют возрасту 44 года. Пострадавшая носит светло-голубые контактные линзы; радужные оболочки глаз темно-карего цвета. Роговицы мутные. Волосы, приблизительно 250 мм в самой длинной части, окрашены в платиново-белый цвет и завиты в локоны. Цвет корней указывает на темно-каштановый натуральный оттенок. Ногти на ногах окрашены ярко-малиновым лаком. На губах пострадавшей обнаружены следы ярко-красной помады. Подбородок, нос, уши и щеки подвергались обширной пластической хирургической коррекции. В губах имеются наполнители из гиалуроновой кислоты, пострадавшая также получала инъекции ботокса в область лба. Кроме того, была произведена операция по значительному увеличению груди. Гениталии характерны для взрослой женщины, физических повреждений не обнаружено. Лобковые волосы частично сбриты.
На правой стороне головы обнаружен кровоподтек размером 15 × 5 мм. Он расположен под волосами, на расстоянии примерно одного дюйма от правого уха.
Тело пострадавшей покрыто речной грязью, илом и растительным детритом. Корки грязи покрывают ногти на руках. Лента зеленых водорослей опутывает левую ногу. Локти, колени, а также задние части рук потерпевшей покрыты поверхностными царапинами и ссадинами. Красный лак на указательном, среднем и безымянном пальцах левой руки имеет потертости. Лак на всех пальцах рук сколот сходным образом. Имеются также небольшие царапины и повреждения кожи на левом большом, указательном и среднем пальцах потерпевшей. Кожа на кончиках пальцев правой руки также повреждена в нескольких местах.
Внутренний осмотр
Центральная нервная система. Мозг весит 1 кг 307 г, что находится в пределах нормы. Под черепом, в области, соответствующей внешним повреждениям, кровоподтеку и ушибу, предположительно связанным с травмой, обнаружены следы острого субдурального кровотечения – главным образом в медиальной височной доле и области гиппокампа.
Мочеполовая система. Почки (правая – 117 г, левая – 120 г) в нормальном состоянии. Внутренний осмотр таза показал, что потерпевшая в момент смерти не была беременна. Также не обнаружено свидетельств недавней сексуальной активности…
Я поднимаю взгляд от черной печати, мысли кружатся вихрем. Значит, я был прав: Софию Эйлинг убили. Некто стукнул ее по голове, вызвав внутреннее кровотечение, которое в конце концов и привело к смерти. Затем этот некто натянул ей на плечи большого размера плащ, заполненный садовыми камнями, и утопил в реке Кэм.
Этим некто был перепуганный литератор. Писатель, вспомнивший в отчаянии Вирджинию Вулф и понадеявшийся таким способом скрыть истинные обстоятельства смерти Софии Эйлинг. Нужно иметь в виду, что, кроме синяков, которые Мардж нашла под волосами покойницы, никаких других следов физического насилия на ее теле нет.
Но убийца – идиот. Сертифицированный дурак. Камней было слишком мало, чтобы утянуть на дно тело Эйлинг. Он – или она – никогда не слышал о законе Архимеда. Иначе сообразил бы, сколько нужно груза, чтобы он мог противостоять выталкивающей силе воды, действующей на труп весом 116 фунтов. Нескольких жалких декоративных камешков из чьего-то сада для этого точно не хватит. Утром у Эвансов я заметил, что на бордюре вдоль садовой дорожки недостает нескольких камней. Вместо них на земле остались темные вмятины без травы. Более того, камни в саду в точности такие же, что и в карманах плаща, обернутого вокруг тела утопленницы.
Полагаю, у меня достаточно материала, чтобы сегодня же посадить убийцу Софии в камеру, расположенную в глубине полицейского участка.
Я двигаю вперед черного ферзя и выкапываю из верхнего ящика стола пару наручников. От этих писателей никогда не знаешь, чего ждать. Особенно от тех, кто зарабатывает на жизнь описанием человеческих смертей.
Я выхожу на улицу и забираюсь в патрульную машину. Но до того как водитель успевает завести мотор, замечаю, что к нам на всех парах несется Хэмиш.
– Ханс! – запыхавшись, окликает он меня и подбегает поближе. – Я не нашел вас на месте. И по мобильному вы тоже не отвечаете. Фиона говорит, видела, как вы быстро выходили из кабинета.
– Я сейчас кое-кого привезу, – отвечаю я. – Второй раз за сегодняшний день. Зря отпустил утром.
– Анна исчезала на девятнадцать дней летом девяносто пятого, – говорит Хэмиш. – И знаете что? Она официально сменила имя на София Алисса Эйлинг, а через несколько месяцев исчезла опять…
– Я все это уже знаю, – отмахиваюсь я.
Хэмиш разевает рот:
– Как?
– У меня свои методы, – отвечаю я. – Кстати, я еду за убийцей Софии. Но сначала придется заскочить в Котон.
– Вы меня запутали.
– Нужно проинформировать ближайших родственников мисс Уинчестер о ее смерти.
– Может, сначала стоит арестовать убийцу?
– Не волнуйтесь. За пару часов убийца никуда из Кембриджа не денется – кишка тонка. Кроме того, этот человек еще не знает, что я все выяснил.
– Я поеду с вами. Тем более что вы собрались его арестовать.
Берегись Хэмиша. Весь сегодняшний день держи его на расстоянии вытянутой руки. Утром мне удалось кое-как от него отвязаться, уехать без сопровождения и сделать пару визитов. Но устав требует, чтобы арест производили два человека. Я морщусь, но тут, слава богу, в голову приходит соломоново решение.
– Все в порядке, – говорю я, указывая на сержанта за рулем машины. – Он меня прикроет.
Под визг колес мы откатываем от Хэмиша, оставляя его в большом облаке выхлопных газов.
Алан Чарльз Уинчестер был при жизни богатым человеком. Подъезд к дому 288 на Брук-лейн впечатляет. Мы проскакиваем мимо величественных столбов, увенчанных статуями золотых львов, и останавливаемся под пышным портиком с золочеными колоннами. Выйдя из патрульной машины, я обнаруживаю зеленого павлина, разгуливающего позади ухоженной клумбы с ноготками. Подхожу к парадной двери и берусь за кольцо. Дверным молотком служит лицо дьявола, золоченое кольцо – его язык.
Я стучу железом один раз, потом другой. Два резких удара звучат как пушечные выстрелы, громкости достаточно, чтобы разбудить мертвого.
Я жду, шаркая башмаками по крыльцу и разглядывая мозаичное изображение грудастой голой женщины у себя под ногами. К дверям так никто и не подходит. Я смотрю на часы в течение ровно шестидесяти секунд, потом стучу железным языком еще два раза.
Ответ на мои усилия – непоколебимая тишина.
Я жду сто двадцать секунд, после чего спускаюсь с крыльца и осматриваю фасад дома. Все на запоре, включая множество эркерных окон верхнего этажа. Жалюзи опущены, дом словно погрузился в спячку. Агнесса Уинчестер, очевидно, в отъезде. Я достаю мобильный телефон и набираю номер, который мне дал Тоби.
– Алё, – отвечает приглушенный женский голос.
– Добрый вечер, – говорю я. – Можно поговорить с миссис Агнессой Уинчестер?
– Я у теле-фона. Кто там?
– Ханс Ричардсон, полиция Кембриджшира, отдел уголовного розыска.
– Вы поли-цейский?
– Да. Я стою перед вашим домом, но вас там нет.
– Я сей-час нахожусь в курорте на юге. Пачиму вы стоите у меня перед дверью?
– К несчастью, у меня плохие новости. Вынужден сообщить, что сегодня утром в реке Кэм нашли тело Анны Мэй.
– Анна умер-ла?
– Да.
– О хосподи…
Телефон на несколько секунд погружается в молчание.
– Простите, что вынужден сообщить вам это, – говорю я.
– Пачиму «простите», инспектор?
– Гм… я всегда прошу прощения, когда разговариваю с родственниками погибших.
В трубке раздается сопение.
– Анна мне не вся род-ственница. Она дочь моего второго мужа Алана. Он умер несколько лет назад. Мой дневник говорит, что я не видела Анну отчень долко. Она сошла с ума, понимаете, и ее положили в больницу психов. Она утопилась?
– Мы считаем, что ее убили. Расследование позволило сделать несколько важных выводов, и мы близки к тому, чтобы назвать имя того, кто на нее напал.
– На-пал? Значит, ее за-стрелили? Из пистолета?
– Нет-нет. Ее не застрелили. Но я не могу пока сказать вам больше.
– Бедная Аннушка. Вы очень должны найти того, кто ее у-бил.
– Я это сделаю, миссис Уинчестер. Обещаю. Так или иначе, в ближайшее время с вами свяжется медицинская служба, чтобы вы могли распорядиться насчет похорон.
– Спасиба, инспектор.
Я выключаю мобильник, шагаю к патрульной машине и запрыгиваю внутрь. Агнесса Уинчестер, судя по разговору, ветреная белорусская фифа, которая бо́льшую часть своего времени проводит на курортах за чисткой перышек. Тем не менее она ближайшая родственница потерпевшей, и я выполнил свой долг, поставив ее в известность.
– Ньюнем, – говорю я водителю.
Он кивает и жмет на газ. Машина с визгом рвется вперед, разбрасывая гравий.
– Быстрее, – говорю я.
Он поводит усами и сильнее жмет на педаль газа. Мы проскакиваем Брук-лейн, разметая собравшиеся посреди дороги сухие листья. Я намерен сделать в точности то, что обещал Агнессе. Очень скоро я буду в примыкающем к Ньюнему жилом поселке, где извлеку этого человека из глубин его личного кабинета. Он сказал, помимо прочего, что провел последние два дня за работой в этом помещении. Позавчера в его кабинете произошло нечто ужасное.
Я в этом уверен.
Месть. Шантаж. Соблазн. Одержимость. Убийство.
Что, если бы книга, которую вы держите сейчас в руках, оказалась точным изложением фактов из вашего собственного дневника?
Перед вами – история Гуннара, который, раскопав в благотворительном магазине Вальберга потрепанную книжку, вдруг узнает из нее, что все это время прятал от себя страшную правду о своем прошлом.
И что она известна кому-то другому…
Аннотация на задней странице обложки романа Марка Генри Эванса «На пороге смерти»Глава двадцать четвертая Клэр
Зачем я вырезала эти страницы из своего дневника? Даже инспектор Ричардсон не смог хоть как-то заполнить двенадцатидневную пустоту у меня в голове. И все же насколько стало легче, когда выяснилось, что Анна Мэй Уинчестер нашлась через несколько дней. По крайней мере, тогда, давно, Марк ничего не сделал с этой девушкой. Я точно так же уверена, что он не виноват в смерти Софии. Я не выходила замуж за убийцу. И я не понимаю, почему Ричардсон думает, будто Софию убил Марк.
Тем не менее Марк – изменник, подлец, и я с ним разведусь.
Сейчас сложу в маленькую сумку все самое необходимое. И вернусь по своим же следам в гостевую комнату Эмили – буду ночевать там (и пусть кровать жутко неудобная, и пусть она пахнет шариками от моли). Эмили подскажет, что делать дальше. Она уже заметила – этим своим само собой разумеющимся тоном, – что мне пора думать, сколько я смогу получить после развода. И она права.
Я поворачиваю ключ. Дверь подается – я вступаю в гостиную. Послеполуденное солнце, вспыхнув в высоких двустворчатых окнах, разбрасывает по блестящему полу розово-золотые лучи. Трудно поверить, что только сегодня утром я мчалась вниз по лестнице забинтовывать порезанную руку Марка. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Другой дом, другое существование. Слишком много боли. Я чувствую себя совсем другим человеком. Так много нужно будет записать вечером в дневник. Впечатать и выучить столько ужасных, не вмещающихся в голову фактов.
Неттл бросается ко мне, в карих глазах – сочувствие. Я глажу его по голове, тереблю болтающиеся уши.
– Кроме Эм, – говорю я, чувствуя, как по щеке ползет слеза, – ты мой единственный друг.
Неттл одобрительно машет хвостом и исчезает за диваном. Я иду на кухню и включаю чайник.
За спиной эхо шагов.
– Прости меня, Клэр. – Голос Марка звучит устало, даже измученно.
Я подхожу к шкафу, достаю пакетик «Леди Грей». Слезы высохли. Я чувствую спиной взгляд Марка.
– Я хотел тебя защитить, – продолжает он, в голос словно прокрадывается пронзительная нота. – Спасти нас от того, что мы сделали с собой, и не только. Но ничего не выходит. Все разваливается.
Чайник начинает посвистывать. Но его настойчивое сопение не в состоянии заполнить пустоту, оставленную словами Марка. В горле поднимается волна гнева, я почти задыхаюсь.
– Ты с ней спал, – говорю я с клекотом, поворачиваясь и пронзая его взглядом. – Все это время, за моей спиной. Целых два года. Я думала, ты уезжаешь по выходным из Кембриджа, потому что так нужно для работы. Вместо этого ты трахался в Лондоне с другой женщиной. Ты подлец, Марк. Ты мне лгал. С самого первого дня. Я прочла у себя в дневнике про эту девушку, с которой ты спал, когда мы уже были вместе. Ты еще ходил с ней на Тринити-бал. Бог знает, сколько женщин у тебя было с тех пор. Какая же я дура. Потому что верила тебе. Потому что терпела твое притворство. Потому что убеждала себя, что не должна разрушать наш брак. Хотя прекрасно знала, что мы никогда не будем счастливы вместе.
Марк только качает головой. Вместо раскаяния он лишь упивается жалостью к себе самому. Эта реакция бесит – ярость вздымается внутри и грозит меня ослепить. Очень хочется шагнуть вперед и вцепиться ногтями ему в плечи. И встряхнуть его как следует.
– Я солгал, – к моему удивлению, соглашается он, лишь разводя руками. – Когда говорил о ней. Когда сегодня утром к нам явился Ричардсон, я подумал, что лучше отрицать все, что меня связывает с Софией. Сказать, что не имею к ней никакого отношения. Это было единственной возможностью – так я думал. После того, что мы сделали.
– Мы? – переспрашиваю я, задыхаясь. – Это сделал ты, Марк. Это у тебя с ней был роман.
– Прости, Клэр, – говорит он. – Я увлекся по глупости. Тут нечем гордиться. Сделанного не вернешь. Но мой роман с Софией – далеко не самое худш…
Я не верю своим ушам.
– Что может быть хуже изменника-мужа, который крутит романы у тебя за спиной? – Мой голос срывается на визг. – Чем узнать, что он постоянно врал, рассказывая всему свету, как счастливо мы живем в нашем смешанном браке! Что может быть хуже?
Марк не отвечает. Вместо этого он, резко нагнув голову, валится на кухонный стул.
– Я ухожу к Эмили, – говорю я, выплевывая слова. – И буду думать об условиях развода.
Марк вздыхает.
– У тебя есть все основания для ревности, – говорит он. – И полное право требовать развода. Ударить меня так же больно, как я тебя. Ты уже многого добилась этим своим умным посланием. Всего несколько слов уничтожили мои шансы как политика. Тебе надо писать романы, Клэр. Твой скандал перекрыл все написанные мною книги. Еще немного, и ты уничтожишь нас обоих. Себя тоже.
– Прекрати говорить загадками.
– Если бы ты только знала…
Извечное Марково дуо-превосходство заставляет меня ощетиниться еще сильнее.
– Прекрати свои самодовольные дуо-выходки. И хватит намекать на мою тупость. Ты всегда знаешь больше меня. Я уже двадцать лет терплю твое покровительственное хамство. Этот факт я выучила слишком хорошо.
– Мне некого винить, кроме себя самого, – говорит он с угрюмым вздохом. – За то, что оберегал тебя от пытки знанием. Говорил, чтобы ты забыла о случившемся. Я думал, так будет для тебя лучше. Но правда у тебя внутри, Клэр, понимаешь ты это или нет. Она прячется в глубине твоего подсознания. Как болезнь. За эти годы ты, наверное, выпила сотни таблеток. Но они не всесильны. Нельзя бесконечно скрывать от себя правду. Она убивает тебя изнутри. Я устал, у меня нет больше сил тебя покрывать.
– Я только что ездила к инспектору Ричардсону, – говорю я, пропуская мимо ушей бессмысленное бормотание Марка.
– Что? – изумляется он. – Куда ты ездила?
– Хотела задать ему пару вопросов об Анне Мэй Уинчестер.
– Об Анне? – На лице полное недоумение. – Но зачем?
– Разве не так звали девушку, с которой ты шел тогда на Тринити-бал? Потом она пропала, но через девятнадцать дней вернулась. Я соединила все точки, спасибо Ричардсону. Анна Мэй Уинчестер. Это ее имя, правда? Первая из любовниц, которых ты так бесстыже скрывал от меня все эти двадцать лет. А последняя в этом списке – София.
– И ты потащилась на Парксайд только затем, чтобы узнать о моей подружке двадцатилетней давности? Это не укладывается в голове, – говорит Марк, из глаз его выплескивается неверие. – Ты, как обычно, забиваешь себе мозги не тем, чем нужно. Долбаная ограниченность, как всегда. И пусть все вокруг рушится. Теперь понятно, зачем ты рылась именно в этой папке.
Я замираю, словно ребенок, которого поймали с поличным при попытке украсть в магазине конфету. Марк знает, что я рылась в его бумагах.
– Я тебя не виню, – продолжает он, к моему удивлению. – Тебе понадобилось доказательство, что я и раньше с кем-то спал. Что я всю жизнь тебе изменяю. Чтобы унизить меня принародно. Но зачем из всех людей на свете ты пошла именно к Ричардсону? Который и так висит у нас на хвосте.
Я снова замираю.
– Что значит «у нас»?
Марк не отвечает. Вместо ответа его голова склоняется еще ниже и падает на руки.
– Марк?
Он не смотрит на меня.
– Почему Ричардсон на хвосте «у нас»?
Молчание моего мужа становится зловещим. У меня вдруг холодеет сердце.
– Что мы сделали, Марк? Это как-то связано с Софией? – Тихая дрожь пробралась в мой голос. И вовсе не от гнева.
Марк снова вздыхает и опускает плечи, словно сдается. Ссутулившись, встает и идет к дверям. Но прежде чем уйти из кухни, оборачивается и говорит:
– Я плохой муж. Но я пытался защитить тебя от последствий твоих же поступков. Сначала Кэт. Потом София. Но инспектора удержать не получится. Я чувствую это нутром. Он отпустил меня сегодня утром, но скоро вернется.
Он исчезает в темном коридоре, который выходит во двор. Наверное, пошел к себе в кабинет. Факт: Марк поспешно ретируется в глубину сада всякий раз, когда наш разговор заходит в тупик. Этот феномен в последние годы проявляет себя регулярно, с увеличивающейся частотой. Но на этот раз тупик гораздо серьезнее. София Эйлинг мертва. И наш брак рухнул.
Но почему она умерла?
Неужели Марк только что пытался сказать, что мы причастны к ее смерти?
Я потратила не меньше четверти часа, снова и снова впечатывая в поисковик «София + Эйлинг». Но на экране дневника ничего не появляется. Вообще ничего. Я перепробовала разные варианты имени: Софиа, Софья, Софи и так далее. Мой дневник пуст.
Сначала Кэт. Потом София.
Что Марк хотел этим сказать?
Факт: Кэтрин Луизой Эванс звали мою несчастную деточку. Моего единственного ребенка. Которую у меня отобрал через три месяца после рождения страшный бич под названием «синдром внезапной смерти новорожденного». Однажды ранним вечером я нашла ее в кроватке, она была очень бледная, а дальше все растворяется в ужасном тумане. Так говорит мой дневник.
Факт: Марк в последнее время не упоминает о нашем ребенке. Она стала у нас в доме чем-то вроде табу. Если я завожу разговор, он предпочитает отвечать: «Я не хочу об этом говорить». Чтобы убедиться в точности этого факта, я набираю в поисковике айдая «Кэт + Марк», потом жму на иконку «Сортировать по дате, по убыванию».
Первой появляется запись от 21 октября 2012 года. Вот ее часть:
Спросила Марка за завтраком, не стоит ли нам попробовать родить ребенка. Мне, между прочим, скоро тридцать семь. Марк бросил на меня перепуганный взгляд, как будто я не в своем уме, раз завожу такой разговор. Чуть не уронил ложку в тарелку с хлопьями. Стараясь не показать, как неприятна мне такая реакция, я сказала, что смерть Кэт оставила в нашей жизни ужасную пустоту, которая с годами становится только глубже. Нам нужно попробовать заполнить ее другим ребенком. Маленьким существом, которое потребует заботы, ласки и любви.
Если мы родим другого ребенка, это будет ужасно и для тебя, и для него, сказал Марк. И я бы не хотел говорить о Кэт, добавил он, оставляя хлопья и выскакивая из кухни. Следующие два часа я провела в постели, чувствуя себя совсем разбитой после грубого ответа Марка. Но потом набрала в поисковике «синдром внезапной смерти новорожденного», и мне стало легче. Оказывается, ученые из Гейдельберга доказали существование генетической предрасположенности к СВСН. Если первый ребенок женщины скончался от этого синдрома, есть высокая вероятность, что второй умрет точно так же.
Наверное, Марк прав: это будет плохо и для меня, и для ребенка. Не зря же доктор Джонг как-то сказал, что моя депрессия обострилась со смертью Кэт. Смерти второго ребенка я не выдержу. Нужно оставить эти мысли. Но я все равно хочу ребенка, как бы иррационально это ни было.
Почему Марк сегодня вдруг вспомнил о Кэт? После того, как годами уклонялся от этой темы.
Сначала Кэт. Потом София.
Почему он поставил два этих имени так близко друг к другу?
Сначала Кэт. Потом София.
Я вижу между ними только одну связь. Обе мертвы. Может, их смерти как-то связаны?
Мысли по спирали возвращаются к тому, что в действительности случилось вчера. Я проснулась утром и прорыдала целый час, перед тем как выбраться из кровати. Марка нигде не видно; утро переходило в день, и я стала все больше волноваться. Я вытолкала себя из оранжереи и побрела по дорожке к его кабинету. Деревянная дверь была приоткрыта – я рывком ее распахнула. Марк лежал, растянувшись на диване: лицо перекошено во сне, тело выше пояса изогнуто под неудобным углом. Пальцы сжимают горлышко полупустой бутылки из-под виски.
– Марк, – позвала я, торопясь вытащить бутылку у него из руки.
У него дрогнули веки. Он застонал. Я поморщилась – изо рта несло перегаром.
– Просыпайся, Марк.
Он поморгал и открыл глаза. Они обведены красным, точно как у меня. Зрачки сузились и остановились на мне.
– Клэр…
– Что… что ты с ней потом сделал?
– Я… она… – Голос звучал хриплым треском.
– Как мне теперь с этим жить… – У меня задрожали руки, из глаз полились горячие слезы; Марк с трудом встал с дивана. – Как я могу…
– Слушай, Клэр, – сказал он; голос вдруг стал острым и твердым, как лезвие ножа, – ты сделала то, что я тебе сказал? Записала в дневник, что весь вчерашний вечер смотрела телевизор? И не выходила из дому?
– Но…
– Пожалуйста, ответь.
– Да, я так и написала.
– Хорошо, – сказал он. – Завтра станет легче. По крайней мере, тебе.
– Но как ты сможешь скрыть…
– Смогу. – Голос – как выстрел сквозь железо. – И я это сделаю.
– Ох, Марк…
– И никогда больше об этом не говори.
– Но…
– Иди в дом, Клэр. Сейчас. Я приду позже.
Я так и сделала, хотя слезы катились у меня по щекам. Выскочила на дорожку, пролетела через дверь оранжереи и взбежала по лестнице. Ворвалась в спальню и выудила из нижнего ящика комода припрятанный там подарок ко дню рождения Марка. Схватив этот аккуратно завернутый пакет, я понеслась вниз по лестнице, обратно к нему в кабинет.
Мы встретились в саду на дорожке. Глаза его смотрели с такой же мукой, как и раньше.
– Марк… – сказала я, рыдая. – Я хотела подарить это тебе на день рождения. Но лучше возьми сейчас. А то потом будет поздно.
– Но…
Я сунула пакет ему в руки:
– Открой. Пожалуйста.
– О господи…
– Я не знаю, как еще тебя отблагодарить. Правда не знаю.
– Зачем ты всегда так прогибаешься, Клэр?
– Открой. Сейчас.
Марк хмурится и стаскивает с пакета ленту. Разрывает бумагу, смотрит на то, что я ему купила, и рот его широко открывается – в пакете первое издание «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф с автографом автора.
– Что… – Он словно не мог поверить своим глазам. – Это такая шутка, Клэр?
– Тебе не нравится книга?
– Дьявол…
– Но… но… Я подумала, ты всегда хотел, чтобы у тебя было первое издание «Миссис Дэллоуэй» с автографом.
– О господи. Что за ирония.
– Марк?
– Кэт. София. Вирджиния Вулф. Ты.
Мысли прокручиваются обратно, к сегодняшнему непонятному ужасу. Вчерашний разговор с Марком выглядит полной бессмыслицей. Мы наверняка говорили о том, что произошло позавчера. О чем-то ужасном. Если бы только я была дуо, как мой муж. Если бы я могла помнить, как он. Вот почему у дуо такое преимущество перед моно. Вот почему они считают себя высшим классом. Теперь я понимаю, что может дать лишний день памяти.
Нужно спросить Марка, прямо сейчас. Снова барабанить в дверь его кабинета. На этот раз не потому, что с ним хочет поболтать полицейский.
Я сама устрою ему допрос.
Я выхожу на свежий воздух. Солнце уже коснулось горизонта, и по саду ползают первые тени сумерек. На соседнем платане нахохлился угольно-черный ворон – он с подозрением таращится на меня, засунув между сучьев клиновидный хвост. Завывавший целый день ветер наконец утих. Кусты вдоль садовой дорожки и листья на деревьях застыли неподвижно. Умолкли даже птицы вдалеке. Мертвая тишина.
Похоже на затишье перед бурей.
Я дохожу до конца дорожки и стучусь в дверь Маркова кабинета.
– Уходи, Клэр, – говорит он. – Я работаю.
Ту же отмазку я слышала сегодня утром. Факт: фраза «Я работаю» – это любимое блокирующее устройство Марка, он пускает его в дело всякий раз, когда хочет избежать разговора со мной. Сейчас, однако, я уверена, что работа – последнее, чем он может заниматься у себя в кабинете.
Мой муж снова врет.
– Открой дверь.
– Прекрати, Клэр.
– Я хочу знать, какая между ними связь. Между Кэт и Софией. Ты назвал обеих на одном дыхании. Я хочу знать, почему Ричардсон на хвосте у нас. И как это связано с Софией.
Я слышу из-за дверей, как Марк вздыхает.
– Забудь. – В его приглушенном голосе – тень глубокой усталости. – Просто забудь мои слова. Я немного сорвался. Только и всего.
– Перестань, Марк….
– Ты сказала, что переночуешь у Эмили. Вот и поезжай. Тебе там будет лучше.
– Открой дверь. Я все равно знаю, где лежат запасные ключи от твоего кабинета. Я их сегодня уже доставала.
Ответом на мои слова становится долгое молчание. Но дверь со скрипом отворяется. Вид у Марка еще более взвинченный, чем сегодня утром. Он сжимает в кулак правую руку и вновь разжимает. Волосы взъерошены, местами стоят дыбом. Факт: Марк запускает руки в свой чуб, только когда понимает, что дело совсем плохо.
– Клэр… – бормочет он, когда, обогнув его фигуру, я вхожу в кабинет. Дыхание Марка отравлено парами виски.
Я оглядываю кабинет. После моего сегодняшнего визита здесь мало что изменилось, не считая бутылки дешевого виски на рабочем столе. Она почти полностью уничтожена – рядом стоит пустая стопка. Факт: последний раз Марк пил виски на моих глазах девятнадцать лет назад – в те долгие страшные месяцы после смерти Кэт. Если сегодня, вместо обычного дорогого бордо, он снова взялся за крепкое, значит происходит что-то поистине ужасное.
Я перевожу взгляд на экран ноутбука – там на заставке из раза в раз появляется корона северного сияния. Так что мой муж и не думал работать. Вместо этого он поглощал виски из большой бутыли. Он лгал, когда говорил, что работает. Конечно, эта ложь была незначительной и нестрашной. Но если человек лжет, он лжет во всем. Это же относится и к изменам. Очень хочется броситься вперед и влепить ему оплеуху за это новое вранье, но я стискиваю зубы и удерживаю свою руку. Потому что мне нужно узнать гораздо более важные вещи.
– Я жду ответов.
– Лучше тебе их не знать.
– Ты сказал, что устал защищать меня от правды. Мне нужна правда. Сейчас.
– Забудь, что я говорил. Это было не всерьез. Ты ведь знаешь факт, что безответственная болтовня – моя специальность.
– Хватит этого дерьма, скажи мне правду. Почему ты говорил все эти странные слова, когда я вчера тебя разбудила? Почему у тебя был такой испуганный вид, когда ты открыл подарок ко дню рождения?
Марк молчит.
– Ради бога, Марк. Почему ты связал Софию и Кэт?
Он ковыляет к столу. Наливает стопку до самых краев и проглатывает виски одним махом.
– Обе мертвы, – говорит он.
– Я это уже знаю.
Он делает глубокий вдох. Под ярким светом ламп у него в кабинете я вижу, насколько он измучен. Лицо вытянулось и осунулось. На лбу – множество тревожных морщин. С тех пор как сегодня утром я перевязывала ему палец, он словно постарел на пятнадцать лет.
– Это сделала ты, – говорит он.
Часто самое трудное – узнать правду о себе самом.
Дневник Софии ЭйлингГлава двадцать пятая Марк
Клэр отскакивает назад, словно мои слова ее ударили. Радужки потеряли цвет. Лицо – бледный оттенок пепла. Рот открывается и тут же закрывается снова. Она протягивает дрожащую руку, будто ей нужно на что-то опереться. Но поблизости нет ничего, что могло бы ее поддержать.
Уголки ее рта начинают подрагивать.
– Я… что… – говорит она.
Крошечная часть меня одновременно сходит с ума и довольна собой. Настало время для моей жены взглянуть в лицо тому, что она сделала, не прячась больше под благословенным покровом забвения. Настало время вступить в царство реальности, от которого ее так долго защищали.
У меня есть три возможности (к концу дня их становится все меньше):
а) начать с правды о Кэтрин;
б) открыть то, что случилось с Софией;
в) ничего из перечисленного.
– Нет, – кое-как продолжает она. – Только не Кэт…
Пожалуй, стоит начать с Кэтрин. Между прочим, я был бы сейчас отцом, если бы девятнадцать лет назад у Клэр не случился тот краткий провал в безумие.
Факты не изменишь. Многие из них невозможно забыть, особенно самые мучительные.
– Ты написала в дневник, что нашла ее в кроватке, – говорю я. – Она была бледная. Ты потрогала ее щеку. Та была холодной. Тогда ты позвала на помощь.
– Да, – соглашается она. – Мой дневник говорит, что…
И тогда говорю я:
Твой дневник говорит то, во что ты предпочла поверить. В нем знание, которое ты в состоянии вынести. А вот правда: во время одного из твоих черных приступов ты накрыла голову Кэт подушкой. Она плакала перед этим все утро и потом после полудня. Весь день. И накануне тоже. И два дня назад. Кэт была плаксивой девочкой. Никто не понимал, почему она все время хнычет. Тебя очень раздражал этот факт, и ты не знала, как прекратить ее плач. К тому же у тебя проявился синдром, который бывает у молодых матерей. Сейчас у него есть точное название – послеродовая депрессия. Я потом уточнил у доктора Джонга. Ты была на антидепрессантах две недели после зачатия Кэт. Но перестала их пить, когда узнала, что беременна. После родов депрессия вернулась и отомстила.
Глаза Клэр – вихри ужаса.
– Я не…
Отрицание – наверное, это естественная реакция на жестокую правду. Настало время для Клэр встретиться со своим прошлым.
В тот день я вошел в комнату Кэт. И увидел, как ты качаешь кроватку. Подушка валялась у твоих ног – мягкое обвинение. У тебя были крепко сжаты зубы. Твое сознание словно улетело прочь, на много световых лет. Ты перевела взгляд на меня. В твоих глазах словно поселились демоны, и они уже тащили тебя в чужое ужасное место, куда не рискнет вступить ни один человек. Они забрали из глаз всю человеческую сущность. Одновременно твой взгляд был обескураживающе безучастным. Пугающее сочетание – ничего подобного я раньше не видел. Я застыл на месте, не веря тому, что происходит. Только рот раскрыл от ужаса. Ты сказала мне, очень тихо, что Кэт больше не плачет.
– Нет…
Клэр стоит на коленях. Глаза ее омыты слезами; две капли уже чертят на щеках полосы. Она закрывает уши, словно хочет заглушить мои суровые слова.
– Этого не может быть, – выдыхает она.
Ее рот – мучительный круг. Как на картине Мунка «Крик».
Я бросился вперед, чтобы спасти Кэт. Я вырвал ее у тебя из рук. Ее тело было как у марионетки. Как у хрупкой сломанной куклы. Или как у тряпичной игрушки без позвоночника. Голова свесилась вниз, словно ее отделили от тела. Лицо – бледный оттенок серого. В зрачках – черная пустота, какую можно увидеть у манекенов в витрине. Все живое было выбито из ее глаз. На его месте – тишина и невидимый крик темноты. Эти фразы, слово в слово, я записал в дневник девятнадцать лет назад. Ты была права. Кэт действительно больше не плакала. Но было ясно и то, что она никогда не заплачет опять.
– Я ее не убивала… – говорит Клэр, все так же обеими руками затыкая уши. – Я просто не могла…
Для тебя настало время повернуться лицом к правде. После того, как ты столько лет скрывала ее от себя самой. В тот вечер тебя отправили в Адденбрука под наблюдение. Я смотрел, как ты лежишь на больничной койке с перекошенным несчастным лицом. Ты тихо скулила себе под нос. Поворачивала голову из стороны в сторону. Бормотала «Кэт» и «прости», снова и снова. Грызла ногти так, что от них почти ничего не осталось. Я махнул сестре рукой, чтобы она вышла из палаты, сказал, что нам нужно поговорить наедине. Ты посмотрела на меня, неожиданный проблеск сознания мелькнул в твоих глазах. Ты сказала, что не понимаешь, что на тебя нашло. Ты не собиралась делать с Кэт ничего плохого. Ты только хотела, чтобы она перестала плакать. Ты не сможешь жить, зная, что ты сделала. Правда, сказала ты, разобьет все, что осталось от твоей жизни. В этот миг я решил тебе помочь. Мне стало тебя жаль. В конце концов, ты была женщиной, которую я взял себе в жены. Мы только что потеряли дочь. Я не хотел, чтобы безумие отобрало у меня жену. Ты и так была почти сломлена. В болезни и в здравии, в горе и в радости, в богатстве и в бедности. Болезнь, убеждал я себя, бывает и у души.
Но все перевешивала вина, которую я чувствовал своим сердцем. Я обвинял самого себя. Я должен был заподозрить, вскоре после рождения Кэт, что с тобой что-то не так. Я должен был записать себе в дневник жесткое напоминание, приказать самому себе, что тебя нужно срочно отвести к психиатру. Я должен был видеть знаки, они все время были у меня перед глазами. Мой дневник, кроме всего прочего, говорил, что после рождения Кэт у тебя начались страшные кошмары. Я несколько раз видел, как ты плачешь и выкручиваешь себе руки в детской комнате. Сразу после этих записей я должен был действовать. Но я ничего не делал. Совсем ничего. Я был в то время слишком увлечен набросками к своему первому роману. Творчество ослепило меня, и я не заметил, как рушится мой собственный дом. Вина разрывала мне душу. Ведь я мог спасти Кэт от тебя.
Клэр все еще на полу, обхватив руками колени, ее лицо – пустыня. Лоб изборожден морщинами боли, горя и вины. Она похожа на маленького загнанного зверька. Ее вид разрывает мне сердце. Нежданная, нежеланная жалость пробирается ко мне в душу. Хочется подойти и сжать ее руки.
Но я продолжаю излагать суровые факты, не позволяя себе потерять самообладание.
И тогда я предложил тебе забыть о том, что случилось сегодня. Оглядываясь назад, я понимаю, что это была самая большая глупость из всех совершенных мною. Но именно я предложил тебе записать в дневник продезинфицированную версию смерти Кэт. Сказать, что ты нашла ее в кроватке, бледную и неподвижную, с холодными щеками. История была правдоподобной. Кроме всего прочего, на ее теле не осталось следов насилия. В эту историю ты могла бы поверить сама. Ты посмотрела на меня с благодарностью, глаза набухли слезами. Ты прошептала: «Спасибо, Марк». Я чувствовал, что даю тебе еще один шанс. Возможность вновь обрести здравомыслие, мир в душе, которого ты так отчаянно желала. Через два дня, когда ты проснулась утром, я все так же думал, что поступаю правильно. Ты была другим человеком. У тебя опухли щеки. Заплыли глаза. Скорбь окрасила твои зрачки. Но вина ушла. Я чувствовал себя реабилитированным. И только потом я понял, что правда о случившемся с Кэт погребена у тебя в сознании. Что она убивает тебя изнутри, понимаешь ты это или нет. Правду невозможно забыть по-настоящему.
Изо рта Клэр вырывается мучительное мычание. Как будто задыхается тонущий.
– Марк… – говорит она. – Ох, Марк…
– Я научил тебя лгать самой себе, – говорю я. – Когда это важно.
Клэр трясет головой.
– Эта ложь, как я понял позже, заставила меня лгать и дальше. Поразительно, как быстро человек привыкает к вранью. Ложь порождает ложь. Я понял, что нам нужна профессиональная медицинская поддержка. Доказательство, что Кэт умерла естественной смертью.
– У тебя получилось, – слабым голосом.
– Я упросил доктора Энтони Пэджета, заведующего учебной частью медицинского отделения Тринити, нам помочь. В те дни мне еще нечего было предложить ему взамен. Особенно когда отец лишил меня наследства за то, что я на тебе женился. У таблоидов, сказал я, будет праздник, если вдруг вскроется, что дочь выпускника Тринити умерла из-за такой ужасной неприятности.
Клэр морщится.
– Пэджет долго молча изучал мое заплаканное лицо. «Однажды на официальном приеме, – сказал он, – заведующий кафедрой английской литературы, перед тем как уйти, упомянул твое имя. Марк Генри Эванс – один из самых многообещающих студентов, когда-либо проходивших сквозь парадные ворота Тринити, как-то так. Я бы тоже переживал, если бы мое будущее оказалось под угрозой из-за несчастного случая».
Я отмечаю неожиданный проблеск понимания в полных слез глазах Клэр. Может, у нее в голове что-то прояснилось нужным образом. Например, почему я вложил половину аванса за свой первый роман в исследовательскую работу Пэджета. Факт: проблема моно – в неспособности видеть целиком большую картину. Их маленькому мозгу приходится работать с маломощным процессором. А потому с ними нужно терпение.
– Прости, – говорит она; слезы опять чертят по лицу полосы. – Я думала, что… Мой дневник говорит, что…
– Твой дневник говорит то, что ты хочешь от него услышать. Память равна фактам, которые ты решила в ней сохранить. Мы все – жертвы предпочтенного нами прошлого.
– Значит, я теряла разум…
– Пока я девятнадцать лет умирал медленной, мучительной смертью. Правда равна страданию, Клэр.
Может, отец в конечном счете был прав. Факт: тогда, давно, он настойчиво повторял, что женитьба на моно – безумие и что моя же собственная глупость заставляет его лишить меня наследства. Теперь я понимаю, почему он сделал то, что сделал. Но ему и в голову не приходил факт, что по своей дремучести я женился не просто на моно, а на моно, которая время от времени сходит с ума. То есть все в два раза хуже.
– Значит, я чудовище, – говорит Клэр; ее глаза – котлы расплавленной боли, – которое убило собственную дочь.
Мне нечего ей на это ответить. Что я могу теперь сказать?
Моя жена подползает к дивану и вытягивается на подушках. Медленные, мучительные движения женщины, которая потеряла все. Глаза по-прежнему полны слез. И я чувствую иную сущность в их глубине. Они окутаны тупой темнотой, отчего поменяли цвет с лавандового на блекло-бирюзовый. Такой покров можно видеть на глазах рыбы, которая мертва не меньше недели.
– Прости, Марк, – говорит она. Голос – болезненный шепот. – Я теперь понимаю, почему ты мне изменял.
Я замираю. Такая связь никогда не приходила мне в голову. Возможно, моя жена не так дремуча, как я всегда думал.
– Но я не понимаю, почему ты не уходил.
Я молчу.
– Почему ты оставался со мной так долго? – продолжает Клэр. – После того, что случилось с Кэт?
Манит страсть, но держит любовь.
Марк Генри Эванс. На пороге смертиГлава двадцать шестая Клэр
Мой вопрос повисает между нами в пустоте. Ужас ослепляет меня. Боль сжимает сердце. Я смотрю на свои руки – ими была убита моя дочь.
Это руки убийцы.
Я никогда не прощу себя, сколько бы мне ни осталось жить. Может, нужно снова вскрыть вены, повеситься на веревке, откупиться от смерти Кэт своей смертью. Каждый день до конца жизни станет мне карой, каждый час бодрствования будет расплатой за тот ужасный грех, что я совершила.
Но почему Марк не наказал меня сильнее? За смерть собственной дочери. Почему не ушел в тот же день? Почему оставался со мной так долго – со своей женой, с убийцей?
– Ты не ответил на мой вопрос. – Слова вырываются с дрожью. – Почему ты остался?
– Я не мог уйти, – говорит он. – Мой мозг повторял факты, которые я не мог игнорировать. Например, факт, что не я, а ты содержала нас в самом начале.
Я застываю.
– Факт, что я по глупости отказался от своей должности в Тринити. Думал, так будет легче опубликовать первый роман. Я ошибся. Жестоко ошибся.
– Я это знаю, но…
– Тринити отказался взять меня обратно. Снобов-дуо в высоких кабинетах колледжа потрясло то, что я женился на моно.
– Это не значит…
– Твоего заработка в «Универ-блюзе» нам хватало на хлеб. Когда кончились сбережения, ты заставила себя вернуться на работу. Всего через три месяца после смерти Кэт. И потом содержала нас обоих пятнадцать чертовых месяцев, пока я не получил первый аванс. Ты даже предложила продать обручальное кольцо, когда дела пошли совсем плохо, но я сказал «нет». Это тоже факты.
– Но я все равно не понимаю, почему ты остался.
– Факты, Клэр, факты. Все дело в фактах, которые я заучил: мы зависели друг от друга. Помогали друг другу держаться на плаву. Выжить в этом враждебном мире. После того как от меня отказались родные, со мной не осталось никого. Кроме тебя.
– Ну да, мы ведь обещали отцу Уолтеру, что будем держаться друг за друга.
– Поступки перевешивают обещания. Ты все эти годы старалась сделать мне приятное. Об этом говорит мой дневник, всякий раз, когда я его читаю. Он также говорит, что я чувствую свою вину в два раза сильнее, когда ты пытаешься быть ко мне доброй.
– Ну да, ты записал эти факты. Но как они могли удержать тебя сразу после того, как Кэт… сразу после ее смерти…
Последние слова тонут в громких рыданиях. Марк хмурится.
– Не знаю, – говорит он, тряся головой. – Правда не знаю. «Что» бывает нетрудным. «Почему» чаще всего ускользает.
Я молчу.
– Я знаю, от чего ты отказалась, выйдя за меня замуж, Клэр. С самого начала нам обоим пришлось бороться за то, чтобы быть вместе. Это тоже факт. И он, возможно, перекроет все, что я только что сказал.
Я замираю.
– Как же, черт…
Марк со вздохом ковыляет к своему встроенному стеллажу у противоположной стены и достает тонкую папку с наклейкой «Разное». Открывает и вынимает старый потертый документ.
– Я нашел это письмо случайно, – говорит он. – В октябре девяносто пятого, когда мы переехали на Милтон-роуд, двадцать три. Я тайком скопировал его, чтобы напоминать себе время от времени, от чего ты решила отказаться. Ради нас.
Он протягивает мне листок.
– Я прочел его столько раз, что, наверное, могу декламировать перед сном, – говорит он со вздохом.
Я смотрю на ксерокопию, края от возраста потерлись и стали хрупкими. Письмо написано от руки, властным почерком:
Усадьба Айнсли, Бакингемшир
18 августа 1995 г.
Дорогая мисс Клэр Буши,
насколько мне известно, через месяц мой единственный сын намерен на вас жениться. Я не могу благословить этот союз. Вы наверняка знаете причину. Я предлагаю простое и одновременно эффективное решение стоящей перед вами проблемы, которое, надеюсь, удовлетворит всех. Если вы согласитесь оставить моего сына в покое и прибегнуть к аборту, я в тот же день с радостью переведу на ваш банковский счет 500 000 фунтов. Эти деньги обеспечат вам достаточный комфорт до конца жизни. Надеюсь, вы примете мое щедрое предложение. Это для вашего же – и нашего – блага. Пожалуйста, ответьте мне до 1 сентября 1995 года.
Искренне ваш,Филипп Эдвард Эванс, эсквайр.Я делаю глубокий вдох и смотрю на Марка. У меня кружится голова. Выходит, он давно это знает.
– Ты ведь так и не ответила на письмо моего отца? – Голос у него мягкий, даже нежный.
Я качаю головой.
– Почему? – спрашивает он.
Я пожимаю плечами. Наши глаза встречаются. В уголке его правого века набухает слеза – он моргает, безуспешно пытаясь затолкать ее обратно.
– Значит, жертва была взаимной, – продолжает он; голос опять слегка дрожит. – Мы оба с самого начала от чего-то отказались. Именно это я повторяю каждый день. Вместо того, что обещал отцу Уолтерсу, – механически напоминать себе каждое утро, что я люблю свою жену.
– Но наши жертвы принесли одни несчастья. – Я протягиваю руки, боль снова терзает мое сердце. Сначала Кэт. Потом София.
– Прости, Клэр. Правда, прости. Я просто увлекся Соф…
– Ты это уже говорил. Но…
Вопрос дрожит у меня на губах; у меня еще есть возможность его проглотить, я знаю. Но он все же вырывается:
– Ты когда-нибудь… любил ее?
– Не думаю, чтобы я писал об этом в дневнике.
– Не верю.
Марк резко и уверенно откидывает назад плечи и достает из кармана айдай. Впечатывает в него что-то быстрыми пальцами, потом подходит ко мне, чтобы показать результат поиска: «София + любовь/любить» = 0 совпадений (0 ссылок).
Я удивленно моргаю. С трудом верю тому, что вижу. Но из головы не идет другая неприятная возможность.
– Что, если… ты называл Софию в своем дневнике другим именем? Каким-нибудь прозвищем, например. Ты можешь напечатать просто «любовь/любить»? Я хочу знать, что получится.
– Не думаю, чтобы у нее когда-либо было проз…
– Пожалуйста.
Он вздыхает и качает головой.
– Пожалуйста, Марк.
Он со вздохом подается вперед и впечатывает «любовь/любить»; на этот раз его пальцы сопротивляются. Спотыкаясь, я подхожу ближе и заглядываю ему через плечо. Экран мигает, на нем появляется несколько слов: «любовь/любить» = 12 совпадений (3 ссылки).
Глаза у Марка делаются круглыми, даже испуганными.
– Кликни на первую ссылку, – говорю я.
Он колеблется несколько секунд, потом подчиняется. Наши глаза одновременно заглатывают текст:
7 апреля 2013 г.
Я открыл ключом парадную дверь, вошел в кухню и тут увидел, что Клэр стоит у раковины спиной ко мне. У ее ног валяется кухонный нож. Я подумал, что она случайно его уронила. Но тут она обернулась – глаза огромные и невидящие, кисти воздеты к потолку, словно в мольбе. Я застыл с открытым ртом. Кровь стекала по ее левой руке: два жутких красных ручейка, змейками к локтю. Чемодан и букет роз выскользнули у меня из рук и со стуком упали на пол – секунды две я стоял, не веря глазам, и только потом бросился вперед.
– О господи, Клэр, что ты наделала?
– Я не хотела, я… Я просто ужасно себя чувствовала все утро, эта чернота на меня давила. У меня болело в груди… потом я увидела нож…
Слова прерывались жалобными сухими рыданиями. Я схватил ее за плечи, усадил на стул, потом бросился к буфету. Оторвал длинную полосу от рулона бумажных полотенец и кинулся обратно к ней – вытереть кровь. Надрезы поперек запястья, как я с облегчением отметил, были поверхностными. Но нанесла их себе она сама.
На глаза мне попалась стоявшая на столешнице аптечка, в которой Клэр держала антидепрессанты.
– Ты вчера принимала таблетки?
Ее взгляд метнулся к лекарствам. Она покачала головой, вяло ее свесив:
– Я думала, что смогу без них.
– О господи, Клэр. Нужно было позвонить тебе вчера вечером и напомнить.
По ее лицу поползли слезы – я понял, что ее нужно срочно везти к Хельмуту Джонгу. Так что доволок ее до «ягуара» (она не сопротивлялась) и поехал в Адденбрука. Всю дорогу она молчала, прижимая полотенце к запястью. Я тоже молчал. О чем тут было говорить?
Слава богу, Джонг был на месте. Я прождал перед кабинетом для консультаций не меньше получаса. Шагая по коридору, думал о том, что нельзя больше уезжать на эти двухнедельные писательские семинары, какую бы кучу денег мне за них ни платили. Я боялся представить, что могло случиться, вернись я на день позже, – если с Клэр в мое отсутствие произойдет что-нибудь ужасное, я никогда себе этого не прощу. Боль от потери, по какой угодно страшной причине, будет для меня за пределами выносимого. [Вним.: ограничить поездки одним днем, не больше, и оставить только те, что совершенно необходимы.] Видимо, из-за этого я добровольно посвятил свое существование тому, чтобы оттащить ее от края, добиться окончательной реабилитации, спасти от самой себя. И пусть на этом скорбном пути моя душа проржавеет до самой сердцевины. Цена окажется много выше для нас обоих, если я не сделаю для Клэр все, что смогу, – все, что находится в пределах моих возможностей. Разрушения будут страшнее в этом случае.
Наконец Джонг вышел из кабинета.
– Два шва. Мы подержим ее до утра, на всякий случай. Начиная с сегодняшнего дня ей, возможно, понадобится более сильная доза антидепрессантов, но все будет в порядке. В полном порядке.
Я выдохнул с облегчением.
– Вы ведь ее любите?
Вопрос застал меня врасплох. Я кивнул.
– За все эти годы я перевидал много семейных пар. Большинство думает, что любовь или черная, или белая. Но вы относитесь к ней по-другому, не правда ли, мистер Эванс? Какого цвета любовь?
Ответ выскочил у меня изо рта до того, как я успел подумать:
– Серого.
– А если бы у любви был вкус, то какой?
– Горько-сладкий.
Он кивнул – мой ответ его не удивил. Подавшись вперед, он похлопал меня по плечу:
– Поэтому с вами обоими все будет в порядке. Не сразу, но когда-нибудь. В конце концов. Может, счастье действительно иллюзорно, но любовь приближает нас к нему.
Я всхлипываю – я вижу, как расширяются у Марка зрачки, когда он вчитывается во фразы, написанные им же самим.
Вот что, значит, крутилось у него в голове тем черным ужасным утром, когда все вокруг стало чуть тяжелее, чем я могла вынести. Может, постоянные дневниковые записи – не просто изнурительная обязанность, отравляющая человеческое существование. Я никогда бы не узнала об истинных чувствах Марка, если бы он не увековечил их в своем айдае. Я никогда бы не поняла, какую глубокую боль приходится ему терпеть и как он из-за меня страдает. Мои догадки все это время были верными. Он оставался со мной потому, что уйти было бы еще больнее. То же и со мной. Веревка, связывающая нас, лишь затянется смертельной петлей, если кто-то один попытается ее разорвать. Поэтому мы вместе.
Он вздыхает – возможно, тоже осознает этот факт.
– Давай посмотрим вторую запись, – говорю я. Голос у меня мягкий, он словно наполнен неожиданным пониманием.
Марк соглашается, нажимая на следующую ссылку. Мы вытягиваем шеи, чтобы прочесть запись вместе.
7 июля 2013 г.
У Клэр был вполне счастливый вид, когда она бродила по белому песчаному пляжу, собирая ракушки. Наблюдая издалека за ее радостным лицом и хорошим настроением, я подумал, что нам просто необходимо чаще выбираться на Карибы. Солнце, море и соль, безусловно, для нее полезны. Мои размышления были прерваны внезапным появлением пожилой дамы в переливающемся зеленом купальном костюме; она сжимала в руках потертый экземпляр «На пороге смерти». На вид женщине было не меньше семидесяти, но глаза, вопреки возрасту, сверкали живо и ярко.
– Я очень люблю ваши романы, мистер Эванс. Вы прекрасно комбинируете тайну с бытовым нуаром.
От поклонников не спрячешься даже на Невисе. Минут двадцать мы проговорили о наших любимых произведениях, потом она с улыбкой указала на Клэр:
– Ваша жена, полагаю.
– Так и есть.
– Вы, безусловно, ее любите.
Ее заключение застало меня врасплох.
– Все любят своих супругов.
– Но не так, как вы. Я долго присматривалась, пытаясь понять, действительно ли вы тот самый Марк Генри Эванс. Все это время вы сидели за столом и смотрели на нее с большой тревогой. Так, словно боялись потерять.
– А… гм…
– Как вы показываете своей жене, что вы ее любите?
– Э-э… не знаю… Наверное, дарю ей розы. Разного цвета.
– Правда? Эти разные цвета что-то означают? Каждый цвет для чего-то специального?
– Так и есть, вообще-то. Малиновый – «Я виноват», бордовый – «Я очень, очень виноват».
– А розовый?
– Даже и не знаю. Когда я в первый раз подарил Клэр розы, половина из них была розового цвета, а половина – белого.
– Ну что ж, глубинный смысл понятен. Раз вы тогда дарили ей розы в первый раз.
– Об этом стоит подумать – в первые дни нашего знакомства я дарил Клэр много роз именно этих двух цветов.
Она подмигнула, кожа на лице сложилась в милый узор морщинок.
– Нам часто нужен посторонний, чтобы заметить очевидное. Когда-нибудь вы поймете смысл розового и белого.
Я смотрю на Марка.
– Никогда не думала, что цвета что-то значат, – говорю я. – Двадцать лет, а до меня так и не дошло.
– А я до сих пор не знаю, что значат розовый и белый, – говорит он, слегка тушуясь и нажимая на третью, последнюю ссылку.
14 сентября 2013 г.
Я вошел через переднюю дверь, навстречу мне бросились буйный Неттл и сияющая Клэр.
– Я скучала без тебя, Марк. Так обидно, что тебе пришлось ночевать в Лондоне.
Я вешаю пальто на крючок и направляюсь в кухню, не смея встретиться с ней взглядом.
– Ты вчера принимала таблетки?
– Да. Я себя нормально чувствую. Просто соскучилась. Готовлю твое любимое рагу из кролика.
Я не был уверен, что смогу положиться на свой голос, но что-то нужно было ответить.
– Ох, Клэр. Ну зачем ты? Мне тоже… гм… неприятно, что я опоздал вчера на последний кембриджский поезд.
Но мне стало в два раза неприятнее, когда, войдя в кухню, я окунулся в густой, пряный запах кроличьего мяса и лаврового листа, поднимавшийся от кипящего на плите варева. Надежный, уютный, повседневный запах семейного очага. Огромный контраст с ароматом пропитанных магнолией свечей, что заполнял вчера ночью номер 261 отеля «Кандински». И смешивался с мускусным бергамотом, которым эта женщина щедро обрызгала свои запястья и шею.
Запах страсти.
Если магнолия и бергамот пахнут страстью, могут ли кролик и лавровый лист обрести запах любви?
Так и есть. Иначе и быть не может. Кролик и лавровый лист на кухне наполняют желудок мужчины. Но они также насыщают его душу. Они питают его в прямом и переносном смысле, понимает он это или нет. Может, поэтому я инстинктивно, словно ручной голубь, каждый день возвращаюсь к жене, несмотря на все ужасы, происходившие раньше. [Вним.: выучить и сохранить этот факт.] И поэтому я чувствую себя виноватым как черт: как я мог изменять Клэр? Как я мог?
Наши глаза опять встречаются. Мои теперь мягкие и влажные. Ибо что-то растаяло в моем сердце. Ревность и обида сделали его хрупким – давным-давно. Но это новое понимание уносит гнев, горечь и мои так долго лелеемые заблуждения о Марке.
Да, мои руки покрыты кровью. Мне никогда ее не смыть, сколько бы я ни старалась. Мою душу затопляют горе, ужас и вина. Страшная вина. Но что-то может залатать мое сердце, пусть только крошечную его часть, сделав повседневную жизнь чуть-чуть выносимее.
Не что-то. Кто-то.
Мой муж, человек, который всегда был на моей стороне. Единственная проблема: мы не понимали друг друга по-настоящему. Так, как поняли в этот последний час. Возможно, слишком поздно.
Я вздыхаю.
– Скажи мне, Марк… – мой голос переходит в шепот. – Что случилось с Софией? Почему она умерла?
Я не понимаю Вирджинию Вулф. Наконец-то я это признал. Может, я потому так ею и заинтригован, что не могу понять. Или попросту болезненно очарован той темной спиралью в ее душе, что в конце концов привела эту женщину к закрученным водоворотам реки Уз.
Дневник Марка Генри ЭвансаГлава двадцать седьмая Марк
Вопрос моей жены повисает в воздухе. Молчание стягивает мне рот. Почему у меня вдруг иссякли слова? Может, всему виной потрясенное понимание того, насколько плотно ослепляла меня страсть, не позволяя видеть ни трудной сущности любви, ни горько-сладких сложностей нашего брака, ни моих истинных чувств к Клэр. Поразительно, как наполняются новым смыслом давние дневниковые записи, когда смотришь на них в дистиллированном свете сегодняшнего дня. И как потрясающе близорук я был, не видя правды о нас двоих.
Муж и жена, разделенные памятью, все же вынуждены исполнять данные у алтаря обещания. Но дело не в клятвах – мы держались друг за друга не по велению долга. Мы оставались вместе, потому что оба так хотели – глубоко внутри. Потому что нас связывала прочная шелковая нить добровольного самопожертвования – какую бы боль это нам ни приносило.
Потому что любая альтернатива была намного хуже.
– Что на самом деле случилось с Софией? – спрашивает Клэр, прерывая мои мысли и окуная меня обратно в суровую действительность.
Несколько минут назад я как-то сумел распутать девятнадцатилетнюю цепь горьких и задавленных фактов о Кэт. Совсем другое дело – моя свежая память о Софии. Особенно ввиду случившегося два дня назад, когда примерно в это же время Клэр застала Софию здесь, в кабинете.
У меня остались всего две возможности:
а) сказать правду;
б) не говорить ничего.
Я склоняюсь ко второму. Но бурлящий в моих жилах виски обостряет инстинкты, вместо того чтобы их притуплять. Интуиция настаивает: если я не расскажу Клэр, что произошло два дня назад с Софией, я буду жалеть об этом до конца жизни. Я должен объяснить случившееся, пока я его помню. Пока у меня есть живые воспоминания о позавчерашних событиях, а не холодные, стерильные факты. Ибо ничто не может перевесить остроту непосредственной памяти. Это как смотреть цветной фильм о своем прошлом вместо фактографического черно-белого.
Если я не начну говорить прямо сейчас, потом мне просто не хватит мужества. И нельзя забывать о Ричардсоне, который очень скоро вернется. Он похож на жуткую кожную сыпь, которая никогда не проходит.
Снова поднялся ветер, за окнами отдаются эхом его скорбные завывания. Я смотрю на свой стол. Пустая бутылка из-под виски лежит на боку, в ней не осталось ни капли.
Я прокашливаюсь, отчего Клэр вздрагивает. И вот что я говорю:
Два дня назад мы ужинали поздно, часов в семь, после того как ты вернулась от Эмили. Мы повздорили из-за какой-то глупости, кажется, из-за того, на какой остров мы поедем на Рождество. Ты хотела на Невис – твой дневник говорит, что там ты всегда хорошо себя чувствуешь. Ментально, эмоционально и физически. Я сказал, что хотел бы для разнообразия побывать на другом острове, например на соседнем Сабе. Наша дискуссия дошла до той точки, когда, отодвинув тарелку с недоеденной говядиной, я встал посреди ужина и зашагал по коридору к себе в кабинет. Сейчас мне стыдно за тогдашнюю грубость.
Подойдя к кабинету, я заметил, что дверь приоткрыта. Изнутри доносилось легкое постукивание шагов. Я замер на дорожке, ошеломленно сообразив, что кто-то забрался ко мне в кабинет. Одновременно мне стало любопытно, кто бы это мог быть. Кому и зачем могло что-либо понадобиться в моем кабинете? Распластавшись у наружной стены, я заглянул в окно в надежде рассмотреть, что происходит.
Я чуть не рухнул на расставленные внизу цветочные горшки, когда понял, что взломщик – женщина. Фигура двигалась с тем легким кошачьим изяществом, на которую способны только они. При этом описывала по кабинету круги немного возбужденно – она напомнила мне голодную отчаявшуюся пантеру. Я прищурился – с головы до ног женщина была одета в иссиня-черный цвет. Волнистый шарф из собольего меха закрывал бо́льшую часть ее лица.
Я замолкаю, потом подхожу к сейфу, где хранятся дневники, и набираю составной код. Дверца отъезжает в сторону. Я выдергиваю шарф от Версаче и бросаю его на стол – Клэр отшатывается. Шарф распластывается на потрепанной распечатке «Прозорливости бытия» словно длинная черная обвиняющая рана.
Со вздохом я продолжаю свою историю.
Женщина подошла к сейфу и постучала по платиновой дверце. Достала из кармана листок бумаги и принялась его изучать. Открыв рот, я смотрел, как она прячет бумажку и принимается что-то делать с цифровым замком от сейфа. Она ввела какую-то комбинацию. В ответ вспыхнула красная лампочка. Она попробовала опять. Красная лампочка замигала снова. На этот раз было слышно, как женщина энергично выругалась себе под нос. Она колебалась довольно долго, но потом все же подалась вперед и набрала третью комбинацию цифр.
Сирена разорвала ночь и раскромсала тишину.
Женщина застыла, прижав ко рту руку.
Вопль сирены превратился в пронзительный двухтонный вой: громкий звук сменялся очень громким. Женщина медленно пятилась от сейфа, не отрывая руку ото рта.
Сирена завыла еще громче.
Она сверлила мне уши.
И все выла.
И выла.
В какой-то момент я не смог больше этого выносить. Я ворвался в кабинет, проскочил мимо женщины и набрал правильный код. Дверца сейфа отъехала, сирена замолчала.
Я повернулся к женщине лицом. Мы смотрели друг на друга словно в замедленной съемке и так долго, что это казалось мучительной вечностью. Каким-то образом наступившая тишина оглушала в два раза сильнее.
– Ты поразительно скучен, Марк, – сказала она, снова доставая бумажку и помахивая ею перед моим лицом. Я моргнул – на бумажке было написано: «День рождения любви всей моей жизни и мой».
Я не мог поверить своим ушам. И глазам. Из-под черного шарфа со мной разговаривала София Эйлинг.
– Где ты взяла…
– Сначала я подумала, – она с досадой качнула головой, – что ты завел туда мой день рождения. Или дочери, которая у тебя когда-то была. Бедной маленькой Кэтрин Луизы. К сожалению, все не то. Я даже попробовала твой день рождения, повторенный дважды.
– Какого черта…
– Но ты меня спас как раз вовремя, – добавила она. – Сейф открыт. Это все, что мне нужно.
В голове у меня вертелось множество вопросов. Откуда, ради всех святых, София знает, что у нас была дочь по имени Кэтрин Луиза, не говоря о дне ее рождения? И зачем моей любовнице понадобилось взламывать мой сейф? Все это не имело смысла. Никакого вообще. И потому я лишь недоуменно моргнул, когда она подошла к сейфу, провела пальцем по ряду старых дневников и вытащила тетрадь с наклейкой «Июнь – сентябрь 1996».
– Надеюсь, ты не будешь возражать, если я возьму на пару дней этот гниленький шедевр, – сказала она с ухмылкой.
– Что за черт…
И тут за дверями послышался легкий хруст шагов. Мы удивленно обернулись. У меня отвалилась челюсть, когда я понял, что в проеме дверей стоишь ты и в руках у тебя закрытая крышкой тарелка с моим недоеденным ужином.
– Я слышала сирену… – сказала ты, потом сделала несколько шагов вперед и тут же замерла в каменном молчании.
Ты смотрела на Софию. София смотрела на тебя. А я смотрел на вас обеих. Это начинало походить на тройное соревнование – кто моргнет первым. Состязание трех людей, которых заставила замереть на месте ситуация. Ужас оттого, что их пути вдруг пересеклись. Мучительное понимание, что жизнь никогда не будет прежней.
Краска сползла с твоего лица, оно стало мертвенно-белым.
«Что я наделал? – думал я. – Что я сделал с тобой? С нами?»
София пришла в себя первой. Она сорвала шарф и бросила его на пол, открыв лицо и блестящую гриву светлых волос. До меня вдруг дошло, насколько вы с ней похожи.
– У меня твой мужик уже два года, – сказала она, скривив рот в издевательской ухмылке. – Весь при мне. И то правда, после такого траха мужчин на большее не хватает… – Она снова ухмыльнулась и подвинулась к дверям, не выпуская дневника из рук. – Но любой хороший трах когда-нибудь кончается. К сожалению, то же происходит и с верными мужьями…
Я видел в твоих глазах понимание. Осознание того, что перед тобой сейчас прохаживается моя любовница. Поддразнивая тебя своими словами. Намеренно пытаясь тебя разозлить. Апломб сработал – твое лицо перекосилось от ярости. Неистовство в твоих глазах смешалось с ледяной пустотой. Я должен был понять смысл этого взгляда. В конце концов, я знал из того самого дневника, который был сейчас в руках Софии, что видел этот взгляд раньше. В тот дождливый день, когда умерла Кэт…
Клэр снова приглушенно всхлипнула. Это заставило меня опять подойти к дивану. Но на этот раз я дотронулся до ее руки. Мои пальцы окружили ее мягкой защитной сферой.
Я должен был что-то сделать в этот миг. Что угодно. Я не сделал ничего. Мне некого обвинять, кроме себя. Я лишь таращился, открыв рот, на вас двоих, парализованный страшной мыслью, что я попал в самую глубокую яму из всех возможных. Я бросил тебе в лицо доказательство своего вероломства – нет на свете худшего для тебя способа узнать о том, что у меня есть любовница. Я выбросил все, что было между нами общего, подменил истину ложью, променял смысл на бессмысленный трах с чужой женщиной. Поставил под угрозу все, за что мы боролись. Безрассудство моей плоти, момент мальчишеской слабости тогда, в Йорке, запустил страшную цепь событий, которая привела нас к этому трехстороннему противостоянию.
Литания моих грехов и ошибок пригвоздила меня к полу. Я стоял на месте, разбитый и обездвиженный. Запуганный своими промахами. Страстно желая все исправить, но уже зная, что этого никогда не произойдет.
– Сука, – сказала ты.
Она вздрогнула.
– Ты мерзкая сука! – продолжала ты, выплевывая слова ей в лицо.
Я видел красно-стальную дымку, которой затянулись зрачки Софии, когда, остановившись на полпути, она посмотрела на тебя.
– ТЫ ЖАЛКАЯ СУКА!
Дальше все происходило словно череда разрозненных стоп-кадров – так крутится порванная пленка.
У нее раздулись ноздри. Мой дневник, перекувырнувшись в воздухе, упал на пол. Она бросилась к тебе, изо рта ее вырвался крик. Она была похожа на хищную кошку, несущуюся к жертве. Ее рука дотянулась до твоего лица, удар оставил резкий красный след через всю щеку и заставил тебя пронзительно вскрикнуть. Я задохнулся. Ее рука снова поднялась вверх, точно голова гадюки, злобной и готовой к новой атаке. Защищаясь, ты инстинктивно подняла руки. Тарелка упала, рассыпавшись на дюжину керамических осколков и разбрызгав по всему полу густой соус. Кусок мяса отскочил от корзины для бумаг и приземлился под столом. Ты вытянула вперед руки, глаза все такие же пустые и невидящие. Твои ладони коснулись ее плеч всего в нескольких дюймах от тебя.
Прикосновение было диким.
Отчаянным.
Она откинулась назад, губы от удивления сложились в алое кольцо. Глаза огромные – я видел, как оба ее зрачка расширились от неожиданности. Ее правая рука искала поддержки, пальцы сложились в один отчаянный коготь, но рядом не было ничего, что смягчило бы падение.
Лишь пустота воздуха.
Голова с хрустом ударилась о край стола, через секунду или две тело сползло на пол.
Я указываю точное место, куда два дня назад рухнула София. Оставив на руках Клэр новую кровь, хотя реальная физическая кровь и не пролилась в ту ночь.
В ответ моя жена вздрагивает. Она наверняка догадывается, что произошло потом.
Настала наша очередь смотреть друг на друга в потрясенном молчании. Тело Софии распростерлось между нами, спина перекошена. Внезапное понимание: она не шевелится. При падении она потеряла сознание. Гнев растаял в твоих глазах. Я смог пошевелиться – и бросился к Софии. Ты тоже. Ее лицо было бледным, даже бесцветным. Грудь не двигалась. Зловеще. Никаких признаков дыхания. Я наклонился и приблизил щеку к ее ноздрям. Ничего не почувствовал. Даже самого слабого обнадеживающего трепета у моей кожи. Я встал на колени и дотянулся до запястья. Пульса не было. Ты присела на корточки рядом с ней и прижала два дрожащих пальца чуть ниже уха, пытаясь нащупать пульс там. Но тоже ничего не нашла.
Шли минуты. Мы снова посмотрели друг на друга, на лицах был написан ужас. В твоих глазах носились волны страха. Жуткое понимание того, что случилось с Софией, повисло над нами, обесцветив наши души. Через несколько минут, показавшихся вечностью, ты прошептала, что не хотела сделать ей ничего плохого. Но твои слова растворились в воздухе, когда до тебя дошло, что София не просто потеряла сознание.
Ты ее убила.
Не знаю, что на меня нашло. Мне нужно было, чтобы ты ушла из кабинета. Почему-то я не мог вынести и тебя, и Софию в одном месте. От того факта, что ты сидела на корточках у ее мертвого тела, становилось еще хуже.
Я сказал тебе: уходи. Уходи и забудь все, что здесь произошло. Сию секунду убирайся к черту. Оставь меня, я сам во всем разберусь. Напиши в дневнике, что я ушел в кабинет, а ты весь вечер смотрела телевизор. Весь завтрашний день сиди дома.
Ты смотрела на меня, моргая и не понимая, что я пытаюсь сказать. Но вскоре догадалась, что я предлагаю тебе простой выход. Я знал, что ты послушаешься. Так и вышло: ты пробормотала «прости» и что сделаешь в точности все, как я сказал. Потом ты выскочила из кабинета, по лицу у тебя текли слезы. Дверь хлопнула, и ты исчезла в темноте.
– Неужели ты пытался защитить меня во второй раз? – Клэр трясет головой, лицо перекошено от испуга. – Во второй.
Мне нечего ей на это ответить. Несмотря на весь абсурд ситуации, мое сердце разрывается при взгляде на нее. Наверное, это ужасно – вдруг обнаружить, что на тебе лежит груз двух смертей. Особенно если одна жертва – любовница твоего мужа, а вторая – твоя собственная дочь.
Мне позарез нужен виски. Но в той бутылке ничего не осталось. Надо почувствовать на языке успокаивающую тяжесть алкоголя. Я иду к буфету в дальнем конце кабинета и достаю из него лучшую бутылку бордо в моей коллекции – «Шато Мутон-Ротшильд» 1945 года. Факт: эта бутылка обошлась мне в 7800 фунтов на аукционе «Сотбис» в январе 2012 года. Я купил ее в приступе безумного сумасбродства через две недели после того, как получил четверть аванса за роман «На пороге смерти». Но если мне все равно предстоит сесть в тюрьму из-за того, что случилось с Софией, я ведь могу выпить свою лучшую бутылку до того, как она достанется кому-то другому?
Я вытаскиваю пробку. В ноздри ударяет аромат мокрых газет и давно не мытого золотого ретривера.
Запах большой, разорительной ошибки.
Я громко вздыхаю и валюсь обратно на диван рядом с Клэр. Сумасбродство, как я теперь понимаю, есть не что иное, как дорого обходящаяся форма иллюзии.
Клэр кашляет. Я смотрю на нее.
– Что… что ты сделал с телом Софии? – спрашивает она хмуро, из чего следует, что она предпочла бы не знать ответа. – Как она оказалась в Кэме?
– Я поднял ее с пола, – говорю я. – Выбрался в сад с…
В дверь стучат.
Я застываю. Клэр тоже.
– О нет… – говорит она.
Я знаю, кто за дверью. Клэр тоже знает. Холодный ужас проникает мне в сердце, сжимая его в ледяной кулак. Виски, который я прикончил раньше, должно быть, обострил мои чувства.
Человек стучит опять. Два раза.
– Не… – Голос Клэр – перепуганный шепот.
Я оборачиваюсь к ней. Она невидяще подается ко мне.
Наши тела соприкасаются.
Из моей головы испарились все факты. Они уже не имеют значения и перестали меня интересовать. Мой мозг больше не желает перебирать возможности и метаться между неприемлемыми опциями. Он сдался и уже не ищет смысла вещей. Ибо здравомыслящая часть меня утонула в чем-то необъяснимо иррациональном. В чем-то более глубоком и инстинктивном.
В чем-то изначальном.
Имеет значение лишь женщина у меня в руках, мое здесь и сейчас. Мое прошлое, настоящее и будущее.
И ничего больше.
Я никогда не замечал, что волосы Клэр так приятно пахнут жасмином. Никогда не знал, что у нее такая мягкая, такая соблазнительная кожа. Никогда не представлял, что ее теплое тело, вздрагивающее сейчас рядом со мной, может быть таким нежным и хрупким. Я должен был понять давным-давно, что человек, которого я так долго искал, все это время был рядом. Поразительно, что может сделать с душой один-единственный посвященный воспоминаниям день.
Что есть любовь, как не внезапная волна достоверности? Что есть любовь, как не желание испытать эту пугающую магию снова и запомнить ее всю, вплоть до мельчайшего проблеска звездной пыли, который она оставит после себя?
Я протягиваю руку и стираю слезу со щеки Клэр. Время и факты застывают на эти две благословенные секунды.
Они уже не имеют значения.
Снова стук.
Вторжение разрезает нас, словно нож. Жестокой волной выносит в ужас настоящего. Да, на этот раз мы знаем, что у нас нет выбора. Мы разделяем наши тела. Я стаскиваю себя с дивана. Клэр делает то же самое. Она осторожно шагает – лицо как у человека, идущего на виселицу. Я несусь вперед, чтобы оказаться между нею и дверями.
– Я открою, – говорю я.
Она бросает на меня молчаливый благодарный взгляд.
Расстояние между диваном и дверями моего кабинета – примерно семь ярдов. Но сегодня они ощущаются как семь миль. Семь мучительных миль. Я подхожу к дверям и поворачиваю защелку. Клэр становится позади и обхватывает меня руками за пояс. Дверь открывается с резким гулким скрипом. Сильный порыв ветра врывается внутрь, бьет меня по лицу и разбрасывает по полу сухие листья из сада. И конечно, в темноте маячит силуэт того самого человека, которого мы ждали. Позади него высокий мужчина, одетый в форму, лицо скрыто в тени.
Вдалеке каркает ворон.
– Вы все слышали? – говорю я.
Ответом на мой вопрос становится мрачный кивок. Я мог бы и догадаться. И все же, несмотря на его слова, я не ожидал, что этот человек вернется к нам именно сегодня. Я думал, у нас будет пара дней, чтобы прийти в себя, перед тем как все растворится в тумане забвения.
– Мы уже давно стоим тут, – говорит он. – У вас очень приятный сад, кстати.
Клэр вздрагивает. Я тянусь к ее руке. Ее пальцы сжимают мои как тиски.
– Я могу сказать только три вещи в ответ на то, что мы здесь услышали, – продолжает он. – Первое: возможно, девятнадцать лет назад ваша жена действительно задушила вашу дочь. У нас, однако, нет тому доказательств. Единственное, что позволяет различить удушение и СВСН, – это чистосердечное признание. Как я полагаю, мы его не получим. В любом случае сейчас я расследую другое дело.
Рука Клэр дрожит. Я сжимаю ее.
– Ваша жена вне подозрений, поскольку этот давний случай не связан с текущим расследованием. То, что ей открылось, и без того достаточно мучительно. Я тоже был бы весьма травмирован, если бы вдруг узнал, что убил собственную дочь. И не хотел бы иметь такой факт у себя на совести.
Клэр сжимает мою руку так сильно, что становится больно.
– Второе – чисто из любопытства. Для кода своего сейфа вы взяли день рождения миссис Эванс, верно?
Я киваю.
Клэр сжимает мою руку еще сильнее.
– Третье: Софию Эйлинг убила не ваша жена. У меня есть неоспоримые доказательства этого факта. Неопровержимые.
Я замираю. Клэр втягивает воздух. Но звук, который вылетает у нее изо рта, невозможно спутать ни с чем – это вздох облегчения.
– Ее убили вы, – продолжает человек, сверля меня взглядом. – Марк Генри Эванс, вы арестованы по обвинению в убийстве Софии Алиссы Эйлинг, прежде известной под именем Анна Мэй Уинчестер.
Всегда нужно ждать неожиданностей. Без дерьма, однако, не обходится. Даже если его ждешь.
Дневник Софии ЭйлингГлава двадцать восьмая Ханс
2 часа 45 минут до конца дня
Их лица того же цвета, что моя белоснежная рубашка. Клэр Эванс все держится за своего мужа. Вцепилась в него так сильно, что от костяшек отхлынула почти вся кровь. Зато по лицу мужчины можно предположить, что я только что разыграл перед ним сцену из самого страшного его кошмара.
– Будьте добры, мистер Эванс, пройдемте с нами, – говорю я.
Мой шофер в это время, натянув перчатки, укладывает черный шарф Софии в специальный пакет с защитной пломбой. Молодец, хорошо выполняет инструкции.
– Этого не может быть, – говорит Клэр.
Я подхожу ближе, чтобы взять ее мужа за локоть; она бросается вперед и встает между мной и ним:
– Вы не смеете его забирать! Теперь, когда я его нашла…
– Пожалуйста, миссис Эванс, отойдите в сторону, – говорю я. – Мне очень жаль, но я должен выполнить свой долг.
Она протягивает руки, преграждая мне путь. Шофер делает шаг вперед, пытаясь ее отодвинуть; она поворачивает руки к нему.
– Клэр…
Пока мой шофер старательно усмиряет Клэр Эванс, я хватаю подозреваемого за локоть и вывожу из кабинета. Он движется словно во сне – лунатик, оставивший надежду проснуться. Я веду его по темной дорожке, мимо шуршащих на ветру кустов. Ворон все клекочет у нас над головами – такой же упрямый, как миссис Эванс.
Мы проходим сквозь боковые ворота – до патрульной машины всего несколько ярдов. Я распахиваю заднюю дверцу и указываю на нее подозреваемому. Он подчиняется без звука – слава богу, его каменный лунатизм избавляет меня от таких ненужных вещей, как насильственные действия или наручники. Шофер и миссис Эванс находятся в нескольких ярдах позади нас – она во весь голос выкрикивает имя своего мужа. Несчастный сержант все так же пытается ее утихомирить, и я волнуюсь за его усы.
– Обещаю, Марк, я все запишу в дневник! Все! Все, что ты мне рассказал.
– Клэр…
– На этот раз я ничего не забуду. Ни за что! Никогда!
У нашего подозреваемого влажнеют глаза. Я сажусь в машину рядом с ним.
– Я так боюсь забыть, Марк! Проснуться в понедельник и потерять все, что мы сегодня друг о друге поняли…
Я тянусь к дверной ручке, посылая Клэр Эванс самый извиняющийся взгляд, на который только способен.
– Я всегда буду с тобой, Марк. Клянусь!
Я захлопываю дверцу. У меня нет выбора, как бы я ни жалел эту женщину. Мой водитель запрыгивает на переднее сиденье, на лице – облегчение. Клэр Эванс стучит в разделяющее нас окно:
– Я тоже, Клэр. Я тоже.
Вряд ли она услышала – он пробормотал это себе под нос, перед тем как провести рукой по мокрым глазам. Мы с ревом отъезжаем, и ее страдальческое лицо исчезает из вида. Но обращенные к жене последние слова Эванса звенят у меня в ушах все время нашей короткой молчаливой поездки на Парксайд.
Теперь после заполнения нужных бумаг я веду нашего подозреваемого не к себе в кабинет, а в комнату для допросов. К этому времени появляется его адвокат, пожилой мужчина в твидовом пиджаке горчичного цвета и круглых очках с толстыми стеклами. Звуконепроницаемая комната обставлена по-спартански: два цифровых диктофона, железный стол и четыре стула, все прикручено к полу. Я включаю пять больших ламп под потолком, яркий флуоресцентный свет отражается от свежеокрашенных белых стен. Подозреваемый морщится. Когда он приходит в себя, его глаза останавливаются на большом однонаправленном зеркале за моим стулом, обводят по периметру его блестящий отражающий контур. Отлично. Теперь он знает, что кто-то находящийся вне комнаты может следить за его движениями. Именно то состояние духа, которое мне нужно.
Я указываю ему и адвокату на два близстоящих стула. В ноздри мне ударяет грейпфрутовый запах дезинфектанта. Кто-то сегодня утром, должно быть, разбрызгал по плиткам пола щедрую дозу этого средства – в комнате пахнет, как в логове дантиста. Осталось заставить пациента открыть рот. Однако начинать приходится с обычного сверла.
– Согласно процедуре, я должен довести до вашего сведения следующее, – говорю я. – Первое: вы имеете право молчать. Второе: наш разговор будет записываться.
Наш уже-точно-не-член-парламента не отвечает. Он с неожиданным интересом изучает свои ботинки. Я включаю цифровой диктофон, потом откидываюсь на стуле и сцепляю руки.
– Допрос Марка Генри Эванса, двадцать два двадцать пять, шестого июня две тысячи пятнадцатого года. Что случилось после того, как два дня назад София Эйлинг лишилась сознания у вас в кабинете?
Он молча качает головой. Из этого следует, что дорогой мистер Эванс решил создать нам проблемы.
– Вы наполнили карманы своего плаща камнями, после чего надели его на плечи жертвы?
Ответом на мой вопрос снова становится молчание. Это нисколько меня не волнует. Наш приятный разговор только начинается. Я открываю портфель. Эффектным жестом достаю оттуда вещественное доказательство – пакет с четырьмя черными и белыми камнями. При виде которого глаза Эванса совсем немного, почти незаметно, округляются.
Я кладу запечатанный пакет на стол, после чего достаю из брючного кармана пятый камень.
– Подобрал его сегодня утром у вас в саду, – говорю я, вертя отполированный черный камешек между указательным и большим пальцем. Пока ждал, когда миссис Эванс вызовет вас из кабинета. Трудно было не заметить, что он идентичен камням, найденным в карманах мисс Эйлинг.
Я бросаю камешек на стол. Стук отдается в комнате эхом – мистер Эванс испуганно и резко дергается. Камень отскакивает от стола, прыгает по плиткам пола и застывает у крепко запертой двери. Глаза Эванса следят за его извилистой траекторией, в их глубине я отмечаю легкий проблеск понимания.
– Вы не имеете права пугать моего клиента, – говорит адвокат; за толстыми стеклами очков разрастается осуждение.
– Виноват, – отвечаю я. – Он просто выпал у меня из рук.
И вот что я говорю следом:
Я расскажу, что вы сделали позавчера с Софией Эйлинг. Вы осмотрели ее тело и убедились, что на нем нет очевидных повреждений. Вы сидели на корточках, и вихри возможностей крутились у вас в голове.
Неожиданно к вам пришла мысль. Факт: перед тем как войти в реку Уз, Вирджиния Вулф набила камнями карманы своей одежды. Самоубийство. Конечно. И вы ни при чем. Вдохновленный этой заманчивой возможностью, вы схватили тело мисс Эйлинг и вышли на садовую дорожку. Затем выбрались через боковую калитку – ту, у которой начинается тропа через Гранчестерский луг. Она ведет к реке мимо нудистской колонии. Слава богу, там никого не было. Нудисты ночью не загорают. Шатаясь и кряхтя под тяжестью мисс Эйлинг, вы шли по тропе. Идти было трудно, даже небезопасно, ибо уже вовсю лил дождь. Тропа стала скользкой, местами на ней стояла вода. На небе облака, ночь беззвездная. Но вы, стиснув зубы, продвигались вперед. Надеясь, что никто вас не увидит. В противном случае вы потеряли бы все. Вашу с таким трудом заработанную репутацию. Долгожданную политическую карьеру. То, к чему вы всю жизнь так упорно стремились. У вас не было выбора, вы должны были двигаться вперед. В действительности прстранство для маневра вокруг вас сузилось и у вас практически не оставалось выбора с того самого дня, когда в вашей жизни вновь появилась Анна Мэй Уинчестер, понимали вы это или нет.
Мрачное лицо подозреваемого подтвердило, что я ничего не преувеличил.
У берега реки вы опустили тело мисс Эйлинг на землю, понадеявшись, что за время похода на нем не появилось слишком много новых царапин и ссадин. Должно быть похоже на самоубийство. Вы вернулись за своим плащом и на обратном пути к реке набили камнями его карманы. Натянув плащ на плечи мисс Эйлинг, вы столкнули ее в Кэм. Тело ударилось о воду, вокруг разошлось всего несколько кругов. Даже всплеск получился приглушенным. Оно вошло в воду осторожно, словно водоплавающая мышь-полевка. Именно этого вы и хотели. Вы смотрели, как ее поглощает Кэм, как складываются нимбом ее светлые волосы, как она исчезает из вида. Течение, как вы отметили, было сильнее обычного. Слишком много дождя выпало с утра. Вы подождали еще некоторое время, стоя в темноте, из опасения, что она всплывет на поверхность. Но этого не случилось. С глубоким вздохом облегчения вы отправились к себе в кабинет. Сияние освещенных окон казалось нереально призывным – в противоположность происходившему только что ужасу.
Я помолчал, чтобы сказанное до них дошло.
– У вас богатое воображение, инспектор, – к моему удивлению, говорит подозреваемый; он впервые открывает рот с тех пор, как мы вошли в эту комнату. – Может, вам стоит писать романы…
– Мистер Эванс… – сурово предостерегает его адвокат.
Я определенно на верном пути. Судя по тому, что подозреваемый решил заговорить. Значит, продолжаю:
Факт: тело Вирджинии Вулф нашли через три недели после того, как она вступила в реку Уз. За это время оно успело достаточно разложиться. Вы рассчитывали, что, когда кто-нибудь найдет тело мисс Эйлинг, оно будет в похожем состоянии. Которое скроет следы ее столкновения с вами и вашей женой. Но, вернувшись в кабинет, вы увидели на полу шарф Софии. Вы спешили избавиться от тела и забыли о его существовании. На секунду вы подумали, не бросить ли эту гадость вслед за ней в реку. Но ни за что на свете вы не согласились бы проделать еще раз этот путь в преисподнюю. Так что вы решили спрятать шарф у себя в сейфе. Потом взяли тряпку и протерли в кабинете все поверхности, на случай если мисс Эйлинг оставила отпечатки пальцев.
Я достаю из портфеля герметически запечатанный пластиковый пакет с Софииным шарфом и бросаю на стол между нами.
– Но ДНК-тест может вас погубить, мистер Эванс, – говорю я. – Мы пошлем этот шарф на анализ. На нем наверняка найдутся следы ДНК мисс Эйлинг и ваши.
Осколок беспокойства пронзает лицо этого человека, но он тут же расправляет плечи. Мистер Эванс – крепкий орешек. Но я еще не заходил с козырей.
– ДНК вашей жены, возможно, тоже найдется на шарфе, – говорю я. – Но это ничего не значит. Вообще ничего. Перекрестные загрязнения происходят постоянно. Ложноположительные результаты – обычное дело. Как я уже сказал, Клэр Эванс вне подозрений, пока расследуется именно это убийство.
Я отмечаю проблеск облегчения в глазах подозреваемого. Этот человек явно склонен защищать свою жену. Видимо, старые привычки так просто не уходят. Его упорная привязанность к Клэр, надо сказать, впечатляет.
Настало время сменить декорации – я встаю со стула и подхожу к выключателю.
– Свет ярковат, вам не кажется? – говорю я.
Щелкаю выключателем, отчего гаснут две флуоресцентные лампы в дальнем конце комнаты.
– Значимо то, что сделали с мисс Эйлинг вы, мистер Эванс.
И хотя его лицо теперь погружено в полумрак, я отмечаю на нем явную тень испуга. На лбу выступает капля пота. Над бровью трепещет тонкая синяя жилка.
– Я не вижу своих записей, – говорит адвокат, прищуриваясь, вглядываясь в блокнот и сдвигая на нос очки. – Не могли бы вы все же включить свет?
– Конечно, – отвечаю я, зажигая эти две лампы. Но выключаю их опять, как только карандаш адвоката прекращает свои метания по блокноту.
Адвокат хмуро на меня смотрит, я не обращаю на это внимания.
– Два часа назад мы получили протокол вскрытия, – говорю я. – Он подтверждает обнаруженное ранее. Во-первых, наш патологоанатом доктор Шелдон нашла небольшой синяк на правой стороне головы мисс Эйлинг, за линией волос. Снаружи это повреждение почти незаметно. Но вскрытие выявило под черепной оболочкой следы сильного кровотечения. Травма, нанесенная тупым предметом, как это сформулировала доктор Шелдон.
Я щелкаю другим выключателем, и в противоположном углу комнаты гаснут еще две флуоресцентные лампы. Зрачки подозреваемого расширяются. Теперь его освещает единственная лампа над головой, словно он стоит на театральной сцене и собирается петь.
– Кто-то нанес мисс Эйлинг удар в голову. Этим человеком могла быть Клэр Эванс. Вы сказали своей жене, что в результате ее действий мисс Эйлинг ударилась головой о стол. Но этим человеком могли быть и вы. Никто, в конце концов, не знает, что́ в действительности произошло два дня назад у вас в кабинете. Кроме вас, мистер Эванс. – Я задумчиво хмыкаю. – Фактами легко манипулировать. Чтобы добиться собственных эгоистических целей. Чтобы прикрыть чью-то задницу. Чтобы спрятать убийство. Фактом становится то, что вы предпочитаете помнить, не правда ли, мистер Эванс?
Он моргает.
– Однако доктор Шелдон обнаружила кое-что еще, – продолжаю я, возвращаясь к своему стулу. – Я прочту вам последнюю часть протокола. Приятная возможность почитать вслух профессиональному писателю. Признанному мастеру слова, способному оценить значение определенных ключевых фраз.
Я чувствую, как мои слова отзываются страхом в сердце этого человека. Я достаю из нагрудного кармана очки для чтения и театральным жестом водружаю их на нос, после чего беру в руки отчет доктора Шелдон. Начинаю читать его заключительную часть – властным тоном, акцентируя определенные слова.
Дыхательные пути: в ноздрях и верхних воздушных проходах потерпевшей содержится небольшое количество мелкой пены. Легкие (правое – 353 грамма, левое – 310 граммов) частично перекрываются и перенасыщены воздухом. В полости рта повреждений не обнаружено. Зубы, губы и десны – в нормальном состоянии. Нет повреждений слизистых оболочек или препятствий прохождению воздуха.
Желудочно-кишечный тракт: большое количество воды заполняет желудок потерпевшей, но не кишечник. Все слизистые оболочки целы, повреждений и травм не обнаружено.
Скелетно-мышечная система: значительных повреждений нет. У нижнего отдела позвоночника имеется небольшой диффузный синяк размером 10 × 5 мм.
Результаты проверки на наркотики:
кокаин – положительный;
этанол – 295 мг/100 мг (кровь-сердце);
этанол – 64 мг/100 мг (стекловидное тело).
Предположительная причина смерти: согласуется с утоплением.
Время смерти: температура тела, окоченение, трупные пятна, а также содержимое желудка указывают на приблизительное время смерти между 22:30 четверга, 4 июня 2015 года, и 00:30 пятницы, 5 июня 2015 года.
Травмы: наличие мелких порезов и ссадин на кончиках пальцев потерпевшей, наличие речного ила под ногтями, а также облупившийся и потрескавшийся лак для ногтей свидетельствуют о том, что, находясь под водой, потерпевшая в течение короткого периода времени боролась за свою жизнь, прежде чем наступила смерть через утопление.
Замечание: тело было представлено для исследования и ответа на вопрос, является ли самоубийство причиной смерти потерпевшей. Признаки кратковременной борьбы за жизнь под водой в сочетании со следами острого субдурального кровоизлияния в мозг, вызванного травмой, нанесенной тупым предметом, не подтверждают версию самоубийства и указывают на утопление.
Я смотрю на Марка Эванса. Выпученные глаза. Лицо серое как пепел. Рот «мучительно изогнут», как он описывал своего протагониста Гуннара на сорок четвертой странице романа «На пороге смерти».
– Утопление, – говорю я; мой голос звенит громко и ясно. – Мисс Эйлинг была жива, когда вы бросили ее в реку. Вы считали ее мертвой. Но она была вполне жива.
У него дрожат руки. У него такой вид, словно он вот-вот утонет сам. Подобно Софии позавчера ночью, он прекрасно понимает, что спасения нет. На этот раз.
– Вы убили ее, мистер Эванс. Вы – тот, из-за кого она умерла. Вы погребли ее в водяной могиле реки Кэм.
– Нет! – срывается с его губ страдальческий крик. – Этого не может быть…
Я заставил Марка Эванса почувствовать вкус того самого лекарства, которое он совсем недавно отмерял своей несчастной жене Клэр. Это, должно быть, черт возьми, неприятно – узнавать, что ты совершил убийство. Особенно если ты умудрился утопить свою любовницу, которая, как выяснилось, была когда-то твоей подружкой.
– Я не хотел… – говорит он, рыдая и тряся головой, словно так можно уменьшить ужас совершенного им преступления. – Несчастная София…
– Мистер Эванс… – говорит адвокат, предупреждающе протягивая руку к своему клиенту. – Инспектор, вы не имеете права сразу перескакивать к выводам.
Я не обращаю на старика внимания. Смерть в воде – не самый приятный способ уйти из жизни. Я намерен довести до сознания нашего подозреваемого тот физический ужас, который испытала позавчера София. Я перебираю в голове факты, заученные на разных курсах патологии, когда я был еще констеблем.
– Позвольте мне продолжить, – говорю я.
Погрузившись в Кэм, мисс Эйлинг пришла в сознание. Но что-то было не так. Ее тело окружала вода. Вода была повсюду. Тонны воды тянули ее вниз. Заливали глаза. Не позволяли видеть ничего, кроме мрачной темноты. Самое худшее – что-то тяжелое тянуло вниз ее плечи. Погружая все глубже в водяной ад. Она задержала дыхание, пытаясь убедить себя, что это всего лишь ужасный сон. Кошмар, от которого она когда-нибудь очнется. Может, стоит отдаться течению, которое она чувствовала руками и ногами, и оно вынесет ее обратно на твердую землю? Некоторое время, совсем недолго, она дрейфовала у границы этого сна. Но вскоре поняла, что больше не может удерживать дыхание. Голова кружилась, лишенная чего-то жизненно важного. Без чего нельзя существовать. Ей нужен был кислород. Воздух.
Наш подопечный словно превратился в статую от моих слов. Может, он и прав. Может, мне действительно надо попробовать себя в литературе. Пока получается неплохо, – наверное, стоит вступить в кружок этих серьезных моно при Кембриджской цветоводческой школе. Минуты текут, и у меня получается все лучше – никогда не думал, что сумею наварить в своем маленьком черном полицейском котелке столько восхитительных прилагательных и активных глаголов. Может, дают себя знать сотни прочитанных за всю жизнь описаний таинственных убийств (включая книги мистера Эванса: я их большой поклонник, хотя ни за что ему в этом не признаюсь).
На самом деле я просто придерживаюсь ключевого принципа: работая с подозреваемым, всегда старайся найти наименьший общий знаменатель – или, другими словами, хотя бы полдюйма общей с ним почвы.
Основополагающий принцип любого криминального расследования.
Так, если имеешь дело с рассказчиком, плети хорошую словесную пряжу. Пускай в дело причудливые, перегруженные деталями описания, какие он бы с радостью применил сам. Те самые цветистые излишества, которые он так любит в своих книгах. (А заодно я докажу, что полицейские в состоянии составить слова в предложение.) Это заставит его сопереживать, понять свои ошибки.
Может, это даже его сломает.
Она сделала глубокий вдох. Но вместо воздуха, который заполнил бы ее легкие жизнью, в ноздри полилась вода. Холодная речная вода, пахнущая гнилой ряской. Которая опускалась по дыхательным путям прямо в грудь. Женщина закашлялась в отчаянной попытке вытолкнуть воду. Но кашель только забирал из легких остатки воздуха и наполнял рот водой. Она пыталась бороться, пыталась вырваться из окружавшей ее жидкой тьмы. Из поглотившего ее кошмара. Руки уперлись во что-то твердое. Она вцепилась в это что-то. Но оно всего лишь исцарапало ей кончики пальцев и искромсало ногти. Боль в легких становилась невыносимой. Словно в них набились острые металлические лезвия. Ей нужен был воздух. Хоть крошечный глоток. Она сделала еще один вдох. Но и на этот раз вода потекла через ноздри и рот, затопляя внутренности новым жидким адом. Все движения, она чувствовала это, выродились в страшные неистовые судороги. Но ничто не могло сравниться с дикой болью в груди…
– Хватит, инспектор, – шепчет он, слова вытекают струйкой. – Прошу вас, хватит.
Ага. Наш крепкий орешек вот-вот расколется.
– Я не знал, что она жива.
– Мистер Эванс! – восклицает адвокат, вскакивая на ноги и всплескивая руками.
– Я не знал, – повторяет подозреваемый, не обращая на старика внимания. – Правда не знал. Она же совсем не дышала. Мы не нашли у нее пульса. Думали, она мертва. Если бы я проверил как следует… Я не заставил бы ее страдать…
В углу его правого глаза – лужица слез. Он моргает, пытаясь затолкать ее обратно.
– Несчастная София, – говорит он, вместо речи – бормотание.
– Непредумышленное убийство, мистер Эванс, – говорю я. – Вам могут предъявить менее тяжкое обвинение – непредумышленное убийство, если вы согласитесь сотрудничать со следствием.
Мои слова заставляют этого человека коченеть. Он смотрит на меня, и мука в его глазах отступает перед пониманием, что он попался в мою ловушку. Никогда не стоит недооценивать силу захватывающих историй.
Я включаю свет, возвращаюсь к столу и останавливаю диктофон.
Убедившись, что Марк Генри Эванс надежно заперт до утра в камере, я изучаю шахматную доску. Остался ровно один ход. Я двигаю черного ферзя вперед по диагонали – белый король свергнут и вот уже стоит с несчастным видом в центре стола.
Взяв портфель, я направляюсь к главному выходу. И тут с изумлением вижу, что навстречу мне целеустремленно несется Фиона; ее леопардовые брюки колышутся в полутьме волнами. Странно, что она до сих пор на работе. Уже, между прочим, двенадцатый час. И вообще сегодня суббота. Неужели ей больше нечем заняться в субботний вечер, кроме как бродить по темным коридорам Парксайда?
– Я слыхала, ты взял этого человека. – Она расплывается в улыбке. – Мой дневник говорит, что за последние шесть лет ты раскрываешь за один день уже четвертое убийство. Спорим, специальная премия за выдающиеся достижения снова будет твоя. Седьмая по счету. Я очень удивлюсь, если тебя не назначат начальником отдела.
У Фионы милые переливающиеся глаза, хоть их и скрывают очки в роговой оправе. Улыбка тоже очень красивая. Как обидно.
– Ты герой, Ханс.
Я пожимаю плечами.
– Я тут подумала, ты уже ужинал?.. – Из-за своих очков она смотрит на меня смущаясь, но с надеждой.
– Нет.
Щеки у нее слегка краснеют. Она наклоняет голову, словно ожидая продолжения.
Но мне нельзя.
– Спокойной ночи, Фи.
Я с сожалением ей киваю и выхожу через переднюю дверь на улицу. Мне нельзя флиртовать с коллегами. Даже если эти коллеги – яркие, сумасбродные черноволосые женщины, которых я втайне обожаю. И нельзя приглашать их на ужин, несмотря на то что ежедневная нагрузка оставляет мне время разве что на просмотр сайтов знакомств. Факт: мои коллеги быстро узнают обо мне кое-что нежелательное, если я буду проводить с ними слишком много времени. То, что я хотел бы держать при себе, особенно если собираюсь сделать какую-никакую карьеру.
Но как же обидно.
Сев на этот раз в личную машину, я достаю из нагрудного кармана пачку «Мальборо». Факт: я предлагаю сигареты подозреваемым, чтобы немного их разговорить, хотя сегодня это не понадобилось.
Сейчас мне нужно подымить самому. (Факт: после исчезновения Лизль ван Майер я провалился в краткий и горький сигаретный запой, но с той поры все же воздерживаюсь.) Я щелкаю зажигалкой и глубоко затягиваюсь. Мгновенный удар никотина утешает, но не успокаивает, как я рассчитывал. После пары глубоких затяжек я гашу сигарету и выуживаю свой айдай. Пока клубится и растворяется в воздухе последний завиток дыма, я выстукиваю последнюю часть позавчерашней записи, которую не дочитал сегодня утром:
Твое долбаное письмо решило мою судьбу, закричала блондинка. Которое ты отправил психиатрам. В котором написал, что я психичка. Им того и надо было – подтвердить свои недоделанные диагнозы и услать меня на Внешние Гебриды.
Женщина снова замахнулась на меня. Я понятия не имел, о чем она говорит, но понимал, что ее действия представляют опасность. Я перехватил на полпути ее правую руку и заломил за спину. Женщина завизжала. Я протащил ее несколько футов спиной вперед и прижал к крылу «фиата». Она извивалась, пытаясь вырваться. Я инстинктивно толкал ее, прижимая к багажнику. Но видимо, не под тем углом – она взвизгнула и сползла на бок.
Блин, сказала она.
Что с вами? – спросил я.
Мне больно, простонала она. Мне, блин, больно. Какого черта ты на меня накинулся.
Очень хотелось сказать, что она первой пыталась меня ударить.
Сейчас пройдет, сказал я.
Отгребись от меня! Она зыркнула глазами и снова сморщилась. Мало ты принес мне горя в прошлом, долбаный сукин сын.
Вам, наверное, уже легче, если вы проклинаете меня так пышно, сказал я. Но лучше остановитесь, мадам. Еще немного, и я арестую вас за попытку нападения.
Глаза ее расширились, как только до нее дошел смысл моих слов, особенно то, что ей, вполне вероятно, придется провести ночь в полицейском участке на Парксайд.
Ладно, сказала она, поднимаясь на ноги и ковыляя к переднему сиденью машины. ЛАДНО. У меня сегодня дела поважнее, чем разборки со всякими говнюками.
Я продолжил пробежку, жалея, что в наше время так сложно привлечь человека за словесные оскорбления. С другой стороны, глупо было с самого начала ввязываться в ссору с этой сумасшедшей. Она же не бросалась на меня с ножом или с пистолетом. Всего лишь замахнулась, чтобы дать оплеуху. [Вним.: удерживаться от попыток обуздать ненормальных, если в этом нет крайней необходимости.]
Дурацкий день, между прочим. Трудно поверить, что я так нелепо сглупил два раза подряд.
Очень хочется исправить – или даже стереть – эту дневниковую запись, ибо слишком тяжело читать сейчас то, что в ней изложено. Но поздно. Я уже прочел и выучил эти факты. Невозможно стереть то, что сам отправил в сознание. И да, мои махинации с дневником будут ничем не лучше тех, что совершала Клэр Эванс. Я не труслив, как эта женщина, хотя прекрасно понимаю, почему она сделала то, что сделала. Тяжелые холодные факты перевариваются куда легче, если они приятны на вкус.
Я прячу айдай и включаю зажигание. Разгоняюсь, еду домой по Милл-роуд, мимо восточных мясных лавок и мигающих неоновых реклам, но голос у меня в голове снова заводит свою песню. Он мучает меня весь день, с той самой минуты, когда я приехал в Райский заповедник и склонился над извлеченным из воды телом в черных мокрых дизайнерских одеждах. Это бормотание у меня в мозгах звучит все увереннее. Особенно настойчивым оно стало вечером, после того как я подслушал разговор между Марком и его женой. Голос повторяет мне одно и то же:
Не эту ли самую женщину ты встретил позавчера? В черной одежде с головы до пят. Так говорит твой дневник. У тебя хватило дури вступить с ней в перебранку за несколько часов до ее гибели.
Ты еще чуть не сломал ей руку.
В голову приходят два соображения:
1. Никто не будет читать мой дневник, если только моя жизнь не оборвется так же печально, как жизнь Софии Эйлинг, и другой детектив, получив соответствующий ордер, не возьмется прочесывать мой айдай в поисках подсказок. Если так, описание случившегося на этой придорожной полосе мало что скажет читателю моего дневника. Тем более я к тому времени буду мертв. Покойников можно проклинать, но их не отдашь под суд за непредумышленное убийство.
2. В отличие от меня, Марк Генри Эванс виновен в реальном преступлении. Оно называется непредумышленным убийством другого человека. Он бросил Софию Эйлинг в Кэм, отчего она утонула. Своим поступком он заслужил тюрьму. Я позабочусь о том, чтобы его признали виновным. (Обязательно записать это сегодня в дневник.) Никто никогда не узнает, что происходило с Софией два дня назад, незадолго до того, как она вошла в кабинет Марка. Кроме меня.
И все равно мне придется теперь жить с этим настойчивым шепотом в голове. С этими ужасными фактиками, которые он повторяет снова и снова, вкручивая их, словно кинжал, прямо мне в сердце. Нравится мне это или нет. Клэр Эванс тоже предстоит жить с достоверным знанием о том, что она убила собственную дочь, а Марку Эвансу – с тем, что из-за него утонула в реке его любовница. Но у Клэр и у Марка есть еще время решить, появится ли этим вечером в их дневниках правда.
Наше общее проклятие – факты, которые мы решаем заучить. И не важно, насколько глубокой памятью обладает человек. Не важно, моно он или дуо. Помнит он всего один день или – на зависть многим – целых два. Прокляты даже психи, уверенные, что обладают сверхмощными мозгами, полными воспоминаний. Можно смыть кровь с рук. Но нельзя вымыть факты из своего сознания. Особенно если ты потратил столько сил на то, чтобы прочесть их и выучить. Факты остаются. Они неотделимы от нашей совести. Именно поэтому самые тяжелые факты не оставляют нас до конца жизни.
Например, тот факт, что я был звеном в цепи событий, кульминацией которой стала смерть Софии Эйлинг.
Этот факт меня убивает. Невыносима сама мысль о том, что я приеду сейчас домой и останусь один на один со вчерашней лазаньей из холодильника и «Десятью заповедями, которые нужно знать, чтобы продвигаться по службе» на прикроватной тумбочке. И очень хочется выкинуть в окно один из своих принципов. В конце концов, я уже выяснил сегодня, что был когда-то жалким, наивным констеблем. Почему бы не побыть неосторожным старшим инспектором? Хоть раз.
Инспектором, который стал старше и плюнул на осторожность.
Я жму на тормоза и под громкий визг колес разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов.
Сегодня утром Клэр Эванс объявила на весь белый свет, что подает на развод. Однако к вечеру она полностью изменила свои планы.
«Я всегда буду с тобой, Марк. Клянусь!»
Она произнесла эти слова за миг до того, как я захлопнул дверцу машины.
Но гораздо больше меня удивило то, что сказал ей в ответ муж (тот самый, между прочим, человек, который развлекался с женщиной в красном белье):
– Я тоже, Клэр. Я тоже.
В делах сердечных люди становятся совершенно непредсказуемыми. Необъяснимо иррациональными. Может, в этом виновата память. Забавно, как воспоминания двадцатилетней давности (во время подслушанного мною разговора Марк и Клэр докопались до приличных глубин) могут всего за один день полностью изменить чувства людей друг к другу. Наверное, если женщина приносит своему мужчине на обед сэндвич, то этот мужчина вполне может на короткое время почувствовать к ней расположение. Но если вдруг выяснится, что она приносит ему сэндвич каждый день, вот уже двадцать лет подряд, и стоит рядом, пока мужчина его поглощает, то сэндвич наполняется новым смыслом. Может даже оказаться, что этот мужчина эту женщину любит.
Равна ли любовь памяти? Или это память равна любви?
Я не имею понятия. Но мне очень хочется в этот вечер побыть таким же непредсказуемым, как Марк Эванс. Возможно, раз в жизни. Я могу себе позволить слегка отклониться от разумного курса. Машина несется назад по Милл-роуд, мимо восточных мясных лавок и мигающих неоновых реклам.
Есть шанс, что Фиона еще на Парксайд. Может, она умеет хранить секреты. Женщины в обтягивающих леопардовых брюках могут это делать очень даже неплохо. За двадцать с лишним лет службы в полиции я не получал доказательств противоположного. И вообще, мне нужно поесть. Что-то более существенное, чем сэндвич с беконом, который Фиона приносила мне раньше.
Я изголодался по большему.
Уверенный в себе человек всегда смеется последним. Этому научила меня тюрьма.
Марк Генри Эванс. Наброски к книге «Откровения Белмарша – размышления писателя в местах заключения»Глава двадцать девятая
Пляж на острове Бора-Бора, юг Тихого океана, через много-много месяцев после убийства
Какая гадость эта «Пинья-колада». Долбаный мартини нисколько не лучше. Буду всегда брать тройную порцию водки.
Мужик с лохматым лабрадором определенно за мной подглядывает. Из-за книги в глянцевой обложке, которую будто бы читает. Я его узнала. Четыре дня назад он сходил на берег со своей личной яхты. Интересно, почему он до сих пор болтается на этом пляже? Не может же он быть каким-нибудь детективом.
Или может?
Гребаный черт.
Но у детективов не бывает яхт. И лохматых лабрадоров.
Или бывают?
Наверное, я ему просто нравлюсь. Я, блин, надеюсь, что это так.
Гладкий хлыщ в розовых шортах с гибискусами – туда же. С верхушки своего спасательского насеста. А еще мужик, что развалился с пивом на песке, свесив набок пузо. Кидает на меня плотоядные взгляды, как только отвернется его спутница. О господи. Пухлый кабан на резиновом лебеде тоже таращится. Лучше бы ему куда-нибудь деться. От него разит по́том и протухшим кокосовым кремом от загара.
Жизнь на солнечном берегу полна опасностей. Зря я надела это маленькое белое бикини. Оно привлекает слишком много внимания. Даже на долбаном Бора-Бора.
Я думала, что смогу от всего сбежать. От надоедливых человеческих отбросов. Вместо этого на меня пялится мужик на огромном надутом лебеде.
Не знаю, что мне делать. Волноваться или гордиться. Решаю гордиться (временно, чтобы не сойти с ума). Кроме всего прочего, я когда-то выложила 47 900 фунтов за полный набор операций. Необходимая коррекция от дорогого доктора Пателя. Имею все основания быть довольной, что деньги не пропали даром. Столько мужиков на этом пляже меня желают.
Но я по-прежнему похожа на мертвую женщину, которую так ненавижу. В этом, блин, вся проблема.
В грустной ситуации частично виноват мой пластический хирург. Потому что идиот. Этот козел слишком хорошо сделал свое дело.
А вернуть обратно уже не может.
Всякий раз, когда вспоминаю тот день, мне хочется взвыть. Когда я заявилась в его белгрейвский кабинет с новой фотографией в руках.
Бедняга, естественно, удивился, увидев меня снова.
– Мой дневник утверждает, что я сделал для вас все возможное, – сказал он. – То же самое говорит вот эта стоящая передо мной картотека.
– Так и есть. Я очень довольна результатом, доктор.
– Что же привело вас сюда сегодня? Может, чуть-чуть ботокса? Вашему лобику пойдет на пользу немного твердости.
– Мне нужно больше чем ботокс, – сказала я. – Я хочу выглядеть как эта женщина.
Я протянула фото доктору Пателю. Этот человек сначала взглянул на фотографию, потом на профиль худой шатенки на обложке папки – и чуть не упал со стула.
– Но… – пролопотал он. – Но… это же вы. Это же так вы выглядели раньше. До того, как я… гм… несколько улучшил ваше лицо.
– Совершенно верно, доктор, – сказала я, пряча усмешку. – Именно так я и выглядела. До того, как вы проделали надо мной хренову тучу работы. Но понимаете, мне бы хотелось получить себя обратно. Да, знаю, я была похожа на мышонка. Но я, черт возьми, хорошо себя чувствовала со своим прежним лицом. Хотя горбинка на носу, пожалуй, лишняя. И уши торчком. Так что нос и уши оставляем ваши. Но подбородок и щеки лучше вернуть те, что были.
Слово «ненормальная» вертелось у Пателя на языке. Но он его прикусил. Понимая, что было бы дикостью оскорблять любимую клиентку. Особенно такую выгодную, как я. Дуру, которая приходит обратно и хочет еще.
– Никогда еще ни одна клиентка не просила меня вернуть ей прежнюю внешность, – сказал он; изумление выгравировано поперек его лба.
– Все когда-нибудь случается впервые, доктор. Женщины очень переменчивы, вы разве не знали? Особенно в том, что касается внешности. Но я заплачу. Я заплачу, сколько бы это ни стоило, чтобы вернуть прежнюю себя. Реверс-инжиниринг – всегда головная боль, я знаю. Поэтому и обещаю хорошо заплатить.
При упоминании о деньгах лицо Пателя моментально озарилось. Пластические хирурги работают за бабки. Они говорят, что давали клятву Гиппократа. Это не мешает им лицемерить.
Он вздохнул, в глазах крушение надежд.
– Мне очень жаль, – сказал он, – но я не знаю способа вернуть вам прежнюю внешность. Пластическая хирургия не настолько пластична, как кажется.
Я хмурилась. Я сердилась. Я рычала и молила как ненормальная. Но Патель был непреклонен: любая новая переделка моего лица превратит меня в чудовище Франкенштейна, сколько бы я ни заплатила. Так что через несколько минут я уныло выползла из его кабинета в том же самом виде, в котором вошла. И к сожалению, только хирурги третьего класса брались сделать с этим видом то, что я хотела. Мне хватило ума не рисковать.
Конечный итог: Я ПО ПРЕЖНЕМУ ВЫГЛЯЖУ КАК ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ НЕНАВИЖУ.
ГРЕБАНЫЙ ЧЕРТ.
Есть вещи, которые невозможно купить за деньги, как ни старайся. Например, любовь или решение нерешаемой проблемы однонаправленной пластической хирургии.
И все же деньги заставляют вертеться бо́льшую часть этого мира. Или, черт побери, стоять на месте. Семнадцать лет, как в моем случае. Все происходящее происходит из-за денег. Или не происходит – тоже из-за денег. Они выявляют в людях лучшее. И самое худшее. Заставляют их делать дикие вещи. С собой. С окружающими. Как то, что сделала со мной мачеха. О чем я узнала слишком поздно.
Говорят, свобода сладка. Я чувствовала языком ее гребаный сиропный вкус – но всего несколько часов.
Пока он не обернулся кислятиной.
Все началось, когда я сошла с трясучего кораблика, привезшего меня из ада. С Хеллисея, если точнее. Я щурилась на солнце, словно крот, которого много лет продержали в темной норе. Переполненная подозрениями. Опасаясь, что мир ушел вперед, пока я сидела в этой забытой богом дыре. Потому я и направилась к папашиному стряпчему Рейнальду Роу, едва успев добраться до Лондона. Выяснять, что случилось с отцовским состоянием за время моего отсутствия.
Папаша, как мне сказали, скончался в отеле «Риц», трахая свою девятнадцатилетнюю помощницу Нолу Барр. То есть папочка кончил и усоп. Не слезая с бедняжки Нолы. Девочка, должно быть, извлекла из этого эпизода хороший урок: никогда не давай богатым старикам, если у них проблемы с сердцем. Слишком легко они превращаются в мертвый груз.
Седоватый очкастый Роу был весьма удивлен, увидев меня снова – старую добрую Анну Мэй.
– Сколько оставил отец? – спросила я, переходя к сути вопроса. Нет смысла описывать круги, когда имеешь дело со стряпчими. Эти мудаки делают деньги на состояниях, устойчивых или неустойчивых.
Пару минут Роу что-то печатал в лежавшем перед ним дневнике. Достал из ящика большую папку и принялся изучать ее внутренности.
– Алан Уинчестер основал трастовый фонд на твое имя через несколько дней после твоего рождения, – сказал он гладким как шелк голосом. Ему не понадобилось много времени, чтобы прийти в себя после моего шокирующего появления. – Ты должна была начать получать ежемесячную сумму после двадцати восьми лет, – продолжал он, косясь на папку. – Фондом управляет компания под названием «Швейцарская служба по делам наследования». Хотя они вряд ли заплатят тебе все сразу. Учитывая, что тебя сейчас зовут не Анна Мэй Уинчестер.
Я кивнула. Я, черт возьми, долго не могла понять, зачем папаша заставил меня сменить имя. Но в один прекрасный день до меня дошло. Словно стрела вонзилась мне в центр лба. Пока я лежала под этими чахлыми тополями Хеллисея, косясь на слабые лучи света, сквозь них проходившие. Неудобство, конечно. Родная дочь сошла с ума. Выкинула свой бумажный дневник. Это могло вызвать столько нежелательных слухов. Особенно среди той публики, что часто наведывается в святая святых его закрытого клуба. Вот он и избавился от этого мелкого неудобства (подначиваемый милой женушкой Эгги, разумеется, которая с естественной радостью вытерла о меня свои лапы). Он заставил меня поменять имя на София Алисса Эйлинг, после чего и отправил на этот богом забытый шотландский остров, где психов больше, чем овец.
София, вообще-то, не такое уж плохое имя. Означает «мудрость». Чего у меня теперь хренова туча, так это ее, я считаю. Имя Алисса меня некоторое время смущало. Потом я где-то вычитала, что оно означает здравомыслие и логику. Из-за того, что ассоциируется с цветком алиссум. Которым в античные времена лечили бешенство и повреждения ума.
Я до сих пор понятия не имею, откуда взялось «Эйлинг».
– Тебе придется доказывать швейцарцам, что София Алисса Эйлинг и Анна Мэй Уинчестер – одно и то же лицо, – сказал Роу. – И что ты некоторое время… гм… отсутствовала. Но я помогу тебе ускорить этот процесс. Ты должна получить первый платеж довольно скоро. Если повезет, через два-три месяца.
– Меня не интересует этот дерьмовый трастовый фондик, Регги. Меня интересует отцовское состояние.
В ответ Роу принялся сосать свои зубы. Стучать пальцами по блокноту с серебряной монограммой «Монблан» на обложке. С таким видом, словно у него вдруг случился запор.
Тогда я и поняла, что меня ободрали. Всесторонне.
– После смерти твоего отца все его состояние унаследовала Агнесса.
– Но… но…
Вместо слов – сдавленное бульканье.
– Мои извинения, мисс Уинчестер… гм… мисс Эйлинг, – сказал Роу, покручивая пальцами инкрустированную рубинами галстучную булавку, – вид у него был нисколько не сочувствующий. – Твой отец изменил завещание через два года после того, как ты уехала в Сент-Огастин. Это факт. Факты не изменишь.
Он снова сверился с папкой и, поводив пальцем по печатному тексту, прочел нудным голосом:
– «В случае моей смерти я завещаю все свои активы моей любимой супруге Агнессе Уинчестер (урожденной Ивановой)».
Его слова ударили меня, словно пушечное ядро в живот. Несколько секунд я, раскрыв рот, смотрела на стряпчего и чувствовала, как в горле поднимается кислотная желчь. При этом у меня не было гребучего выбора. Мне оставалось только упрашивать, чтобы он ускорил первый платеж от швейцарцев, и вжимать ногти в ладони, чтобы не разреветься.
Через несколько минут я выскочила из его кабинета, слепая от ярости.
Дорогая Эгги на следующий день не очень-то мне обрадовалась. Совсем не обрадовалась. Вошла она в комнату, и тут выясняется, что ее любименькая Анна Мэй как-то умудрилась выбраться из Сент-Огастина. И что я пролила кофе из картонного стакана прямо на ее диван с обивкой в стиле Людовика XVI. И скормила ее ручную золотую рыбку ее же сиамскому коту, чтобы тот перестал на меня фырчать. Ее уборщица-полька успела поделиться со мною несколькими пикантными кусочками информации. За пару минут до того, как убежала звать Эгги. Например, тем фактом, что маленький сварливый Хрущев знает толк в икре, мясе вагю и отборных продуктах из рыбной секции «Хэрродса».
– Какого лешаго тебе тут нада? – спросила она и поморщилась, расслышав, как ее кот с хрустом доедает последнюю рыбкину косточку. – Хто тебя выпустил из Сент-Ахвустина?
– Решила нанести тебе визит вежливости, милая Эгги. Посмотреть, как ты тут поживаешь. Говорят, ты забралась на чертовски высокую горку. Если вспомнить скромную пролетарочку-моно из Могилева. Ну и пара московских стрип-клубов по пути – недолгие остановки. Шлюхой в Сохо чуть подольше. Зато последний прыжок выше всех – заставить папашу изменить завещание в свою пользу.
– Твой папа сам решил поменять завешчание. – Эгги сказала это, самодовольно скривив рот, – такое выражение появлялось у нее на лице всегда, когда она осознавала, что я завишу от ее милостей. – Нихто его не заставлял.
Я снизошла до того, чтобы взглянуть на нее, сощурив глаза.
– Тебе не надо денег, – добавила она. – Зачшем, если ты все равно до конца жизни просидишь в Сент-Ахвустине. – Издевательская ухмылка у нее на лице сделалась еще шире.
Все, что говорят о мачехах, – чистая правда. Золушка, блин, никакая не сказка. И не дурацкий миф с моралью. Это реалити-шоу в высоком разрешении, с ботоксными блондинками из Беларуси в главных ролях.
– В стриптизе ты, конечно, разбираешься, – сказала я. – Хватило таланта стащить с себя трусы в папашином присутствии. Давным-давно, в Сохо, сидя у него на коленях. А потом стащить все с него. А потом запустить ручонки в его банковский счет.
Эгги закатила глаза.
– Теперь у тебя диплом по ограблению меня: ты стащила все, что принадлежит мне по праву рождения. Поздравляю, Эгги. Но я и сама намерена кое-что стащить. Например, кожу с твоих когтистых лапок. Или с твоей расфуфыренной рожи.
Она равнодушно хмыкнула. И тогда я сказала:
– Давай я открою тебе страшную тайну. Для начала покажу фотографию. Это я когда-то. У меня была плоская грудь и уши торчком. Присмотрись – увидишь в глазах надежду, а в душе огонь. Сейчас ни огня, ни надежды…
Я трещала без остановки, суя ей под нос второе фото со словами:
– Я переделаю себя, чтобы выглядеть в точности как ты. Высветлю волосы и наращу того же размера сиськи.
А закончила вот чем:
– Отличная будет месть. Особенно если знать, что ты со мной сделала. Все эти жуткие мелочи, происходившие по твоей вине все эти годы. Я помню их вместе и по отдельности. «Итоговая сумма» незабытых обид – вот что питает ненависть. Ах да. Месть будет легкой. Потому что никто не запомнит, что я с тобой сделаю. Кроме меня.
Я встала с дивана и пнула ногой вазу из горного хрусталя. Золотое чудище с драгоценными висюльками. После чего под аккомпанемент воплей ужаса выскочила из гостиной.
Этот маленький набег оказался вполне плодотворным. За две минуты до явления Эгги я получила все, что мне было нужно. Буду вечно благодарить уборщицу, которая показала мне стоявшие на камине свежие отпускные фотографии этой суки. Снимки были сделаны за семь недель до того – Эгги тогда расслаблялась на Сент-Бартсе. На первой фотографии ее лицо было представлено восхитительным крупным планом в большом разрешении. С подробностями вплоть до замазанных тональным кремом пор. На второй Эгги красовалась в пошлом зеленом бикини, рука заброшена на плечо ее приходящего итальянского хахаля.
Я вытащила эти фотографии из жутких, золотых с изумрудами, рамочек, засунула к себе в сумку и огляделась вокруг, что бы еще цапнуть. Что-нибудь небольшое, что можно легко унести с собой. Рядом лежал ярко-зеленый клатч от Гуччи с золотой монограммой «А. У.» на замочке. Заглянув внутрь, я решила вызволить из его застенков Эггины водительские права. Кроме всего прочего, на этой карточке имелся отличный образец сучьей подписи. Потом я вышла в коридор – посмотреть, что там висит на вешалке. Черные перчатки с оторочкой из золотистого меха. Уродский зеленый берет. Черный шарф от Версаче. Поддавшись импульсу, я сунула в сумку все три вещи и влетела обратно в комнату за миг до того, как явилась Эгги.
Шарф от Версаче (самый пристойный и практичный из всего лота) сослужил мне хорошую службу. Весьма хорошую.
Какая прелесть эти ДНК-тесты.
Естественно, они нашли на нем ее ДНК. Смешанную с ДНК Марка.
Во время суда над Марком этот шарф стал главным вещдоком. Прокурор обращался с ним с должной почтительностью. Я читала в газетах, как этот человек доставал его широким жестом, под взрыв одобрительного ропота на скамьях присяжных.
Инстинкты заставили меня замотать этим шарфом собственный нос за минуту до того, как я вышла в тот вечер из гранчестерского коттеджа. Интуиция сказала мне тихим ворчливым голосом: «Этот дерьмовый запашок придаст тебе уверенности и целеустремленности, дорогая София».
Инстинкты не ошиблись.
Навестив в то утро Эгги, я направилась прямо к доктору Пателю. Ибо слышала много хорошего о хирургических талантах этого человека. Например, что он может сделать из любой женщины в точности ту, кем она хочет быть.
Это мне нравится, думала я. Это то, что мне нужно.
Едва войдя в комнату для консультаций, я открыла сумку и достала из нее две фотографии, украденные из Эггиной гостиной.
– Я хочу выглядеть как эта женщина, – сказала я.
Взяв фотографии в руки и сморщив лоб, доктор всматривался в них несколько секунд.
– Вы уверены, мисс Уинчестер? – спросил он, продолжая изучать фотографии и морщась еще сильнее. – Вам известно, что эта женщина прошла через множество процедур? Грудь, нос, уши и подбородок. Ну и ботокс.
Несколько минут я смотрела на доктора Пателя, разинув рот. Я давно догадывалась, что Эгги потратилась на импланты и ботокс. С самого первого дня, когда, войдя в папашин кабинет, с ужасом узнала, что женщина, на которой он собрался жениться, на год моложе меня и гордо носит сиськи высотой с елку. Ботокса на Эггиной роже уже тогда было столько, что любая рыба фугу умерла бы от инфаркта. Но я не догадывалась, что нос у нее тоже исправленный. Тогда это меня задевало – я получила в наследство знаменитый нос Уинчестеров и терпеть не могла эту чертову горбинку.
Моя ситуация становилась в два раза лучше.
Можно заодно исправить эти оттопыренные уши.
– Прекрасно, доктор, – сказала я. – Так ведь даже еще лучше. Можно начать прямо завтра? Я заплачу.
Я заплатила, как обещала. Доктор Патель никогда не узнает, что мне пришлось выскрести до дна свою копилку, иначе мне было не рассчитаться за две первые процедуры до того, как пришел чек от швейцарцев. Поиск информации, к сожалению, тоже требует дохрена времени и денег.
Особенно поиск информации об Агнессе Уинчестер (урожденная Иванова), Марке Генри Эвансе и Клэр Эванс (урожденная Буши).
Оглядываясь назад, я вижу, что с Агнессой это оказалось легче, чем с двумя другими. Несмотря на то, что в Сети не нашлось ни одной ее фотографии. Я снова должна благодарить милую разговорчивую польку-домработницу. Несколько лет после смерти папаши Эгги, как выяснилось, порхала в свое удовольствие между яркими огнями Лондона, Москвы и Минска, но потом ее туфельки для путешествий убрались в шкаф. Во всех трех городах она собирала табуны игрушечных мальчиков для развлечений. Двадцатилетних половозрелых жеребцов с выпуклостями в положенных местах. За папашины деньги, разумеется. В конце концов она втюрилась в модель Кельвина Кляйна двадцати одного года от роду, который потом бросил ее ради болонки помоложе с кошельком потуже. За шесть месяцев до того, как я уплыла из Сент-Огастина, она ретировалась в старый папашин котонский дом – зализывать полученные из-за собственной дурости раны.
Слава тебе, Господи, за это.
Я оказалась бы в большой заднице, если бы в ночь, когда Марк решил утопить меня в Кэме, Эгги не накачалась бы в Котоне наркотой до почти полной отключки.
Бог ты мой, сколько я в тот вечер наделала глупых ошибок. Чуть все не испортила. Первая – я ни с того ни с сего устроила заваруху с детективом. Пока дожидалась в «фиате» подходящего момента, чтобы забраться в кабинет Марка. Но черт возьми, как же я удивилась, узнав пробегавшего мимо человека. Ну и разозлилась, блин. Этот самодовольный идиот мог расстроить все планы. Это его надо благодарить за то, что у меня помутилось в голове. Что и привело меня ко второй грубой ошибке. Мне хватило тупости ввалиться к Марку в кабинет, когда он еще только ужинал со своей моно.
Так приятно было над ней издеваться. Чуть ли не кусаться. Но я не ожидала такого ответа. Когда ее злобные руки коснулись моих плеч и все погрузилось в черноту.
Металлический, медный вкус крови заполняет мой рот. В ушах грохочет боль. В голову словно воткнули топор. Я болтаюсь на чьей-то спине. Человек еле дышит под тяжестью моего тела. С трудом, но торопливо он пробирается по тропинке через заросли. Вверху что-то шепчут переплетенные листья. Над головой трещат ветки. Под ногами хрустят их обломки. Я снова закрываю глаза и чувствую, как человек укладывает меня на спину. Земляной запах листвы забивает мне ноздри. Болотистая почва хлюпает совсем рядом с ушами. Близко, всего в ярде от меня, плещется вода.
Я слышу удаляющиеся шаги. Может, стоит подняться? Встать наконец на ноги? Но это наверняка часть гнусного, трусливого плана. Который я намерена разгадать. Уверена, этот человек вернется.
Так что я жду.
Жду.
И жду.
Снова приглушенные шаги – несколько минут спустя. Я захлопываю глаза, притворяясь мертвой. Человек приподнимает над землей мое туловище. Оборачивает чем-то плечи. Похоже на шерстяное пальто. Чертовски тяжелое, словно его нагрузили свинцовыми слитками. Тянет вниз мои плечи и грудь.
Он толкает меня.
Настолько сильно, что я качусь в преисподнюю. Падаю в воду словно кирпич. Жидкая чернильная темнота поглощает меня.
Река холодная.
Как, блин, лед.
Однако эта ледяная вода втыкается мне в череп, словно скальпель, заставляя мозг крутиться на повышенных оборотах. Всего за несколько секунд притупляет пульсирующую боль. Заставляет меня видеть с кристальной ясностью все, включая то, что я должна теперь делать. Я с трудом сую руки в карманы плаща и выкидываю оттуда несколько камней. Я бросаюсь вперед, полагаясь на помощь хилого течения. Наперекор мутному полярному аду, который всасывает меня внутрь себя. Как можно дальше от того места, где я с мягким всплеском воткнулась в реку. Удерживая тело под водой, чтобы не всплыла даже прядь волос.
Воздух.
Мне нужен воздух.
Мне, блин, нужен воздух.
Мои легкие меня погубят.
Но я должна плыть.
Мне нужно выбраться на поверхность.
Позарез.
Мне. Нужен. Воздух.
Я плыву вверх. Один отчаянный глоток. Рот чуть выступает над водой. Надеюсь, я уже достаточно далеко. Молюсь, чтобы он не рассмотрел меня в темноте.
Голову вниз, София.
Плыви. Просто плыви. О господи. Бред какой-то.
Плыви, София, плыви.
Держись течения. Плыви, куда несет река.
Левой, правой. Левой, правой. Левой, правой.
Я выдохлась. Я сейчас умру.
Эта гребаная река меня убьет.
Я больше не могу.
Наверное, я уже достаточно далеко.
Всплеск, и я поворачиваю к берегу. Корни дерева дотянулись до воды – я вцепляюсь в них отчаянными пальцами. Выволакиваю себя на твердую землю, с одежды потоком течет вода. Зубы стучат, руки дрожат. В глазах от воды щиплет. Я падаю лицом в грязь – последнее тупое усилие.
Песок и сырая земля лезут в рот. Тошнотворно-сладкий вкус плесени и гнилых листьев.
Я со стоном поднимаю голову, оглядываюсь по сторонам. Меня окружают плакучие ивы, сквозь их толстые листья луна и звезды кажутся мокрыми. В темноте вдоль реки извивается заболоченная тропа. Похоже, течение дотащило меня до самого Райского заповедника. Я выволакиваю свое тело из грязи, встаю – несколько неприятных секунд земля колышется и вздымается волнами. Я кое-как пробираюсь сквозь заросли мимо сужающихся кверху перекрученных деревьев. Их грубые листяные пальцы цепляются за одежду все то время, пока я со скрипом ковыляю к машине.
Вид у меня, должно быть, как у кикиморы из ада. Я надеюсь никого не встретить. Иначе это будет катастрофа.
Быстрее, София.
Черт и дьявол. На противоположном конце Гранчестерского луга какая-то тетка выгуливает собачку. Не замирать. Не дрожать. Иди дальше. Сделай вид, что ничего не происходит.
Женщина с собакой поворачивает на Марлоу-роуд. Слава небесам.
Мой «фиат» так и стоит на обочине. Ключ зажигания оттягивает карман брюк. Я достаю его и завожу мотор. Дрожа в мокрой одежде и петляя по проселочной дороге, я направляюсь в Котон. Из-под колес выскакивает заяц с большими яркими глазами. Заруливаю на загаженный павлинами проезд, выключаю мотор и вваливаюсь в дом через парадную дверь.
Эгги втягивает в ноздрю дорожку, насыпанную на мрамор кухонной столешницы, рядом – полупустая бутылка абсента. Наверное, только поэтому она не падает со стула. Несмотря на то, что на нее, широко ухмыляясь, надвигается ее мокрый доппельгангер.
Маленький сварливый Хрущев на меня фырчит. Он намерен поточить когти о мой ботинок. Но Эгги даже не моргает. Возможно, если человек живет на коксе, зеркала ему мерещатся постоянно. Даже если их нет поблизости.
– Привет, Эгги, – говорю я, улыбаясь еще шире.
Я шагаю к ней. Становлюсь справа.
Рука напрягается. Приготовиться.
Она не обращает на меня внимания: ее больше интересует вторая дорожка кокса. Выложенная на кухонной столешнице.
Почему меня это не удивляет?
Я поднимаю руку.
Скрученная в трубочку пятидесятифунтовая банкнота падает из ее руки на пол.
Очень хочется встать над ее телом и самым торжественным тоном, на который я только способна, произнести речь:
Я столько лет ждала этой минуты. Потому что помню. Я помню каждую гребаную гадость, которую ты мне сделала. Как я влетела в эту самую кухню в день Тринити-бала. Я хотела надеть мамино ожерелье и сережки с розовыми бриллиантами, надеялась понравиться молодому человеку, который пригласил меня на бал. Я, между прочим, его любила. Думала, он что-то почувствует.
В тот день я поднялась по лестнице в старую мамину спальню, но оказалось, что набор исчез.
Тогда я помчалась вниз, спросить у тебя прямо. Ты сидела за стойкой и листала летний каталог «Картье». Губки бантиком, поджаты с видом хронического недовольства.
– Где мамины бриллианты? – спросила я.
В ответ ты одарила меня молчаливой понимающей улыбкой.
– Они тепер мои.
– Что за бред, – сказала я. – Они мамины.
– Твоя мама померла.
– Ты не имеешь права их забирать.
– Они ей больше не нада.
Я сказала сквозь стиснутые зубы:
– Дай мне их сюда. Я хочу их сегодня надеть.
– Они тебе не идуть, – сказала ты, ухмыляясь. – Вообще. Куды такой уродинке.
Я замахнулась, чтобы стереть с твоей рожи эту ухмылку, но следующие твои слова остановили мою руку на полпути.
– Не ссорся со мной, Аня. Патамушто твой папа слушает меня, а не тебя. И если я скажу, как ты по-тихому блюешь в унитаз, он будет сердитый, такой сердитый.
– Откуда ты знаешь, что…
– Он заставит тебя приехать сюда обратно, штоб за тобой смотреть. Тебе не жалка, ты так напрягалась, штоб отсюда съехать? Это ж факт?
– Но…
– А то еще и обрежет твое посо-бие, чего б не?
– Ты сволочь…
– И мы опять заж-вем дружной семьей. Хочешь?
Каким-то образом твой равнодушный мертвый тон делал эти угрозы в два раза невыносимее.
Мне так и не достался в тот день мамин набор с розовыми бриллиантами.
И в другие дни тоже.
Память зацикливается. Все семнадцать лет я могла думать только о трех людях: о НЕМ, о НЕЙ и о ТЕБЕ.
Я лишь возвращаю себе то, что принадлежит мне по праву.
Вообще-то, я оказываю ей дохрена огромную услугу. Если ее жизнь заполнена абсентом и коксом, то самое для нее лучшее – это воссоединиться на великих пустых небесах с двумя своими покойными мужьями. Зная ее повадки, можно предположить, что она при первой же возможности откроет там стрип-клуб.
Я стаскиваю с себя мокрые вещи. Потом раздеваю догола ее. Все шмотки у нее в зеленых тонах. А что еще может носить бывшая шлюха, у которой нет никакого вкуса. Узкие велюровые брюки с полупрозрачным топом цвета лесного гнома. Жуткие широкие рукава. Ткань воняет старыми сигаретами и солеными огурцами.
Но по крайней мере, ее одежда сухая.
Она мне даже по размеру. Более или менее. Лифчик великоват. Доктор Патель слегка промахнулся.
Я снова опускаюсь на колени, чтобы натянуть на нее мокрые шмотки, которые я стащила с себя минутой раньше.
Это трудно.
Это очень трудно.
Что за блин. Никогда не думала, что так тяжело натягивать мокрую одежду на обездвиженное тело. С плащом, правда, легче. Слава богу, в карманах осталось несколько черных и белых камней.
Не забыть прихватить ее прекрасных пергидрольных волос на случай, если нужно будет куда-нибудь подбросить фолликулы с ДНК.
Я хватаю кухонные ножницы и отрезаю локон.
Нужно сделать что-то еще. Ага. Губная помада и лак для ногтей. Лежат в сумке на заднем сиденье моего «фиата». Я наклоняюсь, чтобы намазать ей губы и ногти алыми блестками.
Неплохо, София.
Теперь ботинки. Почти по размеру.
Я включаю мотор и вновь несусь по темной извилистой дороге.
Парковка Райского заповедника, несколько минут после полуночи. Ни души. Ни одной парочки. Ни одного туриста. Нудистов тоже нет. Мне чертовски везет, что дождь молотил все утро, как дробный таран. Размывая в заповеднике все тропинки. Превращая их в натуральное болото. В неаппетитную топь. И еще до полуночи отправляя домой любителей прогуляться у реки.
Я окунаю Эгги в реку Кэм и твердой рукой прижимаю ее тело.
Она пытается сопротивляться? Или мне только кажется? Усталость шутит шутки с моими мозгами?
Я считаю до ста и отпускаю руку. Перепарковываю «фиат» у края Гранчестерского луга и дочиста протираю машину.
Иду пешком в Котон. Все три мили. Ногами. Падаю на Эггину кровать с четырьмя столбиками. Несмотря на то, что она воняет отравой от Диора и заслана жуткими зелеными простынями в тон плесени. Когда задолбаешься, даже Эггино дерьмо кажется не таким уж вонючим.
Все снова черное.
Поразительно, как иногда оказываются полезными, казалось бы, бесполезные умения. Когда припрет.
Например, умение задерживать под водой дыхание. Я научилась этому еще в детстве, на Бермудах, во время бесконечных уроков плавания в отцовском бассейне. Очень пригодилось в реке Кэм. Или начальный уровень русского – я прошла этот курс в первый год Кембриджа. Спасибо папаше, он настоял, чтобы я выучила этот язык, когда решил жениться на белорусской стриптизерше. Он надеялся, что так я буду лучше понимать свою мачеху. (К счастью для меня и к большому несчастью для нее, из этого ничего не вышло.) Зато здорово мне помогло, когда на Эггин мобильник позвонил мистер Детектив-Недоделанный-Инквизитор, чтобы проинформировать ее о моей безвременной кончине. Я тихо посмеивалась, болтая с ним в ту субботу из-за жалюзи моего законного дома. (Надеюсь, я не перестаралась с русским акцентом.)
В тот день, кроме разговора с детективом, я сделала еще несколько важных дел. Отправила в мусорный бак пятнадцать флаконов кокса. Напоила пятью литрами абсента корявое горшочное деревце в углу комнаты. Сожгла в камине все Эггины бумажные дневники. Как следует приложила кухонным молотком ее айдай. Даже купила по интернету персидскую кошку. Белую мохнатую красавицу, точную копию мертвого Катапульта. Как и я, новая кошка быстро привыкла к сварливому Хрущеву. И к своему имени – Кататоша. В отличие от меня.
Я терпеть не могу свое новое имя. Меня буквально передергивает, когда приходится выводить «Агнесса» в разных бумагах. Даже теперь, когда я отработала подпись (после месяцев тренировок). Это имя хуже, чем София Алисса. И уж точно намного хуже, чем Анна Мэй. Но видимо, надо привыкать. Есть даже изысканная ирония – называться Агнессой. Ведь это имя означает «чистая» и «святая».
Если и есть, блин, на свете чистая святая женщина, то это я.
Я знала трех человек, которые могли заходить в Эггин котонский дом – время от времени или постоянно. Приходящий итальянский хахаль, болтливая полька-домработница и талантище-садовник из Венгрии.
Для начала я отправила эсэмэску итальянскому хахалю. С Эггиного мобильного телефона, разумеется.
Послание было кратким и нежным.
«Иди на йух, – говорилось в нем. – Между нами все кончено».
Сработало. Я больше о нем не слышала. Я также послала эсэмэски домработнице и садовнику, сообщив, что больше не нуждаюсь в их услугах.
Я оставила Эггин «феррари» (хотя, вообще-то, предпочитаю «БМВ»). Оставила и золоченую мебель. Оставила одежду. И даже носила ее каждый день. Для безопасности. Люди, в конце концов, могли бы заподозрить неладное, если бы «Агнесса» вдруг стала гулять по округе в облегающем ярко-красном платье от Эли Сааба. Вместо ядовито-зеленой гадости, которую она обычно носит. Представляю, как носатая соседка-моно рассуждает у себя в дневнике о том, как сильно изменилась «Агнесса»: Вот это да! Видела ее сегодня. Пропорхала мимо в красивом красном платье. Шок! Ужас! Что случилось с ее страстью к кислотно-зеленому? Что-то тут не так. Может, ее подменили? Надо срочно позвонить нашему лощеному седоватому полицейскому и рассказать о моих подозрениях. Этому, которого только что назначили начальником сыскного отдела, его еще все время награждают за то, что он распутывает преступления сразу, как только они совершаются.
Это недопустимо.
Начальник отдела уголовных расследований Ричардсон заслуживает большего, чем пара пинков, кстати говоря. Я до сих пор убеждена, что это он – вместе с Марком – забил последний гвоздь в мой сент-огастинский гроб. Но с другой стороны, мне надо благодарить свою счастливую звезду за то, что он такой дрянной следователь. Когда-нибудь я с ним разберусь.
А пока полежу на дне.
Достаточно долго, чтобы осела пыль.
Кстати, о пыли: через неделю после всего я забрала из морга тело Эгги и договорилась, чтобы его кремировали с должной заботой. И заплатила крематорию, чтобы они сделали из ее пепла искусственный бриллиант. Сейчас он вставлен в платиновое кольцо у меня на пальчике. Эгги могла бы сказать спасибо за то, что я так благородно поступила с ее останками. Она не заслужила бриллиантовой реинкарнации. И все же есть в этом превращении некая поэтическая справедливость. Между прочим, она столько лет не отдавала мне мамины драгоценности.
Я купила билет в первый класс до Бора-Бора вскоре после того, как поговорила по телефону с Эггиным распорядителем активов. Он сказал, что все ее имущество стоит тридцать семь миллионов фунтов, включая три стрип-клуба и акции журнала «Плейбой». Я открыла рот от изумления, когда он назвал эту сумму. Я собиралась получать в наследство только тридцать один миллион. Потом я вспомнила, что Эгги когда-то выходила замуж за Гровнера, но через полгода развелась, чтобы выйти за папашу.
Никогда не помешает выйти замуж за богатого.
А потом за того, кто еще богаче.
Позже я продала акции «Плейбоя» (не хочу приближаться к империи Хефнера на пушечный выстрел). Однако стрип-клубы решила оставить.
Они неплохо работают.
Рентабельны, говорят.
Особенно тот, который в Москве и называется «Дантов ад». Эггин подарок самой себе на сорокалетие. Несмотря даже на то, что от адских доходов приходится ежемесячно отстегивать приличный кусок шефу московской полиции. Усатому мужику, очень фотогеничному и проворному для своего возраста. Но девиз у него, похоже: «Наш бог – бабло». Маленькая невинная Анна Мэй, таким образом, остается де-факто главным начальником над пятьюдесятью пятью танцовщицами и двадцатью тремя стриптизерами-мужчинами, пять из которых похожи на Ченнинга Татума.
Поразительно, как иногда мстит прошлое. Даже на этом слепяще-белом бора-борском пляже. Вокруг трепещут на ветру волнистые пальмы, а всего в нескольких ярдах от моих ног плещутся кристально чистые волны. Самое далекое место, пришедшее мне на ум, когда я покупала билет на самолет. Вчера я прочла в «Уолл-стрит джорнэл» о нем. Мужик с лохматым лабрадором оставил на песке газету, перед тем как резиновая шлюпка увезла его на яхту. Я подобрала этот листок, и в глаза мне бросился заголовок в самом низу страницы: «Писатель публикует заметки о своей жизни в Белмарше».
Он теперь работает в тюремной библиотеке. Одна из лучших должностей для заключенных, наверное. Надеется вскоре опубликовать свои тюремные размышления. Может, даже сборник рассказов. Захватывающие истории преступлений и наказаний. О которых он наслушался от сокамерников во время бесчисленных обедов, за миской с печеной фасолью. Идеальный заключенный на сегодняшний день. Поэтому, весьма вероятно, получит досрочное освобождение. Могут выпустить уже через четыре года.
Лысый черт.
Поразительно, как некоторые умудряются делать литературную карьеру. Когда у этих некоторых накрываются шляпой политические амбиции. Когда их сажают в тюрьму строгого режима за непредумышленное убийство.
Но опять-таки – этот человек всегда умел обращаться со словами. Слова убеждают, нравится вам это или нет.
В заметке еще написано, что ему разрешены дополнительные еженедельные посещения родственников или друзей. Добропорядочная жена-моно, оказывается, приходит к нему через день, приносит книги, носки и вязаные джемперы.
Почему эта женщина с ним не развелась? После всего, что он сделал? После того, как открылось, что у него не просто была любовница; он эту любовницу умудрился – так считается – утопить в Кэме. И почему не ушел он? Нужно быть сумасшедшим, чтобы оставаться с дурой-моно, убившей его дочь. Я не понимаю. Я, блин, не понимаю. Я уже давным-давно прочесываю газеты в поисках отчета об их разводе. Я устала ждать того, что никогда и никак не происходит. Конечно, им друг на друга наплевать. Или нет?
Мне это не нравится. Страшно раздражает. Очень хочется швырнуть чем-нибудь в мужика на огромном надутом лебеде.
Последние строчки заметки в «Уолл-стрит джорнэл» звучат особенно обидно: «Мистер и миссис Эванс вновь произнесли клятву верности друг другу в церкви тюрьмы Белмарш. Их пресс-секретарь Роуэн Рэдфорд сказал, что Клэр Эванс с нетерпением ждет досрочного освобождения своего мужа».
Хочется все бросить и рвануть обратно в Британию. Завершить все как положено. Завершить их брак тоже. Чтобы дошло. Это досрочное освобождение мне совсем не нравится. Его не должно быть. Этот человек заслужил медленную неотвратимую тюремную кончину. В крайнем случае семнадцать унылых лет за решеткой.
А не четыре.
Но это все отдельная история. Будущая миссия.
Пока я посижу здесь, закажу «пинья-коладу» получше и усмехнусь сверкающему на пальчике бриллианту (потому что месть – это бриллиант, и добывается она легко, не то что любовь). Может, стоит взять тройную стопку водки. Или даже улыбнуться красавцу-спасателю в розовых шортах с гибискусами. Хотя он наверняка глупый моно.
Я буду получать удовольствия по мере их поступления.
Потому что я их помню.
Эпилог
Человек входит на кухню. Он не был здесь четыре года. Радость возвращения переполняет его сердце, в нем даже покалывает. Он делает глубокий вдох, с наслаждением втягивая в себя пикантный запах кролика и лаврового листа, что доносится из булькающей на плите кастрюли. Человек протягивает жене букет розовых и белых роз, она улыбается. Ее лавандовые глаза смотрят мягко и преданно, в их глубине мерцает тихий восторг. Она так долго ждала его возвращения.
Он замечает, что на кухонной столешнице нет больше серой коробки с антидепрессантами. Там теперь лежат всего две вещи. Первая – ее айдай. Она говорит, что дневник уже лопается от слов и описаний. Она каждый день записывает все, что только можно. Она боится забыть.
Он кивает. Он понимает, что она имеет в виду. Он и сам старается делать то же самое, хоть это и нелегко. И еще он знает, как мало в этой жизни простого и ясного. Оттого и должны они держаться за все, что есть у них общего, и за прекрасное, и за трагическое, ибо рано или поздно прошлое соединит их вновь в одно целое. Потому что боль из прошлого сделала их теми, кто они есть. Помогла им понять, откуда они пришли. И где они сейчас. И куда хотят прийти. Потому что память – это все.
Вторая вещь – вчерашний выпуск «Таймс». Его взгляд останавливается на первой полосе, выхватывая фотографию сияющей блондинки. Заголовок гласит: «Писательница-моно наконец-то победила в конкурсе короткой прозы и получила приз 30 000 фунтов за рассказ под названием „Завораживающая история бытовых потерь и обретений“».
Глаза у него делаются круглыми.
Я не знал, говорит он, протягивая руки. Как же я был глуп и слеп. Так долго не видел того, что у меня под носом. Ту, что была рядом.
Мы оба хороши, говорит она. Но мы больше не будем.
О чем этот рассказ? – спрашивает он.
Он простой, говорит она. Горько-сладкая история о любви и перерождении. Все истории кончаются любовью. Потому что любовь заставляет нас что-то делать. Любовь заставляет нас помнить.
Благодарности
Мне невероятно повезло с прекрасной командой агентов и редакторов. Отдельное спасибо блестящим литературным агентам Джонни Геллеру и Александре Машинист за то, что отстояли этот проект и подняли его выше самых смелых моих мечтаний. Мне выпала большая честь работать с Алексом Кларком и Джошем Кендаллом, чьи мудрые и резкие редакторские комментарии помогли мне развить понимание этой книги. Спасибо, команда моей мечты, за то, что вы такие увлеченные и верные, внимательные и веселые.
Замысел этой книги родился во времена моей учебы в Академии Фабера. Я благодарна моему учителю Ричарду Скиннеру, указавшему мне этот путь. Я также в долгу перед моими соучениками 2015 года выпуска, которые читали первые наброски к роману и оставляли проницательные отзывы. В частности, перед восхитительным квинтетом, который до сих пор еженедельно собирается в Блумсбери, чтобы обсудить творчество друг друга: Майкл Диас, Хелен Аллен, Илана Линдси, Кло Эспозито и Кейт Вик. Пятерка из Блумсбери воистину осветила мне дорогу – я счастлива чувствовать их постоянную поддержку.
Несколько бета-читателей великодушно помогали мне на последующих этапах моей работы. Лидия Роуз Раффлз, Салли Гарнер, Арабель Шарлафф и Николь Френи заслуживают особого упоминания за их искусный и проницательный вклад в окончательный вариант рукописи. Большое спасибо также Маргарет Уоттс, Паоле Лопес, Саре Эдхилл, Эллисон Стейнберг, Ричарду Берду, Начо Мбаелиачи, Тони Байкату, Селене Юкуома, Кристиану Бринсдену, Аманде Сейнт и Ми Ли за множество сто́ящих предложений.
Я многим обязана Джеффри Монагану из Лондонской полиции за отличные консультации по вопросам полицейских процедур. Также огромное спасибо Стюарту Гамильтону из отделения судебной медицины Восточного Мидленда, Ван Йи Мин из больницы Гурона и Лесли Кинг из криминальной службы за то, что поделились своим опытом в области патологии, психологии и обнаружения наркотиков.
Я благодарна редакторам и корректорам за внимательный разбор текста и дотошное внимание к деталям. Отдельное спасибо Барбаре Кларк, Джейн Селли и Саре Дэй. Я также хотела бы поблагодарить Кейт Купер, Люка Спида, Рича Грина, Жак-Смита Бозенки, Эву Папастратис, Кэтрин Чо, Хиллари Джекобсон и всех сотрудников «Кертис Браун» и «Ай-си-эм партнерс».
Много аплодисментов и огромная благодарность невероятным рекламным и маркетинговым командам «Хедлайна» и «Литтл-Брауна»: Джорджии Мур, Милли Стюарт, Джо Юлу, Сабрине Каллахан и Памеле Браун. Примите мою огромную благодарность и восхищение. Большое спасибо также Кейт Стивенсон и Элле Гордон из «Уайлдфайра», а также Бену Аллену и Нику Герреро из «Малхолланда».
Наконец, я хочу поблагодарить двух самых горячих моих сторонников: Ли Хан Ши за то, что верил в меня, и моего прекрасного жениха Александра Плеханова, который поддерживал каждый мой шаг на этом пути (и кто указывал на неизбежные отклонения). Ханс и Алекс, эта книга для вас.
Сноски
1
ЦАМФ – циклический аденозинмонофосфат. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Инспектор Жавер – персонаж романа Виктора Гюго «Отверженные», талантливый сыщик, свято верящий в правоту закона, но играющий в романе роль антагониста.
(обратно)3
Язык гипертекстовой разметки.
(обратно)4
Протокол передачи гипертекста.
(обратно)5
Лотарио – персонаж «Дон Кихота», беззастенчивый обольститель.
(обратно)6
ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство.
(обратно)7
Доктор медицины, бакалавр хирургии, кандидат медицинских наук, член Совета медицинских исследований по психиатрии.
(обратно)8
Бакалавр медицины, бакалавр хирургии; Королевский колледж патологоанатомии; диплом по медицинскому праву.
(обратно)
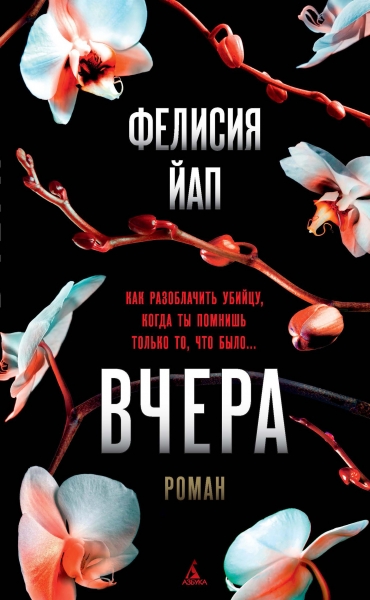





Комментарии к книге «Вчера», Фелисия Йап
Всего 0 комментариев