ЧАСТЬ ПЕРВАЯ УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
«Я жить хочу! Я хочу жить! — пульсировало в голове Алины. — Нет! Я не могу жить! Я больше не могу жить так! У меня нет сил!.. Но я хочу!
Когда ты понимаешь, что скоро умрешь, то противна любая путаница человеческих понятий…» — подумала, успокаиваясь, она, но главный редактор отдела культуры прервал ход её мыслей:
— Ну что, наша вечная внештатница, ты поедешь в «Театр на Юго-Западной»? Нашу газету пригласили на «Калигулу».
— Да… конечно, — задумчиво кивнула Алина, и её солнечные кудри, словно на мгновение обмякли. Только Калигулы ей не хватало, в то время как весь её мир рушился и без того. Сидеть в маленьком плотно набитом зале и воображать, как должен возбуждаться некий абстрактный зритель, не возбуждаясь самой, а потом писать об авангарде, да что там о квинтэссенции авангарда, дозе адреналина и сексуальной эстетики, короче — парить мозги бедному читателю газет. В то время как собственный мозг словно расслоился один молчит, в шоке наблюдая, как тает песок в верхней чаше неких гигантских видимых лишь ему песочных часов, другой — машинально выдает то, что от него требуется, дабы никто не догадался, что он не один единственный.
ГЛАВА 1
«Смерть. Смерть. Смерть. Только смерть впереди и ничего больше. Алина ступала по гулкому коридору редакции и не слышала цоканья своих каблучков, словно каждым шагом проваливалась в пропасть.
— Вот, смотри, что выбираешь: командировку по зонам или на Багамы? спрашивал битый перебитый вечно нетрезвым образом жизни фоторепортер Фома девушку — свеженького стажера из МГУ, покуривая в углу.
Хрипловатый голос его врезался в сознание Алины, словно с того, иного, света. Она машинально остановилась рядом с курившими и, вынув пачку сигарет из заднего кармана джинсов, закурила, уставившись ничего невидящим взглядом в мутное стекло окна. „Смерть… и ничего больше! Как же коротка жизнь! Боже мой!.. И дались ему эти острова!..“
— Конечно, Багамы, — ответила девушка, не страдающая нелюбовью к себе.
— Эх ты, — махнул жилистой рукой Фома, — а ещё хочешь быть журналистом.
Ершик её черных волос зашевелился от удивления.
— Не обращайте на него внимания, — вернулась в опостылевшую действительность Алина. — Он всех об этом спрашивает. Кстати, Фома, а почему ты мне никогда не задавал своего коронного вопроса?
— Куда уж вам… — отмахнулся, замявшись, Фома. — Знамо дело — вы все о высоком… — ерничая, раскланялся и, бросив в наполненную водой белую фарфоровую урну окурок, пошел в кабинет к главному редактору отдела политики.
— Я не пойму, он кто — бывший хиппи или диссидент? — спросила девушка-мальчик.
— А… так… бывший гений перестройки — вяло поправив кольцо сережки, Алина снова отвернулась к окну. Лицо её нелишенное ещё юношеской свежести, несмотря на то, что ей было тридцать, ничего не выражало. Но ей казалось, что когда она говорит, лицо её корчится в резкой гримасе, превращаясь в ужасающую маску из древнегреческой трагедии. Последнее посещение онкологического диспансера поплыло у неё перед глазами…
— …Неужели, мне нельзя ничем помочь, доктор?! — отчаянно молодая рыжеволосая женщина схватила за рукав тоже женщину, но в белом халате, проходившую по коридору в кабинет маршем железного Феликса. Женщина врач резко дернулась, невидящим взглядом окинула пациентку:
— Нет.
— Но у меня же сын!.. — голос больной сорвался, и она прохрипела сквозь слезы: — Ему только восемь лет! Я мать-одиночка! Мне нельзя умирать! Нельзя!.. Он останется совершенно один! Один!.. Помогите! Что же мне делать?!
— Отдайте его в интернат, пусть привыкает, — громко и четко отпечатался голос женщины-врача в сознании Алины, — все равно ему потом жить в детском доме. Следующая. — И скрылась за дверью кабинета.
„Следующая, следующая…“ — гудело в голове. Следующей была Алина.
Алина, бледно-легкая Алина, почти не дыша, вошла в кабинет:
— Сколько мне ещё осталось жить? — сходу спросила, как напала, спросила в упор, не желая мучительных междометий. Спросила в тайной надежде услышать: „Да откуда вы взяли, что у вас рак?!“ — так, обыденно, грубо и просто, отвечали здесь дрожащим от подозрений.
— С этим… — врач мельком взглянула ей в глаза и скучно-пространным взглядом отвернулась к окну. — Только, пожалуйста, без истерик…
„Значит: рак“ — отрешенно произнес внутренний голос Алины, и она окаменела.
— …Вот теперь разрешили говорить, и вы все спрашиваете. А зачем вам это знать? Чтобы потом биться в истерике?
— Не беспокойтесь, я ку-культурный человек, я…
— Ну… если без истерик… Боли есть?
— Да… так… мелькнет что-то… Терпимо.
— Потом боли усилятся. Будем присылать сестру…
— Понятно, — Алина склонила голову, и её волосы тяжелыми волнами упали на стол. — Сколько же мне осталось жить? — спросила, медленно поднимая голову.
„Сколько?.. До чего же глупый вопрос. Что значит время для человеческой жизни? Кто может оценить — много или мало времени нам осталось. Что такое — год, день, минута, час…“
— Вы сейчас осознаете себя? — услышала голос врача.
— Да-да. Конечно. Если что не так… извините, — ответила Алина, словно очнулась от мгновенного глубокого сна.
— Обычно… с этим… живут не более года… — и врач снова отвернулась к окну.
Внезапно наступила тишина. Ясная тишина. За окном плыло лето. Пыльное, душное городское лето. Роскошное, вальяжное лето. И не верилось — что это лето когда-нибудь кончится.
— Теперь я себя точно осознаю, — кивнула Алина и выдавила из себя словно нановокоиненными губами: — Неужели, ничего нельзя сделать? машинально, хоть и тихо, повторяя интонации той женщины, что пыталась ухватиться за рукав врача, словно утопающий за последнюю соломинку. И добавила, — Деньги есть.
И долго слушала, словно сквозь толщу стекла, о способах, которые все равно не помогают.
— …Я, конечно, дам вам направление на госпитализацию. — Сухо окончила врач свой монолог. — Следующая
ГЛАВА 2
Сотрудник отделения охраны лейтенант милиции Минькин с трудом оторвал тяжелую голову от стола под дикий вой музейной сигнализации. Таинственно улыбнулся, сомнамбулически поднялся со стула, подошел к пульту и прекратил этот раздирающий его сознание машинный вопль сирены.
Быть может, в другие времена, эта кража потрясла бы весь мир… Минькин понятия не имел о том, насколько ценна в цивилизованные годы в цивилизованной стране эта маленькая скрипочка. "Все равно бы её украли из этого нищего музея" — мелькнула отчетливая мысль в его смутном сознании.
Словно сквозь тягучий туман он оглядел стол: "Один стакан… — отметил про себя. — Второй вымыт. Значит, он меня клафелином вырубил! — поставил он диагноз своему состоянию. — Ха-ха, герой!.. А я-то думал — пристрелит…" и рухнул тяжелой головой на стол. Погрузился в бессознательное, невменяемое состояние и увидел ясным видением последние часы перед отравлением…
Два часа назад в маленькой комнатке сторожа с выцветшими и треснувшими от старости желтыми обоями, залатанными постерами певцов из модных журналов, продолжая тем самым линию музея, ничего вроде бы не предвещало такого предательства закадычного собутыльника. Но лейтенант Минкин уже начал догадываться.
— …Пять тысяч долларов. И, как договорились — ты был пьян и ничего не слышал, клянусь мамой. — Предложил Карагоз, радуясь наипростейшему способу исполнения заказа. Такой прямой текст не казался ему опрометчивым. Это проще, чем идти на мокрое дело. Карагоз прикинул, прежде чем решиться на прямой сговор с охраной, что теперь исполнение служебного долга в милиции не в чести, вспомнил о том, что мало платят, что почти все его начальство лимита бесквартирная, ненавидящая москвичей, а уж тем более интеллигенцию. Преступление против истории культуры — для них слишком абстрактное понятие. К тому же — в течение месяца, он наблюдал этого Минькина, как бы случайно познакомившись с ним в пивной, а потом и подружившись через пристрастие к тихим застольным беседам о политике, несправедливости и нелюбви к Ельцину.
Да, Карагоз пас его — Минькина и характеристику ему составил неприглядную: слабоволен, завистлив, любит выпить, ненавидит стоящих выше себя, служит, потому что некуда податься, да и в Москве пожить охота.
— Пять тысяч… — Минькин, соблюдая лицо кирпичом, перевел про себя доллары в рубли. — Да ты чего это, братишка?! — тихо прошлепали пухлые губы охранника. И было неясно мало это или много по его понятиям. Минкин вздохнул и откинулся на спинку шаткого стула. На мгновение замер, глядя куда-то мимо Карагоза. "Это же надо… за какую-то скрипочку! Скрипочку, разве только, что — для ребенка… Так рассыплется ж… и кому это старье…" — выкрикнул он:
— Не пойдет.
— Да ладно, я пошутил. Чего напрягся? — прохрипел с усмешкой Карагоз, поняв, что своей напористостью и прямотой смутил возможного подельника, и попытался все свести к шутке. Действовать надо было срочно, времени не было, а был последний день уговора с заказчиком:
— Кому здесь чего нужно? Ладно бы — музей Джона Леннона… Клянусь мамой, даже школьники на экскурсии сюда не ходят. И как эта богадельня ещё не прогорела?.. Давай, ещё по чуть-чуть. Хороший ты парень, Минькин, и улыбаешься как Гагарин.
— А все равно… Я, братишка, на службе не пью. — Сказал Минкин, задумался и добавил: — Больше… — На всякий случай поставил под стол початую бутылку, стараясь показать себя теперь уже точно подозрительному приятелю расслабленным и вялым. Но мысль, возбужденная произнесенной в начале беседы цифрой, раскручивалась на полную катушку и не могла остановиться: "Неспроста его шутки. Хоть и говорит, что детдомовский, хоть и голубоглазый, а нос орлиный… да и откуда Карагозом кличут? Кавказ примешался. Точно Кавказ!.. А с Кавказом ухо держи востро. Непонятный. Если он мне столько предлагал, так сколько же сам получит?.. Не больше десяти процентов предложил. А может пополам?.. Все одно — многовато. Так что ж это за скрипочка такая? Фанера и есть фанера… зато антикварная… И все привязывался ко мне, все прилаживался целый месяц в пивной-то… Целый месяц подлаживался! Неспроста… — и вдруг, словно молния разверзлась в его мозгу: — Не уйдет он сегодня пустым! Не уйдет! Отступать ему некуда. Прирежет еще, как пить дать, если не соглашусь-то. Сейчас и не на такое без всякого страха идут".
Минькин внимательно вгляделся в своего приятеля. Тот, развалившись, покачивался старинном венском стуле, покуривал сигарету "Мальборо", поглядывая на собеседника с особым прищуром. Минькин — при своей-то зарплате — мог себе позволить только "Пегас".
"Пойти, из другого телефона позвонить в отделение, сказать, мол, так и так… Да ведь сам приманил. Знакомый же… не поверят. Устав нарушил, никого же не должен был пускать… С поличным ловить надо… Э… да я живым не дамся. Вот дело-то будет. Может — повысят… Ну да… жди — гроши прибавят. Так и живи в общаге, как бомж, с хлеба на воду… Вот Иволгин погиб на посту, его жене страховки, по теперешнему курсу, всего две тысячи гринами единовременно. А может… поторговаться с этим, чтобы комнату в общей квартире купить?….или домик в Подмосковье? Маленький… Кабы тысяч десять… Так ведь даст поначалу, а потом… сколько уже таких случаев было. Но если платит столько, что ж — кроме него за неё никто не заплатит?.. А если…" — и сам про себя себе же не договорил, настолько вдруг решился и одновременно испугался своей решительности.
— Может, чайком попоишь? — усмехнулся Карагоз, чувствуя, как напрягся лейтенант. — Скучно чувствую, друг, здесь одному. И чего напарника не дадут? Денег, что ли, у музея нету?
— Да… — лениво почесал левую лопатку Минькин, приятно щупая под кителем портупею. — Кому он нужен. Кто ж его грабить-то будет, братишка, музей-то этот?.. Такое только тебе спохмела в голову придет. По этой рухляди лишь старушки-смотрительницы вздыхают… А укради чего — и продать некому. Одно слово — старье. Вот кто его возьмет? Кто?..
— Неинтересно все это, — как-то сразу поскучнел Карагоз и зевнул в лицо собеседнику. — Чайком угостишь?
— Ты включи пока кипятильник, а я сигнализацию проверю. Если загудит все, не дергайся. Проверка такая.
— Проверка такая… — удовлетворенно повторил Минькин, вернувшись через пятнадцать минут.
Карагоз сидел, как сидел, словно и не двигался, машинально пил пиво и сонно улыбался. Минькин сел напротив на полуразвалившийся диван. Карагоз придвинул ему стакан с чаем.
Тая в глазах архетипически-лукавую усмешку холопа, обманувшего барчука, Минькин опустив взгляд долу и, вздыхая, принялся хлебать опостылевший чай.
ГЛАВА 3
Уже второй десяток лет смерч перемен срывал крыши, носясь по стране. Саранчой летали туда-сюда необизнесмены, урожденные наивно-дремучей провинцией, и сгорали, словно мотыльки на свече, едва соприкоснувшись с серьезным кушем.
Голодные амбиции и панибратская зависть пробуждали чудовищные качества человека.
Все устои и нормы были попраны неожиданно обрушившейся нищетой на, совершено к тому не готовых, людей. На осколках самовластия ещё теплились семьи, уже не являющиеся ячейками государства, но хранящие память о незыблемом. Только и в них расползалась ткань интимного бытия, словно ветошь, разъедаемая кислотой краха личности в животной борьбе за жизнь.
Что может чувствовать человек в таком низводящем до ничтожества разносе? Человек, лишенный надежды выкрутиться, лишенный даже возможности думать, что стоит лишь потерпеть лет десять и все устоится, обретется новая база, восстановятся общечеловеческие основы?.. Что может чувствовать человек, понимающий, что жизнь его тает, словно воск свечи на пожаре скоропалительно и необратимо, что дни его сочтены?.. И уже никогда… никогда…
"За что ухватиться?.. За что?.. — думала Алина. — Что можно успеть сделать за год? Что?.. Когда за всю предыдущую жизнь ничего особенного не совершила. Год… год… год… ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ДНЯ!"
Знание срока своей жизни — равносильно знанию конца света.
— Что вы будете делать, если узнаете, что завтра наступит конец света? — спросили буддистского святого — ремпоче, играющего в мяч.
— Играть в мяч, — ответил святой.
Хороши святые у буддистов: играют в мяч, жалеют комаров и прочих кровососущих, ядовитых гадов, могут захохотать в голос в своем храме… Они живые, мудры и наивны в одно и тоже время, игривы и неподвижны, естественны… Но когда китайцы гнали их из Тибета, ламы даже не прикрывали головы руками. И надвое расколотыми летели их головы…" — Почему-то, вспомнив об этом, Алина представила себе, что летели не головы, а планеты. Расколотые земные шары… И потом, когда остаток ремпоче спасся в Непале, они обратились за помощью и поддержкой к Европе, к её философии сопротивления… "Так и я — казалось бы — все, все могу, и ничего не могу в сути… Ничего. Кто я?!.."
Ей стало невыносимым свое одиночество. Невыносимым неотступная близость собственной смерти, шарахнувшись от которой Алина, появилась, сама не заметив как, в строительной конторе мужа.
Он сразу, из командировки в Питер, приехал туда. Почему-то — именно туда, а не домой. Там он был самым главным, самым разумным, хоть там… верилось ей. Там, как всегда, пили, отмечая новый заказ.
Впрочем, заказ был, как всегда, липовый, но деньги были настоящие отмытые наивернейшим способом, обналиченные и списанные на строительно-ремонтные работы. Редко кто умел проводить такие крупномасштабные манипуляции в малом бизнесе, как её Кирилл, при этом ловко лавируя между бандитским рэкетом и государственным налогообложением.
Она прошла по узкому коридору и, постучавшись, открыла дверь, из-за которой раздавался гул голосов.
Он вскочил сразу. Машинально проверил слишком подвижными пальцами пуговицы рубашки на своем буржуазном пузе, вид которого обычно вызывал у неё добрую усмешку. Подтянул галстук и пригладил всклокоченные волосы за залысинами на затылке. Но она успела заметить, что за долю секунды до этого он обнимал востроносенькую брюнетку, размахивая свободной рукой, что-то говорил, кажется, читал стихи на память. Он всегда, чуть что, особенно, когда был пьян, читал стихи по любому поводу, даже включаясь на обрывок фразы. В этом смысле он имел непревзойденную современниками память и знания, да только пригождались они лишь во время застолий.
— Зачем пришла?! — он старался оттеснить её в коридор. — Шпионишь?!
Алина почувствовала, как слезы затмили ей зрение.
— Что надо?! — продолжал он, выпроваживая её на улицу.
Она не узнавала его. Ей так хотелось положить голову на его плечо. Такое крепкое, такое теплое… родное…
— Я только что от врача… У меня плохие результаты… Я…
— Да ладно тебе… Притворяешься. Не за этим пришла. Знаю я. Насплетничали тебе. Дома поговорим, дома.
— Дома?! — она невольно подняла руки, как бы желая отстраниться от неприятного. — Но я… я там совершенно одна, пока ты…
Кирилл мельком взглянул на неё — и было в его взгляде такое глубокое сожаление, что он постарался его скрыть. Обыкновенно стройная, она показалась ему маленькой и беззащитно-безвольной, желающей что-то сказать, донести до него из самой глубины своего мутного моря, но лишенной голоса.
Уже на крыльце он поцеловал её в лоб:
Грустно смотреть, как сыграв отбой,
то, что было самой судьбой
призвано скрасить последний час,
меняется раньше нас. — Пробасил он нараспев строки из Бродского. Обычно он к месту и не к месту, читал стихи именно этого поэта.
— Не меняйся. — Изменил он свой тон на боле оптимистичный — Прямее спинку! Если ты думаешь, что я только пью, гуляю и развлекаюсь в игорных заведениях, называя свое безделье работой, то ты ошибаешься. Я постоянно делаю деньги. И делаю их, как и все другое, только ради тебя.
— Даже обнимая секретаршу?
Его глаза напоминали небо в солнечный летний полдень отражающее васильковое поле. Так видишь, когда лежишь, распластавшись, легко и свободно, а небо смотрится в эту ширь и отражает васильковый цвет. И ветер. Теплый летний ветер… Его глаза… Как они изменились, словно накатывали на неё — вдруг выпирая по-бычьи. Изменчивые глаза…
— Хватит. Ты же умнее, чем хочешь казаться. Подумай лучше — что тебе надо купить. Завтра поедем по магазинам.
Она ненавидела это странное, похожее на сумасшествие действие. Они носились по Москве. Сидя в машине, она зачитывала список того — что кому требуется купить. Но едва выходили в очередной салон — осматривали все подряд. Вернее, она таскалась за ним по мужским отделам. Затем он покупал себе пару костюмов или ещё что-либо глобально дорогое, затем она намекала на то, что некая вещь мельком понравилась ей, но её как всегда не было в списке. Начинались препирательства. Анна обижалась и далее обходилась обычными джинсами и свитером. "Мне же нужен фрак, для того чтобы делать в нем деньги, а тебе зачем? Ты и так красива" — утверждал он свой эгоизм объяснениями."…Теперь уж — точно незачем" — горько усмехнулась она про себя.
— Надоело, — она взглянула на него глазами полными слез. Бесполезно было пояснять, что она скоро умрет. Все, что касалось их двоих, никогда не доходило до него сразу.
Он, молча сунув ей деньги в карман, проголосовал такси.
Алина, незаметно смахнув нахлынувшие слезы, назвала водителю адрес своей редакции. Дома она больше находиться не могла.
Такси катило по знакомому маршруту. Это так печально: понимать, что помнишь наизусть каждую вывеску, витрину, каждый переулок, знаешь все о каждом доме, помнишь знакомых, живущих в этих местах… Помнить — со своим личностным оттенком переживаний событий, связанных с этой старомосковской архитектурой, и понимать, что память твоя скоро угаснет, как скользнувшие отблески закатного солнца. И никогда-никогда свет человеческого внимания не высветит ни барельефов, ни рельефов под точно таким же углом луча твоего личного зрения.
Но нельзя расплываться в бесформенный свет, ты же ещё жива!..
— …Ночью обокрали музей музыкальных инструментов, — произнесла Алина, думая о том, что сходит с ума, — пропала скрипка Страдивари. Цена от трехсот тысяч долларов до миллиона — смотря кому продать. Боюсь, у меня отнимут эту тему. Я ведь никогда не вела детективного журналистского расследования. Прав Фома — "все о высоком…" Но ведь — пересекается и низшее, и высшее в этой жизни…
— Страдивари… — усмехнулась стажерка. — О чем вы, когда люди в городе гибнут, словно у нас война. Сто убийств в месяц! Вчера в Видном, взяли группу цыган, убивавших людей в приличной одежде. Ждали на станции кому тропой по безлюдным местам идти — выслеживали и убивали. Только за вчерашний день они убили шесть человек сошедших с электрички. Это же надо так обнаглеть от равнодушия милиции, чтобы столько в день убивать!.. А вы о высоком!.. Да от такой жизни — хоть день на Багамах!..
— Увидеть Париж и умереть? — Губы Алины скривились в горькой усмешкой.
— Да хотя бы так. Но умирать, конечно, не обязательно.
Алина, даже не кивнув новоявленной сотруднице на её "необязательно", задумчиво пошла в кабинет к главному редактору отдела культуры.
Во многих редакциях были знакомы с Алиной. Но это не значило, что она отличалась журналистской активностью. Она принадлежала к той когорте гипнотически доверявшихся понятиям любви, брака и бабьей судьбы женщин, что в современной Европе напоминают камикадзе, и лишь, чтобы совсем не терять чувства того, что время идет, иногда писала статьи.
Красивая, яркая блондинка, от природы своей из тех, которых "выбирают джентльмены" — по заявлению одной телевизионной девчушки, — Алина из тех, кого могли бы запечатлеть в "Плейбое". Из тех, кто мог бы — получить в расчетливом замужестве, на зависть бабам и старым девам, головокружительную жизнь в Америке или Париже. Не говоря уже о её погибших способностях почти ко всем видам искусства… — так считали те же бабы. Алина при всей своей незаурядной внешности, не то что бы не имела характера, а имела такое терпение, что обстоятельства могли гнуть её, словно из прута дугу невероятно долго. Врожденная неуверенность в себе, толкали Алину на поступки отказа от всего того, за что бы ухватились другие.
Она вышла замуж по любви, долго не веря, что её тоже можно любить, хотя влюблялись в неё часто, но как-то казалось ей, спеша, словно перебирая кандидатуры, а не как одну единственную. Вышла — и как пропала — медленно и незаметно, попав под власть избалованного мужа. Они жили неплохо, можно сказать "слишком жирно" для большинства, мучающегося от безденежья, но жили все-таки неплохо — именно материально. Все остальные Алинины радости заключались в приятии и понимании его радостей. Будоражившая воображение мужского пола шикарная леди-журналистка — легко превратилась в эхо, тень, второй план жизни одного-единственного, мало кому известного среди её былых друзей-приятелей, мужчины. Они всегда отдыхали вроде бы вместе — в барах, в казино, играя в рулетку, на бильярде, путешествуя по странам… но когда ей хотелось в Египет, ему хотелось в Лондон, когда ей хотелось на выставку ему в бильярдную. И она всегда уступала. Всегда. Разве что книги читала совсем иные.
Временами она понимала это, понимала — что лично уже её нет. Была когда-то и вдруг быть перестала. И тогда вскидывала голову, шла… Шла в магазин в поисках его любимого сыра и, заодно, заходила в редакцию. Так появлялась она: то здесь то там, раз в три месяца, выслушивала пожелания, приносила статейку, которую успевала накропать урывками между готовкой ужина, стиркой, и обязательным вечерним выходом в свет местных бизнесменов, обычно молча кучкующихся в бильярдной, или выяснявших отношения только при помощи показательно классных карамболей или "дураков". Там ей приходилось играть одновременно две роли — европейской женщины играющей с мужчинами на равных и восточной — не заходящей вперед своего мужчины и не говорящей, когда её не спрашивают. С трудом научившись молчать, она молча принимала даже комплименты, которых было все меньше и меньше. И так как бы украв время, собрав его по минуткам, словно соткав рубашку, собрав с миру по нитке, она выдавала нечто в виде статейки и исчезала. Через полгода могла появиться перед редактором с таким видом, как будто виделись с ним вчера. И не было ничего удивительного в том что, глядя на неё с сомнением, говорил главный редактор:
— Какая скрипочка! Тут такое твориться! Народ озверел от зрелищ. Скрипочка его не удивит, хоть и Страдивари. Ладно. Мы можем дать только короткую информацию о твоей скрипочке.
— Но здесь дело темное! — с пылом продолжала Алина так, словно всегда была в гуще текущих событий, и они уже стали её личной жизнью. — Милиция принесла свои извинения за то, что их сотрудник не среагировал на сработавшую сигнализацию! Он, видите ли, решил, что её ни с того ни с сего замкнуло, и продолжал спать! А от чего это он спал таким глубоким сном?! Дело ещё толком не завели, а его уже уволили! У меня есть подозрение, что в ограблении замешаны наши доблестные правоохранительные органы.
— Быть может, — устало улыбнулся главный редактор отдела культуры. Но вы понимаете, что все равно оплату времени журналистского расследования вам никто не подпишет. Да и не вытянешь ты на народный детектив. Проще писать надо. А не можешь — тогда короче. Так что ищи новые сенсации.
"Новые сенсации! Новые сенсации… Жизнь мелькает, как картинки в калейдоскопе — разрозненные, невразумительные вспышки чужой жизни. А я… где же моя жизнь? Я — ведь, умираю! Люди!.." — Алина вышла в коридор и снова дошла до курилки.
— Вот смотри, что выбираешь: командировку по зонам и тюрьмам или в Париж? — спрашивал Фома молодого журналиста.
— А что в Париж кого-то посылают? — встрепенулся долговязый парень.
— Слушай, Фома, когда же ты уймешься? Так и хочется прокатить тебя по зонам.
— По эрогенным?! — усмехнулся новичок.
Она заметила, как Фома смутился и, отвернувшись, пробормотал:
— О чем же вы там писать-то будете?
— Об искусстве, — еле сдерживая раздражение, процедила сквозь зубы Алина, думая: "Хоть что-то делать. Хоть чем-то занять себя. Всю! Без остатка! Лишь бы не думать, не думать о себе!"
— Живопись за колючей проволокой, — откликнулся молодой журналист, — А чего, они, наверняка, там чего-то малюют.
— А… да ладно вам, пижоны, — махнул рукой Фома, неожиданно обидевшись на их шуточки, и ушел не докурив.
"Я сейчас сломаюсь! Сломаюсь! Упаду и замолкну навсегда!" — отчаянно пульсировало в ней. Но она шла домой, гордо задрав голову, и даже не спотыкаясь.
— Вот ещё — выдумала! Кто сказал, что у тебя рак?! Кто это тебе сказал?! Да об этом не говорят больным! — Кирилл смотрел на нее, сидевшую перед ним опустив голову. Волосы её бледным каскадом струились и струили несчастье. Он чувствовал, что перед ним надломленное существо, которое из последних сил пытается распрямится, стать той, которая вспыхивала в его снах, мечтах многие годы — чем-то утверждающим, вдохновляющим, вечным. Почему же теперь она вызывала лишь его сожаление?
— Светильник гаснет, и фитиль чадит
уже в потемках. Тоненькая струйка
всплывает к потолку…
— Теперь говорят. Если не веришь, пойди проверь. Врач, кстати, просила тебя зайти… — донесся до него её полушепот.
— Вот и проверю. Что они там тебе наговорили?! Рак ли, рыба — а рубашки должны быть выглажены, — ответил он, думая о том, что она не имеет права — не имеет! — быть слабой, быть хилой, ведь она так нужна ему!
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ ДНЯ.
Этот день, как и все дни их четырехлетней совместной жизни, начался со звонка. Впрочем, и кончался он тем же.
Если у других в едва проснувшиеся мозги вплетались цифры из сводки погоды — погоду Алине и Кириллу подменяли цифры, сообщающие о давлении Любовь Леопольдовны, матери Кирилла. К вечеру, обычно, она не была столь лаконичной, куда подробнее рассказывала о длинных очередях в поликлинике, о том, в каком обследовании ей отказали или, если не выходила из дома, рассказывала, как ей было плохо. "Так плохо, что не то что в магазин, до поликлиники дойти не могла". Заканчивала при этом каким-нибудь новым советом: "Ты проверь, сынок, она выворачивает твои носки с изнанки налицо перед стиркой? Носки надо обязательно выворачивать! Она той же тряпкой, что моет посуду, вытирает со стола?.."
Эти звонки мучительно отзывались в Алине чувством собственной неполноценности и ненужности. Самое ужасное заключалось в том, что Кирилл, вроде бы разумный, уже тридцатилетний мужчина — шел проверять. Он въедливо интересовался бытовыми мелочами, понятия не имея, что и как надо делать. Сам же не делал ничего. При этом лицо его заострялось, и это словно чужое выражение, отталкивало Алину ледяной волной отчуждения. У неё опускались руки. Завтрак подгорал, чай подавался слишком горячим, стирка затягивалась.
А далее продолжалось женское счастье.
— Что это тут у меня? — подбегал он к ней с выражением отчаяния на лице, тыча в прыщик на лбу. — Как ты думаешь, костюм ещё не погиб? подходил он к ней со своим очередным костюмом, при исследовании которого он обнаружил мелкую зацепочку в самом невидном месте…
Он должен был быть всегда в центре её внимания. Если Алина смотрела телевизор — Кирилл обычно садился между ней и экраном, требуя составления плана домашних дел на завтра, списка покупок или рассказывал то, что ему рассказали по телефону приятели, последние сплетни, или то, что происходило с ним за день. Впрочем, он слишком часто брал её с собой. Она несла, обычно, двойной груз совместной жизни — домашние дела, работа телефонного секретаря плюс молчаливое сопровождение мужа. Редко удавалось ей вырвать часы личного времени, позволить вспомнить себе о том, что и она — сама по себе — хоть что-то да представляет. Представляла… Слишком редко.
Н-да… не таким ей казался он до их совместной жизни — внимательным, нежным, с чувством юмора. Впрочем, он и остался внимательным и нежным, но только — по отношению к себе.
"Терпение… терпение… терпение" — повторяла Алина.
"Терпение! Терпение! Терпение!" — вторил ей сонм теней давно замужних женщин.
— Я могу поговорить с моей мамой?! Что ты дергаешься каждый раз, когда она звонит, хватаешься за что не попадя?! Меня раздражают твои суетные движения, пока я говорю. То ты в кухне, то в ванной при стирке!.. Сиди напротив и не рыпайся.
— Мне осталось жить не больше года…
— Я это каждый день по телефону слышу. Я тоже себя плохо чувствую — у меня отнимается рука. Посмотри, какие у меня проступили темные круги под глазами?! — и уже тише, уже рассеянно боязно:
— Как ты думаешь, это точно сердце? Может быть, я перенес инфаркт на ногах?! Надо тоже пойти провериться… Кстати, почему ты вчера так поздно вернулась, я же посадил тебя на такси?!
Сама же Алина никогда не спрашивала мужа, почему он так поздно приходит последнее время, с тех пор как она начала проходит обследование в онкоцентре… Ей казалось унизительным допытываться правды, чтобы получать на неё откровенное вранье. Но подруги!.. Измученная ревностью к своему мужу Сергею, Наталья часами рассказывала ей об успехах своей тайной слежки:
— Представляешь, девять вечера, его нет. А сказал, что будет в семь. Решилась зайти к нему в офис. Но прежде чем постучать в дверь, заглянула в окно. Они там сидят… С бутылкой дорогого вина… А его нет. А потом пришел и сказал, что был на работе.
— А кто же тогда там сидел? — не хотела спрашивать, но все же спросила Алина. Их мужья работали вместе.
— Тебе я, думаю… надо знать. За этими мужиками — только глаз да глаз. Не уследишь, глядишь, уже другая увела…
"Я мечтала о морях и кораллах,
Я хотела суп поесть черепаший.
Я шагнула на корабль, а кораблик,
Оказался из газеты вчерашней…" — пела по радио Новелла Матвеева. Алина поморщилась. Невыносимо было слышать сейчас этот слабый голос, отголосок инфантильной былой романтики, а ведь раньше её вполне удовлетворяла эта песня. Выключив приемник, продолжала слушать Натальин скоростной монолог.
— …Я не знаю ни одной проститутки больше, чем мужики. На каждом шагу продают. А вы столько прожили вместе… В общем, он там с этой… Ну… с секретаршей своей, Жанной. Сидят, пьют в обнимочку и яблоками закусывают.
— Но он терпеть не может яблок!
— Вот и я говорю: держи, мужика, мать! Мой говорил, что она ему письма пишет каждый день, если твой на объектах.
— Зачем? У него же есть мобильный телефон?
— А ты чего не понимаешь?
— Нет.
— Наверняка, чтобы ты случайно обнаружила. Подтачивает ваш союз, как вода, что камень точит.
— Но он же, как шпион — такой аккуратный! Да и не буду я читать то, что написано в записках к нему, даже если они на столе валяются.
— Я, конечно, понимаю твою тактичность. Но я бы это дело так не оставила.
Алина смотрела на мужа с немым вопросом.
— И сдалась она тебе… Нашла к кому ревновать — ворчал он в ответ, взглядом в упор, укоряя её совесть. — У меня дел — сизифов труд.
— Все — сизифов труд! Вся жизнь наша — сизифов труд! Оттого кончается либо немощной старостью и смертью, либо смертью ни с того ни с сего. Пора бы это понять. Я же не могу блуждать по жизни, просто ожидая своего конца, лишь оттого, что нет мне спасения. Надо же что-то делать!
ГЛАВА 4
— Завтра начнем проводить предоперационное обследование. А пока располагайтесь, — сказала медицинская сестра и вышла из её одноместной палаты.
Алина села на кровать и впала в оцепенение. Помпезный холл онкологического центра с огромным строгим гобеленом и огромным, каменным пространством застыл в её глазах, как реквием запечатленный. И холод, пробирающий до мозга костей, излучаемый все всем вокруг.
Неожиданно дверь в бокс раскрылась, и на Алину, медленно надвигаясь, пошло, пошло угловатое чудовище. Алина инстинктивно отпрянула, но тут мозг её проснулся, она увидела крепко сложенную женщину со шрамами, обезображивающим её лицо. У женщины в руках была швабра и ведро. "Уборщица… нянька" — поняла Алина и, успокоившись, и стараясь не выдать ужаса, произведенного её внешним видом, дабы не оскорбить, молча следила за движениями няньки. Та деловито поставила ведро в угол и, опершись на швабру, словно старуха на клюку, уставилась на Алину. Было странно оттого, что она пришла и не собирается убирать. В тоже время было непонятно, зачем она со шваброй в и без того стерильном помещении.
— Прозрачная, — после чересчур долго выдержанной паузы произнесла нянька. Довольная точностью своего определения, улыбнулась располосованной щелью рта:
— Молоденькая совсем. А куда себя загнала?
— Как куда?.. — растерянно оглянулась Алина. — Вот сюда… в больницу.
— Не в больницу, а в тупик, — взгляд няньки полоснул пронзительной жестокостью. — Как зовут?
— Аля… а вас?
— Надеждой меня зовут — Надей.
— Надей, наверное, неудобно. Тятя Надя?..
— Какая я тебе тетя? — недовольно пробурчала Надежда и деловито оглянулась по сторонам. — Мне всего-то, считай, сорок.
Алина подумала о том, что шрам на её лице, быть может, делает её гораздо старше, чем она есть. К тому же, нянечка не обладала тем самым русско-народным говором, коим обычно обладают пожилые женщины, моющие полы в подобных заведениях. И ей стало неловко за свою бестактность.
А нянечка Надя, тем временем, приподняла матрац постели Алины и пошарила под ним.
— Ничего, — удовлетворенно сказала она. — А то тут один придумал: двустволку под кроватью держал.
— Зачем? — Алина смотрела на няню Надю, как на потустороннее существо. На неё накатывали сомнения — а не сон ли все это. Слишком странной была её собеседница.
— А… — отмахнулась нянька. — Все обещал: вот боли начнутся застрелюсь.
— Застрелился?
— Куда там. Облучили и выпустили. Совсем он в своей жизни запутался… а ты?
— Что я?
— Не понимаю — палата дорогая, значит — муж богатый. Значит, живешь хорошо, не как все… Почему жизнь свою не любишь?
— Я?! Да откуда вы взяли, что не люблю?! — возмутилась Алина, с удивлением обнаружив, что и запястья нянечки, обнажившиеся из-под раструбов резиновых перчаток в красных рубцах от рваных ран.
— Любила бы — здесь не оказалась, — деловито ответила та и присела на стул напротив. — Куришь?
Алина, ожидая длительной лекции в ответ о вреде курения, вздохнув, кивнула.
— Давай, доставай свои — покурим.
Ошарашенная Алина вынула сигареты из сумочки.
Нянечка Надя открыла форточку и закурила, даже не обратив внимания на дорогих сигарет.
— А причем здесь… то, что вы сказали?
— То есть, что жизнь свою не любишь? Да не бывает так, чтоб все хорошо, а ты от рака умираешь. Мне медицина все что угодно твердить может, а я не верю!
— А те, кто из Чернобыля?
— Кто из Чернобыля не уезжал, до сих пор живут. А те, кто туда добровольцами ехали — что-то не то у них в жизни было. Жить им тогда не хотелось. Вот и согласились. Впрочем, это все равно из другого ряда. Там видно — нарушили мы некую миросозидательную гармонию — вот и рухнуло все сразу, сметая всех — виноватых и невиновных, за то, что вообще были рядом. Значит, причастны. А ты у нас, как я понимаю, в Чернобыле не была.
— А дети? Я видела здесь детское отделение! Это кошмар!
— Дети… это тоже другая статья. Это от равнодушия. Животного равнодушия родителей — плевать им, куда детей рожать. И знать ничего не хотят. Вот, один буддистский гуру к нам приезжал, говорил: самый страшный грех — незнание, а страшнее — нежелание знания. А эти — не то что за себя, за будущее свое знать ничего не хотели. Значит, не любили. Не их, не себя. Или, к примеру — мать сомневается: рожать — не рожать… Или все вокруг её любовь, что должна концентриваться на будущем ребенке, на себя перетягивают — и муж, и родственники, и политическая обстановочка… а она и реагирует, ребенку любви не хватает — какой он выйдет? Скорее всего — с программой самоуничтожения.
— Жестоко вы рассуждаете, — покачала головой Алина.
— Жестоко. Не жестоко, а требовательно. Ладно, я покурила. Дальше пойду. Нравятся мне боксы эти коммерческие — покурить можно, побеседовать. Условия у тебя отличные. Одиноко, но зато спокойно. Вот ты полежи здесь, пока тебя не трогают, полежи и подумай — отчего свою жизнь не любишь.
— Да люблю я ее!
— Значит, выхода из создавшейся обстановочки не видишь. А знаешь, как тут было лет десять назад? Я, правда, не видела, другая работа у меня тогда была, но рассказывают: встретились здесь двое — он и она. У неё — рак груди, ей сорок пять, а у него — рак горла, ему всего тридцать шесть было. Встретились и полюбили друг друга. Здесь. Прямо здесь. Пока к операциям своим готовились — роман крутили. Крутили, крутили и сбежали. Но не просто из предоперационных палат, из жизней своих.
— То есть как? — удивилась Алина. Ей казалось, что это мистическое чудовище чего-то добивается от неё — бестолковой. И от этого Алина с усиленным вниманием слушала её. Нянечка Надя не производила впечатления простой сплетницы, и продолжала говорить на глазах превращаясь в чудовищную, но все-таки Надежду:
— А вот так — убежали из своих семей, из своих домов, из Москвы из того, что было в сути не их, а оттого и опостылело. Уехали в Душанбе, поселились в предгорье. Полностью перешли на сыроеденье. Она была воспитательница — стала танцовщицей. Представляешь — в сорок пять танцовщицей! Это когда другие со сцены сходят. Правда, танцы у неё были какие-то особенные, да дело не в этом. Он, правда, как был музыкантом, так и остался. С нашим врачом до последних событий тамошних связь поддерживали. Теперь куда-то в Европу подались. И ничего. Говорят, горные лыжи освоили.
— Так, значит, все дело в питании?
— Эх ты!.. — смачно вкрутив окурок своей второй сигареты в блюдце, приспособленное вместо пепельницы, Надежда резко встала и ушла.
"Значит, выхода из создавшейся обстановочки не видишь", — вдруг прорвались слова Надежды в сон Алины. Засыпала она в полном смятении. Слишком много было визуальных впечатлений от того здания, похожего на вытесненный землей на поверхность бункер, в которое она сдалась. Слишком много ощущений от его коридоров, приемной, палат, больных, встречавшихся на пути к её боксу… слишком много. А тут ещё эта странная, угловатая, обезображенная шрамами женщина!.. Ее слова. "Как много, я чувствую, она сказала за короткое время, — думала Алина. — Много, только я что-то не поняла… не поняла… Надо подумать… подумать… ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ДНЕЙ!"
Одиноко Жанна брела по сумеречной улице сквозь мелко моросящий дождь и понимала, что любит Кирилла. "Конечно, люблю!" — повторяла она самой себе. Вспоминая свое оскорбленное самолюбие, когда он обнимал её во времена застолий, а потом делал вид, что не замечал. Не замечал, даже получая её ежедневные записочки. "Никогда не целуйся с плохими женщинами" — было написано в одной. "Никогда не живи с нелюбимыми!" — писала она в другой. Он не отвечал. Даже оставаясь с ней вдвоем, он никогда ничего толком не говорил. Но манил! Манил и заманивал. Он не был простым "Новым русским", героем анекдотов, он был образован, умен, одевался со вкусом. Красивый, крепкий, импозантный, хотя и чуть сутулый от тяжелой семейной жизни, оттого и кажущийся умудренным не по годам, будь она замужем за таким — жила бы как за каменной стеной. Романтизированный ею его образ всюду сопровождал её.
Она не могла отделаться от него. Да и зачем?! Он был ей нужен! Нужен! Она это точно знала. Она не представляла своей дальнейшей жизни без него. Он постоянно был с ней. Но чем острее она ощущала его присутствие во всем, тем острее чувствовала свое одиночество. И беззащитность. "Парней так много холостых, а я люблю женатого…" — печально крутилось в её аккуратно причесанной головке. Словно стряхивая с себя эту привязавшуюся песню, она передергивала плечами, и гордо шла сквозь непогоду на свидание со своим приятелем с Арбата — Николаем.
Карагоз, представлявшийся особам женского пола Николаем, специально пригласил на встречу с человеком от заказчика эту мелкую, всю какую-то рассеянную и растерянную брюнеточку. С блондинкой он бы слишком привлекал внимание. Без женщины же — встреча прошла бы куда сложней: какой-нибудь пьяный мог подсесть за стол и начать брататься. Мог… к тому же оказаться хвостом… Да и вообще встреча двух мужчин всегда привлекает к себе особое внимание. Люди начинают думать либо "голубые", либо начинают невольно прислушиваться к деловому разговору, думая, что таким образом обнаружат новый источник заработка.
Впрочем, о том, что этот Минькин не раскололся, Карагоз узнал, из сообщения по телевизору: "Милиционер, охранявший музей, на включившуюся сигнализацию не среагировал, решив, что она заработала случайно, из-за изношенности. Милиция извинилась за досадное происшествие перед работниками музея, видимо не подозревая о том, что скрипка великого мастера Страдивари на любом достойном аукционе стоит до миллиона долларов. В тот же день стороживший музей сотрудник милиции был уволен. Не понятно, кто же несет ответственность за происшествие?.."
"До миллиона долларов!.. До миллиона долларов!" — кружилась голова у вора. За всю его жизнь это была его самая яркая удача. Этим можно было гордиться до конца своей жизни. Но обещанные изначально пятнадцать тысяч, теперь не радовали. "Облажался! — кричал он сам на себя, про себя. Облажался! Надо было по достоинству заломить! По понятиям!" Но дело было сделано. Скрипка ушла к клиенту в ту же ночь. Осталось забрать договоренную сумму.
Представитель клиента молча, с одутловато-брюзгливым выражением лица, жевал предложенные Карагозом блюда из морских чудищ и недоверчиво щурился на пытающуюся быть изо всех сил хорошо воспитанной и милой девушкой Жанну. Как бы между делом, к принесенному кофе — сказал:
— Шеф проверил фирму — это не фирма, — сделал он ударение на последнем слоге, как бывший валютчик.
— Что вы имеете в виду? — пораженный Карагоз застыл. Видно было, как смертельная бледность медленно наплывает на его загорелое лицо.
— Цена этой штуки не больше аванса.
— Вы что… Челноки что ли?.. На фирме, то есть лейбле, облажались? участливо спросила Жанна и, не получив ответа от гипнотизирующих друг друга мужчин, продолжила:
— Да, сейчас много подделок. Особенно в Польше. А про узкоглазых я вообще молчу. Написано: маде ин Париж, и покрой вроде бы ничего, а материал ну ни куда! Вот я недавно купила такой летний пиджачок — недели не прошло, весь пошел катушками. Это даже не сатин какой-нибудь, это… черт знает что! А купила — как супердорогую модель.
— Н-да… — снисходительно кивнул собеседник. — В таких вещах толк знать надо. Иначе все без толку. Либо — кто-то был предупрежден, и подменил начинку… Фирма, одним словом, не та. Придется аванс отрабатывать заново. И знай, такие шутки с нашим братом не проходят
— Так это… — Карагоз еле-еле шевелил онемевшими губами, подбирая слово, — так это не… Парше?!
— Гонялись за Парше, поймали Запорожец, — мрачно пробурчал в складки подбородка посредник.
— Ну и пьяная у вас была компания! — ничего не понимая, удивленно покачала головою Жанна.
— Не забудьте забрать посылку в гардеробе от своего дяди из Урюпинска. Ну и лапоть же он у вас. Приятно провести вечер.
Когда Карагоз вернулся в снимаемую им квартиру, не раздеваясь, вошел в комнату и, положив на диван коробку из-под двух кассетного магнитофона, тут же открыл её. В коробке лежала скрипка. Это была та самая скрипка. По какому-то необъяснимому, нанесенным дуновением времени налету, он понял, что это она. Клиент не врал. "Клиент всегда прав" — пронеслась магазинная фраза в его голове, и он, обхватив голову руками, покатился на пол, содрогаясь в немом саркастическом смехе. Было от чего сойти с ума. Он произвел кражу века, но в реальности — кражи не произошло.
Он предстанет перед судом за скрипку Страдивари, в обнимку со скрипкой какого-то неказистого "урюпинского" мастерового.
На дне коробки зияла записка с адресом, планом квартиры. Карагоз заметил её.
На обратной стороне было написано: "Полная коллекция орденов и медалей России до 1917 года".
Страдивари! Страдивари! — хрипел Карагоз.
ГЛАВА 5
— Я уезжаю в командировку в Питер. А ты…
"…Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?.."
— Прекрати! Я устала от твоего Бродского! Ты можешь говорить не стихами?! Ведь я…
— А я угадал, что тебе хотелось виноградного сока? Я чего-то плохо себя чувствую, — выпаливал Кирилл фразы одну за другой и не мог смотреть в глаза жене. Он ерзал на стуле и оглядывался по сторонам. — У тебя есть термометр? Тебе приносят?! Я же заплатил! Вот нищета — экономят на мелочах! Что тебе принести в следующий раз? Кажется, я неплохо загрузил тебе холодильник — на неделю хватит. Хватит, да? Ты рада?
Все это время молчавшая, Алина кивнула. Он почувствовал себя спокойнее и продолжал:
— А может, хватит лежать-то? Напугала, отдохнула и… домой пора. Я на кухне все сам убрал, посуду помыл. Клеенку новую на стол купил. Приедешь посмотришь. Я думаю — тебе понравиться. В ванной кафель выдраил. Никаких женщин, чтоб сантехнику помыли, не приглашал.
— Надо же? — только покачала она головой.
— А что? Я все могу. Только ты это… кончай скорее свою эпопею. Вот и мама в больницу лечь собирается. Как я между вашими больницами буду разрываться? Ты б меня пожалела. Скорую вчера вызывала, но не увезли. Немеет у неё тело. Вот и у меня тоже — рука немеет…
"Немеет! А! А! Рука немеет!" — вспыхнул в её воспоминании его крик. И ясной картиной встала перед глазами та странная сцена. Он тряс левой рукой, носился по комнате, кричал, что рука его немеет, что вся левая сторона немеет. "Пошло к плечу! Пошло к шее! К шее! — вопил он и крутил головой. Упал на диван, брыкая ногами, — Нос! Нос! Немеет нос! А!.. А-а! Паралич! Сделай что-нибудь! Сделай же!.."
Она, обессиленная зрелищем, схватила его за руку и повела в ванну. Несмотря на объявленный паралич, он послушно пошел за ней. Алина поставила его в ванну, объявив о том, что сейчас ему поможет только контрастный душ и, резко меняя воду с ледяной на горячую — поливала его. Он танцевал перед ней, как ребенок перед ремнем. Но зазвонил телефон, он взял трубку и тут же надолго забыл о своем внезапном приступе, слушая сплетни приятеля Ваньки.
С каждым годом все чаще и чаще ей приходилось наблюдать подобные сцены. Симптомы с удивительной изощренностью менялись. К врачу он идти не хотел — некогда. Когда она спросила знакомого врача о том, что значат такие странные ощущения, врач ответил, что в первую очередь в таких случаях надо лечить матку. Но не было у него этого органа! Не было! Что же это?..
— Истерия, — спокойно ответил врач.
Быть может от этого, почувствовав тяжесть в груди, она не прыгая, не вопя, не жалуясь — молча пошла к врачу. Самостоятельно сдалась на обследование. А он так и не понял, не понял серьезность того, что с ней происходит на самом деле.
Он ушел.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ДНЕЙ.
Что же случилось, что?! Что загнало её в тупик? Из какой такой "обстановочки" не может она найти выход, подсознательно идя на самоуничтожение?
Закат. Они сидят на берегу пруда. Они давно знали друг друга. Они искали все эти годы самих себя, но отражались в чужих, а оттого в кривых, зеркалах. Она видит — что он счастлив. Они впервые повернулись друг к другу лицами.
Что тогда произошло?.. Почему?.. Ей совершенно неинтересно. Произошло нечто и все. Жизнь её не то что бы поменяла направление. Жизнь её обрела некий свет. Нет, не тот свет, который в конце туннеля. Свет мягкий, добрый ежедневный.
Но слишком много было слов, которые заставляли тратить её свою энергию на бессмысленные оправдания перед знакомыми после их брака — доказывать, что может заработать себе на жизнь, при этом стараться быть архаической женой при кухне и при стирке. И слушать странные умозаключения то о том, что она его за деньги полюбила, то о том, что такие женщины, как она вообще любить не могут. — она была плохой домашней хозяйкой, то наоборот, слушала о том, что женщина, занимающаяся домом, превращается в тупое механическое животное… Они регулярно сбегали от удручающего быта, от засасывающих приятельских взаимоотношений в зарубежные поездки — глотнуть воздуха свободы от чужих суждений… Ходили вместе в баню, рестораны, играли в бильярд. Им было вместе просто хорошо. Хорошо же! Но отчего иногда ей думалось о том, что любовь — самое трудное, ответственное творчество.
Ему-то что — он был, любим всегда. Любим животно, страстно, сам того не понимая с самого детства. Он был высшей ставкой в своей семье.
А ведь ничто в их первые романтические месяцы не предвещало — той тайной мины, какой сработает слепая материнская любовь в их совместной жизни. Постепенно требования избалованного сынка к матери перешли на жену. Так незаметно, что теперь она уже не могла вспомнить того дня, когда её собственная жизнь в их, вопреки всем, совместно созданном раю, стала ей поперек горла.
С чего все началось? С того момента, когда они поняли, что им пора снимать квартиру? Бежать от родственников? Он не мог жить с её младшим братом. Она не могла жить с его матерью. Они сняли квартиру надолго. Но, все-таки — это было не их собственное жилье. Все посмотрели на это как на легкое путешествие, в якобы, семейную жизнь, но жизнь ненастоящую. Но какое им дело до всех.
Какое дело до внешнего. Но тайные течения все равно прорывались в их интимные отношения. Властная, заполнившая всю свою жизнь жизнью сына, мать Кирилла не могла смириться с тем, что её сынка увели. Причем, это слово "увели" — она произносила так, словно увели мужа от жены с тремя детьми.
Тот недолгий период жизни с ней запомнился Алине сплошным ощущением кошмарного удивления. Ей казалось, что она передвигалась тенью по квартире Любовь Леопольдовны. Тенью с огромными глазами, которую можно пройти насквозь. Чем занималась Любовь Леопольдовна — было для Алины загадкой. Впрочем, в дневное время Любовь Леопольдовна, с видом невероятного переутомления от домашних хлопот, сидела в кресле и смотрела телесериалы, читала газеты. В свободное от этих занятий время следила за Алиной: как закрыла кран, как включила плиту, почему взяла без спросу книгу, которая принадлежит Кириллу, отчего надо смирно сидеть и ждать когда он появится, чтобы получить его разрешение. Вечерами же и по утрам — выходила в ночной рубашке с зияющими, сквозь сексуально расставленные дыры, телесами. Звала сына поставить клизму…
Алина этого видеть не могла. Она сразу поняла: если они не уберутся из этого дома — Кирилл пропал! Пропал, как всякий сын, подвергающийся не явному, но психологическому инцесту.
Говорит об этом открыто с ним — было невозможно — он раздражался. Он начинал кричать. Он избегал подобных разборок. Одно хорошо — уехали.
Уехали — и тут она попалась. Мало того, что очень скоро она поняла: для содержания такого мужа требуется целый комбинат бытовых услуг. Время, которое она пыталась отводить для себя, не то что для себя, а для того, чтобы ему же было интересно с ней — то есть, для расширения своего кругозора, своей профессиональной деятельности и роста — изо дня в день уменьшалось, как шагреневая кожа. "Мне плевать, на твои успехи, где-то там, — откровенно говорил Кирилл жене, — Главное, чтобы рубашки были выглажены в срок". Он мог покупать эти рубашки каждый день. Но ему же было плевать…
Ему было плевать не только на её успехи. Но и на неудачи тоже. Он просто не понимал, что может быть в её жизни вне его. Но при этом отдыхать предпочитал вместе с ней. Отдыхать он любил. Сделав деньги на очередном предприятии, сразу думал только об отдыхе. Работая по времени не особо много, чуть ли не каждый день должен был поотдыхать. Выражалось это в шумном походе в компании друзей в очередное развлекательное приключение или заведение. Анна понимала, что эта манера выработалась у него давно. Так он сбегал из дома от слишком усердной опеки мамочки. Понимала — и ходила с ним, как на работу — отдыхать… Ходила — и тоскливо было от постоянной обессмысленной траты времени. Но это ещё — куда ни шло.
Едва его мать осталась одна, не зная, чем привлечь к себе внимание сына, не зная, чем заполнить свою жизнь, эта вечная домашняя хозяйка превратилась в профессиональную больную. Болезнями она достала не только родных и близких, но и врачей. Пришлось перейти на индивидуальное платное обслуживание.
Алина чувствовала, что не в праве судить эту женщину так распорядившуюся своей жизнью. Женщину, обуреваемую страхом не то чтобы одиночества, а собственной ненужности и неспособности к самостоятельной жизни. С ужасом она думала, что и её ждет такая же участь, так как модель своей семьи, родовому отношению к женщине Кирилл — переносил на их интимные взаимоотношения. Время было уже не то, и патриархальные традиции превращались в капкан, плавно переходя в удавку на шее.
Алина сопротивлялась изо всех сил, заглядывая в редакции, на выставки, встречаясь со старыми подругами, но… сил не хватало. Круг смыкался, превращаясь точку. Перетягивая на себя все её внимание, он стал действовать в стиле своей матери, — мужчина в девяносто девять килограммов на глазах превращался в капризного трехлетку, вокруг случайных шишек, которого должен закручиваться полный переполох.
Можно было, конечно, бросить его и уйти. Она это и делала иногда убегала к брату. Но возвращалась, чувствуя — что отправилась в этот путь, в брак, без обратного билета. Что-то не давало ей оторваться полностью от него… Быть может, нежность?.. Но все меньше и меньше было её в их взаимоотношениях…
— Ну, что?.. Ты все ещё считаешь, что я жестока? — нянечка Надежда опять явилась неожиданно.
— Нет. Спасибо. Я, кажется, поняла — о чем вы. Но я действительно не понимаю, как изменить свою жизнь. Внешне у других, даже у мужчин, она вызывает зависть… Я люблю своего мужа. Все равно люблю.
— А себя? — в тусклом свете от настольной лампы ужасающего лица Надежды почти не было видно. Но глаза! Магические кристаллы впились в Алину, своими лучами считывая информацию.
— Знаешь, по Кастанеде, — продолжила Надежда после небольшой паузы, такие сущности называются хищниками. Они подбрасывают людям, входящим с ними в контакт, бессмысленные проблемы, таким образом, провоцируют вспышки эмоциональной рефлексии и пожирают выделяющуюся энергию безжалостно и жадно.
— Так написано у Кастанеды? — Алине казалось, что рот её не закрывается от удивления. Про Кастанеду она могла услышать от рокеров, байкеров, хиппи, панков — от молодежи, в крайнем случае, от авангардных художников и музыкантов, но чтобы от уборщицы!.. От какой-то нянечки?!.. В таком безнадежном заведении?! "Какая же у нас, не смотря ни на что, странная страна!" — Алина переходила в своих мыслях от частного к глобальному, — "Если даже уборщица!.. Я не удивлюсь, если она начнет мне цитировать… кого бы вспомнить?.."
— Да что там Кастанеда. Тоже мне — первооткрыватель, — обезображенная щель рта Надежды изобразила нечто вроде презрительной улыбки. Обыкновенный эпигон. У нас издревле его пресловутые "хищники" назывались лярвами. Какая разница, как ни назови, они методично делают нас никчемными. Я была одна из первых каратисток в России…
Алина замерла. Наконец-то Надежда заговорила о себе, хоть как-то поясняя тайну своей жизни. Но едва замерла Алина, Надежда вынула из своего кармана "Беломорканал" и, закурив, впала в долгую паузу. Потом заговорила совсем о другом:
— Как тебе здесь? По ночам запираешься? Эти… тени уже приходили?
— Да, — печально усмехнулась Алина.
Они действительно казались ей тенями, потому что она не видела их. Тени обладали мужскими голосами. "Открой!.. Поговори со мною!.. Зачем ты такая… Я же скоро умру!.." — ныло под дверью то одно, то другое существо. Умирающая человеческая сущность. "Я тоже умру" — думала Анна и не открывала. Ей была противна даже мысль о случайном любовном приключении. Сексуальная распущенность была не свойственна ей
— Это тоже эти… лярвы? — спросила Алина.
— А как же. Они привыкли, что их кто-то должен любить. А когда никого вдруг не стало, они не смогли сами трансформировать свою жизненную энергию в любовь, хотя бы в любовь к самим себе. И энергия поменяла направление на самоуничтожение объекта.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА СОРОК ДЕВЯТЬ ДНЕЙ.
— Вот крем тебе привез. Из Питера. Самый дорогой. — Кирилл сидел напротив, с нежностью во взоре разглядывая Алину. С плечика сполз халат. Он протянулся и поцеловал её в плечико. — Выходи скорее отсюда. Сделай, чего положено, и выходи. Я совсем замучился. Пока меня в Москве не было, мама слегла в больницу — двигаться не может. Кажется — паралич. Что ж это вы у меня все разболелись. Я тут ультразвуком печень проверил — увеличена. Говорят, что не страшно, но увеличена!
"С чего это он подарил мне крем?.. Может, я выгляжу плохо?.. Он никогда мне не дарил ничего из косметики, разве что дезодоранты. На косметику мне надо было выпрашивать у него деньги чуть ли не месяцами и со слезами, а тут крем… Да еще, как говорит, самый дорогой…" — машинально Алина открыла баночку с кремом, мазнула им лоб и настроение её тут же испортилось. Крем был для жирной кожи. "И это — пока я в больнице — он развлекался в Питере с какой-то жирнокожей, наверняка прыщавой!.." — мысль ослепила её, и она уже не могла далее нежным взглядом смотреть на мужа.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА СОРОК ВОСЕМЬ ДНЕЙ
— Сереж, объясни мне, — звонила Алина их общему приятелю, мужу своей подруги, — только честно, что за роман, у моего мужа? — как могла спокойнее спросила она.
И пришлось ей долго выслушивать нечленораздельные междометия и клясться, что не выдаст.
— … послушай, а ты что — правда, больна?
— Откуда ты взял? — спросила, словно саму себя полоснула ножом.
— Да он тут ей такую легенду прописал. Мол, тяжело ему жить одинокому, жена вот-вот помрет. А она, эта Жанна, его жалеет — сама мне говорила. Я в душе хохотал. Ну… думаю, дает! Только противно как-то, я же тебя знаю. Такие шуточки слишком мрачны.
— Господи… так спекулировать!..
— Нет, это, мать, называется не спекуляция. Это называется — лапшу на уши вешать. В одном могу поздравить. Ты же знаешь, что все это значит.
— Что?
— Такая байка у нас, у мужиков, первый признак. Очень распространенная штука. Мол, люблю, целую, да вот жена больна, уйти не могу. Так удобней. Как бы заранее подготовлены отступные позиции. А потом он изобразит скорбь на своем лице, муки совести. И бросит её как миленькую. Она дурочка, что верит. Так что будь спокойна. Пройдет. Не стоит она того, чтобы волноваться.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА СОРОК СЕМЬ ДНЕЙ
— А где у тебя опухоль? — безо всяких приветствий, сразу с порога спросила нянечка, бывшая каратистка.
— В груди. Что со мною делать будут?
— А ничего, грудь отрежут и выпустят.
— Как? Одну грудь?!
— Обе. На всякий случай. Это ерунда. Переживешь. У меня, вообще, никогда груди не было. Нулевой номер, да и тот велик.
— Но я же…
— Я тоже была замужем. Муж у меня был с черным поясом по карате. Дело не в этом. Причину ищи. Это же знаешь что?..
— Что? — голос Алины не звучал, она буквально выдохнула свой вопрос.
— Болезнь монашек. В монастырях чаще всего от этого женщины умирают.
— О нет! — вскинулась Алина, почувствовав, как в мозгу разливается алое пятно. — Я могу отсюда выйти?! Я вообще, не хочу больше!
— А как же, — усмехнулась щель рта Надежды, — Пора наверстывать.
— Нет. Просто у меня ещё есть недоделанные дела.
— Да-да. Понимаю. А кто тебе мешает отсюда выйти? Гулять не запрещено. Сходила на процедуры с утра и гуляй до ночи. Многие так и живут. Даже не ночуют. Главное — к утренним процедурам успеть. А если припозднишься — дай мелочь сторожу у черного входа, он тебе и откроет.
ГЛАВА 6
Алина сидела в подвальном кафе — небольшом, полутемном, уютном помещении с сомнительной славой. В том самом, где обычно собирались репортеры.
Текущих событий репортеры не обсуждали. Они отдыхали от беспрерывной текучки. Здесь текли алкогольные реки. И обычно точные мастера лаконичного жанра, оказавшись в этом подвальчике, выражались невнятно.
Длинный стол, перепутанные свои ли, чужие стаканы, бутылки из-под или с — водкой, пивом, вином всех градусов и мыслимых классов.
Алина подошла к стойке бара, заказала чашечку кофе, нарезку испанской сырокопченой колбасы, бутылку красного "Бордо", потом оглянулась, заказала ещё одну. Здесь было не принято брать только на себя. Столов было мало. Знакомые и незнакомые делили общее застолье.
Она села за длинный стол, кивнула знакомым лицам, закурила и впала в прострацию. Словно сквозь аквариумное стекло следила она за давно привычными движениями и передвижениями пьющих собратьев. Они казались хаотичными, но, как ни странно, из года в год все повторяется с невероятной точностью. За три часа до закрытия можно предсказать — кончится ли это пьяное дело всеобщей любовью: обниманиями, лобызаниями при прощании, разойдутся ли — сухо пожимая друг другу руки, или все окончится мордобоем, в результате которого никто особо не пострадает и никто ни на кого не обидится.
Фразы, долетавшие до её слуха, тоже казались, бессмысленно сумбурны: "… во — я как вчера… академик Пивчинский?.. Нее… я только живопись Петрова-Водкина — потребляю… с Сухово-Кобылина изжога не мучает?.."
— Ребят, кто-нибудь знает, нашли ли скрипку Страдивари? — прорезала гул голосов Алина, обращаясь сразу ко всем.
— О, Алечка! Дорогая! А я думал, что ты уже того… умерла или в Америку уехала. Расслабься! Налейте Але!
— Алинка! Какое редкое явление! А все о деле! Ты же, говорят, замужем за миллионером. Оно тебе надо?..
— Народ, поднимаю свой стакан за нашу Алечку. Я всегда был влюблен в нее. Когда она лет… этак сто назад, появилась в нашей редакции, я онемел и…
— Да ладно сто, Алинушка с тех пор ни капли не изменилась.
— Но вечность прошла, други. Целая вечность.
— Слушай, — женский голос прорвал мужские басы, — а чего это ты к Альке привязался. Ты и впрямь теперь издатель? И впрямь?! Ценный ты теперь парень, Миша. Знаешь, как я тебя любить буду…
Алина усмехнулась, взглянув на клеящуюся Ольгу. Дикая жалость к этой, вечно метущейся от мужчины к мужчине, знакомой пронзила её. И поняла, что жалость эта появилась в ней — лишь благодаря чувству присутствия собственной смерти. Всех, абсолютно всех, ей было жалко. И спивающегося бывшего номенклатурного работника, и клюющего носом, но упрямо приподнимающегося и тут же вскидывающего по-птичьи голову бывшего цензора, который, едва заговорит — всех превратит ни во что, и при этом, оставаясь в курсе всего, безо всякого сомнения ощутит, что он всегда прав. Жалко было и Вадика — студента филфака, третий год не способного сдать английский за третий курс, но при этом — подрабатывавшего на радио в Лондоне. Жалко было удачливых — оттого, что они не осознают — насколько временны их удачи. И неудачливых тоже. А Ольгу в особенности.
Она писала эротические эссе для "СПИД-ИНФОРМ" и других желтых газетенок. Она преуспела в эротическом языке, но не преуспела в личной жизни — выбирая мужчин способных публиковать её работы, но не способных любить. Быстро исчерпывала их способности, кидалась на новых. Кидалась искренне, никогда не пудря мозги — ты мне публикации, я тебе — школу эротики, но этих, новых, становилось все меньше и меньше. Все, как к человеку, относились к ней по-приятельски ровно, но, как от женщины, все чаще и чаще шарахались. Вот и Миша на этот раз… Слушая её нашептывания, он краснел, встретившись взглядом с кем-либо, тихо отстранялся, тряс поповской бородой: мол, вот, дает. — Но все же сидел рядом. С другой стороны, подыгрывая Ольгиному эротическому террору, его плотно держала под руку Томка и, пока говорила одна, то в щечку, то в ушко — целовала другая.
"Можно подумать, что я в публичном доме". — Подумала Алина. Но подумала без тени брезгливости, так… отметила с печалью. Она бывала в этом кафе не чаще, чем раз в полгода, но видела всегда одно и тоже. И знала — ничем особенным такие игры не кончаются: поиграются и разойдутся по домам. В крайнем случае, завяжется какой-нибудь кратковременный роман. Только — не благодаря подобной игре. Люди, которые столько всего видели, не способны воспринимать подобную реальность всерьез — реакции нет — все подменили мастерски составленные фразы. Сексуальности нет — одни слава о сексе. Но её кольнуло, когда на мгновение вынырнув из женских тисканий, Миша сказал:
— Да что вы, ей богу, замучили, девчонки! Я, может быть, Алю люблю.
Кольнуло её остро, не льстиво, оскорбительно. "Что же это за любовь такая! — возмутилась про себя Алина, много лет подозревая, какие чувства испытывает к ней Михаил. — Да что же это за любовь, когда твоя любимая — то падает, то умирает, то разбивается в новом порыве на журналисткой стезе, и кто угодно подаст ей руку, кроме тебя, любящего! И вот сейчас! Сейчас! Когда мне так… так панически страшно, когда держусь из последних сил, ты даже не чувствуешь… продолжаешь, так просто играть словами… "ах, я Алю люблю!.." — Сволочь!" — ели сдержала свое возмущение Алина. Встала из-за стола. Произнесла вполоборота, не выпуская Михаила из виду:
— Ладно. Всем привет. Я пошла.
— Подожди, — встрепенулся он и, встав, тут же освободился от женщин, Мне тоже пора. Я тебя провожу.
— Тебе куда? — спросил он её уже на улице.
— На Каширку.
— Ты вроде не там живешь.
— Теперь там. Вечер теплый. Давай, прогуляемся до дальнего метро.
Они вышли на Бульварное кольцо. Осенние, полупрозрачные кроны деревьев плели мистические кружева над их головами, бледный свет фонарей едва освещал дорожку. Под ногами шуршала листва.
— Эти девчонки!.. — тут же начал возбужденно он, как бы оправдываясь. — Такие развратные! Спасибо, что вовремя увела. Спасла от измены жене. Пробурчал в бороду, — Но я ещё не такое видел. Одна приходит ко мне в кабинет и — бух на стол. Легла, ноги расставила. Я бегаю вокруг, кричу — ты чего?! Ты чего?! Ну… такая развратная!..
— Да брось ты, Миша, — она шла не оборачиваясь. Ее нежно-греческий профиль четко прорезал ночь. — Это акция такая. Видимо, ей надоело, что к ней везде пристают или смотрят сальным взглядом. Я же знаю, как вы можете. Вот она и решила, что лучший способ защиты — нападение… — грустно вздохнула она.
Они перешли дорогу. Огромная луна мертвенно застыла в конце переулка. Теплый ветерок, ещё хранящий память лета, обдувал их. Равномерно маленькие окна старинных особняков то ли светились, то ли отражали лунный свет. Казалось, они идут среди декораций какого-то сказочного спектакля: все герои ушли отдохнуть на период антракта. А быть может… уже все умерли?..
— Да какая там акция! Я узнавал. Она во всех редакциях себя так вела. Или публикуй её, или трахай, а за это публикуй, а так не уйдет. Публикацию устроить проще, чем на такую решиться.
— Но есть что публиковать-то?
— Да много таких. Вот ты никогда же до такого не доходила. Я узнавал, — он мелькнул на неё отблеском назидательно учительского взгляда и, упустив голову, пробурчал в бороду: — Не-е… ты не такая.
Алина отметила про себя, как он смешно затряс бородой, глядя куда-то в небо, и этот романтический взлет явно не шел ему, типу приземистому, обращая его в некий расхожий народный образ обалделого, несущего ахинею попика. Ее передернуло от отвращения к этому мелкому существу… в этакой оболочке.
— Не… — продолжал Михаил. — Я, конечно, туповатый тогда был, только в Москву приехал, но как тебя увидел, ты мне сниться стала.
— Вот как?.. А я и не подозревала, — усмехнулась она, продолжая изо всех сил смотреть на луну и не плакать.
Ему показалось, что в глазах её блеснули слезы, но он не поверил сам себе — не могла же она одновременно плакать и, не дрогнувшим голосом говорить с ним, и усмехаться.
— Я и жену себе — на тебя похожую выбрал, — сказал он, пытаясь своим романтизмом и оправдаться, и защититься от её циничных замечаний.
— Интересно, а почему же мне предложение не сделал?
— Да ты что?! Я к тебе и подойти-то боялся. Ты же — как цыганка в негативе. Хоть и светлая, а все равно — едва зацепишь твое внимание, как тут же ускользаешь… Не подойдешь.
— Зато я к тебе часто подходила. Ты принимал мои рукописи, но никогда ничего не сделал, чтобы помочь их опубликовать. А в те времена, если за тебя никто слова не замолвит… Да что уж там. Теперь я знаю, что пишу нормально. А тогда… Я уже привыкла — отдать тебе, все одно, что выкинуть. Ты их даже не читал. Я уверена!
— Да, что я… Я знал, что ты не пропадешь. А надо мной главный редактор был.
— Ну и что. Когда я отдавала другим ребятам, из твоей же редакции, все проходило в печать через того же главного редактора. А ты… добивался публикации тех, что ложились на стол! А я… должна была страдать комплексом неполноценности только из-за того, что не имела наглости.
— Но я же не мог просить за тебя! Я вообще не мог нести твои статьи главному!
— Но почему!? — с трудом скрывая ярость, прошептала Алина.
— А потому. Вдруг кто-нибудь бы догадался… ну это, как я к тебе отношусь. Сказали бы, что тяну свою пассию, объективность потерял…
Он шел за ней, не замечая, в какие переулки сворачивает, куда вообще идет. Было темно, но он не спотыкался. Он словно не чуял земли, как заколдованный. А она, петляя, завела его за дощатый забор в какой-то незнакомый безлюдный двор дома на капитальном ремонте. Дом был пуст. Пуст настолько, что не было в нем ни рам, ни перегородок, ни перекрытий, ни шорохов. Зловещая тишина. Зловещие провалы окон зияли как врата ада. Множество врат — и все притягивали взгляд своим пристальным вниманием.
— Объективность потерял?.. — она обернулась к нему резко и прижала к стене. — Объективность? Да ты давно её потерял! Понял?! Ты все потерял. Ее классически правильное лицо напоминало мраморную статую при свете факела в ночи, статую, которая зверски ненавидит тебя живого, за то, что тебе не постичь, за то, что ей ничего не изменить. Глаза казались такими же повалами окон, за которыми зияла пустота, всепоглощающая роковая пустота.
Он почувствовал, как руки её скользят по его пуговицам и, задыхаясь, пролепетал:
— Не-е… я жене не изменяю.
— А я не хочу изменять себе, — прошептала ему на ухо Алина, возбуждающе щекоча ушную раковину мягкими губами.
"Сволочь! Сволочь! — все разрывалось в ней. — Все вы сволочи! Тоже мне, короли мира, старающиеся не терять какую-то там объективность! Да что это за люди такие, которые свои выпирающие наружу придатки называют своим "мужским достоинством!" И носятся с этим, как действительно с достоинство: я, мол, ту хочу, эту не хочу, на ту встает, а вот эту люблю. Жене он, видите ли, не изменяет — слюнопускатель! Весь уже в пузырях слюнявый! А я!.. Я умираю — при всем при этом — от болезни монашек! А он: "не-е…" блеет как козел, — ты не такая!" Не изменяет он. Достоинство бережет, на всех не тратит. Боится, сволочь, кабы чего. Вот я сейчас тебя, как последнюю бабу изнасилую!"
Он знал её десять лет! Но знание одного мгновения было ошеломляющим. Плотно прижав его к шершавой кирпичной стене, она наскочила на него, крепко зажав между бедер. Сексуальное напряжение было не просто сексуальным, а тем самым, которое наступает у мужчины в момент сильнейшего напряжения всего организма, когда он находится в опасности, когда в сопротивлении, борьбе противостояния.
Все что она не делала, любим своим движением, она унижала его. Но он не мог её оттолкнуть. Руки висели, как плети. Он не мог убежать — спущенные брюки не давали возможности двинуться. Впрочем, если бы ему не мешали эти путы, он все равно не смог бы ничего изобразить, кроме бега на месте. И вдруг — все кончилось.
Она отскочила от него, он увидел, как спокойно и деловито она отряхивает длинную юбку, стряхивает с ноги белые трусики. Они взлетели и опустились на черный холм строительной грязи намокшим в одночасье печальным мотыльком, который больше никогда не взлетит. Но он не мог ещё и двинуться, когда Виктория пошла от него прочь.
— Но… я… я ещё не кончил, — робко пролепетал он.
В полутьме, он увидел, как она резко расправила плечи, и остро льдинками в сердце резанул отблеск её взгляда.
— Не пропадешь, — презрительно бросила она и ушла.
Алина вышла с заброшенного двора, на тусклый желтоватый свет уличных фонарей, прошлась по переулку, свернула налево. Темно. Только огромная луна нависает над головой и от лунной тени все вокруг кажется приземистым. Земным… Материальным… Казалось, можно ухватиться за собственное дыхание. И шаги… собственные шаги — словно преследовали её, отдаваясь в висках. Она перевела дух, оглянулась — нет, никто не шел за ней. Свернула направо и долго-долго шла, стараясь не терять прямую линию пути. Мучительно долго. Свернула направо, снова направо, и вдруг увидела его, идущего ей навстречу. Но не дрогнула. Было заметно, как он изо всех сил старался держать прямую линию спины.
Они поравнялись — и прошли мимо друг друга, словно невидимка мимо невидимки.
ГЛАВА 7
Она смотрела спокойно в синие глаза своего мужа, сидя на больничной койке. Он отводил взгляд, чувствуя, что она его в чем-то подозревает. Она же чувствовала себя абсолютно прозрачной. Ей не было стыдно за содеянное. Если бы хоть кто-то упрекнул её тем, что произошло той ночью после её побега из больницы — она бы не переменилась в лице. Ей не казался её поступок ни изменой, ни блудом, но тем, что имеет в виду человек доведенный своим молчанием до предельной точки, вдруг вырвавшись в жесте поясняя: "я все сказал". А иностранец добавил бы: без комментариев.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА СОРОК ТРИ ДНЯ.
"…Нет оправдания… нет мне оправдания, — повторял про себя Карагоз день и ночь. — Герой!.. — насмехался он над собою. — А аванс придется отдать… если найдут. Да найдут ли?.. Москва большая… Большая… да не скрыться. Места известны. Они это дело так просто не оставят".
Адрес с орденами и медалями он держал на уме. Но не спешил на новый подвиг. На связь в положенных местах не выходил. За месяц сменил три квартиры. Путал следы. Одиноко бродил по городу. Ни друзей, ни знакомых. Слава о краже века, хотя и не принесла ему денег, подгоняла его жить дальше и не суетиться. Он чувствовал, что его тайная слава обрела энергию ветра дующего в спину. "Вот я какой, оказывается! Все могу! Я все могу, клянусь мамой! Все! И я буду жить ещё королем! Только бы скрипку найти, ту самую скрипку…"
Он подозревал Минькина в подлоге. Зря он так сразу, зайдя к нему, пошел напролом. "Клянусь мамой, а ведь этот лапоть оказался не лыком шит!" — качал головой время от времени. Наводил справки — Минькин исчез. Его уволили. Из общаги выгнали. Никто не знал, где он. Бывшее место прописки деревня Васьково в Калужской области. Карагоз не поленился — заехал. Не осталось родных у Минькина в той деревне. А друзей детства не имелось, так как приехал он туда лишь за тем, чтобы прописаться в бабкиной лачужке после детского дома или интерната, прописаться и умотать навсегда. Оттого-то деревенские ничего не знали о нем.
Так, не солоно нахлебавшись, вернулся Карагоз в Москву. Лишь одно ценное сообщение промелькнуло в дни его поиска и убедило его, что он на правильном пути — о Минькине кто-то спрашивал еще. Какой-то солидный мужчина, приезжавший на черной иномарке.
Значит, заказчик размышлял так же. Но подлог мог устроить и сотрудник музея, точнее сотрудница, заподозрив неладное. Однако, навестив музей, как посетитель, Карагоз понял, что никто скрипку на место не вернул. Значит, трясти жулика-милиционера — был наивернейший логический ход.
Одержимый идеей найти Минькина, Карагоз шлялся по улицам. Помня о том, что лейтенант милиции любит выпить, заходил в пивные, бары, ресторанчики, явно не высшего класса, шаурмы при рынках, бистро, чебуречные — но тщетно. Как заблудившийся герой, он вспоминал о возможных лаврах и не ненавидел своей приземленной действительности.
Карагоз любил красивую жизнь и не мог долго чувствовать себя загнанным в угол. Оттого и не шарил взглядами хвоста, не сутулил плечи. Гулял по улицам не один. Снимал девушек по дороге, иногда звонил Жанне.
Эта несчастная девушка, лет двадцати, вызывала в нем жалость. Ему было приятно водить её в кафе. Впрочем, это было редко. Она как-то несчастно улыбалась, закомплексованно припудривала носик, стеснялась прыщиков на щеках, получая из его рук мороженое, отводила глаза в сторону, хотя могла вдруг раскрыть рот и выдать непревзойденные знания о современной деловой жизни, непревзойденные другими её ровесницами своей простотой и наивностью. В ней были и наглость, и робость, в ней была хрупкость и кондовость, приземленная жадность и крылатая мечтательность — все кроме середины, устойчивости того, с чем можно жить и жить долго. Он чувствовал, как довольная собой, она водит его за нос, своей женской умудренностью, хитростью и показной скромностью. И жалел её — словно приговоренную к неудачам и нищенской романтике вечной надежды на спасительную силу придуманной ею любви.
С удовольствием охотника, который не охотится на такую мелочь, наблюдал за движением её природы, отмечал про себя, как довольна она собой, что так долго может поддерживать отношения с таким явным ловеласом, нравящимся женщинам типом, и в тоже время — не переходить на интимные отношения. "Значит, у него что-то серьезное ко мне. Вот я какая — не бабочка однодневка!" — так, по его предположениям, думала она о себе. Но не учитывала одного. Карагозу не интересна была она как женщина. Совершенно не интересна. Все эти потные прижиманчики-отжиманчики подросткового периода совершенно не привлекали его как мужчину.
В жизни его были настоящие женщины. Яркие женщины. Он, конечно, никогда бы не женился на них, но и на Жанне он жениться не собирался. И выгуливал её не оттого, что присмотрел её как невесту, гулял он с ней просто, чтобы не светиться на улицах своим одиночеством. А ещё — потому как забавляла, вызывала жалость, сочувствие, и больше вообще ничего не вызывала. Ничем особо не тревожила, ни чувств, ни эрогенных зон, ни воображения. Ему было все равно, что с ней, что без нее, но зачем без неё пусть с ней.
Он вообще любил, когда рядом присутствовало нечто противоположного пола. Со случайно снятыми девицами надо было ещё возиться, напрягаться, ожидать неожиданного, а с ней что?.. Он знал её, по меркам своей жизни, давно, очень давно — уже полгода. И когда они целовались в каком-нибудь очередном закутке… и когда она, чувствуя, что владеет серьезностью момента, обозначала свое: "а дальше — ни-ни". Он покровительственно подтрунивал над ней. Он был уверен, что у неё никого, кроме него, нет, но вдруг её прорвало:
— Коля! Прости меня, — как-то сорвалось с её губ. — Я люблю другого, и она взглянула на него с такой совдеповской патетичностью, что вполне бы могла стать моделью Мухиной, когда бы та давно не умерла.
— И где он? — мрачно спросил Карагоз, все же подозревая, что она рассчитывает возбудить в нем ревность и чувство соперничества, призывает таким образом перейти к решительному наступлению. Но как-то уж слишком грубо, как-то уж слишком нелепо. Но на всякий случай решил уточнить:
— А он любит тебя?
— Он женат, — на этот раз она произнесла слова, словно что-то несла, несла — и не донесла, руки её опустились.
— И богат?
— Богат. — Скорбно кивнула она.
— Понятно. Вот сволочь!..
— Нет! Он не сволочь! У него в больнице сейчас и мать и жена! А он за ними ухаживает. На свидания ездит…
— Мать и жена в больнице — а ты теряешься.
— Он… он запутал меня… То так, то…
— …никак?
— Нет. Ему сейчас просто не до меня.
— Понятно. Ты что, так и собираешься прожить из-за него монахиней? Клянусь мамой, это смешно. Клянусь мамой, король тебе предлагает, король!.. Предлагает… — и запнулся, — …свое покровительство, — вывернулся он, с завистью подумав не то что бы о семейном уюте, но хоть о каком-то пристанище. А у этого… У этого есть все. Только Жанны ему, видите ли, не хватало.
Она ушла. Ушла, полная своей правды и довольная ей. Карагоз потянулся сидя на лавочке Тверского бульвара, встал и молча побрел по направлению к Макдональдсу. Там спросил Павла рыжего у обслуги. Павел в этот день не работал. Карагоз, наплевав на бдительность, попросил передать ему, что заедет к деду в четверг.
Под дедом он подразумевал коллекционера.
Пора было отработать аванс, пора было делать деньги. Слава не кормит, она без денег куда тяжелее, чем бесславие с деньгами.
Деньги здоровья не прибавляют. Дорогая пища портит здоровье. Плохое здоровье пожирает деньги. Кирилл страдал. Мало того, что он теперь должен был регулярно навещать с гостинцами и мать, и жену, мало того, что для вдруг резко ставшей не ходячей матери потребовалась сиделка, у него у самого ни на что не было сил. Приходилось тратиться на витамины, платные обследования собственного здоровья. Ему говорили, что ничего, кроме, быть может, избыточного веса его не должно тревожить. Впрочем, и вес при его росте — не такой уж избыточный. Но это не утешало Кирилла: "Быть может, вы устали, пора отдохнуть?" — предположил очередной платный врач. Но и отдыхать теперь Кириллу было не в кайф. Он стал пассивен. Былые друзья-приятели утомляли его своими звонками. Он больше не собирал веселых компаний, не тащил всех, кого ни попадя, в баню, бильярдную или так… за город.
И сидел вечерами после работы в офисе, попивал чай с ликерчиком с секретаршей Жанной. Она постоянно что-то рассказывала ему о своей жизни, рассказывала все, как на исповеди. Он смотрел на неё и молчал. Устричный разрез его синих глаз возбуждал её. Ее отражение в его зрачках казалось ей мальком поглощаемой бездной закона биоценоза. Впрочем, что такое "биоценоз" она не знала, но чувствовала каждой своей клеточкой, настроенной на паническое выживание.
Он не мог любить её, хоть иногда и тянуло расслабиться на её непропорционально большой груди, толи четвертого, толи пятого номера, но ужас того, что за этим потребуется большее — отталкивал. Видел он уже такие алчущие женские взгляды, видел по несколько раз в день и шарахался, как сердобольный богач прошлого века от толпы попрошаек — "не копеечку прошу, а спасеньица". Они казались ему реками — всегда знаешь — куда течет вода. Всегда знаешь, что у каждой реки есть начало и конец. Но почему-то каждая, попадая в поле его действия, считала, что она не хуже Алины. Но не хуже не лучше была Алина — она была просто другая. Иногда, когда он думал о своем чувстве к Алине вспоминал незатейливую песенку: "любовь кольцо, а у кольца начала нет и нет конца…" Алина была его заколдованным кругом. Десятки раз она вспыхивала в его жизни щемящей тоской и исчезала. Исчезала навсегда. Но проходил год-два, и снова судьбе было угодно, чтобы их пути пересеклись с тех пор, насколько он помнит себя — то родители его, ещё малолеткой повезли на Черное море, где они отдыхали невдалеке от Утрижского дельфинария. И она вспыхнула в его воображении свободной наядой развлекающейся с дельфинами. Все, казалось, просто — он с отцом изучал тогда сказания древних эллинов, а она отдыхала в дельфинарии при маме-биологе. Через год он отдыхал с родителями недалеко от Одинцово. Читал что-то про амазонок, а она пролетела мимо на коне с распущенными косами — снималась среди детей в массовке на конной базе Мосфильма и надо же — свернула не на ту тропу, заблудилась. Потом она представала перед ним то романтичной туристкой, то школьницей по Пастернаку, как раз в то время, когда он увлекся поэзией серебряного века, и прогуливал уроки, блуждая по переулкам центра. А её школа располагалась в старинной мужской гимназии и как раз в тот день она играла в снежки без верхней одежды прямо в школьной форме. Алина запомнила тот день, потому что они сбежали с уроков, в чем были, без верхней одежды, и разогревались снежками. Здание школы заперли, предчувствуя ученический бунт против физики, и она вместе с одноклассниками прыгала из окна высокого второго этажа. А потом проплывала незнакомкой в театральном костюме на сцену студенческого театра… И вот встретившись с ней в очередной раз и, не позволив на этот раз проплыть мимо, словно мираж, он понял, что она органичная часть его души. Трудно было привлечь к себе внимание юной женщины с одной стороны машинально избалованной мужским джентльменством, с другой не верящей в то, что она может быть просто любима и ничего более от неё не требуется. Он был упорен. И лишь когда её неуверенность в своей избранности была сломлена, и лишь когда они стали по-настоящему жить вместе, они, вспоминая свое прошлое, не уставали удивляться совпадению в их судьбах и мест и времени действия. Но этого было бы мало для его желания жить с ней, когда бы не влекущая мощной волною её вера в то, что жизнь велика и настолько разнообразна, что нельзя останавливаться со старческой гримасой, думая, что все познал. Она внушала это ему своим присутствием, своими переменами настроений, постоянным любопытством к жизни Леонардовского характера. Иногда ему казалось, что она вот-вот ускользнет от него, влекомая своими неясными стремлениями. И он сбивал вектор её энергии то проблемами своего здоровья, пытался забегать вперед, указывая путь, режим, учил рассчитывать силы и бюджет. Он увеличивал её зависимость от него, зарабатывая и зарабатывая все большие и большие деньги, и сам страдал, чувствуя, как он её зажимает, подавляет. И все равно, проходило время, и она ускользала из-под его покровительства и снова маячила уже не близкой женщиной, а образом-символом, как тогда, в их глубоком детстве, когда, гарцуя девчонкой на киношном скакуне, свесила голову, обернувшись в его сторону, и спросила: "Мальчик, скажите, а что там, впереди?"
Но что его ждало впереди с другими — было ясно с первого дня. Кем бы ни были они — заумными интеллектуалками, девочками корнями из партийной элиты, но с манерами, самых, что ни на есть, благородных девиц, бесшабашными лимитчицами с рыщущим взглядом волчиц, женами бывших инженеров или нынешних менеджеров — все одно. А что уж вспоминать о незнакомках снятых по пути в ночь и наутро превращающихся в полный тупик. Много у него было всяких, но до Алины. Появление Алины как отрезало его от прошлой вроде бы веселой жизни, стала она невесела и неинтересна. С сожалением, сочувствием и даже с пониманием он смотрел на тех, женщин, что могли бы, окажись они рядом не в настоящем, а прошлом, полететь с ним "на тройках под бубенцами" по ресторанам и постельным весям. Вот и Жанна была для него весьма милой девушкой, но… да и только.
Жили они в разных номерах во время их последней совместной командировки в Питер, но она надоела ему так, словно ходила постоянно по его отсеку той самой подводной лодки по Высоцкому — туда-сюда, туда-сюда. То ей требовался кипятильник, потому что её сломался, а ему и в голову не приходило, что в поездку в цивилизованный город требуется брать кипятильник, то ей требовался сахар, которого не было у него в номере… И тогда ему приходилось спускаться в кафе, поить её, чтобы успокоилась, ликером. Она любила ликер, пила его много и долго, закусывала шоколадом. После подписания очередного договора на поставку стройматериалов, она просила сопровождать её по магазинам. Он сопровождал, скучая под её верещание. Самое неприятное было в том, что Жанна, решив, что нащупала слабое место шефа, постоянно говорила о здоровье. Она щедро делилась с ним знанием рецептов диетических блюд, которые лишь одним описанием вызвали у него желание то ли блевать, то ли бежать: "пейте сок тертого свежего яблока и тертого лука в равных пропорциях, если чувствуете, что простудились, а от насморка лучше всего капать в нос сок чеснока". А сера, выковырянная из уха, помогает при почесухе…" Ему хотелось прогуляться по берегам Невы, зайти в музеи… съездить в Комарово, постоять над могилами Ахматовой, Курехина… да куда там!.. Она лепетала о том, что модно и немодно, где следует одеваться, какие часы носить. Ему уже ничего не хотелось под конец его поездки, разве что — просто поваляться в шикарной кровати дорогой гостиницы! И ничего не делать. Ничего. А он мечтал о такой тишине, чтобы можно было, не торопясь, словно в ранней юности, полистать сборники стихов Пастернака, Бродского… поэтов серебряного века. Но она объявляла подъем и вновь тянула его в магазины: "Кирилл, вы… ты… — она путалась в обращениях к нему, словно школьница и в тоже время любовница седого учителя, но все же останавливалась на "ты", — …купил подарок своей жене? — ошарашила как-то раз, что он аж онемел от такой наглости, — Как не купил?! Причем здесь — все есть?! Ей будет приятно".
Вот и попался тогда он на её понятиях о том, что красиво и необходимо.
Алина сначала не подала виду. Но он заметил. Он почувствовал. И лишь в следующее его посещения взорвалась, после напряженного молчания:
— Хватит мне пудрить мозги! Думаешь, я не понимаю, что в Питер ты ездил с любовницей. И где ты её нашел — такую пухленькую, с жирной кожей, стесняющуюся своих прыщиков из-за задержки гормонального развития?!
— Да… брось, это просто секретарша.
— Просто секретарши не советуют шефу, что купить жене. Они не таскают его по магазинам и тем более — отделам косметики! Но секретарши, находящиеся в близких отношениях, могут лезть с советами.
Нет. Он не был поражен: ни тем, что она угадала какая кожа у Жанны, ни тем, что догадалась, что не просто секретарша, но та, которую обнимал он время от времени, обычно в застольях, от привычной тяги к женскому теплу такие моменты прозрения часто находили на Алину, но он был смущен, что нечем ему оправдаться. Да и оправдываться не хотелось. Ревность её он списал на нахлынувшее чувство отчаяния. Будешь в отчаянии, когда находишься в таком месте, где каждый день мертвые тела проносят мимо твоих дверей. Нет, не это даже смущало его, а то, что в сущности этой Жанны не должно было быть.
И все-таки она была. Он сидел в своем офисе допоздна и слушал её. По мягкости, по слабости характера, хотя думал, что от вежливости. Но все-таки слушал. Слушал: то в офисе, то в кафе… менялись интерьеры, суть не менялась. Жанна говорила о себе и всем своим видом показывала, что жалеет, жалеет его. Эта жалость расслабляла, от неё поташнивало. И все же… Он подозревал, что нуждался в ней. Иногда и он прорывался сквозь её ноющий тон словами, рассказывал забавные истории, обычно — про приключения с друзьями, смешные, нелепые дела в загулах — и неожиданно замолкал.
— Такова она, — вздыхал он, — такова она — семейная жизнь, — к удивлению Жанны, ничего так и не сказав о своей семейной жизни. — А как все красиво начиналось, — добавлял, кося на её синим глазом с непонятным намеком, и вспоминал то одни, то другие стихи Бродского:
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь "Шипку"?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
И кончается счетчиком…"
И распахнутые глаза Жанны сочувственно впитывали его слова в типичную глубину женского омута. Она сочувственно понимала, почему это он упомянул о счетчике — все женщины рядом с таким мужчиной становятся корыстными.
Он смотрел на неё и думал: "Кому эта девушка, эти оленьи глаза?.."
— Думается мне… — снова говорил он, но уже в сторону, — а вдруг как ошиблись там? И никакого рака у неё нет. Так ведь же она… с ума сошла от таких переживаний.
— Да и так уж… сойти с ума можно, — философски вздохнула Жанна.
— Скорее уж бы все… — порой срывалась фраза с его губ, но он не договаривал — что, опасливо оглядывался на влюбленную в него девушку и прополаскивал горло стихами все одного и того же автора:
"В силу того, что конец страшит,
Каждая вещь на земле спешит
Больше вкусить от своих ковриг,
Чем позволяет миг…"
Жанна слушала его во все глаза и вздыхала, вздыхала, вздыхала… Мысль его, произнесенная стихами, означала для неё одно — он ценит мгновения проведенные с нею. Он ждет, он готов к тому самому все решающему мигу. И Жанна перешла в наступление:
— Хочешь, квартиру снимем? Будем вместе жить… Иногда… Встречаться. Все одно уж, нельзя быть таким одиноким… — и присела к нему на колени, пока не было в офисе никого, и обняла его теплыми руками — кто ж его ещё так пожалеет?
И затянуло Кирилла, словно в морских водорослях запутался, словно задохнулся…
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА СОРОК ДНЕЙ.
— Знаешь, если честно… — задумчиво произнесла Алина.
— Не честно мне не надо, — ответил Кирилл.
— Мне будет легче… легче, если я буду знать, что когда меня не будет, ты не останешься один.
— Я так и так не останусь один. У меня ещё мама…
— Нет! Ты не должен возвращаться к ней! Это будет деградация! Понимаешь, ты должен жить нормальной мужской жизнью. Маму, конечно, ты не должен бросать. Она, конечно, должна быть обеспечена тобой. Быть может, она, кстати, так плохо себя чувствовала всегда потому, что ты не давал ей денег с излишком. Пусть бы она никуда не тратила эти деньги, пусть бы копила, но ей бы было легче. У неё бы могли появиться какие-нибудь интересы, личная жизнь, когда бы она понимала, что может себе это позволить. Но я не об этом. Давай, разведемся?
— Ты с ума сошла?!
— Я не могу доживать и чувствовать, что я обременяю тебя. К тому времени, когда я умру, ты можешь истощиться, и у тебя не хватит сил завести себе новую жену.
— Да зачем мне вообще жениться. Нет. Я и до тебя ни на ком не собирался жениться. Я бы вообще никогда не женился, если бы тебя не нашел.
— Значит, после жизни со мной у тебя отбилась всякая охота к браку?!
— Хватит! Что ты несешь! Ты с ума сошла! С ума!.. С ума!..
Больничная койка отбивала лихую дробь, присвистывала, скрипела и пела на все предоперационное отделение.
Полулюди-полутени приставляли свои локаторы к стенам. Мираж, возникший в пустыне гулких коридоров, стерильных палат, детально дополненный воображением каждого в отдельности — в итоге казался фантастически волнующим. Массовая тахикардия была обеспечена отделению до рассвета.
Вечером, в бильярдной, Кирилл почувствовал себя в отличной форме. Давно он так не чувствовал себя. Он любовался собой, когда шары, посланные им абы куда, летели на дурака — от трех бортов — и в лузу.
"Почему-почему? Почему? — думала Алина, опустив голову в колени. Почему мы так редко, так редко были вдвоем. То дом полон приятелей, то надо куда-то нестись из дома, то вот… казалось бы, никто не мешает — но гудит телевизор, шуршит газета, звонит телефон… и все — возведена между ними невидимая, но непреодолимая стена. А потом его танцы вокруг внезапных болей, вопли… Неужели он тоже чувствует нехватку моего внимания, и таким образом пытается привязать меня к себе. Но разве это может возбудить во мне сексуальное женское начало… Нет… Материнское?.. Но меня воспитывали по-спартански. Я не знаю, как это — прыгать вокруг капризов ребенка, потакать ему и думать, что являешь этим свое материнское нечто доброе. Нет, ответственная мать не позволит такого. Она, если не шлепнет, то уйдет, дабы не провоцировать детскую истерику в дальнейшем. Впрочем, при чем здесь мать… У матери отморожены сексуальные чувства. Я не могу смотреть на него — как на ребенка. Я стремлюсь к мужчине… к мужчине в нем.
Но вот что странно — никогда, ни одной помехи не возникало между нами, едва мы уезжали в турпоезку ли, в дом отдыха. Там все было легко, красиво и гармонично… Быть может, Надежда права — надо бежать из собственной жизни?.."
— Надежда, я хочу сбежать из больницы, — сказала Алина. — Не хочу я этой операции. Кромсают человека, кромсают, облучают до облысения. И что все равно умирает. Только долго, обезображено, мучительно… — она уставилась на Надежду и вдруг поняла, что уже не замечает её уродства.
— Ты хочешь просто уйти — раз и навсегда — или боишься операции?
— Не боюсь… хотя… Нет. Именно не хочу.
— Никогда не делай того, что не хочется, так не хочется, что противно. Уже этим ты совершишь побег из обстоятельств. Тот, кто идет только на поводу обстоятельств — обязательно упирается в тупик. Такой тупик, в котором все против тебя. Потому что человек — сам долго шел себя супротив, — окончила она усмехнувшись. — Прощай.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ДНЕЙ
ГЛАВА 8
— Да что ты такая бледная! Клянусь мамой, смотреть невозможно! Давай, я тебя к нему приведу и, сам за тебя, объяснюсь. Скажу, так и так: Слушай, человек по тебе сохнет. Клянусь мамой! Или не мучай, отпусти… — Карагоз разыгрывал из себя наивного юношу.
Быть может, он так и заступался за своих детдомовских подруг лет в четырнадцать — сам же такого не помнил. Но было что-то подобное, было, ещё в подростковом возрасте, если не с ним, то с каким-то знакомым. Дело было не в этом. Неискушенная двадцатилетняя деваха, на которую можно было смотреть, как на реликт понятий, — сама не понимала, что являлась возможной наводчицей. С того момента, как она сказала, что её любимый богат, Карагоз только и думал о том, как вычислить его квартиру. Работать на заказ по коллекции орденов не хотелось. Стремное это было дело. К тому же — опять из области антиквариата. Скрипка… потом ордена… — все это пойдет как серийное дело. Рынок сбыта один и тот же, мало того — заказчик един. Попасться очень легко. План же по обчистке квартиры этого бизнесмена, морочащего Жанне голову, возник у Карагоза мгновенно, при чем в двух вариантах.
Первый вариант был прост. Она выводит на его квартиру. Он дома. Карагоз естественно светится. Но он не такой дурак. Он тюкает по голове богатого негодяя, связывает, запугивает Жанну, если надо — тюкает и её. Очищает квартиру. Далее, что делать, куда везти, он знал. Жанна уходит с ним, сидит под домашним арестом, пока он не переезжает на другую хату. Не убивать же её. Нет, на мокрое дело он не пойдет. Пусть даже даст его фоторобот — лицо Карагоза обыкновенное. Особых примет не имеет. Он будет уже далеко, потому как из разговоров уже понял, что деньги своей шарашкиной конторы этот бизнесмен хранит дома. А деньги, по расчетам, должны быть немалые. Мужик расслаблен, в депрессии, быть может — даже пьян… Его оставить связанным. Ни жены, ни матери. Но нет… на мокрое дело он, Карагоз все-таки не пойдет.
Второй вариант заключался в том, что она ведет к дому бизнесмена, отнекиваясь, что его нет. Тогда он просто высматривает адрес… Ведет дня два три наблюдение за квартирой и обязательно нащупает в итоге слабое место либо в замке, либо в характере этого нового русского.
Второй вариант казался ему лучше первого. Хлопот было меньше. В воровском деле главное — осторожность.
Он выгуливал Жанну по улицам и слушал её бесконечную исповедь. Она вспоминала себя всю, с самого детства. Как бросил их отец, как мать работала на кондитерской фабрике "Красный Октябрь", денег не хватало, но шоколад был всегда. Быть может, от этого переедания сладкого у Жанны начались проблемы со здоровьем и, когда ей исполнилось тринадцать — начала толстеть. В шестнадцать лет была такой толстой, что ни на дискотеки, ни куда, ходить не могла. Впрочем, и мать никуда не пускала. Да и надеть нечего было… Кончилось тем что, окончив начальную школу, она поступила медицинское училище, но — проучившись один семестр — ушла. Ушла и впала в прострацию. Мать требовала, чтобы шла работать, но Жанна и пальцем пошевельнуть не могла. Она была влюблена.
А он, её пассия, гитарист из группы, подрабатывающей по вечерам в соседнем кафе, не обращал на неё никакого внимания. Жанна лежала на постели, ничего не делала, даже не ела — худела. Мать билась в истерике, а Жанна, едва почувствовала, что сбавила вес, прибавила в силе характера, и пошла, с девчонками стрелять женихов, покуда худая, покуда молодая. Далее её повествование состояло из многочисленных скоростных разочарований.
Карагоз слушал, откровенно удивлялся бессмысленности женского поведения, обычного полета бабочки к свече, и постоянно наводил её на мысль: пойти — выяснить свои отношения с бизнесменом. "Я братом представлюсь, братом. Я себя не выдам. И тебя в обиду не дам. Мамой клянусь. Клянусь мамой!"
— Да нет, его сейчас дома, нет. Он снова в последнее время зачастил в бильярдную. Сначала по больницам, а потом гулять. Он не может сидеть дома один, я его знаю, — отвечала она каждый раз.
Карагоз не отчаивался. В тот вечер он потребовал номер его телефона, сам позвонил. Никто не поднял трубку. Это и требовалось. Карагоз сымитировал короткий разговор и, взяв такси, повез Жанну к Кириллу.
— Что он тебе сказал? Что он сказал тебе? — допытывалась Жанна по дороге.
— Что ждет тебя, да и со мной, с братом твоим рад познакомится.
— Рад познакомится? Ты понимаешь, что это значит?!
— Да, понимаешь. — Отводил взгляд Карагоз, — Родственные отношения… туда-сюда… Я с него как брат обязательство возьму.
— Да я тебе теперь так обязана, так!..
В холле дома сидела консьержка. Этого только не хватало Карагозу. Он пощупал молоточек во внутреннем кармане своего шикарного длиннополого белого плаща и наметил новый план. Из квартиры он возьмет лишь доллары и мелкие ценные вещи. Жанну же тюкнет так, чтобы пришла в себя нескоро. Очнется, уже запертая на все замки, в квартире своего любимого. Вот тогда и объяснится. Выяснит отношения по полной программе. Можно связать… но лучше воспользоваться заранее приготовленным баллончиком с сонной смесью, предназначенного для работы ветеринаров с дикими животными. Все эти мысли пролетели в голове Карагоза с невероятной скоростью. Он чуть не подпрыгнул от восхищения самим собой.
А тем временем консьержка, узнав Жанну, которой часто приходилось исполнять роль курьера, поздоровавшись с ней, пропустила их к лифтам.
Перед дверью Жанна оробела.
Понимая, что дом не простой, и даже не забыв подумать о том, что отпечатки пальцев милиция не снять, не посмеет, он уговорил Жанну нажать кнопку звонка. Жанна позвонила в дверь.
За дверью — тишина.
— Ну вот. Я же говорила. Он уехал, — заныла Жанна.
— Не может быть. Клянусь мамой, я договорился с ним.
— Значит, передумал со мной разговаривать и сбежал.
— Как это — сбежал? Что он — мальчишка, что ли? Сбежал?! — тихо возмущался Карагоз, обследуя тем временем замки. Замки были серьезные, да только дверь — явно была закрыта на пол-оборота — самого легкого. Особого труда открыть его не представляло. Забывшись, он уже нашаривал свой инструмент, как вдруг заметил, с каким нескрываемым удивлением смотрит на него Жанна. С сожалением Карагоз сунул руку за молоточком. Жанна снова звонила в дверь, с утроенной силой нажимая на кнопку звонка.
Кирилл, посетив сначала мать, потом жену, вернулся домой. Сегодня он чувствовал себя особенно утомленным. Ни на какой активный отдых сил уже не хватало. Он померил температуру — опять тридцать семь. Вот уже третью неделю у него было тридцать семь. Он выпил горячего чаю с лимоном. С усталостью в сердце подумал о том, что надо бы что-то приготовить на ужин, но расстелил постель, лег и уставился в потолок. Он ни о чем не думал, ничего не хотел, на телефонные звонки не отвечал и, когда безо всякого предварительного договора о приходе позвонили в дверь, он подумал, что это уж совершенное свинство. В том, что это был кто-то из его закадычных приятелей, часто бывающих в доме, он не сомневался. Иначе бы консьержка спросила его по внутреннему телефону — пускать или не пускать.
В дверь звонили и звонили. Раздраженный Кирилл смотрел в потолок назло приятельской назойливости. В прошлую ночь его разбудил бывший одноклассник, ставший наркоманом, в три часа ночи. Проходя мимо, он решил стрельнуть у него мелочь на сигареты. И случай этот был не единичный. Друзья-приятели не церемонились с ним, особенно старые, и каждый думал, что он единственный имеет право на исключение из-за всяких правил приличия. "Нет. Права Аля, я слишком мягок по отношению к ним, они меня растащат по частям", — думал Кирилл, прислушиваясь к шорохам за дверью. Звон продолжал заполнять всю квартиру и вдруг смолк, достигнув невыносимого пика. За дверью кто-то ойкнул, казалось, женщина.
— Да вы совсем с ума посходили! — представляя обычную пьяную возню своих бывших одноклассников ли, однокурсников взревел Кирилл и, бросившись к двери, распахнул одним махом. Перед ним стоял незнакомый человек. Под человеком лежала женщина.
Долгая пауза прервалась.
— Вот, — развел руками человек, наклонился и, взяв женщину на руки, протянул Кириллу. — Клянусь мамой, плохо ей, — добавил он удивленно.
При этом Карагоз сам не понял, что сразу ощутил — этого так просто не возьмешь. У них неравные весовые категории. Молоточка мало — потребуется кувалда.
Кирилл приподнял свесившуюся голову женщины и понял, что это Жанна. И тут же отступил, давая человеку в чем-то белом, казавшимся Кириллу, может, от волнения, саваном, пройти.
Человек пронес Жанну в распахнутую дверь комнаты, которая была спальней и, сбросив Жанну на расстеленное супружеское ложе, кланяясь и пятясь, при этом, гипнотически в упор глядя в глаза Кириллу, вышел из квартиры. Дверь захлопнулась прежде, чем Кирилл сообразил, что надо допросить незнакомца. Кирилл кинулся на лестничную клетку — там уже никого не было. Метнулся к секретарше, потом снова к лестничной клетке, но тут Жанна застонала, и он снова бросился к ней.
Жить всю жизнь быть окруженным заботами женщин — это значит — не обладать обыкновенными жизненными понятиями, которыми обладают они. Да и к чему Кириллу были их знания?! Он всегда был уверен, что это не его дело. И вот случилось!.. Что делать в таком случае он не знал. Начал шлепать её по щекам, тереть уши, как это порой делают в особо вежливых случаях в вытрезвителе, но Жанна не приходила в себя. Лишь постанывала. Кирилл бросился к аптечке, разворотил её всю, нашел валокордин, накапал в стакан и застыл посередине кухни — не понимая, как влить ей в рот, и вообще — надо ли это делать.
Стон в спальне прекратился. Что делать? Вызывать "скорую"?.. А если она умрет, так и не приходя в сознание?.. Как он докажет потом, что он здесь не причем?! Нет, надо попробовать своими силами. "Главное спокойствие! Спокойствие! Спокойствие!" — суетно повторял он себе и на секунду закрыл глаза, заставив себя представить, что бы в таком случае делала Алина. И он увидел воочию, как наклоняется она над несчастной, как разрывает ворот её кофточки, делает ей искусственное дыхание, то, складывая на груди руки, то расставляя их, и даже услышал её объяснение: "Главное восстановить дыхание".
Кирилл бросился в спальню, распахнул курточку Жанны и спешно рванул её блузку. Пуговицы с треском разлетелись в разные стороны. Жанна открыла глаза, протянула к нему руки, обняла за шею…
— Ничего себе! — услышал он голос Алины за спиной.
Обернулся. Она действительно стояла перед ним.
— Что ты здесь делаешь?! — встряхнул он головой, одновременно пытаясь высвободиться из цепких объятий секретарши. Руки её тут же упали как плети. Громко вздохнув, Жанна отвернула голову и, закрыв глаза, застыла.
— А что здесь делаешь ты?! О нет! Это невыносимо! — воскликнула Алина и пошла назад к входной двери.
Он схватил её на пороге, он скрутил её, вырывающуюся и плачущую.
— Я… я все тебе расскажу! Только выслушай!
И когда Алина, теряя силы, сползла по стене, присев перед ней на корточки, стал сбивчиво объяснять, что без неё он не хотел сегодня никуда идти, что лежал в постели, что у него температура, уже третью неделю, пусть не намного, но повышена температура…
— Причем здесь женщина? Почему она в нашей постели? Она что градусник или грелка? — сухо спросила Алина, неотрывно глядя ему в глаза.
— А она… вот! — он кивнул в сторону спальни. — Понимаешь?
— Не понимаю.
И снова он начал с температуры, потом, все-таки, перешел на звонок в дверь, на человека в белом…
Жанна пришла в себя, но не находя в себе сил подняться, продолжала лежать поперек супружеского ложа, заложив руки за голову. Глядя в потолок, она пыталась осмыслить, в какую историю влипла на этот раз. Итог этой истории явно грозил увольнением. "Хотела заполучить босса, а получит бутсы для кросса", — усмехнулась она про себя сама над собой. Нет. Она не побежит, как последняя шавка. Она не виновата. Она хотела совсем не этого. Но как это объяснить?! Кто её теперь выслушает? Кто поймет?! Нет. Она ничего не будет объяснять. Она уйдет молча. Но как уйти?! Как пройти молча через коридор?! А ещё эта жена! Она же должна лежать в больнице! Значит, он все врал! Все они такие, эти мужчины! Один бьет по голове, другой отбрехивается… А как оправдывается! Как лебезит перед женой! Даже противно! Ну, что — она — Жанна — ему покажет! Хоть из кольта пали, хоть водой поливай — Жанна будет здесь лежать и лежать. Пусть они посходят с ума. Да и голова ещё болит. Кажется, на затылке растет шишка… Непонятно, что же произошло…
— Так что же, в конце концов, произошло?!
— Меня подставили, понимаешь, подставили!
— А зачем надо было тебя подставлять? Ведь никто не знал, что я уйду из больницы!
— Ну… прости, ну пойми… Не уходи только. Я не знаю, что с ней делать!
— Ну, хорошо.
Алина вошла в спальню, и, внимательно посмотрев на закатившую глаза Жанну, на всякий случай вежливо спросила:
— Вам действительно плохо?
В ответ Жанна горько усмехнулась, слов не было, и она глубокомысленно вздохнула.
Поза Жанны — расставленные ноги, руки закинутые за голову, была явно вызывающей.
— Я прошу вас уйти, — еле сдерживалась Алина.
Жанна снова глубокомысленно вздохнула.
Алина оглянулась на Кирилла. Он представлял собою полную растерянность, прячась у неё за спиной.
— Да что ж это такое?! — возмутилась Алина. — Если все действительно так… Скажи ей!
— Пожалуйста, уйди, — Кирилл взял Жанну за руку и потянул, словно тряпичную куклу. — Уходи, уходи, давай, — засуетился он вокруг нее. Жанна не сопротивлялась, но и не думала пошевельнуться.
— Меня подставили, — жалостливо произнесла она.
— Это кто ещё кого подставил?! — поставил он Жанну на пол, словно манекен, продолжая обнимать за талию, чтобы не упала. Пузико же его плотно прижималось к ней.
— Ничего себе! Он её ещё обнимает! Нет. Все! Я пошла.
— Стой! Только не уходи! — отпустил, даже оттолкнул он Жанну, Неужели ты не понимаешь, что я люблю тебя. И только тебя! И никто мне кроме тебя не нужен!
Кирилл обнял жену, прижал её к своей широкой груди: плотно, чтобы не дергалась, нежно, чтобы не вырывалась — и целовал её в затылок.
— Во! Дает! — брезгливо фыркнула Жанна. — Во! Дает! — и, гордо вскинув голову, покинула чуждую ей территорию.
ГЛАВА 9
Кирилл не уволил Жанну. Жанна нужна была ему для прикрытия. Она не имела понятия о том, что происходит в его конторе, но в случае чего являлась свидетелем его добропорядочности. Все документы, которые должны были быть в случае государственного налета — хранились у нее. Никакая иная информация Жанну не касалась. Мало того, после первого знакомства с очередным махинатором в конторе, на приличном уровне, следующие встречи происходили либо в машине, либо в очередном тихом, но дорогом кафе. Но Жанна о многом могла догадываться. Он не мог уволить эту влюбленную интриганку по причине личного несоответствия. Она приходила в его контору. Он зорко следил за ней. Из невнятных объяснений, которые он не дослушивал до конца, он понял, что её подставили. Но кто? И зачем?! Не способна она быть инициатором. Но и тому, что она просто хотела объясниться ему в любви, не верил. Была в её поведении какая-то тайна.
Кирилл не верил и Алине. В честь чего это она отказалась от операции? Быть может, единственного её спасения. Значит, обнаружили, что ничего у неё нет, а о выписке её из больницы кому-то было известно заранее. Какую цель преследовали те, кто инсценировал его измену — поссорить его с женой? Или она сама все это подстроила? Но зачем?..
Он съездил в Онкологический центр, узнал, что Алина не врет. Что она действительно больна, что действительно неожиданно заявила что, отказывается от операции и покинула больницу.
После этого Кирилл окончательно запутался.
Алина же, погрузившись в себя, избегала разговоров с мужем. Тягостная атмосфера заполнила их быт.
Шли дни. Кирилл, продолжал ездить к матери в больницу. Видя мать немощной, уже не жалующейся, еле шевелящейся, возвращался домой в унынии. Наблюдал, как жена передвигается по квартире, машинально продолжая занимать себя домашними заботами, и понимал, что и она умирает. И чувствовал себя все хуже и хуже.
Но не в силах справиться с накатывающей действительностью, как бы незаметно отстранялся от беды, лишь усиливая сомнамбулический вакуум отношений.
Временами Алина все же вспыхивала какой-то непонятной ему деятельностью. Подолгу разговаривала с подругами по телефону, кого-то жалела, куда-то неслась, чтобы помочь кому-то. Относила свои уж не нужные, как ей казалось, но вполне приличные вещи в церковь. Уезжала в редакцию, зачем-то интересовалась украденной скрипкой Страдивари… А ему казалось горела тайной близкой смерти, оттого и маялась желанием хоть что-то сделать в своей жизни так, "чтобы по Богу", так, "чтобы по сердцу, не смотря ни на что"… И вдруг, преподнесла ему сюрприз — не спросясь, привезла из больницы его мать.
Поставленный перед фактом, Кирилл был совершенно ошарашен. Алина и его мать, казались ему, навек несовместимы.
Оказалось, его родная мать звонила и жаловалась его личной жене по несколько раз на дню. И они сохраняли эти разговоры в тайне от него. Но, почему-то, она никогда не звонила ей в то время, когда был дома её сын. А, звоня ему из больницы, ни словом об Алине не упоминала. Он заезжал к ней через день, но и с глазу на глаз она ни разу не обмолвилась, что разговаривает с Алиной. Кирилл проанализировал все редкие фразы, которые бросала ему ещё хранившая обиду после того странного инцидента с Жанной Алина.
Да, в её фразах мелькали намеки на то, что его матери должно быть плохо в больнице. Но не более. Он был уверен, что контакта между ними быть не может. Неужели, когда человек при смерти — так радикально меняется направление стрелок его души?..
Кирилл был возмущен тем, что женщины сошлись и что-то решили за его спиной.
— Что она тебе говорила?! Что? Жаловалась?! — допрашивал жену Кирилл. Больница, в которую он положил свою мать, была недешевая. Сиделки обходились ему, вообще, в кругленькую сумму. Что в боксе не захотела лежать, так от скуки. Телевизор ей, специально, новый купил, даже соседок поприличней выбрал…
— Естественно, — не отпиралась Алина, — Жаловалась на свою покинутость, что все родные и близкие просто сбагрили ее…
Кирилл взглянул на Алину и отступил в недоумении.
"Н-да… и чего только не выкинет человек в предчувствии агонии", чесал он задумчиво бороду, представляя какой бабий лепрозорий ожидает его, и прятался от семейной тоски на работе.
Он ожидал от неё всего, но только не этого. Он изо всех сил старался сохранить спокойствие.
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ.
"Крыша поехала окончательно", — покачивал он головой, уже не противясь её поступку.
"Я колокольный язычок,
Что бьет до глухоты.
Я как натянутый смычок,
При скрипке немоты…
Все на исходе — нет конца.
Надрыв, но нет разрыва…
В толпе ищу просвет лица,
Как черный стриж — обрыва" — звучало в Алиной душе.
Слабость, мучительно-жалостливая слабость ко всему живому — заливала её сознание болью. Христианским прощением.
— Аля! Хочу куру! — голос немощной свекрови Любовь Леопольдовны возвращал её к реальности, нетерпеливо требуя материализации христианского милосердия.
— А когда будет банан?
— Какой банан? — обалдело смотрела на неё Алина. Пищевые фантазии умирающей на глазах больной каждый раз заставали её врасплох.
— Тогда подайте апельсин.
Алину передергивало от этого слова "подайте". Но она понимала, что это привычка бывшей жены райкомовского работника, которая свято уверенна в том, что все и навсегда перед нею в долгу.
— И надолго она у тебя? — заскочила к Алине подруга Ирэн.
Алина взглянула на неё — такую жизненно утвердительную, здоровую плотно сложенную, розой кожи… На свою длинноногую баскетбольного типа рыжеватую болтушку. Знала бы она…
— До конца… — в сторону ответила Алина, принимая подругу на кухне. Сквозь закрытую дверь донеслось: — Аля!
И пусть одряхлело тело бывшей жены начальника, но голос!.. Голос был повелительно трубный.
— До чьего конца? До твоего? — усмехнувшись, спросила Ирэн, отдающая ароматом плоти, при каждом взмахе рукава.
— До победного, — мрачно ответила Алина, подумав о собственной близкой смерти, вышла из кухни, словно на подвиг.
— Что она просит? — спросила Ирэн у Алины, когда та вернулась.
— Телефон.
— Отнеси ей, пусть отвлечется. А то она ни на секунду не оставляет тебя в покое.
— Нельзя. Она вызывает "скорую".
— У неё что-то болит?
— Нет. Это у неё такое хобби. Врачи уже воют. Приходится говорить, что телефон сломан.
— Да это же — какое-то сексуальное извращение!
— Но это от подсознательной паники, что все — жизнь кончилась, и она умирает. Ей навязчиво не хватает внимания. Врачи же своим профессионально-внимательным осмотром компенсируют это чувство. Оттого и в лежачую больную превратилась. А когда я ей конфеты выдавала по одной, а остальные на секретер положила — так поднялась потихоньку и взяла. А утку требует… иногда под себя ходит.
— Что же это, получается, гадит под себя, чтобы привлечь внимание, а ты это понимаешь и все за ней ходишь?! Да ты сумасшедшая! Сколько ты уже с ней мучаешься?!
— Неделю. Она жаловалась, что её все бросили, вот я её и взяла.
— Зачем тебе это нужно! Я бы никогда на такое не согласилась! Я тебя в последнее время не понимаю. Она что, помогала тебе всю твою семейную жизнь?! Я ни разу не видела её в твоем доме! Сколько ей лет?
— Шестьдесят пять, кажется.
— Вот это да! Да это просто капризное чудовище! Сейчас же отправляй её в больницу!
— Она, все-таки, мама мужа… не по-христиански как-то…
— Но тебя же за это к святым не причислят! А хочешь быть святой — иди в монастырь.
— Ничего не хочу…
— Хочу молочка!
Алина тут же молча принесла Любовь Леопольдовне молока.
— Подайте газету.
Взяла газету и понюхала ее:
— Почему газета несвежая? Газеты всегда должны быть свежими, иначе это уже не газеты, а туалетная бумага… — и, взяв газету вверх ногами, уставилась в неё серьезным взглядом. — Вы что думаете, что если я старая, так значит, у меня нет духовных потребностей?..
Постоянно помня о близости собственной смерти, Алина безмолвно терпела её капризы.
Кирилл приезжал домой в два часа ночи, для него теперь это было нормально. Поужинав, он, по новой традиции, неизменно вступал в громкие пререкания со своей бессонной мамочкой. Это походило на сказку про белого бычка. Мать спрашивала, от чего он так поздно пришел, пьян, что ли?..
Кирилл вроде бы не страдал алкоголизмом, ели пил, то нечасто, но Любовь Леопольдовна всей своей жизнью знала, что если муж пришел домой поздно, то значит пил. Кирилл же не мог принять за норму то, что пожилым людям часто не спиться по ночам. И спрашивал, почему она не спит?..
Что-то творилось при приближении сына с её слухом, и, хотя Аля разговаривала с ней тихим голосом, Кириллу приходилось кричать. Чуть ли не до рассвета доносились их крики:
— Почему ты не спишь?!
— Сынок, почему ты так поздно? Пьяный что ли? А?..
— Я не пью. Почему ты не спишь?!
— Значит, точно пьяный. Сынок, сынок… у тебя совесть-то есть?!
— Ну, спи! Почему ты не спишь?!
— Почему ты так поздно? Никогда я не думала, что мой сынок будет алкоголиком.
ГЛАВА 10
Вот так, неожиданно для самой себя, Алина посвятила остаток своих дней милосердию. Ей страстно хотелось так и умереть в безропотном служении божьему делу, но это оказалось нелегко и требовало от неё не столько духовных, сколько физических сил. Уже к ужину от домашних забот Алина падала от усталости. И вспоминала страшную, изуродованную Надежду. И вспоминала её слова о том, что никогда нельзя делать то, что тебе противно. И верила ей. И понимала, что иначе человек загоняет себя в тупик. И анализировала свою жизнь. И понимала, что, взяв мужа с приданным в виде капризной матери, позволяла себя закомплексовывать, портила себе жизнь мыслями о том, что её кто-то ненавидит, отгораживалась, отстранялась, думая, что спасает мужа от инфантилизма, от истерической модели семейных взаимоотношений, но перевернула своим милосердным поступком ситуацию — и теперь больше нет истерик у Кирилла. Да и она не напрягается от присутствия в их жизни его матери. Теперь она сильная, от того и подающая руку помощи. И пусть опустошается физически, зато полна уверенности в себе, знания что нужна. Пусть хоть последние дни, если не вся жизнь, будут высвечены лучами добра и благородства.
И думая о том, как нужна она кому-то, даже не задумывалась о том, что же нужно ей самой.
Неожиданно, из сочувствия к Алине, Любовь Леопольдовна научилась ходить. Тихо, как привидение белой ночной рубашке качающейся колоколом, она пробиралась на кухню и застывала в дверях, пугая Алину своей беззвучностью.
— Вы разговариваете по телефону? Значит, телефон починили? Тогда вызовите мне "Скорую".
— Но Любовь Леопольдовна!.. У вас же ничего не болит, а пока к вам будут гонять машину, не смогут помочь другому, кто, может быть, действительно нуждается в помощи. Вдруг — кто-нибудь выпал из окна?..
— И зачем это ему падать. Пусть не падает. А у меня болит… — она на секунду задумалась, водя по кругу блеклыми зрачками и, сообразив, что словам не хватает театра, начала хвататься то за один бок, то за другой: Вот здесь у меня болит. Нужна "Скорая помощь!" Ой!.. Ой… ой…
"Господи, — думала Алина, может быть это счастье, что я умру молодой?.." И набравшись сил противостоять этой аморфной неотъемлемости, ответила: — Нет. "Скорую" я вам тревожить не дам!
— Но Алечка, что ж я вам плохого сделала? Я и ходить до туалета научилась, чтобы ваш труд облегчить. Что ж мне, на старости лет, одинокой вдове уж… так и жить без доктора? Мне и так жизнь не нужна, а без него и подавно. Я бы на себя руки наложила, я бы давно наложила, да не прилично как-то.
"Боли начнутся, — думала Алина, слушая уже привычную песню, повешусь. Нет. Все, кто вешается, дурно пахнут. Застрелюсь. А где я пистолет возьму? Отравлюсь. Нет, ещё посинею, какая травма будет для Кирилла!.. Надо так покончить жизнь самоубийством, чтобы трупа не оставалось. А как? Это дело надо обдумать".
ОСТАЛОСЬ ТРИСТА ДНЕЙ
"Да. Надо что-то делать…" — думал время от времени Кирилл и не делал ничего. Уходил рано, возвращался поздно. Как всегда. Дел вне дома хватало. А ещё дежурные встречи в бильярдной… Там можно было не думать. Просто некогда было думать о себе, о семье, о жене. Фантастическая эмоциональная глухота напала на него после объявленного семейного горя в виде всеобщего умирания женщин.
Возвращаться домой не хотелось. Алина стала нервной. Не такую любил он, но выдержанную, порою пусть резкую, как "Нате" Маяковского. Ее глаза, теперь — чуть что — наполнявшиеся слезами, утомляли его. "Ты совсем меня не жалеешь", — как-то обмолвилась она. А кто б его пожалел?!..
Да, Алина ждала жалости к себе, но как-то абстрактно, при любом проявлении этой натурализованной жалости — в движении ли, в тоне голоса чувствовала, что её словно укачивает до тошноты, сама же себя ни в чем не жалела. Совсем не жалела. А когда руки заняты — мысли свободны. И все чаще и чаще: "Страдивари! Страдивари!" — ныло сердце Алины. И почему… зачем боль об этой скрипке именно сейчас, когда она при смерти, когда ей не до того, мучила ее?
Быть может затем, чтобы всколыхнуть родовую память о скрипке Страдивари, подаренной царским семейством её деду, тогда юному юнкеру. Подаренную, по настоянию Распутина, вдруг оценившего его игру. "Чтобы сердце рода твоего звучало так же, как эта скрипка, спутница твоим потомкам, — шепнул старец деду Алины после вручения подарка.
Дед отчетливо помнил, как отстранился с холодной брезгливостью от его теплого — в ухо — дыхания. В высшем свете не любили великого старца. В высшем свете считали недостойным склонять перед ним голову и досадовали на царскую слабость. Что понимал юный дед в то время, мог ли он предчувствовать, каким проклятием обернется вскоре убийство Распутина. Что теперь значат его былое высокомерие, родовитость, образованность, талант…
Скрипку украли во время войны, когда он, былой офицер царской армии, в штрафном батальоне штурмовал Сталинград. Едва украли скрипку, дед погиб.
Прошли годы, о скрипке великого мастера вспоминали все реже, да и не до этого было семье. А уж как о царском подарке — вспоминать боялись и вовсе. Лишь перед смертью рассказала Алине о скрипке бабушка, припомнила слова Распутина с усмешкой: мол, шарлатан он был, все-таки, — не стала скрипка спутницей потомкам, да и зачем она. Некому теперь было бы на ней играть. Это раньше было модно уметь играть в салонах, и не называться музыкантом. А теперь…
— Послушай, ну кому реально в нашей стране, в такое время всеобщей разрухи могла потребоваться скрипка Страдивари?! — словно и не мужа вовсе, оборотясь к окну, вопрошала вслух Алина, как они её перевезут через границу?
— И что тебя эта скрипка так задела? Больше не о чем думать?..
— Я уже больше не могу не о чем думать. Мне, кажется, верни я её себе и все… все будет по иному — говорила Алина, отвернувшись от него, глядя в ночное окно. — Всю жизнь пишешь статьи, а все, вроде бы, тебя нету. Будто ты и не существуешь вовсе. Все, о ком я пишу, есть, а меня нет. Такое чувство, что я что-то не сделала, какого-то главного дела в своей жизни… и вдруг объявляют, что пора подводить итоги.
— Не всем же быть Владами Листьевыми, или как этот… ну тот мальчишка-корреспондент, которого взорвали прямо в редакции перед Чеченской войной, — старательно серьезно отвечал ей муж, — Вот видишь, его убили, а я даже фамилию его забыл. Все так… Скоро и Листьева забудут. И Меня этого, священника, пройдет каких-нибудь десять лет. Высоцкого уже все реже и реже народ поет. А ты все о чем-то наивно грезишь… Главное дело ты уже сделала — красиво жила… И мне красивые годы прожить помогла. Это же не у всякой женщины так все складывается, а все недовольна, — говорил Кирилл, не переставая при этом жевать, — Сиди себе дома, занимайся моей матерью, домом… Если со мною по круизам, ресторанам, саунам, бильярдным и клубам таскаться надоело. Отдыхай от светской жизни. Скоро матери сиделку найму, поедем на Красное море. Позагораешь. Рыбок с руки покормишь. Помнишь, как огромная рыба так аккуратно брала яйцо с твоей ладони. Ты даже так зашлась от восторга, что чуть не захлебнулась. Помнишь?
— Помню.
— А в какой шикарной гостинице мы жили?! А какой у нас номер был?! Один балкон как зал для приемов! Такое же не всякий может себе позволить. Помнишь?
— Помнишь.
— Вот тебе и женское счастье.
Она отчужденно оглянулась на него. Он сидел перед ней на табуретке, в одних трусах, почесывал бороду… тучно вздыхал…
— … Зря волнуешься, — продолжал он, — вот врач сказал… что волновать тебя нельзя. Ходить с тобою надо по музеям, в театр… — и осекся, взглянув на неё по-бычьи. В упор. Но глаза его были прозрачны, словно не видели её саму, — …А ведь мы года три не были в театре, кис, не по работе твоей что б, а так, наслаждения ради… Позор!
Она смотрела на него, неожиданно неприятного, мучительного, безысходного, смотрела, как он болтает шлепанцем на ноге — и презирала его за это, словно за самое страшное падение, за это, ему привычное, движение. Мысли её путались — "Причем здесь музеи?.. Разойтись… Бежать! Бежать из всей этой жизни!" Но тут же сдержал страх за свою абсолютную несамостоятельность.
"Они делают людей никчемными". — Вспоминались ей слова ужасающей Надежды. Да, именно он превратил её, нормальную полноценную женщину — в совершенно никчемное существо. Он уверенный, что она существует для него, а он — для того чтобы развлекать её по своему желанию, занимать собой всю-всю без остатка, так словно ничего более на свете не существует. А ещё его мамочка!.. Какой она — Алина была до своего брака! Во что превратилась всего лишь к пятому году замужества!.. Пусть ей завидуют, те, что видят жизнь её снаружи. Но она, лично, теперь понимает, почему среди жен бизнесменов самый высокий процент самоубийств.
Кириллу же было не до рассуждений — он зарабатывал деньги. Как можно больше денег! Для этого постоянно находился в кругу своих дел и деловых партнеров. Он прятался от своих семейных проблем и конфликтов. Работа его, казалась ей, его тайным пьянством.
Только ей опоить себя, чем-то вне этой внутренней жизни, было нечем.
"Как можно считать себя приличными людьми — и не ходить два года в театр?!" — она усмехнулась, повторив про себя сказанное им. И поняла, насколько она вся иссякла, словно эхо идеи светлой, созидательной любви. А ей твердят про мумии музеев. Музеи… Музеи… Музеи и театры слились в единую подготавливающую к смерти службу, к уходу в небытие. Значит, вот через что надо проводить за руку умирающего — через ряд каменных изображений людей, называющихся скульптурами, барельефами, торсами, через людские лики, нарисованные на холсте, через пыльные портьеры, усаживать в кресло и, чтобы он видел то, как лицедеи, покрытые плотным гримом, изображают чувства той жизни, которая могла бы быть и его, но никогда уже не будет. Никогда. Показывать многозначительно чужую, в ничтожество сводя итог твоей. Только ступи, и тебя поведут, поведут в царство мертвых. А ведь она только то и делала на самом деле, что носилась по этим понтонам над Стиксом, писала о них… осмысляла… не чуя под собою мертвой воды.
— Ненавижу!! — прошептала она.
— Ты просто зажралась. Посмотри, как другие живут! Не живут, а побираются!
— Причем здесь другие? О чем ты! Ведь я же скоро умру!
Он не смог взглянуть в её полные отчаяния глаза, он отвернулся и вышел из кухни в ванну, из ванной прокричал: — А может быть, я завтра умру!.. Меня в любой момент могут убить. Или в аварию попаду! А ты здесь ноешь не понятно о чем. Живи, пока живешь! — и осекся. И попытался смягчить сказанное. — Ну… хочешь, завтра я пойду с тобой в Пушкинский музей, да хоть в эту чертову галерею Гельмана, хочешь?
— Да не об этом я! Ведь надо же что-то делать!..
— А все равно — ничего не поделаешь.
Ты не любишь меня, — прошептала как-то ночью мужу Алина.
Он ничего не сказал в ответ, лишь отвернулся к стене. И никто из них не понимал, почему они все ещё спали в одной постели.
Алина зашла в родной подъезд. Дверь привычно хлопнула за её спиною. Поднялась по ступенькам к лифту. Нажала кнопку. Двери распахнулись. Она нажала на кнопку своего двенадцатого этажа. Лифт тронулся вверх и вдруг поехал куда-то вбок, так, словно не было задней стены у шахты. Все быстрее и быстрее, с щемящей душу скоростью. И вдруг завис. Завис над пропастью. Сквозь щели дуло ветром сырого пространства. Она села на корточки на полу и, уткнувшись лицом в колени, поняла: бесполезно звать на помощь — никто не услышит. Никто не поможет. И будет она так висеть, быть может, целую вечность. И не дано измерить её, потому что минуты остановились. Остановились все часы во всем мире.
ГЛАВА 11
Все сон, — думала Алина, стирая постельное белье, изгаженное свекровью.
"Он опять гулял с ней по бульвару! Он опять с этой Жанной! Что ты молчишь?! Я бы это дело так не оставила…" — вновь зазвучал голос Натальи. "Все бесполезно. — Твердила про себя Алина, — Нет сил на сопротивление. Лучше закрыть на это глаза и ничего не знать. Бог с ним. Это его дело, его совести. Ведь и сама не святая.
Но только теперь!.. — взмывал внутренний голос — Когда она тихо, медленно исчезает из этой жизни, и он — единственный… Единственный!.. Теперь он получался действительно предателем. Хотя бы приходил не в два часа ночи. Хотя бы… Да хоть и в театр с ней сходил бы… Не предлагал бы, а взял и повел, хоть бы… Но так предавать!.. Развлекаться с любовницей, пока она!.. И к тому же по ночам устраивать эти ужасные перебранки!.. И совсем не думать при этом о том, что думает, что чувствует его жена!.. Конечно, ему проще уйти из этой ситуации, изъять себя — быть как будто не причем. Легче уйти от признания собственной слабости и не делать ничего", плакала про себя Алина.
— Но разве слабость это оправдание? — перебивал её женский монолог иной, мужественно-ровный внутренний голос, голос, словно принадлежащий тому, кто может идти против ветра во время песчаной бури в пустыне, голос того самого центрального внутреннего Я, что дремлет в каждом из нас, словно каменный сфинкс. — В каждом спит внутренняя сила, нет в ней понятия слабости, это лень творит подлость, выставляя изнанкою подлости слабость. Животная лень!
"Пройдет… Все пройдет… заранее готовит позиции…" — вспомнился Алине ответ Сергея на её подозрения, когда она звонила ему ещё из больницы.
"Вот тут-то Сережа не ошибся. Только не для того, чтобы вернуться, он оправдывался тем, что я больна! Он надеялся, что я скоро умру! Но… но я-то ещё жива! А выходит, что он меня уже похоронил… Он меня похоронил! До чего же пошла наша жизнь! И никакой тебе скрипки Страдивари!.." кружилось в её голове.
Она стала растерянной. Ей все время хотелось лечь и заснуть. Так, чтобы никогда не просыпаться. "И зачем мне эта жизнь. Что я цепляюсь за нее?" — думала Алина.
Ей ничего не хотелось делать, но постоянно бдящая свекровь не давала впасть в разрушительную лень. Ей никого не хотелось видеть. Но подруги постоянно забегали к ней на чашечку кофе, и не уходили, пока не выпивали с бадью. Ей ничего не хотелось слышать. Но они рассказывали и рассказывали.
Алина чувствовала себя космической сиротой, заброшенной на планету людей, подражающих высшим, божественным законам космоса, но так преломляющих их понимание в кривом зеркале своего сознания, что все, что бы ни делали они, превращалось в подвижную карикатуру.
"Я улыбаюсь, когда мое тайное лицо сведено гримасой отвращения", подумала она, возвращаясь из магазина домой. Нажала кнопку лифта. На третьем этаже лифт остановился. Двери медленно разъехались в разные стороны, и толпа людей в белых халатах рванула к лифту из огромного белого зала. В ужасе она нажала кнопку своего этажа, уже тянулись к ней бледные, проспиртованные руки, уже сияли улыбками их одержимые лица, ещё вот… Но кнопка лифта не срабатывает, она бьет по всем кнопкам, бьет хаотично, двери закрываются. Лифт медленно ползет вверх. Двери открываются. И она видит: то ли комнату, полную зеркал, то ли полость, полную осколков всех временных измерений, потому что полна она Кириллов, её мужей. Десятки Кириллов стоят прямо перед ней и говорят наперебой разными оттенками его голоса. "Давно не была ты в театре", "В бильярдную пойдем или в бассейн сначала?", "А не пора ли нам в музей?.." Одни чешут бороды, другие — романтичные мальчики с букетиками незабудок, ромашек… стоят, потупившись, а поодаль. Подмигивают лукаво — сутулые, почти горбатые старики. И все они — Кириллы. Ее мужья. И все зовут её, зовут… Но она знает, если сделает шаг и переступит порог своего лифта, пол обломится, и все и вся рухнет в пропасть. Она зовет: "Кирилл! Помоги мне, Кирилл, где ты? Я не вижу тебя среди тебя… Я ничего не понимаю в этих кнопках!.."
И лишь один мальчик делает шаг в её сторону, глаза его полны слез. "Мальчик, скажите, неужели все это нас ждет впереди? Но двери лифта закрываются. Она летит с дикой скоростью, но не вниз, не вверх горизонтально. Она садится на корточки и, чуть раскачиваясь, превращается в камень. В тяжелый валун, который молится сам в себе — прогоняя молитву по кругу, молится и все. Ни Богу, ни звездам, ни любви. И слышит, как гудят в ней слова, не слышные никому: "Уж если ты оставишь, то теперь… теперь, когда весь мир со мной в раздоре…"
Что это? — очнулась Алина, — Ах, это ж радио поет.
"…Когда весь мир со мной в раздоре…", — провопило в голове у Карагоза, когда он переступил порог вскрытой им квартире пенсионера коллекционера. Подстава была очевидна. Квартиру явно обчистили до него. "Клянусь мамой! — орал Карагоз, когда ему скрутили руки за спиной. Чему он клялся, он не знал. Он просто ненавидел — ненавидел всю свою жизнь.
ГЛАВА 12
Кирилл уже ненавидел свой дом. Он знал, что она знала это. Он ненавидел её как немого свидетеля своей ненависти, а значит слабости. Теперь не просто покорно ждал её смерти, он желал её. Желал одного прекратить всю эту — муторно непонятную жизнь. Уйти из её берегов, предметов, границ, расписанных его личной историей, исчезнуть. И когда он уходил из дома, каждый раз думал, что не вернется.
А дом теперь жил своей, неподвластной ни его разумению, ни власти, жизнью. На балконе, в ванной порхали простыни, женское нижнее белье в неимоверных количествах выползало отовсюду. Посудомоечная машина гудела, соревнуясь со стиральной и, вдруг, сквозь этот гул, прорезалось властное требование Любовь Леопольдовны, чтобы ей привезли внука. Сначала ему показалось, что она окончательно сошла с ума. Но вдруг вспомнил, что у неё действительно есть внук, сын его сестры. Сестра была на десять лет старше. Он смутно помнил её. Ему не было и восьми, когда она ушла из дома — и в доме стало тихо. Дом освободился от скандалов. Мать сначала бурно ненавидела её при воспоминаниях, затем скорбно вздыхало об "отрезанном ломте", а потом и вовсе жила так, словно дочери у неё никогда не существовало.
Когда он рассказал Алине о том, что все его воспоминание о сестре связаны с неприятными ощущениями вечной её вины в постоянной домашней ругани, портившей мир его детства, Алина усмехнулась, с былым сочувствием сильного человека:
— Это все ревность.
— При чем здесь ревность?! Я только и помню, как она огрызалась на мать. Что ей стоило не опаздывать к ужину, не трепаться подолгу по телефону, не прятать косметику, не высказывать своего мнения, ради мира в семье?! — ни капли, не сомневаясь в правоте своих обвинений, возмутился он.
— Это была просто ревность, к внезапно подросшей дочери. Она же тоже женщина. А что ты хочешь?.. Твой отец был ещё жив тогда, а отцы любят дочерей больше, чем сыновей. Твоя подросшая сестра не должна была отвлекать его внимание от тебя маленького, а значит и от твоей матери. Все её благополучие всегда зависело от мужа. Неужели ты не понимаешь. Дочь стала лишней на уровне её подсознания. Все это так просто. Но, к сожалению, все наши родители были совершенно безграмотны относительно элементарного фрейдизма, не могли отслеживать в себе и отделять животное начало от человеческого.
— Все человеческое нам не чуждо.
— Я имела в виду — высший разум.
— Утомила. — Отмахнулся Кирилл. "Мало знать — что от чего, — думал он — Знать бы ещё точно — как надо поступать иначе".
Но он не знал. Не знал как что надо, а что не надо. Однако сопротивляться ярому желанию матери увидеть перед смертью внука не мог. В виде примирения, Любви Леопольдовны с дочерью, — в доме Кирилла появился племянник.
Шустрый, десятилетний мальчик, оказавшись на два дня в чужом доме, совершенно не понимал — что ему делать, как себя вести, где встать, где сесть.
— Подойди ко мне, внучек! — торжественно потребовала Любовь Леопольдовна, едва проснулась. И было в этом требовании что-то от волка из "Красной Шапочки" — Дай я посмотрю на тебя. Учишься хорошо?
— Хорошо, — робко ответил Даня.
— Вот и мама твоя хорошо училась. Как ни спросишь ее: "Ты уроки сделала?" Сразу огрызалась: — "Ты в этом не разбираешься — не лезь!" Вот какая у тебя мама была. Тебя мама часто ругает?
— Нет, — удивленно ответил ей внук.
— А с мальчишками дерешься?
— Бывает, — вздохнул Даня.
— Вот ты какой. Весь в мамочку. Она тоже задиристая была, как попрошу её с моим сыном посидеть — не сидела. Вот и я — от того — с тобой не сидела.
— Она тебе родная сестра? То есть ей родная дочка? — шепотом спросила Алина у Кирилла. Они были допущены присутствовать при встрече бабушки и внука.
— Конечно родная.
— Невероятно, — покачала головой Алина.
— Да чего там невероятного. Копаешься все. В подсознаниях всяких. А мне некогда. Я пошел.
После кратковременного допроса бабушка отпустила внука.
Даня, спросив у Алины разрешение, нашел себе занятие — рассматривать старые журналы. Они разговорились. Оказалось, он знал все марки машин и все про гонки "Формула — один". Алина, испытывая чувство неловкости перед ребенком за то, что не знала его ранее, стремилась компенсировать чувство вины сердечной заботой и вниманием. Но ребенка задергала бабушка.
— Вы совсем про меня забыли, Аля! А фрукты?!
— Сейчас я принесу. Подождите секундочку!
— Нет. Пусть мальчик подаст.
"…Пусть мальчик подаст! Пусть мальчик…" — звучало целый день.
Не привыкший к такой роли, Даня совершенно измучился к шести часам вечера.
— А можно на улицу, погулять, — уставился он на Алину мученическим взглядом.
— Но… ты же не знаешь двора. Он у нас, в принципе, тихий… Иди, но так, чтобы я, взглянув в окно, тебя видела.
— Ладно. У меня есть часы. Я до восьми.
Отпустив ребенка на улицу, принялась за ужин. Ей хотелось сделать замечательный ужин. Накрыть праздничный стол… Но едва расположилась готовить, пришла Ирэн.
ОСТАЛОСЬ ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ДНЕЙ
Не прошло и сорока минут, как в дверь позвонили.
Алина открыла дверь и отшатнулась в ужасе, увидев племянника. И тут же взяв себя в руки, спокойно спросила:
— С кем дрался?
— Да так… с ребятами, — соврал Даниил, боясь напугать правдой. Ерунда…
— О господи! — воскликнула она — Да у тебя не только фингал под глазом. У тебя, кажется, разбит висок! Да у тебя может быть сотрясение мозга! Чем били! За что?
— Да ничем. Подрались просто круто.
— Быстро ложись в постель. Я сделаю примочки.
— … сшила я себе платье за одну ночь. И полетела за ним в Минск. Вычислила, где у них там мастерская. Иду я в своем неповторимом ярко-оранжевом платье из марлевки, — оно у меня получилось, как у индианок… — увлеченная рассказом Ирэн краем глаза заметила, что подруга вышла из кухни, но продолжила, не поднимаясь, лишь усилив голос, — Только ещё более фантастическое. Представляешь — раннее утро. Я думаю, что он ещё спит, думаю — открыта мастерская, или заперта. Мечтаю залезть к нему в окно… Ты представляешь, до какого маразма я дошла! Уже начала в своих грезах выбирать — в постель к нему забраться или сидеть где-нибудь в углу недвижно, как изваяние. Прохожу я под аркой к ним во двор… — Алина вошла на кухню поставила бутылочку со свинцовой примочкой в аптечку и застыла перед лекарствами в раздумье. Ирэн смогла продолжить не надрываясь:
— … и вдруг вижу — он идет ко мне навстречу. Я в шоке. Часов шесть утра. Идет с Борисом, скульптором. Подошел поближе и говорит: "Ты чего это притащилась?" И так грубо, буднично, как будто живу я в соседней подворотне. Даже не удивился, представляешь. Даже не спросил, как я догадалась, что он в Минск поехал, даже не спросил — откуда адрес взяла. "Езжай, — говорит, — назад. Некогда мне" — и пошел, куда шел. А я стою, как дура, в платье, вся любовью переполнена… Кошмар!..
— Алина! Подайте мне соку, — раздалось из комнаты.
— Она уже ходит, а ты ей все прислуживаешь. Ну и здорова свекровь — на чужом горбу ездить, — среагировала Ирэн на прервавший её рассказ голос Любовь Леопольдовны и, поправив свои льняные, стриженные под каре волосы, пахнув при этом ужасающей смесью дезодоранта и пота, заерзала на стуле, уже готовая опять лететь в какой-нибудь туманный Минск.
— А что я должна сделать? Выкинуть её на улицу? — сосредоточенно думая, что делать с племянником, машинально ответила Алина.
— А твоя бабушка тоже так себя вела, когда помирала?
— Она совсем другая была. Она Институт Благородных девиц окончила. Да лет десять потом за это по лагерям промучилась.
— Говорят, что эти девицы были самыми крепкими из заключенных. Не ломались…
"…Не ломались… а я… А я, вот-вот возьму — и сломаюсь, и заплачу. Неужели, моя бабушка никогда, никогда не плакала? — думала Алина, перерывая аптечку в поисках перекиси и прочего — не было ничего. — Сколько ж мужества надо иметь, чтобы прожить такую жизнь. Неужели только ради того, чтобы родить да воспитать детей? А когда они вырастут?.." — она подошла к Дане, лежащему на их супружеской постели и прислушалась. Ей показалось, что он не спит, но и не бодрствует в тоже время, а прибывает в забытьи. Она осторожно ладонью убрала волосы с его разбитого лба. Он медленно открыл отекшие глаза. Такие же синие глаза, как и у Кирилла.
— Тебя не тошнит? — спросила она.
— Мне плохо. Я хочу спать и не сплю. Все кружится во мне.
— За что тебя так?
— А нас троих пытались поставить на колени. Мишаня убежал. Олег встал. А мне противно стало. Ни за что, думаю, не встану. Тогда меня ударили ногой в живот.
— Господи. Когда это ты успел со всеми перезнакомиться? И ты не дал сдачи? — воскликнула Алина, ещё ничего не понимая.
— Нет, тетя Аля. Я не сопротивлялся. Их много было, человек десять. Если бы я врезал тому, который бил, они бы все сразу накинулись на меня. У них бы только больше злости было.
— И как они били?
— Как могли. Когда свалился — добивали ногами. А Олег стоял на коленях и причитал.
— Ты скоро там? — окликнула её из кухни подруга, но Алина не ответила. Сухими от горя глазами она разглядывала избитого ребенка. Когда он пришел, отеки ещё не были так заметны. Теперь же — было страшно прикоснуться к его голове.
— Ты и дошла, даже с лучшей подругой поговорить не можешь, — обиженно крикнула Ирэн из коридора. — Я пошла, — добавила она перед тем, как хлопнуть дверью.
— Аля! А конфеты будут? — кричала Любовь Леопольдовна.
— Я вызову "Скорую", малыш. Потерпи.
— Не надо. Я попробую заснуть. А завтра будет полегче.
— Аля. Почему не несете конфеты. Я уже давно отобедала!
Когда приехала крепкая молодая спортивного стиля женщина — врач, Любовь Леопольдовна пробиралась по коридору в туалет, тайно нацелясь на телефон. Раздался звонок в дверь, и Алина выбежала из комнаты, распахнула входную дверь и… Любовь Леопольдовна увидела женщину в белом халате.
Все смешалось в атеистической голове Любви Леопольдовны. И пала она на колени перед проведением.
— Милочка моя! Милочка! Да не оставьте в беде позаброшенную, позабытую, вам не зря донесли, что нуждаюсь я.
— Я не ошиблась адресом? Сюда вызывали? — спросила врач у Алины, недоуменно поглядывая на страждущую помощи.
— Сюда! Сюда! — закивала Любовь Леопольдовна, отползая на коленях, Если б в бога верила, я бы ангелом вас назвала. Осмотрите меня, и тогда я вам часы мужа покажу, именные, сам Громыко подарил.
— Но у меня вызов к мальчику. Травма головы.
— К какому ещё мальчику?! — нытье Леопольдовны резко сменилось высокомерным тоном. — Вы ко мне. Я — больная!
— Любовь Леопольдовна, у Дани травма. Его зверски избили.
— У какого ещё Дани? Сначала посмотрите меня, а потом уже Даню! ловко вскочила с колен и загородила проход Любовь Леопольдовна. — Вы доктор — вы обязаны посмотреть больную!
— Но ваш внук сейчас может умереть! — опешив, воскликнула женшина-врач.
— Какой ещё внук?! Не знаю я никакого внука. Вот уж нет, милочка! Никуда я вас от себя не отпущу. Ах! — и словно падая в обморок, рухнула в сторону врача. На пол полете, спасая маньячку-свекровь, Алина удержала Любовь Леопольдовну. И, кинувшись между ней и врачом, — получила приглушенный удар "карате", и отлетела со своим невменяемым сокровищем в конец коридора.
— Извините, — врач скромно потупила глаза. — Сработала профессиональная привычка.
— Вас, что, этому в медицинском институте учат? — удивленно проговорила Алина
— Жизнь мой тренер.
— Вы не правильный пример подаете ребенку! Вы сначала должны осмотреть меня. По старшинству! Он должен уступить мне место! — вопила уроненная на пол Любовь Леопольдовна. — Да-а-ня! Я позвоню куда надо, и тебя лишат пионерского галстука!
Тем временем врач поставила предположительный диагноз: тяжелое сотрясение мозга. Возможно внутреннее кровоизлияние. Срочная госпитализация.
Медленно, поддерживаемый под руку Алиной, Даня проходил по коридору.
— Он знает, кто его избил? — спросила врач.
— Да, — ответила Алина сквозь ком в горле.
— Надо заявить в милицию. За это надо сажать.
— Не надо! Они все сами поймут. Нельзя! — еле шептал Даня.
— Ладно, ладно. Не волнуйся. Потом разберемся.
— Доктор! Доктор! Поднимите меня! Что ж я здесь так сижу! Я напишу об этом в "Пионерскую правду"!
ГЛАВА 13
Голосовать такси в такую ночь, — ветряную, жестокую ночь, глотая слезы, находясь в полном смятении от жалости и страха — небезопасно. Слабость притягивает насилие. Одинокий сутулый женский силуэт привлекает маньяков.
Алина ехала последним поездом метро домой, прижимая к груди вещи племянника, завернутые в куртку, и слезы катились по её неподвижному лицу. Склизкий тип подсел рядом:
— Тебя кто обидел? — пропел он келейно. — Расскажи мне все. Можешь мне рассказать. Только я тебя и пожалею… — и его бледные пальцы скользнули по её коленке.
Ее передернуло от отвращения.
"Господи, сколько ловушек, капканов, расставлено на женском пути! Сколько тихого, якобы ненавязчивого зла, основанного на первобытных животных притязаниях! Как будто бы смешались вдруг два века сознаний: каменный, первобытно-животный и современный мир. Но не поставить между этими мирами непроходимого барьера. Диффузия. Ни то — ни се — в итоге". И слезы тихо стекали по щекам. И горе горбило.
Муж пришел домой чуть раньше её. Он даже не успел переодеться.
— Что случилось, — подлетел он к ней. — Где ты была?! Почему ты плакала?! Что с тобою?! Я думал — вы спите. Что с мамой?! Что с ней случилось?! Зачем ей Данькин пионерский галстук? Какой ещё галстук в наше время?
— Дай ей какою-нибудь красную тряпку, — пусть успокоится.
— Пионер всем должен подавать пример! — кричала Любовь Леопольдовна с постели, — Я буду жаловаться!
— Некуда тебе жаловаться, зюгановка чертова. — Вдруг взревел Кирилл, Кончилась твоя власть. Белые в городе! И вообще, я могу хоть раз спокойно отдохнуть в этом доме?!
— Я письмо напишу! — донеслось в ответ, — Как ты смеешь разговаривать так со своей мамочкой, сынок! Напишу, вот увидишь!
— Пиши. Так и быть — отнесу его в мавзолей.
— Да прекрати же ты. Даня в реанимации. Его избили!
— Кто?! Ты звонила сестре?!
— Алечка! Алечка! Как хорошо, что вы пришли! Я же проголодалась!
— Подождите, Любовь Леопольдовна. Ужин ещё не готов, — крикнула Аля из кухни.
— Ты звонила сестре?!
— Да успокойся, звонила. Она, наверное, уже там.
Вдруг на пороге кухни беззвучно, словно привидение, застыла Любовь Леопольдовна в белой ночной сорочке:
— Алечка, я не буду писать в газету. Я осознала свои ошибки. Я поняла, что вы меня за это без ужина оставили. Сварите мне хоть яичко!
— Спать! — взвыл Кирилл и, схватив её на руки, понес к постели.
— Я хочу заявить официально, что после того, как мой сын женился, он стал преступно холоден к своей матери! А-а-алечка! — кричала Любовь Леопольдовна.
Алина поставила варить яйцо.
— Что сказала сестра?
— Ну, что она могла сказать?
— Она обвиняла?! Говорила, что не уследили?!
— Господи, о чем ты говоришь, — отрешенно прошептала Алина.
— Аля! Где мое яичко?
Алина ополоснула сварившееся яйцо холодной водой и сбегала — отнесла его свекрови.
— Это же не мы виноваты! Не мы! Зачем он ей понадобился?! А теперь…
— Заткнись! — вдруг разразилась она смертельным хрипом придавленной кошки. — Надоело! Что ты здесь из себя изображаешь?! Да тебе… на самом деле, на все наплевать!
— Мне плевать! Это почему же — мне плевать?
— Где ты был до часу ночи?
— Не с ней! Никакой женщины около меня не было! Я был…
— А хоть бы и… в бильярдной.
— Но я же!.. Деньги…
— Не все решается в этой жизни деньгами! Поэтому, прошу прекратить эти крики в два часа ночи. Противно!
— Кричишь сейчас ты, а не я.
Алина откинулась затылком к стене и уставилась в потолок. Прекратить. Хватит, надо прекратить этот безобразный скандал.
Дверь в кухню открылась, словно от сквозняка и, замаячив на пороге, Любовь Леопольдовна, со скудную слезой в глазу, взмолила: — Алечка, вы что, разводитесь? Можно я, после развода, останусь с вами? Я дам свои показания на суде. Сынок-то мой совсем от рук отбился.
— Спать! — взревел Кирилл, как пьяный прапорщик, и поволок "показательницу" по коридору в постель.
— Не трогай! — еле отбила её Аля. — Что ты с ней все время выясняешь отношения? Ты что, полоумный?! И вообще… я не могу больше так! Убирайся из дома, хватит! А твоя мама пусть здесь остается. Хватит!
— Нет уж, дорогая, если я уйду, то и маму с собой заберу!
— А я не отдам её, не отдам…
— Нет уж, я заберу.
— А я не отдам.
— Отдашь, как миленькая, потому что мама — не твоя, а моя.
— Ах, господи, вспомнил! Пошел к черту, подлец, — голос её сорвался на шепот.
Он увидел её окаменевшее лицо: не гнев, а мраморное равнодушие излучало оно. Схватил "дипломат" и выбежал из кухни.
Алина осела на корточки по стене. Хлопнула входная дверь. Значит, он ушел. Так и не спросил, в какой больнице лежит его племянник…
Шорох ветра заставил её поднять голову с колен. На пороге кухни колыхался останок человеческой жизни.
— Алечка! За что он у меня отнял яичко?
— Отомстил! Отомстил! Отомстил! — упершись лбом в стену, взвыла Алина
И онемело почувствовала, как шевельнулись корни волос на голове. И седина, мгновенная седина блеснула тонкой змейкой по вискам.
ГЛАВА 14
Сколько же может переживать человек?! Если какой-нибудь установленный предел? И что самое страшное — не глобальные катастрофы изнашивают его, а мелкие житейские гадости, конвульсии прохожих характеров, с которыми сталкиваешься на каждом шагу.
Она вышла из больницы. Бесслезным, бессловесным криком ужаса матерей немым кино — познанное там крутилось в голове. Вот девочка с проломленным о батарею черепом. Носилась с девчонками по переменному залу, мимо бежали мальчишки, толкнули… Это ж — с какой силой надо толкнуть, чтобы о батарею раскололся череп! У матери её карие глаза и белые, как у наяды, волосы. Казалось, она только что поседела от горя. А дальше… нет! Лучше не помнить. Дети, выпавшие из окон, мальчик, баловавшийся с лифтом и расплющенный им… Мать, полгода спящая на полу у постели ничего не осознающего ребенка. Одета чисто, но во все какое-то допотопное, а манеры светской женщины. Работу бросила, муж её бросил, все продала. На все готова, чтобы вытянуть чадо. Ребенок её уже год не узнает, а она не теряет надежды.
Алина села на доску, вставленную в распор между двух мощных стволов старых тополей, и закурила.
Алина просто смотрела на засохший репейник. Скользила взглядом по его изгибам, и, казались, его серые разветвления натруженными сухожилиями, когда живешь в меру, потому что из последних сил, но живешь и трудишься над тягой оторваться от земли, ни за что не поникнуть… И подумала: — "Я так же высохла внутри, моя душа — сплошные сухожилья воли. Сколько так ещё протяну? Поживу ещё полгодика — и все. И ничего от меня не останется. Ничего. А кто я, чтобы от меня что-то оставалось? Зачем заполнять своим хламом этот мир?..
Это все равно, что взойти на горную вершину, а потом спуститься оставив на ней свои следы, имя на скале да консервные банки. А зачем? Но надо же хоть что-то делать! Иначе я сойду с ума…"
Полдень. Холодно… Она сорвала колючий кругляш плода репейника, положила на ладонь и смотрел на него бережно, словно на снежинку, которая вот-вот растает, потому что его не видела, а видела картинки своего детства, летнего детства… Тогда кидалась она репейником. Весело было!.. Солнечно… А теперь, сиротливо, ищет, словно тот же репейник — за что б зацепиться.
Краем глаза она увидела, как подъехала к больнице машина мужа, как он прошел в корпус детской травмы. Его огромный, сто сорока килограммовый водитель, едва скрылся шеф, буквально не вышел, а выкарабкался из салона автомобиля, как из затхлой норы и, подтягивая вечно спадающие брюки от спортивного костюма с лампасами, пошел в её сторону. Он явно намеревался облегчить мочевой пузырь, скрываясь в строительном мусоре среди стволов деревьев.
— О! Надо же!.. — воскликнул он, увидев жену шефа, уютно вписавшуюся в такой неподобающий пейзаж.
— … какая встреча, — продолжила Алина за него, грустно кивая.
— Я Кирилла к племяннику привез… Но вообще-то он с тобой хотел встретиться. Чтобы вне дома поговорить. Я же с ним не первый год. Чувствую. Только ты не убегай.
— Пусть с секретаршей своей разговаривает.
— Да плюнь ты. Я тебе честно говорю. Не знаю, было ли у них, нет… Знаешь, как это у нас, мужиков, бывает… Но ты для него одна. Я тебе точно говорю. Я уже с ним замучился…
Она слушала его, чувствуя себя не сильной, любимой, красивой, а замученным беспризорником. Осипшим, продрогшим беспризорником. Сил не было. Что будет дальше, кроме того, что она умрет, она себе ничего не представляла. Но как — умрет?! Все неожиданно перевернулось в её судьбе. Свекровь, ревновавшая её яро, теперь с такой же яростью цеплялась за нее, нуждалась в ней и даже полюбила. Полюбила, как любит слабый — сильного, дитяти — няньку. Только она, Алина, не чувствовала себя сильной. К тому же перевернулось все и в её материальном мире. Они снимали квартиру, сбежав от назойливой мамаши Кирилла, — но их квартира теперь заполнилась той, от которой сбежали. Квартира, в которой жила мать Кирилла, и была его пустовала. Правда, теперь Кирилл жил там, откуда сбежал. Но один. Кто же на ком женился в результате? Она — на его маме?.. Выходило абсурдно, но так получилось. Алина проявила свою волю милосердием и — загнала себя в угол.
Но Кирилл! Совершенно не приспособленный жить один, Кирилл, капризничающий, порой впадающий женские истерики, списывая свое домашнее поведение с мамочки, вдруг, когда мать его стала больна и ей потребовался уход, становится холоден к ней, старается не быть дома, а потом и вовсе безобразно срывается… Кто же сорвался тогда… он или она?.. Этого Алина уже не могла вспомнить. Теперь она знала только одно — она должна тянуть немощную больную, должна зарабатывать деньги на эту квартиру, все должна она… И положение её безвыходно. Вернее есть выход — смерть. Она скоро умрет, оттого ей теперь все равно. Ничего не страшно. Кроме смерти в долгих-долгих конвульсиях. "Боли начнутся — застрелюсь, — снова подумала она. Не смогу я никого обременять своей немощностью. Впрочем… никто и не обременится. Некому…"
— …тут этот… Гуськов, когда узнал, что вы разошлись, так обрадовался… — продолжал свой монолог шофер Кирилла. — Целоваться к нему полез. Говорит: — Так и надо. Бабы — зло. А сам сел к нему на хвост, как последняя проститутка. Я подозреваю, что он голубой.
— Я не хочу его видеть, Саша, — заговорила Алина после долгого молчания. — Не говори ему, что видел меня. Я ещё не готова к встрече.
— Да ты что?! Он только ради тебя и приехал сюда. А вон — он идет! воскликнул Саша и замахал руками, окрикивая Кирилла. Едва тот подошел, тактично удалился в машину.
— Аля. Ну, давай, помиримся. Не могу я тебя вот так оставить. — Сразу начал Кирилл.
— Рубашки гладить некому? — заняла Алина оборонительную позицию, при этом еле сдерживая слезы.
— При чем здесь рубашки? Хорошо. Устала от меня. Поживи одна. Что я могу для тебя сделать? Скажи только!
"Боже! Боже!.. — Она чувствовала, как тошнотворно кружится голова. Как разумно он говорит! Если бы вся наша жизнь была столь же разумной! Я ни чего не могу понять. Ни на чем остановиться. У меня появилось какое-то мерцающее мышление: то одно, то другое. Меня тянет к нему, я люблю его, но отталкиваюсь от него, отбрыкиваюсь из последних сил. Быть может, мне надо действительно просто пожить одной?.. Иначе ничего не складывается, все расползается… — и все что происходит — мучительно, слишком…
— Что надо сделать? Скажи?! — тряс её за щуплые, опущенные плечи Кирилл.
— Отвези меня в центр. Мне надо в редакцию.
— Нет! Нечего тебе там делать. Опять предложат расписать интимную жизнь Пельша!
— Но это же!..
— Зачем?! Ты считаешь, это прилично? И это называется работа — трясти чужим нижним бельем?! Прав я тогда был, что не дал тебе…
— Ты ничего не дал мне сделать самостоятельно, даже самой отказаться тогда от этого предложения.
— Скажи спасибо, что я ещё пускаю тебя по выставкам этих идиотов помоешников! Тоже мне — авангард!
— Ты пускаешь? Но в тоже время ни за что не отпускаешь!
— А что же ты хочешь? Я — мужчина, ты — женщина.
— Да. Я — женщина, но я не инвалид, не ребенок!
— Начинается передача: "Я сама". Вот и езжай сама в свою редакцию.
— А ты сам гладь себе свои рубашки!
Она встала и пошла в метро, ни о чем не думая. Вагон мерно качался, мелькали огни туннеля. "Господи, как бы вздохнуть в полные легкие перед смертью!" — говорила она сама себе, как бы на первом плане — в глубине же, внутри её, — хриплый голос знакомого поэта Александра Еременко мерно раскачивал сгустившееся тьмою сознание:
… В ней только животный, болезненный страх
гнездится в гранитной химере размаха,
где словно титана распахнутый пах,
дымится ущелье отвесного мрака…
Словно во сне, словно вел её кто-то, а не она сама ехала в метро, вышла на станции, название которой даже не называла про себя, прошлась по бульвару. Как прошла, тоже не помнила. Помнила потом только то, что оказалась в очередной, из знакомых ей, редакции. Зачем?.. В голове было пусто. Может быть, написать о том, что она видела и слышала в онкологической клинике? Или: "Гневный репортаж умирающего"… Или описать ужас в глазах матерей, тех, который видела с утра?.. Нет. Это все настолько натурально и так больно!.. Стоит ли с такой распахнутой болью принижаться до объяснений с миром?..
… А может, попроситься в Чечню?.. Ведь все равно уж… куда деть, на что потратить остаток жизни?!
Зашла в редакционный буфет, купила стакан кефира и, вспомнив о школьных годах — допотопную булочку с маком. Села за свободный стол. Голова её клонилась, плечи ссутулились. "Неудачница. Противно…"
Чья-то тяжелая рука опустилась на её плечо, она дернулась, оглянулась и словно только что поняла, что не в пустыне, как Иов, а в редакционной столовой.
— О! Мадам, Вы откуда такая поэтичная? С Багам или, на этот раз — с Парижу? — улыбался Фома Александров.
— Фома! — очнулась она, словно выплыла из самых подводных глубин. Опять пьешь? Мне бы твои заботы…
— Не пью — от жизни опохмеляюсь. Слушай, искусствовед, стань меценатом — дай на двести грамм "Петрова-Водкина". Моей духовности живопись требуется.
— Когда же ты работаешь? — спросила она, вынимая из заднего кармана джинсов купюры.
— А этот процесс у меня беспрерывный. — Он аккуратно разложил деньги на столе, взял столько, сколько требовалось, остальные отодвинул в её сторону. — Сдачу возьмите, мадам. Ну, чего? По зонам поедем?
— Господи, только этого мне не хватало!..
ГЛАВА 15
ОСТАЛОСЬ ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ДНЕЙ
"Только тюрем мне ещё не хватало! Вот уж тогда, действительно, можно будет умереть спокойно. Отлететь в мир иной, не сожалея об этой земле" усмехалась она.
"Полежу, ни о чем не думая,
Голову свою
Обниму,
Как отрубленную-ю.
Почему, почему…" — зазвучали в ней стихи Елены Шварц.
Раздался звонок в дверь. Она открыла. Но пороге стоял Кирилл:
— И не думай меня зазывать обратно, — начал он с места в карьер, — Вот тебе ключи от этой квартиры. Так и быть — оплатил её ещё полгода. Я за мамой приехал.
— Куда ж ты её повезешь? Ты же не сможешь ухаживать за ней! Пусть живет здесь.
— Сестре отдам.
— Но ей же некогда! Да и не уживутся они! Ты же знаешь свою мать, говорила Алина, глядя на него с трудно скрываемой неприязнью. "Все перечеркнуто. Пролита последняя капля. Нет его!.." — кричал её мозг, а голос продолжал спокойно отвечать этому человеку: — Ей у меня спокойнее.
Он почесал бороду и полупропел-полупроныл:
— Это моя мама!.. Что хочу, то с ней и делаю.
— Мне плевать, чья она мама. Она же человек, а не игрушка! Ты привык распоряжаться близкими женщинами, словно они для того и родились, чтобы служить тебе! Но сейчас она нуждается в помощи. Кто ей поможет, если не я?
— Ты не должна ей помогать, потому что не обязана. Моя мать, а не твоя! Я найму ей сделку.
— Но какая сиделка выдержит!..
— В больницу отправлю. Сколько она мне крови в юности попортила!.. Пусть теперь!..
— Убирайся-ка ты отсюда! Взрослый мужик, а какой дурью маешься. За что яичко отнял?! Бессовестный!.. Отомстил?! Получил удовольствие? И укатывай!
— Ах, так! — Он с трудом переступил порог того дома, в котором жил, который хранил его мир и покой, порог своего дома, до-о-ма!.. переступил, словно прыгнул в холодную воду, и бросился в комнату Любовь Леопольдовны:
— Давай, быстро одевайся! Поехали.
— Куда ты меня везешь?! Я больна, я плохо себя чувствую! — заныла Любовь Леопольдовна.
— К дочери своей поедешь! Пусть она за тобой ухаживает.
— Никуда я не поеду. Мне с Алечкой лучше. Алечка! Не отдавайте меня!
— С Алечкой тебе лучше?! А кто говорил, что она не вашего поля ягодка? Когда ножками бегала, от неё нос воротила, деньги мои на неё потраченные считала, а теперь цепляешься, как слегла!
— Что ты вспоминаешь ей, она же невменяемая, она же больна! — Алина встала между мужем и свекровью. — Я не позволю тебе издеваться над умирающим человеком.
— Ах!.. Умирающим! Ей можно издеваться над тобой, ты у нас не умирающая?! А я, вообще, быть может, завтра под машину попаду или пристрелят меня за просто так! — Он резким движением откинул Алину в коридор и запер дверь. — Быстро, одевайся, я сказал! И не забудь отцовские именные часы! А то нечего будет показывать.
Любовь Леопольдовна, поняв, что взывать к жалости и сопротивляться бесполезно, бросив на него равнодушный взгляд, легла трупом, сложив руки на груди, уставившись в потолок.
— Ах, так! — И он кинулся одевать её обезволившее тело.
Все плыло у Алины перед глазами. Холодное молчание спокойствия пропитало её тело. Каждую её клеточку.
Мимо, словно деревянную, но побеленную храмовую статую дряхлого ангела, муж выносил свою мать из комнаты. Вместо четок прозрачные руки прижимали к груди старомодные часы с металлическим браслетом. И вдруг безмолвная статуя запела правильным радиоголосом: — Вставай проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов…
— Ах! Революции захотела, я сейчас покажу тебе революцию, — ворчал Кирилл, вынося своего домашнего идола.
Но у двери из квартиры окаменевшая свекровь вдруг раскинула руки и, упершись в косяки, засучила ногами: — Помогите! — завопила она на весь подъезд.
Но ни одна дверь на лестничной клетке не открылась.
— Помогите! Грабят! Убивают! Насилуют… — голос её сорвался, и она продолжила шепотом обиженного ребенка: — Умираю, на сыновних руках.
— Хватит! Хватит издеваться! Хватит! — повисла Алина на широкой спине Кирилла, пытающегося преодолеть материн распор.
— Аля… Алечка! Не отдавайте меня в чужие руки! Родненькая!..
— Ах, Алечка теперь тебе родненькая стала?! Где ж ты раньше была?!
— Не виновата я! Я сама за тобою ухаживать хотела, да вот видишь, сынок, как разболелася.
— Шагу мне без своего контроля да совета злостного ступить не давала. Вот теперь со мной и поживешь.
— Но мне нравиться, как Алечка за мною ухаживает. Алечка, родненькая! Алечка!.. Караул!
Тут руки непобедимой вдовы ослабли, и Кирилл — с ней в обнимку вылетел, словно пробка из бутылки с шампанским, на кафельный пол лестничной клетки.
Алина застыла над барахтающимся клубком. Так противно ей никогда ещё не было. Она отступила назад, в квартиру, и захлопнула дверь. Обессилив, села на корточки и уткнулась лицом в ладони. Но не было слез…
"…голову свою
Обниму
Как отрубленную
Почему. Почему…"
ГЛАВА 16
Кирилл получил деньги за очередную сделку и пил в бистро, в обыкновенном дешевом бистро недалеко от кафе "Станиславский". В дорогие места идти не хотелось. Не было в городе больше дорогих престижных мест, которые были бы ему неизвестны. Даже экзотический "Бразильский зал" в ресторане "Прага" опостылел ему. Не привлекали его больше ни заморские блюда, ни вина. Алина умела готовить лучше, чем в любом ресторане. Ей стоило лишь раз попробовать блюдо, чтобы сразу догадаться, как исполнить его в домашней обстановке, придав ему оттенок любовно приготовленной пищи. Не пища привлекала его в ресторанах. Все эти акульи плавники, бледные лягушачьи ножки, устрицы, тигровые креветки, ростки бамбука "меж сыром либургским живым и ананасом золотым" и прочую хренотень, заманчивую более названием, чем толком, ему приятно было пробовать вдвоем с Алиной. Всякий вкус был окрашен её настроением. Он мог составить длинное меню её настроений: "Алина мысленно путешествующая "(копченые акульи плавники с крабовым мясом или жареные ананасы с изюмом в соусе из рома и гренадина.); "Алюша унылая" (лягушачьи ножки под белым соусом, карпаччо рыбное, или "все равно что" — как она обычно в таких случаях говорила, а затем отмечала ели, ели, а съели одни названия.); "Алька болтливая" (жареные креветки под китайским соусом в авокадо, хрустящие кусочки риса с морскими гребешками.); "Алюня удивленная" (миноги); Алюшка-лохушка голодная" (картофель фри с фазаном, или лосина жаренная в папильоне с крабами), Алина с особым настроем (Стерлядь по-царски), Алина-кокетка (дыня медовая с ликером, малиновое парфе, бананы "саррэ", "Мекога" клубничная) но если жена капризная, то кормить её надобно чем-то легким, типа "Огненного снега" из ресторана "Сим-сим" — то есть фрукты в сиропе с мороженным и коньяком, которые подаются объятыми пламенем.
Но этих пирожков, пончиков, блинчиков русского бистро при нем она не пробовала. Не позволял он ей этого. Не любил он рядом с ней ничего обычного, тем более при выходе из дома. Но без неё иногда пробовал — они были на вкус домашними, совсем домашними, как Алина в халате и пухлых шлепанцах с мордами панд. Сонная… с утра… Нет. "Она все-таки стерва!" прервал он свои воспоминания и тут же усмехнулся над собственным открытием: "Оказывается, она ещё может быть стервой?! Стервой!.. Прав Гуськов, дались нам эти женщины!.."
Кирилл вздохнул, осмотрел гору, взятого на пробу, перед собой, оглянулся. Бистро населяли родные до боли, все ещё не смытые начисто новой экономической волной, типы и типчики. Выкрашенная в боевую раскраску якобы роковой женщины — толстуха, в потертой короткой дубленке с глубоким декольте, в разрезе которого виднелись её розовые телеса, не прикрытые шарфом, раскачивалась на стуле, положив ногу на ногу. Ноги её были в выразительно черных чулках в крупную сетку. Как бы ни был вызывающ её вид, но Кирилл, сидевший от неё за соседним столиком сбоку, отлично знал, что на предложенную любовь за деньги, она оскорбится. Не проститутка она. Проститутки с Тверской одевались, как интеллигентные женщины. А те, что с вокзала, в даже в такие простолюдные кафе заходить не решались. Скорее всего, эта дама знала истинную цену взаимоотношений между полами и всю жизнь расплачивалась за них сама. Наверняка, отработала где-то смену сторожихой какого-нибудь реквизита прогорающего театра и вспоминает былые годы за чашечкой кофе… А раньше… Раньше такие дамы работали у раздаточного окошка власти. Раньше — таких возили по турпоездкам… И все у них было — все…
Напротив, у окна, сидели два разухабистых бугая в серных овчинных тулупах нараспашку, но при этом в дорогих костюмах и при шелковых галстуках. Посередине их стола стояла бутылка водки, батарея пустых бутылок позвякивала под их ногами. "Ща-а чихну!" — громко объявлял тип, что покрупнее, и чихал, прыская на стол. Потом наступала пауза, они пили, пили, гудели о чем-то и, чувствуя, что пауза затянулась, тот, что менее крупный, подстрекал собутыльника на все бистро: "Ну-у чихни! Ну-у чихни!"
— Ща-а чихну! — кивал бугай и чихал громогласно.
Кирилл сидел у противоположной стены и, жуя пирожки, запивая водкой, точнее, наоборот, попивая водку, закусывал пирожками и попутно наблюдал за бесплатными клоунами. Остальные посетители даже не оборачивались на основных действующих лиц местного балаганчика, хотя и вздрагивали каждый раз соразмерно чиху. Неожиданно комики погорелого театра встали и ушли. Чихи кончились. Накатила тошнотворная тишина.
Кирилл сосредоточенно допивал свою водку и откровенно скучал.
В бистро ввалила шумная компания шпаны, явно приезжей. Чем-то неуловимым отличались они от московских, хотя были одеты не хуже. Но даже дорогие джинсы обретали на них сероватый оттенок, вызывая ощущение-воспоминание допотопной советской фабрики "Спорт", пытавшейся догнать и перегнать Америку по части оджинсовывания простого народа. Однако в джинсах таких широко шагать было опасно. Но ребята шагали широко. Даже постановка ног их при шаге была особенно резкая, несвойственная столичной, коленки казались острыми, словно побочное орудие-оружие пролетариата.
Шпана уселась за обчиханный стол. Лишь тогда служащая бистро подошла и смела с него пустые стаканы, вытащила из-под стола пустые бутылки, быстро и антигигиенично прошлась серой тряпкой по столешнице. И началось новое представление полное всплесков рук, вскриков, хохота.
Они пили, хохотали и поглядывали, время от времени, на Кирилла.
Кирилл улыбался в ответ. Он вспомнил свою юность — свои пятнадцать… шестнадцать… двадцать… Вспомнил настолько, что забыл, сколько ему лет на самом деле. Впрочем, его никогда не покидало ощущение, что туда, в те бесшабашные годы, он всегда успеет вернуться. Время то вовсе не кончилось безвозвратно, просто он отошел от него в другую параллель. А сам ни капельки не изменился в душе — все такой же — вовсе не с залысинами импозантный джентльмен с пузиком, а лохматый юнец, способный не спать по несколько суток подряд, балагурить, пить, читать стихи на бульварах, срывать с лавочек девушек, сбивать их с пути истинного, закружив их своим вихрем чувств. И ни в чем он не нуждался тогда. Даже процесс доставания спиртного в те годы не был для Кирилла особой проблемой. Он мог взять денег в долг у любого прохожего, даже у нищего попрошайки и в действительности вернуть в последствии. А ещё раз удумал в период острого безденежья: приходил в МГУ с канистрой. На вопросы, куда он идет, отвечал: — "За пивом, давайте, скорее скидывайтесь!" И все скидывались
Да уж!.. Не было у Кирилла проблем, пока не женился. Да и что нашел он в этой семейной жизни такого — только требования того, к чему не привык.
Так думал он, наблюдая тем временем за веселым коллективом. У ребят явно не хватало денег. Они скидывались. Кирилл участливо вспомнил, как это выглядело в его кругу. Как он обычно тянул до последнего, наблюдая, кто как жадничает и чем оправдывает свое скряжничество, а потом, когда от него уже не ожидали, кидал на круг такую сумму, что она в несколько раз перекрывала набранные гроши. Любил Кирилл жить красиво. Вот и теперь, повинуясь порыву, оглянулся и пожалел, что сидит не в ресторане: официанта не было. Окликнул уборщицу, дал ей денег и надиктовал ей свои пожелания. Уборщица исчезла за стойкой и вскоре появилась с расписным жестковским подносом, на котором стояло три бутылки водки, несколько пива и бражка в стаканах. Иных напитков здесь не бывало. Все это она поставила на стол гоп-компании. Компания с шумным восторгом восприняла подарок и пригласила Кирилла к своему столу.
— Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное… — словами Бродского Кирилл обозначил сам для себя с печалью оттого, что понял — не о чем ему говорить с этим племенем — новым, незнакомым, но все-таки они разговорились.
О чем они говорили, Кирилл помнил смутно. Что-то о Государственной Думе, о футболе, вспоминали об августе девяносто первого, и октябре девяносто третьего — кто, где был в этот момент, кто что подумал, кто что делал. И ещё о чем-то… Короче шел типичный разговор "х… — мое" — как сам Кирилл называл такие разговоры, но специально для Алины пояснял: — то есть — светский. Только помнилось Кириллу в последствии, что в процессе этого "светского" разговора его как-то неожиданно обнимали за плечи, но он вовремя отстранялся, опасаясь за внутренний карман пиджака. Сосед по столу тихо придвигался к его "дипломату", но он вовремя и незаметно отстранял его ногой. В какой-то момент на Кирилла вдруг нашло прозрение.
Он увидел себя — пузатенького, лысоватого бородача, в шикарном костюме и шелковом, по последней моде, галстуке, этакого папика, выглядевшего куда старше своих тридцати, в грязном, богом забытом заведении, — довольной легкой добычей гопоты. Да, да, именно — гопоты. Ибо так называются шпанистые гастролеры из других городов, работающие обычно по пьяным папикам, да женщинам оказавшимся в одиночестве на улице при дорогих украшениях или шубах. Они надеялись на случай. Они свято верили в случай и никогда не упускали его. Теперь этот случай представился им в виде Кирилла. Не просто представился — поднесли на расписном подносе. Сам Кирилл себя же и поднес. И едва он понял это — вся его ностальгия слетела к черту. Какая там ностальгия — ничего не было общего между ним и ими. Разве что — он тоже когда-то был юн, любил выпить, побалагурить, поболтать с кем попало, погулять. Но гульба гульбе рознь. Как бы не выглядел он со своими друзьями в опьянении молодостью и напитками со стороны — не был он такой. Не был никогда. И не интересны были ему все эти мыканья-кхмыканья гоп-сознания. Пора было сматываться.
Но как? Свою машину он давно не эксплуатировал, водилу отпустил на дачу… Кирилл незаметно взял свой "дипломат" и, выждав наибольшего пика заинтересованности пьяной болтовней всей компании, поднялся и вышел из-за столика, намекнув, что в туалет. При этом накинул на плечи свое дорогое крековое пальто на меху. Выбежал на Тверскую, глотнул свежего воздуха, и рухнула мелькнувшая надежда на свободу. Компания шумно вывалила из дверей бистро.
— О! Какие люди!.. Я спешу, ребят! Спешу! — не теряя радостного выражения лица, объяснился, вроде бы, легко.
Двое, вроде бы дружественно, обняли его за плечи. Остальные забегали по парапету, голосуя машину, крича о том, что им по пути.
Кирилл вновь все понял. Кирилл разумно поехал на троллейбусе до Пушкинской площади. Гопота не любит свидетелей. Гопота любит темные закутки — закутки городов, закутки душевных смятений — одиночества закутки.
Весело они проехали на троллейбусе. Воздух сотрясался от хохота и плоских анекдотов.
В метро, плотно сопровождаемый отчаянной молодежью, Кирилл покорно сел в вагон, направляющийся в сторону "Тушинской", но едва двери стали закрываться, рванул обратно на станцию. Трюк удался. Даже они оценили его, хохоча и хлопая огромными ладонями по стеклу, улетели в туннель.
Не забывая о том, что гопота может вернуться на ту же станцию минут через пять, он сразу перешел на "Горьковскую".
И лишь тут чувство радостного освобождения вскружило пьяную голову Кирилла. Он немного поносился по метро, сияя во всю физиономию, с готовностью расцеловать всякого, кто в ответ хоть улыбнется ему. Но ярко освещенное метро заполняли сумрачные люди.
Кирилл вошел в поезд и вышел на "Театральной". Все-таки, это был самый центр города. И быть может, именно там праздно шатающиеся люди будут рады ему.
Они действительно оказались ему рады. Они так замерзли, поджидая его… Они так близко прижимались к нему в попытке погреться… Он купил им водки… И лишь тогда почувствовал что-то неладное, когда самый худой и холодно одетый пижон на радостях потянулся к нему поцеловать в губы. Кирилл оглянулся, и его прошибло потом. А что ещё он хотел, находясь в скверике Большого театра. "Все хорошо! Все нормально", — твердил Кирилл, семеня быстрым шагом к метро, пытаясь отвязаться от облагодетельствованных им гомиков. "О! Какая встреча, брат! Да это же сам Кирюша!" — нарвался он на радостные возгласы.
Остатки волос под лисьей шапкой встали дыбом. Это была та же гопота. Слова кончились. Молча, стараясь не обращать на них внимания, Кирилл прошел в метро. Молча они шли за ним. Под их конвоем сел в вагон. Они сели напротив. На следующей станции рядом с Кириллом села девушка, явно из приличной семьи, быть может, студентка. Кирилл наклонился к ней и скоростно произнес следующий текст:
— Умоляю вас, не дергайтесь и не отскакивайте от меня. Я в очень трудном положении. Если вы согласитесь выйти со мной под руку, когда я скажу, вы спасете мне жизнь. Я порядочный человек, окончил МГУ, правда, давно и надолго. Но меня преследует шпана. Ей не нужны свидетели. Пожалуйста, сделайте вид, что мы старые знакомые, и вы меня только что узнали. Меня зовут Кирилл. Едва мы выйдем из метро, я отправлю вас домой на такси.
— Я согласна, — не оборачиваясь, ответила девушка и, обернувшись, воскликнула: — О! Кирилл! Неужели это ты?..
Кирилл вздохнул и поцеловал ей руку. В профиль она напоминала ему жену… бывшую жену. "Н-да… мы, своей вечной хренотенью, способны рисковать жизнью даже таких — вечных женщин", — подумалось Кириллу, и от мысли, что с этой он видится лишь раз, всего лишь раз в жизни, ему стало легко. Нет, он не будет её эксплуатировать вечно, он не подставляет её, он все продумал.
Но… видимо продумал плоховато.
Они вышли из метро, не доезжая одной станции до его дома. Компания сирот казанских в ногу, крупным шагом шла за ними. Кирилл крепко держал девушку под руку. Главное — попасть в опорный пункт милиции в переходе. Главное — чтобы он был к тому же открыт.
Они вошли в распахнутую дверь.
— Господа! Прошу оградить помощника депутата Государственной Думы от преследований! — громко заявил Кирилл и, не моргнув и глазом, показал фальшивое удостоверение.
Далее события должны были развиваться по его плану. Приезжих робингудов должны были забрать, а он преспокойненько посадит на такси свою спасительницу…
Такси отъехало. Кирилл перешел на другую сторону дороги, поднял руку… подъехал милицейский фургон.
— Давай-давай сюда! — послышалось из его тьмы.
— Благодарю, — ответил Кирилл, — я предпочитаю такси.
Он не прошел и минуты, как услышал за собою знакомый маршировой шаг надвигающихся грабителей.
Расправа была неминуема. Параллельно ему медленно двигался милицейский воронок. Кирилл побежал.
Вот так все и кончилось. Гопота нагло побежала за ним. Напали. Били ногами. И вдруг разлетелись в разные стороны. Кирилла били прикладами автоматов и снова ногами.
Трясясь в темной клетке милицейской машины в полном одиночестве, Кирилл восстанавливал в уме упущенные события. Едва он сдал своих преследователей, патруль сообразил, что гопота просто так за пьяным папиком охотится не будет. Значит, он засветил в том проклятом бистро пухленькую пачку долларов. Конечно, засветил. Такую крупную стопку денег во внутреннем кармане пиджака легко было прощупать, кинувшись на него с якобы дружески благодарственными похлопываниями и объятиями… Но если на гопоту была управа, то на тех, кому попался он, управу искать было бесполезно.
Кирилл прощупал свои карманы. Нет — его ещё не обшманали эти городские шакалы, жесточайшее порождение культивации лимиты. Кирилл успокоился и прислушался: в салоне фургона были люди. Но эти люди молчали. Кирилл громко принялся изъявлять свои протесты. Изъявлял он их солидным, исходящим из живота тоном уверенного в себе, приличного человека. Тоном, не то что бы помощника депутата, но уже не иначе как самого заседателя Государственной Думы.
Но в ответ тишина. Никакой реакции. Уж не один ли он отдан на волю водителя? Нет, в салоне действительно были люди. Куда они везли его? Что хотели? Почему не вытащили деньги сразу?.. Или не хотели делиться с гопотой?..
Неожиданно машина остановилась. Дверь в его клетку распахнулась. В это светлое полнолуние темный абрис фигуры автоматчика выглядел особенно зловеще.
— Выходи!
Он вышел, держа "дипломат". Едва оглянулся, едва понял, что привезли его на обрывистый склон Москва-реки, как его тут же обступили. Было ли их четверо, или семеро — Кирилл не помнил.
Запомнилось лишь ему, как спускался, боясь споткнуться, подгоняемый в спину прикладом автоматов, по скользкой снежной тропе вниз, к самому берегу. Равнодушно любопытный лунный, словно рыбий, глаз неба заглядывал ему в лицо. Что было под ногами — не видел. Но летел, не спотыкаясь. А дальше били. Били и били. "Это конец!" — думал он, фатально смирившись. И уже, ожидая смерти, почти не чувствовал боли. Он чувствовал себя где-то за пределом её и прочих страстей. Быть может оттого, что вовремя отключалось его сознание. А потом оно включалось и отключалось вновь… Так и мерцало…
Лишь констатировал факт — вынули восемь тысяч долларов, вернее вытрясли, словно из мешка, попинали ногами и отошли. Он приподнялся и усиленно увеличил резкость растуманенного зрения. Два дула автоматов, наставленные на него, замедлили время. Картина жуткой морозной ночи в свете фантастически огромной луны предстала перед ним крупнозернистой фотографией. Кирилл медленно поднимался.
— Сейчас мы тебя расстреляем, бросим в реку — и дело с концом, донеслось до его слуха.
— Что же вы делаете?! — взвыл Кирилл, из последних сил соображая, что говорить далее:
— Расстрел журналиста такого ранга как я не пройдет незамеченным! ему казалось, что не язык его поспевает за мыслью, а мысль за языком. Граждане нашей общей страны, как вы не понимаете, что убийство меня придает делу политический оборот. Вот — мое удостоверение!.. Вот…
Отчужденной рукой, подобной рычагу приставленного к его пламенеющей душе робота, Кирилл достал из заднего кармана брюк уже недействительное старое удостоверение Алины, на котором было написано крупными буквами "ПРЕССА". Он носил его просто так, словно благовоспитанный американский буржуа, чтобы завуалировано, — похвастаться своей женой.
Но на этот раз ни она, ни её фотография, а казенные корочки, скорее всего то, с какой уверенностью он размахивал ими — спасло ему жизнь.
Оппозиция в формах защитников и законников замялась.
— Ладно. Давай его к бабе Мане отвезем — и дело с концом, — услышал Кирилл тот же голос, и ноги его подкосились. Мысли кончились после мелькнувшей: "Кошмар не кончился. Если они такие, то, что же тогда — баба Маня?! Неужели там будут пытать?! Но как?! Изнасилуют?! Кастрируют перед смертью?!" И упал — окончательно распластавшись на снегу.
"Бабой Маней" разбойники при погонах называли вытрезвитель.
Там обошлись с вконец обессиленным клиентом весьма милосердно.
Соседствующий народ тоже попался тихий. К этому часу почти все дремали по койкам, и лишь один доходяга читал стихи Есенина, а его единственный слушатель, явно пожизненный уголовник, весь в татуировках, смотрел на него, пуская слезу, и время от времени бился в дверь:
— Братки! Меня-то, ладно, но Максимыча — выпустите.
— Ничего-ничего, пусть Максимыч поспит, — отвечал из-за двери спокойный голос.
"Пусть Максимыч поспит". — Словно колыбельный рефрен гипнотически укачал сознание Кирилла.
С утра ему выдали его изрядно помятую одежду, и он пришел в себя.
— У меня изъято восемь тысяч долларов, — спокойно, уже уверенный в себе, заявил он дежурному вытрезвителя.
— Ошибаешься, — лукаво покачал головой усатый, — почти Чапай, — у тебя было сто двадцать. Я поделил по справедливости: мне сто за невыяснение происхождения твоих ксив и прочих данных, а тебе за глаза двадцати на опохмелку хватит. Прав?
— Меня как-то не волнуют завалявшиеся сто. Но восемь тысяч!..
— Н-да, восемь тысяч — это серьезно. Сейчас посмотрим, кто тебя сдал.
Команда приехала тут же. Не прошло и получаса.
— Та-ак, кто, говоришь, у тебя деньги брал?! — вышел вперед тот, что покруче Рембо.
— Нет-нет, я к вам претензий не имею, — увидев в трезвом состоянии исполнителей его смертельного ужаса, тут же отказался от своего заявления Кирилл. Жить хотелось невероятно. А если будет жить и восемь и восемьдесят тысяч ещё заработает и не раз.
В одиннадцать утра он вышел из вытрезвителя. Вдохнул свежего воздуха, пощурился на солнце, огляделся, пытаясь сориентироваться не только во времени, но и в пространстве; машинально пошарил по карманам пальто и вынул бумажку салатового цвета. Это был странный счет за номером 3221 кафе с не менее странным названием: ПК "Миф"
Счет для масштабов Кирилла так же был мифологическим — в нем перечислялось: порция пельменей — 1. Ценою в двенадцать рублей, 150 гр. водки "Крестал" — 17рублей 70 копеек
Кристалл обозначался именно так — через "Е" и с одним "Л", и именно за такую цену. Далее соус — один — 0-50
"Докатился!" — мелькнуло в его голове, и он понял, что помнил все, но только не кафе "Миф". Это кафе совершенно озадачило его и отвлекло от более серьезный переживаний.
Изнеможенным сыном он вернулся домой к собственной маме. Но в меню мифического кафе "Миф", видимо входила долгоиграющая программа. Ни упреков умирающей, ни выразительного молчания с грохотом кастрюль на кухне… Квартира была пуста. Поняв это, Кирилл упал на колени в коридоре. Картина смерти матери застыла в его мозгу. Слов не было. Он громко стукнулся лбом об пол и замер. Сил не было. Мыслей тоже.
Шорох ключа, повернувшегося в замке, вывел его из оцепенения, Кирилл приподнялся, но тут же упал на диван в холле. Дверь раскрылась. На пороге стояла Любовь Леопольдовна. Не спрашивая его о том, где и как он провел эту ночь, не причитая, что волновалась и не спала, она легким движением руки скинула пуховый оренбургский платок и, покрутив головой перед видящим все словно в тумане сыном, спросила:
— Ну как?
Кирилл заметил, что в его собственной маме что-то изменилось: то ли помолодела, то ли просто — она ему снилась.
— Ты где была? — еле выговорил он.
— Где-где? Сынок, неужели ты не видишь, что в парикмахерской?..
ГЛАВА 17
Алина прошла мимо парикмахерской, даже не замедлив в задумчивости шага, и вошла в знакомое с юности кафе. Как всегда за столиками полудремали, полукадрились, вели полоумные, ни к чему не ведущие беседы. Алина присела за стол, занятый старыми знакомыми, с легким коктейлем и, медленно потягивая его через трубочку, даже не пытаясь принять участия в разговоре, смотрела на все творящееся перед ней. Ей казалось, что она смотрит в аквариум, отделенная от его жизни толстенным стеклом. Гул голосов доходил до неё подводной мелодией, но смысла слов она не различала. Да и не нужен был ей этот смысл. Собственные слова не рождались в ней. Пустота заполняла её. Но… пустота не заменяет покоя. Она укачивает настолько, что доводит душу до состояния морской болезни.
За её столиком целовалась Ирэн с известным бездельником, но везунчиком по части женских страстей — Николаем. Этот Обломов, по сути, дон Жуан, по приключениям, вовсе не был похож ни на того, ни на другого героя. Подражая команде Эдуарда Лимонова, выдерживал внешность русского политического экстремиста — ходил во всем черном: джинсах, рубашке при погончиках, но в коричневых казаках. Высказывая мысли бритоголовых националистов, самих их сторонился, по лености — в их компании надо было что-то делать, отчитываться за проявленную дерзость по отношению к мирным приезжим и прочим. Не то что бы именно этого он делать не хотел — вообще ничего. Наголо тоже, все-таки, не брился — то ли боялся, что задергают милицейские проверки, то ли гордился своими светлыми, есенинскими волосами. Скорее последнее, поскольку слишком картинно дергал головой, смахивая шелковистую прядь, случайно опадавшую на лоб и, время от времени, вынимая из нагрудного кармана розовую мелкозубчатую расческу — причесывался. Причесывание у него походило порою на нервный тик. Чем он жил, на что — для всех было загадкой. Говорили: "женат на богатой", говорили: "друзья субсидируют". Но зачем ему были жена и друзья, когда почти всякая женщина, из отягощенных личной историей, с удовольствием расплачивалась за него. Ирэн же была очарована в энный раз и, естественно, что очарованность ослепляла её, глушила опыт. Она, чувствуя в себе неотъемлемое право на любовь, надеялась на счастливый поворот судьбы.
— Я снова думаю, что жизнь только начинается. Только никак не пойму, отчего она все никак не начнется, — шептала она одни и те же фразы, каждые пять минут склоняясь к уху Алины. Алине казалось, что уши её заложены ватой. Но она не трудилась понять, о чем верещит её легкая на подъем подруга, просто кивала, привороженная подвижностью верхней губы Ирэн.
— Сколько лет мы знаем друг друга и не теряем из виду, — подумать страшно. И даже не понимаем, что любим друг друга. Любим просто, незаметно… — обращаясь к компании, дидактически громко говорила Ирэн.
Впрочем, кроме Николая её никто не слушал. Один, пожилой, в очках с разбитыми наискосок линзами, только что изгнанный за неизлечимое пьянство из очередного журнала, бывший спортсмен и спец по спортивным страничкам, невнятно кивал в такт какому-то своему ритму.
Другой же — Вячеслав, в народе просто Слава, внешне похожий на разгулянного купчика, но по жизни — бесславный конформист, редактор мятого десятилетиями журнала, подмятый старыми авторитетами, опустив голову на руки, просто храпел.
Но такое общество вовсе не смущало ни влюбленную парочку, ни невольно сопровождавшую их Алину. Наоборот, Алине было хоть и муторно, но при этом спокойно на дне этого колодца.
— … любим незаметно, сами того не понимая… — продолжала взволнованно упорствовать Ирэн.
— И я люблю, — поднял голову ещё полусонный Слава-комформист.
Его заявление застало врасплох Ирэн и Николая. Как-то не предполагалось, что бесславный Слава обрящет слово.
— О! Ты чего это проснулся?! Спи! — приказал Николай.
— А чего это… спать? Вы тут веселитесь…
— Проспись, а то до дома не дойдешь, — пояснил Николай.
Он сидел довольный собой, нога на ногу, откинувшись на спинку стула, закинув за неё левую руку, а правой обнимая Ирэн. Ему вовсе не хотелось, чтобы его чувство себя королем компании потерялось от включения ещё одного мужчины.
— А… проспался я и подумал… — затряс дремучей головой, похожий на Рогожина, Слава.
— Ново, но верится с трудом! И что же ты подумал? — усмехнулся Николай.
— А то… люблю я… Вы думаете, вы одни…
— Но Слава! Ты же женат! — перебила его Ирэн.
— А оттого и женат, что как вы не умею. А ту… которую люблю, не могу просто так… Мне все серьезно надо. А для этого надо сначала развестись. А развестись не могу, потому что у меня двое детей. Вот. Оттого и пью.
— Как будто бы — не пил ты ране?.. — покачал головой Николай.
— А… пил, — кивнул пробужденец. — Но… — он с трудом вырулил голову с траектории падения, — … не постоянно. П-периодами.
— Не может быть! — подтрунивал Николай.
— А… А как же. Я ведь до главного… этого… отдела… того… дослужился.
— Вот именно, что дослужился. — Усмехнулся Николай.
— А что ж… Ты знаешь, брат, каково мне… сироте белорусской. Вы то все — вон какие!.. А я приехал сюда в семнадцать лет — ничего не понимал. А потом — понял… — и рухнул головой на стол.
— И что же понял?
— А то… — вновь очнулся Слава, опасливо огляделся мутными глазами… что все враги. — И тряхнув густой, начинающей седеть шевелюрой, очнулся окончательно.
— Хватит! Хватит вам о политике, — вмешалась Ирэн. — Мы же о любви. Я хочу сказать…
— И я люблю, — вновь перебил её Слава.
— И кого же ты любишь? — усмехнулся Николай.
— Хватит, хватит! Пошли погуляем! Проветримся. Там, наверное, на улице снег идет! Алюнь! Подъем! Все встали! Пошли смотреть на снег!
Над переулком висел зловеще лунный диск. Казалось стоит лишь нарушить что-то, какую-то былинку, мелочь… и он падет… полетит, раскручено, и отсечет как диск пилы… головы ли, судьбы…
Алина дрогнула от мысли об этом, дернула головой, сопротивляясь, и впала в отчаянное веселье. Они носились по улицам и переулкам, играли в снежки, пили сухое вино из горла и смеялись. Очарование влюбленных придавало их путешествию по лабиринту города особую поэзию. Даже Слава очухался и развеселился.
— Э-эх! — горланил он на всю спящую Большую Никитскую, — берегись!
И несся купчик на убегающих женщин со снежком как с палашом, полы его дубленки развевались, борода, волосы блестели от снега, не менее чем глаза от алкоголя. И казалось, век двадцатый растворился в лунной мгле, и пошел на них опричник, после купчик, после барин девятнадцатого века. И сужался ему вслед ровный строй особняков. Просвещенным наблюдателем, словно битый и не раз пьяными барами, которые только что вывалили из Славянского базара городовой, наблюдал за ними, прячась и улыбясь из будки азиатского посольства, милиционер.
— Э-эх! Распахнись доха, лети ко мне на меха! — ревел Славка.
— Да, ты сказочный тип! — вдруг вернулась в реальность Алина, когда он, обняв её с криками "Валять! Валять!" — пытался свалить её в снег. Славка! Да почему же ты в своей редакции такой невнятный. Тебе идет быть пьяным!
— Пи-ить! — смеясь, стонала Ирэн.
— Чашу бражную!.. — басил Слава, откупоривая очередную бутылку "PAUL MASSON". Из её широкого горлышка радостно плескало вино, полноценно, словно млеко из крынки. Они пили, как подростки, из горла, и неслись, неслись вперед, пока не выскочили на Площадь Восстания.
— Ой! А я все детство мечтала посмотреть на Москву с самого верха этого дома! — искренне воскликнула Ирэн, застыв перед высоткой.
Не было в ней раздражающего трухлявостью кокетства, это было кокетство влюбленной, оттого и свежее, оттого и вдохновляющее, словно яблоко с мороза. Даже Алину.
— Посмотрела? — откликнулась Алина.
— Нет. Там же консьержки… — вздохнула Ирэн.
— Ха! Консьержки! Это с нашими-то удостоверениями?! Да попробуют не пустить, правда, Славк?!
— Я вот тоже люблю! У-ух, как я люблю! — сгреб в охапку Алину Слава вместо ответа. — И что за женщина! Каждый раз, как в первый раз!
— Тогда идем. Мы должны, хотя бы сегодня, исполнить чье-нибудь несбывшееся желание!
Они без труда прошли в огромный подъезд. Никто не спрашивал у них никаких пропусков, куда и к кому они идут. Демократия соскоблила шик с этого дома, и уже не поражал его холл видавших виды, как мог бы поразить воображение в детстве.
Они поднялись на лифте на обзорную площадку. Она была изрядно загажена. Но зато Москва сияла фантастическими, не виданными ранее светами.
Они вздыхали, восторгались, пили… пока не устали.
Туманно осознавая пространство, спустились вниз и, когда пересекали огромный холл по направлению к выходу, кто-то из вошедших, замеченных Алиной неосознанно, дернул её за рукав.
— Надежда?! — с удивлением отшатнулась Алина, оказавшись лицом впритык со своей больничной нянечкой. Они замерли, вглядываясь друг в друга. Надежда в обрамлении этого мраморного интерьера казалась не такой уж уродливой. Тонкие змейки шрамов смотрелись нанесенными особым манером линиями магической татуировки. Или одежда, не такая уж и дешевая, прическа, словно слизанная с "Криминального чтива" Квентина Тарантино, придавали ей некий налет эстетической обособленности, а вовсе не уродства.
— Живая и веселенькая, смотрю, — улыбнулась Надежда змейкой рта.
— А ты куда?
— К отцу. Пора проведать старикашку.
— К отцу?! Он у тебя здесь живет? — удивилась Алина.
— Да. Я же дочь старого чекиста.
— А почему тогда…
— Мы ждем тебя на улице! — крикнула Ирэн, и вся компания Алины исчезла за тяжелыми дверями.
— Полы мою? — угадала Надежда то, что не решилась спросить её Алина. Такова она… жизнь. Проклятие на мне. Не понимаешь?
— Но ты же сама…
— А вот то и говорила, что линию… направление менять надо. А как сломать, если меня все время прямо и прямо несет? Вот так-то. Ладно, звони как-нибудь. Визитка старая. Но телефон тот же, — протянула визитку Алине. Но не ушла. Помолчала, глядя Алине в глаза пронзительным прищуром, и сказала: — И ты давай — сворачивай. Иначе — в ямку бух!..
И засмеявшись сухим "хе-хе-хе", обогнула застывшую Алину.
Алина слышала, как вошла она в лифт, как закрылись двери лифта, как он загудел-поехал. Алина взглянула на визитку и поняла, что Надежда работала раньше кинологом-дрессировщиком международного класса.
"Так вот откуда у неё такие шрамы!.." — догадалась Алина, и ей стало скучно оттого, что тайна, оказалось, имеет такую простую разгадку. — "Жила была дочка чекиста. Играла с мальчишками. Нянькой был адъютант папаши. Он и обучил её всяким там карате. Но девочка тосковала по теплу, оттого и любила животных — собак. Стала дрессировщиком. Чувствовала себя супервумен, зарвалась — вот её собаки и порвали. Испугалась. Остановилась. Стала нянечкой гордыню ломать. Шизофрения. А я-то думала — она действительно мудрая".
Алина вышла на улицу совершенно трезвой. Шел снег. Луна больше не висела на небе. Видимо, все-таки сорвалась, пока Алины не было на улице. Не было и звезд. Фонари… фары через сквер на Садовом…
— Мы тебя заждались! Мы едем к тебе. Мы так решили. У тебя квартира свободная, — подбежала к ней Ирэн, выпаливая свои заявления одно за другим.
Алина почувствовала, как при вдохе сдавливает грудь. Щемящее малодушие влекло её подчиниться общему настрою: — какая уж разница что, зачем и куда. Но это "сворачивай", и это "хе-хе-хе" — снова вспомнилось ей и заставило её застыть. "Какая разница кто сказал тебе нечто, что попало в лузу, оказалось точным по отношению к тебе — да хоть пьяный дурак ляпнул, хоть торговка с вокзала — все равно стоит задуматься, если это тебя задело. Быть может, они ради этого и жили всю жизнь, чтобы добраться до тебя словом и исчезнуть навсегда".
— Пошли же! Пошли! — Кто тянул её за рукав, кто за другую руку, кто подталкивал… — Алина уже не разбирала. Она подчинилась.
Они сидели на кухне друг напротив друга — Алина и Слава. Слава говорил. Говорил и говорил о том, как редко он видит её, но метко. Как каждый раз она вдохновляет его. И после встречи с ней — с ним всегда что-то происходит. То легче пишется, то ему везет… Короче — она ему снится. Каждый раз — снится несколько ночей подряд, после того, как увидит. Но видит, жаль, редко. Последний раз видел два года назад…
Тем временем в спальне Алины и Кирилла легкая влюбленность переходила в бурную любовь. Буря не стеснялась. Ее отголоски доходили до слуха, сидевших на кухне.
— Так, я не пойму, ты о чем? — стараясь не обращать внимания на эротические возгласы из спальни, смотрела Алина совершенно спокойным взглядом на восторженного Славу. Пока слушала она его — решала некое непонятное ей уравнение из математики жизни — кто он? Кто он — по отношению к ней? Икс ли — высасывающий последнюю энергию, равнодушный получатель?.. Или игрек — придающий ей уверенности в себе?.. "Нет. Ни тот, ни другой. Он ярок, пока пьян. Он пассивен к течению, по которому плывет. А кто не пассивен?.. Что же он делает?! Что?! На что тратит себя и свою жизнь?! Ладно — она: что не делай — конец уж сочтен, а он?! Он что, так и дальше собирается тратить себя впустую, так и жить…болтая о любви, и не понимать, что несет его мутным руслом горной сели…" Яркая вспышка ничем не объяснимой ненависти только лишь за то, что он… не важно кто, пусть некто, но в её болезненном воображении позволяет себе, пуская сопли от восторга, упиваться своей слабостью перед ней… умирающей, ослепила её.
— Нет! Ты такая… такая!.. — окончил он очередной свой словоблудный монолог.
И застыли в ней на мгновение все мысли.
— Да ни какая я. Какой вообразишь — такой и буду, — снисходительно улыбнулась она, с трудом сдерживая импульс — убить! Уничтожить!.. Сделать так, чтобы не видеть… не знать… Что в её жизни, пусть короткой, но все-таки жизни, были и другие пути. Нет — не лучшие. Но зачем же о них вещают ей теперь с таким романтизмом? Быть может оттого, что этот… бесславный Слава знает, уверен, что не грозит ему отвечать за выказанные чувства поступками?..
— Иди спать, — сказала она, убирая со стола бокалы.
И он послушался. Легко. Кивнув, как послушный ребенок пошел в свободную комнату с постелью, на которой раньше спала Любовь Леопольдовна.
Когда она заглянула туда через несколько минут — он спал. Он преспокойненько спал. Лицо его, хоть и заросшее густой бородой, светилось детской наивностью, словно лицо блаженного мечтателя, так и умершего, не осуществив своей мечты, не осуществившись… даже палец о палец не ударившего ради нее. Но прожившего жизнь всегда наготове встретить нечто сверхрадостное, — принесенное на блюдечке. Символом великой наивности. Даже тогда, когда судьба в точности исполняла его пожелания, словно подданные китайского императора, которые, услышав, как он воскликнул однажды, увидев девушку: "Ах, какие ножки! Я постоянно видеть хочу их!" — принесли ему эти ножки отпиленными на блюде.
Свет покачивающегося за окном фонаря словно раскачивал постель, так волны Леты, быть может, раскачивают лодку Харона.
Алина прошлась по квартире. Ей негде было прилечь. "Докатилась! думала она, и раздражение её нарастало, — Все меня любят! Все! Только если я вовремя не забуду подвинуться. Только места мне в результате нет. Нет!..
Рывком она сорвала плед со своего тайного воздыхателя. Он открыл глаза и, протянув к ней руки, пролепетал:
— Ты мне снилась.
— Но я же не сон!
— Не сон. Я счастлив. Иди ко мне! Иди…
Он задыхался и шарил во тьме руками, как узконаправленными локаторами, но едва касался её — она ускользала. Он не в силах был приподняться. Он не в силах был вступить в игру. Она раздевалась медленно. Не отрываясь, глядя ему в глаза. В этом тусклом мелькающем свете фонаря лицо её было особенно бледным, словно мраморным, глаза казались безднами, полными засасывающих космических смерчей с далеким отблеском мелькающих комет. Ему казалось, что он уже умер. Потому что иначе, в реальности, невозможно было представить себе близости с этой притягательной, но добропорядочной чужой женой. "Или это жизнь после смерти или снова сон, но сон в горячке… Не может быть" подумалось спьяну ему и, вдруг он с ужасом почувствовал, что пасует как мужчина. Ее муж, которого он видел мельком, казался ему силачом. Кто он против него? Что он, как мужчина?.. Он напрягся и почувствовал, как сознание оставляет его. Стыд, отчаяние, надрыв и пропасть…
Он очнулся — казалось, что восстает из небытия. Сердце билось и, охватывал страх, что вот-вот разорвется…
И вдруг, словно змейка поползла по его телу. Лишь осознал, что не змейка, тонкий шнурок, видимо кожаный и, видимо, мокрый, как застонал в истоме, внимая лишь голосу плоти. Она водила медленно вдоль его расслабленного тела и вдруг хлестнула, резко… до белой молнии, мелькнувшей от боли в глазах. Еще! Еще… Он почувствовал, что парализован. Что не может сопротивляться, что это… ни что иное, как её острые поцелуи. Он открыл глаза, стараясь воззвать к её милосердию взглядом. Глаз её не увидел. Лишь провалы глазниц и тайный блеск… Лицо её было недвижно. Она набросилась на него так же неожиданно, не выпуская тонкого ремешка из руки, и, подхлестывая, подхлестывая его, как скакуна по бедрам. Он протянул ладони, чтобы положить их ей на плечи, но она, отбросив ремешок, крепко схватила его за запястья и протянула их вдоль его тела. Тут он осознал, что стал жертвой насилия. И ласки его противны ей. Но этого не может быть! Он же мужчина! "Я же му-у-жчина!" — эхом отозвалось в его мозгу. Но кто же тогда она?!
Она казалась ему магической птицей нависшей над ним, всасывающей в себя, чтобы оторвать, вырвать из земного притяжения и унести. Навсегда унести. И таинственный гортанно-орлиный клекот сотрясал ужасом его душу.
— Какая ты… какая ты… — только и лепетал он.
— Какая ты! — прошептал он, словно осторожно прощупывал силу своего голоса, разглядывая её абсолютно спокойное, почти детское, лицо, утром.
Она открыла глаза и, не сказав ни слова, встала, оделась. Он с замиранием следил за ней, протягивал руки, но она освобождалась от них, как от случайно приставших веток во время пути. Пути через бурелом ли чувств, или через смешение мыслей. Нет. Лицо её было слишком спокойно. Оно не выражало ничего. Казалось, она в комнате одна. И больше никого нет. Нет даже его… словно и не было. Словно и не было их ночи. Тело его, исполосованное алыми полосами, ныло… Но это было, как ни странно, сладкое нытье. Он готов был ещё и ещё перенести и эту боль, и это растворяющее унижение. Он попытался привлечь её внимание. Ему было бы достаточно не то, что слова, а хотя бы пол взгляда, брошенных на него. Но если она смотрела в его сторону, то словно сквозь него. Не было его в её взгляде.
Бесславный Слава понял, что потерпел фиаско как мужчина в её глазах, но она!.. и продолжал твердить ей все самые хорошие слова и распался в них, упорно помня поговорку о том, что женщины любят ушами. Он должен был, он обязан оставить о себе хоть какое-то приятное воспоминание.
Она оделась и вышла. Через некоторое время он услышал, как хлопнула входная дверь. Это она ушла.
Он тоже оделся и нерешительно вышел на кухню. На кухне сидела Ирэн. Свеженькая, словно и не было ничего вчера, словно её никогда не мучило похмелье.
— А где все? — растерянно спросил он.
— Николай на рассвете смотался, у него какие-то дела, Аля же — пошла деньги занимать у соседей.
— Такая женщина!.. И занимать?! Да что же это такое в мире творится?! Что ж получается — мы, мужики, ничего не стоим?! А муж-то её зачем бросил?! К дуре какой-нибудь ушел?! Знаю я этих новых русских! Да они!..
— Тише, тише ты. Распалился. А сам-то ты кто? Что сам-то можешь?
— А… я…
— Вот и не суди.
— Да я сейчас удостоверение заложу! Такой женщине шампанское с шоколадом! — заорал он и побежал на улицу, в чем был.
Мороз чуть просветлил его мозги, но не охладил пыла. Он влетел в коммерческий магазинчик и, громко крикнул, бросил журналистское удостоверение на стол:
— Праздник любви!
— О-о-о! — отдало гулом ханыг, мечтающих опохмелиться задарма.
Две продавщицы сменили тут же зеленовато-бледный цвет лиц на здоровый.
— Закладываю документ! Всем по бутылке пива. Мне тоже три. А моей самой лучшей женщине на свете — шампанского и шоколада! Завтра…
— Уж лучше послезавтра отдашь. Моя смена будет. А завтра бы проспаться не мешало, — буднично ответила старшая, окинув его покровительственным взглядом.
— Отлично! — согласился он. — Собирайте пакет!
— Во Алюша какая счастливая! — восхищалась поступком Славы Ирэн. — Во как мужиков раскручивает! Так и надо! За тебя!
— Так и будет! Так и будет! — кивал Слава и, поглядывая на Алину, занимающуюся чем-то ежедневно-домашним, чувствовал, что задыхается. — Такая женщина ещё не той жизни достойна. Она ещё у меня на иномарке ездить будет! Я тут дня два назад сидел в своей редакции, вдруг влетает ко мне в кабинет бизнесмен окровавленный, у него офис рядом… Я рубаху свою порвал, его перевязал. Он "Скорую" не хотел вызывать… Так он мне и говорит, — как получит несколько вагонов тушенки, так один мне дарит. А получает он её сегодня! Так я все деньги эти случайные на Алину потрачу. Сколько я их, Господи Боже, за последние годы пропил! А теперь… теперь она у меня на иномарке ездить будет.
— Ты чего? У тебя же жена, дети… — покачала головою Ирэн.
— Так об этих деньгах же в семье не узнают.
— Ну, Алька! Ну, Алька! Вот счастливица! Едва от мужа ушла… И чего ж это твой Кирилл не догадался… — Ирэн обернулась на Алину. Алина сосредоточенно мыла посуду и не оборачивалась.
— Аль! Да сядь ты с нами! Выпей шампанского!
— Мне некогда, — тихо ответила Алина и вышла из кухни.
Вернулась в шубе.
— Я пошла. Когда уходить будете, дверь просто захлопните.
Когда Алина вошла в кабинет Михаила, в нем было полно народу. Все свои. Все те, что пили вчера, отмечая юбилей главного редактора, а сегодня, с утречка, опохмелялись. После вчерашнего. Все были в курсе о том, что около двух месяцев назад произошло между Михаилом и Алиной. Алина представала теперь в их глазах маньячкой, неожиданно, в самый неподходящий момент и в самом неподобающем месте способная броситься и изнасиловать мужчину. Краски Михаилу даже не приходилось сгущать. Достаточно было все вспомнить в мельчайших деталях. И наблюдать, как балдеют мужики, слушая подробности. Теперь её былая внешняя сдержанность и репутация недоступной и верной жены казались им просто личиной. Личиной опасной сумасшедшей. Никто бы не хотел вот так… И все-таки — это было заманчиво.
Она вошла, и все, видавшие виды, седые ли, лысые, но ещё крепкие ветераны местной компании, оглянулись на нее. Былых возгласов, приветствий, комплиментов она не услышала на этот раз. В гробовой тишине она прошла к столу Михаила. Михаил покраснел у всех на глазах и замер.
Этого от него не ожидали. И теперь все были готовы к тому, что Алина, все поняв, сходу отвесит сплетнику хлесткую пощечину.
Алина действительно сразу поняла, о чем они. Но, сдержав презрительную усмешку, как ни в чем не бывало, попросила Михаила подписать запрос на разрешение ей и фотографу Фоме посетить зоны в ГУИД, в Управление, за которым, как бы оно не меняло аббревиатуру, на века закрепилось былое название ГУЛАГ — Главное Управление Лагерей.
Михаил, стараясь скрыть волнение, негнущейся рукой изобразил свою подпись.
— Привет всем, — мило улыбнулась Алина и ушла.
Комната загудела. Теперь всем стало ясно, что Михаил не врал. Маньячка рванула за легкой добычей в самую гущу страждущих баб-с. Да ещё для прикрытия берет с собою Фому, который совсем спился.
ОСТАЛОСЬ ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ.
ГЛАВА 18
— Алька! Аль! Да что же это такое творится! — кричала в телефонную трубку Ирэн. — У меня на этих мужиков юмора уже не хватает. Захожу в Домжур, смотрю твой… ну тот… твой герой-любовник, что с шампанским, носится по столам и пристает ко всем "Слушай, купи у меня вагон тушенки" Все ему опохмелиться дают, а один вдруг среагировал и серьезно так говорит: "Куплю, только ты сначала купи у меня фуру ножек Буша". Во — бизнесмены!.. А я-то думала!..
— А я и не думала. — Ответила Алина, и прошептала в сторону: "Невозможно!.." Но едва положила трубку, вновь звонок:
— А можно… можно я снова буду за тобой ухаживать? — спросил Кирилл по телефону Алину.
— О, господи, — тихо воскликнула Алина. Сосредоточенным, ничего не видящим вокруг, взглядом она посмотрела на сигарету.
— Я буду снова носить тебе цветы… как это было раньше, помнишь? Ты помнишь, как мы поссорились, а я ушел и вернулся с розами. Их было тридцать три. Мы были счастливы тогда…
— Мне некогда, извини.
— Ты уходишь? Давай, я за тобой заеду. Подвезу
— Ты что?! Ты издеваешься надо мною?! Лучше просто женись ты ней и не мучай ни меня, ни её.
— Нет! Ну почему мы не можем понять друг друга?! Но что, скажи, что я могу для тебя сделать?
Это "для тебя" всегда почему-то ранило Алину. Он никогда не говорил "для нас". Но впрочем, теперь ей было все равно.
— Все, что мог, ты уже сделал.
— Ты уж прости меня, я бываю груб-с… Прости! Ты думаешь, мне легче? Я тут пережил такое! Тебе что… вот решишься все-таки на операцию — и как рукой снимет. А у меня… Я такое пережил… Я чуть не умер от разрыва сердца. Ты думаешь…
— Ни о чем я не думаю. Знаю только, что не хочу умирать на твоих руках.
— А вот я бы хотел. Теперь я точно знаю, что именно этого я бы хотел.
— Отлично, теперь ты! До этого твоя мамочка… Как вам нравится умирать! А я…
Она посмотрела куда-то далеко за окно… за деревья, дома, за горизонт и тихо произнесла, кивнув: — Ладно, прости и прощай.
— У тебя по гороскопу год борьбы за свободу. Вот и пошла, как чернобыльский реактор, вразнос, а кому от этого легче?..
Она молча повесила трубку.
Не было в ней никаких эмоций. Словно лопнули и исчезли отвечающие за сигналы эмоций клетки в мозгу. А дни шли своим чередом. Ей было уже все равно — сколько дней ей осталось. Песок пустыни её души ритмично скрипел в такт шагам.
— Почему, вы — изящная, юная женщина — и вдруг решили ехать в зоны? спросил её начальник одного из отделов Главного Управления Исправительными Учреждениями.
Этот самодостаточный и самодовольный толстяк Димитрий Сидорович сидел перед ней, развалившись в кресле и, цинично разглядывая Алину, проводил с ней обязательное личное собеседование, перед тем, как выдать разрешение на посещение зон.
Алина же волновалась:
— Я хочу… я…
"Да ничего я не хочу. Просто — не могу так больше. Не могу, не могу и не хочу. Куда мне еще, как не в зоны — в Сочи, что ли, на три ночи?!.. В театр, музей?.. Но почему именно в зоны?.. Этого не объяснить…"
Он явно приглядывался к ней. Он оценивал её. Он понимал, что журналистов надо бояться, но ее?.. Он тяжело вдохнул в себя воздух и так же тяжело выдохнул:
— Жалею я вас, — произнес нараспев.
— Что? — растерянно спросила Алина.
— Да женщин-то вот таких.
— Каких?
— Интеллигенточек. Журналисточек… Артисточек всяких… Бьетесь вы, бьетесь всю жизнь, а ничего в результате не выходит…
"О чем он?! О чем?! Или он специально уводит меня от нашей темы, чтобы лучше понять-рассмотреть?.. А быть может, он вообще не понимает, о чем он должен со мною разговаривать? Приходят к нему маститые журналисты-экстремисты с руками, толще, чем моя нога, с ними все ясно, а тут вдруг я…" — размышляла, сосредоточенно контролируя диалог, Алина. А Димитрий Сидорович тем временем продолжал:
— У нас в доме одна актриса пожилая живет… Были времена — в бриллиантах да соболях ходила, а теперь — нищета…
— Пережить наши перестройки, да экономические революции в преклонном возрасте и не впасть в нищету…
— А что возраст. Вот кто живет, так сказать, не мудрствуя лукаво, те все и в старости имеют. Был у нас один генерал… теперь в особняке живет. А на пенсии. Гроши, казалось бы… А все за счет чего?
— Чего?
— Властный был. Все на него работали. Вот, в зонах у нас как… Сейчас-то мы их к работам особо не принуждаем, но раньше были такие характеры — все на них работали. А по доходности Государству — мы в первую четверку министерств входили! Вот и подумайте, отчего народ не бедствовал от нефти ли нашей, или других ресурсов. А мужик-то где пашет?
— В поле, — растерянно ответила Алина.
— Да не. Я говорю: где муж работает?
Алина уставилась в его прозрачные глаза. Странное ощущение охватило её, такое, словно она не на собеседовании, а на допросе. И впервые в жизни испытала на себе эту хитрую манеру ведения допроса, о которой лишь слышала, когда расслабляют допрашиваемого светским разговором, а потом задают вскользь вопрос. Расслабленный человек отвечает машинально. И она ответила машинально: "в поле". Ей даже в голову не пришло спросить в ответ: "А почему вдруг вы заговорили о каком-то мужике?" Не прошел его отработанный фокус лишь потому, что отработан, был не на тех, и говорил он не её языком.
— Муж-то где работает? — переспросил Димитрий Сидорович.
— Я не понимаю — вы хотите выяснить замужем я или нет? Или же…
— Да нет. Не в моем ты вкусе. В моем вкусе женщины поосновательней. А такие что… Жалею я.
— Почему?
— Бьетесь вы, бьетесь… А помады ваши, духи всякие, дорого стоят. Вот, если женщина замужем… ей об этом думать не приходится. Особенно, если муж не дурак. А если дурак, — тем более. Вот у меня сосед — уже доктор наук, а дурак. Нищенствует. Как посмотришь на его жену — жалко. Не люблю я вас.
— Кого? Жен?
— Да журналистов. Подлый вы народ. Вот пускали мы вас, пускали. А хоть бы благодарными были. Ни слова хорошего. А вот бьешься здесь, бьешься…
— Над чем? Над исправлением?
— Над порядком. Никого ещё зона не исправила. Они там, наоборот, такую школу проходят — ого-го! Один, глядишь, сел по дури, а вышел грамотным, потом с такой статьей к нам же вернется — о-го-го! Там бывают такие умницы сидят — миллионами долларов воруют, воруют… Жалею я…
— Кого? Тех, кто ворует?
— Да нет. Умных людей — нечего им у нас делать. Такие мозги, да на пользу бы государства! Они что чуть — себе наворуют и успокоятся, а потом какую пользу во имя собственной славы государству принесут! Эх… Жалею я.
"Боже, да что же он такой жалостливый? Когда ж бумагу подпишет?.." — с терпеливым ужасом смотрела на него Алина.
— О чем писать собираетесь?
— Не волнуйтесь, меня не интересует, какую они получают пайку хлеба и мыла.
— Мыло дают не пайкой. Мыло раздают кусками.
— Что?! — взглянула на него и только сейчас поняла, где находится и с кем говорит. И вспомнила Омар Хайяма:
"Будь жизнь тебе хоть триста лет дана
Но все равно она обречена,
Будь ты халиф или базарный нищий,
В конечном счете — всем одна цена…"
"Остановись! Остановись! — кричало её распоротое лезвием обреченности сознание. — Как выйти — "за"?.. Как выйти за пределы этой одной единственной цены?!"
— Я еду, чтобы понять, — сказала она и, вдруг поняла, что просто переступает, таким образом, черту собственной реальности, вырывается из замкнутого круга своих проблем, перестает бояться жить в чужой реальности. Потому что своя невозможна.
ОСТАЛОСЬ ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ДНЕЙ.
ГЛАВА 19
"Я опущусь на дно морское, я вознесусь под облака…" — такая строка из песни, пусть он и не пел никогда этих русских песен, больше всего подходила Фоме как негласный девиз. Таков был диапазон качества его жизни, поражающий своим размером все устои, вдохновляющий, порождающий творческий импульс. Когда раньше, во времена Совдепии, его брали в милицию — он шел как Гумилев на расстрел, как Жанна д" Арк на костер, не меньше. Когда заходился в гневе, стуча по столу, очередной, ещё по-совдеповски консервативный редактор, ошарашенный беспардонностью его фотоматериала, Фома испытывал полет удовольствия живодера, наблюдающего очередную агонию жертвы. Когда пил — падал замертво, словно подзаборный горемыка. Когда был трезвый — вел себя не менее чем принц крови. Роста небольшого, лицо испитое, глаза ввалившиеся, хоть и внимательные, патлы нечесаные, но манера говорить!.. Медленно с расстановочкой, бархатистым баритоном… манера проваливать работу, и глазом не моргнув, все делать, как бы ничего не делая, и вдруг приносил фоторепортаж, от которого все ахали, все прощали, и считались с ним как с гением-героем. Женщины липли к нему — такому невзрачному, такому редко осуществляющемуся, он сохранял всегда внешнее равнодушие. Почему?..
Алине не было до этого никого дела.
Ей было вообще ни до кого. "Вези меня по городу такси, как будто бы я адрес забываю…" — напевала она строку Бродского под стук вагонных колес и смотрела в окно электрички. За окном тянулось серое предрассветье Подмосковья. "Вези меня из прошлого вези… вези себя из прошлого вези, везу, как будто душу отрываю…" — напевала она, переделывая чужие строки. "Куда я?.. Да куда угодно. Лишь бы — оттуда. Это конец. Конец всего. Всего, что было раньше. Всего, что считалось собственной жизнью. Не стоит думать о том, что будет дальше. Каждый день теперь — последний день, поскольку нет пути назад…"
Было муторно, сыро и грязно; бледно, серо и пусто, — как в душе, так и снаружи. А когда проскрипели тяжелые замки, и отъехали в строну бронированные двери, то в конце тускло освещенного коридора засияло вдруг солнце и открылся кампанелловский рай. Алина сразу почувствовала, что все знает, абсолютно все. Помнит, не вспоминая. И память это какая-то врожденная, засевшая в спинном мозгу. Знает, где здесь палаты для сна, где клуб, где столовая. Что-то знакомое с детства это все ей напоминало. Пионерский лагерь! — про себя прошептала она. — Настоящий, показательно образцовый пионерский лагерь!.. Детский сад… детский дом, колония, зона, этапы, дом престарелых — вот та невидимая схема рабовладельческой империи, в которой лишь немногие умудрялись просто так, преспокойненько жить. И образ этот накатил на неё гигантским катком и расплющил свободное дыхание. Она оглянулась, через силу, — это была зона строгого режима. Конечно же образцово-показательная зона, для журналистов. Но все равно — менее тошно от этого не становилось. Серые шинели. Черно-серые ватники… Серые взгляды, серые лица, словно покрытые серой щетиной, а приглядишься — все гладко выбриты…
— С кем хотите говорить? — спросил её молодой лейтенант. Сам он явно хотел говорить только с Алиной, делая вид, что не шокирован сопровождением этого патлатого, похмельного типа, явно не вписывающегося в его правильное сознание.
— А с кем можно? — словно невменяемая спросила Алина, расширенными глазами оглядываясь вокруг, и при этом испытывая тоску серой скуки от внутреннего сравнения этого жуткого, мрачного мира с обыкновенным лагерем её детства.
— Вот приехали бы вы ещё лет десять назад, у нас такие культурные люди были! А теперь что… Сначала статью за диссидентство отменили, и приличных людей не осталось, одни воры да с тяжкими телесными. А потом и вовсе культурных людей не за что сажать стало. А те, что сидят у нас — просто дураки. Умные откупаются, да на джипах на воле гоняют, а дураки — здесь от голодухи спасаются. Так что теперь у нас контингент не тот. А жаль, попрепираться даже не с кем. — Искренне вздохнул он. — Так куда ж мне вас вести? Отфотографируйте вот здесь… а из осужденных никого не снимайте, разве что… сейчас покажу вам реликта…
— Скажите, а зачем вы всю жизнь воруете? Ведь потом все равно сидеть, — задала Алина свой первый вопрос и сама на себя разозлилась за свой непрофессионализм. Потому как знала, что "сидеть" не обязательно, да и какие можно произносить морали в это время в таком государстве, где все, прибывая в возне безнравственности с пошлостью, не ощущают, как глубоко все засосала тина беспросветности. Но в этом мире, в этом центре времени, она сама себе казалась единственной фигурой, понимающей, что умирает навсегда. И в принципе ответы на вопросы, вопросы и вообще слова являлись дутой, фальшивой оправой алмаза каждой минуты её наиценнейшей жизни. Она произносила их как правильно, как надо другим, не понимающим, что умирают, что жизнь единственна и неповторима, как надо… но дай ей волю, она бы посчитала единственно верным — молчание…
Однако дремучий вор, соблюдая тоже явно чужие правила, ей отвечал:
— Не сижу, а исправляюсь. Вот — товарищи начальники надо мною трудятся, трудятся, а я все думаю: да неужели я такой безнадежный? Нет, думаю, когда-нибудь исправлюсь. Что ж они зря трудятся, жалко аж их, бедненьких.
— А сколько вам лет?
— Три.
— Как это — три?!
— Таков приговор. Я ведь как — год отгуляю — три получу. Три года отгуляю — пять получу. У меня по жизни так. Сызмальства. Вот как в одиннадцать лет замели, я ловкий был, маленький, меня в форточку и запускали…
— В одиннадцать лет?! Такого маленького — и посадили?!
— Что ж поделать. Такие законы были.
— А… если бы вы жили при других законах, как вы думаете, чем бы вы смогли заняться?
— Как так — при других законах? — руки его танцевали странный танец. Какие были законны, такие и были. Законы не нам выбирать.
— Но если бы вы… уехали за границу?.. Получали бы нормальное пособие, вы и тогда бы воровали?
Вдруг он протянул ей её шариковую ручку. Это было тем более странно, что она не приближалась к нему во время разговора. Во всяком случае, не помнила, чтобы это было.
— Прощеньица прошу. Не корысти ради — во имя искусства…
"Во имя искусства! — все вспыхнуло в Алине — Безнравственное воровство, а все ж просительно, когда красиво! Быть может, так и стоит жить… красиво в каждом своем движении и шаге… красиво соответственно себе, не важно, где ты — в зоне ли, снаружи… за гранью жизни, за границей понимания цены вещей… которые крадешь у предыстории себя… и все же красиво никогда не может быть корысти ради…"
— А за границу я не поеду, — вздохнул старик и с расстановкой пояснил, — Пусть там пособия даже за безделье платят. Дело не в этом. Я родину не предам. Я русских людей люблю.
— Русских людей любите?! Но вы же их обворовываете!
— Что ж поделать, профессия такая, — убого вздохнул он.
— Какая профессия! Побойтесь Бога!
— Бога? А я в Бога не верю. Я вот бога ещё на колымском тракте молил голодно было, думал совсем помру, как я его молил!.. Не упало мне с неба хлебушка. А вот товарищ начальник меня пожалел. Пайку выделил.
— Но… есть же…
— Не верю я в бога, не верю, а в товарища начальника верю.
— Но неужели за всю вашу жизнь не было ничего, что бы натолкнуло вас на мысль, что над человеком есть, если не Бог, то хотя бы какие-то высшие начала…
— Не было ничего такого. А вот про себя если, — то со мною случай один был, — не слушая её, продолжал насмешливо юродствовать старик. — Подошла ко мне женщина на вокзале, попросила сумки постеречь, пока она за билетами сходит. Час стерег. Ничего не взял. А ведь мог бы. Сижу на её сумках и не понимаю, что со мной. Потом понял — исправляюсь. И аж потом прошибло на пороге новой жизни-то. А вот ещё — мать мою соседка попросила цветы поливать и в отпуск уехала. Ключи от квартиры отдала. А я не воспользовался. Видать не совсем я безнадежный. А соседка-то из богатых была — у неё в доме сушеный крокодил был. Вы не знаете, сколько сушеный крокодил на рынке стоит?
Вопросов больше не было. Фома тоже молчал.
"Какой-то фантастический лунарий, — отчаянно твердила Алина про себя, — и это тоже жизнь?.. Что за проблемы в его жизни, что за проблемы воровать или не воровать. При чем здесь я?.. Вся жизнь моя и смерть? Красиво ли, искусства ли ради — я, умирающая, та, которой осталось всего ничего — вдруг опускаюсь в эту смрадную помойку?! Но что-то я же здесь нашла! А разве было бы красивей, когда б я как щенок, пытающийся оторвать свой хвост, гонялась бы за собственной болезнью, пытаясь оторвать её от тела?..
— Ну хорошо, — сказал майор Правдухин, — Поговорили, теперь я экскурсию проведу. И повел из кабинета начальства, где происходила встреча, по четко распланированному пространству.
Они молча смотрели на одноэтажные бараки, отштукатуренные бледно-желтые, на длинные ряды нар, покрытых черными одеялами, и старались не вглядываться в сумрачные лица. Но одно лицо, не лицо, а лик святой с картины Нестерова, поразило своим прозрачно-неприкаянным взглядом.
— Кто это? — спросила тихо Алина.
— А… это наш художник. Окромя кисточки и стакана ничего в руках держать не умеет.
— А почему же он здесь?
— Жена в третий раз за алименты посадила. Вот и попал за рецидив в "строгий". На год. И это в такие времена, когда кругом киллеры рыскают — да за алименты. До чего женщины жестокие!
"Ничего себе, до чего же проста мужская правда, — думала Алина, в ответ. — Не рожают, не кормят, вообще не при чем, а вот жизнь им подай, и плевать, какого этой женщине вынянчить, выкормить, вырастить. А быть может, она и не хуже его как человек, может, тоже хотела бы пить, рисовать… да инстинкт материнства и совесть ей не позволяют… Не жестоко ли жить: вот так — не при чем?
— …Как подумаешь, какие жестокие!.. — продолжал Правдухин о своей правде. — Вот, возьмите картинку на память. Церкви рисует. Он всегда у нас церкви рисует. Как будто святой. Краски у нас тут не положено держать. Так он комбижир, что в столовой выдают, со штукатуркой и с землей смешивал. Вот и решился я режим нарушить — сам ему все необходимое для рисования, на свои кровные, закупаю. Да и хозяин смотрит на это сквозь пальцы. Он художников любит.
— Помнится, мелькала информация, как один разбойник-убийца, по деревням грабил и семьи вырезал, тоже церкви, распятия и Христа рисовал, вздохнула Анна.
— А кто ж церкви не любит? Права не имеет не любить!..
Кирилл не любил ходить в церкви. Но когда узнал, что Алина уехала, почувствовал, как ужас охватил его: за все его существо и существование. И было такое чувство, что она уже умерла. И все умерли. Но если раньше он, порою, подсознательно мечтал об этом как о времени полной свободы, то теперь он не чувствовал себя ни легче, ни свободней. И тянуло зайти в церковь… да неловко было как-то — молиться по правилам не умел.
Жанна, прятавшая последнее время глаза, вдруг стала вновь смотреть в упор. Купила себе очки, чтобы театрально-внимательно прищуриваться сквозь них. Звонила ему домой, вроде бы, по делу. Потом оказывалось, что дела были надуманные.
Дома также не было покоя. Мама, вроде бы, выздоровела, но теперь он сомневался — не сошла ли с ума.
— Сынок, вот Поле, знакомой моей, помнишь, она еще… Ей сын на путевку в Анталию доллары дал. Все теперь по заграницам ездят… — Заводила Любовь Леопольдовна разговоры как бы ни с того ни с сего.
— Ты же недавно чуть ли не парализованной была! Как я тебя такую слабую куда-нибудь отправлю.
— Слабую, не слабую. А хоть перед смертью мир посмотрю. Ты думаешь, у меня уже и запросов нету?
"Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не смогли запеленговать" повторял про себя Кирилл строку Высоцкого и продолжал машинально делать то, что делал всегда, то есть — деньги.
ГЛАВА 20
Когда разведчику надо узнать что выпускает засекреченный завод, он едет на свалку его отходов.
Алина понимала, что через это отхожее место жизни она постигнет то, что покидает навсегда, она постигнет логику людскую, сознание которое, как почва питает весь окружающий её кончающийся век — и никакие Фиджи, Майями и Парижи, — ей не дадут той глубины всей подноготной сопутствующей внешней стороне жизни. "Не для прессы мне это нужно, но для себя".
Да, это она понимала, и все же чувствовала, что наивность её не имеет предела. Весь прошлый опыт жизни не срабатывал. И слезы текли по её лицу, пока она читала анкеты из женской зоны. Не ответы на вопросы, а то, что было написано на обороте:
"… А он ограбил своего отца и ушел. А дядя Гриша умер в нищете от горя. Тогда я, как соседка, собрала деньги с соседей и дядю Гришу похоронила. А он явился через месяц, после похорон и заявился ко мне с благодарностью. У меня дети малые, я ему говорю: уходи. А он насильничать стал. Избил меня всю. Со мною никто так не обращался, даже муж покойный. А когда на следующий раз пришел, не выдержала я и стукнула его топором по голове. Слава богу, он жив остался! А ведь могла бы стать убийцей. Женщины, милые, заклинаю вас, никогда сюда не попадать!.. Потому что мы на воле нужны своим детям и матерям! Когда б я знала, что здесь окажусь, никогда бы не сопротивлялася."
Алина читала и плакала. В голове гудел густой бас начальника женской зоны:
— За что в основном сидят?.. Да процентов шестьдесят — за убийство. Только вы не бойтесь. Это в основном умные, благородные женщины. Просто превысили меры сопротивления, вот здесь и оказались.
Но что писали мужчины на обратной стороне анкет!.. "Здеся вооще ничаво, жить можно, но хорошо бы ещё женщину давали".
Фома в женскую зону с ней не пошел. Говорил, что боится, мол, нервы не выдержат. Отснял женщину-полковника, всю в сером на фоне серых железных ворот, а далее предпочел чаевничать с тех, кого обычно называли "хозяином" — начальником исправительного учреждения. Алина пошла одна на негнущихся ногах за болезненно-бледным воспитателем. Никто из женщин художником не был. Не занимались они живописью, зато вязали кружева на спичках, потому что спиц не давали, "дабы не тыркали друг в друга". Украшали покрывала, накидки на подушки кропотливой вышивкой. Палаты их, с кроватями в один ярус, были похожи на сказочные девичьи светелки, так все сияло от белизны. Да только странный натюрморт из непривычно маленьких, казалось детских, кирзовых сапог, выставленных в предбаннике, застыл у Алины перед глазами. Женщины были поразительно красивыми от природы, словно их подбирали здесь по породе. Только шрамы на лицах зияли тайной правдой местного быта.
— Вы бьете их?
— Не бьем, если не хотят.
— Что слезы лить, мадам. — Вздохнул Фома, — Все равно ничем не поможешь.
Она посмотрела на него внимательно, отвернулась и ушла к себе в комнату.
— За свободу русского оружия, — c браво поднятым стаканом Фома вошел к ней и, увидев, как она перебирает анкеты, сидя за столом около окна, и глаза её полны сострадательного горя, добавил: — Слушай, хватит все брать на себя. Выпей лучше. А то свихнешься.
Она молча приняла из его рук стакан.
…Голова кружилась, все плыло перед глазами. И казалось ей, что она разорвется сейчас, словно мина, от столпотворения мыслей. Почему-то они говорили о Ельцине и ни слова о зонах, ни слова о том, что видели, что слышали за эти дни, ни слова. Тем не менее, говорили и говорили — все не о том… о политике, политике, выборах…
"А зачем вообще говорить, — рассуждала Алина, заплетаясь в собственном монологе. — Почему бы не брести по этой жизни, словно Сухов по пустыне молча. Правда, Сухов знал, куда он идет. Он шел домой. А я не знаю. Я иду… иду-иссякаю, но не кончаюсь…"
Газета валялась на полу, заголовки бросались в глаза: "ЗАДУШИЛ СПЯЩУЮ ЖЕНУ ПОДУШКОЙ"; "ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ"; "ДЛЯ ВЗРЫВОВ В МОСКВЕ ПОДБИРАЮТ НОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ"; "ДЕДУШКУ-ПАРАЛИТИКА УБИЛ ВНУК ШИЗОФРЕНИК", "УБИЛ ДВУХ ДЕТЕЙ И ЗАЛАЯЛ СОБАКОЙ"; "ОТОМСТИЛА МУЖУ НА ЕГО МОГИЛЕ"…
Они пили и пили.
— "ДОКАТИМСЯ ИЛИ ПРОКАТИМСЯ?" — прочитала в слух Алина ещё один заголовок.
Постепенно слова стали ватными, и они погрузились в сон. Каждый там, где сидел — там и заснул.
Ранним утром, перед выходом на работу, старший лейтенант Правдухин, оправдывая себя тем, что идет по делу, постучался в номер Алины. Он представлял её себе теплую, мягкую ото сна. Вот она сейчас накинет халатик, а он сразу сунет в приоткрывшуюся дверь букетик гиацинтов. Вот это женщина, вот это женщина!.. — колотилось в ритм его внутренним восклицаниям сердце. — Настоящая, столичная, не то, что местные бабенки. Да ещё к тому же умница — журналистка. И, видать, не замужем. Была бы замужем, разве ж муж отпустил бы её в такие места?.."
Он стучал и стучал, а за дверью не слышалось шорохов жизни. Упав духом, стараясь отмести наползавшие подозрения, толкнул дверь ногой. Дверь распахнулась, и та ужасающая правда, что увидел Правдухин, не вместилась в его многомерное, вроде бы, сознание. Он сделал два шага вперед и склонился над Фомой, лежащим на полу раскинув руки и ноги. И только лишь храп, извергаемый из раскрытого рта, говорил о том, что он жив.
Букетик гиацинтов выпал из-за пазухи старшего лейтенанта на живого покойника.
Поставив пачку картинок заключенных в угол, Правдухин хотел было уйти, но вдруг кто-то на постели зашевелился, и из-под одеяла высунулась голова белокурой бестии.
— Алина!.. Вы ли это?.. — с ужасом он вглядывался в отекшее лицо.
— А что? Чем не я? Образу своему не соответствую? — печально улыбнулось мятое создание. — А когда сапогом им… в лицо… бьете соответствуете? Когда Петьке Алмазу, да каким бы он не был уголовником, на голову банку с кислотой ставили, а потом стреляли по ней и смотрели, как это существо сгорало без пламени заживо, соответствовали? Блюстителю порядка соответствовали?
"Понабралась… — все опустилось внутри у Правдухина. — И это… женщина?!" — чуть ли не рыдая по своим остро-мимолетным надеждам, Правдухин бросился прочь.
— Все. Опустите занавесь. Финита ля комедия. Я хочу домой! — заплакала Алина.
И чем дольше она плакала, тем больше ей хотелось плакать, плакать и плакать — безудержно, как в детстве, от бессилия и невозможности ничего изменить.
Фоме хотелось опохмелиться.
Почти ничего не говоря друг другу, они вдруг синхронно собрали свои вещи, заплатили за гостиницу, вышли в город, добрались до вокзала, сели в электричку и поехали молча…
ОСТАЛОСЬ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ДНЯ,
…………………………………………………
"Господи! Всего-то неделя прошла! Всего-то неделя", — твердила про себя Алина, входя в квартиру. В квартире кто-то был. Она на цыпочках прошла на кухню.
Кирилл, разложил только что купленные продукты на столе, растерянно перебирал упаковки. Он поднял глаза, сказал, ничуть не удивившись её появлению:
— Вот… плавники акульи купил, а как их готовить?.. И вообще, знаешь, хватит. Давай, как люди жить.
— Какие люди? — с трудом преодолевая онемение горла, спросила Алина.
— … А я… я все понял, — он стоял над ней, пока она плескалась в ванной с ароматной пеной. И зачерпывая пуки пены, аккуратно опускал ей на грудь. Она молчала. — Я все понял, — продолжал он. — Кому и зачем нас надо было поссорить.
— Никому. — Печально улыбнулась Алина.
— Нет. Кому-то. Ты не вспомнишь, кто под тебя в последнее время подкатывал? — Но, заметив её прищур, мол, эх ты, ревнивец, успокоил: — Да не ревную я. Но Жанну тогда точно специально к нам подкинули. Кто-то хотел тебя у меня отбить и на тебе жениться. Кто-то знал, чем ты больна…
— И зачем же на мне жениться?
— А затем. Помнишь, ты говорила, что у тебя бабушкин брат во Франции? Его туда отправили юнкером, после того как Зимний взяли, помнишь? Умер твой двоюродный дедушка. Дом в Каннах тебе завещал.
— Го-о-осподи! — простонала Алина. — Но за что?! За что — именно сейчас?! За-а-чем же?..
— Чтобы хоть раз просто счастливо пожила. Я уже наши заграничные паспорта отнес во Французское Посольство. Все объяснил. Скоро визу получим.
— Но зачем мне… нам этот дом?! Зачем нам дом вообще?
— Дом, быть может, не нужен. Нужен был бы, разве б я его тебе не купил? Да хоть в Каннах. У меня бы хватило.
— Ты здесь и квартиры не купил.
— Но нельзя же. Убьют. Я же не дурак, как анекдотический "новый русский", не цепляюсь ни за землю, ни за мгновение, как бы не было оно прекрасно. Я же понимаю — что-нибудь одно: либо жизнь при деньгах, либо смерть при недвижимости. Пробовали уже совместить до меня, сколько так прожили? Оседлость, увы, не для нас.
— Но теперь уж… что говорить…
— А теперь уж, — я принял это извещение о твоем наследстве как намек. Я должен сделать тебя счастливой. Просто счастливой. Мы будем счастливы ещё хоть день, хоть час… А дальше… мы будем жить и жить. Я сделаю тебя счастливой, даже если ты будешь изо всех сил сопротивляться. Я сделаю тебя счастливой — назло тебе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ АГОНИ — ЭТО СОСТЯЗАНИЕ СО СМЕРТЬЮ…
(или состязание истязанием)
Кошки не любят, чтобы видели, как они умирают…
ГЛАВА 1
— Кошки умирают в одиночестве. Кошки прячутся умирать. Кошки не собаки. Когда кошкам плохо, они бегут от добрых слов, не хотят поглаживаний… Не верят, что им помогут. Когда Маруся исчезла, я сразу поняла, что кошка ушла умирать. А через неделю умер князь Александр. Скороговоркой, как бы мельком, оглядывая одичавший сад, говорила бойкая старушенция Зинаида, и позвякивала связкой ключей.
Кирилл и Алина терпеливо наблюдали за странной старой русской эмигранткой, видимо изголодавшейся по русской речи в этом южном приморском городке. А она стояла на каменном крыльце, прямая, словно стела в память по останкам былой культуры. И в тоже время казалось, что она только что выскочила со сцены, где играла в бурном спектакле о Парижской коммуне — в простой синей юбке, в приталенном драповом полупальто, в косынке, завязанной под затылком, правда не алой, революционной, а в бордовой. Она вся была странно монументально-символичная — эта щуплая старушенция, не смотря на свой возраст и материальные проблемы, не теряла гордой посадки головы, не смотря на небольшой рост — взгляда как бы сверху вниз. И… говорила, говорила, говорила, отделяя от тяжелой связки ключей тот самый нужный. Потом долго пыталась попасть им в замочную скважину, потом ржавый замок с трудом поддался, дверь распахнулась. Кирилл и Алина мигом взлетели через три низкие ступени на крыльцо и с жадным любопытством во взоре вошли в дом.
— Дом у князя Александра небольшой. Всего одна спальня и ещё одна для гостей. Но гости в последние годы приезжали к нему редко.
— А комнат сколько? — обернувшись на пороге, спросила Алина.
Старушенция напряглась, словно их было невероятно много и, после минутных раздумий, с трудом ответила:
— Пять комнат. Его спальня, комната для гостей, кабинет — на втором этаже. На первом столовая и гостиная. Кухонька справа… Осваивайтесь. А я пока пойду осмотрю сад. — Зинаида, хотя и оказалась во Франции трех лет отроду, произносила русские слова с той точностью звучания каждой буквы, при которой матрац никогда не просипит матрасом с буквой "с".
Такую речь Кириллу приходилось слышать только из уст старой университетской профессуры. Алине же, если не смотрела на Зинаиду, казалось, что она слышит свою бабушку. Быть может от этого, слушали они её молча, теряясь о чем-либо спросить, стесняясь вставить в её говор свое, современное размыто-московское произношение.
Прямоствольная старушка скрылась в саду. А они начали свою медленную прогулку по комнатам. Двоюродный дед Алины был, как успела рассказать Зинаида, сопротивленцем Армии Де Голя — героем с множеством наград. Потом стал вдовцом и архитектором… Но это все никак не отразилось на интерьере его дома, приобретенного им ещё до войны. Мебель красного дерева, хотя и была явно прошлого века, казалась скорее старой, чем старинной — никакого особого изящества не было в ней — простая, словно фанерная гармония партийных кабинетов наших тридцатых годов. Скуку её скрашивали забавные картины и барельефные макеты южного городка в стиле примитивиста Руссо, как заметила Зинаида, написанные рукою самого хозяина.
Все горизонтальные плоскости первого этажа были покрыты скатертями и накидками из зашитых кое-где толстыми нитками тончайших кружев "ришелье". Такая обстановка посчиталась бы в Москве слишком старомодной. Но здесь, видимо, хозяина больше волновала не мода, а стиль. Стиль был един. Чувствовалось, что он умел ценить и хранить старые вещи. А, может, просто не желал тратиться на приобретение новых. Эту мысль подтверждали и допотопный радиоприемник, и отсутствие телевизора, не говоря уж о прочей электротехнике. Но на кухне было почти все что надо и даже то, что редко пригождается в хозяйстве: — и тостер, и соковыжималка, и электромясорубка и печка-гриль и даже блинница.
Они молча поднялись на второй. Алина едва приоткрыла дверь в одну из комнат и тут же закрыла.
— Не хочу заходить туда. Это спальня, где он умер. Я чувствую это Прошептала она Кириллу.
Кирилл кивнул, невольно улыбнувшись её детскому страху.
Они вошли в другую спальную комнату. Спертый запах давно не проветриваемого помещения, сырость и пыль… По стенам: трельяж с незамысловатой резьбой, старинный шкаф невероятных размеров эпохи классицизма. Две соединенные вместе кровати казались огромным ложем, под золотым, набивного китайского шелка покрывалом, люстра с абажуром того шелка, им же покрытый узкий стол, из него же массивные гардины. Вся комната казалась золотистой, но почему-то не вызывала чувства радости, роскоши, но жалости!..
Алина отодвинула гардину и распахнула окно. В сиреневых сумерках, словно в вуали город казался выцветшим на солнце. Свинцовое море сливалось со свинцовым небом. Сквозь металлическую пленку воздуха пронзительно прорывалось закатное солнце. Узкие кривые улочки, обозначенные рядами сначала терракотовых, замшелых, а далее современных серых крыш сбегали, словно ручейки, вниз к морю. Сразу было видно, что западная часть Канн куда беднее той, что ближе к Ницце. Беднее, но не бледнее, а живописней, словно исполненная в интимно-таинственной манере картина старого мастера, пробуждающая детскую жажду смотреть, смотреть… Просыпаться — смотреть, смотреть, засыпая. И пусть за всю твою жизнь на ней ничего такого не изменится, зато не хватит и жизни рассмотреть, заметить и запомнить все-все, каждую мелочь. Смотреть… и открывать каждый раз нечто потаенное раньше.
Алина вздохнула, слов не хватало, чтобы выразить свое состояние распахнутых глаз, и все же она сказала:
— Как в сказке.
— Тоска, — пробурчал подошедший Кирилл.
— А у тебя нет желания плюнуть на все и жить в этом маленьком городе?.. Жить…
— Я хотела бы жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки… — вальяжно продекламировал Кирилл, поцеловал Алину в мочку уха и вздохнул, обнимая, — Эх ты… поэтесса. Почти Цветаева. Но Канны — это не Таруса, отсюда некуда уйти. Представляешь, какая здесь тоска от сезона до сезона?.. Да и фестиваль этот, наверняка, местные не допускаются. Одна морока. — Вздохнул он и добавил, — Тщета провинциальной гордыни.
— Конечно, город без безликих небоскребов и бензинового смога, для тебя. А на самом деле тебе нужно ощущение плотности населения, ты не можешь жить в разряженном пространстве.
— Нет, просто места здесь хорошие, но делать здесь нечего.
— Но сюда съезжается весь мир!
— Что толку. Лучше самому разъезжать по всему миру, чем сидеть в этом городке и ждать, когда будет можно поглазеть на чужую тусовку.
— Но здесь море, горы… Здесь так уютно!..
— Я всегда слышал: "Ах, Канны! Канны…" А городок поменьше любого нашего приморского… Любого. Того же нашего Батуми.
— Батуми уже не наш.
— С Ялтой можно сравнить.
— Ялта тоже уже не русская территория.
— А и не надо. Зато, теперь нам, русским, весь мир открыт. Хочешь лети в Канны, хочешь на Канары. Да хоть в Бразилию…
— Когда есть деньги…
— Вот видишь, как теперь все просто. Всего лишь — надо иметь деньги. А раньше даже деньги не спасали.
Они спустились вниз. Зинаида скромно стояла на крыльце и смотрела на закат. Угрюмый профиль её лица не сообщал о том, что эта дама из разговорчивых. Но лишь она заметила собеседников, выражения её лица резко изменилось, речь полилась беспрерывным ручьем.
Они застыли перед ней, рассеянные от переживания непривычных ощущений, едва успевали улавливать смысл:
— …Я всю жизнь пела в церковном хоре. Теперь церковь работает раз в неделю. Говорят, скоро совсем закроют. Когда Александр овдовел… Его жена Шарлота родилась в этом доме. Мы подружились. Это было после войны. Не подумайте плохо. Александр был красив, как ле Сид. Ваша супруга так одета!.. — тут же перескочило её внимание на Алину, стоящую на крыльце в распахнутом полушубке из чернобурки поверх шелкового черного топа, в облегающих бархатистых черных джинсах и в туфельках на высоком каблуке.
Ей было откровенно жарко, но разве она могла предположить, что здесь не бывает ниже ноля. И в тоже время, боясь, что её просквозит, она не решалась скинуть меха. Слишком чувствительные были её плечи.
— У нас так не одеваются! Так элегантно! Так женственно! От кутюр?
"Что такого в моей одежде? — удивленно оглядела себя Алина и, скинув шубу, прошла в дом, бросила её на кресло напоминающее о временах короля Людовика под неизвестным ей номером. Настроение её мгновенно испортилось. Комплимент Зинаиды показался слишком натянутым. "На что она смотрит? Обыкновенные брюки и топ из Южной Кореи. И это мне говорит француженка?!" думала Алина и, достав из чемодана бирюзовый свитер в черную крупную полоску, словно матроска, отчего её элитарный вид сразу приобрел приятельски веселый налет, вернулась на крыльцо.
А Зинаида, словно не заметив перемен в облике Алины, продолжала свои рулады:
— Во Францию не завозят текстиль других стран. Сразу видно, что мадам Алина благородных кровей… Одеваться умеет. Женщина не для каждого.
"Сума сойти, выходит сними с меня эти шмотки, и я уж никто?! Да и шмотки-то никакие!"
— Вы ведете свой род от основателя Руси!.. Это очень древний род. Я знаю. Александр рассказывал мне. Вы члены Дворянского собрания?
— Нет.
— Почему вы не восстановились в правах?
— В каких ещё правах? — словно загипнотизированный, глядя в подернутые старческой дымкой, в прошлом темные, глаза Зинаиды, буркнул Кирилл. Никаких прав — одни обязанности.
— О! Это не хорошо. Юрий Долгорукий ваш предок!
— Вот как? — удивленно посмотрел Кирилл на менее удивленную Алину, Пьяница и обжора, с похмелья указавший на семь холмов, оттого что сил не было двигаться дальше — это твой предок?! Да у тебя, кис, подпорченная кровь. Он же умер оттого, что перебрал чуток. Но, вроде бы, ты не алкоголичка дорогая?
— Не хорошо так пренебрегать своими… своим классом! Дворянское собрание…
— Какой ещё класс?! Видел я эту свару, бывших партийных активисток! проворчал Кирилл.
— Но класс! Ваш класс открывает перед вами все двери!
— А может князь работать мясником? — спросила Алина, едва сдерживая улыбку.
— В том случае, когда князь из… radeau de la Meduse… как это по-русски?.. Обломки "Медузы"… то есть — корабля. Когда он потерпел кораблекрушение. Я согласна.
— Значит, разрешаете?
— Было такое. Наши князья, графы, дворянство… кем только не работали.
— Так кем же этот мясник будет называться? Князем или мясником?
Для непосвященных — мясником. Но только в рабочие дни недели. Нашлась Зинаида. — Я вижу, Кирилл, и вы, — продолжала она, — выглядите благородно. Какой дорогой галстук! Такие галстуки не каждый себе может позволить! Я вам пришлю Симону. Она вела хозяйство у Александра в последние годы его жизни. Но если у вас трудности с языком, я могу вести вашу кухню. Мне всю жизнь… coiffer sainte Catherine… как это… Я никогда не была замужем — гордо заявила она, неожиданно решив сообщить о себе залетным голубками, коими они казались Зинаиде, но тут же вспомнив о том, что это дела не касается, а деловой, при ее-то пенсии, стоит быть, добавила к предложению заняться хозяйством: — За определенную плату… — и скромно опустила глаза.
Это выглядело как-то несуразно. Алина уставилась на неё с немым вопросом, желая понять, что она имела в виду, говоря про определенную плату и о замужестве, одновременно. Но Кирилл среагировал раньше нее:
— Спасибо… спасибо! Мы предпочитаем обедать в ресторанах.
— О! Это так дорого! — воскликнула старушка, и лицо её стало таким несчастным. Таким несчастным!..
— Но, — тут же вставила свое слово Алина, — мне бы хотелось, чтобы кто-то помогал мне и по хозяйству, и объяснял бы мне, что и как здесь надо делать. Если бы вы согласились. За определенную плату…
— Я подумаю над вашим предложением, — кокетливо отвернулась изящная старушенция. Артистично выдержав должную паузу, приступила к делу:
— Как я понимаю вы здесь ненадолго. Сначала вам потребуется осмотреть наши окрестности и достопримечательности. Я найду вам шофера с русским языком. У меня есть мсье Серж. Кузен. Молодой. Ему всего сорок пять. Потом, когда отдохнете, вам потребуется нотариус и юрист. Только не обращайтесь к Зуцману. Зуцман всегда работает с русскими, но требует за это слишком высокую плату. Наши юристы с большими традициями. Они пользуются постоянной клиентурой и не берут больше, чем реально стоят их услуги. Лицо своей фирмы им дороже. Если вы не сможете оплатить все налоги и услуги юриста, то можно продать дом, и договориться об оплате процентами с продажи. Но оставшиеся деньги можно купить студио где-нибудь в более дешевом уголке Прованс… Если вы поживете у нас до февраля, вы увидите столько праздников! Столько праздников! Жаль, что вы не приехали на рождество, — говорила она быстро, перескакивая с одного на другое, словно боялась, что слушатели вот-вот исчезнут, — Но скоро будет наш фестиваль! Фестиваль! Если вы останетесь, то вам надо заранее купить билеты. Сама я не знаю, как это делается. Это слишком дорого стоит… но если вы свяжетесь с последними представителями… Ах!.. Как жалко, что вы не зарегистрированы в дворянском собрании! Если вы предполагаете жить здесь, вам надо нанести визиты… Нас, русских, осталось немного. Несколько старушек, здесь и в Ницце… Но и они могут сделать вам протеже… Они живут в старом доме в Ницце. Дом разваливается… Их немного пять или три… Большинство уже выжило из ума… Но…
— А кто живет в замках на горах? — полюбопытствовала Алина, стоя во дворе спиной к морю и оглядывая вершины окрестных Альп. Замков не было видно отсюда, но пока они ехали из аэропорта Ниццы, Алина успела заметить, что почти каждая вершина предгорья завершается старинным ли, новым ли, но явно замком.
— О! Да никто там не живет. Снимают американские звезды. Кто же ещё сможет за такие деньги. Даже не смотрите на них. — Всплеснула руками Зинаида. — Вам интересно портить себе здоровье? Сейчас, я думаю, вам надо принять душ и пойти поужинать. Не жгите много электричества. Это очень дорого. Я пришлю к вам Сержа… Запишу вам свой телефон… Можно звонить из любого кафе. Поищите Марусю в саду. Кошка не могла далеко уйти. Она умерла где-нибудь под кустом. Ее надо похоронить. Только не ходите в рестораны на… руе… д… Антибез, набережной. Это стоит очень дорого…
— Но я хочу угостить свою жену куропатками в жемчугах.
— Не издевайтесь надо мною, — тут же став высокомерной, отмахнулась от них Зинаида.
И благодаря этому прощальному жесту, последнему всплеску рук, не было ничего не естественного в том, что они поехали именно на эту улицу.
По Московским меркам она казалась переулком… что-то типа Столешникова.
Водитель — мсье Серж, конечно, не весил сто сорок килограммов, как водитель Кирилла, но по сравнению с местными выглядел весьма внушительно. В противоположность своей кузине был молчалив настолько, что Кирилл и Алина за время пути к ресторану, из тех, в которые не советовала даже заглядывать Зинаида, они засомневались — умеет ли он вообще разговаривать, тем более по-русски.
Сев за столик в шикарном заведении, которое в Москве было бы для них обыкновенным, они с удивлением заметили, что больше никого нет в зале. Впрочем, это легко объяснялось тем, что сейчас не сезон для приезжих.
Импозантно откинувшись на спинку стула, Кирилл раскрыл меню и обомлел. По-русски там не было ни слова, это понятно, но, даже ковыряясь во французских буквах, зная, что соединение из трех, четырех, бог знает скольких, дает всего лишь один звук, он никак не мог составить хоть что-то напоминающее ему по звукосочетанию привычное, кроме слов "бульон", "жульен", "шартрез".
— Да… — вздохнул он, — Как-то Франция выскользнула из диапазона нашего размаха, — Все Фиджи, Майями, Лондоны, Брайтон Бич… Даже в Италии нам было проще. Пора ассимилировать, как турков. Резко и внушительно.
Он пролистал меню до конца и обнаружил аналог его по-английски. Со спокойной душой, зная точно, что ему известен смысл слов "фиш", "миит" и "бекон", и т. п. Он заказал, тыча пальцем в меню, при этом ориентируясь на цены, все самое дорогое. Только так он мог быть уверен, что пища заказанная им съедобна. И не забыл объяснить, чтоб не мешкались — ставили на стол все сразу.
Юркий официант в великолепном костюме, но слишком слащавый лицом, вскорости заставил их стол блюдами непонятного содержания.
Кирилл первый придвинул себе одно из них и принялся есть. Ел он всегда основательно. Сразу отправляя в рот порции внушительных размеров. Пока Алина в задумчивости разглядывала заказанное, он успел пожевать, проглотить и, изменившись в лице, взреветь:
— Они что?! Издеваются надо мною?! Думают, если я не говорю по-французски, то рыбу от мяса не смогу отличить?!
— Тише, тише, — встрепенулась Алина, — Быть может, у них рыба дороже, чем мясо. Ты же выбирал все самое…
— Да что же это за рыба на вес золота? Это же треска какая-то. Даже не форель, не стерлядь и не севрюга!
Прибежав на слово "севрюга", мгновенно побледневший официант начал взмахивать руками, что-то лепетать с такой скоростью, что Кирилл и Алина, в конце концов, оказались лишь немыми зрителями театра мимики и жестов с летающим ласточкой словом "ошибка" по-английски. На десятой минуте Кирилл сломался.
— Пойдем отсюда, — взревел он и встал он из-за стола.
— Но это как-то неприлично. Ты посмотри, он машет счетом. Он угрожает полицией.
— Пусть вызывает полицию, — твердо ответил Кирилл и властно приподнял растерявшуюся Алину за локоток.
Едва в речи чужестранцев дважды мелькнуло понятное на всех языках слово "полиция" официант как-то сник. Теперь его лицо выражало полнейшую растерянность, в то время как Кирилл, уверенным шагом прошел к выходу, под руку с женою. И никто из обслуживающего персонала не решился их остановить.
Они сели в машину и долго пытались выяснить у водителя, который должен был одновременно исполнять функции гида, что же такое произошло. Почему им дали дешевую рыбу вместо самого дорогого мясного блюда и как они должны были поступить в этом случае?
Серж слушал их, не оборачиваясь, слушал долго и молча, и когда они уж уверились в том, что он точно немой, вдруг глубокомысленно произнес на выдохе:
— Ошибка.
— Но мы уже поняли, что ошибка! — возмутилась Алина. — Но кто должен был расплачиваться за нее?
— Тот, кто умеет… faire Charlemagne.
— Переведи! — потребовал раздраженный и голодный Кирилл.
— Это трудно. Это не прямо. Это… — Серж помолчал несколько километров, гоня машину по горному серпантину, и вдруг выдал: — Тот — кто умеет быть королевский происхождения.
— Теперь я понимаю, почему любое благополучие кончается революцией, усмехнулась Алина, утирая разволновавшемуся мужу пот со лба его носовым платком. Он послушно подставлял ей лицо словно завороженный материнской лаской ребенок, но вдруг очнулся и оглянулся на мелькающие за окнами машины пальмы, и прочие чуждые русскому взору растения, напоминающие увеличенные спьяну создателем, старушечьи столетники и прочие кактусообразные диковинки из тех, что разводят на подоконниках московские чудаки:
— Куда ты нас везешь, Серж Сусанин?
— Простой французский кухня для французов. В февраль там цветет мимоза.
— Но сейчас же она ещё не цветет?! — не понимая его логики, воскликнула Алина. — К тому же ночь!
— Вам надо посмотреть, где цветет много мимозы. Все смотрят это местность.
— Уж не собираешься ли ты нас накормить этими цветами?! — отчаянно воскликнул голодный Кирилл.
— Нет. — Спокойно ответил мсье Серж, — Мой кузен имеет там маленький ресторацию. Я буду кормить вас буйабес. И не выпендривайтесь. — Произнес он неожиданно четко, добавив явно гордясь пополнением своего словаря от новых русских: — Кончай распальцовку.
Местности, что расположилась на вершине холма, они не разглядели во тьме. Местность спала беспробудно в одиннадцать ночи. Но все-таки их накормили какой-то похлебкой с… запашком.
ГЛАВА 2
С утра Канны показались куда ясней. Прозрачней. Больше неба наблюдалось в пейзаже.
Едва проснувшись, они ощутили странное желание — встать и идти. Никаких раскачиваний спросонья, брожений по дому с чашечкой кофе… Да и кофе вовсе не хотелось. Тем более это было странно для Алины, заядлой кофеманки. Воздух был настолько чист, что ей казалось, что она не дышит им, а пьет, словно родниковую воду. Прозрачную-прозрачную воду. И все вокруг казалось прозрачным, даже темные приземистые старинные виллы, казались просвечивающими солнечный свет шелковыми декорациями. Пляж был тоже какой-то ненастоящий. "Узкий, не шире Тверской…" — усмехнулись они хором. И было им странно — как он может вместить слетающуюся на него мировую тусовку.
Зинаида очень хвасталась этим пляжем, говоря, что он более песчаный, чем в Ницце. Песок, если его и можно было назвать песком, казался слишком крупным, он лежал полотном крупнозернистой фотографии и притягивал взгляд. Кирилл и Алина шли и шли по пляжу, глядя под ноги. Чем ближе к кинотеатру, который стоял на берегу моря, и был похож на все районные кубы кинотеатров Москвы, тем больше людей встречалось им, навстречу. Это прогуливались пожилые люди, удалившиеся от дел бизнесмены. Завидев Алину, они останавливались, шагов за пять от нее, и кланялись. Алина кланялась в ответ машинально, по после десятого с удивлением оглянулась на Кирилла:
— У меня такое впечатление, что я в деревне.
— Заметь, они раскланиваются с тобой именно на пляже, и тем сильней, чем ближе к этому хваленому на весь мир кинокоробу. Быть может они, как дети, только и бродят здесь ради того, чтобы дождаться, когда выпрыгнет из него очередная звезда, словно чертик из табакерки. — Лукаво промурлыкал Кирилл, обнимая её за плечи и целуя в тоненькую шейку. Их спонтанно нахлынувшую ласку прервали старичок со старушкой. Мило улыбаясь, они остановились и закивали головами. Подражая им, Кирилл и Алина закивали в ответ. Пауза затянулась. Алина едва сдерживала смех. Едва они обошли пожилую пару, Алина захохотала в голос:
— Надо же! Какова у них сила почитания! Они меня явно путают с какой-то кинозвездой!
— Не с кем они тебя не путают. Ты и есть звезда. Разве только что не какая-нибудь там кинозвезда, а звезда настоящая. — И приступ нежности захлестнул его. Они ласкались, не стесняясь, словно в каком-то захолустном черноморском городке зимой на пляже, ласкались, не различая стен холодного серо-выхолощенного бетонного куба так похожего на московские кинотеатры типа "Енисей" или "Патриот", но ступени которого раз в год покрывались ковровой дорожкой.
Вдоль пляжа шло шоссе. По нему медленно катил мсье Серж. Иногда подолгу задерживаясь на платных стоянках. Он оглядывался на своих романтично настроенных клиентов и вздыхал.
Алина с удивлением разглядывала памятник киноаппарату, словно ребенок, не стесняясь ни кого, водила пальцем по изгибистым линиям пленки из черного металла. На аллее звезд внимательно изучала отпечатки ладоней известных кинодеятелей вмурованные в дорожку.
— Ты посмотри, какие крупные ладони! Непомерно крупные ладони в большинстве случаев, — восхищалась она своему открытию.
— Аналитик ты мой, — поглаживал он её, сидящую на корточках, по голове, — Все-таки у тебя наукообразное мышления. И зачем ты пошла в журналистику. Я всегда знал, что это не твое призвание.
— Но почему же, — не переставая рассматривать отпечатки, — обижалась по ходу дела Алина, — журналистика дает так много знаний!
— И никакой систематизации. Порою, мне кажется, что ты Ламарк.
— Ты хочешь сказать, что я в душе ботаник?! — оскорблялась Алина.
— Ну, тихо, тихо. Что ты там ещё нашла?
— В хиромантии руки с длинными пальцами называются артистичными, а здесь у большинства артистов они квадратные — философские. И очень большие большие пальцы — они означают волю.
— Ламарк. — Усмехнувшись, вздохнул Кирилл.
— Но причем здесь Ламарк?!
— Интересно с тобой. Всегда интересно. Слава богу, что ты у меня не Дарвин. Ведь тебе не приходит в голову опускать высшее до низшего. Нет, ты все самое примитивное и простое должна подтянуть…
— О! — перебила она его, — Вот тебе и спускаемся до простого — мизинцы у них тоже не маленькие. Заходят за третий сустав безымянного пальца. Ты понимаешь, что это значит?!
— Ну и что же?
— А то — что они не из тех, кто упускает свою корысть. Материальное положение, прибыль для них очень много чего значит. Они вовсе не такие идеалисты, какими хотят казаться.
— Вот видишь, в чем залог успеха. У меня тоже длинный мизинец. А ты… готова была отказаться от меня. Пустилась в свободное плавание — постигать культуру своей страны на основе творчества каких-то невезучих уголовников. Только зря тратила деньги.
— А ты не зря тратишь деньги в ресторанах и казино?
— Я их трачу на то, ради чего делаю.
— Ради чего же ты их делаешь?!
— Ради свободы. А свобода — это свобода игры. Не может играть лишь первобытный человек. Человек свободный не играть не может. А ты все ищешь первобытные основы. Опускаешься до Дарвина. Ищешь человека в обезьяне, или обезьяну в человеке. Пора бы начать понимать богов Олимпа.
— Я и пытаюсь, живя с тобой. Пойдем, я расскажу тебе про этот отель. Ты видишь башенки, они напоминают груди.
— Но если это и груди… Нет, Кирилл. Такие груди не принято прославлять в обществе. У людей принято, чтобы груди были похожи на купола наших церквей.
— Но это же твои груди. Маленькие, узенькие, вытянутые.
— Ужасно. Не напоминай мне.
— Но сколько в них беззащитности и темперамента.
— И все-таки это просто какие-то рюмочки. Наверное, владелец отеля избавился от алкоголизма, прежде чем начать строить его, вот и украсил перевернутыми рюмками, как это делали наши купцы в Москве.
— Нет. Была такая женщина… В неё влюблялись и любили. Мне Зинаида с утра рассказала. И звали её Оттеро. Однажды, один из поклонников подарил ей колье с драгоценными камнями, которое стоило столько, что на него можно было купить целый город…
— Чушь! Не бывает таких драгоценностей!
— Аналитик. Аналитик! Ты слушай стихи — стихию легенды! Было колье, как все говорят, ценой в целый город, а она проиграла его, едва получив. Она была азартной, зажигательной, доброй… И её маленькие груди запечатлел архитектор, влюбленный в нее. Это самый дорогой отель. А почему-то называется "Кали"? Пошли. Хочешь, поживем здесь?
— Пошли посмотрим, что там за скульптурка, среди пальм? — заслушавшись Кирилла, Алина чувствовала, что не может оторвать взгляда от скульптурного изображения женщины, в тени пальм через дорогу.
— Это же твоя копия! — воскликнул Кирилл, — подведя жену за руку к скульптуре.
— Нет! — отчаянно воскликнула Алина, и слезы блеснули в её глазах. Да она и не красива вовсе! Как могли в неё влюбляться все мужчины?!
— Сразу чувствуется, как она изящна в каждом своем порыве, как искренна, какой в ней темперамент! — Продолжал Кирилл. Он ещё раз сравнил свою жену с великой куртизанкой и, поцеловав, словно благословляя в лоб, пояснил. — Неужели ты думаешь, что мужчины влюбляются в кукол с обязательным общепринятым на данный момент стандартом? Они влюбляются…
— Влюбляются… — с горькой усмешкой перебила его Алина. — И ты влюблен. А все жду, когда же ты будешь меня любить.
— Я не вижу разницы.
— А я вижу!
— Но в чем она?!
— А в том!.. — Алина почувствовала себя, словно все видящий, все понимающий ребенок, не способный преодолеть косность взрослого. — А в том… — повторила она уже тихо. — Как она умерла?
— К сожалению, такие женщины, обычно умирают в нищете… Глубокой старухой. Недавно.
— Вот видишь! Ни один, из влюблявшихся в неё не спас её от такого конца. Ненавижу! Ненавижу всю эту вашу водевильную влюбленность! Слава богу, что я умру молодой.
— Ты не умрешь! — твердо ответил Кирилл. — Ты будешь жить. И даже старухой ты будешь любима. Ты будешь жить…
— Но в чей скульптуре?! В чьих произведениях?! — едко кольнула Алина.
— В моих. Я буду творить твою жизнь.
— Жизнь для тебя праздник… А я… устала от праздника… я задыхаюсь… я не хочу.
— Я лучше знаю, чего ты хочешь. Поехали смотреть покой, о котором ты и не мечтала.
И они поехали. И они носились по прибрежным городам. В глазах рябило от разнообразной одномастности пейзажей. Антиб: музей Пикассо музей Пейне, Морской музей… музей башни… Гольф-Жуан: мачты яхт, стела Наполеона… Био: — снова черепичные крыши, лабиринты узких улочек, неожиданный размах шикарных вилл, продажа керамических изделий у дороги с огромными горшками, словно рассчитанными на секвойи, и парковой скульптурой — миниатюрные музеи… Сен-Тропез…
"Любимая" обращался он к ней, "милый, дорогой, любимый", отзывалась она. И не было в произношении этих слов ни слащавости, ни пошлой вычурности. Искренность, порой не исключавшая дружеской насмешки.
— Сфотографируй меня у могилы Марка Шагала, любимая.
— Давай-давай милый надуйся пофилософичней.
— Замри, любимая! Снимаю. О! Какая кротость! Само смирение, милосердие и святость! А далее лукавство, кокетливость, поверхностность, развр…
— Заткнись, до-ро-гой!
— И даже гнев, любимая. Но что ж плохого, если в тебе есть все?.. Даже слишком много.
— Ах, так, любимый!..
— Здесь нет трамваев — зря надуваешь нижнюю губу, никто не переедет.
Он обнимал её за плечи, она прижималась к нему пристраивая на плечо почти ангельскую головку, с убранным буйством кудрей в тугой пучок, но тут же что-то снова привлекало её внимание, профиль устремлялся вперед, как нос корабля озаглавленного Никой, волосы нетерпеливо выбивались локонами внутренних ветров.
Он удерживал её поцелуем. В такой момент она целовалась порывисто, нежно, особенно волнующе, и это напоминало ему детское ощущение, когда держишь в ладонях птенца, и трепетный страх — сжать посильней, что б не бился, выпустить ли, но жалко…
И снова они мчались по горам: Средневековые развалины в Баржемон.
— Я часто слышала, что территория наших зон для заключенных в три Франции. Наивный апломб — они не знают, что южная Франция, как книжка раскладушка — раз в пять больше, мы едем больше двух часов и не одного населенного пункта… Такого у нас, да ещё при скоростном шоссе, не бывает!.. — взахлеб говорила она.
— Любимая моя, все нет тебе покоя — аналитик!
— Но я не могу не думать! Смотри, какие крыши! Но почему, у нас никогда не задумывались о вечности того, что строили?
— А наши церкви? Кремли?
— А собственное жилище…
— Знаю я, как это называется, — вдруг пробасил Серж, он несколько лет только и занимался тем, что возил туристов из России. Они были разными: и монголоидно-узкоглазыми, и горбоносыми, то есть внешне явно всевозможных национальностей, но все их называли не просто русскими, а новыми русскими. Так, словно возникли они из неоткуда, и никаких корней на самом деле не имеют. Странные это были люди. От других европейцев отличались одним полным отсутствием порядка, как казалось Сержу, в их головах гуляли степные ветры. Те самые ветры, о которых рассказывал ему дед, донской казак. Иной, без этих ветров, России он себе не представлял. Чем живут эти люди, как думают, — для него оставалось загадкой. Впрочем, скидывал он это на свое природное тугодумство. Но не трудно было ему заметить — что ни люди, — то словно из сумасшедшего дома. Вот последний раз возил он по достопримечательностям лазурного берега двух дюжих парней, а зачем возил не понял. Устроившись на заднем сиденье, взятого напрокат лимузина они пили, играли в карты, дремали. Выбегали из машины лишь за новой бутылкой и сигаретами, новой колодой карт, но в казино Монте-Карло идти побоялись. Так и жили в салоне его автомобиля все дни напролет, ночуя лишь в гостинице. Там они занимались, видимо, тем же, вряд ли спали всю ночь, потому как спали порциями по два часа через три. И когда он останавливался, заслышав дружный храп — один обязательно просыпался и, приказав "гони, гони", засыпал снова. В последний свой день во Франции, по дороге в аэропорт очнулись, оглянулись: "Чего, Франция кончилась?" — спросили так, словно проспали сеанс в кинотеатре. А предыдущие!.. Веселые были ребята. От них-то он и научился этим новым русским фразам:
— …знаю, как это называется, — вставил свое слово Серж в обойму Алининых восторгов, — Крышесноситель.
Кирилл и Алина переглянулись, и Алина надолго замолчала после такого комментария.
— Пора подумать о делах. — Вздохнул Кирилл.
ГЛАВА 3
Алина никак не могла настроится на деловую волну. Когда ей объяснили, что в случае, если она оставит дом за собой, жить сможет в нем не нарушая правил при отсутствии гражданства не более месяца, а чтобы получить гражданство… далее следовал такой перечень всех запретов и трудностей, что становилось скучно. — Непонятно, — возмущалась она, — почему у нас в Москве живут все кому не лень и сколько хотят, а нас эти несчастные французы ещё упрекают нас в каких-то нарушениях прав человека!
От объяснений того, что правильно, а что неправильно, следовавших за её высказываниями, у Алины начинала кружиться голова. Никаких особых планов на дальнейшую жизнь не строила. Просто у неё возникло желание провести остаток дней в этом тихом домике на горе, взирать из его окна на аккуратный игрушечный городок, сбегать по кривой улочке к морю, гулять в горах и не думать, не думать ни о чем. Тем более, ни о каких правах, гражданствах, налогах… Алина сникла.
Кирилл оживился, постигая делопроизводство передачи недвижимости по наследству, любое дело касающееся бизнеса пробуждало его азарт. Денег на жизнь в Каннах у него хватило бы надолго, но он преследовал иную цель заставить её добровольно пойти на операцию — захотеть жить. Вернуть тягу и вкус жизни. И с удовольствием наблюдал, как она увлекается путешествием. "Ну подумай, любимая, ну зачем мне твои грудки? Я же не с грудками живу, а с тобой. Не анатом от литературы я — не Лимонов, чтобы взахлеб любоваться жениными органами. Если хочешь, потом силиконовые вставим. Но подумай, сколько женщин вставляет себе эти протезы, и ничего. Даже те, у которых ничего не болит. Правда, я не пойму — зачем, все равно любят не оттого, что груди большие, от этого просто хотят. А я тебя и без них люблю. Прооперируйся здесь.
— Нет. Даже жену Пола Маккарти не сумели спасти ни за какие деньги. Дай мне просто пожить, не думая об этом.
— Давай продадим дом, и ты сама распорядишься всей суммой. Если решишь сделать операцию, я потом тебе любой дом подарю. В любой стране, где пожелаешь. Даже если просто потратишь деньги, все равно…
В тайне Кирилл надеялся, что, получив немалые деньги за дом, свои, а не выпрошенные у него деньги, Алина почувствует самостоятельность, начнет строить планы. И тогда благоразумие победит, заставит её пройти курс лечения, чтобы продлить свою не скованную экономическими обстоятельствами жизнь.
— Деньги, деньги! У меня кружится голова, и я дохожу до слабоумия, когда меня заставляют думать о том, что я должна ради них делать, что не должна. И вообще, мне кажется, что все тут вокруг жулики. Мне и денег не жалко, куда противнее чувствовать себя полной дурой. Возьми все на себя. Ты разбираешься в этом, продай дом по моей доверенности. Я подпишу все, что требуется. Продавай сам. Мне все равно.
— Но нам придется переехать в гостиницу. Тебе не надоел этот мелодрамный пейзаж? Поехали в Ниццу?!
Ницца…
Стоит ли везти в город, ставший последним прибежищем большинства русских эмигрантов, свою жену, желая заставить её забыть о приближающейся смерти, когда все так или иначе в нем умерли совершенно невероятной смертью, об этом Кирилл не задумывался. Увлеченный пластическими жестами людей модерна, легко перестроившись на этот стиль, он с удовольствием играл из себя дворянина начала века. К его бело-кремовому костюму, и шляпе, и плащу, не хватало только трости для окончательного перевоплощения. Он с удовольствием примерял к себе тот размеренный шаг, вздохи на закат, и фразы типа: Ты посмотри дорогая…
Однако догорая, суетно оглядывалась, читала надписи, требовала водителя рассказывать о том, что видела, пояснять, откуда взялись русские названия улиц и вилл. И даже, зайдя в Русский Кафедральный Собор, сногсшибательно похожий на Храм Василия Блаженного, не помолилась толком, а проболтала со служкой, все то время, пока Кирилл рассматривал его убранство и иконы. А потом потянула на кладбище.
Кладбище было закрыто. Но она позвонила в ворота. Им открыл пожилой человек, похожий на московского профессора бодрячка, не чуждающегося спортивного образа жизни, как в прямом, так в питейном смысле, и в тоже время, напоминающий немецкого бюргера, он представился Евгением.
Лучше бы они туда не ходили.
В её взгляде появилась тревога загнанной оленихи.
Маленькое русское кладбище, расположившееся за высоким каменным забором на склоне горы, было непохоже на действительно русское, и все-таки оно не было похоже и католическое. Чем?.. Уютностью. Покоем, который не был столь строг.
Евгений, обрадовавшись редким посетителям, как дорогим гостям, видимо бросил обедать, потому что вместо галстука в ворот его рубашки была заткнута салфетка, на которую поначалу никто не обратил внимания, а когда обратили, сделали вид, что не заметили. Он же, стянув её вниз, вкрутил в карман джинсов движением школьника прячущего неприличный рисунок от учителя, а затем пошел мелкими шажками, по узкой тропке между могил, приглашая следовать за собой. Шел, беспрерывно говоря, перечисляя:
— У нас тут такие люди, такие люди… Вот Григорий Васильевич Солыпин. 18 января родился 1838 года, а умер выходит летом в 1899, прожил всего 61 год. Малова-то выходит — у нас тут такие долгожители… Вот Лев Викторович — представитель славного рода Кочубеев. — Говорил он о могилах, как о живых людях.
— Кочубеи… у меня был кто-то из рода Кочубеев. Кажется пра… пра… в общем, бабка ещё в 17 веке. Я помню, её звали Прасковья Кочубей, она была дочь генерального судьи в Запорожье. А умерла где-то в 1726, я помню! просияла Алина, удивляясь, что вдруг память не подвела её. Мало того, она словно ясно увидела и эту Прасковью и Льва Викторовича, почувствовала их словно знакомых всем лабиринтом душ людей.
— Вот видите, как приятно встретиться с родственником.
— Но где? — тихо вздохнула Алина.
— А вот Александра Петровна Охотникова, а чуть ниже княгиня Трубецкая. Вот Виноградовы из эмигрантов, положили их в могилку Елены Кирилловны Горыкиной.
— И Оболенские с Елагиными под одной плитой, — указал Кирилл.
— Да… земля у нас дорогая. Тут вообще сносить наше кладбище снести хотят. Платить за землю община не может. Да и нет общины-то уже. А я говорю — вы не кладбище сносите, вы культуру уничтожаете. Это ж вы посмотрите каждый человек, как целая книга. Вот генерал-майор Трухачев умер в 1942 прямо в войну. От переживаний, наверное. А вот могила Веры и Нины Церетели, сверху Давидова положили. Не знаю, вашего ли скульптора родственница?.. Обратите внимание — тут по-французски "принцесса" написано. Они едва в Ниццу перебрались — все в принцессы заделались. А поди ж ты — докажи. Но я даже старух по манерам распознаю. А вот видите — написано уже по-французски Тамара Низванер — принцесса Церетели и есть год рождения 1929, черточка, а смерти нет. Ждем-с.
— И давно ждете?
— Лет десять. Ничего. Пусть не спешит. Все одно место уже куплено.
Алина и Кирилл невольно переглянулись и отвели взгляды в разные стороны. А Евгений продолжал: Вот: Борисова, Синельников, Павел Николаевич Яхонтов, Александра Заболоцкая…
— Как ты думаешь, она родственница нашего поэта Заболоцкого? спросила Алина.
— Вряд ли.
— А Фишер, Безобразов, Кусковы, Дурасовы, Шишкины, Беклемишевы, Троицкие?..
— Все может быть… Но Юденич настоящий. И Георгий Адамович тот самый.
— Но странно, фамилии тех, кто здесь лежит, до сих пор у нас на слуху, и не столько благодаря истории, сколько современности! Неужели действительно имя несет в себе некий мистический заряд.
— Нет. Не фамилия красит человека, а человек фамилию. — Вздохнул Евгений. — Сейчас я расскажу вам судьбы тех, кого знаю. Смотрите — две третьих Козьмы Пруткова. Да, да… это те самые братья Жемчужниковы.
— Какая встреча! — одновременно воскликнули Кирилл и Алина.
ГЛАВА 4
И все, все, почему-то обязательно умирают, — вздохнула Алина, когда они, поднявшись на вершину замкового холма, ни не обнаружили никакого замка. А взглянув вниз, по склону с противоположной стороны от моря, вновь увидели белокаменные склепы и памятники кладбища — целый город мертвого умолчания.
Он пытался перебить её мысли, пока они спускались вниз к водопаду, обращал её внимание на экзотические растения, спрашивал их названия… Она напрягала свою память, не вспоминала, но забывалась. Но не проходил час, два и обнажалось в её словах то, о чем она постоянно думала:
— Представляешь, выбросится из окна второго этажа, и разбиться на смерть?! Это все оттого, что он был русским художником. А Ницца, это же конечная точка для русских. В Москве с шестого прыгают и не разбиваются. А супруга Герцена? Надо же было стремиться сюда, чтобы поправить здоровье и попасть в корабле крушение. А все эти князья… Великие князья… Надо же! — восклицала она — Там, на кладбище, — Три тысячи русских! В каком-то далеком курортном городке! И с чего это им пришло в голову, что они обязательно поправят свое здоровье в Ницце. Они летели сюда, словно мотыльки в огонь… Какой огонь?! Это Ницца просто черная дыра для русских. Вот от того-то и притягивала так. Не свяжись царское семейство с этим городом, быть может и Россия бы не погибла.
— Я не понимаю, как ты мыслишь, дорогая, — пытался он перевести её на степенный стиль ретро. — В соответствии с какими законами логики?
— Не логики, а мистики! Это больше чем мышление. Это все сразу! Так читают символ. Символ можно объяснять томами книг, а можно понять сразу.
— Посмотри, какое скопление модерна на этой улочке. Ты же всегда была неравнодушна к модерну.
— А теперь меня от него тошнит. Мне душно. Я чувствую себя крылатым муравьем, принявшим песчаный замок за муравейник. Давай, лучше поживем в нашем домике, пока в него не въехал покупатель. Насколько я понимаю, его пока купило бюро недвижимости, они собираются его сдавать. Давай снимем свой собственный домик, вернемся назад. Я боюсь!..
— Хорошо, любимая. Но сначала заглянем в Монако. Посетим Монте-Карло.
Первым делом, завороженные, словно дети, они два часа проблуждали по музею Кусто. Потом заглянули в салон с коллекцией автомобилей принца.
— Тебе купить такой? Я теперь могу. — Сказала Алина.
— Что я сумасшедший? На таком автомобиле можно доехать лишь до польской границы и конец.
— Но ты же всегда цитировал Бродского: "Зачем нам рыба, коли есть икра"
— Это уже не икра. Это уже нечто из рода той самой японской рыбы, лакомство которой может стать смертельным.
— Но я хочу тебе что-то подарить на память о себе. Быть может часы?
— Милая, ты же знаешь, что я не люблю, когда на мне что-нибудь болтается. Ни часы, ни амулет, ни крестик. А от часов вообще запястье потеет. Да и не разберешься с этими модами. Зачем мне опознавательные знаки?
— Может быть на цепочке?
— Все равно потеряю. Хочешь колечко? Тебе такой изумруд пойдет?
— Нет. Тратить на игрушку такие деньги, а что толку?
Они вновь прошли мимо музея Кусто, через ботанический сад с его экспонатами напоминающими скорее декорации мультфильма, чем живые растения, и вышли на дворцовую площадь посмотреть смену караула у королевского дворца. Не смотря на зимний сезон, народу было много. Алина пыталась вытянутся, чтобы хоть что-то увидеть… И вдруг ощутив себя не собой, а лишь частью глазеющей толпы, резко развернулась и пошла по узкой улочке прочь. Он вовремя заметил, что её нет рядом и, с трудом нагнал в небольшом магазинчике.
Она выбрала ему футболку на память с вышитой надписью "МОНАКО" под цвет его глаз. Ничего более дорогого и с надписью не попадалось на глаза. Они бродили бесцельно, то останавливаясь в кофеюшке, то рассматривая незамысловатый товар. И вдруг Алина встрепенулась:
— Кирилл! Смотри, какой зонтик! Ты посмотри! Купи его мне!
— Что ты нашла в нем, не пойму? — с изумлением Кирилл смотрел на дешевую безделицу. Зонтик был черный, ручка клюкой.
— Но на нем такими маленькими золотыми буквами написано, смотри: "Монако, Монте-Карло"!
— Ну и что?
— Но посмотри, какие маленькие буковки!
— Ну… маленькие…
— Купи мне этот зонтик.
— Да ты все равно потеряешь. И что это на тебя нашло?
— Но мне он нравится! Купи!
— Сама купи.
— Но я не взяла с собой денег. Купи!
— Не куплю. Не нужен он тебе. — Пораженный тем, что его жене понравилась такая дешевка, уперся Кирилл. — Я сказал — не нужен.
Алина вспыхнула обидой и замолчала. Этой фразой он напомнил ей о скорой смерти. "Не нужен он тебе" — она трактовала так — "зачем тебе зонтик, ты же все равно не будешь гулять под дождем, ты не доживешь до дождя".
Кирилл же рассуждал совсем иначе. О скором конце жены он даже не подумал, но покупать такое считал ниже своего достоинства.
Они вернулись в туннель, что проходил чуть ниже казино, спустились вниз на огромном лифте до автостоянки. Масштабы этого многоэтажного интерьера вырубленного в скале поражали даже их имперское воображение. Нечто из фильма о космических цивилизациях виделось им.
Но ни Кирилл, ни Алина не смотрели по сторонам. Ровным, почти маршевым шагом они дошли до машины Сержа. Хлопнули дверцы, и машина понесла их по-над пропастью.
"Нет!" — затормозил в душе Кирилл, а вслух сказал устранявшейся от его объятий Алины:
— Ну… хочешь, мы вернемся и купим тебе этот зонтик?
— Нет, — коротко ответила она.
— Вот видишь, ты хотела его пока видела, а отошла подальше — поняла, что он тебе не нужен и забыла.
— Нет. Этого зонтика я тебе не забуду никогда.
— Но почему?! Такая дешевка!
— Но на нем такими маленькими буквами… — и перешла на неслышный шепот.
Сейчас она была похожа на ребенка. Кирилл силой притянул её к себе и обнял, уткнув лицом в грудь.
— Ну ладно, ну ладно, — укачивал он её, сейчас мы поедем в самый лучший магазин в Ницце, в самый дорогой, и ты выберешь все, что тебе понравится.
Но ей не нравилось ничего. Она пересмотрела себе все платья, все костюмы, сумочки…
— И это Франция?! — удивлялась она, — У нас в самом захолустном универмаге выбор в сто раз больше! Да такие примитивные старомодные вещи не купила бы и последняя тетка из села! А цены!
— А ты не смотри на цены.
— Но у нас в самом дорогом магазине, на изящнейшие костюмы такие же цены, как здесь на откровенное барахло! Где их хваленый вкус?! Да ты посмотри, во что они сами одеты!
— Но зато ты можешь похвастаться своим подругам, что это из Франции.
— Смотри и даже от кутюр! Наверняка они скидывают сюда брак. Как незамысловато! Теперь я понимаю, почему здесь все женщины в нерабочее время, когда не в униформах, ходят в таких старомодных джинсовых костюмах, взглянешь и кажется, что оказалась в семидесятых!
Они блуждали по магазину и набрели на мужской отдел. Ситуация поменялась с точностью до наоборот. Мужские костюмы были пошиты настолько элегантно, что даже Кирилл со своим пузиком смотрелся в них, словно денди. Цены же были вполне приемлемыми. Кирилл тут же увлекся. При помощи Алины он отобрал себе костюм, примерил, решил взять, но тут его внимание привлек другой — черный шелковый для летних вечеринок, он указал продавщице, чтобы она несла его в примерочную, но по дороге к шелковому костюму заметил ещё один. Он так увлекся, что и не обратил внимания на то, как словно обратившись в тень, отошла от него Алина. Отошла и пошла, пошла, остановившись лишь в шляпном отделе.
Она вернулась через полчаса, он уже ждал, когда ему доупакуют пять костюмов плюс два смокинга, и два просто пиджака вольного стиля. Он сосредоточенно следил за процессом, боясь, что помнут.
— Я выбрала себе шляпку, пойдем, покажу, — как ни в чем ни бывало, позвала она его, не желая портить ему настроение своим мнением по поводу его алчности.
— Сейчас, сейчас.
— Пойдем!
— Куда?
— Посмотришь, какая шляпка.
— Какая ещё шляпка?!
— Настоящая. Французская. В силе ретро. С огромными полями!
— Что?! Куда ты в ней пойдешь?
— Там только бант зеленый мешает, но если его отпороть…
— Слушай, оставь меня в покое. Ты же видишь — я слежу за упаковкой.
— Знаешь что, я это видела сто раз в Москве. Скоро тебе придется снять отдельную квартиру для своих костюмов!
— Но мои костюмы помогают мне делать деньги!
— А я должна выглядеть, как последняя хиппушка?!
— Ты в любой одежде выглядишь отлично.
— Ты ещё скажи, что тебе больше нравится, когда я вообще голая.
— Естественно.
— Ах, так! Я сейчас же раздеваюсь! — она уже потянулась к пуговицам своего костюма, но он повис у неё на руке:
— Подожди, подожди! Дай мне сначала сопроводить их к машине, а потом…
Он лишь заметил, как слезы мелькнули в глазах Алины, она резко развернулась и, вышла из магазина.
"Это конец, — подумал он устало, но без сожаления, — Ну её к черту. Пусть живет, как хочет. Что я с ней ношусь?.."
Он вышел на улицу, проследил, как уложили его покупки, и попросил Сержа медленно попетлять по окрестным улицам. Они очень скоро увидели её, одиноко сидящую на скамейке, на площади Массены. Алина курила, глядя в землю. Он покачал головой, поняв, — едва оставшись одна, без денег, тут уже сориентировалась, стрельнув сигарету у какого-то студента. И он не смог ей не дать, хотя и не здесь так просить не принято.
— Ну что мне делать с ней?! — тихо взвыл Кирилл.
— Женщин надо выгуливать перед сном. — Ответил Серж.
— Ничего иного не остается. Пойду выгуляю. Ты пока отвези эти костюмы к себе. Мы переночуем в гостинице "Сплендит", а завтра…
Она стояла на балконе и смотрела вниз. В центре двора гостиницы, умощенного плиткой, напоминающей о панцире черепахи, возвышалась лепная ваза похожая сверху на медальон. Зима не мешала цвести цветам бархатисто красным цветом.
Он неслышно подошел к ней со спины и накинул ей на плечи свой пиджак.
— Это цвет моего сердца, — указала она на клумбу. — Пошлое вроде бы сравнение, но так одиноко… словно цветам, которых заставляют цвести в январе.
— Давай посидим где-нибудь на берегу, попьем сухого вина. Я закажу тебе Шато ле Пьер Нуар. Ты же любишь это вино из перезрелого винограда.
— Не хочу.
— Я закажу самого лучшего года. Ты же сама сравнивала его с льющимся золотым бархатом. Помнишь, как ты назвала его бархатистой сладостью?
— Ты все помнишь. Я не устаю поражаться твоей памяти.
— Тогда пошли. Я отпустил Сержа, прогуляемся пешком.
Из окон ресторана было видно море… безмятежное море. Море вечности.
Со стороны они казались влюбленными, или молодоженами в свадебном путешествии, трудно было поверить, что уже пять лет эти воркующие голубки бьются смертным боем друг от друга, а все не могут ни установить стабильный покой в своей семье, ни расстаться. Впрочем, голуби — символизирующие и влюбленность и мир, самые кровожадные из известных человечеству птиц — они убивают представителей своего вида, садясь сверху и, выщипывая сопернику перышки на голове, — но об этом знают лишь узкие специалисты в орнитологии.
Они пили вино, она что-то рассказывала о своих ощущениях от моря, неба, гор, вкуса вина… сладких желе, фруктов… И он смотрел на мир через призму её ощущений и мир становился объемней, ярче, наполненный музыкой её голоса, он целовал её руку, она тихо смеялась.
Вовсе не от вина у неё кружилась голова, а от его нежного взгляда. Мир легкий, эфемерный вокруг, настолько, что казалось легко можно пройти сквозь его миражные здания, приобретал тепло, питал её пьянящим соком любви. И казалось ей, что она способна прожить с ним вечность, чувствуя себя единственной любящей и любимой, маленькой и защищенной его разумностью, его практичностью, рационализмом. Но главное — любовью. И любовь их может быть невероятно большой, без границ, вмещая в себя все, весь мир, и море, и этот закат, и зеленый луч, который вот-вот блеснет и она поймает его в свои зрачки, потому что рядом есть он, его любовь, без которой нет ни её, ни его самого.
— Ну а зонтик, с "Монако — Монте-Карло" написанными такими маленькими, маленькими буквами, ты мне прости. Да и шляпка… согласись, ты была не права. Костюмы мне действительно нужны…
— О нет! Шляпка была отличная. С неё только бант сорвать… Я такую модель видела только в кино!
— Но мы же не в кино!
— Еще бы! Такого не бывает ни в одном кино! Потому что не объяснимо! Жадностью это оправдать нельзя. Она стоит меньше твоих костюмов. Да и вообще, не нам с тобою говорить о деньгах. Что это? Безумное крохоборство? Вредность?! Это… это… просто сказочный сволочизм! Ну что, что стоило тебе купить мне такую мелочь!
— Вот именно, потому, что мелочь. К тому же зеленая! Ты завтра же забудешь про свою шляпку. Я тебя знаю.
— Но сегодня!
— Все. Пора тебя выгуливать. Я понял, что нам надо как можно чаще менять пейзажи. — Сказал он. Расплатился, взял по-простецски со стола очередную бутылку с Шато и, не обращая внимания на удивленный вид официанта, по видимости оттого, что он никогда не видел, чтобы пили такое дорогое вино тридцатилетней выдержки в таких количествах, Кирилл вышел с Алиной под руку на набережную.
— Черт, забыл купить у них бокалы. Придется, пить, как школьники из горла, — вздохнул он, снял кожаную куртку, подстелил под себя, так чтобы хватило Алине, и сев, продолжил: — Вот если бы ты захотела тот перстень с изумрудом…
— Ясно, почему тебе приятней перстень в несколько десятков тысяч долларов — я умру, а он останется. А шляпка, зонтик — из них конечно денег не сделаешь. Их не заложишь. А я идиотка, пожалела тебя. Подумала, зачем тебе разоряться на такие безумно дорогие украшения для полудохлой жены. Я и не думала, что это выгодно для тебя. Что у тебя все в казну!
— Да ничего мне не выгодно. Ты можешь и его умудриться потерять в пять минут, что я не знаю. Все дело в том, что ты вдруг стала относиться к вещам, как к воздушным шарикам.
— Но это же так естественно. Ты посмотри, что осталось из вещей от людей прошлого века? Да ничего. Все растворилось, разложилось во времени. Если конечно не считать предметы антиквариата, но это как марки, этикетки… Но судя по дому моего дядюшки — все это так неудобно…
— Остался дом твоего деда, осталась мебель в нем, которой можно было бы ещё пользоваться и пользоваться. Это просто мы, со своими революциями привыкли уничтожать, и ценить лишь все новое… Здесь дело не в жадности, не в скупердяйстве, а в элементарной аккуратности.
— Но ведь шляпку тебе мне купить жалко, потому что кто-нибудь из нас обязательно сядет на неё для начала, а потом я её вообще забуду её на лавочке в каком-нибудь сквере. В третьих — я действительно не представляю, куда и к чему её надеть. А вот перстень… Но и его так просто не наденешь.
— Да хоть бы ты его потеряла на следующий день, повторяю тебе — я бы слова тебе не сказал, клянусь! Но он был как раз для тебя!..
— Но ты не купил же его мне в подарок, сам по себе, сюрпризом.
— Но попробуй я купи тебе его, не примеряя?! Стоит все же не дешево.
— А вот как!
— Потом доскажешь. Посиди здесь, я попробую найти туалет. Сторожи бутылку. Он ввинтил бутыль в гальку, и ушел.
Алина посмотрела ему вслед, потом на эту почти опорожненную бутылку. Все унизительные для неё моменты этого дня вспыхнули в ней с особой яркостью и вдруг погасли. Все стало пусто. Словно окончилось, заставлявшее проливать её горькие слезы кино и экран погас. Она встала и пошла.
Городок спал. И вдруг гигантскими трухлявыми, изъеденными муравьями, пнями казались здания в стиле модерн. Они лепились друг к другу, теснились невыносимо, так, словно старались вытеснить её из их серого покоя. Алина шла и шла, словно гонимая чуждым миром. Она дошла до строительного забора огораживающего годами ремонтируемый Средиземноморский дворец, преодолела перегороженную улицу, с её хламом, запахом разрухи, и пошла вперед в сторону железнодорожного вокзала, прошла туннель, над которым походили пути, ещё несколько неожиданно откровенно невзрачных улочек, на которые не заходят туристы, вышла на большую дорогу и очнулась. Холодно. Пронизывающий ледяной ветер валил с ног. Куда идти-брести?..
Мимо неё пролетел шикарный "Опель", и вдруг вернулся задним ходом, остановился.
ГЛАВА 5
К ней вышел мужчина лет шестидесяти в элегантном костюме, он что-то спрашивал её по-французски, но она лишь твердила по-английски "ошибка, ошибка" и добавляла: — пардон.
Потом она поняла, что его встревожил её одинокий вид на дороге, и он хочет помочь ей. Названия гостиницы она не помнила. Но помнила адрес своего домика в Каннах, его-то и произнесла с трудом. Он предложил её сесть в машину, развернулся на трассе, явно нарушая правила. Впрочем, трасса была пуста, и помчал её в Канны.
Они остановились у её бывшего дома. Алина напрасно звонила в звонок в калитке, хотела расшатать замок, но этот ржавый старинный агрегат оказался слишком прочным. Она больше не владела ключами этого дома. И он стал чужим.
— Слиип, спит, мой муж-хазбенд, — пояснила она подвозившему её мсье Оноре. Он понял её. С этих слов начался их эсперанто. Он предложил ей мобильный телефон. Но телефона в номер гостиницы в Ницце она не помнила, его мобильный тоже. Это Кирилл имел феноменальную память на цифры. Такую, что она даже не утруждала себя никогда запоминаниями. И даже в случае потери своей телефонной книжки всегда могла обратиться к мужу. "Я без него вся какая-то никчемная" — с горечью подумала она.
Оноре вышел из машины, и мимикой, жестами, смесью слов из нескольких языков объяснил ей, что не может оставить такую женщину ночью одну, и предлагает ей переночевать у него, и звонить из его дома её мужу. У Алины не было выбора. И они снова помчали по шоссе в обратном направлении, когда миновали вокзал Ниццы, Алина заволновалась. Куда они едут вообще?! Но пожилой Оноре был настолько элегантен в каждом своем движении, что заподозрить его в дурном, — только показывать себя с дурной стороны. "Он, наверняка везет меня в свою деревушку, поскольку иметь жилье в Ницце, слишком дорогое удовольствие", — подумала Алина и успокоилась. Машина летела вверх к горам. Перед их низкорослыми вершинами светился дворец. Уж не во дворец ли он меня везет? Кто он такой? — захватило дух Алины, словно при быстрой езде. Они остановились, едва поравнялись с дворцом. Переведя про себя с обезображенного французским прононсом английского Оноре, Алина поняла, что эта бывшая резиденция русских царей, теперь отель "Регина". Настроение её испортилось. Идти в столь шикарный отель с неизвестным мужчиной, словно проститутка не хотелось. Она попросила отвезти её снова на английский бульвар, к отелю "Негреско", где она сможет начать ориентироваться, но мужчина успокоил её, сказав, что это очень опасно в такую безлюдную зимнюю ночь. И свернув налево, покатил уже тихим ходом мимо таких вилл, которые Алина не видела даже в кино. Впрочем, они явно не вмещались в русское понятие "вилла" — это были настоящие дворцы. Оноре притормозил перед огромными воротами. Что там — за глухим забором не было видно. Ворота разъехались в разные стороны, и они въехали в парк с огромными деревьями. Их кроны нависли сгустившейся тьмой, но вдруг стол света прорвал тьму. Казалось, это ракета, которая вот-вот взлетит, но это оказался замок с неожиданно включившейся подсветкой.
Легкое чувство страха… она неуверенно оперлась на галантно предложенную руку.
Как самочувствие, "лярусс"?
— Файн. — вернулось к ней самообладание. Она во все глаза смотрела очередную серию фильма своей пусть и угасающей, но жизни. И понимала, что ничего не понимает.
Густое южное небо посветлело. На его фоне чернели силуэты гор и кроны деревьев, а на черном фоне деревьев светлели мраморные скульптуры. Исследовательский инстинкт, очнулся в ней словно некий капитан Немо на дне океана и повел вперед. Она, затаив дыхание, обернулась. Оноре ждал её уже на вершине мраморной лестницы у распахнутой двери. "Уснуть и умереть" мелькнуло в голове у Алины, и она пошла на свет распахнутого холла сияющего в блеске зеркал.
И вдруг заметила, что её и недоумение и онемение нравится хозяину. Она мысленно проверила линию своей спины и, пройдя в дом, мимо хозяина, сама предложила ему, играючи, войти в собственный дом.
И все-таки она не могла с небрежностью пройти мимо того, что видела белый камень высоких стен, темные картин в тяжелых рамах, легкая лестница, словно не ведущая, а возносящая вверх. Светлая таинственность и ясность силы воли человека взорвала её душу с трудом скрываемым восторгом. Восторг, словно пламя водой, погасила печаль. Что, кроме церквей, да и то порушенных, изуродованных — оставила история её родины ей? А дворцы, старинные дома? Питер, Подмосковье? Все не так и не то. Ничего не могло удержаться на её земле неугомонной земле и двух сотен лет… Но хилые стены привычных времянок украшались куда изощреннее и богаче стен толстенных и вечных…
Они вошли в огромный зал. Да. Здесь можно устраивать балы. Или просто жить и взирать из своего гулкого одиночества на историю человечества.
Когда Алина вошла в зал оформленный, хоть и современно, но вполне в соответствии с аскетизмом аристократа, живущего вдали от всевозможной суеты, он появился в дверях следующей залы с книжечкой в руках, и поманил её к себе. Алина подошла. Он пропустил её впереди себя в другую залу длинный, метра в четыре, стол был накрыт. Но тарелка с приборами стояла одна. Он сел туда, где стояла тарелка, во главе стола, предложив ей выбрать место.
Алина посчитала, что будет глупо ютиться где-то сбоку от него, и не воспользоваться свободой пространства, поэтому села напротив. Тут же появился строгого вида старик и поставил перед ней приборы. Оноре, что-то сказал старику, и тот положил перед Алиной книгу. Освещение было неяркое, и Алина, ещё и не взяв её, подумала, что это библия. Но это оказался словарь. Так за ужином они вышли на новый виток беседы.
Вслед за словарем принесли половинку дыни со сладким портвейном в её полости, и прозрачными ломтиками сырокопченого мяса. Это полагалось есть ложкой. Алина пустилась тут же в мысленный анализ французской культуры, пояснив сама себе, что есть сладкое перед горячим — объясняется жадностью французов. Так они стремятся сразу умерить аппетит гостя. Но очень быстро поняла, что сладкое вино — это аперитив, и подсознательный аналитик в ней мгновенно скончался, остался немой наблюдатель. После дыни тот же пожилой слуга принес огромную красную рыбу на блюде. Ловко отделил от хребта одну половину — положил Алине, отделил кости и вторую половину положил Оноре. Рыба оказалась наисвежайшей.
Когда дошли до кофе — Алина, хоть и была умеренна в еде, чувствовала, что не может двинуться. К кофе подали мороженое нескольких сортов и экзотические фрукты. Потом они переместились в другую комнату, и сели у камина. Их беседа лилась непринужденно, не смотря на нехватку слов, потерю времени на поиски в словаре. О чем — да ни о чем особенном. Чуть прошлись по истории Франции. Об известных на весь мир комедиях, артистах… чуть поговорили о России. Для Алины было открытием то, что ещё во времена Ивана Грозного Россия считалась страной носительницей высокой культуры, что когда во Франции ещё ели руками, в России уже пользовались вилкой. Еще немного мелочей, исторических анекдотов… Сочувствие к русским эмигрантам, как к людям высокой культуры, особенно первой волны, достойно принявшим бремя нищеты, достойно прожившим жизнь и не сломавшись… Ели, конечно, не считать алкоголизма. Потом Алина тщетно пыталась объяснить, что ещё не все культурные люди сбежали из России. Но Оноре сочувствовал ей — ему казалась, что она живет среди бандитов и алкоголиков — разве можно жить такой женщине там? — удивлялся он, но она усмехалась — где дано — там и можно. Он был владельцем нескольких судов и пароходов — коммерция всех масштабов интересовала его. Но Алина не решилась вселить в него оптимизм, по поводу России, как партнера. Все-таки он не сделал ей ничего плохого, чтобы заниматься перед ним "распальцовкой". Потом, она подумала о том. Как хорошо было бы прожить оставшиеся дни в этом замке, блуждать по его комнатам, залам, переходам, вдыхать свежий воздух в саду и никогда, до последних дней своих, не выходить за забор. Но тут ей вспомнилось, что Кирилл не сможет без нее, что Кирилл, наверное, сейчас, уже устав её искать, вернулся в гостиницу и надеется, что она найдет его. И из-за чего весь этот сыр-бор произошел — из-за какой-то шляпки? Да нет, она не столь мелочна, но он!.. Нет, все равно надо позвонить. Он же не спит. Он же волнуется. Оноре может обзвонить все четырех-звездочные гостиницы Ниццы — их же не так и много, спросить, не остановились ли у них такие-то и, таким образом, вычислить название той гостиницы, в которой они остановились.
Но в ответ на её предложение сияющие глаза Оноре вдруг стали стальными. Он сначала делал вид, что не понимает её, а потом положил на козлоногий карточный столик, словно карту из колоды презерватив.
— Какая же ты дрянь! — вскочила Алина. — А я то думала — что это он со мною так таскается?.. Благородный человек! Везде одно и тоже! А я-то дура!..
Она без труда распутала лабиринт его комнат и слетела с крыльца, Он шел за ней, что-то объясняя то ли ей, то ли себе под нос, на ломаном английском. Единственное, что она смогла понять по дороге — это то, что он одинок, но кто не одинок в этом мире, и ему нельзя общаться с соседями, потому что это дурной тон.
Ворота открыть она не могла. Резко обернулась к нему — Ну же.
— Ты не сожалеешь? — спросил он.
— Сожалею, я видела в тебе друга, — ответила она по-английски и добавила по-русски, — а напоролась на обыкновенного кобеля.
Он был обескуражен не столько её словами, сколько презрительным тоном:
— Но все русские женщины только и мечтают об этом, — неуверенно произнес он и, открыл двери.
— Русская русской рознь — прохрипела Алина. И лишь оказавшись в полном одиночестве под ночным небом Ниццы, почувствовала, как холодно… как страшно.
ГЛАВА 6
Она пошла вниз по узкой улице сопровождающей её глухими заборами, держа направление к морю. Металлические таблички на воротах не могли не привлечь её внимание — у этих дворцов не было номеров как у обычных домов у них были названия — среди них запомнилось одно — явно русского происхождения — "Вилла Ксения". Больно кольнуло от нежности хозяев к своей недвижимости, словно это не дома, а яхты, способные пронести их по всем волнам, сквозь все шторма.
Алина, опустив голову, шла мимо и мимо, свернула в переулок. И то, что она увидела, заставило её застыть на месте. Строки из Вознесенского сложились в восторженную песню в её голове на самых высоких нотках: "Спасибо, что в роще осенней ты встретилась, что-то спросила, и пса волокла за ошейник, а он упирался, спасибо!"
Навстречу ей действительно двигалась изящная растрепанная женщина и с трудом волокла за собою огромного упирающегося пса. Дотянув до Алины, она остановилась, и Алина поняла, что это не сон.
Одета она была весьма странно — длинная норковая шубка с оторочкой из чернобурки не могла скрыть полы нескольких разномастных ночных рубашек, напяленных со сна.
О! И здесь есть свои сумасшедшие, — удивилась Алина, а женщина лет сорока пяти, а может, и гораздо старше, но женственность её, скользящая в каждом движении, была куда вдохновеннее, чем у юных особ, остановившись, женщина начала объяснять быстро-быстро, но понятно. О том, что сейчас полнолуние, а полнолуние плохо действует на животных, и её пес совсем одурел — гулять не хочет. А она — сова, её муж уехал в долгую деловую поездку — и теперь она может побыть самой собой — то есть, совой. А когда он дома, он будит её в одиннадцать часов!.. А она любит просыпаться к обеду. Но обедать вообще не любит, потому что от его обедов у неё уже стали нарастать складки на животе, вон какие бедра!.. А раньше она такой не была. И вообще зовут её Линн, но в принципе она испанка, а папа её был американец.
Линн начала видимо на французском, но, заметив, что гостя стала чаще кивать, после того как она перешла на английский, поняла, что та не француженка. Ее даже не смутило, что когда она говорила про полнолуние, Алина взглянула на небо, но никакой луны, ни месяца там не обнаружила. После небольшой паузы, при которой они разглядывали друг друга, как любовались, Алина спросила:
— Но мама была испанкой?
— Нет, мама вышла замуж за другого. — Услышала в ответ, после чего поняла, что задумываться не стоит, так как наплывает другая реальность, при которой вполне естественно, что Линн — испанка, потому что её отец американец, а мама вышла замуж за другого.
— А ты англичанка? — чуть передохнув от своего страстного монолога, спросила Линн.
— Ноу. — замотала головой Алина, не найдя более слов.
— Я знаю — ты итальянка. Итальянки так мотают головой, а ещё у них пышные волосы.
— Ноу.
— Но откуда ты?!
— Рашн. Россия.
— О! Я знаю! Это рядом с Польшей. Там есть Сибирь. Много Сибири.
— Много Сибири. — Согласилась Алина.
— Тогда пошли ко мне пить кофе, — По-простому предложила Линн, и Алина согласилась. Линн резко развернулась и, упиравшийся до этого лохматый пес, с размером побольше кавказкой овчарки, завилял хвостом и побежал впереди. Теперь тормозила хозяйка.
— Как тебя зовут? — спросила Линн, подавая кофе гостье, усадив её в каминном зале ещё более шикарной виллы, чем та, которую ещё полчаса назад покинула Алина.
— Алина — еле выговорила Алина, высовывая нос из-под груды опутавших её пледов.
— Алина? Алин?.. Линн?! Ты есть Линн! О! Ты как я! Я знаю! Я все знаю! Ты любишь долго спать. Ты уступаешь. Ты умеешь прощать и не любишь плохих новостей.
— Все не любят плохих новостей. — Печально усмехнулась Алина.
— Нет. Ты как я — не можешь долго думать о плохом и обижаться на своего мужчину. Поехали, я тебя к нему отвезу. Мы сделаем ему сюрприз. А то мне скучно. Мне нельзя знакомиться с соседями. Мне нельзя говорить с прислугой, с управляющим, даже с его женой. Я не могу уже разговаривать с подругами, потому что они вышли замуж не за тех людей.
— Это ты так решила?
— Нет! — смешно взвилась она на высокой ноте. — Это муж так придумал. Он знака земли. Он без фантазии. А я пешком ходила по Непалу. Я была и хиппи и буддисткой. Я люблю двигаться. Я люблю говорить. Я люблю любить. Смотри! — Она резко выдернула Алину из кресла и, стряхивая с неё по дороге уже ненужные пледы, провела в комнату, в которой зеркала по стенам были расположены под углами и множили отражение человека в какой бы точке комнаты он не находился, — Я здесь делаю так. И она начала гримасничать и смеяться сама над собой. Как это по-английски?
— Не знаю, — сказала Алина, ужаснувшись — до чего может довести одиночество, — но по-русски это называется кривляться.
— Я делаю кривляться, — сходу без акцента повторила Линн незнакомое ей слово, — и мне кажется, что здесь много, много разных людей, а ещё я пишу картины, но их никто не видит, потому что он не хочет, чтобы я делала выставки как простая художница, это неприлично. А ещё я пишу маленькие поэм… Может быть, я была бы великим поэтом, если бы не вышла замуж за богатого мужчину. Но когда мы полюбили друг друга — я не знала, что он был богатый. Я бы ушла, но не умею не любить. Ты тоже. Я знаю. Я отвезу тебя к твоему мужчине. Он богат?
— Для русских — да.
— А мой муж мне не покупает то, что нравится мне, если ему не нравится. Я хочу, а он не хочет.
— И мне — совершенно обалдев, от скорости её речи, рассеянно улыбнулась Алина.
— Вот и хорошо. Поехали. Все богатые мужчины упрямые. Но если бы они не были бы упрямые, они бы не были богатые. Я тебя к нему отвезу. А то он плачет. Сейчас полнолуние. Сейчас даже мужчины могут заплакать.
Выходя из виллы Линн, Алина в последний раз оглянулась на шикарный дворец. Стало прозрачно грустно. Алина поежилась и оглянулась. "Ты хотела бы здесь жить? Жить всегда?" — честно спросила она себя. О нет! Я могу отсюда уйти, попасть в другое место, идти куда хочу, а она никогда, ни куда. И она вдруг поняла Кирилла, почему он всегда боялся приобретать недвижимость и становиться недвижным. А ещё она почувствовала, какую боль она причинила ему своим внезапным исчезновением. Захотелось прижаться к Кириллу тепло в тепло, плотно и нежно. Так… — что если бы шар земной ушел из-под ног, и они сорвались в космическую бездну, все одно бы — не оторвались друг от друга.
Кирилл, не обнаружив Алину на пляже, сразу пошел в гостиницу. Но и в гостинице её не обнаружил. Озадаченный он спустился в бар. Хотел спросить, — не заходила ли жена. Но почему-то сразу понял по лицу сонного управляющего, что не заходила. Он вышел из отеля и пошел вверх по улице по направлению к вокзалу. Шел, шел и зашел в смутно светящиеся двери недорогого отеля, с работающим ночью баром. Дежурный портье прошел в бар, и стал барменом. Услышав заказ Кирилла, мимикой и жестами принялся объяснять, что на ночь много пить вредно — заболит голова.
Кирилл кивнул и угрюмо и изменил заказ, попросив двести грамм водки. Портье презрительно насупился, но налил. Разговаривать с ним Кириллу больше не хотелось. Он попросил телефон и позвонил в Канны, никто не поднимал трубку в ответ.
Кирилл попросил дежурного вызвать такси до Канн. Подъехав к домику Алининого деда, нажал кнопку звонка. Никто не открыл калитки. Едва отъехало такси, Кирилл перемахнул через каменный забор. Свет не горел в окнах, впрочем, это не смутило Кирилла. Алина могла спать. О том, как она могла проникнуть в дом без ключей, он даже не задумался. Постучался в дверь, позвонил. Тишина. Решив, что Алина на него крепко обиделась, разбежался и, взлетев на крыльцо, всеми своими девяносто девятью килограммами ударился о дверь. Дверь чуть подалась… Разбежался еще…
Канны давно не слышали таких мощных ударов среди ночи. Но было три часа утра. Самый крепкий сон. Оттого старикам соседям снилась бомбежка времен войны, во всяком случае, никто не вызвал полиции.
Он вошел в спальню и включил приобретенный перед отъездом телевизор, нашел работающий канал. Шел фильм о байкерах, живущих в землянках в долине гор и их врагах безработных интеллигентах нагородивших в тех же горах крепость из стертых шин. Под этот фильм и заснул, поставив телевизор на таймер. Проснулся часов в десять утра. Алина спала рядом.
Он разбудил её, тряся за плечи:
— Где ты была?!
И не дождавшись ответа, рассказал, как искал её сначала в гостинице, про бармена-наглеца, вздумавшего его учить в час ночи… а потом прервался, помолчал немного и сообщил, что отныне она должна ходить хотя бы в костюмах при карманах, а в них должны быть деньги. И торжественно медленно, выложил перед ней на столик тысячу долларов. Потом подумал, и выложил пять. Увлекся и построил пирамиду из пачек купюр — "для начала". Посчитав, что для первых самостоятельных дней, даже если скупит все самые чудовищные шляпки Лазурного берега, ей хватит. Она недоуменно посмотрела на пирамиду из денег, и снова заснула.
Кирилл, умиленный такой безмятежностью, ощутил щемящую нежность, посидел, молча, разглядывая лицо любимой, вздохнул, боясь потревожить её сон, и вызвал Сержа, — рванул на цветочный рынок в Ниццу.
Цены были сногсшибательные. Но если брать оптом… От опта продавцы отказывались, но когда Кирилл, нарисовав, как мог, на клочке бумаги розу и выписал рядом единицу с тремя нулями — продавец ошизел на глазах.
— Это будет очень дорого стоить! Ви сумасшедший! — перевел ему призванный в помощники Серж.
— Объясни ему, что не сумасшедший, а просто из России, и пусть не гнется, как ива на ветру, столько за день он все равно не продаст, а я беру тысячу.
Такого количества роз не привозил на рынок ни один из цветочников. Пришлось тащиться по приглашению в оранжерею, недалеко от парфюмерной фабрики Граасса, ждать пока срежут необходимое количество, а потом тащиться впереди фуры с цветами.
— Вази будем покупать? — спросил невозмутимый Серж по дороге.
— Какие ещё вазы? — не понял Кирилл.
— Цветы быстро погибнут.
— А вот и пусть. На то они и цветы.
В ответ Серж вздохнул с неподдельной тоскою. Он совершенно не понимал — как же живут в России. Неужели, так и живут?..
ГЛАВА 7
По дому носился поручный цветочника и театральными жестами разбрасывал розы по полу первого этажа. Он явно впал в экстаз, заведясь от чужого полоумия. Кирилл тем временем стоял на крыльце, рассуждая — хватит ли роз, если оборвать стебли и лишь цветами усыпать дорожку. В это время в сад вбежала вся какая-то всклокоченная старушка Зинаида.
— Сумасшедшие! Сумасшедшие! Сначала вы поочередно с женой лазаете через забор, вышибаете замки в собственном доме!.. У нас во Франции так не принято.
— А что делают во Франции, когда теряют ключи?
— Вызывают специалиста.
— Простите, не знал, что ради такой ерунды… Когда я сам легко плечиком-с и справлюсь.
— Вы бандит?! Вы бандит! Я так и знала, что все русские бандиты!
— От бандитки и слышу. Ишь, какая прямая! С маршрутом, как танк. Русский танк!
— Как вы можете?!
— Но вы-то тоже русская.
— Я… я…
— Террористка.
— Я… всю жизнь пела в церковном хоре.
— Морально-нравственная террористка, — усмехнулся Кирилл и добродушно обнял клокочущую негодованием Зинаиду за плечи. Она утонула в его широком объятии и тихо заворковала, пытаясь не выказать своего смирения:
— Я вас прощу мсье Кирилл, но люди! Вы здесь казались всем людьми высокого статуса, а творите!..
— Люди должны ночью спать. Не спят по ночам лишь нелюди, типа меня с Алиной.
— Но Жаннет! У Жаннет бессонница. Она в шоке от ваших поступков. Разве это разумно так обращаться с розами?!
— Ах, опять Жанна?! — Кирилл вспомнил свою Московскую Жанну, — Пора с этими Д, Арками разобраться! — пробурчал он. Всех поленицей на костер! Сколько вас проживает в округе? — спросил он так, что Зинаида отступила на несколько шагов:
— Оставьте Жаннет в покое! Теперь весь квартал в переполохе. Все звонят мне и спрашивают — кого вызывать: врача-психиатра или полицию?!
— В честь чего? — искренне удивился Кирилл, — В честь того, что я дарю своей жене цветы?
— Но мсье Кирилл! Будьте же благоразумны! Это не просто розы! Это целое состояние! — перешла Зинаида на зловещий шепот.
— А что плохого в том, что состояние? Самое страшное — это подарить жене нестояние.
— Но это же неприлично, по отношению к соседям!
— А стучать и подглядывать прилично? — переменился в лице Кирилл.
Лоб его словно округлился, готовый боднуть, взгляд его подернулся красной поволокой — так показалось Зинаиде. В испуге всплеснув руками, он тут же исчезла за калиткой.
Розы в спальню Кирилл решил нести сам. Он поднялся на цыпочках на второй этаж, и застыл перед распахнутой дверью в спальню. Спальня была пуста.
— У неё были деньги? — спросил Серж Кирилла.
— Да. Я дал ей тридцать тысяч долларов.
— Не понимаю.
— Что не понимаешь? Тридцать тысяч долларов наличными.
— Я не хочу понимать. — Пробурчал себе под нос Серж.
— Хорошо. Ты меня не понимаешь. А женщину? Ты все-таки у нас с французской примесью казак. Где её искать с такой суммой денег?!
— С такой суммой проще.
— Это почему же?
— Куда пойдет женщина с деньгами, не тайна. Тайна — куда она девается без денег. — Пробасил Серж в ответ.
И они поехали. Зная, Алину не как абстрактную женщину, Кирилл не доверял Сержу, уверенному в том, что о женщинах он знает все. Впрочем, в том, что загадкой остается, как она обошлась без денег этой ночью, в душе соглашался с Сержем.
Серж завез его в самый дорогой ювелирный салон Канн, и сам опросил его управляющего. Алины там не было. Уверенно он выбрал следующий маршрут.
За день они объездили все магазины Канн и Ниццы, никто не видел пышноволосой, богатой покупательницы. К вечеру Кирилл, прибывая в полной растерянности и уже не рассуждая, приказал Сержу гнать в Монако, вспомнив пресловутый зонтик. В Монако торговля на улицах давно окончилась. В магазины она не заходила. Он пробежался по игрушечному ботаническому саду, покурил среди экзотических кактусов и рванул в морской музей Кусто. И это было первым его открытием. Переполошенный сторож, тут же позвонил бывшему в дневную смену дежурному по музею и сообщил, что женщина, сходная с описанной, с утра и до обеда гуляла по музею.
Ее не трудно было заметить, так как туристов в такой зимний месяц в Монако мало, — пояснил сторож, как бы оправдываясь, заметив на лицах спрашивающих мужчин неподдельное изумление.
— Это любовь. — Вздохнул Серж.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Она оскорбилась на тебя, не найдя тебя с утра в постели, а лишь деньги. Поэтому решила забыться там, где ничего не напоминает о тебе. То есть не в магазине. А потом, в отместку, пошла играть в рулетку.
Он действительно увидел её у рулетки в казино Монте-Карло, едва вошел в зал. Но до этого отстоял очередь в киоск, зарегистрировал свой паспорт, заплатил пятьдесят франков, а потом вошел и застыл. Таких красивых, элегантных женщин больше не было в зале. Впрочем, может быть, и были, из блуждающих с растерянным взглядом туристок, но чтобы так уютно устроиться среди из играющих — этого он не ожидал. Кирилл хотел было сразу рвануть к ней в гневе, но остановил себя, решил пройтись по залам знаменитого казино и произвести визуальную разведку местности и сил ещё непонятного противника.
Зал поражал своим шиком, если бы не разменный отдел в конце его. Дойдя до ченча, Кирилл полюбопытствовал, сколько стоит самая дешевая фишка оказалось всего-то двадцать франков — то есть четыре доллара, но были фишки и по пятьдесят, и по сто, и покрупнее. Кирилл оглянулся на Алину. Ничего кроме своих фишек расставленных на игральном поле она не видела. Рядом с ней сидели престранные типы. Кирилл сначала не мог понять, почему все-таки эта компания кажется странной, ведь все они уже люди весьма солидные, самому молодому из них где-то около пятидесяти. Но был он одет в костюм элегантного покроя, но отчего-то из-под обшлагов его пиджака высовывались волосатые запястья, и не было видно манжет белоснежной рубашки, одетой на нем. Ворот рубашки был наглухо застегнут, но явно не хватало галстука. Ботинки этот тип надел на босу ногу. И тут Кирилл все понял: каждый член этой компании напоминал ребенка, сбежавшего от опеки няни прямо из спальни, одевшись так, как может одеться впервые в жизни совершенно избалованный ребенок, постоянно находящийся под чьим-то присмотром. Дамы в элегантных костюмах не были исключением. На их запястьях болталось по несколько массивных браслетов, со звеньями в толщину звеньев собачьих цепей. Но при этом у одной из них волосы были заколоты чуть ли не бельевой прищепкой, у другой на затылке медленно спадая, застряла бигуди, третья была в обыкновенных бархатных домашних тапочках, и при одной клипсе из огромной жемчужины. Еще Кирилл понял: почему именно в эту компанию так уютно вписалась Алина, — в сущности, она была таким же избалованным и, чуть не углядишь — взлохмаченным, ребенком, совершившим "настоящий" побег. И не смотря на то, что члены тепленькой компании ставили не чет и нечет, а прямо стопками в тысячи, а может, и десятками тысяч долларов на конкретные цифры и, не моргнув глазом, проигрывали их, Алина, чувствовалось, была ими принята как своя. Она даже поддерживающи перемигивалась с играющими, ожидая, когда остановится рулетка.
Кирилла бесила её свобода. Чувствуя, что краснеет от гнева, он пошел искать туалет.
Прошел в боковой зал — он оказался белым, уставленным плотными рядами игровых автоматов. Он задрал голову — в потолочных розетках украшенных золотой мозаикой мерно крутились вентиляторы. Такое сочетание роскоши прошлого века и современной техники поразило его. Показалось душно. Захотелось простору. Кирилл пересек зал, чтобы взглянуть в окно на море со скалы, на которой располагалось казино, но за малиновыми гардинами оказались фальшивые проемы окон с резными рамами. Опять неправда! Ничего естественного! Но откуда же такой дневной свет?.. Оглянулся — зеленая каменная девушка держала шар лампы. Люстры держались на кариатидах. "В меру скромно, в меру модно" — подумалось ему, и он успокоился. Внутренний страх пересечь пространство мира, который ему не принадлежит, сопровождал его все эти дни, поэтому, гуляя с Алиной по Монако, он так и не решился зайти с ней в это известное на весь мир казино. Но Алина одним махом перелетела мистическую черту, и он, рванув за ней, он сделал шаг подобный прыжку в холодную воду. Оказалось не так холодно, как приятно.
Кирилл осмотрел открытый зал для особо важных персон, погладил огромный стол, за которым играл Черчилль. Ему вспомнилось, как момент объявления второй мировой Черчилль встретил в этом зале, проиграв безумную даже по теперешним временам сумму. Ничего, — спокойно ответил, он, узнав о войне, из-за чего ему следовало срочно возвратиться в Лондон, — Вернусь тогда и отыграюсь. Так и произошло. Едва окончилась война, он оказался в этом же зале. И выиграл ровно столько, сколько проиграл.
Тоска заныла в груди Кирилла, подумалось, чем он не Черчилль?.. Ну, почему ему не дано?!
Кирилл вернулся в первый зал — Алина продолжала играть. Ее стол был действительно самый живописный. За соседним столом ставки были поменьше, но люди выглядели приличней. Там играли восточные люди, удваивая или увеличивая ставки не более чем раз в восемь. Они тянули удовольствие, и не рисковали, в отличие от соседей. Среди них затесалась пожилая блондинка, в прошлом явно красавица, теперь откровенно истощенная пристрастием к игре и алкоголю.
Вот куда катится Алина! — вспышка мгновенного гнева затмила разум Кирилла. А Алина, тем временем, невозмутимо указывала крупье — куда поставить фишки.
Кирилл сделал круг по залу, якобы не замечая её, краем глаза не выпуская из поля зрения. Она продолжала не замечать его. Рулетка крутанулась, и он увидел, что она проиграла. Невозмутимая лицом она пошла через зал к кассе, менять деньги на новые фишки, вот тут-то он и пересек ей дорогу:
— Так. Сколько проиграла?
— Не много. Тысячу, — честно ответила она, даже не удивившись его появлению.
— Давай сюда оставшиеся деньги. Тысячу! Это для них немного! А для тебя!..
Она машинально открыла сумочку — невозможно было забрать из неё все пачки стодолларовых купюр. Он властным движением снял сумочку с её плеча.
Это было бы похоже на грабеж, когда бы не их выражение лиц, — её по-детски удивленное, его — родительски уверенное. Охранники, наблюдая это, даже не двинулись с места. Чего они только не видели за годы своей работы. К тому же выяснение отношений с властями предполагалось выносить за пределы зала. И ожидая развязки, теперь они тайно наблюдали за этой экстравагантной парочкой.
Кирилл спиной заметил, как весь зал замер, глядя на них. Не хватало только ещё здесь закатить им семейную сцену на потребу публике.
— Идем. — Процедил-приказал он и пошел к выходу.
— Но мне нужно отыграться! Сейчас будет мой крупье! Он явно мне симпатизирует!
— Что?! — развернулся Кирилл. — Это ты с ним провела ночь?
— Глупость. Крупье я нравлюсь сейчас. Я выигрывала у него 16 тысяч, но они постоянно меняются. А ночь была такая фантастичная!..
— Во сколько же он тебя привез?
— Кто?..
— Тот с кем ты поспала.
— Да ну тебя, — и она пошла от него.
Они говорили тихо, но все равно чувствовалось, что они в центре внимания. Когда Алина отошла от мужа, люди, почти не двигавшиеся поначалу, усиленно увлеклись игрой.
— Нет. Ты мне ответь, где ты была ночью. — Мелкими шажками он нагнал её.
— Во дворце, — ответила она и отошла от него поближе к рулетке.
— Знаю, я какие здесь дворцы. Наверняка, там все стены были обиты красным бархатом. — Пробубнил он ей, нагоняя в спину.
— Ты мыслишь как тупой примитив. Я была в настоящем. И не в одном. Не хочешь — не верь.
— Как ты туда попала?! — схватил он её за локоть.
— Что? — прошипела она вырвавшись. — Надеюсь, ты не будешь устраивать здесь сцены ревности?!
— Я не ревную. Ты только объясни мне, как ты туда попала?! — нагонял он её, делая вид, что рассматривает пустые дубовые панели зала.
— Дай мне хотя бы на одну фишку! Хоть в двадцать франков! Сейчас у рулетки будет симпатичный крупье. Я у него обязательно выиграю.
В ответ Кирилл отошел от нее, заложив руки за спину, делая вид что прогуливается. Теперь она аккуратно настигла его: — Дай двадцать франков.
Кирилл отошел, как бы прогуливаясь руки за спину, разглядывая потолок.
Со стороны казалось, что они вытанцовывают странный танец, и если было ему название, то не иначе, как "Прогулка вокруг рулетки в стиле фламенко". Танец длился изматывающе долго. Привратник сверлил их ястребиным взглядом. Крупье поглядывали на них, как бы не глядя. Игроки рассеянно проигрывали свои фишки. Но Алина и Кирилл продолжали, не оборачиваясь, пытать друг друга.
И все-таки она сдалась первой:
— На попутке, — ответила, твердо глядя ему в глаза.
— Понятно — врешь. — Удовлетворенно кивнул он и пошел к выходу.
ГЛАВА 8
Они пронеслись по Ницце мимо начала той самой улицы, круто поднимающейся к дворцам и замкам. Алина даже не спросила Сержа, как она называется, ни чем не выдала себя.
— Теперь нам надо купить продукты. — Деловито сказал Кирилл, — Все. Будем готовить сами. Серж, где ночной магазин или ларьки?
— Какие ночные ларьки?! У вас теперь одна задача — мирно до дома доехать. — Вздохнул Серж
— Прошу без комментариев, — усмехнулся, оценив чувство юмора этого огромного, вроде бы не поворотного, человека Кирилл. И все-таки ему было не до смеха.
— Не ревнуй, — шептала тем временем Алина. Я прошу тебя, не ревнуй. Ничего не было. Просто меня решил подвезти один пожилой джентльмен. Я забыла название гостиницы и поэтому сказала Каннский адрес. Тебя не было. Он, как хорошо воспитанный мужчина не мог оставить женщину на улице, и предложил мне переждать у него до тех пор, пока ты вернешься. Я не знала, что он живет во дворце похлеще нашего Моссовета. Мы лишь поужинали, и я дозвонилась до тебя и пошла пешком, а потом познакомилась с такой фантастической женщиной! Самой настоящей женщиной.
— Сколько лет этому, кто тебя привез?
— Но причем здесь это?!
— Ладно. Я не ревную. Разве я похож на ревнивца? Я просто не понимаю, почему ты оказалась в казино без меня?
— Но я увидела, что тебя нет, подумала…
— Ладно. Мне совсем не интересно знать, что ты подумала. Поехали в бар перекусим. Гостиница у нас оплачена ещё дня на три вперед. Потом заберем вещи. А пока можем пожить в твоем домике. И вообще, пора мотать отсюда в Москву.
— Но…
— У меня дела. Деньги при такой жизни быстро кончатся, а новых не будет.
— А за мой дом?!
Он промолчал о том, что вовсе не продал её дома, а сдал в долгосрочную аренду с помесячной оплатой перечисляемой на её счет через международный банк. Договор вступит в действие лишь через неделю. А деньги ей он выдал свои, потому что казалось невозможным наблюдать с каким отчаянием она сжигает мосты, всякую возможность продолжения жизни. Их переезд в гостиницу Ниццы, был лишь инсценировкой продажи.
Они вошли в тот же кафе, где вчера принял необходимую дозу Кирилл. Сели за столик, отгороженный от остальных плетенкой из белой фанеры. Навес, увитый искусственным виноградом, напоминал лето где-нибудь в Греции. Грецию напоминали и огромные вазы из красной глины, и черные глаза бармена увеличенные выпуклыми линзами очков, его широкие скулы и даже поступь. Узнав в Кирилле своего странного ночного посетителя, он скорбно покачал головой. Кирилл взял Алине бокал Бордо и пошел искать туалет.
Когда он вернулся, Алина сидела перед полным бокалом, даже не пригубив его, курила.
— Почему ты не пьешь?
— Не хочу.
— Ты же любишь сухое красное.
— Ненавижу.
— Тогда… взять тебе ликера?
— Нет. Я вообще ненавижу алкоголь, твою ревность… и вообще!..
— Тогда иди в машину, я пока расплачусь.
Она встала и пошла. Краем глаза Кирилл уловил ехидную ухмылку бармена. Но пошел расплачиваться к стойке, а заодно купить себе бутылку вина на ночь. Покровительственный взгляд бармена его раздражал. Кирилл заказал двести грамм русской водки.
— Водки нет. Есть граппа. — Ответил бармен и самодовольно выставил перед ним пузатый графин с синей жидкостью, подозрительно напоминающей о денатурате. Налил ему в стаканчик грамм пятьдесят.
— Двести — напрягся Кирилл.
— Но это настоящая итальянская граппа.
— Мне наплевать, чья это граппа. Я прошу двести грамм водки.
— Это водка, водка. Водка итальяно, — закивал бармен и налил Кириллу пятьдесят грамм. Кирилл выразительно приподнял бровь. Бармен перелил в большую рюмку и долил до ста. Кирилл снова приподнял бровь и, сжав губы, засопел. Бармен быстрыми движениями исправился, — выдал, как просил Кирилл, сто пятьдесят грамм.
Кирилл опрокинул одним махом предложенную синюю жидкость. Затем в полной тишине рот Кирилла округлялся и расширялся на выдохе, и синхронно ему округлялись глаза бармена.
— Граппа?! — просипел Кирилл, — Да у нас в России, в деревне Кукуево баба Мотя Хренуева на курином помете, знаешь, какой самогон гонит?! А ты меня тут тормозной жидкостью за франки травишь!
Алина дремала в машине, ожидая Кирилла, как вдруг услышала звук тупого удара, и звон падающего стекла.
— Мадам, пора идти, — невозмутимо сказал Серж, и лишь тогда Алина очнулась, обернулась и вскрикнула.
В разбитых дверях стоял сияющий растерянной улыбкой Кирилл, держа руку перед собой руки с расставленными пальцами так, словно приветствуя её, или прощаясь… Она не сразу поняла, что по лицу его со лба хлещет кровь, вся белая рубашка уже алая.
— Нет! — вскрикнула она и бросилась к нему из машины. Она схватила его за руку и побежала в бар
— Врача! Врача! — кричала она, сама не понимая, что кричит по-французски.
Бармен с гримасой ужаса на лице отшатнулся, медленно теряя сознание от вида крови. Алина выпалила французское ругательство и, не выпуская руки Кирилла, побежала с ним к машине. "Врача! Врача! Скорее к частному! К самому дорогому!" — продолжала кричать она на неизвестном ранее ей языке. Открытая рана на лбу пульсировала кровью и казалась ртом, с отвислой губой срезанной, но не до конца кожи. Словно сквозь окровавленные кружева белела черепная кость.
Серж ничего не сказал — тут же нажал на газ.
Алина нашла автоаптечку в машине и дрожащими руками наложила на лоб Кирилла повязку.
Даже оказавшись в успокаивающем голубоватом свете частной клиники, она не лишилась способности говорить по-французски, потребовав косметического шва, сколько бы это не стоило.
И лишь, когда Кирилл вышел из операционной, вздохнула по-русски:
— Ну… т-ты… в рубашке родился! — выдавила она из себя и заплакала у него на плече.
Они вошли в дом, и она остолбенела от с ног сшибающего густого аромата и, увидев розы, розы, розы по всему дому, — упала в кресло, чувствуя, что теряет сознание… Кирилл сел в кресло рядом, и положив руку ей на плечо, просопел:
— Вот так. Хотел сделать тебя счастливой…
— Вот и сделал, — ласково усмехнулась она и поцеловала его.
Вдруг входная дверь скрипнула, и порог переступила кошка. Она смотрела на Алину, одним глазом, другой пряча за створку двери.
— Маруся! — догадалась Алина.
— Ма-а, — ответила кошка и на цыпочках, по колючим стеблям роз подбежав к Алине начала тереться о её ноги.
ГЛАВА 9
С утра к ним прибежала Зинаида, казалось, она лишилась знания русского языка, так взволнованно брызгала она словами, что ничего не было понятно. Лишь иногда до них доходил смысл: "Мсье Кирилл, вы такой импозантный! Вы ли это?! Александр был такой достойный человек!.. Алина такого высокого рода, а… Наш квартал недоволен… Что квартал! Такой переполох! Такой переполох!"
— Пара сматываться из этого курятника, — мрачно заметил Кирилл Алине.
— Да вы просто кретин дез Альпез! — воскликнула Зинаида и замахала какой-то бумагой.
— Из Москвы я. — Серьезно поправил Кирилл.
— Столицы особой вселенной. — Пояснила Алина
— А вот вы как раз из Альп. — Поправили они хором Зинаиду.
— Но я-то не кретин! — задыхалась она от возмущения, — А вот вы себе такое позволяете! Такое!.. А тут ещё эта телеграмма! Да от такого достойного человека! Как вы можете быть допущены в его дом?!
— Что за телеграмма?! — напрягся Кирилл, думая, что это штраф за разбитое стекло.
— Я не знаю. Не знаю я. Я не читаю чужие письма.
— Читайте, я прошу.
— "Алина! Я соучаствую сердцем вашей судьбе". — Торжественно четко прочитала Зинаида.
— И все?! — оглянулся Кирилл на Алину.
— Все. И подпись: мадам Линн. Адрес?! О-о! Вы знаете — кто это такие?! К этим человеку не подойдешь! Их не встретить на улице! — задыхалась Зинаида. — Я по обратному адресу сразу поняла, кто это! Это!..
— Милая, чудесная… — посветлела Алина от воспоминаний прошлой ночи. — Она подвезла меня сюда, а до этого подвозил один придурок — Оноре, её сосед. Но я не могла открыть дверь. А с Линн мы перелезли через забор, а дверь уже оказалась открытой.
— Стыдитесь врать! Я знаю, что мсье Онере и в бреду не придет в голову подвезти кого-то, а мадам Линн из такой фамилии, что вы не смеете говорить о ней такое! — тряслась Зинаида. — Сказали бы лучше правду, что вы имели к ним протеже заранее. Вы должны срочно сделать им ответный визит, срочно пригласить к себе каждого по отдельности и с супругами… Но куда?! У вас не дом, а гербарий! Да и маленький для таких важных людей. Для такого случая вы должны снять виллу где-нибудь в Сан-Тропез! Но у вас нет даже доверительного письма!.. Никаких документов о том, что вы княжеской крови, приличные люди! Какая безалаберность! Вы же не звезды Голливуда! А этот синяк под глазом! Повязка! И ещё поперек лба!
— А если не поперек лба, то тогда можно? — спросила Алина.
Зинаида фыркнула, не найдясь, что ответить, но, переведя дух, залопотала вновь: — Мне теперь надо бежать за продуктами. Будете принимать пищу дома. Вы же не можете показаться в таком виде не в одном приличном заведении! Хорошо. Так уж и быть. Я согласна. Я возьму готовку на себя! завершила она героически.
— Ах, вот куда она клонит, — шепнула, еле сдерживая улыбку, на ухо Кириллу Алина.
— Это почему я не могу показаться в ресторане? — обиделся Кирилл.
— Но посмотрите на себя в зеркало! Мало того, что у вас перевязана голова, у вас синяк под глазом! Вас примут за бандита! За русского бандита. Они особенно опасны. Ими напуган весь наш Лазурный берег!
— Синяк? А что синяк?! Для нас дело привычное. А если за бандита примут, так хоть на этот раз не обсчитают. Вы только мне объясните, сколько стоит это стекло?
— Какое стекло?!
— То, что вставляют в деревянные, старинные двери?
— Зачем вам?
— Понимаете, Кирилл хочет заплатить за удовольствие прохождения сквозь стеклянную дверь.
— О! Совсем с ума сошли! То они вышибали двери в собственном доме, а теперь ходят сквозь чужие!.. Какой позор! Вас оштрафуют!
— Что ж, заплатим. Я думаю, денег нам хватит, чтобы остеклить все гостиницы Ниццы и Канн. Даже отель Карли. В былые времена, я проходил сквозь них, как бог! А тут чего-то не рассчитал.
— Вы с ума сошли! Вы с ума!.. Пожалейте город!
— Не требуйте слишком многого.
— Вас приветили люди из района Симиез! Ведите себя прилично.
— Не понимаю, почему ради них надо вести себя как-то особо?.. — пожала плечами Алина, — они совершенно нормальные люди.
— А в прямом или сексуальном смысле? — Кирилл уставился на жену украшенным синяком, от того разбойничьим, взглядом.
— Прекрати! — вскипела Алина, но тут в калитку позвонили.
Молодой человек выглядел растерянно и бледно. Он что-то промямлил по-французски, но Зинаида тут же взялась переводить:
— Он говорит, что хозяин отеля просит вас не подавать на них в суд.
— Это за что?!
— За несоблюдение техники безопасности. Он не подозревал, что его противоударное стекло не выдержит вашей головы. Он должен был поставить более безопасное стекло или предусмотреть предупредительные знаки.
— Это какие же знаки? — засмеялась Алина, — "СО СТЕКЛАМИ НЕ БОДАТЬСЯ"?! Но, пусть там написано будет только по-русски.
— Это серьезно! — Бросила на неё гневный взгляд Зинаида. — Я не понимаю, почему вы все время смеетесь! Хозяин отеля предлагает оплатить вам лечение. Для начала он прислал вам триста франков!
— Слушай, парень, — сказал Кирилл по-английски, обращаясь к посыльному, размахивающему конвертом с деньгами: — Сбегай-ка за вином.
— Что?! Что вы говорите?! Как можно, мсье Кирилл! — возмутилась Зинаида.
— Ничего, ничего. Винца надо выпить. Тут без бутылки не разберешься. Деньги у него есть, вот пусть и покупает. Бутылки три Бургонского, или Шато… Пусть выберет по вкусу. Вот и выпьем вместе. А хозяину своему, пусть отнесет русской водки, что б знал — с чем сравнивать. А то выдумал ещё итальянскую водку. Водка итальянской быть не может. Водка может быть только русской! А все остальные водки — извращение! Ми-икстура, — выговорил он с презрением и добавил: от кашля или поноса со спиртом, разве ж это водка?.. Водка напиток богатырей! А не лекарство для хилых! Это ж, какое здоровье надо иметь, чтобы водку пить стаканами!.. А не как вашу граппу пятьдесят грамм, пятьдесят грамм… словно я ребенок больной.
Зинаида, не скрывая своего возмущения сказанным, все-таки переводила. Парень посмотрел на Кирилла такими глазами, словно увидел марсианина, попятился и ушел.
— Вы ведете себя, как хотите! — продолжала возмущаться Зинаида.
— А как мы ещё должны себя вести?! — недоуменно спросил Кирилл.
— Но не забывайте, вы живете не посредствам! Наш квартал не такой уж и дорогой! Здесь такого не видели даже во времена фестиваля! Даже звезды!..
— Что звезды?! Они взлетают и падают. Вся их задача удержаться как можно дольше на своей вышине. — Философски заметила Алина.
— А мы только и успеваем загадывать желание. — Подмигнул ей отекшим глазом Кирилл.
— Это не входит ни в какие понятия!..
Тут кошка Маруся, вальяжно подошла к Зинаиде и, как ни в чем ни бывало, потерлась о её ноги.
— Нет! Это подумать только! — старушенция Зинаида затряслась всем телом, — Мало того, что лазают через заборы, а потом дом нараспашку! Нет они ещё ходят по розам, кидают на ветер целые состояния! И где?! В казино Монте-Карло! Все, все об этом уже знают! Ходят насквозь через стеклянные двери!.. И денег не берут!.. Спаивают посыльных, которые на работе! Т-так к ним еще, к ним еще… и кошка вернулась! Но она же давно умерла! — И Зинаида торжественно, совладав с собой, перекрестилась.
— Кошка не может быть приведением, — Алина с нежной скорбью смотрела на старушку, всю жизнь пропевшую в церковном хоре. — Кошка всегда и во всем настоящая, а вот люди…
— Мы больше не будем. — По-мальчишески насупился Кирилл, ему казалось, что ещё вот-вот и Зинаида окончательно сойдет с ума. Ему стало жалко прожившую всю жизнь до них в порядке и рассудке русскую эмигрантку. — Мы больше не будем озадачивать вас своим присутствием. Сейчас Серж купит билеты. Надеемся, что завтра улетим.
Они думали, что Зинаида холодно резюмирует их приезд в Канны и уйдет довольная собой, но вдруг у неё на глазах появились слезы. Несгибаемая, сухая она тут же обмякла и ссутулилась.
ГЛАВА 10
Москва зимняя, это тебе не зимняя Ницца: дел — не продохнешь!
Но день и ночь Кирилл задавался одним единственным вопросом, им же мучил Алину.
— Как ты думаешь, шишка под шрамом рассосется.
— Конечно, — устало отвечала Алина на вопрос заданный в сотый раз за день.
— Надо что-то делать. Она не рассасывается.
— Рассасывается. Прошла всего неделя, что ты хочешь?! Это медленный процесс. Я уже всех знакомых врачей расспросила.
— Спроси ещё кого-нибудь.
— Больше некого. Можно ещё походить на физиотерапию.
— Ты думаешь, поможет?
— А что ты хочешь?! Ты сам себя скальпировал из вредности. Срезал себе все по черепу, слава богу, височной вены не задел. И надо же — пробить лбом такое толстое, антиударное стекло!
— Это для французов оно антиударное, а для нас — тьфу.
— Но никто же не предполагал, что об него будут биться лбом от злости!
— Просто у них лбы не чета нашим. Когда шишка пройдет?
— Да оставь ты меня в покое со своей шишкой! Стекло могло мало того, что срезать тебе все лицо, нос, губы, оно могло пронзить тебя осколком до самого сердца, прорезать живот!.. Ты просто счастливчик!
— Звони во Францию, тому самому врачу. Надо с ним проконсультироваться. Он меня зашивал, пусть теперь и долечивает.
— Но надо найти переводчика!
— Ты же знаешь французский
— Я?..
— Но я же слышал, как ты с ним говорила. Непонятно только, почему скрывала.
— Я этого не помню, чтобы такое было. А впрочем… действительно я разговаривала с ним… Но разве он говорил со мной не по-русски?! Нет… действительно нет. Не может быть! Выходит, что я была в таком шоке, что… Но откуда? Неужели всего за две недели, слыша их речь помимо слуха?
— Но это не освобождает тебя от обязанности переговорить с врачом. Не хочешь говорить сама — найди переводчика. Объясни, что здесь одни считают, что надо спустить кровь, проколов стоки по шву, другие считают, что этого делать нельзя, потому что там проходят глазные нервы, третьи советуют мазать гепариновой мазью, четвертые прогревать УВЧ.
— Но почти все говорят, что такие гематомы рассасываются не менее чем за три недели! Не менее! Ты посмотри — нитки почти рассосались, значит, скоро и шишка рассосется! — успокаивала его Алина и удивлялась — там он и не пикнул, когда его зашивали. Да и потом мало интересовался своим шрамом, но как вернулись домой, его озабоченность шишкой начала принимать пароноидальные оттенки.
"Ты меня просто достал!" И вспомнилось ей, как раньше носился он с каждой своей ерундой, касающейся здоровья, а потом эта черта его характера вдруг исчезла, и она привыкла к его мужественному покою. Но когда?.. Когда?.. После чего он изменился?.. Припомнить не могла. И вот — все началось вновь.
Тут же в его тревоги включилась Любовь Леопольдовна, она пугала сына по телефону потерей зрения, возможным ушибом мозга, и прочими, несовместимыми с жизнью травмами. Требовала, чтобы он срочно прошел полную диспансеризацию, но уже не будила, как раньше сообщениями о своем давлении, а советовала то срочно приобрести тонометр, то электронный термометр.
Алину снова начало тихо мутить, едва до неё доходили отрывки беседы Кирилла с матерью. Личный мир матери с сыном был восстановлен, Алина чувствовала себя лишней в их многосерийной медицино-драме.
"Пора звонить во Францию! Иначе это никогда не кончится. Только тот самый врач может успокоить его", — подумывала Алина.
Кирилл позвонил сам, найдя переводчика синхрониста. Два дня подряд по несколько раз и дотошно долго он переговаривался с врачом из клиники близ Канн, и наконец-таки достал и его. Врач выслал телефаксом прямо в посольство срочное приглашение на его имя.
— Зачем нам надо снова ехать туда? — недоумевала Алина.
— Он прописал мне физиотерапию.
— Но её можно сделать здесь!
— А вдруг у него какая-нибудь своя метода. Нет уж, мы заплатили ему немалые деньги — пусть долечивает, пусть следит.
— Но милый! Ты такой чудной!
— Неужели тебе безразлично, что со мной и как! Как ты думаешь, он сможет мне рассосать эту шишку?
— Дорогой, любимый!..
— Я не хочу ходить с ней всю жизнь. Завтра же полечу, шингенская виза у меня не кончилась… Он сказал, что мне надо будет всего лишь недельку посвятить процедурам. Я хочу, чтобы все у меня было по высшему классу. Если уж я плачу такие деньги… А как ты думаешь, у меня не могла быть повреждена мозговая кость?
— Судя по тому, что ты говоришь, у тебя действительно там мозговая косточка.
— Почему ты не хочешь ехать со мною?
Она ничего не ответила и уткнулась в журнал "Птюч", хотя читать там так внимательно было нечего.
Боль, опоясывающая боль, пробежала тоненькой змейкой от груди, по ребрам и к пояснице. Вот оно началось! — обдало Анну ужасом приближающегося конца. Она вдохнула воздух, перетерпела, уставившись невидящим взглядом в журнал. И ненависть к пошлости жизни, к собственной никчемности и слабости — льдом застыла в её груди.
"Ход конем. Ход конем. Ход конем". — Процедила сквозь зубы отрывок чьего-то стиха, преодолевая боль.
И тихая злость пронзила её разум. И вдруг ей стало все понятно про свою жизнь. Она тайно боялась жизни. Сама того не понимая, не хотела жить. Но жила, как бы влачила свое существование, лишь иногда бессмысленно взрываясь, потом все равно смирялась с данным. Оттого и обрекла себя на умирание, от того и привлекла к себе эту смертельную болезнь. О нет! Она не хочет умирать. Ведь можно жить иначе… иначе! Нет! Нет в ней смирения теперь, когда смерть так близко. Когда она вот-вот… Все! Кончилось!
— Я купил билеты. Ты поедешь со мной. Ты должна меня сопровождать. Неужели тебе все равно? — сказал Кирилл так, словно ничего в жизни более не тревожило его, словно жизнь его — сама безмятежность, — Заодно снова посетишь Францию. В горы сходим. Ты же любишь гулять по горам, где всякие замки… дворцы разные…
— Ненавижу, — резко отрезала Алина, сквозь боль, бледнея на его глазах, но ни звуком, ни жестом не выдав, что началось.
И вдруг, в один момент, желание бежать, все равно куда, лишь бы бежать захлестнуло весь её разум. И она пошла в ванную. Под струи воды, под тепло заглушить потоками воды боль и жалость к самой себе, нерастраченную, отчаявшуюся нежность. И повторяла без конца строку Цветаевой: "Кому повем?.."
"Никому" — сухо ответила она себе и, выйдя из ванной, взяла трубку радиотелефона, набрала номер Фомы.
— Фома?!
Он словно сразу понял — зачем она ему звонит, потому что без всяких общих фраз тут же перешел к делу:
— Ну что? Едем еще? У нас разрешение ещё два месяца действительно. Надо же только им позвонить в ГУЛАГ, сказать куда едем, чтобы встретили… Едем?
— Завтра.
— Но, мадам, завтра… если вечером… Я уже опубликовал фоторепортаж с твоими комментариями. Давай послезавтра. А завтра гонорары получим, плюс командировочные сразу от трех… можно пяти газет и журналов.
— А разве это порядочно?
— Мы будем давать разные тексты и фотки. Пойдет. Завтра и купим билеты. Куда поедем?
— Куда-нибудь на Север. Хочу снежной настоящей зимы.
— Все-то вам, мадам. Так просто.
— Сначала мне все говорили, что ты любишь меня, как избалованный ребенок игрушку, как скучающий барчук массовика затейника, — неожиданно резко напала Алина на Кирилла упаковывающего их чемоданы, — Потом я поняла, что ты любишь меня, как няньку, которая просто обязана таскаться с тобой как с писаной торбой.
— Разве я не дарил тебе тысячу цветов?..
— Это блажь! Но ежедневно!.. Ты… ты волнуешься только о себе! До паранойи не понимая, насколько это выглядит мало того, что смешно жестоко! Ты не любишь меня просто так! Ты даже не эгоцентрист, ты… ты… чудовищный эгоист!
— Но почему я тебя не люблю?! — устало спросил он, плюхнувшись в кресло.
— … потому что… не чувствуешь… — прошептала она невпопад.
— Но мне некогда! Я же деньги зарабатываю! А тут ещё эта шишка!..
Жизнь моя потерпела фиаско… — прошептала она, глядя сквозь свое окно, на бесконечные окна жизней. Взгляд её скользнул по крышам, и она увидела равнодушное изжелто-серое небо. Так, решившийся утопиться, коснулся ногою мертвой воды и, пережив свою смерть в душе своей, пошел дальше. Так она, отлетев на мгновение в небо, спокойно оглянулась вокруг, обозначив взглядом дома, предметы, людей, и забыла кто она такая, откуда, зачем и почему.
ОСТАЛОСЬ ДВЕСТИ ДНЕЙ.
— Ты не любишь меня!.. — отчаянно шептала она в ночи.
ГЛАВА 11
Я люблю тебя, я люблю тебя, — шептала она в кромешной тьме, лаская пальцами его лицо, с глубокими мягкими складками вокруг рта, — Я люблю тебя, Люблю!.. — Голос её сорвался, и она уткнулась носом в лунку между его плечом и шеей, — Я люблю!..
— Ну, хватит повторять, — потряс Фома её крепкой рукой за плечо.
И сухо стало в его трубном горле, как будто выпита до дна была вся влага его жизни, и раздвигалась черная пустынная ночь, огромными барханами, и падал он в её расщелину, и погребала ночь его своим песком забвения. И только голос её, голос бурил в песке упрямым буруном:
— Почему хватит?
— Это… имеет смысл говорить один раз в жизни. — Отвечал он, боясь скуки конечного пункта взаимоотношений, когда слово "Люблю" словно ставит на всем точку, потому что все открыто, но никуда не хочется идти. И бедная бледность будней мертвенно освещает лицо женщины, делая его плоским, лишенным загадки в движении ли, взгляде… скука!.. Больше всего на свете он не любил достижение предела. И в то же время постоянно стремился к нему. "Вот-вот уж кажется конец…" Но о чем она?.. Нет. Она о простом… О людском… И, помолчав, продолжил:
— Слишком часто это произносят всуе.
— А когда надо произносить?
— Когда, когда… ну когда я буду умирать. Чтобы как спасение. Понимаешь?
— Я умираю. Ты любишь меня? — отчаянно вскрикнула она.
— Какая женщина!.. А какую чушь несет!.. Какая женщина!
— Какая?
— Да я и мечтать не мог! Что ты вот так, окажешься в постели… и с кем, со мной!..
— Окажешься… — она оглянулась, но что оглядываться в кромешной тьме. Как, почему она оказалась с ним, в этой маленькой гостинице, какого-то захолустного северного Энска?..
Руки его казались музыкой. Губы!.. А… все ничто!…когда смерть так близка. Почему бы ни ухнуть на дно пропасти?.. Темно… Но лишь любовь способна успокоить, укачать, дать веру в то, что мы бессмертны. Но где она?.. В чем?..
Их командировка-путешествие, похожа была на побег от жизни в никуда. Алина потеряла чувство времени. После Лазурного берега она не могла понять — что есть сон, а что реальность. Тот ли Канн, Ницца не способные ужиться с ней и с Кириллом — это сон?… или колючая проволока, вышки — не менее известного ГУЛАГа?.. Несовместимые реальности… Несовместные… Как они могут ужиться в одном человеке?..
И не уживались. Алина чувствовала, что просто смотрит сны… а не живет уж…
Ничто не больно, не страшно до конца. Бессмысленно — как жизнь, бессовестно — как сон… А что она?.. Она лишь взгляд… потусторонний голос. И её не мучили, не волновали: ни тоска Кириллу, по дому, ни желание вернуться, ни отсутствие комфорта в этих далеких провинциях, по которым теперь шлялась она, изгнав саму себя из привычной жизни. Все, даже то, что было ещё лишь вчера — казалось далеким сном.
А за окошком грохотали поезда. Поселок сумрачно кряхтел перед всеобщей побудкой. И капала из крана ржавая вода, и было слышно, как китайской пыткой капли долбили сон гостиницы дощато-скрипучей, пропахшей потом, хлоркой, табаком "Беломорканала"…
И все казалось сном… Ничто не стоит ничего… Но жизнь!.. Она-то хоть чего-то стоит?!
— Здесь редко отправляют на расстрел. Раз в пол года. Но теперь смертную казнь отменили. Это будет последняя. — С трудом доходили до неё слова и отзывались гулким эхом:
"За что?.. Зачем так сложилась судьба, что мой путь и последний путь приговоренного к смерти пересеклись?.. Но ему приговор вынес суд, мне природа. И он о том не знает, что я, как и он стоит на шаг от той самой страшной черты… Никто не знает… Молчи! Молчи об этом всем своим пространством, спокойно мимикрируя под всех.
— Вы хотите спросить его?.. — снова доносится голос до слуха. Скрипучий, прокуренный мужской голос.
— О чем?..
— Пусть, пусть скажет вам последнее слово.
Она взглянула, на сопровождающего их офицера, но не заметила циничной усмешки соответствующей его тону, лишь мелькнул оттенок брезгливой жалостливости на статичном, словно маска, лице. Ничего он не чувствовал, произнося эти слова. Просто работая в данный момент, как экскурсовод, показывал очередной материал, для журналисткой работы — некий гвоздь программы, потому что ему приказали.
Впрочем, загорелая кожа лица Алины не выдавала истинного побледнения. Лицо её вообще ничего не отражало. Казалось, сонная кукла медленно произносит слова:
— Вас сейчас… — и язык не повернулся сказать — "расстреляют". Алина отступила, но Фома стоявший за спиной сделал шаг вперед, толкнув её, и некуда ей стало отступать.
— Последнее слово? — сиплый голос приговоренного… тусклый взгляд из подлобья… и усмешка… Покровительственная усмешка.
— Но… вы стольких убили, не жалея чужую жизнь… вам жалко… Жалко хотя бы себя?! — Спросила она тихо, но голос её сорвался.
— Нет.
— Но есть хоть что-то, что… что жалко вам в этой жизни?! Что?!
— Ничто никого не сдерживает, — ответил он ей, словно вовсе не слышал её вопроса, а сказал то, о чем давно и долго думал.
— Но как же тогда?..
— Только любовью… Только любовью и жив человек. Все остальное ничто.
Алина взглянула в его глаза, и кончились все слова.
— У тебя есть… была любимая? — вышел вперед из-за плеча Алины Фома, возбужденный возможностью уловить хоть какую-то зацепку для создания в последствии некой сентиментальной фотодрамы влюбленного убийцы. Въедливым прищуром он разглядывал его лицо.
В ответ расстрельный, блеклый и бледный, человек без возраста, человек за минуту до смерти, вгляделся в него и слабо улыбнулся, как на несмышленыша:
— Нет у меня никого. Ты не понял — просто любовью. ЛЮ-БОВЬЮ жив человек.
И ушел под конвоем за черную дверь.
Фома отстранил того, кто должен был пустить в него пулю и приставил к глазку двери фотообъектив. Щелчок… еще, еще…
Лишь проявив пленку, разглядывая слайды, Фома заметил, как медленно из кадра в кадр оползает человек. Словно щелчок аппарата пронзил его пулей. "Быть может, он умер, не дождавшись расстрела, от разрыва сердца?" предположил Фома. Но ничего не сказал Алине про изменения в кадрах.
Последние слова осужденного взволновали его до усиленного сердцебиения. Разобравшись со слайдами, он выпил втихоря в пристанционной столовке.
— Вот это да… вот это человек!.. Каков момент!.. — вздыхал, увлеченный своими впечатлениями, уже пьяный Фома, ведомый под руку Алиной.
Алина смотрела в маленький квадратик коридорного окна сельской гостиницы, больше похожей не на гостиницу, а на простой бревенчатый барак, того же самого ГУЛАГа.
Поземка в тусклом свете фонарей, змеясь, кружила по расчищенной дорожке. А в небе звезды так пронзительно мерцали… И вся вселенная будто усмехалась равнодушно ничтожности любой из жизней. И Алина усмехнулась. И мельком, косо взглянула на еле бредущего Фому.
— Да ты поверхностная женщина, мадам! Ты слышала, как он говорил!
— Но что он такого сказал?.. "Только любовью…" — произнесла, и ей больше не смогла смотреть на него. Хриплого баса было достаточно. Словно он откуда-то оттуда, но не с ней. И стараясь не поворачиваться, машинально продолжала: — Да это каждая женщина знает уже изначально, и непонятно, почему для мужчин это звучит, как открытие. Вот если я скажу такое, а ты не услышишь!
— Ты… твои слова не имеют нужного веса, за тобой не стоит его опыт.
Алина почувствовала, как передернуло все её тело брезгливостью при только мысли о том, что была вообще возможна её близость с Фомой. И отшатнулась от него, чувствуя, что перечеркнула свои чувства к нему навсегда.
ОСТАЛОСЬ СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДНЕЙ.
ГЛАВА 12
"И куда я несусь?.. Словно вправду несусь в некуда… И зачем мне все это?.. Не зачем. Не за что. Просто так. Просто так… просто так… вся человеческая жизнь, наверное, просто так… А я-то думала… А мне хотелось…"
Автобус старательно полз по глубокой снежной колее сибирского тракта. Она сидела у окна, кутаясь в свою старенькую, итальянскую длиннополую, малиновую дубленку, с кремовой опушкой из ламы за которую, казалось ей, не убьют в провинции. Дыхание мороза. Спертый запах тел, преющих под ватниками и дохами. А за окном — тайга. Невообразимые пространства Севера, где небо настолько нераздельно с серым горизонтом, что кажется, — нет границ между землей и небом, и не ясно: по небу ли едешь, по снегу… Молчание стволов сосновых…
Она ехала одна — Фома опять отказался ехать в женскую зону. Ехала не думая, что её ждет, куда. Ехала и мучилась сама собою: — "Что я делаю? Зачем я все так. Зачем во мне все вдруг заныло о любви?! Невыразимой… безысходной… Беспредметной… Разве я не была любима? Но почему любовь в реальности так же мучительна, как стремление к ней?.."
Боль сковала её грудь неожиданно. И потекла по ребрам вниз к спине… "Опять! Но почему так часто!.. Ведь уже отболело все позапрошлой ночью… он даже не догадался тогда, не догадался… не почувствовал… Он думал, что она мечется, как тигрица, от вожделения, от восторга страсти, от оргазма. А впрочем, все смешалось в ней тогда. Но это было тогда…" Сейчас же она почувствовала, что свалится с сиденья под ноги пассажирам и начнет просто выть, и кататься от боли. Господи, и зачем она не взяла лекарства! Что за тупое упрямство!.. Что за страсть — смотреть смерти в упор… Глаза в глаза… Хоть бы чуть-чуть оттянуть, пригасить эту боль! Сколько ещё ехать?.. Час?.. Нет, говорили — два. А за окном тянулось смертельное безмолвие, на темных лапах елей тяжелый снег… снег…
Она встала и на негнущихся ногах подошла к кабине водителя:
— Остановите, пожалуйста, автобус, — немеющими губами выдавила из себя.
— Пехом, что ль ворочаться будешь? — буркнул водитель, искоса посмотрев на пассажирку, явно не местного происхождения: — Почитай километров двадцать проехали.
— Остановите, мне надо, — повторила она.
— Да куды ж тебе надо-то милая, тута те не бульвары — округ тайга, вмешалась мелкая бабулька, плотно укутанная в серые пуховые платки, — Волки съедять.
И все пассажиры автобуса, как очнулись, заговорили разом. Кто вспоминал, как волки напали на пьяного лесника в прошлом году, кто говорил о том, что в деревнях они всех собак пожрали, "мелочь одна осталася" — та, что под поленницу втиснуться смогла.
— Да где ж это видно, чтобы такая дамочка, да в таких сапожках, по тайге-то хаживала? — гудел над нею дюжий мужик.
— А може ей в лагерь надо, сидит чай кто?
— Та до лесоповала ещё трястись да трястись.
— А може ей не на тот? Куды тебе? У нас округ лагеря.
— А може ей в деревню? В Лунино? Та тута близко.
— Та кака тама деревня?! Три бабки чай, да тропу замело.
— В Лунино мне, в Лунино, — кивала Алина на грани обморока, сама не зная, что говорит, и зачем. Единственный страх — свалиться завыть от боли при этих, ничего не понимающих людях, сковал её мозги. Она знала, что автобус ходит по этой трассе два раза в сутки. Утром туда, куда — уже не помнила, а вечером обратно. Вот и все знания, а дальше — белой пеленой застило все — хотелось в снег. И забыться. И тонуть в снегу, тонуть…
— Ужо как в Лунино?.. До Лунино ещё минут пять…
— А потома по просеке верст семь от трассы.
— А ты к кому?
— Чья будешь-то? Уж не бабки ли Натоливны внучка из Винограда?..
— Сама ты из Винограда. Из Ленинграда…
— Оста-но-ви-те! — цедила сквозь боль водителю Алина, — Мне надо сойти.
— До росстаней на Лунино ещё пару верст. — Не спешил послушаться её водитель.
Мама! Мамочка! — рухнула на колени Алина, словно молясь вслед отъезжающему автобусу. И дикое одиночество пронзило её.
Мама давно умерла от рака.
Господи, как она мучилась перед смертью!.. Как она, её дочь, не понимала этого. То есть внешне понимала, но разве она могла всей своей сущностью проникнуть в её боль, боль собственной матери?..
А теперь, одна во всей вселенной, убегая от боли, от смерти, как от погони, застигнута ею врасплох, прижата ниц, неизвестно где, в чужом жестоко-морозном краю, в такой земли точке, что не смогла бы сразу отыскать на карте. Куда ж это, господи, она саму себя загнала?.. И покатилась в снег.
Снег забился за полы дубленки, проник под задравшийся свитер. И обожгло её тело ледяными иглами заполярного февраля. И замерла, забылась в полубреду.
Когда глаза её вновь открылись, она увидела серое сумрачное небо. И ощутила бездонную тишину. Оглянулась в бесконечном, безлюдном пространстве. Машинально взглянула на часы — полдень. "Почему же сумерки? — снова уставилась на небо. — Ах да… здесь полярная ночь… И пусть. Пусть никогда не будет солнца в моей жизни. Под солнцем слишком больно умирать, под солнцем жаль себя и жизнь…"
И снова забылась. Боль как будто отступила. Но тут же дрожь сковала её тело. Дрожь сотрясала всю её, пронзая каждый нервик, как будто неподвластным организму током. "Сейчас я окоченею и засну навсегда". Спокойно подумалось ей, уставшей от истязания болью. И этот сон казался ей спасением. "А потом появится волчья стая. Огромный волк склониться надо мною… обнюхает, серьезно осмысляя предстоящий пир. Остальные будут тянуться мордами за ним и принюхиваться с жадным любопытством, боясь опередить случайно вожака. А потом он ощерит пасть, и… Волки съедят, раздерут в клочки не меня, а мое тело, это больное, болезненное мясо. И никто никогда не увидит меня мертвой. И не будет этих пошлых похорон с трубным оркестром, с этими алыми, словно вспоротые внутренности, гвоздиками. И никто не будет произносить идиотские речи о том, какая я была хорошая, милая, добрая… А Кирилл будет верить, что я просто пропала без вести, и когда-нибудь вернусь. У него же душа ребенка… Так лучше… лучше… Все одно… Но где же эти волки, которыми кишит тайга?!
Она попыталась заснуть, заснуть так, чтобы больше не просыпаться. Но мороз терзал измученное болью тело. И не было волков. И только тишина обступала со всех сторон. Тишина полного безветрия. Ледяное молчание смерти.
И казалось, безветренная атмосфера проникла бессловесностью в её душу. Машинально встала, вышла на таежную трассу и пошла по направлению к тому городу, где была гостиница, где была постелена плоская, но чистая, пока что её постель.
Она не думала, сколько она прошла, сколько ещё идти… Она просто шла и шла.
Шла. Месила серый снег колеи. Ей даже стало жарко, и легкая дубленка тяжелела с каждым шагом. Час, два, три… И мыслей не было. Усталость поглощала их. И пьянела душа от легкости после оков боли, от морозного воздуха.
Вдруг небольшой обветренный холм с огромными, обесснежившими от ветра, серыми валунами между редкими соснами привлек её внимание. Что-то скользнуло в памяти о древних викингах, ритуалах язычников, о кельтах и друидах. Она свернула с трассы и, утопая в снегу по пояс, поползла на холм.
Вдалеке, занималось органной музыкой небо. Северное сияние. Она поняла это сразу, хотя никогда не видела, даже не представляла — каким оно должно быть. И душа завибрировала, словно тонкий стальной лист в унисон, и дух невидимым огненным столпом загудел в ней. Самой себя больше, стопами упираясь в земную магму, макушкой растворялась в небесной вышине, почудилась она себе.
И пело все мощную гигантскую песню огня и мрака. И медленно стянулась все в единую точку… Она сконцентрировалась в теле, в маленьком, стойком женском теле, и взошла на холм по обветренному твердому насту, и коснулась каждого камня ладонью, и упала на колени в ледяной тишине.
И странен был человек с его болью, мыслями, перипетиями судьбы в тотальной мудрости снегов.
И мелок был человек… и не склонялось небо над ним, но давало возможность возвыситься. Подняться над собой. Слиться с ним.
Вознестись над безмерным пространством земли и времен.
ГЛАВА 13
Карагоз вторые сутки пытался нащупать выход из тайги на трассу. Он забрался на холм и огляделся. За спиной непутевый Петро утопал в снегу.
Сколько ж можно месить эту снежную муку? За двое суток, дай бог, чтоб продвинулись километров на двадцать. А ещё эти плутания по наитию, когда бредешь, ни на что не надеясь, лишь держа направление к трассе, на север. Да, глупо было бежать зимой, глупо бежать вообще, все одно… поймают. Стоит только выйти к людям. Эти мелкие поселки, сквозь которые не проскользнет ни один чужак, зияли капканами в его сознании. Но если выйти ночью… и зачем не выдержал… зачем долбанул этого парня прикладом его же автомата?.. Чего он сказал такого, чего он сказал?.. Неужели, не понимал, что не будет он работать. Что потому, как закон такой, нельзя ему падать до мужика. Ан нет, погнали на вырубки, мол, инспекция с журналистами из Москвы может нагрянуть… Видел он в гробу эту инспекцию!..
Нет. Эти сутки Карагоз уже не ругал себя. Если бы не долгий тяжелый труд ступать по снегу, если бы он знал, что имеет право расслабиться, он бы впал в умопомрачительную истерику. Именно истерику, "клянусь мамой, сколько же можно бороться за эту жизнь!.." Но железная необходимость не позволяла иного поведения.
Все его мысли были направлены теперь на то, чтобы выйти… выйти и уйти, ускользнуть от погони, погони которой в принципе нету, потому как не пойдут они за ними по следу по тайге. Не было ещё такого. Они просто предупредили уже всех жителей по местному радио о побеге и теперь гоняют чаи, поджидаючи их тепленькими из тайги. Знают, что никуда не денутся.
Хорошо бы было выйти на зимовье. Перекантоваться там до весны, запасов охотничьих бы хватило. Да так и не вышли. Может, оно и хорошо, что этот увязался — дурак. Знает же — сколько дают за побег. На что надеялся? Все одно — поймают. Ладно, он, Карагоз, пошел по ситуации — не мог иначе, долбанул со спины, забрал автомат… но Петро… просто сиганул за ним. А зачем? Временами Карагоз чувствовал, что видеть не может этого шныряя. И все же одумывался — может быть, оно и к лучшему, что не один. С Петро легче, пока в тайге. Он следил у костра, чтобы не дымил особо, когда он, Карагоз спал. Все же это он, а не Карагоз подстрелил зайца короткой очередью. Но потом… все одно — в паре по поселкам не проскользнуть… впрочем… всем сейчас все по фигу… а жрать чего?.. Охотой?.. Нет. Автомат придется бросить. Сколько до Архангельска?..
— Обстановка благоприятствует. — Догнал его Петро, глядя с холма на трассу. — Може, лесовоз возьмем?
— Хватит с нас, — буркнул Карагоз. — Выселки недалеко. Нутром чувствую.
— Силов нету, — вздохнул Петро.
— Нечего было вязаться. К завтрему будем. — И посмотрел сумеречное небо. На горизонте — чуть светлое, словно прозрачно-белое маячило, вынырнув не надолго, солнце.
— Пока ещё ночи полярные держатся, — обстановка благоприятствует. На волков бы не нарваться, слышь, как воют.
— К полночи в поселок войдем, ежели по трассе… Передохнуть бы пока.
Они огляделись и застыли удивленно уставясь в одну точку — в метрах двадцати от них на пригорке, среди валунов под огромной сосной, сидел гном.
Будь это волки, вертухаи, облава… ничто не удивило бы их усталое сознание. Но в тайге!.. За сотни километров от цивилизации!.. В конце двадцатого века!.. Когда они — в запрелых черных ватниках, в кирзе… когда не до шуток!.. Когда, черт побери, не дети!.. И наркотой не обдолбались!.. И вдруг — настоящий гном?.. Гном в малиновой шубке с оторочкой…
Петро потряс головой и зажмурился. Открыл глаза:
— Не-е — это не глюки.
Оглянулся на Карагоза. Карагоз стоял, как вкопанный, и смотрел, не мигая обветренными морщинистыми веками. Гном — маленький, словно пенек с накинутым на глаза капюшоном медленно раскачивался, молясь валуну.
Петро не знал, как прокомментировать это событие. Он сделал шаг назад и, оступившись, так и застыл в позе приклонившись на одно колено. И вонь собственного прогоркшего пота, тошнотворно шибанула ему в нос, но это была реальность, настоящая плотская реальность… А впереди… Петро покосился на подельника.
Карагоз хмыкнул и медленно, скрывая невротическую дрожь, стянул автомат с плеча:
— Эй! Ты кто?! Руки вверх! Клянусь мамой, мамою клянусь! — и выдал тираду мата с предупреждением о том, что если дернется — застрелит.
Вдруг гном вырос. Казалось — Санта-Клаус поднялся с колен. Но это там у них… на далеком, инфантильном Западе! В России не бывает Санта-Клаусов!.. В России может быть все что угодно, но только не это… Нет! Это бред! Ведь здесь не детский утренник — тайга! И сотни километров вокруг покрыты мраком, одиночеством, суровой правдой! И день, обглоданный куриной слепотой… и черно-белая наводка зрения на резкость… Все бесконечно в плоскости, но сиро-скудно по состоянию сердец, так рвущихся отсюда. Петро пригляделся, по-идиотски тряхнув головой, поскольку невозможно, вот так — в злой серьезности!..
— Баба! — выдавил он из себя, и больше не нашлось ни слов, ни объяснений.
Она посмотрела на них и, отступив несколько шагов назад, к сосне, скинула дубленку, и дубленка, мягко струясь, опустилась к ногам. Оставшись во всем облегающем, черном заложила руки за голову. И ничего не отразилось на её красивом и печальном лице, ни страха, ни удивления, ни мольбы о пощаде…
— Вот это да! — Сердце Карагоза учащенно забилось. Он вдохнул морозный воздух полными легкими, взял себя в руки, сплюнул в сторону, и прицелился.
Она не шелохнулась. Словно и не живая, словно не настоящая вовсе.
Ужас и восхищение невероятным отяжелили приливом крови голову. Карагоз, забыв о том, как далеко разносится звук в тайге, открыл очередь. По стволу вековечной сосны было видно, как точно он обрисовывает её силуэт.
Петро вырвался из собственного оцепенения при первых звуках выстрелов и рванулся вперед, чтобы повиснуть на локте Карагоза, не отрывая глаз от этого… в черном… Детские сказки, фильмы, сумбурные разговоры на нарах о пришельцах — все смешалось в его голове… и он застыл на пол полете.
Карагоз не выдержал, вдруг пальцы на спуске свело, колени дрогнули. Отбросил автомат в сторону. Стряхнул Петро, постфактум повисшего на руке, и рванул по плотному насту к ней. Наст лопнул через пару шагов и он, провалившись по колено, застыл, — Беги! — прохрипел он, глядя в её бледное, но настоящее, живое лицо, — Клянусь мамой, беги!
Она смотрела на него, не моргая.
Беги! — заорал он, словно испугался самого себя, голос его сорвался и он прохрипел из последних сил — Клянусь мамой! давай! Давай! Драпай!
Но она стояла, как и прежде — не шелохнувшись.
И чувствовала себя гигантом, ступнями плотно опирающегося о твердь земную, головой — высоко утопающего в небе. И казалось, что видит, как бог все — абсолютно все, всю землю, от её снегов, до её Конских пальм, и в то же время каждую иголочку на лапах елей, каждую снежинку искрящую на хрупком насте… каждую песчинку на Лазурном берегу. Абсолютно все. И великое понимание успокоило и душу, и боль, и страх её — беспредельным молчанием изнутри.
Выбравшись из снежной ямы, обратно на плотный наст, не оборачиваясь, Карагоз пошел-побежал к трассе. Петро, оглядываясь, полный и ужаса, и блаженного непонимания, поспешил за ним.
Какой-то бред… Бред невозможных сочленений несочленимого, как ловко он проникает, заполняет, затмевает… И словно глядя на себя с высокой высоты, шла, в любой момент готовая к смерти, женщина, пробиралась промеж хвойной щетины ледяной заснеженной пустыни, а сердце ныло эхом эоловой арфы небесного сияния, и пульсировали виски неровной автоматной очередью. И черный пот лиц, мат, хрип… скрип плотных шагов… колея… Далекий волчий вой…
ОСТАЛОСЬ СТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ДНЕЙ.
Вот и автобус пыхтящий, ползущий назад, возвращающийся, словно из неоткуда, заставляющий сосредоточиться, сконцентрироваться на реальности времени, места и их атрибутов.
ГЛАВА 14
Она вернулась ночью, постучалась в номер Фоме и, застыв на пороге, с трудом разжимая заледеневшие с мороза губы, как-то медленно произнесла: — У меня, кажется, едет крыша…
Фома окинул её насмешливым взглядом. Встал с постели, широким жестом предложил ей войти. Она медленно, словно не решаясь, переступила порог. Он снял с неё дубленку, встряхнул в коридоре от льдинок и повесил, перекинув через спинку стула.
— А знаешь, откуда это пошло? С Сахалина. Там после землетрясения с домов крыши съезжают. Идешь по поселку, а они все на бок, сикось-накось, наперекосяк. И чувство такое, что дома сума сошли. Маленькие домики… И поселок, если смотреть с сопки, как игрушечный, только неправильный такой, домики, словно ребенок кубики раскидал. Вот так-то. Ничего-то вы не знаете, мадам.
Она молча, не отрывая от него взгляда, села на стул.
"Она слушает меня во все глаза" — улыбнулся про себя Фома и, не желая прерывать этот добрый гипноз, продолжил стихами:
— "…Я помню, как с дальнего моря Матроса примчал грузовик, Как в бане повесился с горя Какой-то пропащий мужик. Как звонко, терзая гармошку, Гуляли под топот и свист, Какую чудесную брошку На кепке носил гармонист…" — вот такой идиотический рай прямо как по Рубцову.Алина вдруг молча встала и пошла в его туалетную комнатку: В облупленных стенах бледно-бежевого пространства, вмещающего в себя унитаз и умывальник с капающей ржавой водой из крана, зиял квадрат. Мистический квадрат подернутого желтоватой дымкой старого зеркала. В этом зеркале видишь себя так, словно сам себе снишься. Она вгляделась в себя и отшатнулась. Некая странная, совиная сущность смотрела на нее, а сквозь это прозрачное отражение виднелся маленький городок с медового цвета морем. Алина тряхнула головой и застыла, вглядываясь как в чужое, но вроде бы собственное лицо. "Вот так я буду выглядеть после смерти, если явлюсь на землю приведением".
А Фома тем временем продолжал, закуривая сигарету, чуть-чуть повысив голос, чтобы слышала:
— Я родился в таком раю. С детства помню, смотрел на все глазами полными неосмысленного ужаса и не понимал, — что делать-то?.. Все делал правильно. Маме помогал, книжки умные читал, отличником был.
— Ты был отличником? — перебил её ровный голос из туалета.
Значит, она его слушала и не теряла нить его повествования.
— А как же. Я школу с золотой медалью окончил и совсем обалдел. Начитался Джека Лондона и после Морфлота рванул в тайгу. Думал вот где романтика! В Сибири не хуже чем на Юконе. Да ещё экспедиция. Помнишь, Алла Герман пела: "Наш путь и далек и долог, и нету дороги назад. Держись геолог, держись геолог! Ты ветру и солнцу брат". Никакой романтики не увидел — все пьют и я пил. Так спьяну всю тайгу насквозь и пролетел. С аэрогеологоразведкой. Мы там так пили, что меня в Москву с оборудованием, случайно смешав, завезли и сбросили. Для бешеной собаки семь верст не крюк. Из-под Красноярска в Москву, через Владивосток.
— Но почему ты пил, если был примерным? — спросила она натянуто громко, хотя и еле шевеля губами. Приподняла челку. Корни волос показались ей светлее. Даже не светлее — какого-то металлического оттенка. "Седина" констатировала про себя, и почувствовала глубокую старческую усталость. Захотелось лечь и спать, спать и плакать. И ни о чем не знать. Никого не слышать. А Фома продолжал Громко. Так что она могла слышать и там.
И она своим вторым, параллельным сознанием, продолжала внимать его рассказу. Хотя, теперь, после того, как он не понял, что твориться внутри у нее, после того, как она поняла, что больше никогда между ними не промелькнет — и ни намека на теплое, интимное нечто, что порой называют любовью, другое её сознание оставалось глухим к его рассказу. Но два сознания вместе относились к нему как к снотворному, способному угомонить разрывающуюся от отчаяния душу.
…От того-то и пил, что за всех было стыдно. Мама меня так жить не учила, как жили все вокруг. Хотел жить по маме, а вышло по Игорю Холину:
… Надежду Возлагала на сына: Все же мужчина. Вырастет, Начнет помогать. Вырос, Стал выпивать…Да… это седина. — Отпрянула она от зеркала.
— Ты слышишь?
Слов не было в ответ. Удивительное безмолвие охватило её душу. Она не ни рассказывать, ни объяснять… Не могла даже про себя перечислить все то, что произошло с ней несколько часов назад, тем более — осмыслить. Этот кусок времени нерастопляемой льдиной застыл в ней.
Она вышла из туалета и снова села перед Фомой на край пустой койки.
Он, продолжая рассказывать, указал ей ладонью на кипятильник, заварку чая, банку растворимого кофе и стакан, как бы предлагая самой распорядиться всем этим и попить чайку с дороги.
"Потрясающе, — подумала она. — Он целый день ворочался на постели с похмелья, и ему даже в голову не пришло угостить меня хотя бы чаем с дороги", — подумала так, словно смотрела на эту ситуацию двух людей мужчины и женщины откуда-то сверху, издалека. Так, словно жизнь её кончилась давным-давно, но тело ещё не растворилось во времени и пространстве прозрачной дымкой. Подумала и уставилась на него, казалось она внимательно слушает его.
А Фома умиленный её прозрачно-усталым лицом, её распахнутыми глазами, в которых застыло выражение человека увидевшего необычайное нечто, как откровение, продолжал:
— И жил потом смотрителем угрюмых дебрей ржавых труб, завинчивал винты, подкручивал тугие гайки… И пил по вечерам. И рассуждал о Канте, Гегеле, пришельцах… высших смыслах с местными алкашами. И гудели трубы отопления, требуя трезвого взгляда на эту жизнь в данном разрезе…
А потом поступил на журфак и оглянулся. Вокруг: благополучные детишки утопали в собственной никчемности и скуке. Ты такая же была. Я же знаю. То есть в сущности никакая. Потому что все просто прибывали там, куда их засадили родители ли, общественное мнение, что это отличный факультет, обстоятельства… И никто за себя драться не умел. А я умел. Умел. И чувствовал, что нечего терять. И все как будто бы заранее обречено. А я-то думал!.. А… — он отчаянно махнул рукой, словно старая обида вновь резанула его. — Не вписывался я. Не принимали меня в свою компанию. Не так одет-с был, видите ли. Ах, так!.. — думаю, — ну я вам покажу — вы все вокруг меня закрутитесь!
Вот и стал классиком своего поколения — на винте никогда не сидел, обходился традиционными способами… Мне же сорок семь… А я все со шпаной… И никто не обвинит меня в консерватизме — я всегда авангард.
— Я пойду. Очень спать хочется. — Улыбнувшись сомкнутыми губами, словно извиняясь, тихо сказала она.
— Да что вы все такие малохольные? А я Вам, мадам, о стоящем!.. сорвалось с его губ.
— О стоящем? Кто знает на самом деле, что чего стоит… Чего кому надо?
— Сумасшествия тебе не хватает для полного шарма!" — сказал, кривясь усмешкой.
— Это как-то пошло… вульгарно.
— Немного вульгарности вам не помешает. Вот у Тарантино, бабы только так шпарят… Давай разовьем? Хочешь, я из тебя сделаю настоящую богемную бабу?! Сначала надо сменить гардеробчик. Юбку длинную, черную, с дыркой в самом неожиданном месте… Или, наоборот шорты зимой, грубые носки под ботинки… марихуану… И чего ты такая вялая? Совсем не реагируешь. Впрочем, тебе идет… Главное, чтобы никто не догадался — о чем ты думаешь, и чего хочешь.
— Прости, но я хочу спать.
— А я-то не пойму, несу тебе автобиографию, думаю — как она слушает!.. А ты… вы, мадам, ушли из себя — и не вернулись обратно. — Он схватил её за локоток и потянул к постели. Ему не хотелось, чтобы она уходила к себе. Но Алина резко вырвалась. Встала перед ним, лицом к лицу, и твердо глядя в глаза, нарочито четко сказала:
— И что же дальше?
— А ничего. — Отмахнулся он, откровенно показывая, что ему скучно, Забыться, напиться, проснуться под забором, очнуться и начать жизнь с нуля.
— Я пила с тобою, ну и что? — она пожала плечами.
— А… — поморщился он, — Не так. Все у вас как-то, мадам, в рамках вашего воспитания. И никуда за рамки, даже пьяная.
— А у Вас в рамках вашего воспитания.
— Воспитания… — хмыкнул он презрительно. — Я себя воспитал свободным. Знаешь ли ты, что такое свобода?!
— "Свобода бить посуду" — пробурчала она строку Окуджавы себе под нос.
— Вот именно! А ты даже не одной бутылки не разбила.
— А зачем? — давно забытое чувство гнева и презрения нарастало в ней.
— А затем! Чтобы было: "вот так!". Круче!
— И почему это не может быть свободы мыть посуду?.. — прошептала она, справившись чувством нарастающей ненависти, снова, почувствовав себя тенью. — Что дает твоя свобода?..
Он расслышал лишь слово "дает" и откликнулся на него.
— А бросьте Вы, мадам! Свободу дает лишь свобода! Свобода во всем! А ты — вся как в тисках! Цивилизованная уж больно. А вот почувствуешь себя крутой, такую силу получишь!
— Силу получаю от неба. — Выкрикнула она и чуть не поперхнулась. И онемело снова все у неё внутри, и память песни неба в северном сиянии, и пуль брызжущих из автомата… отчаяние… опустошение… механичность действий…
И подумалось ей: "Я уйду, а они-то все останутся".
— Не вписываешься ты… — словно наконец-таки догадавшись о её желании побыть одной, и взяв её безвольно опущенную руку, поцеловал её домашнюю ладошку, отпуская.
ГЛАВА 15
И что за кайф инкогнито перебираться из города в город с этой странной женщиной?.. Вроде бы журналисткой, но начисто лишенной журналисткой бойкости и бравых манер бывалой бабы, к которым он привык. Вроде бы с замужней женщиной, и в тоже время совершенно одинокой. Вроде бы с той, которая знает, что такое роскошная жизнь, но не брюзжит, не визжит, не скандалит. Скука! И не каких тебе рекламных акций.
Словно действительно приехала сюда работать. Это она-то работать?! Можно подумать, что ей деньги нужны. Может, она уже давно того… А он и не понял. — Думал Фома, и чувствуя, что качается на качелях между неприязнью к ней, как к элементу чуждому, оттого и вредному беспонтовой влюбленностью. Но — в компании жить веселее. Пора отрываться!
Отрываться. Растворяться в знакомой обстановке, в бессмысленной динамичной тусовке приятелей. Принять свой прежний, удобный ему вид, чувствовать себя собой — настоящим. Но командировку не прервешь. А одинокость мучает. Шума не хватает. Компании. Но как своих найдешь в такой чужой глуши?.. — и тут его осенило: — Есть такой народ! Конечно же — на Урале! Там, в бывшем Свердловске, были люди, которые знали его, почитали как бывшего кумира репортажа, потому как заезжал он туда в былые времена нередко и не втихаря.
Он предложил поменять город. Она была на все согласна. Равнодушно согласна.
ОСТАЛОСЬ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ДНЕЙ.
Он не знал, что давно отстал от жизни. И привез её не в тот мир, который оставил десять лет назад потрясенным им, как героем, взлетевшим на волне перестроечной прессы. Жизнь творческой элиты Екатеринбурга теперь полностью погрузилась в интернет. Перестроечные тусовки давно прекратились. Можно сказать, что народ жил не в городе, не во времени, а заблудившись раз и навсегда в компьютерной сети, превратился в компьютерных марлоков, тех самых, что ни за что не хотели вылезать в реальность из своих пещер. Но все же выползли и встретили их в аэропорту.
И шумной толпою объяли их странные, шумные люди. Одетые театрально не так, как все, словно каждый вышел только что из своего спектакля. Каждый рвался пожать руку Фоме, и все что-то говорили, говорили наперебой, косились на Алину, но не спешили представляться.
— Надо бы взять такси… Сколько на всех потребуется машин?.. трезвый взгляд на вещи возобладал в Алине.
— Такси! Такси! — кинулся наперерез подходившему троллейбусу молодой человек, напоминающий Гоголя, в длинном черном пальто и широкополой шляпе. Трамвай остановился.
И цвет уральской творческой былой молодежи с гиканьем ломанулся в салон. Каждый был чересчур бодр, дабы не показаться не тем былым, великолепным когда-то, другим. Каждый картинно подбадривал другого. Постепенно каждого завораживала всеобщая эйфория встречи.
— Как так, залететь в Екатеринбург, и не проехаться от аэропорта до дома на троллейбусе?..
Так начался Екатеринбург. Так закружил и лицами и голосами, цитатами из книг и фильмов перемежавшимися со сбором денег для таксиста. Таксисты, как очень-очень давно в Москве, служили поставщиками водки.
И улыбался Алине мир карикатурной улыбкой. И приняла она его таким. И поняла она, что слишком тяжело и глупо доживать последние дни своей жизни всерьез.
В глазах мира они не значили ничего, поэтому легко назначили весь мир сплошной периферией. Словно пираты, взявшие корабль на абордаж почувствовавшие вдруг, что они и есть его полноправная команда, неслись по ветру собственных легенд. Выписывали мертвыми петлями собственную историю.
— А почему тот, что похож на Гоголя, к тому ж писатель живет под такой странной кличкой — Друид?..
— А-а!.. — хором эмонировали сами себя слагатели и сказители:
— Однажды он вышел из дома в белом костюме, попил с Копытиным в сквере пивка, сидели они, ну как в Америке, прям на траве, чем эпатировали домостроевские вкусы наших сибиряков. "А чем мы хуже, американцев? — орал Друид, на недоумение прохожих, а встал и понял чем. На заднице все было пропечатано. Быть может, там у них трава, как и ихнее пиво, из синтетики, зато у нас все до предела натуральное. И так настал конец любимому прикиду Остапа Бендера, не видать теперь ему Рио. Вот и купил красителей и покрасил его в ярко травяной цвет, в знак протеста о невыезде за границу, философский был акт. Ну и чем наш Друид не Друид? Друиды-сказатели тоже в зеленом ходили. А когда он в нем выходит, весь наш город стоит в отпаде.
Хохот. И все сами себя чувствуют гениями.
Впрочем, знакомая Алине, Московская богема тоже страдала неким надрывным эпатажем, но не так. Иные рыночные отношения повышибали из неё самых ярких типов-наполнителей времени и пространства. Одни ушли в бизнесмены, обычно горе-бизнесмены, другие спились и скрючились, словно бомжи. Те, что ещё держали марку, надрывно и сосредоточенно, без былого пофигейства трудились, кропотливо заполняя своими иероглифами ниву искусства. И их эпатажные выходки рассчитывались с аптекарской точностью. И это тоже считались работой. Здесь же — все ещё кайфом просто так.
Впрочем, им было от чего отдыхать — кто не преподавал в университете, тот зарабатывал на учениках дома.
Давно к ним никто не заезжал. Устали уж… Вот и забурлило говоренье и вино по полной программе.
На третьи сутки, график Копытин, третье десятилетие маячивший своим величием в недалеком будущем, вышел из окна четвертого этажа.
Никто не обратил на то внимания. Просто все говорили, пили, говорили и пили, и снова говорили, он тоже что-то всем хотел сказать, для этого встал на стол, но жанр оратора был жанром не его, тогда он вдруг пересчитал в кармане деньги, махнул рукой и вышел. Но вышел он не в дверь — в окно.
— Куда это он? — слабо понимая, какой этаж у этой переполненной пространствами, мирами и мифами квартиры спросила Алина.
— За водкой. — Буднично ответил ей Друид, — Как так — вдруг обнаружить в кармане деньги и не сбегать за водкой?..
Тогда все ахнули и повысовывались в окна.
А он уже вернулся через дверь. Действительно с бутылкой.
Все стали выяснять причину его спасения, правду чуда. И успокоились, поняв, что спас Копытина раскидистый куст сирени до этого покрытый инеем. Иней разом слетел, и обнаженные ветви долго ещё зияли вещественным доказательством невероятного приземления. О счастливом полете Копытина раструбили в городских газетах репортер Уточкин и спецкор Славкин. Заметки шли под заголовками: "Сирень и зимою приносит удачу", "Полет наяву ""Он выпал из богемы, поскольку устал".
"Даже если ты падать начнешь не за страх…" — торжественно декламировал Друид строки Ивана Жданова, — "…Все равно не достигнешь распада…"
— …а вот летом!.. Жара стояла градусов под тридцать…
— Такого не бывало на Урале! — перебивал Ларису местный Гоголь, по кличке Друид, — И тогда я понял, что настал тот самый мой час "икс". Оделся я в доху, валенки, ушанку, и пошел по городу с табличкой на груди "Холодное лето девяностого года".
— Об этом писали все газеты! — с восторгом заметила хозяйка квартиры Елена Прекрасная. Муж её числился культурологом и работал на радио, она одна в этой компании не имела непосредственного отношения к искусству, работая в мэрии, но за своего культурологического мужа расплачивалась гостеприимством в своей однокомнатной квартире, подкинув матери двух сыновей.
И качала головой Алина, пытаясь включиться в то, что происходит вокруг.
— А Фома тебя, наверное, любит, — шептала в это время ей Елена Климова
И осторожное слово "наверное" умиляло Алину, тайной наивностью желания Елены исключить его, и вдохновиться романтикой, пусть чужой, но все же любви, да только исключить его, этого слова, не удавалось. Фома считался великим пофигистом.
— …Столько раз приезжал к нам, но всегда один, — продолжала она, Фома никогда бы не решился привезти какую-нибудь случайную женщину к нам, к его друзьям, когда бы ни был бы уверен…
Тем временем Алина заметила, как косится на неё Друид, невольно подслушавший монолог Елены. И улыбнулась ему. И Друид покраснел, словно юноша, и расцвел по-детски искренней улыбкой:
— Все! Трачу гонорар на подарок прекрасной Алине! Что хочешь, — все твое в Свердловске! — решился вдруг он на новую акцию.
И все развеселились с новой силой. Друид пошел на улицу, купил пять видов сережек в магазине "Уральские Самоцветы" и принес их Алине.
— Всем сестрам по серьгам, — сказала она и раздала присутствующим женщинам по паре сережек.
Фома очнулся, мрачно оглянулся, вышел в коридор оделся и ушел. Куда бы это он?
За водкой — стандартно отвечал Друид.
Фома вернулся и, не раздеваясь, позвал Алину в коридор, — Вот, протянул он ей сверток, примерь.
Это мне?! — Этого Алина не ожидала от него. Не тем он казался мужчиной, что дарят подарки.
Она прижала к груди, примеряя блузку белоснежной парчи. Конечно, это была блузка местного производства. Но если положить руку на сердце, она была дороже, чем от любого самого дорогого парижского кутюрье. И смутилась Алина, твердя себе под нос "не может быть", и погрустнела… вдруг вспомнив про свою болезнь… И опустились руки. И тихо проговорила скромное: "спасибо".
— Я ж говорю, мадам, вы слишком уж корректна, — потупившись, проворчал Фома, — Порезче б надо. "А… блузочка, да ничего, сойдет". Потом топнуть ногой: "а вот я хочу!.."
Она задумалась, посмотрев на него — Я устала от недосыпа. Мы здесь спим, все поочередно на одной постели, нельзя ли снять гостиницу?
— Гостиницу! — воскликнул он, — Мадам хочет гостиницу.
— Гостиницу… гостиницу… — отозвался эхом народ. И погасло эхо в безумном бесконечном застолье.
"… Они пришли пощупать этот мир из будущих времен цивилизации. И лик их был не триедин, а откровенно двуличен. И оба они являлись представителями его двух ипостасей единого сверхчеловеческого лица — лица сурового мужского, и женского, открытого лица, двух лиц единого сознания Человека…" — писал Друид с похмелья на рассвете.
ГЛАВА 16
"… обожаема ты и желанна. Ты повсюду со мной, ангел мой неземной, стюардесса по имени Жанна…" — доносилось из радио. Жанна подала Кириллу кофе и пристально посмотрела ему в глаза чистым, ни в чем неповинным взглядом ангела. Еще совсем недавно он подпевал, мурлыча под нос, заслышав эту песню, и загадочно улыбался.
— Она насмеялась над тобою, а потом бросила, а ты… — начала она, вернее, продолжила вслух, свой внутренний монолог, обращенный Кирилл.
— А что я должен делать? — посмотрел он на неё сухо.
— Уйди из дома, докажи, что ты мужчина. Я не могу жить без тебя, она… она же бросила тебя, бросила!
— Она тяжело больна, — блуждал Кирилл в мыслях-оправданиях, подавленный чувством собственной слабости. Погладил уже почти не видный шрам. Врач мсье Пьеро отдуплился на нем за его назойливость по полной программе, мало того, что вытянул уйму денег, заставил три недели лежать на койке и толком не двигаться. Даже на процедуры возили его на каталке, как инвалида. После такого лечения Кирилл словно лишился последних сил. Даже напористость и хватка в бизнесе его поугасла. Теперь он тяжело дышал, утирал постоянно пот со лба и вечерами попивал водочку со старыми друзьями. Дела его были не "ах", все медленно сползало в тартарары
— Не верю я в это. Знаешь, сколько я слушала баек про смертельные болезни жен! Они специально все придумывают. Чтобы муж никуда не делся. Чтобы совесть его мучила. Даже если это так. Даже если и вправду больна. Разве так ведут себя умирающие?!
— А ты откуда знаешь, как они должны себя вести? — с удивлением смотрел он на разговорившуюся вдруг секретаршу.
— Знаю. Меня не проведешь.
— А что есть какие-то правила? И все их обязаны неукоснительно соблюдать?
— Сил у неё нет, чтобы дома сидеть! — продолжала распаляться Жанна, довольная тем, что месяцами молчавший шеф, вдруг вступил с ней в диалог. Быть рядом с тобою в последние дни свои — сил у неё нет! А вот укатить с… — но осеклась, собралась, и спросила надменно, — Ты себе представляешь, в каком свете она выставляет тебя перед вашими знакомыми и друзьями! Потом будут говорить, что жена у тебя была настоящая б… ну что она… — тут Жанна осеклась и посмотрела в глаза любимому.
— Ты видела мою жену?! — взревел Кирилл.
— Да видела. — Обиженно пробурчала Жанна себе под нос. — Конечно, я ей не ровня. Чувствовала себя, как золушка перед королевой.
— Эх ты… золушка. — Усмехнулся Кирилл, сделав круг на крутящемся кресле, вытер пот со лба, и продолжил, — А как вела себя нагло тогда!
— Нагло! Да я не знала что сказать, что делать! Меня подставили! Но она… Я б не смогла так вести себя на её месте! Она на меня бросила такой спокойный взгляд! Она высокомерна! В ней нет ни капельки тепла. Нет! Эта женщина любить не может! Она просто Снежная королева!
— Королева… — кивнул он, глядя пространным взглядом в окно, и сказал, как будто в никуда, — Да что ты понимаешь, дурочка! Королева!.. Да она способна на все что угодно! Но она на подлость не способна. Это я подлец. Замучил её. Вот такие мы мужики. Обещаем золотые горы… а потом… Все золото превращаем в дерьмо текучего процесса.
— Ты просто живешь прошлым, — в глазах Жанны застыли слезы, — Ты все вспоминаешь, ту, которая была, а её уже нет! Ты всю жизнь работал на нее!
— Да… это ерунда по сравнению с тем как она меняла мою жизнь.
— Потому что ей было все равно, потому что… Она тебя не любит! А я люблю.
— Любит, не любит… Надоели мне ваши девичьи игры. Сегодня любит, завтра нет, послезавтра… Так что ж мне делать? — он старался быть терпимым и мудрым, забывая, как взахлеб целовал её, Жанны, пухлые нежные губки, как приходил на работу с цветами, как переносил её через лужу на руках, щекоча своей жесткой тургеневской бородкой шейку, как она, хохоча, отбивалась. Какой маленькой хрупкой, невинно влюбленной, беспредельно юной она казалась ему тогда, а теперь перед ним рассуждала умудренная опытом женщина, словно у неё ничего нет впереди. Словно перед ней в одно мгновение захлопнулась дверь в будущее, и она, вместо того чтобы с природной живучестью искать другую, колотит запертую уверенным тяжелым кулаком.
— Хочешь, я ребеночка тебе рожу? Я буду самой лучшей матерью.
— Откуда ты знаешь, что это такое — лучшей? Миллионы женщин думают точно так же.
— И они правы. Потому, чего хочет женщина того хочет бог.
— Только твой Бог какой-то мелкий. К тому же жуткий материалист получается.
— И вообще мне не понятно, почему ты, при своих деньгах, все ещё снимаешь квартиру, а не живешь в собственной. Это никто не в силах понять.
— Пусть не надрываются. Зато я остаюсь при своих деньгах. Да ещё и живой. Тоже мне цель жизни — заработать, купить, дрожать над купленным. У меня-то, в отличие от других, есть все. И жилье в любой точке мира, и еда, и возможность выглядеть так, чтобы тебя приняли в любом обществе. И к тому же полная свобода передвижения. А тот, кто имеет виллу, имеет лишь виллу и должен поддерживать её постоянно в приличном состоянии. А если надоела местность — уже проблема поменять пейзаж. Все, что имеют собственники можно перечислить на пальцах руки.
— А у тебя сплошные пальцы веером, — пробурчала в сторону Жанна. Понятно, почему от тебя жена сбежала.
— Она не сбежала. Она захотела хлебнуть свободы. Ничего страшного. Когда захлебнется — откачаем.
— Но есть же какие-то пределы!
— У каждого — свои. Ты, к примеру, не можешь представить свою жизнь без них. Выдумываешь себе обязательное: дом, ребенка…
— Но ещё и мужа! Чтобы была нормальная семья!
— А кто тебе сказал, что иметь ребенка, мужа, дом — это, значит, иметь нормальную семью? Вот создашь себе границы и упрешься в свои понятия нормы, как в стену. Будешь биться, биться… Так все и разбиваются в итоге. — Он отвернулся от Жанны, и этим нанес острую обиду в её распахнутое сердце.
Она не поняла о чем он. Она подумала, что он забалтывает её намеренно, чтобы скрыть свой страх что-либо менять. Что именно страх, когда и так все-все на грани краха, вдруг заставил Кирилла собраться и стать порядочным, образцовым мужем, в противовес вдруг обезумевшей жене. И ждать, ждать её в одиночестве… "А может, ожидание наследства?.." — вдруг пришла ей в голову мысль, и она посмотрела на него с сожалением.
И вышла из его кабинета ссутулившись, полная, слез, красивенькая, нежная, с черной природной печалью в глазах. Но как уйти и не возвращаться больше? И чем она хуже бросившей его жены?..
Оставшись один, Кирилл вынул фотографию, на которой он и Алина стояли на обзорной площадке у обочины горной дороги между Ниццой и Монако, отгороженной от скалистого обрыва бетонным барьером. Он чуть впереди в белом костюма, она в черном по-кошачьи выглядывает из-за его спины, словно боится выйти вперед и один на один остаться с этим скоростным шоссе мира. А за ними покой — необъятные просторы наичистейшего моря, вдалеке, справа туманно проступает Ницца… Рядом с этим местом погибла, не вписавшись в крутой поворот, королева Монако. Вот и они, выходит, не зря отметились фотографией в этом месте, ведь если смотреть образно, и они не вписались в крутой поворот, но уже не дороги, а судьбы.
Знал бы он, в каком безысходном бреду прибывала вырвавшаяся наконец-таки из-за его спины Алина.
ГЛАВА 17
"Ты стоишь по колена в безумной слюне
помраченного дара,
разбросав семена по небесной стерне, как попытку и пробу пожара…" снова в воздухе звучали стихи Ивана Жданова.
Алина отрешенно смотрела на себя в зеркале, оттуда на неё смотрела скромная молодая женщина в торжественно белой парчовой блузке. А той бурной жизни, в которой оказалась Алина, как будто не происходило, лишь мелькали отрывки сообщений, словно светящейся газетной строкой перед глазами:
— …Друид устроил сам с собою кросс на крыше!
— Как так, в сорокаградусный мороз и вдруг не разогреться кроссом?!
— Да… все бы ничего, но кажется, он впопыхах забыл кроссовки!
— В носках по снегу скорость выше.
— Уточкин разговаривает в туалете сам с собою! Наверно, медитация такая.
— Нас Крылкин пригласил к себе — он там запас бургонского!! Сто бутылей! Ура!
И Крылкин распахнул шкафы, заполненные уральским сухим вином. Вино, закрытое из ещё по совдеповской экономии, которая должна быть экономна, пивными пробками, все скисло. Тщетно они вскрывали бутылку за бутылкой, одиннадцатая… тридцать шестая… восемьдесят пятая… потом полили винным уксусом все фикусы и кактусы соседки. Пошли на улицу — полили ещё не растаявшую в апрельском потеплении снежную горку и влили прокисшего вина в глотку-норку снежной бабы.
— …Да что это за дом, в котором нету водки?!
— Нет! Есть надежный кайф! Мадам, вы курите марихуану?
— …Что это?.. дым?
— …Нет, это снег. Вы пробовали ананасы? Как так! Вдруг побывать на Урале и не попробовать зимой ананасов!..
— …Вон там расстреляли царя. И расплескалось царственное семя!.. Поэтому, в Екатеринбурге столько гениев родится.
— Девальвация! Гении уже не в цене.
— А та надпись, что была на стене — не сионистская кабала. Это тайнопись разработана Барятинским. И означала она: "Вы люди тьмы".
— Это мы что ли люди тьмы?
— Не дом Ипатьева сносили — надпись убирали. Что б никто не догадался, что там написано. Чтобы никто не знал, кто мы.
— А мы… А мы…
… и потеряны, как потери,
о которых не помнится даже…
— За одного нового русского пять гениев дают!
— Есть три рода плохих привычек, которыми мы пользуемся вновь и вновь сталкиваясь, сталкиваясь с необычными ситуациями в нашей жизни — бубнил себе под нос радиоведущий Уточкин, — Во-первых, мы можем начать отрицать очевидное, чувствуя себя так, словно ничего и не случилось. Такова привычка фанатика.
— Как так, родиться на Урале и не стать буддистом!
— … А если ты буддист, пропой-ка мантру!
— Ом дэва битху…
— Но если пойти по другому пути — все примешь за чистую монету. Это путь набожного человека. Так свято верили, что мы неукоснительно идем к победе коммунизма… так…
— … у кошки четыре ноги… позади неё — длинный хвост. Но трогать её не моги-и, за её малый рост, малый рост.
— … ахишинца хум.
— Ах, Горюшко, опять Копытину ты глазки строишь! На горе себе, себе на горе.
— А третий вариант восприятия необычного — это когда мы приходим в замешательство перед событием. То есть мы не можем искренне ни отбросить его, ни принять.
— Сейчас вся страна в замешательстве, который уже год!..
— …это — путь дурака, — спокойно продолжил Уточкин.
— …наш Славкин не буддист, а кришнаит. Потому что ест лишь макароны, зато не пьет. Все кришнаиты едят макароны. Но только такие, которые сделаны без яйца.
— Но есть четвертый путь — ни во что не веря — ни от чего не смущаться, одновременно, все принимая за чистую монету, не принимать. Принимать — не принимая, отбрасывать — не отбрасывая. Никогда не чувствовать себя всезнающим и, в то же время, вести себя так, как будто ничего и не случилось. Действовать так, словно все под твоим полным контролем, даже если сердце в пятки ушло.
— Кончай цитировать Кастанеду, — заорал на Уточкина Друид, и обернувшись к Анне, начал свою повесть, — Я думал в детстве, ну зачем мне нос, потом взглянул на Гоголя и понял. Как так — родиться с таким носом и книги не писать?..
— Друиды должны были нести знания в народ изустно! Бей Друида предавшего свои двадцать тысяч стихов бумаге! — кинулся на Друида, запасшийся снежками Славкин.
— Когда моих товарищей корят,
Я понимаю слов закономерность,
Но нежности моей закаменелость,
Не может слышать то, как их корят — так на распев под Ахмадулину раскачивал Фома слова.
— Ом падме, падме…
— Лена! Лен! Встань с колен! Все равно напьется! Да он уж пьян, какая ему разница теперь! — успевая уворачиваться от нападавших, кричал Друид, увидев Елену упавшую в мольбе на колени перед мужем.
— В минуты грусти просветленной… — Волошина, помнишь, Волошина?..
… народы созерцать могли
Ее коленопреклоненной
Средь виноградников земли.
-.. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра…
ГЛАВА 18
Я не могу, мне плохо! Плохо! Плохо!!! Все кружится, несется подо мной! Я падаю, — воскликнула вдруг Алина на девятые густые Уральские сутки, и упала на пол Климовского коридора.
Фома отнес её на супружеское ложе Климовых, за шторками в нише общей комнаты.
Она заснула.
Он посидел ещё на кухне, потом потихоньку вышел и примостился рядом с ней. Рядом. Впервые за весь их Екатеринбург…
Она нажала кнопку лифта. Двери захлопнулись, и кабина лифта вместе с ней ухнула в глубь земли. И не было конца её падению. Вдруг почувствовала, как зависла. С трудом оттянула створки лифта в разные стороны и увидела перед собою срез земли, а ниже чуть, на уровне коленок — щель. Оттуда несло плесенной сыростью, мелькал туннельный свет. И она поползла по туннелю. Туннель расширился, и гулкая система бетонных лабиринтов предстала перед ней, наполненная отблесками факелов и голосами мелькающих тенями людей. Она распрямилась и пошла. Шла бесконечно долго, сворачивая то налево, то направо. Не едва она сворачивала, никого. Она забрела в тупик и села, уткнув голову в колени. Вдруг рядом кто-то зашевелился заваленный грязным тряпьем. Человеческая рука протянулась к ней и сочувственно похлопала по плечу. Она угадала Фому. Вот так и будем теперь жить, — сказал он голосом пронизанным мудростью волхва, — Ложись, поспи, ведь ты устала. И она поняла, что ей не выбирать, что ничего другого уж не будет. Никогда!.. И, забывая о брезгливости, прилегла на прелые клочья одеял. Лишь коснулась щекою импровизированной подушки, как треснул и пополз бетонной плитой наклонно вниз потолок. Но не было в ней страха, скорей восторг, восторг, оттого, что — все!.. — всему её безысходному кошмару наконец-таки пришел конец. Но в это мгновение полчища крыс повалили из щели.
Она вскочила с воплем "крысы" и долго, слепо отбивалась и металась в безумие ужаса и отвращения по постели. Фома включил свет — она смотрела на него панически огромными и ничего невидящими глазами.
— Все ясно, констатировал он как спец, — Белая горячка.
И неожиданно почувствовал прилив нежности — в это мгновение она стала для него окончательно родная. И прижал её голову к своей груди и гладил её по волосам. Она забылась на несколько минут, потом очнулась, — Где я?
— Ну хорошо, хорошо, — услышала в ответ серьезный голос Фомы, — После завтра начнем работать. Денечек отоспишься, и начнем. Пора уже, — сказал он по-отцовски мудро, как будто все заранее предугадал и рассчитал. И все как будто шло по его часам, только так он смог себя почувствовать спокойным, мудрым, сильным.
Она сидела на постели, словно больная девочка, он подносил ей кружки с пивом похмелиться, и чувствовал, что с ним произошла перемена — он перестал стесняться проявиться в своих чувствах к Алине в среде своих друзей. Она была им приятна. И это тоже было приятно Фоме. Но в их обществе он не раскисал от чувства безысходности, которое все чаще и чаще накатывало на него. Он жил весь настоящим. Настоящим бредом всерьез.
Из кухни доносились голоса, казалось, будто кухня улей из голосов лишенных тел. Он не советовал ей выходить, он спрашивал ее:
— Какие пожелания? — трагично спрашивал, как будто военврач, ещё не очнувшегося до конца ампутационного больного, ещё не обнаружившего вдруг нехватку какой-то части самого себя. Быть может… трагичной нежности души.
И внимательно, едва касаясь шероховатыми кончиками пальцев, обводил линию её, оголенного перекошенным воротом ночной рубашки, беззащитного плечика. То, что он был с ней когда-то близок, как любовник — теперь казалось сном.
— Я хочу домой! — Выкрикнула первое, что пришло ей на ум, но тут же скорчилась от своего желания — "нет, невозможно там! Там больше невозможно. А здесь?.." Вздохнула. Попробовала собрать растрепанные волосы в пучок. Но Фома вдруг упредил её желание,
— Вам так лучше. Вы так похожи на Миледи. И поцеловал её в острый локоток.
— Мы завтра в управление пойдем? — спросила растерянно она.
Он кивнул в ответ и нежно улыбнулся.
— А потом? Потом? — она задумалась на мгновение и тихо машинально проговорила, — А потом в музеи и театр?.. — Хоть какой-то серьезный след отживших поколений должен был укрепить её бесконечное шатание по чуждым нормам бытия.
— Театр я вам не обещаю, но в музей… — он вздохнул так, словно ему предлагали совершить подвиг Геракла, — Куда же я такой — да и в музей?.. Да с вами, мадам. С такой шикарной женщиной?! Меня за хиппи, наркомана, за бомжа примут и погонят. Обидят, скажут, что я вам не пара.
— Ну нет! — чуть не заплакала она, — Я не могу все время здесь сидеть или переходить из квартиры в квартиру! Ну что-нибудь!.. Пожалуйста, пойдем в музей! Какая разница кто как на нас посмотрит!
— "Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра… И вот мы входим, наконец…" Вот ещё у Друида, говорили, есть кот, который спит на спине, закинув ногу на ногу. Он черный и огромный. И звать его не Леопольдом Бегемотом. Хочешь, пойдем, посмотрим? — за эти дни он впервые разговорился с ней.
Она кивнула, — Только сначала мы зайдем в музей.
— Ну хорошо. Вот видите, мадам, для вас я даже на культурную программу подписался.
ГЛАВА 19
В Екатеринбургском управлении исправительных учреждений к встрече с ними подготовились капитально. На столе у главного лежала стопка журналов и газет со всеми опубликованными фотографиями и фоторепортажами Фомы. У него самого не было такого полного архива.
Но, завидев Фому, главный, уж было привстав, чтобы торжественно пожать руку известному фоторепортеру, осел. Окинул Фому неложным взглядом не готового к видению подобного человека. Тот стоял перед ним, широко расставив ноги, таким как есть — небритым, неухоженным, непохмеленным. А за руку при этом держал молодую женщину — растерянную, скромно опустившую глаза и непонятно было, что может быть между ними общего.
Главный понял, что он не понимает ничего. Но если начнешь разбираться — то будешь в конец дураком. Поэтому спокойно подписал все пропуска в свои владения.
Когда они ушли — вздохнул, — Богема!.. Они себе могут позволить такое!.. А я…
Такси неслось по бурой снежной жиже апрельского Екатеринбургу, Алина дремала на плече Фомы. Он вспоминал, как только что красиво вписывалась она во дворец, в котором музейных ценностей он не видел, видел лишь её. "Она слишком… слишком… — думал он, пытаясь подобрать точное слово, — Слишком цивильна. Еще бы — жена бизнесмена, красавица и журналистка!.. И там не к месту, и тут не сюда. Но… — он опять задумался-задремал укаченный теплым салоном такси, — зачем, зачем она не осталась во Франции?! А впрочем, такие нигде жить не должны. Такие должны здесь погибать. Отчаянно. Безумственно. Трагично" — догадался он и улыбнулся тайной улыбкой бессильного понимающего свидетеля чужой тайны.
А вот и кот. Огромный черный короткошерстый кот лежал вальяжно на диване. Когда они вошли к Друиду, она даже ойкнула от удивления. Бегемот чуть приоткрыл глаза и покосился на пришедших недовольно.
— Случайно он не говорящий?
— Нет. Но мне все время кажется, что говорящий. А что молчит, так это из презрения к нам. Что будем пить?
— Нет! Пожалуйста, не надо.
— Как так — увидеть моего кота и не по стаканчику не опрокинуть? буркнул недовольно Друид себе под нос. Он уже и не представлял, как можно общаться с ними и без алкоголя.
— Все ребята, только чаю, — не отрывая взгляда от кота, как будто перемигиваясь с ним, сказал Фома и как всегда сказал так твердо, словно приказал.
— Что ж, — погрустнел Друид, — Значит — чаю, — Друид ушел на кухню, оставив их в гостиной.
Когда вернулся, позвать к чаю — увидел в щелку приоткрытой двери, как медленно кружась, как будто в вальсе, они целовались. Вот это да! Друиду все это время казалось, что они друзья. Казалось… он поверил в дружбу мужчины и женщины, оставшихся один на один, он поверил в её святую верность какому-то мифическому мужу и в поэтическую высоту Фомы стремления к ней, как к живому идеалу. Она, конечно же, не фотомодель… но такая теплая, искренняя и живая!.. Особенно когда вдруг отразится в его глазах.
Друид писал легко, и часто про любовь, про всяких женщин, даже про разврат… Он был как будто искушенным в этих вопросах, этаким спецом по психологии всех женщин, но… только на бумаге. А в жизни… Как безнадежно, он всегда влюблялся… — кто бы знал!…
Огромные, как две перезрелые сливы, немного влажные от перебродившего в них сока, глаза, тяжелый гоголевский нос и губы, меняющие ломаную линию мгновенно. Он сам себе предрек, что никому не нужен, как мужчина, и даже если вдруг случайно загорался сердцем — всегда мучительно спешил в ожидании развязки. И веселился до неприличия, как будто, убегая от своей природы, природы темных, теплых и томных, словно южная ночь ожиданий. Он пытался жить, прикрывшись книгами Кастанеды, в которых маг, индеец Дон Хуан, учил, как прерывать все внутренние монологи, жить не надеясь, — просто так, и благодаря этому умению становиться неуязвимым. Но тщетно! Душа тянулась к нежности, к тому пленительному счастью, которого, пусть в жизни нет, но все же — есть, потому что его все ищут. К нему стремятся все. И зовется оно любовь. Ему казалось, что и Алина, так внимательно смотревшая на него порою, все, казалось, понимавшая в нем без слов, тоже выглядывала в его туманах — это.
Да, он отдавал себе отчет, что он влюблен, он понимал, что это безнадежно, и контролировал себя. Но кровь, прихлынувшая к голове, от чего его лицо мгновенно покраснело, и все закружилось вдруг перед глазами, кровь вскипела безнадежной страстью. Нет, — это состояние уже не поддавалось воле. Что толку быть неуязвимым, когда так тянет вдруг открыться, распахнуть все сердце душу, переполненные одиночеством!.. Друид закрыл дверь поплотнее. Ушел на кухню и сел переводить с английского присланную ему друзьями из Америки книгу Виктора Санчеса: "Сознание неизбежной смерти снабжает необходимой отрешенностью: осознающий, ни за что не цепляется, ни от чего не отрекается…" И попробовал осознать свою смерть грядущую когда-нибудь…
— Эй! Идите чай пить — постучал в дверь, решившись, все же нарушить их идиллию.
Ему никто не ответил. Он приоткрыл дверь и заглянул. Они спали на его тахте. Из-под пледа высовывалась её обнаженная нога. Он вошел, по пути к тахте поднимая их сброшенные одежды. Фома спал у неё на груди. Она и во сне прикасалась губами к его затылку. Такой идиллии Друид не ожидал.
Коленки его дрогнули, но взгляд как будто приковало к их спящим лицам. Он никогда не видел таким красивым, обычно изнеможенное служением порокам, лицо своего друга…
И плавно вальсировал фонарный свет улицы, бросая желтые блики на пииту.
ГЛАВА 20
Алина прекрасно понимала, что в нормальной жизни, в той жизни, в которой она жила, у неё никогда не могло бы возникнуть романа с таким человеком, как Фома. "Он алкоголик — вообще не мужчина, у него дурные манеры дворового короля. У него ленивое сознание моргинала требующее фарса". — Отмечала она про себя, но что было странно — это совсем не мешало любить его тихо и нежно, не прикасаясь. Пусть не как мужчину, а как живое, весьма забавное своей внутренней жизнью нечто. Даже его мрачные похмелья по утрам она наблюдала спокойно. Спокойствием человека, у которого все в прошлом, все настоящем, а будущего нет.
Воспринимала его, не противясь судьбе, с тайной благодарностью за его привязанность. Так радуются осенью последним солнечным денькам. Нежность… нежность да и только, испытывала она при взгляде на Фому, — Нежность.
У нас усиленный режим. Насильники, убийцы, киллеры… ограбления… Не забывайтесь, — предупредил подполковник, и тут же вызвал осужденного Петрова, — Проводи журналистов в художку.
Они пошли по безлюдному плацу, мимо бараков из красного кирпича. Обогнули один, второй и спустились в теплый подвал. Двое молодых людей, возраст их из-за тотальной обритости и серого, чисто зоновского, налета на лицах, определить было трудно — ясно, что было им больше восемнадцати и меньше тридцати. Они лениво развернули перед ними рулон из стенгазет. Но это не особо волновало Алину и Фому. Режимник, сегодня узнавший, что им нужно, воскликнул — пришли бы пораньше, я только что отправил в топку такие их художества!..
— А что-нибудь рисуете просто так, для себя, для души.
Самый угрюмый зло хмыкнул — Какая душа?!.. Сожгут все одно.
— Но все-таки, хотя бы на заказ… Вот ножички вы маленькие делаете выкидные…
— Так то ж — мастырки, — отозвался тот, что помоложе.
— … а ручки к ним из оргстекла вы украшаете русалками, ангелочками, прочим… даже красиво. Когда мне показали в управлении, я удивилась. А есть к ним эскизы?.. Хоть что-то… То, что вы рисуете, когда думаете.
— Так то ж не картины — тетрадные листы.
И он достал с верхних полок пачку замусоленных тетрадных листов.
— Боже мой! — воскликнула Алина, впервые искренне удивившись — Так у тебя же рука настоящего Дюрера! Что ты здесь делаешь?! Ты где учился?!
— Та негде.
— Но ты, наверное, видел подобную графику, брал в библиотеках альбомы?..
— Та нет. Я сам не знаю, как я рисую. Та получается во — так.
— Послушай, ты откуда свалился?
— Та сельский я.
— Он из художеств видел только плакаты. Висели в сельсовете стенды.
Алина знала, что спрашивать в лоб — за что сидишь? — нельзя. За это можно и убить, но пользуясь простительной женской наивностью, спросила: Ты за что сидишь?!
— Та… за изнасилование, — ответил парень и покраснел.
Ошарашенная таким ответом она отпрянула от него, первичное чувство восторга к его таланту, смешалось с чувством отвращения, и на пике эмоций она выкрикнула: — Идиот! Да развей ты свой талант — все девки были бы твои!
Не позволяют в зонах так обзывать друг друга, глаза парня чуть замутились.
— Вот это комплимент! — похлопал его по плечу видимо более образованный напарник.
От перенапряжения у Алины проступили слезы на глазах — она держала в руках пачку тончайшей графики, достойной обладателя диплома, как минимум, какой-нибудь из лучших европейских академий прошлых веков. В одну секунду беспрекословно теория переселения душ вошла в нее. Иначе объяснить явления такого самородка она бы не смогла.
— А слышал ты когда-нибудь о таком художнике, как Дюрер?
— Не-ка.
— А Доре?
Но ни искорки отзыва в его глазах. Тогда она перечислила ему не менее двадцати имен великих художников. Он слышал только о Леонардо и видел его Мону Лизу в каком-то журнале. Еще ему был известен Илья Глазунов. Работы его не понравились, но он запомнил, что этот художник в моде. И все. Так мало для двадцати двух лет, чтоб начинать прорываться в иную среду. Но талант!..
Алина искренне впала в уныние. Фома дальше сам вел разговор. Торговал на пачки, полулегально пронесенного, чая каждую из картинок, которых вдруг оказалось много под шкафом, пачку эскизов ему отдали просто так. А Алина стояла молча посередине мастерской, такие мастерские в зонах обычно звали коротко — художки, и видела, странную картину: Дюрер, его талант, так трудно наработанный всей жизнью, очнулся вдруг посреди тайги, в теле невезучего. И окруженный степенными ворчливыми людьми, (они то знали, что все искусство — это блажь), — горел, как в адском пламени, в ненужности рабочим будням. И он пошел бетонщиком на стройку… А дальше… не соверши бы преступления, не попади сюда, быть может, Дюрер никогда бы не проснулся в нем… Но что толку?.. Мир больше не увидит возрожденного гения. И нечем им ему помочь. Лишь, разве, что выставить похотливые композиции из девок, да русалок… но линии!..
— Как выйдешь, поступи учиться на художника, — не глядя более насильнику в глаза, сказала Алина.
— Да куда ему, ещё сидеть — не пересидеть, — лениво протянул напарник, — Он же с особо тяжкими…
Они вышли на свежий воздух. Вечерело. Серыми казались здания и люди. Она шагнула за сопровождавшим их заключенным Петровым и застыла на мгновение. Им предстояло пройти через плац. На плацу толпилось около трех тысяч уголовников отбывающих свой срок на строгом режиме, то есть в основном за изнасилование…
— Смена кончилась, вот все и здесь, — заметив ужас в её распахнутых грядущему глазах, — чуть поежившись, сказал сопровождающий. И пошел вперед.
И она пошла за ним. Фома медленно плелся сзади, предательски отставая. Тут же в этой заполненной броуновским движением толпе заключенных в черных ватниках образовался строгий коридор.
"Ну почему, нам не дали в охрану хотя б кого-то при погонах! Да неужели, начальник так уверен в своей власти?!.. — заныло все внутри у Алины, и она вдруг поняла, что ей не все равно как умирать.
Тысячи мрачных глаз, подернутых волчье-серой поволокой, следили за её движением исподлобьев.
"Так из глуши пустого рукава рванется жест призыва и погони, сшибая вехи призрачных колонн и под землей, непомнящей родства, очнется боль натруженной ладони, зарытой до скончания времен…"Очнется вопль, — переделала она прозвучавшие в ней строки Ивана Жданова, — вопль горла древнего самца…
Она сделала несколько шагов, опустив взгляд долу, мелких шажков тихой восточной женщины, лишь бы ничем никого не возбудить, не раздразнить нависшего над этой зоной мистическим туманом зверя зверства.
И увидела трезвыми глазами, как соблазнительно фривольно вихляется кокетливой волной ламовая опушка её дубленки. Она прижала её рукой, так выходили леди из кареты в прошлом веке… И поняла, что получилось ещё женственнее. Она засунула руки в карманы и, четко следя, чтобы дубленка, словно картонный купол передвигалась вместе с ней, не касаясь её колен, пошла-поплыла.
Бесполезно.
Волна полы оттанцовывала свой романтический танец. Отчаявшись следить за ней, Алина поспешила за парнем, он шел, постоянно оглядываясь на неё и Фому. Алина хотела тоже оглянуться, но почувствовала, что не стоит делать лишних движений, и засеменила, глядя на мыски своих замшевых сапожек.
Казалось, она шла ничего не видя, но на самом деле, видела все — всех сразу и каждого в отдельности. Видела темечком, висками, затылком…
Фома нагло отставал метров на десять, тем самым не прикрывая со спины.
В тишине на плацу четко отпечатывала их шаги.
И настолько был недвижен морозный воздух, что будь то не зима, а лето, легко бы отличился полет комара где-то там, в конце черного коридора. До чего же он длинен!..
И даже бессознательный Дюрер не просветлит этот путь заскорузлой чернухи. Она чувствовала, как все тело её пронзали волны человеческого мрака.
И вдруг поняла — шевельнись сейчас кто-нибудь, почеши хоть за ухом, хоть вздохни глубоко, и слова не надо что б вся эта застывшая энергетическая масса пошла вдруг, покатила на нее. Нет, это не сексуальная волна, а это тяжелый медленно накатывающий вал, волна-война ненависти к чужеродному, свалившемуся вдруг сюда из других миров, да как она посмела!… и будут долго молча втаптывать — топтать, пока не разотрут всю в мокрое пятно.
"Да обретут мои уста
Первоначальную немоту
Как кристаллическую ноту, что от рождения чиста…"
Слов нет… — повторила несколько раз подряд она задумчиво, оглядывая маленькое стеклянное кафе, в которое они зашли после зоны.
И было ей противно говорить. И тошнило от него сейчас, после такого, как тошнило бы от всякого мужчины. Тем более её тошнило от Фомы. При одном воспоминании, как он шел далеко от нее, так словно он не при чем…
— Я слабый и ничтожный человек… — поникнув головой, сказал Фома, почувствовав презрение в её взгляде. И зачем вы связались со мною, мадам?..
"Ничего не держит, ни чего… кроме любви…" — вспоминались Алине слова человека-убийцы перед расстрелом.
Она смотрела на Фому и понимала, что с этого мгновения не сможет позволить себе тех чувств к нему, что испытывала ещё с утра. Потому что уже невозможно унижаться болью, осознавая свою невезучесть, несчастность, несовпадение ни с чем и ни с кем и продолжать тянуть до самой смерти, скорой смерти, линию последней любви. Нет!
И полночные блики света её души погасли. Наступила в душе холодная полярная ночь.
ГЛАВА 21
Они расстались молча, просто вышли на улицу, и каждый, не оглядываясь на другого, повернул в свою сторону. Без смысла. Без цели. Они уже расставались так не раз. Так они уезжали из Владимира. Когда-то давным-давно… Казалось — вечность назад. Он зашел в пельменную. Зашел и увидел детей Климовых. Они уминали пельмени с таким аппетитом, словно беспризорники. Увидев Фому, ссутулились, словно хотели стать незаметными.
— Откуда деньги взяли? — подсел к ним Фома с прямым вопросом. Он знал, что Климовы, надеясь на бесплатные завтраки в школе, не давали им денег. В доме их было — хоть шаром покати. Никто ничего не ел, все только пили.
— А мы… мы… бутылки после вас сдаем. — Еле выговорил старший.
— Хорошо начинаете, далеко пойдете, — мрачно заметил Фома, оглядываясь.
Знакомых в пельменной не было. Знакомая богема по заведениям общепита не шлялась. Денег у Фомы в карманах не было. Тоска.
Алина уселась в кресло и когда парикмахер, женщина явно кавказского происхождения, собрала её пышные волосы в пук, с ужасом взглянула на свое открывшееся полностью изнеможенное лицо и отшатнулась. Больше в зеркало смотреть не хотелось.
ОСТАЛОСЬ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДНЕЙ
— Сделайте мне…
— Я знаю, что вам надо, — закивала, перебив её, мастер, сначала подкрасим. Совсем седая.
— Нет… но, — сбитая с толку, Алина туго соображала, вспоминая, зачем она пришла в парикмахерскую с неподобающей для этих мест вывеской: "Элита".
— Я знаю. — Снова перебила её мастер, — У меня тоже были такие пышные волосы, но я отрезала их, потому что здесь никто не мог мне их нормально распрямить.
— Но я не хочу распрямлять волосы. — Алина чувствовала, что после пережитого в зоне шока, голос её изменился и, казалось, что это говорит не она, а другая, женщина всегда дремавшая в ней, — усталая, мудрая, все видевшая, оттого ни на что реагирующая, ничему не сопротивляющаяся старуха, которая точно знает, что все пройдет.
— А… знаю. Я знаю, что вам сделать. Придется подстричь.
— Зачем?! — воскликнула Алина в отчаянии. Все вокруг отчего-то знали, что надо делать, тем более с ней. И были уверенны, что знают. Все, кроме её самой. Это уже казалось — слишком!
— Но я знаю зачем. Мало того, что седые на корнях, так ещё и лезут!..
— Но… у меня есть свой имидж.
Женщина парикмахер побурчала чуть в сторону, но слышно: — Имидж у нее. Сейчас! По телевизору покажут! Как же! — иже громко, командным тоном предложила, — Ну что? Может, сострижем все это?
Алина обреченно посмотрела на себя в обрамлении длинных, обмякших волос — унылое зрелище. Да и концы посеклись… Локоны потеряли блеск и свою оптимистическую пышность. Сама себе она теперь казалась утопленницей.
— Стригите, — обреченно разрешила она.
Мастер браво принялась за дела. Вымыла Алине волосы явно дешевым шампунем, хотя показала дорогой флакон. И ножницы её защелкали угрожающе быстро, будто она боялась, что клиентка передумает. Алина впала в прострацию.
— Знаю, как сделать, что нужно. Но чтобы это сделать, мне надо вам распрямить волосы.
— Зачем?! — очнулась Алина.
— Я знаю. Жаль, у меня нет фена. Если бы вы принесли мне фен, я бы вам сделала каре, — ответила мастер, продолжая щипцами оттягивать Алине концы оставшихся волос. — Вы слишком темны для настоящей блондинки. А ещё эта седина в челке!.. Хотите, я вам осветлю волосы?
— Зачем?!
— Джентльмены предпочитают блондинок.
— На подносе? — проснулась в Алине чувство юмора.
— Нет. От краски поноса не бывает. Бывает другая аллергия — ответила мастер.
Ощущая свою голову новой, настолько, словно отрезали былую и приставили чужую, некой сироты бездомной, девочки-шпаны, Алина вышла на улицу и огляделась так, словно никогда не видела подобной местности. Снег стаял, и бурая жижа текущая по краям асфальта сгущалась, впитывая черно-серую копоть атмосферы. Яркие лучи закатного сибирского солнца слепили, мешая обозревать тотально болезненную серость города. Казалось, софитами осветили катакомбы. Голова Алины кружилась от небывалой легкости.
ОСТАЛОСЬ ВСЕ ТЕ ЖЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДНЕЙ.
Фома лишь раз вздохнул по её былой шевелюре, но внутренние изменения произошедшие в ней, показались гораздо серьезнее внешних. Теперь из сотрудницы, командировочной любовницы, она казалась ему солдатом невидимого фронта. Фронта противостояния ему. Он часто заново прокручивал в своей памяти беззвучную картинку — как четкими шагами, не дрогнув спиной, не оборачиваясь в страхе и рассеянности, что было бы куда естественней, шла она по плацу, впереди него. Каждое мгновение того пути четко отпечаталось в памяти. Он отступил специально, на всякий случай… пусть она объясняет это трусостью, зато он любовался её мужеством, отражавшимся в каждом шаге. Пусть помнит, что он слаб… он не тот, кто ей нужен, на него не обопрешься. Пусть отрывается. Сам же оторвать внутреннего взгляда от неё был не в силах.
Внешне их отношения, казалось, не изменились, даже наоборот проявлялась некая изящная учтивость, но чувство конца проявлялось во всем. Казалось — их путь сопровождает пропасть. Не, не та, что как говориться пролегла между ними. Они шли рядом по краю. Кто-то один должен был свалиться в нее. И оба знали об этом. И каждый словно так и ждал провала другого. Невыносимое соперничество тихим сапом, когда подставляют невидимые подножки друг другу, при вешней корректности, осознавалось обоими.
И Фома пил теперь с особой самоуничтожающей мрачностью. Подсознательно веря, что пьяных бог бережет и, спекулируя её врожденной жаливостью. В тайне он ожидал что, спасая его, она надорвется, споткнется, и тогда склониться над ней. Но она умудрялась машинально протягивать ему руку и в тоже время ловко избегать его психологических капканов. Лишь лукавая и в тоже время презрительно-печальная усмешка слетала с её губ, в самые надрывные моменты. Она просчитывала его движения наперед.
ГЛАВА 22
Вот уже несколько дней она жила в гостинице, номер в которой тщетно пытались выбить телефонными звонками из Москвы Союз Журналистов и ГУИД. Страна давно перешла на другие взаимоотношения со своим народом, но всеобщая капитализация взаимоотношений, не смогла справиться с ворчливой совдеповской провинциальностью. Мест не было — ни за какие деньги. Даже местное МВД ничем не могло помочь, однако мафия!.. До чего же непривычное для русского уха слово!.. С нашим пристрастием к аббревиатуре — такой кружок людей нормальней было бы назвать каким-нибудь — РуРуМ — рука руку моет. Обыкновенный, только что вышедший на свободу уголовник мгновенно им устроил переезд в гостиницу. Впрочем, Фому этот переезд затронул мало. Он продолжал пить у Климовых до упора, а когда наступал этот упор, брел на автопилоте, благо гостиница была рядом, не к себе в номер, а к Алине.
"Алина, золотая, разреши остаться переночевать, не дойду до дома" каждый раз он проговаривал одну и туже фразу из Булгаковской "Белой Гвардии", заменив лишь имя "Елена", на "Алина".
Алина усмехалась и отступала от дверей молча, давая ему пройти. Он смотрел на неё внимательным взглядом мудрого алкаша и понимал, что в таком виде, в каком пребывает вся его наличность, невозможно прикоснуться к этой женщине, поэтому, кряхтя от сожаления своей беспросветности жизни, кидал ватник, приобретенный у кого-то взаймы, на пол у её постели и, рухнув на него, мгновенно засыпал.
И Алина понимала, насколько глупо говорить ему, что это просто неприлично. Впрочем, внутри себя она находила его ночные приходы даже милыми. Даже в них была борьба их взглядов. Никто не выигрывал. И не проигрывал никто, но состояние этой борьбы поддерживало их взаимосвязь, настолько, что на душе становилось тепло. И просыпалась среди ночи и смотрела вниз с тихим удивлением — не смотря ни на что, он был мил. Но милый, вовсе не то же что любимый!
С первого дня, как она вселилась в номер — три тетки усиленно драили стену у её двери, и когда Анна выходила из номера прогуляться по городу, тетки отлетали от стены и разбегались врассыпную. Это не раздражало Анну, только вызывало печальную ухмылку. Ухмылку вызывал ещё тот факт, что отделение городского КГБ почему-то располагалось в гостинице на том же этаже, что и её номер. Какое может быть КГБ в такой провинции, тем более после 1991 года?..
Дела с выставкой шли как бы сами по себе. Местная пресса разгласила об их задумке. После чего отсидевшие в зонах, родные и близкие тех, кто сидит, сами находили Алину и приносили всевозможные поделки. Обычно — это были плетеные шариковые ручки из ниток выдернутых из носок, марочки разрисованные шариковой ручкой носовые платки и отмоченные в крепком растворе соли, чтоб не отстирывались, мелкие сувенирчики с мельчайшими подробностями. Больше всего её удивила пара кроссовок плетеных из тех же носочных ниток, каждая размером с половинку скорлупы лесного ореха, при этом они являлись полной копией настоящих. Осужденные явно не спешили при воплощении своих творений. А впрочем, куда им было торопиться? Одно бесконечно возмущало её — почему в исправительных учреждениях запрещают заниматься творчеством? Только через делание вроде бы чего-то ненасущного, вроде бы абстрактного, не касающегося конкретной жизни, человек может пере осознать и себя и весь свой мир, так теперь считала Алина. И с грустью вспоминала слова одного из начальников ГУЛАГа, теперь ГУИДа, — "…не позволяю я им это, все творчество от сумасшествия, а они должны мыслить ясно, реально".
Так проходили её дни в гостинице. В одно туманное утро вдруг в номер её постучали. Она открыла дверь — на пороге стоял понурый мужчина: — Я телевизионный мастер, — представился он несколько обреченно, — Вызывали?
Тут она вспомнила, что в первый день, как поселилась, вызывала мастера, — Да ответила она, — Но это было давно. К тому же на часах восемь утра, я ещё сплю.
— А у нас рабочий день начинается в восемь, — ответил он и, потеснив её, прошел в номер, но на пороге комнаты застыл от удивления. Лежа на спине на постеленной на пол Климовской дохе, храпел Фома. Мастер с удивлением посмотрел на хозяйку номера. Без тени смущения Алина сказала — Пройдите как-нибудь поаккуратней и, пожалуйста, потише. Зачем зря будить человека.
И мгновенно поняла, что сейчас сон измученного алкоголем Фомы ей дороже, соблюдения любых правил приличий.
Мастер прошел по стенке к телевизору и, сев у Фомы в изголовье, принялся копаться в допотопном отечественном ящике.
Алина уселась по-турецки на постель, и уж было задремала, как в номер снова постучали.
— К Вам пришел мастер? — узнавала одна из трех бессменных теток. И не дождавшись ответа, с нескрываемым любопытством, проскользнула в номер, за ней вторая, третья. Увидев спящего на полу Фому, они завозмущались: — Что это такое?! Это гостиница, а не публичный дом! Почему у вас в номере мужчина?! Как вам не стыдно?! А ещё вроде бы культурная!..
Ровный храп Фомы прекратился, он причмокнул, и перевернувшись со спины на бок, продолжая спать.
— Тише, тише, — успокаивала их Алина, — Ну какой же это мужчина, если он спит не у меня в постели, а на полу?
Тетки задумчиво посмотрели на Фому.
— А почему это он у вас спит на полу?
— Потому как журналист. — Алина совершенно не понимала, как в действительности надо разговаривать с этими полоумными грошовыми стукачками. Но не понимая их, не боялась, они вызывали в ней лишь легкое недоумение, и жалость, поэтому держалась ровно, так, словно ничего странного в том, что они видят — нет. И тихо наблюдала, как их сознания тем временем съезжают в ту область, где они не компетентны.
— Но это ж неприлично… — вдруг с трудом сообразила, что требуется сказать, длинная, похожая на вопросительный знак в коротком синем халате, Вы же культурный человек!..
— А вы? — спокойно спросила Алина.
— И мы, — кивнули тетки хором.
— Так помните, что культурные люди не суются без приглашений в чужую жизнь. А хорошо воспитанные люди никогда не делают замечаний плохо воспитанным людям. Прошу удалиться из номера.
И ещё пять минут назад в боевом задорном базаре влетевшие в область объекта их донесений, теперь порастеряв весь пыл, обескураженные в конец холодной вежливостью москвички, они растерянно попятились назад. Петька! окликнули мастера, видно засланного, на разведку первым, — Петька! Пошли отседова! Здеся такой разврат!.. Седовласый Петька бросил раскрученный телевизор и поплелся за ними.
ГЛАВА 23
Фома как всегда ушел рано, по-английски не объясняясь. Алина хотела воспользоваться передышкой и навести порядок в своих вещах, но не тут-то было — в номер постучался Друид.
— Алина! — с порога упал он перед нею на колени, едва перешагнул порог, — Бери Фому и уезжай отсюда! Вы здесь погибните! Ведь он совсем сопьется! Ты, только ты, ты можешь повлиять! С тех пор, как вы приехали, у нас на Урале! Перепутались и дни и ночи! Я чувствую, все это неспроста! Грядет космическая катастрофа! Подумай, что за дикая случилась смесь! А водка все никак не кончится!.. Нескончаемый поток! Смешалось все — богема, уголовники… — он осекся, словно сам удивился тому, что выпалил, и выдохнул на тормозах: — и я…
— И тебе пить надо меньше. А лучше вообще не пить.
— Но я здесь не причем! Нас много! И мы меняемся, как будто караул. Нам есть куда уйти, поработать пару дней, как отдохнуть. Но возвращаешься назад через неделю — а там, у Климовых, все тоже. Фома бессменно пьет. И день, и ночь, и ночь и день… И эти уголовники… а Лена потихоньку плачет. Ей некуда вернуть детей. Дом их — как стоянка палеолита! Этого ж не выдержит! Ни один живой! А он все пьет! Зачем ему все это. Я знаю, потому что он поэт! Поэт всей жизнью! — Глаза его, словно пограничные локаторы неспособные остановиться рассеянно шарили по его пограничной реальности.
— Алкоголизм не признак поэтического дара. Не пейте с ним, и тем его спасете.
— Но он-то как святой! Ему невозможно отказать! А как он нас гоняет за бутылкой! Это ж просто гипноз какой-то! Массовый гипноз! Я написал пять книг, но отчего-то никаких влияний не имею! А он всего-то репортажных фотографий понаделал в угоду времени, не вечному! Бомжи, веселые нищенки, целующиеся попрошайки, теперь уголовники… И всюду налет безысходности и смерти. Но все о нем, только о нем, и говорят. Я не понимаю, чем он обрел такую славу?! Но почему так дружно с дудками и под фанфары мы все за ним бежим в ту, даже не пропасть, в яму, яму! В придорожную канаву! Агония! Как мы её все любим! А все ещё не умерли! Быть может, оттого что все в России вечны?.. Спаси его! Спаси! Спаси всех нас от его заразительного пьянства! Ты можешь! Ведь он любит тебя как поэт!
Она вникала в его страстную скороговорку, и ей казалось, что не он, а она сама уже вдруг начинает бредить его словами. И сопротивление этому нарастающему потоку начинало медленно городить запруды:
— Поэт!.. — усмехнулась она, — Красивое оправдание — поэт… Но отчего-то тошно… Я не Анна Каренина, чтобы падать под его паровоз…
— Но ты же — женщина!..
— Но как ты не поймешь, что ему легче пожертвовать любовью!.. Какой там любовью — жизнью другого человека, чем пошлой привычкой!..
— Да-да… кивнул покорно Друид, — Он просто так ведет себя, как будто бы уже не существует. От этого он кажется загадкой. А тайна должна быть обязательно темной мрачной в сознании лишь тех, кто сам в себе не смог преодолеть животный мрак. Подумай, чем не тайна — кристалл алмаза играющий всеми оттенками света — ваджара! Ваджара — это алмаз! Ваджара сутра!
Алина почувствовала, что у неё кружится голова оттого, что она тщетно пытается угнаться за бегом его мыслей.
— Короче, что ты хочешь?
— Я знаю, что билетов не достать, но я вышел, тут, на мафию. Они из уважения к вашему делу… Вот два билета вам на поезд. Увези его!
— А как же выставка?
— Бог с ней! Мы все устроим сами! Мадам, как он вас называет, я прошу! — и вдруг Друид взмолился по-французски. Потом он долго лопотал на непонятном языке. Как показалось Алине, — на финском. Потом вдруг перешел как будто на арабский и так страстно, так эмоционально, что Алина вдруг заволновалась за него — не белая ли у него горячка?..
— Хорошо, хорошо, — погладила его по тонким черным волосам "мадам", Но почему на поезд?! Он же выпадет в пространство по дороге, а я его не удержу! Вот с самолета так просто не сойдешь!
Друид, как будто бы не слышал, он резко вскочил с колен, — Сейчас он вернется. Я чую! Я обогнал его не так уж и намного. Он осмотрел холл номера, в котором они вели свой странный диалог, распахнул дверцы антресолей над стенным шкафом и ловко запрыгнул в пустоту.
— Что ты делаешь! Да ты сума сошел! Зачем?! — схватила его Алина за ботинок
В ответ в антресолях показалась всклокоченная голова Друида, — Не забывай, что я писатель, — сказал он по-шпионски тихо.
И Анна растерялась — И что из этого?! Что?!
— То. Я не пойму — как и о чем вы разговариваете, когда вы без свидетелей. Ведь Фома немногословен. Он говорит всегда одни и те же фразы. И только ты беседуешь с ним с глазу на глаз. Лично! Я все же хочу разгадать эту загадку его гипноза, на другом интимном уровне! Все. Меня нет. Прощай! — он вырвал свою ногу и было унырнул совсем, пытаясь весь свернуться в улитку слуха в темных антресолях. Но тут она схватилась за другую. Друид в ответ зашипел из темноты.
— Ты что! Не понимаешь! Я профессионал! Я пишу о вас рассказ в стиле фэнтази.
— Вот и фантазируй сам!
— Тише! Он идет!
— О нет! Подслушивать!.. — Алина захлебнулась от возмущения, она была готова ко всему, но только не к этому. — Да кто б ты не был!..
Она вцепилась в его ногу мертвой хваткой и тянула вниз из-за всех сил. Друид брыкался, цеплялся, сопротивлялся и все же медленно сползал назад. И вдруг раскрылась дверь, и на пороге застыл Фома.
Немая сцена… действительно была похожа на сцену из провинциального спектакля.
Фома нашелся что сказать:
— Опять Друид валяет дурака, — и словно ничего такого не случилось, прошел к ней в комнату, попробовал включить телевизор, но телевизор был сломан, тогда вынул из-за пазухи газету, уселся в кресло, и стал читать.
— Ну вот… Ну вот… Ну все… Ну я пошел, — шептал покрытый пылью квадратной пустоты Друид, гримасничая Алине: ты, мол, про билеты не забудь.
Ошарашенная Алина вошла в комнату и села на постель. И принялась читать другую газету оставленную им на столике газету. Но ни строки прочесть не смогла.
— Ну что у вас там за секреты? — спросил Фома, не отрываясь от печатаного текста.
— Ты почему так рано?
— Надоело.
— Мне тоже. Может быть… поехали в Москву.
— Ты ещё не набрала материала. А я не сделал ни одного нормального снимка.
— Ну и пусть.
— Здесь, знаешь, как — обратной нет дороги.
— То есть как?..
— Начнем с элементарного — билетов не достанешь.
— А если я достану — ты поедешь?
— Но это невозможно. Не достанешь.
Они ещё поторговались несколько минут, она не выдержала и дала ему билеты.
— Понятно. Это происки Друида. — И он разорвал последнюю надежду
Тут в комнату влетел Друид, — Но Фома! Спаси хотя бы Алину! Ведь она!.. — и он застыл в молитвенной позе.
— А что она? Живет в тиши, в гостинице, не пьет… Ей делать дома нечего. Ты понял?
Алина, побледнев, откинулась затылком к стене и уставилась в потолок. Прозорливость этого постоянно пьяного героя поразила её. Ей действительно нечего делать в Москве. Разве что вновь томиться в былых нерешаемых проблемах. Вся она давным-давно не для такого, не о том, она уже не вписывается в свое прошлое. Как будто даже группа крови её переменилась…
— И сколько же вы будете здесь торчать?
— А сколько нужно, столько и будем?
— А сколько нужно?
— До конца.
— Но до какого?! — воскликнул Друид.
— До логического. Понял?..
"Что ж… — согласилась с ним про себя Алина, — Логично, хоть нет логики здесь никакой". И машинально посчитал её мозг:
ОСТАЛОСЬ СТО СОРОК ПЯТЬ ДНЕЙ.
И тут же встряхнулась и по-женски начала осваивать невменяемое пространство:
— Что ж!.. Если так, то дальше так же невозможно! Ведь я элементарно голодна!
— А может быть, пойдем в столовку?
— О нет! Я там уже была.
— Нельзя же быть настолько утонченной. Мы все-таки с тобой по зонам ходим, сколько видим!..
— Я приглашаю всех вас в ресторан, — взмахнул торжественно рукой Друид. Все это время он стоял в дверях и с любопытством смотрел то на Алину, то на Фому, словно ребенок вертя головой.
— Нет, — отрезал Фома, — В ресторан я не пойду. Обязательно морду набьют.
— Ну почему обязательно?! — воскликнула Алина.
— А потому что. Так всегда бывает. Без драки в рестораны не хожу.
И все-таки они пошли. И все-таки наконец-таки поели. За время пребывания в Екатеринбурге, Алина впервые отпробовала горячую пищу. Но… куда приятнее было то, что настроение их неуемно поднялось. Они играли, словно дети, в карикатуру на светских людей, и Фома заигрался. Выходя из ресторана, куда они зашли без верхней одежды, поскольку ресторан располагался рядом с гостиницей, Фома вдруг подскочил к швейцару и раскорячился спиной — мол, подайте мне пальто.
— Чайво тебе? — возмутился старый фронтовик, швейцар, — Во! Клоун! Ты смотри — и цаца твоя улыбится…
— За цацу ответишь! — резко фронтоном к нему развернулся Фома.
Но бывалый старикан был куда лаконичней — ударил сразу.
Фома отпрянул, разинув рот от удивления. Но… Не бить же старика!..
И хохотала Алина на морозе, пока старик с вытолкнутым Фомой объяснялись через стекло дверей, строя друг другу невероятно комические рожи. И бесполезность всех сопротивлений заполнила раскисшей пустотой фантазии Друида.
ГЛАВА 24
И вновь холодно, словно спектакль через толщенное стекло, воспринимала Алина реальность.
Что делать?! — изнеможенно ныли женщины, — Сил нет. Он раньше приезжал к нам на недельку, и это было очень весело тогда. Но третью неделю… Сначала пили, потому что вы приехали. Потом по поводу твоей белой горячки. — Перебивала одна другую. — Потом отметили начало ваших похождений по этим тюрьмам… Потом, уж без тебя, мы отмечали, что дали зал под выставку… И все по несколько суток подряд! Теперь скорбим и пьем оттого, что у Фомы синяк под глазом и в таком виде он не может поехать в Нижний Тагил. Когда ж это кончится?! Раньше мужчины так… выпивали, теперь же превратились просто в профессиональных алкашей… Все оттого что нету жесткого режима, вот чем опасна творческая жизнь!.. Так это твой!.. А мой, как ни странно, ещё умудряется через день преподавать в Университете! Вот интересно, какие лекции он там читает с серьезной миной лица?.. Да он же с кафедры когда-нибудь слетит, как фарфоровый божок! Весь разлетится по осколкам, а мне его потом приводи в себя, вновь делай из дебила человека! Да что же это за сизифов труд! Аля, пожалуйста, придумай хоть что-то!.. Нет больше сил!
Вчера напились и подрались, кто тоже гений, кто ещё не гений, теперь у всех по синяку. Позавчера Друид принес вдруг пистолет, и все носились с ним по крыше. Слава богу, что пистолет был куплен в детском мире! А ведь устроили дуэль. Ты посмотри, они теперь раскрашены, как спитые бандюги, горланят песни по ночам, да так, что все соседи… И кто поверит, глядючи на них, что это цвет интеллигенции Урала?!
Алина качала головой в ответ, — А вы? — спросила, не зная, что и сказать.
— Что мы? Ведь мы же столько пить не можем!
— Они закатывают нам ежевечерние концерты, а мы надеемся и ждем.
— А давайте им в ответ такой концерт закатим, чтоб им мало не показалось?
— Но как? Ведь мы ж не можем так подраться, чтоб понаставить друг другу синяков. Потом за водкой бегать по таксистам…
— Зачем нам драться. Елена, у тебя есть грим?
Когда мужчины, уже заранее встретившиеся на улице, вошли в квартиру Климовых, чтобы продолжить свое, ставшее уже традиционным, ежевечерне-всеношное пьянство, им открыло дверь странное создание раскрашенное под плачущего Пьеро с натурально хрустальной слезой приклеенной под глазом. С трудом в нем угадывалась жена Копытина, — А… это ты, моя Коломбина? — спросило создание Копытина манерно-писклявым голосом и лианообразно колыхнулось в сторону.
Как ни пытались женщины изобразить на своих лицах побои, свободная фантазия зафантанировала и надиктовала им свое.
— Что это!? — воскликнул Климов, угадав свою жену Елену в лице клоуна с размалеванным ртом до ушей. Но когда вышла поэтесса Горюшко — вся в синяках вокруг глаз — не понятно, то ли только что из морга, то ли вообще инфернальное чудовище, а за ней руки в боки появилась с боевой раскраской краснокожего Анна, и объявила: — "Все. Кончились ваши деньки. Теперь пьем мы!" — мужчины совершенно растерялись и сникли. Они разделись и, не заходя на кухню, где обычно проходило основное действие пития, пошли в комнату, единственную комнату Климовых являвшуюся одновременно и спальней, и детской, и кабинетом, и гостиной, расселись на диване и, включив в телевизор, уставились в экран.
— Может, все-таки примем? — достал бутылку Копытин.
— Ты что! — воскликнул Климов, — Если у баб крыша поехала, то это уж полный конец! Если уж бабы запили то это!.. — Он ошарашено мотал головою, не находя нужных слов, — Им такое может прийти в голову, такое!.. Все, мужики, — сухой закон! Мы должны сохранять трезвость и бдительность. Что-то будет.
— Так, что же у нас теперь по программе? — заговорщически поинтересовалась Горюшко.
Женщины сели за стол на кухне, не зная, что делать дальше.
— Главное — не упускать линии поведения — шокировав одним, тут же шокировать другим.
— А чего же они обычно делают дальше? — спросила Алина
— Чего-чего?.. Разговаривают, то есть орут так, что соседи прибегают. И о чем же так можно орать?
— О политике, о поэзии, о всяких аномальных явлениях — перечислила жена Копытина.
Они попробовали говорить о политике, но должной страсти в них не пробудилось, им в сути были равно скучны все политические деятели. Как мужчины, они явно не возбуждали никакого интереса, как политики… ох уж эти мужские, а у нас, скорее мужицкие игры!.. О поэзии… поговорили, почитали стихи. Но крика надрывного опять не получилась. О чем еще… об НЛО… о барабашках… Нет, слишком тихо. Уж двадцать минут, как там за стеной мужчины прислушиваются к их обыкновенному женскому лепету. Так не пойдет!
— Вот уж эти мужчины, — покачала головою Алина, — Ну почему они до старости лет позволяют себе фантазировать, словно дети, а мы, даже выпив, соблюдаем трезвость. А выпьем — позаигрываем с тем же мужским полом — вот и все удовольствие, как скучно. Никаких разнообразий.
Полоски на её лице змеились, как живые змейки.
— В крайнем случае, женщина, перебрав, падет. И все. Но это уже не интересно. — Добавила Елена и углы её гигантских нарисованных губ, чуть-чуть расплывшись, потекли.
— И её тут же подберут и превратят в половую тряпку, — отозвалась жена Копытина и назидательно посмотрела на Горюшко.
— Вот жизнь. И никакой игры! Ну почему мы так не можем разыграться, что б бегать вдруг по крыше босиком, перестреливаться из пистолета, в котором нет патрон, в окно, в конце концов, вдруг выпасть!.. распереживалась Алина. — Ну почему у женщин все-все должно быть в норме?! И ничего неожиданного! Все как по рельсам! Да только по ржавым уже…
— А как они потом серьезно мучаются по утрам, как искренне болеют, как будто дом построили вчера!
— Да все у них с таким серьезным видом!.. Любая чушь!
— А нам?! Давай — рожай! Корми! Воспитывай! Заботься! И в доме чтоб было прибрано! И выглядеть сама должна так, чтобы нравилась, а сами!.. Для них и дело, как не труд, а развлечение.
— Еще хотят, чтоб женщина была красива, а посмотреть на эти рожи!..
— А я думают, что если б не они, как бы жизнь была спокойна и разумна! А деньги!.. Тратят больше, чем добывают, черти! Да если бы вдруг я пришла домой и заявила, что пропила всю зарплату?..
Они так распалились, что к их крикам с тревогой прислушались мужчины.
— Девчонки, здорово! Ведь мы уже кричим! Что дальше по программе?
— Дальше песню надо спеть.
— Нет. Сначала надо к таксисту за водкой. Я спрятала на чердаке бутылку. Кто побежит за нею? Посчитаемся, — Елена вспомнила считалку, Аты-баты…
— Ого! — они уже собрались по таксистам! Они с ума сошли! — Мужчины уставились в щель приоткрытой двери, готовясь на излете схватить, каждый свою.
В холл выскочила Алина. Фома сорвался с насиженного дивана и преградил ей выход:
— Мадам, куда это вы собрались?
— Как так куда? Маршрут известен!
— Да ты сума сошла, мадам, ты посмотри в каком ты виде!
Но не было страха у неё показаться некрасивой, неприличной. Жизнь социальная уже настолько поразила её известиями о своих многообразных формах, сплелась в клубок под горлом катаклизмом всех понятий, что больше её не интересовали её указатели и ориентиры. И с чувством, что она сама по себе, и надеяться не на кого, и не перед кем красоваться, но можно всласть наиграться напоследок, поскольку жизнь ли — смерть ли — все, все мерзко безнадежно, если это не игра, — она стремительно погрузилась в ещё неизвестную ей игру. Игру: "ответ мужскому полу".
— А в каком я виде?! А вы — в каком виде бегаете к такси?..
— У нас всегда серьезный вид, хоть бы и с бланшем под глазом.
— И у меня серьезный вид, не видишь, что ли, я боевой раскраске! Я опасна! Прочь с дороги, ты мужчина! Что ты против меня, когда я женщина в загуле!
— Нет. Только через мой труп! Только через мой труп!
— Ах, через труп, — лицо дико раскрашенной мадам, вдруг озарилось хитрой улыбкой, — Да все пути ваши усеяны одними трупами из женщин, что мне твой труп! Я все равно пройду.
— Нет. Не пройдешь.
— А… ну тебя! Не драться ж мне с тобою, — махнула рукой Алина и пошла в туалет.
Фома отошел от двери, и попросил Климова прикурить. Пока прикуривал, заметил, как мелькнула фигура Алины в коридоре и хлопнула входная дверь. Доля секунды — и он оказался на лестничной клетке, а там никого. Лифт молчал. Он бросился вниз, перепрыгивая через ступени, выбежал из подъезда никого.
— Быть не может, — отозвался Копытин на переживания Фомы. — Не могла же она раствориться.
— А вообще-то твоя подруга странная женщина, — покачал головою Уточкин, — Она, мне кажется, на все способна.
— На все! — Гордо кивнул Фома, и тут же добавил, — Но ведь не до такого!..
Тут в дверь позвонили, Фома открыл и увидел Друида. Друид, видимо, решил эстетизироваться на сегодня, и был в строгом костюме, при широком галстуке. В руке держал букет цветов для хозяйки дома. — Как так — жить на Урале и без хризантем?!
— Ну, гад, Друид, — угрюмо Фома перекрывал ему дорогу, — Зачем ты летом бегал в полушубке?! С тебя-то все и началось!
Друид, готовый ко всему, немного обалдел и стал похож на попугая. Склонив голову на плечо, затараторил вдруг скороговоркой, — Как так — в такое лето и без тулупа на Урале!
— Смотри, чем кончился твой выпендреж! — Подлетел к нему Климов, Бабы!.. — взвыл он, — Фома, прав, ты начал, ты!
Я? Что я?
Тут с кухни донеслось нестройными женскими басами, подделывающимися под мужские голоса: — "Э-эх, любо братцы любо… любо, братцы жить…"
— Что это? — Шепотом спросил Друид, чуть приседая, словно прячась от возможных подзатыльников, пролизнул в квартиру. Климов захлопнул дверь, но тут же дернулся, за его спиной звонили и одновременно колотили в дверь ногами.
— Кто это?.. — переспросил Друид.
— Вождь Краснокожих, — мрачно ответил Фома и резким движением распахнул дверь.
На пороге стояло нечто в мужской рубахе, выбившейся из-под джинсов, раскачиваясь, как моряк во время шторма, размахивая бутылкой, стояло нечто с перекосившимся лицом, раскрашенным алыми и синими полосками, с вороньим пером во взъерошенных волосах, то — что когда-то называлось Алиной.
— Мама мия! — и влюбленный Друид упал на колени: — Аля, Алечка, Мадам!.. Я прошу тебя, прекрати! Ты ж взрослая женщина!..
— А в-вы? — Подражая пьяницам, выразила Алина свое удивление, — Никак не пойму. Вы взрослые люди?.. Йи-ка… — неудачно изобразила она икоту, Все. Ваш бронепоезд уже на запасном пути.
И отстранив Друида, прошла сквозь строй мужчин распластанных по стенам.
— Что делать, девчонки, водку пить неохота, — под басистые завывания, отбивая ритм песни по столу и притопывая ногами, поморщилась Алина.
— Давай её выльем, а воду нальем, — на секунду прервала свое пение жена Копытина.
— Мужчины нас бы убили… — заметила Горюшко, — … А первая пуля… Священный продукт.
— Наконец-таки я расправлюсь с этой гадостью, — схватила Елена бутылку и ловким движением сдернув бескозырку, торжественно длинной струей начала медленно выливать в слив раковины священный продукт русской эпохи.
— Но выпить надо по чуть-чуть. Для куражу, — заметила Алина.
Тем временем они уже раз третий пробасили одну и ту же песню. Их голоса в конец охрипли. Но женщины ещё держались.
— У меня в сумке есть сухое, белое. Давайте перельем в бутыль от водки, — предложила Копытина. — А подумать только, я ведь тоже была художником! И не плохим! А как с ним стала жить, так все, что я не рисую все не то, а он!.. Он — гений априори!.. Что мне — здесь мебель поломать? Иль выпрыгнуть из окна? Что б доказать, что тоже существую, как творческая личность!
— Холодно в окна прыгать, — усмехнулась Елена, — Не сезон. Подожди, когда сирень зацветет.
— А зацветет ли она, после моего Копытина?.. Вот в чем вопрос.
— А давайте, играть в салочки, — предложила Алина, сама от себя не ожидая такой идеи.
— Здесь тесно!
— А тем громче будет.
Климов тихонько приоткрыл дверь кухни подглядеть, что ж там такое-то твориться. С чудовищно размазанным гримом по лицам, взвизгивая, подпрыгивая, женщины хаотично носились по десятиметровой кухне, сшибая табуретки, натыкаясь на стол, шкафчики и стены. Никакой системы в их передвижении проследить не удалось. Климова прошиб пот. Белая горячка, подумал он и осел по стене.
— Ле-е-на, — взвыл Климов трубным голосом волка в огненной облаве.
— …Жинка погорюет… — задыхаясь от быстрого бега, продолжала песню Копытина.
— Му-у-вжик, — поправила её Алина, — Му-у — вжик погорюет…
— Му-у… — подхватили женщины хором, не переставая носиться по кухне — …вжик… — словно оттачивали нож, — … погорюет.
— Ле-е-ена! — выл Климов, ввалившись в кухню на коленях. Устремился за отскочившей женой, упал на четвереньки, но ухватил её за полу длинной юбки, — Я умоляю, я прошу — остановись!
— Я две недели тебя прошу остановиться, — неожиданно трезво отсекла его Елена, и продолжила при поддержке подруг, — … выйдет за подругу и забудет про меня…
— То ты, а то я, — встал в полный рост Еленин муж.
— Вот как, а чем Елена хуже? Почему это тебе можно, а ей нельзя, вмешалась Алина.
— А потому, как на женщине все держится, на женщине! — выпалил Климов, — Вот, если я загуляю, ничего такого не изменится, а вот если жена!.. Это ж все, конец семьи получается! Е-е-лена!.. — и выскочил из кухни.
— … жалко только Горюшку в незамужней долюшке, — переделывали порядком надоевшую им песню женщины, — … деточек да бабушек… да птиц над головой…
— Мужики! Держите баб! — влетел в комнату Климов, — Беда!
Мужчины растеряно переглянулись между собою, встали, пошли было к дверям из комнаты, да так и не решились переступить её порога.
— Может быть, продержимся до рассвета? — почесал Фома затылок, — А потом они сами попадают.
— Какой попадают! Из окон они попадают! — взвыл Климов, — Они уже допились до чертиков, по кухне носятся, словно от крыс спасаются. Вы контролируйте, я побежал за последним спасением, — и выбежал из дома.
"Последние спасение" давно пребывало в эвакуации у бабушки, в доме напротив.
Когда Климов ввалился с ещё окончательно не проснувшимися, не по-детски встревоженными сыновьями Елены, женщины замерли. Такого каверзного поступка они не ожидали. Лишь сумасшедший взгляд Климова оправдывал его. Дети! На колени! — вопил он весь, дрожа, — Молите! Спасайте свою мамочку!
Старший, двенадцатилетний Антон, сразу оценил обстановку и понял, что с мамочкой как раз все в порядке, а вот с папочкой что-то не то.
— Ты чего, отец, не допил что ли? — он сонно уставился на Климова
— Антон! Как ты смеешь разговаривать с папой! — возмутилась Елена.
— А че, вы тут театр разыгрываете, бабушку будете в час ночи, меня с Минькой в зрители из постели тянете, а я тут должен перед вами расшаркиваться.
Ленины подруги тихо захихикали.
— Выйди вон! Вон! — пафосно завопил Климов, — В то время как мать твоя гибнет!..
— Как это я с вами ещё не погиб, не понятно. — Тихо проворчал Антон и ушел из родительского дома, назад, к бабушке.
Тем временем первоклашка Минька, плотно прижавшись к отцовской ноге, смотрел на мать с кровавыми подтеками вокруг рта, с черными морщинами вокруг глаз, до него не доходило, что это грим. Он верил отцу, всему его пафосу, и тихо плакал, понимая, что с мамой действительно случилась беда.
— Миня, Минечка, ну что ты маленький, — кинулась к сыну Елена, схватила его на руки, и ребенок, уткнувшись ей в плечо, заревел в голос.
Концерт окончен.
ГЛАВА 25
Алина проснулась у себя в номере к полудню. Опустила руку с постели и коснулась сальных волос Фомы. "На месте. Значит все нормально. Все как всегда. Только я вдруг вчера совалась. Ну и что. Я была сама собою. Но кто я? Что общего между мною вчерашней и позавчерашней? Между мною сегодняшней и прошлогодней? Ничего… никакой логической связи… Кажется, я нарушила ход времени, его поступательное движение. Ведь вчера мне было тринадцать лет. Настоящие тринадцать. Значит, возраст — понятие линейное, а сошла с рельсов и полетела, как самолет. Странное ощущение. И совесть не мучает. И не стыдно…" — она встала вошла в ванную и увидела себя девчонкой, какой там девчонкой, в отражении на неё смотрели глаза ребенка. "Люди превращаются в детей перед смертью. Но это же в старости!" Неужели это конец?" — подумала она, попыталась сосчитать оставшиеся дни до отмеренного срока, но сбилась и поняла, сто не может. Совершенно не может произвести в уме ни одного математического действия, затрясла головой, пытаясь обрести хоть какую-то ясность, и сама себе в слух назидательно произнесла:
— Вот так-то… Все смешалось в моей голове, словно в доме Облонских.
Так что же день грядущий нам готовит? Еще один день… И тут она вспомнила, что, что-то давно не было у неё болей. Да… с того самого раза… с того… Но с какого момента точно вдруг все это прекратилось?.. Невероятно, казалось, все это было так давно, так давно… словно приснилось, все-все приснилось. "Странная, штука эта жизнь, подумала она, так живешь, живешь, а все, в конце концов, кажется сном. Неужели то, что было вчера, действительно было и я способна на такое безумство?.. А дальше что?..
А дальше что?.. Они стояли в художественной мастерской ещё одного гения. Она, Елена, теперь вместо мужа взявшаяся сопровождать их. Климов дал слово во имя спасения семьи не пить больше и не опохмеляться, а закодироваться и теперь предварительно усиленно не пил, кряхтел, вздыхал, бродил по квартире, но не пил. Остальные соучастники бесконечного действа ещё не очнулись в такую рань — обеденное время.
Мастерская художника Слепова была подобна всем мастерским из тех, что размещаются обычно в подвалах, или нежилых домах — горы предметов непонятного назначения и происхождения, одним словом, помоечный антиквариат, под старинным колченогим столом Алина заметила ящик с бутылками слабо задрапированный алым знаменем. И сразу поняла, что и здесь их ждали капитально и надолго. А где картины?
Егор Слепов отдернул сшитые полотнища цветастого ситца, которым была зашторена стена, и обнажил огромный в небесно-голубых подтеках холст. Вертикали стекающей краски плавно переходили в фигуры.
— Небесная оратория, — улыбнулась Алина его прозрачной живописи.
— Да это я так… от нечего делать… Вот не дописал… да и не живопись все это… Так… мазня… — чесал затылок от неловкости конопатый Егор Слепов.
— А мне… мне нравится, — сказала Алина, — Мне кажется, что мне вот так же что-то снилось. Я помню, это ощущение от вертикального неба. А ты "мазня"!.. Я б так хотела попробовать порисовать, потрогать кисточкой холст… — Она задумчиво отошла подальше.
Фома заметил, как она погрустнела. Ее эмоции так часто и так явно отражались на её лице, что ему порой казалось, что он уже умеет улавливать ходы её мыслей. Но чаще она была грустна, или же глубоко сосредоточенна на чем-то сокровенном. Но он любил, когда вдруг наивная и мягкая улыбка появлялась на её лице. Но если чуть задерживалась больше — грустнел он, шепча себе под нос — "я никчемный человек…" поглядывая на неё исподлобья. И чувствовал, что Алине это все равно. "Так значит, я ей нужен и такой?" чуть вспыхивал и тут же гас, не веря. А может быть она глупа, настолько, что ничего не понимает?.. А может быть, её — как и всех других — прельщает его слава? Не похоже. — Так думал он в который раз…
А золотистый, словно паренек с завалинки, художник Егор, тем временем почесывал затылок, оглядывался то на свое творение, то на Алину, и произнес лениво деловито:
— А… можешь дописать. Я это так… Мне этот холст пока не нужен.
Тут Алина нерешительно обернулась к Фоме, как бы желая взглядом обрести его поддержку и попросить потом кисть, он улыбнулся ей в ответ, ему нравилась такая чистота по отношению к нему, он в ней не видел той манерной фальшивой надоевшей богемной подоплеки.
"Ну прям, как девочка!" — подумал он и отвернулся, чтоб другим не обнаружить свою слабость. Отвернулся и вдруг заметил ящик под столом и замер, сосредотачиваясь — что к чему.
Вчера клялись не пить.
Он отвернулся тут же, словно лукавая дворняга, завидев помойку в присутствии хозяина, но Алина успела уловить его мучения. И несколько ажиотажно схватила кисть из банки, уставленной кистями, и затрясла ей, словно не терпелось начать вдруг рисовать, но Фома-то знал, что вся она трясется от вопросов: Что делать? Делать что? Ну надо ж что-то делать?!..
— Что ж, Егору, а вы можете действительно позволить мне порисовать на вашей картине? Тогда давайте краски. — Обратилась она к Егору, стараясь не выдавать своего волнения, от чего голос её звучал несколько надменно. Нет, тут уж невозможно было ей противостоять.
И сразу получив все, что ей захотелось, застыла в нерешительности перед чужой задумкой. Она когда-то пробовала рисовать, но это было так давно, что как и с чего начать — не знала.
Фома, тем временем обойдя всю мастерскую и перетрогав все странные астролябии, бутылки из-под "Смирновки" прошлого столетия, ракушки и детали кованых оград, встал у окна в великом напряжении и медитировал, не глядя на ящик под столом, но чувствуя его всем телом. Медитировал почти моля и ожидая, когда же вдруг свершиться чудо. Ведь так не может быть, что б было то, что можно выпить и не выпить!..
Тем временем Елена болтала с Егором об их общих знакомых. Уж как-то слишком мирно проходило знакомство с этим Егором, очередным из гениев Екатеринбурга. Фома взглянул на Алину.
Та увлеченно перебирала тюбики красок, уложенные в ящик из-под бананов.
С усмешкой вспомнил о Друиде, наверное, ещё не пришедшего в себя от вчерашнего; а может быть, чего-нибудь сейчас кропающего дома, — "как так, жить на Урале и не поесть бананов?.." И усмехнулся и снова пошел бродить по мастерской, расположенной в огромном старом, купеческом срубе, в растерянности перебирая вновь все, что ему попалось на глаза, — от старых чугунных утюгов и печных заслонок, до медных пуговиц почтмейстеров, вагоновожатых, былых времен.
Елена, разговаривая с Егором, тревожилась о Фоме. Она одна не ведала о мине, прикрытой переходящим знаменем героев соцтруда. Не чуя близости беды, могла себе позволить сочувствовать Фоме. "Ах, как же ему трудно, — все пить и пить, и вдруг не пить". — Вздыхала про себя она. Но в тоже время радовалась тому, как удалось им вчера напугать мужчин и довести их до того, что все они в итоге этой ночью ей честно поклялись, что больше никогда, ни-ни. И так все ясно получалось!.. И такими чистыми глазами они вчера смотрели женщинам в глаза, что невозможно было не поверить. Теперь ей оставалось лишь одно, придумывать такие культурные программы, чтоб было интересно и без водки. И это ей как будто удалось.
Но вдруг дверь распахнулась и с мороза, заснеженный, как сумрачный пингвин, влетел Друид.
Он всхлипнул и плюхнулся на дряхлое допотопное кресло. И с грохотом рухнул. Но, как ни в чем ни бывало, продолжал всхлипывать на обломках, Мой кот… Мой бегемот… Мой бегемоша!.. Скоропостижно… Ночью… То есть под утро… Я вызвал скорую помощь, для людей, а чем он хуже, они ж меня послали матом, а он не вынес этого, он посмотрел с укором и скончался на моих руках. О боже!.. — и после молчаливой паузы задумчиво продолжил, — Как так, прожить под наблюдением такого мудрого кота такие творчески насыщенные годы и вдруг не помянуть.
— Как?! Бегемот погиб?! — Хором вскрикнули Фома и Алина. Переглянулись и вспомнили танец любви под кошачий прищур… Алина потупила глаза — "это было?.. Это действительно было?.."
— Умер от энтерита. Каков был философ. Лежал на диване, на спине, нога на ногу, и разве что кальяна не хватало. Как так…
— Да… — Вздохнул Фома и наклонился, чтобы как бы вовремя, в тот самый нужный момент вынуть из-под стола бутылку.
— Нет! — в ужасе оттолкнув Фому, крикнула Алина, — Все! Уходите отсюда. Я буду рисовать, рисовать, рисовать и больше ничего…
— Как так, — уставился на неё Друид, — А кот? Кто кроме нас помянет его душу?
У Алины не хватило слов, и плотно сжав губы, она смогла лишь отрицательно замотать головой.
— Ну и как это ты будешь рисовать? — опять почесал затылок Егор, гостья из Москвы его озадачила своим поведением, с котом же Друида он был не знаком. И совершенно не понимал о чем идет речь, что происходит.
— Не знаю, — растерялась на секунду Алина, — А давай вместе. Как на пианино — в четыре руки.
Друид поднялся, и обломки кресла рассыпались безнадежными деталями былого, — Аля, Алечка… — он гипнотически смотрел в её словно ничего не видящие зеленые с расширенными черными зрачками утягивающие куда-то за предел возможного глаза, и постепенно приближаясь к ней, он лепетал, срываясь вдруг на шепот, — Алечка, да ты сошла с ума. Что ж ты творишь такое второй день. Я понимаю, что беда одна не ходит. Вот умер кот, а ты как будто заводная, не чувствуешь как будто ничего.
— Не приближайся! — топнула ногой Алина, — Ведь ты не знаешь, ты не знаешь!.. А я знаю, что от чего и к чему!
— Я чувствую…
— Нет! Все уходите, все. Я буду рисовать. Я больше не могу.
Пошли, пошли — похлопал Фома Друида по плечу. Все это время он смотрел на Алину, не отрываясь, "глазами, быть может, змеи". Так мудрый взгляд на самого себя и все вокруг, определил когда-то Ходасевич. Как ни странно, но люди пьющие помногу и давно, порой оказываются пристальней к другим, а трезвенники невнимательны настолько, что прибывают порой в большей иллюзии, чем постоянно опьяненные вином.
ГЛАВА 26
Они взглянули друг на друга с немым удивлением — Алина и Егор. Они не ожидали, что их оставят вдруг вдвоем.
— Что ж… будем рисовать, — вскинула руки Алина, словно открывая представление.
— Может, выпьем для начала?..
— Давай, помянем, все-таки кота. — Кивнула она, понимая что, не приняв зелья, он будет чувствовать себя как в оковах.
Они деловито и молча принялись опустошать бутыль сухого.
Он думал, что она, наверное, под наркотой, или частичка безумной богемы, и сейчас… сейчас она его начнет, конечно, соблазнять. Он стал известным недавно, но сразу после первой выставки познал, какими страстными бывают женщины с мужчиной, в котором окружение признало талант. И было все же странно — она в Москве, наверняка, и не таких видала. А он-то что… А может быть она как нимфоманка, ей все равно какая слава, лишь бы… Он ждал, когда она, если не бросится на него, то хотя бы начнет заигрывать. Но вино в бутылке кончилось, а ничего.
— Ну что ж, приступим, — сказала Алина, подошла к холсту и словно дирижер взмахнула кистью.
Вот этого Егор не ожидал. Думал, это она нарочно придумала, чтобы остаться с ним вдвоем. Но все же взял другую кисть и ждал, что дальше сделает она, какое извращенное кокетство применит, чтобы соблазнить.
Она, выдавив берлинскую глазурь на палитру рядом с белилами, макнула кисть в растворитель. Он выжидательно следил за мимикой её лица. Ничего. Она мазнула кистью краску и прикоснулась ею к лику на недописанной, отданной на растерзание картине. Но ничего от её прикосновения не изменилась.
— Нет… Я слишком уж несмело, — задумчиво произнесла она и, подражая автору недописанной картины, почесала затылок. — Надо радикально…
— Радикально. Хм, — он усмехнулся, взяв кисть, мазнул ультра оранжевую краску и нанес крупный мазок на свою "небесную ораторию", как она её назвала.
— Да, ты с ума сошел! Да это ж слишком!.. — Возмутилась так искренне, что он даже поверил, что она осталась рядом с ним, что б рисовать. "Вот это да!.. Такого ж не бывает!"
Он точно знал, что баб по жизни интересует только лишь любовь. А эта взрослая, красивая, вроде бы без патологий мадам — неужто и вправду захотела рисовать?.. С такой целью в его мастерскую пробирались только лишь дети. Он усмехнулся, вспомнив, девочку лет восьми, отчаянно желавшую стать его подмастерьем, и посмотрел на Алину, да… она сейчас была похожа на нее. А он, дурак, надеялся на что-то!.. И кончик носа у неё по-детски вздернут, если приглядеться…
И посмеявшись тайно над собою, мазнул ей, возмущенной кистью по носу.
— Ты что это себе позволяешь?! — Возмутилась она, так словно не она внезапно появилась в его мастерской, а он пришел и занял её мир тотально. Он усмехнулся и мазнул её еще. Оранжевая люминесцентная темпера весьма концептуально смотрелась на её лице.
Она в растерянности обернулась и посмотрелась в осколок старинного зеркала прибитого возле окна и с криком, — Вот ты как!.. — накинулась, махая кистью, на него.
Когда, промерзнув окончательно, в экскурсии по старому городу, мечтая, не исключая Елену, принять немного для согрева, заинтригованные тем, какое предстоит увидеть им творение, все трое — и Друид, и Елена, и Фома бесшумно поднялись по старой деревянной лестнице, и Фома тихонько приоткрыл тяжелую клеенкой дверь, они увидели такое!..
Егор и Алина как два бывалых фехтовальщика, дрались на кистях, и прыгали, как каскадеры на съемках комедии про очередных мушкетеров, по столам, по тумбам, тумбочкам и стульям. При этом перемазанные так, что ужас охватил Друида, остолбенение Фому и полное непонимание Елену, Егор и Алина, держали по бутылке вина в левых руках и с воплями азарта каждый раз отхлебывали, отмечая свою победу, — нанеся мазок на противника. И все вокруг было заляпано оранжевым, зеленым, голубым. У зрителей в глазах зарябило. А эти… двое, словно и не заметили пришедших.
— Ша! — выскочил Фома в центр мастерской и поднял руку, словно секундант на ринге.
Бойцы застыли. Оглядев каждый себя, потом противника, они захохотали, словно клоуны, тыча пальцами друг в друга.
— Я победила! Победила! — хлопала Алина в ладоши. — Ты посмотри, как я его размалевала!
— Аля… Аля! — к ней подскочил Друид, хотел схватить за беснующиеся руки, но испугался перемазаться в коктейле из темперы и масла.
— Друид, кончай разыгрывать поклонника! — Мрачно одернул его Фома, Беги, лови машину! Быстро!
— Ой, надо ж как, как весело вы там, в Москве живете, — вдруг обрела голос Елена.
— Такие женщины, не то что бы Москве, они не снились и Чикаго! — И Фома словно полено, ухватив Алину все это время так и стоявшую на стуле, за ноги, взвалил на плечо.
— А… твой тулуп! Я в краске!.. — вдруг посетила Алину трезвость.
— Что ж, значит, будет концептуальным тулупом — символом сибирского авангарда.
ГЛАВА 27
Войдя в гостиницу так, словно все как надо — все путем, пройдя сквозь кордоны рты разевающих от удивления консьержек, вся перемазанная ярко, словно экзотическая птица свалившаяся в угрюмый сумрак из поднебесного карнавала, Алина, под конвоем Друида и Фомы, вошла в свой номер и захохотала.
Друид и Фома, переглянувшись и не сговариваясь, втолкнули её, не раздевая, под душ и, включив воду, принялись драить намыленными полотенцами её джинсы и водолазку.
Она замолчала и с удивлением смотрела на их сосредоточенные затылки сверху вниз.
Страдивари… Страдивари… шептала она, вдруг почему-то вспомнив, как хотела найти украденное творение великого мастера. Зачем?.. Быть нужной людям?.. Совершить перед смертью важное дело?.. Или просто коснуться её на прощание?.. "Да я не менее ценна, чем скрипка Страдивари!" — и озаренная пьяным откровением смотрела сверху вниз, как тактично драят её одетую в струи душа, словно в струны, два сосредоточенных музыканта.
— У нашего рода украли скрипку, — сказала она никому, — А взамен появилась я.
— Раздевайся, приказал ей Фома, когда отдраил последнее оранжевое пятно на её джинсах зубной пастой. И заметив её нерешительность, взяв под руку Друида, вышел из номера.
Когда вернулся, она уже лежала в постели. Влажные волосы её струились прядями по лицу, сквозь них проглядывали живые, усталые и лукавые зеленые глаза.
Фома отупело посмотрел на неё и пошел в ванную, достирал её мокрую одежду и развесил сушиться. Подошел к её постели. Она не спала. Она тихо плакала в подушку. Он погладил её по голове и взял оставленную им на столике книгу и принялся читать вслух.
Друид потихоньку, движимый творческим любопытством просочился в номер, он ожидал снова стать случайным свидетелем страсти.
Но Фома читал мерным голосом: — "…Если вы не хотите, чтобы я вас проткнул насквозь, поднимайтесь помедленнее.
Хантер повиновался.
— Можно мне обернуться, Майк?
— Валяйте, старина, но без глупостей.
— А что теперь, Майк?
— По-моему я выиграл во втором раунде.
— Несомненно, но остается ещё дополнительное время!.."
Это был совершенно обыкновенный детектив, но как красиво он его читал! Стоя, приклонив одно колено, перед её постелью, держа книгу у её изголовья. Друид аж тихо присвистнул, но они не обратили внимания на его появление. Друид прошел в комнату на цыпочках и, постелив свой тулуп на пол, улегся слушать.
Скульптурная композиция "Побег от жизни — сон", созданная самой жизнью, таким образом, была завершена.
— Я написал рассказ, где два героя — он и она, вы были их прототипами, на машине времени залетают к нам, на Урал, из будущего, и… сходят с ума, от бессмыслицы, великолепной бессмыслицы жизни! — сказал Друид, глядя в потолок с утра.
— Подлец. — Буркнул Фома, не отрывая головы от книги, на которой он вчера заснул. — Это ты нас закодировал на сумасшествие! А я-то дума, что же здесь не так?..
Она проснулась, приподняла голову и застонала.
Держи её, Друид! Держи, я побежал за пивом, — засуетился, одеваясь в свой авангардно расписной тулуп, Фома.
— Но уже тепло! Весна во всю! Весна!.. — выкрикнул Друид вслед невменяемому другу.
— Иллюзия! Это просто ты про весну во сне написал. Нас не проведешь. В суровом климате то, что вы называете весной — является лишь климаксом зимы. — Выкрикнул через плечо Фома и убежал.
— Зачем ты так? — спросил Друид, застыв и не решаясь даже погладить её по волосам.
— А что ты не понял? Тоже мне… про-за-ик, — презрительно хмыкнула она, — Пока я хулиганю, вы навытяжку стоите. О боже! — воскликнула она, и оторвавшись от плеча Друида, уж было хотевшего её обнять, рухнула на подушку головою.
— Аля, Алечка! — Друид стоял перед её постелью на коленях, — Но ты ж как камикадзе! И всех нас живых превращаешь в шутов постоянно последнего акта! Я понял. Понял! Но как же дальше жить?.. Агония какая-то. Агония. У всех, кто хоть чего-то начинает понимать, я вижу признаки агонии! А ты… ты просто…
— Агония, от греческого слова агони — соревнование, состязание, простонала она.
— С чем состязание?! С чем?!
— Со смертью. Какая долгая зима! Я больше не могу без солнца.
ГЛАВА 28
"Вы выиграли во втором раунде…" — навязчиво крутилась фраза в голове у Фомы из прочитанного детектива. И тут же её перебивали вчерашние выкрики Друида: "Агония!.. Состязание!.. Агони!.." Он брел за Алиной по зоне Нижнего Тагила и ничего не видел кроме её, чуть всклокоченного, затылка. Да… их связь давно превратилась в безмолвное соревнование. В соревнование… за что?.. И не расстаться уже, как расстаются неудавшиеся любовники — с истерикой, слезами и скандалами, с взаимными обвинениями бог весть в чем, или молча улизнув от неприятностей. Нет. Они как два соперника объединились, не ради победы одного из них, а ради того чтобы не падать до борьбы с неравными себе. Куда-то же нужно девать энергетическую силу…
"И началась безмолвная борьба… Зачем? — думала Алина, — Как хорошо достигнуть пьедестала смерти победителем… Кого? Чего?.." — и усмехалась сама себе, и понимала, что уже склонна уткнуться в плечо, просто в мужское плечо, и заплакать, заснуть… умереть… Но что-то не дает ей упасть в объятья Фомы, стать перед ним просто женщиной, просто умирающей и слабой.
А если б у тебя был миллион долларов? — прищурившись спросила Алина заключенного.
— Тогда б я здесь бы не сидел, я бы… — и лицо его потеплело от мимолетной едва уловимой глазу улыбки, — Я бы… грелся на пляже, на море… я б…
— Море… — задумчиво прокряхтел не опохмелившийся с утра Фома. Пространный взгляд его скользил по грязным дощатым стенам комнаты. Но тут он заметил, что пол недавно постелен пахнущими сосновой смолой досками и понял, что что-то тут не так. Что-то неправильно, но что?.. Прошелся по комнате, пока она брала интервью, пытаясь восстановить в себе логически настроенный мыслительный процесс. Но в голове было тихо, лишь поскрипывали его шаги. Яркий луч солнца пробился сквозь мутное окно, и словно ослепил привыкших к полумраку. Пошел снег. Казалось, что снова началась зима. Словно круг её нескончаем — лишь чуть поотпустит, и вновь первый снег. А ведь уже скоро май…
— Море… — закивала Алина, — Рестораны, пляжи, вернисажи… И ты в белом костюме! Как король! И девочки с голыми плечиками… и дамы с полными грудями — все твои!
— О бабах ни слова, — полушутя, полусерьезно пресек её перечисления рая япи Фома.
— Ни слова, — угрюмо кивнул осужденный.
Сопровождавший их воспитатель в погонах похотливо покраснел, захихикал и отвернулся.
— Неужели ради этого и стоит… — она осеклась. На неё смотрел не вор уголовник — на неё смотрел маленький загнанный, замызганный, несчастный человечек. Быть может, он никогда не видел моря, хотя чуть что — все воры раньше гоняли в Сочи на три ночи. Там их и ловили… Но почему же море? спросила она Фому.
— Размер другой.
— Ну да, — кивнул несчастный пойманный воришка, — Масштабность.
— Да нет. Другой размер строки, — Фома смотрел на Алину и говорил лишь ей, не обращая внимания на удивленных воспитателя порока и носителя его, Сравни "Илиаду" и так… стишки. Размер иной — дыхание другое. Дыхание меняется — и внутреннее время измеряется иначе. Море, как понятие, исключает суетность. Море… Лишь ты и вечность…
"Лишь ты и вечность… — повторила она про себя, но почему-то не вспомнила Лазурного берега, вспомнила пустыню, и поплыли перед глазами Египетские, уже рассыпающиеся бывшие горы за горизонтом и мелкие осколки их под ногами…поступь бедуина, поступь верблюда… Взгляд бедуина полный внутреннего достоинства. Словно только он знает нечто, что тебе — хилому туристу не дано. А что он знает? Что такого?.."
И пошла по комнате, не видя комнаты, и пошла по длинному узкому коридору, не видя коридора, и смотрела в туманный заснеженный просвет в конце туннеля серой узости. И вышла на свежий воздух. Шел снег. Крупные хлопья. Оглянулась — кругом дощатые бараки, побеленные снегом, — где она? В древнерусском городище? Нет. В лабиринте. В лабиринте первичных построений…
— По зоне передвигаться в одиночестве нельзя, — догнал её Фома.
— Да брось ты. Что здесь может случиться? Все так глупо, что все ничтожно. Все. Все так… Лишь шевелится, а кажется — что живет.
— Конечно. Потому что не шевелиться нельзя — снегом заметет.
— Постойте здесь, — догнал их очередной Правдухин, — я сейчас приду.
— Заметет…
— Тебе не кажется, что мы для этих, как инопланетяне, — побрел за ней Фома.
— Что-то мне последнее время кажется, что я для всех как инопланетянка, или все для меня с другой планеты. — Она отвернулась и тихо добавила, — И ты.
Но он услышал. Услышал и промолчал.
Они машинально завернули за угол, впереди белело огромное пустое пространство плаца. Никого. Все находившиеся в зоне где-то работали.
Шел снег, шел и шел. И они шли. Ступали по нежному белому снегу.
Алина вынула руки из рукавов дубленки и накинув её словно бурку, поежилась, глядя на тощую кошку, пробирающуюся по низкому подоконнику к форточке. Алина освободила руку от перчатки и, собрав снежок из ледяного пуха под ногами, поднесла ко рту.
— Брось! Сейчас же брось! Простудишься! — стукнул её по ладошке Фома, так мать ему приказывала в детстве.
Она хотела сказать ему вполне серьезно, что ей так хочется, что уже взрослая и давно… как вдруг что-то тяжелое, пышущее потом, жаром, и какой-то химией — то ли соляркой, то ли скипидаром навалилась на нее.
Заскорузлая ладонь заткнула ей рот, капюшон упал на глаза. Кто-то мощный, огромный, властный и резкий, схватив её за поясницу и спеленав накинутой дубленкой, куда-то поволок.
Мир перевернулся. Мир играл с ней в темную. Сердце то билось часто, то замирало. Она брыкалась, пыталась кричать. Но бесполезно. "Как странно здесь же зона, здесь все просматривается с башен… Здесь…" но поняла, сдавшись неожиданности, — никто не видит, потому что идет снег… Снег завис объемной шторой, снег нес зло своей тишиной.
Удар ногою в дверь. Тяжелое дыхание в ухо, скрип половиц, и нестерпимый запах мелкой прогорклой рыбы и капустных щей… Ударилась коленкой о стену и не почувствовала боли.
Почувствовала, как её легко, словно пушинку, закинули на подоконник. Хотела дернуться, чтобы разбить стекло и вывалиться наружу. Но мощная рука держала её за талию. Алина тряхнула головой, и капюшон слетел. И почувствовала, как вспотевшая её голова обдувается холодным влажным ветром.
Теперь ей было видно, — обветренная кожа щеки одутловатого лица, какой-то жуткий тип у другого окна, с искаженным зверской улыбочкой, словно надтреснутым лицом. Он пытался выставить Фому в окно, но Фома сползал, как будто мертвый.
— Что вы с ним сделали?! Что?! — закричала она, вырываясь, и крик сорвался на сип. Получив удар по голове, пригнулась, и над ней, в распахнутую форточку, выставив какое-то приспособление, похожее на рупор, орал тот, что держал ее:
— …они у нас в заложниках! Даем вам десять минут на ответ… деньги, машину… Иначе мы прикончим москалей!.. Давай, ори, — услышала она над ухом тихий хриплый бас. И в губы вдавился узкий конец раструба.
Она хотела крикнуть, но крик застрял в горле. Она смотрела на Фому. Ругаясь, тот, что занимался им, шлепал Фому по щекам. Фома очнулся, мутно оглянулся и, увидев Алину, прижатую к оконной раме заключенным, прищуром навел зрение на резкость. Он смотрел ей в глаза, она — ему… Наступила пауза — настоящий взаимный гипноз — время словно остановилось в них, — ни звука. И вдруг, все снова вокруг как очнулось. Словно желая показать насколько он бессилен помочь ей, а быть может, от сочувствия, от нежелания присутствовать в ситуации, Фома закатил глаза, и откинувшись головой назад, со всей силой ударился лбом об стену, после чего вновь потерял сознание, но приподнявшись было, грохнулся на пол.
— Он че?.. — растерянно склонился над Фомой громила, и грязно выругался матом. Такого он не ожидал. И запыхтел, приподнимая бессознательного заложника к окну, но он выскальзывал из рук его, и снова падал на пол.
И уголовник-террорист взвыл от отчаяния над рушащимся планом прикрыться было нечем. Тот, что прижимал Алину к своей груди, тихо матерясь, давал советы другу и вдруг поняв, что зря теряет время, дернул свою жертву: — Давай, ори!
— Мой папа зам министр МВД — глупо полупропищала-полупрохрипела она, И если что-нибудь со мной случиться…
Ей стало вдруг смешно. Да так бывает в самых непредвиденных катастрофичных ситуациях — вдруг человека, что оказался вдруг на грани смерти, спасает смех. Пусть нервный, идиотский, непонятный… Она почувствовала, что давится от смеха раздирающего её изнутри.
— Че-го?… — он оглянулся на напарника, тот тщетно возился со своею жертвой и пот ручьями стекал по его лицу. Он, согнувшись в три погибели, скрывался под низким подоконником, пыхтя как боров. Снова посмотрел на Алину, та сияла, как будто ничего не понимающая идиотка.
— Че-го? — растерянно протянул бугай, — Вы че, бля, суки, обалдели?! Пьяна шоль? Я ж вас… прибью. Ори, сказал я, падла!
— Не умею я, — ответила она, преодолевая сдавленность горла. И холодные параллельные мысли, складываясь образами то так, то этак, словно мозаика представляли возможности выхода. Растерянно бандюга вдруг взвыл, как будто умоляя, — Ори!
Она почувствовала, как стучит его сердце, так стучит, что вся она сотрясается от его, именно его ритма, почувствовала, как нежно дрогнула его рука.
Желтый, плоский свет фонаря в северном послеполуденном зимнем свете неба еле просачивался сквозь окно.
Алина, опершись на него спиною, подпрыгнула, и вытянув ногу, стукнула каблуком по выключателю. Желтый свет тусклой лампочки показался прожектором, не оставляющим сомнений.
— Что?! — взревел её мучитель, и вырубив свет, ударил её кулаком в грудь. Спазм сковал её, и прерывисто задыхаясь, она выскользнула из его ручищ и рухнула на пол. Он размахнулся, чтобы ударить снова, но вдруг занесенная рука его застыла.
Что-то случилось с ним, что-то случилось, — мелькнула мысль в голове у Алины.
Да. Он не рассчитал. В зоне и мысль о женщине кажется крамольной, потому как ядом отравляет душу. В тут… Прикосновения, запах её духов, щекочущий меж дубленки, а движения…, гибкие, плавные даже в резкости, легкость её тела…
Он смотрел ей в глаза полные слез, поблескивающих в сумерках, на абрис нежных пухлых губ, они кривились от боли. Но не было в ней страха, не было гнева, не было унижения жертвы. Просто боль и странное, какое-то печальное, спокойствие, как будто нет между ними борьбы, ненависти, непонимания. Он приподнял её за подмышки и встряхнул. И снова замахнулся, целясь в подреберье. Она замотала головой, чуть постанывая, и уткнулась лицом в его левую руку.
И опустилась его правая рука. И забыл он, что хотел от нее, зачем бил. Гулко, орали голоса снаружи. И поднялся он и потащил снова к окну, топча грубой кирзой нежный мех слетевшей с неё дубленки. Выставил её в окно, прикрывшись ею, и приставил самодельное, долго точеное, дуло к её виску. А она, продолжая стонать от боли, откинулась затылком к его лбу.
— Ори же!
Она очнулась и тихо, сквозь боль выдавила: — Не могу.
— Так я ж тебя!.. — И грубые конструкции из мата, которого, обычно, не услышишь в зоне, обрушились на её сознание.
— Я не могу… Прости. У меня рак. И если ты меня убьешь, так будет лучше, — прошептала ему на ухо. Он вроде бы не понял по началу, что такое рак, руки его тряслись, губы её нежно щекотали мочку его уха, когда она шептала это страшное слово. Его всего трясло мелкой нервной дрожью. Он чувствовал, что теряет трезвость необходимую для точного свершения побега. Но она повторяла и повторяла, тихо, нежно — Убей меня, убей, я все равно умру от болей.
Было слышно, как снаружи к ним подбираются, как трутся о стены дома боками в ватниках, а может быть в шинелях… И закружилась голова от жалости к себе от отчаяния, оттого что оставшиеся пять лет ему теперь сидеть не пересидеть. А тут ещё она, какой-то нежный расслабляющий комочек: "Я все равно умру, мне говорят осталось месяц, два…"
— Господи Иисусе!.. Солнышко мое, — вдруг вырвалось из глубины его, давно забытого им, сердца, он прижал её затылок к своим губам и замер. За семь последних лет он никогда не прикасался к женщине, он думал, что равнодушен к этим особям навечно. И тупость, полное мозговое оцепенение накатило на него. Он терял время. Преступно терял мгновения.
Мегафоны вдруг загорланили все разом, слова неслись со всех сторон.
— Сдавайтесь, вы окружены! Выходите!..
Он приподнялся над её лицом, продолжая нежно левой рукой прижимать её голову к своей груди, а правой жестко держал дуло у её виска.
— … машину, деньги! Один труп уже готов, если через десять минут… мы прикончим ее… — хрипел из-под подоконника его дружбан.
— Ты убьешь меня, правда?..
— Заткнись. Не знаю, — ему тяжело было дышать, воздуха, воздуха ему не хватало. Ори! Ладно, молчи уж… Иван! Да что ж ты!.. — и снова героя террориста затрясло.
Иван наконец-таки отколупнул от пола Фому и выставил в окно.
Фома чуть приоткрыл глаза, и звучно стукнулся о раму лбом. И снова закачалась его голова, как голова тряпичной куклы. И струйка крови потекла по лбу.
Иван недоуменно застыл над жертвой.
Тут меткий выстрел просвистел сквозь стекло и макушка Ивана, мелькавшая для снайпера снаружи над болтающейся головой заложника, покрылась темным пятном. И он осел. Фома рухнул на него.
Из окна, из двери, из-за всех щелей гудели голоса: "Сдавайся! Выходи! Сдавайся!"
— Пошли, — поволок её на выход, крепко держа дуло у её виска, оставшийся в живых, — Ну суки! Ну попробуйте, возьмите!.. Он крепко сжал её за талию левой рукой. И снова сердце его билось так, что ей казалось, что это её сердце. Все смешалось в её, его ли сознании: и его хрип, и её тихий голос, и волосы, прилипшие к его щеке… И ощущение последнего момента, настолько последнего, что воля отказывала в движении тел, — объяло их обоих. А кровь Ивана темной, медленной змейкой подползала к его кирзовым сапогам, к её — замшевым… Они смотрели только на нее.
— А как тебя зовут? — глухо спросила она.
Он на мгновение застыл, словно не в силах понять, как, как его на самом деле зовут, и вообще что-либо, а в дверь уже ломились.
Он заорал невнятно — нечленораздельно.
В это время Фома, очнувшись, по кошачье невероятно пластичным прыжком с животным криком, рванул и оказался на его плече, и сбил направленное на её висок дуло. Палец машинально спустил курок, раздался выстрел, просвистев за Алининым затылком. Тут в комнату влетели, вышибив ногой дверь громкие резкие, уверенные в себе мужчины.
Алина не поняла, что с ней случилось, она почувствовала вдруг смертельную, усталость, именно, усталость. Ничто не сдерживало её больше, и тело, словно с ватным позвоночником, сползло вниз по стене. И Алина перестала видеть, слышать, понимать.
Очнулась в явно медицинском кабинете.
— Где я?
— Все хорошо, — услышала она раскатистый мужской голос так похожий на голос того…
Она оглянулась и увидела плотного бугая в белом халате. Все смешалась в её сознании. Но пахло от него иначе — каким-то древним одеколоном. Так пахло от дедушки, когда она была маленькой. Дедушка тоже был врачом. Запах этого одеколона пресек страх.
— Как город называется? — спросила она сухо, словно пилот перепутавший рейсы, сигналы и карты.
— Мы под нижним Тагилом, — послышался сумрачный голос Фомы из глубины комнаты, — И стоило так далеко тащиться…
— Но это нормально, — улыбнулась она. Улыбнулась ещё раз и захохотала, вспомнив, как падал Фома, словно тряпичный петрушка, на руки бандиту. На этом-то непредсказуемом идиотизме и обломалась вся мощь кошмара. И хохотала, не могла остановиться.
Это у неё нервная реакция, пояснил доктор Фоме.
"… и когда он, переступая через груды мертвых окровавленных, тел вынес её на руках, шел снег, — писал Друид, — И он увидел, как снежинки таят на её лице. Все, — сказал он, — Мы достигли с тобой точки невозвращения.
Она, медленно приходя в себя, открыла глаза: — Что же дальше?
Ничего, — ответил он и опустил её на землю".
Городское управление исправительных учреждений вручило Фоме благодарственную грамоту за проявленное мужество при захвате террористов. Об Алине не упомянув ни словом.
Осужденные осудили террористический акт с захватом заложников и окрестили Алину королевой зон отныне и на все века. О Фоме не упомянув ни словом.
— Скажите, как случилось так, что вы, женщина, и не впали в истерику в такой страшный момент, не плакали, или молились, вам было страшно? задавали ей вопросы на местном радио.
— Не знаю, почему. Но женщины, ведь тоже люди, — скромно отвечала Алина, не понимая, что вела себя в той ситуации весьма не по-людски.
ГЛАВА 29
В Фоме теперь появилась сосредоточенная важность, если бы были у него усы, он бы задумчиво подкручивал их кончики. Он даже отказался выпить.
И так он мрачно смотрел, как пьют другие, что можно было поперхнуться при одном лишь предположении, что будешь пить.
Фома теперь внимательно читал газеты, ежедневно, все газеты, какие продавались в городе. Вздыхал — "…теперь, вот видишь, как, не думали и не гадали, всю жизнь сами все о героях публиковали, а теперь и мы в герои попали"… — и искоса поглядывал на Алину.
Она как будто в полудреме наблюдала все его движения, окрашенные новыми подробностями, и почему-то Фома, теперь казался невероятно жалким. Слишком серьезно он относился к тому, что называл славой, словно слава его должна видна быть всем. И он как будто оглядывался, — видят или не видят.
— … И поэтому мы должны пожениться… — заявил он после долгого гипнотического сидения, на противоположных лавочках электрички, когда почудилось ему, что вел с ней беззвучный диалог.
Она дернулась, мелькнула презрительная ухмылка на её лице и тут же погасла в маске равнодушия, но он успел уловить немой ответ. Она отстраненно проговорила:
— Это — ловушка.
— Это — путь! — жестко отпарировал он, — Дело на всю жизнь. Мы с тобою заставим весь мир говорить о нас!..
Она пресекла его едким прищуром, словно говоря, о чем ты?..
Она обрезала траекторию взлета, в тот самый момент, когда он решил переменить свою жизнь навсегда. Всю жизнь!.. И душа его, словно кентавр, колебалась между двумя порывами — человеческой мольбы и звериного мщения. Но предпринять что-либо ради кардинального поворота — он чувствовал себя не в силах. Она же равнодушно, как попутчик, которому скоро сходить, замыкалась в себе, о своем…
Они угрюмо месили шагами бурый снег развороченного тракта. По бокам его, в метрах пятидесяти тянулись деревянные зоновские заборы с рядами колючей проволоки поверх, но не было к ним подхода через заполненные черной жижей — мяшей пространства. Шаг — и ты увяз по горло. Воздух — завислая муть.
С окраин города, расположенные в порядке окончаний пятиконечной звезды, дымили заводские трубы и домны. Сиренево-изжелто-зеленовато серым маревом сливался воедино их разноцветный дым. Недавно прошел нежданный, тем более для пятого мая, казалось, вновь последний снегопад. Снег ещё не стаял. Но не было вокруг ни пятнышка белого снега. Казалось, он и не был никогда белым. То желто-сиреневые, то зелено-серые, то фиолетово-бордовые снежные пятна покрывали то тут, то там словно проклятый богом городок.
Они шли и задыхались. Старые курильщики, спокойно переносившие, когда на маленькой кухне курится одновременно хоть десять сигарет, они не могли даже представить, что курят. Глаза их смотрели в небо. Ноги вязли в серо-бурой снежной муке. Казалось, этой дороге не будет конца. Заборы, заборы, заборы, как серые конвоиры сопровождали её. И не было в бок ни тропинки, никакого подхода к ним.
Вдруг справа забор окончился, сквозь метелящую цветистую мглу они увидели вышку на его углу. Но на вышке не было привычного охранника. Они застыли, глядя на нее.
Подул тихий ветер, деревянная дверца вышки медленно распахнулась, скрипя, и захлопнулась.
Этот мертвецки мерзкий скрип в абсолютной морозной тишине ужаснул их. Казалось, здесь все вымерли, словно прошла чума. Мышление заработало фантастически, перебирая варианты, — или зона взбунтовалась и разнесла, к черту, всю эту систему из серых шинелей, или… пока они шли на землю бросили нейтронную бомбу, а их пронесло каким-то образом… и теперь нет дороги назад. И ничего нет впереди. Но не может же быть такого, чтобы зона, вышка… и вдруг никого.
Они переглянулись, и молча пошли дальше по развороченному тракту. Быть может, зоны упразднили, пока мы сюда добирались, — подумала она, или сделали весь город одной единой зоной. Ведь здесь невозможно жить. Уже сойдя с электрички и вдохнув его тяжелый ядовитый воздух, она ощутила, что этот город пострашнее дантевского ада. В дантевском аду мучения реальны, конкретны, а здесь — все хуже смерти — каждый вдох, каждая секунда — и так всю жизнь… Здесь самое страшное преступление не воровство, и не убийство, все это естественно вписывается в мистическую концепцию местности, — самое страшное преступление здесь, это родить ребенка на этот свет.
С утра они плутали по этому городу в поисках нужной зоны. Мелкие мужчины, из тех, что старцы в сорок лет, показывали в разные стороны им дорогу. И мелькнуло высказывание им вслед: "Да у нас здесь все сплошь зоны".
Они шли и шли трудным шагом по прямому трату. За мертвой зоной клубилось пространство. Они остановились. И когда чуть просветлело, сквозь круговоротящую то ли метель, то ли мокрую стекловидную пыль, увидели гигантскую свалку — клубки проволоки, бочка… — и все это величиной с огромный дом. Тоталитарные отходы.
— На такой луне я ещё не бывал… — еле выговорил Фома.
Она промолчала в ответ, глядя вперед, в непроглядную, чуть просветленную закатным солнцем, мглу. Першило в горле. "Вот мы и дошли до конца света" — подумала она.
Они застыли друг перед другом, вглядываясь в самих себя, в самый центр, сквозь густую мглу времени, названий и поднятий. Они молчали несколько минут и вдруг, не сговариваясь, развернулись и пошли назад, словно пустили пленку собственного кино задом наперед. Дорога, город, площадь, вокзал, электричка, Екатеринбург, Климовы, Друид…
Нет, это никогда не кончится. Хотя каждый день кажется последним!.. Таков жанр местности. И все что временно — навечно.
"Они шли и шли и вдруг поняли, что добрались до края света. В их мире, в их многомерном времени и пространстве, такого быть не могло. Апокалипсис предстал перед их глазами единой мертвой метафорой гигантской свалки эпохи… дорога радости их привела к концу". — Ну, как? Здорово, пока вы ездили, я написал?
— Сволочь. — Процедила Алина, — Лучше поцелуй меня в затылок, мне кажется, что в нем пустота.
ГЛАВА 30
За все про все пережитое у Фомы заболел зуб.
Какой он утонченный человек, он все так чувствует внутри, он так глубинно все переживает… — вздыхала Елена.
"Почему у меня прекратились боли?.. У него зуб болит, а у меня ничего. Или я не утонченная?.. К чему бы это? Почему?" — задавала Алина сама себе вопрос и сама себе же отвечала, — Некогда. А может, потому, что я выпала в какое-то другое измерение, и здесь даже боль не аргумент?.. Сбежав из того, своего, привычного мира, оставила в нем все свое… все то, что причиталось там, здесь — не действительно?.. А может, я здесь и не живу, а сплю и вижу сон, я здесь не я?.. Я здесь летаю, не касаясь реальности, материи, земли? Летая… но куда?.. Не касаясь… Летать — понятие высокого стиля. А я… я вся кручусь с Фомой в каком-то противном моей нравственной системе водовороте. Будь я в Москве, в своей нормальной прошлой жизни, я бы не выдержала ни этого омерзительного пьянства, ни пустой траты дней, ни болтовни, ни всех этих эмоций, что крутятся вокруг меня как мушиный рой. Так значит, я не взлетаю, а падаю. Падаю… падаю! Падаю в бесконечность, и в тоже время, откуда-то из невообразимого "высока" наблюдаю за собой. Диффузия высокого и низкого во мне. Диффузия не во мне, а вокруг. А я вся на разрыв и там и там, но центр я теряет концентрацию… Да точно! Отсюда и бесчувственность ко всему происходящему, поскольку не я потеряла реальность, а реальность пролетает сквозь меня, как через нечто полое, пустое… и боль не может зацепиться за разъезжающийся центр внутреннего я. А у Фомы зубная боль — поскольку он не разрывается, он сам творит свою реальность и она не противоречит его внутренней сути. Не противоречила, до тех пор, пока не настало время расширять поле своей реальности, благодаря тому, что о нем оповестили незнакомому ему пространству. И он, желая его освоить энергией собственного "я" теряется, поскольку нет ничего ему страшнее непривычки".
Зубная боль Фомы стала достойным аргументом, чтобы притихшие было мужчины снова впали в беспробудное пьянство.
Сходи к зубному врачу, советовала Алина.
Боюсь, слышала в ответ.
И они снова и снова ходили по гостям. Кружили в словах, мелькании рук, стаканов…
По дороге от преподавателя английского языка Сонникова, для своих Чеширский Кот, она бросилась к "Скорой помощи" у подъезда.
— Заберите его, он всех здесь погубит своей болью!..
В ответ получила ампулу новокаина.
Полдня Фома не пил.
"Глупо, все безысходно глупо, бежать отсюда надо, бежать! — орал в ней внутренний голос. И тут же останавливал, если ты бросишь его здесь, он погибнет от пьянства, и тебе никто не простит этого в Москве. Да и сама себе простишь ли это?.. Потому что это будет предательство. Но ведь он предает меня, предает постоянно!.. Но есть ли я на самом деле? Быть может, меня нет на самом деле, но качества мои, моей монады духа бессмертны, оттого они остались!"
— Положи на зуб "но-шпу", так делают альпинисты, — просила она его.
— Врешь ты все, я тебе не верю. — Так теперь звучал его новый рефрен.
Она растолкла "но-шпу" в порошок, упаковала её в красивые облатки из фольги от пачки сигарет, попросила Елену выйти на лестничную клетку вместе с ними, постоять там немного, а потом вернуться, сказав, что сосед дал американские порошки.
Во гады американцы, умеют же делать, — восторгался Фома.
И в минуты просветления Фома шептал: "Спаси!"
Она молчала парализованная ужасом в ответ, готовая сама молить о том же — но кого?..
И ускользала от, готовой охватить её плечи, его руки.
И теперь оправданно, за это, за эту ледяную отстраненность, Фома шел пить и пил, пил и пил, пока не сваливался мертвецки пьяным. И скорбная улыбка кривила её губы. Иногда он как-то мстительно смотрел он на нее, и отворачивался, вот, мол, теперь получай по полной программе.
— Но Фома!.. — Иногда вспыхивала она, желая сказать, что он мужчина, он сильней!.. Что в помощи нуждается не он, а она, но он этого не видит. Что сам он опьянен лишь мыслью о смертности своей, и опоен ей, как колыбельной младенец, и боится жизни, которая все равно кончится. И поэтому и ему становится все равно. И к её жизни он равнодушен, хотя и говорит, что любит. Но любит, оттого что уже привык. Привык брать. Брать её силы, энергию чтобы тратить и тратить в пустую, но с удовольствием, всю её оставшуюся жизнь. Что просит о спасении, чтоб возложить на неё ответственность за их поодиночное бессилие, но не вступать в союз взаимной поддержки, взаимного спасения, потому что ему в сути все равно, кто его тянет, кто подстрекает к деланию хоть какого-то дела. Все равно.
— А зачем тогда ты затеяла все это? — спросил он её.
— Что?
— Наше похождение в никуда.
— У меня рак… — еле выдавила она из себя.
ОСТАЛОСЬ СТО ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ.
А… не верю я тебе, выдумываешь ты все, — махнул рукой Фома и, оторвавшись с Климовым от толпы друзей, быстро, быстро прошел мимо подъезда Климовых.
Алина почувствовала как стоит она под прокопченным небом на слабеющих в коленях ногах вселенской сиротой, но не дотянуться до звезд, не глотнуть чистого космоса, не прорваться сквозь гарь и муть. Отчаяние… остолбенение… и безжалостный взгляд на реальность… На свое собственное "я" здесь и сейчас. Спина уходящего человека. Несчастного, ещё быть может, более несчастного, чем она, потому что она понимает что происходит, а он нет. Он как заводной стремиться к собственному уничтожению, туда, где ничего нет. Где слово "никогда" заменяет хронологию поступков. Зачем он уходит так уверенно? Куда?..
— Куда это они?! — взволнованно вскрикнула Алина.
— Неужели не понимаешь, за водкой в ресторан "Петровский зал", ответила отчаявшаяся удерживать временно не пьющего мужа Елена.
— Нет! Нет! — вдруг закричала Алина, и побежала вперед, она нагнала их у входа в ресторан, отчаяние охватило её. Вспомнив о раке, произнеся о нем вслух, и увидев равнодушную реакцию его глаз, она вдруг поняла, что не может, не хочет, больше не будет зарываться в этот беспросветно равнодушный бред. Она не умрет ни пьяной, ни с умирающим алкашом на руках. Она выберется из этой помойки сумбура чувств, выйдет, и если уж сдастся смерти, такой отвратительной, пошлой смерти, то в полном одиночестве. А пока: "надо все это срочно прекратить!" Выйти из игры, но не предателем, не снимать с себя ответственности за Фому, как он постоянно делал это. "Гад! Ты меня толкаешь на то, чтобы я ответила тебе на твоем языке — ха… ну и умирай, пропадай под забором! Ну нет! Я тебе покажу, что такое настоящая дуэль, я не буду сражаться с тобою твоим же оружием!" — все вопило в ней. "Шпаги звон и звон бокалов!" — почему-то вспомнилась ей строка из песни, и она преградила собою путь Фоме в ресторанный подвальчик.
— Дай деньги, остановила она Фому, зная, что он получил сегодня за двоих — заработок за устройство выставки, оклад временных работников дома культуры, как они теперь числились по документам, иначе денег им заплатить было нельзя.
Не думая, Фома вытащил весь кошелек, она имела на него такое же право, как и он. Она схватила его и побежала вниз по подвальным ступеням. Ты куда? — удивился Фома её ярости движений.
Пить буду до упада. — И хлопнула дверью.
Оказавшись в гардеробе ресторана, растерялась, обернулась и увидела, как в маленькое надземное оконце за ней подглядывают Климов и Фома. Тогда она поговорила о ценах в ресторане и меню, классе обслуживания с гардеробщиком и, двигаясь так, чтобы её не было видно из окна, заглянула зал, продолжая обсуждать интерьер со стариком подающим пальто, и он невольно сделал несколько шагов в её сторону, от того и вышел из поля зрения наблюдающих. Вдруг она резко прервала разговор и пошла к выходу, удивленный её подозрительным поведением гардеробщик побежал было за ней, но не решившись оставлять шубы, остановился у двери мотая головой и что-то бормоча себе под нос. Все это видели Фома и Климов.
— Что ты ему сказала, что? — подбежал к ней Фома.
— Я сказала, что если он в течение трех дней продаст хоть одну бутылку, то наши ребята с ним разберутся, а чтобы он не терпел особых убытков, пришлось компенсировать, и она протянула Фоме кошелек.
Фома слушал её, чуть ли не раскрыв рот, заглянул в пустоту кошелька, в перегарный туман своего мыслительного процесса и, не выловив из него ни одной мысли, покорно поплелся за ней — домой к Климовым. Климов молчал и кряхтел по дороге. Фома только и бубнил себе под нос:
— Вот как… Эта женщина все может.
— … и если ты к тому времени, когда я приду, не вырвешь себе этот зуб, я не вернусь никогда, — Алина развернулась и вышла на лестничную клетку, за нею вышла Елена, давно потерявшая все слова.
ГЛАВА 31
— Куда пойдем? — спросила Анна.
— Не могу, не могу, ничего не могу больше… — простонала Елена.
— Да в таком состоянии некуда больше идти. Разве что в никуда…
Они сами не поняли, как оказались в концертном зале.
Скрипач явно был не в духе, похоже, он пребывал в глубоком похмелье. Игравший на огромной трубе — тубе, казалось, вот-вот упадет спьяну со стула, его нос светофорно сиял. Остальные музыканты тоже были весьма смурными. Потертые женщины в блекло черных платьях, фраки пропыленные безнадежно за целое столетие постоянных перемен… все это называлось симфоническим оркестром. Сбоку, дуло из окна забитого фанерой. Фанера музыкально вибрировала в соответствии звукам.
Сначала, пока играли Дебюсси, Алина никак не могла очнуться от такой резкой перемены и музыка явно не доходила до нее.
Она сосредоточенно смотрела на сцену и вдруг поняла, что не слышит музыку, а видит — оркестром дирижировал щуплый, длинноволосый дирижер, вылитый Фома со спины, но что он делал со своим телом!.. Как он стоял, почти не касаясь земли, нет, он парил, так стоять и не падать невозможно. Он парил, волнообразно пропуская через себя токи музыки, сочувствуя ей каждой клеточкой своего тела. Алина слушала глазами, словно глухая и чувства окрыляющего восторга заполнило её душу.
И вдруг музыка прорвалась сквозь все её глухонемые заслоны и понесла и понесла, казалось, расширялись стены, растворялись легкой мглой, и не было потолка — лишь небо, лишь энергия, космическая энергия переживания всей её жизни. Жизни не как обыкновенной женщины, человека, а как транслятора чувств лишенных всякой материальной основы и информации о чем-то предметном. Музыка, музыка, музыка размывала в своих потоках Алину. Словно вся эта жизнь, все что окружало и окружает, что заставляет нас плакать и смеяться, грустить, отчаиваться, надеяться, отрицать и любить — существует лишь для того, чтобы мы своим отзывом-переживанием вырабатывали в себе эту энергию, и она улетала в бездонный космос, очищалась от помех подробностей, и возвращалась уже источником и опорой, связующей между ничтожным и непостижимо великим.
"Да эта же музыка — симфония моей жизни", мелькнула единственная частная мысль в её растворенном космосом сознании.
Лишь потом она узнала, что это был Онигер.
— Нам повезло, Елена! Нам наконец-таки повезло. Согласись, Борейко, невероятный дирижер! — повторяла она, не менее пораженной открывшимся ей, Елене по дороге домой.
Шел дождь. Противный, холодный дождь. И казалось, что это ночь и этот дождь не окончатся, никогда, но это уже было не страшно.
Фома сидел на Климовской кухне и ныл, крутя головой. Климов, открыв дверь, тут же скороговоркой сообщил Алине про его подвиг. — Представляешь, пришли в ночную неотложку, ещё шприцы не вскипятили, только открылась. Врач выходит, здоровущий такой и спрашивает, ну молодцы, кто без заморозки пойдет. А в очереди одни мужики сидят. А мы последние… Тут-то Фома и сделал шаг вперед. Нет, ты представляешь, целую неделю к врачу боялся обратиться, а тут!.. И вырвали ему без заморозки!.. Нет, ты представляешь.
Кивая, Алина подошла к Фоме.
— Вот и все. Значит, можно ехать домой. Все прошло, что ж ты стонешь?
— Голова болит. Надо бы опохмелиться.
— Хватит!
"Хватит!" — И Елена утянула своего мужа от греха подальше в комнату, спать.
— Вот, что ты сделала, что!.. — продолжал ныть Фома, — Таксистов на улицах нет, палатки по ночам закрыты, в "Петровском зале "теперь не купишь, ты же им деньги все отдала!.. — перечислял он, не замечая её ехидства в глазах.
Но тут, словно бог внял его мучениям, зазвонил телефон — местный бард рассчитанный на сельских девушек, пригласил Фому на вечеринку, в честь его удачного возвращения с гастролей.
С этим типом обычно Климовская компания не водилась. Елена поморщилась, узнав, куда он направляется в такую полночь. Но остановить Фому было уже нельзя, сработал пароль: — "А выпить есть?" — "УГУ".
ГЛАВА 32
Фома явился через трое суток.
Алина, помогая истощенной собственным гостеприимством Елене, пока та была на работе, готовила обед для детей, которые вот-вот должны были вернуться из школы. В дверь позвонили. Алина оторвалась от готовки, полностью поглотившей её сознание кухонным творчеством, спеша поскорее вернуться обратно к плите, открыла дверь.
На пороге стоял Фома, несмотря на то, что оканчивался май, — в тулупе, в ботинках на босу ногу, и шапке, больше на нем не было ничего. Голая грудь зияла в обрамлении распахнутых пол, далее, ниже трусов, виднелись какие-то несчастные, мужские волосатые ножки.
Окинув его спокойным взглядом, Алина спросила, — А почему шапку не проиграл?
— Подарок, — с достоинством ответил Фома. Подарок был её.
Фома прошел в комнату, кряхтя, лег спать. Едва лег, как почувствовал, что тело его толи начинает оттаивать, то ли дрожать постфактум от пережитого холода и перепоя. Он встал и принял горячий душ. Когда вышел из душа, зашел на кухню. Алина, не обращая на него внимания, жарила что-то на сковороде.
— Ну и заморозки пережил я, оказавшись на окраине города по утру… вздохнул Фома.
Алина не отозвалась на его косвенный призыв к контакту.
— Километров двадцать прошел. Представляешь, пилил в таком виде через весь город.
Алина молчала так, словно его не было на кухне.
— В двадцать одно играл. В очко. Тюремная игра. Во человеческий организм — все выдержит!.. Не мог я забрать одежду, карточный долг — дело чести… Вот так…
Но все слова его как будто бы летели мимо. Фома заинтересованно, через её плечо, стал разглядывать котлеты на сковородке, ей было неудобно двигаться от его нависшей близости, но она все равно молчала.
— Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужен,
Я выброшен на берег твой…" — прочитал он наизусть и тут же добавил, — Не бойся, это не я написал, это Мандельштам. — Протянул руку, стащить хоть одну котлетку, но тут она шлепнула его по руке.
Довольный тем, что она хоть как-то среагировала на него, он решил поиграться, таким образом, и снова, крадучись, протянул руку.
Вдруг, словно кружащимся туманом, поволокло его куда-то.
— Я сейчас упаду, — сказал он совершенно серьезно.
Ах! — злясь на него, развернулась Алина и в тоже время, скрашивая свою злость несколько театрализованной игрой, отстранила правую руку, мол, пожалуйста, падай!
И он рухнул на её отведенную руку. Рухнул всей тяжестью своего испитого, словно высушенного, но костистого тела.
Она успела обхватить ладонью его затылок, но судорога его тела, уже задала траекторию его падения, и изменить её она была не в силах. Сначала он стукнулся затылком, то есть тыльной стороной её ладони, об угол стола, потом об угол холодильника, об батарею. Лишь после, она, смягчив все его удары, сама уже, не ощущая боли в разбитой в кровь руке, приземлить его на пол.
Фома! Фома, что с тобой?! — кричала она, в отчаянии глядя, как сведенные пальцы его рук выгибаются в обратную сторону. Голова тем временем тряслась и билась об пол с дикой силой, и если не её рука… Фома! Фома! Не умирай, я прошу тебя, Фома! — молила она в ужасе.
Его губы, словно тщились что-то произнести, но что?! Она наклонилась ухом к его рту и замерла, пытаясь разобрать уже несколько раз повторявшееся бормотание. И расслышала — "Слово".
— "Слово"?! — отчаянно и удивленно переспросила она, — Но какое слово?!
Тут пена с жутким трупным запахом потекла из его рта, и она поняла, что это эпилептический припадок. Чтобы он не задохнулся, не захлебнулся, она пыталась его перевернуть на бок, и не могла. Шея его словно закостенела. Глаза его закатились, бледное лицо посинело. И она, даже удивилась про себя, что так может быть в долю секунды, мгновенно, губы, сведенные губы приобрели фиолетово-зеленоватый оттенок.
Алина нащупала правой рукой его левый бок, и почувствовала, как затухающе редко бьется его сердце. Левой, продолжая держать его бьющуюся об пол голову, третьей рукой принялась за массаж сердца.
Да, именно третьей рукой, как ни вспоминала потом, как не пыталась восстановить реальность, всякий раз понимала, что тогда у неё было три руки, третья рука появилась как-то сразу, но откуда?…откуда-то из груди…
Надо было делать искусственное дыхание, он перестал дышать, не захлебнулся, а именно перестал.
— Нет! — преодолевая брезгливость к этой пене, с запахом усохшего трупа, преодолевая животный ужас, она прикоснулась губами к его рту и вдруг увидела себя и его, так словно она смотрела откуда-то сверху из поющей вышины. Она была и здесь и там и внизу и наверху.
И вдруг отчаянно оторвалась от него, вспомнив, что ему нужно было слово, и, не догадываясь, не гадая, закричала, — Но Фома, я люблю тебя! Люблю!.. — и почувствовала вновь в себе великую, божественную силу, ту самую, что ощутила в тайге, когда стреляли в нее, ту, что дремала в ней всегда.
Словно волна мертвой, загробной энергии схлынула с его лица, синева перешла в бледность, губы обрели более-менее естественный цвет, он вздохнул, еще, еще… напряженное судорогами тело ослабло. Она отпрянула и поняла, что теперь он спит. Просто спит.
ГЛАВА 33
Когда к Климовым зашел Друид, и увидел Фому спящего посередине кухни, и увидел осунувшееся, словно прозрачное, лицо Алины, он понял, что что-то произошло. Но что? Что?
У тебя есть деньги? — сходу хрипловатым шепотом спросила Алина.
— Есть, крохи остались от моего гонорара. А ведь на него можно было купить машину. И не просто машину — "Волгу!" Мы пропили Волгу, представляешь, мы выпили великую русскую реку и теперь течет по земле сон о Волге, стон!..
Но она резко прервала его фантазии, — Пошли!
И они пошли в центральный универмаг, она спешила, он еле поспевал за ней. Она подгоняла, скорее Друид, ну скорее…
— Мне кажется, что жизнь моя прошла… Как упоительно смотреть на мир глазами налитыми кровью. Подумать только… — нагнал её Друид, но толпа прохожих оттеснила его от нее. Он бежал и с трудом прорывался сквозь группу мужчин в черных драповых пальто, лишь бы не терять её из виду.
— … подумать только, работают заводы, фабрики, пекарни! Народ идет с работы на работу… А им за это платят гроши, но не корысти ради, — им внушено изначально, что нет ничего важнее, чем производить, производить… воспроизводиться. Ты слышишь меня, Аля, Алечка?!
— Скорей, Друид, скорее!..
— Я никогда не женюсь. Я не хочу плодиться телом. Мне надоело тиражирование все вся!
— Друид! — она обернулась к нему глазами полными слез, — Я… я вся, я вся уже давно за чертой. За чертой. Ты понял?! — И побежала дальше.
— Аля! Алечка! Алина! Остановись! Ты вся сейчас взорвешься, как Чернобыль! Остановись!
Они остановились и посмотрели друг на друга и не смогли сказать ни слова.
— Скорей, Друид, — отвернулась, махнула призывающе рукою и почти побежала.
Вдруг девочка, в коротенькой шубке, первоклашка, побежала через дорогу и споткнулась на трамвайных путях. Нет! — крикнула Алина, протянув вперед руку, — Я люблю тебя! — прошептала она, как невменяемая.
Время словно замедлилось в глазах Друида, этого не могло бы произойти иначе, если бы не замедлилось время, — трамвай остановился, как вкопанный, словно подчинился приказу Алины. Толпа прохожих, отталкивая её, бросилась к девочке.
— Я все понял, — прошептал Друид, кося на Алину конским глазом.
— А я не поняла еще, не поняла, — бескровными губами проговорила Алина, тут же продолжив свой путь, но Друид понял, что она о том же.
Он не понимал, зачем они туда идут, спешил, спотыкался. Он весь взмок, у него кружилась голова. Они заскочили на последний этаж в отдел мужской одежды, перебрав ряд допотопных брюк, Алина выбрала одни, окинула Друида взглядом:
— Ты такого же роста как и он, примерь.
— Но они на мне не сойдутся! — отчаянно замотал головой Друид.
— Меня это не интересует, меня интересует длина. — Властно прекратила Алина его возможные пререкания.
Едва Друид разделся в примерочной кабинке, сняв предварительно и нижнее белье с начесом, едва влез в невероятно узкие для него брюки, как она, раздвинув шторки, окинула его молниеносным взглядом: "длинны", — и перекинула ему через шторы следующие.
Друид уже замучился с дикой скоростью снимать, одевать, снимать, одевать. Красный, словно в парилке, со струящимся по лицу потом, он был уже на грани обморока и тихо молился, закатывая глаза, как вдруг она прервала это концептуально бессмысленное для него действие, сказав, "хватит, эти подходят", и убежала в отдел рубашек и свитеров. Вернулась, когда он уже оделся, — "Давай деньги!"
Он вынул перед кассой деньги, она заплатила и сунула ему в карман оставшиеся, — "Побежали!"
Он, пыхтя и отдуваясь, побежал за ней по залам, по скользким серым лестницам… Она остановилась у кассы — "давай деньги!"
У третьей кассы он почувствовал, что это конец и сейчас он потеряет сознание или окончательно сойдет с ума. Все помутнело у него в глазах.
— Ха-ха-ха! — Раскатисто захохотал он, так что толпы покупателей, снующих мимо, чуть замедлили ход, и устремись взглядами на него. — Вы видели когда-нибудь такой большой кошелек?! — продолжал вещать на весь зал Друид театральным басом.
Люди замерли окончательно и уставились на него с немым вопросом "Где-где кошелек?.." — читалось в их массовом взгляде.
— Так это Я! — объявил Друид и захлопал себя по выпяченному пузу. И застонал, и залепетал, глядя умоляюще в глаза Алине, — Ты взяла меня, как кошелек на ножках, из меня вынимаешь, в меня же сдачу кладешь… И больше, нет меня, нету!.. Нет!
— Кончай, Друид! Ты же знаешь, я люблю тебя, — и отвернулась от него и побежала в носочный отдел.
Когда они вышли на улицу, Друид уже был готов к бегу, он уже задумал бежать откровенно с ней на перегонки, как вдруг она увидела тир. Замерла на секунду и рванула туда.
— Давай деньги!
Он утомленно вынул истощившийся порядком последний запас, она заказала сто пулек и открыла огонь по мишеням. Она стреляла с таким спокойным выражением лица, и так холодно точно, что у Друида наблюдавшего за ней отвисла нижняя челюсть. Она никогда так не стреляла, она и не знала, что так умеет стрелять. Но она забыла, о том, что никогда не стреляла, не помнила о том, что не умеет стрелять.
— Тебе всегда играть всерьез
Пусть поневоле
Подбрасывает жизнь вразброс
Любые роли…
— А я тебе Волошиным на твоего Давида Самойлова отвечу, оглянулась на притихшего Друида она:
Когда же ты поймешь,
Что ты не сын Земли
Но путник по вселенным…
И выстрелила ещё пару раз и не промахнулась.
"… Что ты… — продолжил, закивав, Друид, — …освободитель божественных имен,
Пришедший изназвать
Всех духов-узников увязших в веществе,
Когда поймешь, что человек рожден
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и разума
Вселенную Свободы и Любви,
Тогда ты лишь
Ты станешь мастером…
Остановись! — не выдержал Друид, — Я не могу, когда вот так метко, такая женщина стреляет! Остановись! Я не могу. Мне это видеть отчего-то невозможно!
Она промахнулась последним выстрелом, покорно положила винтовку, сунула в руки Друиду пакет с одеждой для Фомы, который бросила до этого в углу тира. Пошли. И он пошел за ней.
ГЛАВА 34
"Искусство за колючей проволокой", "Искусство за колючей проволокой" Пестрели плакаты их выставки на улице. Алина остановилась перед одним из них, как баран перед новыми воротами. Словно то, что сделала она, то к чему была причастна, не имело для неё никакого значения.
И рванула Алина сквозь колючую проволоку заколдованного круга своей судьбы. Они неслись на попутном микроавтобусе — она, Фома и Друид. И Алина подгоняла водителя — ну скорей, скорее, словно хотела догнать тот самый мифический самолет, который же должен же когда-нибудь их увезти отсюда, а сама даже не знала расписания рейсов.
Оставив Фому в буфете аэропорта, они ворвались в кабинет начальника аэропорта. В ноги падай ему, как войдешь, прям сразу на колени, поучал по дороге её Друид. Они переступили порог, Друид растерялся, ожидая пламенной мольбы Алины, а у Алины вдруг кончились все слова. Она затрясла распахнутыми ладонями, как бы говоря, ну как же так, губы её дрожали, но она не могла издать ни звука.
Начальник аэропорта устало окинул их отеческим взглядом. Тут она пришла в себя, и вынув из сумки давно просроченные командировочные удостоверения — все шесть из разных редакций на двоих, положила на стол.
— А-а, — закивал головою начальник, — Все ясно. Бывает. Вот так всегда — залетят сюда, как в черную дыру, а как выбираться будут — не думают. И он спокойно и расторопно написал записку в кассу.
Друид вернулся в свою пустую квартиру, вошел в комнату, посмотрел на диван, обычно, откуда капитанским прищуром ему подмигивал его философский кот. Но пусто. Посмотрел на рукописи, лежавшие на столе — чудовищная фарандола жизни и фантазии пронеслась вихрем в его голове. Но пусто. Взял галстук, висевший на спинке стула, примерил. Встал перед зеркалом, представил, как произносит речь нобелевского лауреата уже совсем обрюзгший, убеленный сединами, произносит и с ужасом думает, — а дальше что?.. Написать ещё можно много чего, а как жить, жить-то как дальше?.. А может, вообще не жить, а лишь писать?.. А зачем тогда писать, если не жить?..
Уважаемые дамы и господа!.. Ничего нет прекраснее, чем жить не мысля и без смысла! Просто так! — Произнес он торжественно вслух. И осекся… "Друид, кончай валять дурака!" — вспомнилось ему.
Но почему, почему мне никто не верит? — Спросил он себя в зеркале, и слезы навернулись на глаза. Никто… — шептал он, — не верит, что мне может быть тоже отчаянно грустно, безысходно… почему мне не верят, что я тоже, нет, не тоже, а быть может сильнее всех их вместе взятых умею любить.
Он ещё раз взглянул на себя в зеркало и усмехнулся своей комичной физиономии, — "какой там Гоголь?.. — Чарли Чаплин!"
"А быть может, мне не верят, оттого что я просто-напросто сочинитель, они думают, что я и жизнь свою сочиняю, и себя и чувства?.. Или, если они предполагают, что я описываю то, что переживаю в фантазиях своих, что чувствую, их пугает, что слишком много что-то уж я чувствую всего? Они боятся моего многомыслия? Или боятся, что я чувствую их слишком уж хорошо и предчувствую? Но если чувствуешь, значит, любишь. Разве ж можно любить, не чувствуя человека? Но они же боятся настоящей любви… Они привыкли любить не чувствуя друг друга, а лишь потребляя. Поэтому я им не нужен. Ну и пусть… Пусть. А я ни за что не цепляюсь, ни от чего не отрекаюсь…
Он перебрал написанный урывками свой первый небольшой роман — всего-то страниц на триста… Обычно, он писал рассказы… повести… Ну и что?..
"А дальше-то что?.. Почему постоянно мучает этот вопрос?.. Глупо задавать такой вопрос, когда повесть окончена. Просто окончена, и более ничего. Повесть окончена. Вот и окончен целый роман. Если окончен, то уж окончен, стоит ли искать продолжение за картонной обложкой?.."
Ха-ха-ха — тихо вслух, совсем не смеясь, произнес он, затянул потуже свой длинный полосатый галстук и повесился на люстре.
Все. Окончен роман.
АЛИНА С НЕВЕРОЯТНОЙ ЯСНОСТЬЮ ОСОЗНАЛА, ЧТО ЕЙ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ВСЕГО ЛИШЬ ТРИ МЕСЯЦА. Так предвещали врачи.
Самолет приземлился.
Алина села в такси. И поехала от аэровокзала домой.
Не оставляй меня, возьми с собой! — смягчая кривляньями вопль своей души бежал за машиной Фома. Машина медленно набирала скорость. Алина оглянулась и увидела истлевшую ветошь знамен смерти, из последних сил пытающихся догнать её и растворяющихся на пропитанном огнями ночном ветру. И поплыло перед глазами метафорой воспоминание, как хлестали эти лохмотья ей пощечины, когда она, обессилив, давала себя нагнать, когда оборачивалась…
Ну что, притормозим? — спросил таксист, поглядывая в зеркальце заднего обзора на бегущего вслед такси Фому.
— Нет! Никогда! Только вперед! Только не останавливаться!
Москва!.. Широкий просторный проспект… Еще проспект… Она достала ключи из кармана джинсов и тихо отворила дверь, на другом конце коридора маячил мужской силуэт. Алина чувствовала себя — человеком, вдруг выпавшим за борт корабля, и оказавшимся в океане незамеченным темной ночью, долго преодолевавшим соленую мутную болтанку волн и вдруг выползшим на сушу… только суша оказалась ледяной.
— Я знаю, где ты была и с кем, — мрачно сообщил ей, ещё не переступившей порог, Кирилл.
— А ты знаешь, что мы разводимся с тобою? — так же мрачно, сходу отпарировала Алина.
— Это из-за него, из-за этого алкаша? — искривилось лицо его в брезгливом гневе, но тут же он, словно прозрев, попятился от нее: "кошки умирают в одиночестве" — зазвучал в его голове голос Зинаиды
Словно прочитав его мысли, Алина, отчаянно заглотнув воздух, выдавила из себя:
— Просто так. Все. Окончен роман. Поиссохли чернила.
И даже не ужаснулась своей глобальной пустоте, лишь ощутила, как любящ, но одинок Бог над этой невменяемой вселенной.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СОПЕРНИЦА СМЕРТИ
В моей душе сквозит пролом.
Туда, кружась, влетает вечность.
Я упаду горячим лбом
На скатерти большую млечность…
Елена Шварц
ГЛАВА 1
"… обожаема ты и желанна…" — пело радио
— Вот и все. Я пришел к тебе, Жанна.
— Поздно, — бросив взгляд на Кирилла через плечо, не отрываясь от работы, ответила она.
— Что значит поздно?.. Но ты же сама ещё месяц назад предлагала… и вот я свободен.
— Нет. Ты пришел ко мне не по собственной воле, не оттого что любишь, ты пришел ко мне оттого, что тебе деваться некуда.
— Но пожалей меня, Жанна!..
— А ты меня не жалел?..
И проверив свою маленькую сумочку — ничего не забыла ли, — встала и вышла из кабинета. Вышла навсегда.
"… теперь ты мне не нужен, не нужен твой футбол, я влюблена навечно в рок-н-ролл…" пел голос Жанны Агузаровой по радио.
"…На скатерти большую млечность…
Так мужественно начала
Я было делать харакири,
Но позабыла, что была,
Слабее всех я в этом мире…"
"Что это было? Что все это было? — с удивлением вспоминала Алина свое путешествие с Фомой, словно фантасмагорический сон, — что?.. Забвение от отчаяния?..
Что она искала? Что нашла? Любовь?.. Тихую месть незатейливому мужу?.. Да что мужу — всему мужскому полу?.. Иную жизнь?.. Сочувствие друга?.. Последнюю яркую, пусть предсмертную вспышку жизни?.."
Вспомнив про то, как оптимистично умирал Чехов, Алина купила бутылку шампанского, пришла домой, поставила её на стол и глубоко задумалась, глядя на нее. Очнулась, попыталась откупорить. Бутылка не открывалась. Со слезами отчаяния, оттого что весь этот мир приспособлен под мужские руки, она срезала пластиковую пробку ножом. Пена залила стол, ополовинив бутылку. Алина лишь усмехнулась на эту неудачу. Налила бокал. Выпила. Закурила. Забыла про уже налитый бокал, взяла новый…
Кирилл открыл дверь своим ключом, прошел в комнату — Алина словно и не жила здесь и лишь на столе стояли пепельница с двумя окурками и два пустых бокала, в центре стола возвышалась странно открытая бутылка шампанского. Это было уж слишком! Что взбесило его — два бокала, явно намекающие на то, что она пила не одна, или так манерно срезанная пробка шампанского — он не задумался. Раздираемый гневом он резко распахнул дверь спальни. Алина спала поверх постели в одежде, свернувшись калачиком, словно ребенок.
— Кого ты здесь принимала?! — растолкал он её. — Едва я за порог, а ты!.. Отдавай ключи от этой квартиры. Живи как хочешь.
Она поднялась и начала сомнамбулически собирать вещи.
— Ты умрешь в одиночестве и в нищете! — продолжал распаляться он, — А я… куплю виллу на Средиземном море, собственный самолет!.. — слов не хватало, он не знал — что ещё перечислить из благ мира сего, так чтобы задеть её.
— Прощай! — тихо сказала она, стоя на пороге с перекинутой через плечо дорожной сумкой.
— Нет. — Ухватил он её за сумку и потянул вниз, так что сумка шлепнулась на пол, — Без тебя все теряет смысл. Не уходи!
— Но я же все равно скоро умру.
— А мне не все равно!
— Все равно, — печально усмехнулась она. — Учись жить без меня.
— Ты никогда не умрешь! — выпалил он ей вслед так, словно проклял.
Да. Алина продолжала жить, перебравшись к женатому двоюродному брату, теснясь в маленькой, оставшейся ей в наследство, комнате, двухкомнатной квартирки. Впрочем, она жила в основном вне квартиры, перемещаясь по городу, как щелкающий моменты жизни инопланетянин-репортер. Научилась жить и ничего не помнить, но при этом все проживать, принимать и помнить.
ГЛАВА 2
Если работать, работать и работать, неуклонно продвигаясь к своей цели… то тогда ты получишь большого и розового слона! Да уж, это американское представление о возможном прекрасном будущем, которого человек добивается сам, вызывает у нас живущих в России, кривую усмешку. Путь по жизни не бывает прямым. Как бы нам того не хотелось.
Бывший милиционер Минькин отчаянно бомжевал в обнимку с ценной скрипкой. Покупателя он особо не искал, понимая, что не обладает нужными связями, зато сентиментальных дамочек с легендой о деде, гениальном скрипаче, кадрил по началу легко, пока окончательно не спился на их пансионах до полной невозможности.
Теперь он в наглую тусовался у музыкального магазина у Савеловского вокзала, предлагая старинный инструмент за гроши, требовал хотя бы тысячу долларов, но одни шарахались его, другие проявляли интерес, и тогда Минькин начинал сомневаться, требовали показать, но тут происходила заминочка. Все дело заключалось в том, что скрипку он хранил у одной барыбинской продавщицы, а доехать на электричке в один день — туда и обратно не получалось. Взять скрипку с собою боялся — отберут или рассыплется. Да и словно сатана водил его по кругам бомжей, собутыльников и прочей братии, а когда прибывал к своей Маняше, та уж не пускала его на порог. Скрипку вновь предстояло украсть, "или вымолить?"
Озадаченно стоял Минькин на коленях перед её порогом, причитая о том, что она его не любила, поигралась, да выгнала за порог сироту, даже ценности лишила последней.
— И на что ж тебе скрипочка сдалася, оглоед ты поганый, — глумилась над ним, стоя руки в боки Маняша, — Возьми деньги на бутылку и уматывай.
— Да она подороже стоит-то, морда ты не культурная.
— Подороже?! А во сколько ты мне со своею любовью псиной обошелся?! Посчитай! Обойдешься без скрипочки. Скрипочка у меня при деле будет, вот Вовку в музыкальную школу отправлю, чтобы в люди сынок выбился, на него и работаю, а ты давай, проваливай, ты мне имиджу не порти, я теперь палатку выкупила, статус свой повышаю.
Друид! Друид! — уже какую ночь Алина, уставившись сквозь тьму на потолок, звала покойного приятеля, — Друид!..
Но не было ответа.
И вдруг услышала голос, произносящий медленно, нараспев её имя: А-Аля… Алечка…
И сразу, не впадая в страх, заговорила, так, словно это было естественно для нее, — Зачем ты туда ушел?
— Где жил, туда и ушел, — ответил ей голос тихо.
— А скажи… — Анна попыталась сосредоточиться, но чувствовала, как страх, с которым она боролась все же сковывает её дыхание, и вдруг выдавила из себя вопрос, который совершенно не ожидала что задаст, — А Дюрер где?
— Рисует, — вздохнул голос Друида, — Как так, быть Дюрером и не рисовать?
— Где рисует?
— Где, где… в зоне, на Урале, голых ангелов на ножичках.
— А… — Алина хотела ещё что-то спросить, но почувствовала, что все, что не спросит — будет не о том.
— "… чтоб выплавить из мира
необходимость разума
Вселенную Свободы и Любви, — услышала она голос Друида в последний раз.
Я, кажется, схожу с ума, или быть может у меня температура, подумала она и впала в забытье.
ГЛАВА 3
Алина покорно подняла руки вверх, и позволила инструктору пристегнуть к своему телу парашютные стропы.
— Вы смелая женщина, — сказал он, принимая из её рук расписку, о том, что в случае её неудачного прыжка… одним словом, — винить в своей смерти она будет только себя или погоду.
— Что только не сделаешь по заданию редакции, — мягко усмехнулась она.
— Вы молодец, что согласились прыгать с четырех километров. Это приятнее.
— Да… я сначала хотела прыгнуть со ста метров, как солдаты, но походив по летному полю, поспрашивав, поняла, что это только острое ощущение и все. Все, кто прыгает, говорят мне о чувстве счастья. Я не понимаю, что они имеют в виду. Все твердят одно и тоже, словно нет у них других слов. А что надо нажимать, чтобы парашют раскрылся?
— Ничего. Мы летим с вами в спарринге. За полет отвечаю я. Ваше дело улыбаться. Во время полета — рот до ушей! Это приказ.
— Понятное дело. Насколько я понимаю, меня будет снимать ваш фотограф в полете. А наши парашюты не запутаются?
— Нет — усмехнулся инструктор, — Но улыбаться вы должны, не потому что вас будут снимать, просто, если вы будете лететь с чувством напряженности, со всей важностью совершаемого прыжка, то это напряжение может сказаться на вашем сердце. Так что — первое правило совершающего прыжок — как бы ни было страшно — улыбайся! И страх исчезнет. Наш страх боится нашей улыбки. Иначе, сердце…
— Да… здоровье у меня никакое. Физические силы мои слабы, но энергия!..
Вертолет летел, словно не летел, медленно набирая высоту, он, казалось, завис на одном месте, а земля медленно падала, ухала в пропасть под ним. И уже отдалился аэродром, близлежащие деревеньки, потом как-то с краю картинно-карточно наполз своей схемой город Чехов… Вскоре, показалось, только выгляни, оглядись и увидишь Москву. Маленькую Москву, картой-точкой лежащую на земле, а затем и всю землю. С её маленькими городами, полями, лесными пространствами… Но оглядеться было невозможно едва она высунула руку в открытое окно самолета, как её чуть не вырвало жестким потоком воздуха. Вертолет набрал высоту в четыре километра и как будто завис.
Сидя на лавке, она видела, как один за другим, словно в никуда, в серое пространство прыгают-исчезают парашютисты.
Скоро наша очередь, сказал её инструктор, приподнял её и пристегнулся за спиной, — Давай потренируемся.
Они синхронными шагами на широко расставленных ногах подошли к краю чрева вертолета, она увидела туманную, клубящуюся облаками пропасть и отпрянула. Но отступать было некуда. Спиной она почувствовала словно окаменевшее тело инструктора.
— Мы только потренируемся, — услышала она голос сзади, — Как я сказал надо делать? Повиснуть спиной на мне, поджать ноги сунув их между моих ног…
Она машинально проделала, все, что он сказал, ещё не думая о том, что сейчас надо будет прыгать. Но едва лишь она поджала ноги, как они ухнули вниз головой.
Все человеческие понятия чувства собственного тела мгновенно слетели с нее. Она летела вниз, ничего не видя — лишь какое-то мелькание сквозь защитные очки, летела и чувствовала, как черствый, словно наждачная шкурка, поток воздуха драит её обнажившиеся запястья, голени, лицо. Ледяная шкурка… И тело её словно врезалось куда-то вниз, в жизнь, которая где-то там, врезалось с невероятным упорством и целеустремленностью. И казалось ей, что это не тело — вся она единое "я", — дух материализованный энергией стремления.
— Приготовься, — услышала она чей-то голос, и не поняла еще, как приготовиться, что надо сделать, как что-то рвануло её с невероятной силой, встряхнуло, перетряхнув все члены, суставы, каждый позвонок и… тишина…
Фантастическая тишина, и она, в этой немыслимой тишине, медленно зависла уже вниз ногами.
Мысленно она проверила — имеет ли она ещё свое тело, — да руки ноги слушались её, но все походило на сон, они слушались, словно члены тряпичной куклы под управлением кукловода — тело её болталось в невесомости, в нем не было веса.
Она огляделась — увиденное внизу проникло в неё озаряющей мыслью, "вот так душа, дух спускается с небес, чтобы материализоваться в чем-то конкретном, там на земле. Наверняка я это уже испытала, когда родилась, перед самым своим рождением, и это испытывает отлетающая от тела душа, без сожаления оглядываясь на собственную землю. И не понятно мне сейчас, куда я? Зачем? Что мне через несколько минут придется там делать? В какую облачиться форму?.."
— Здорово? — услышала она голос за спиной.
— Здорово! — ответила она и почувствовала, как голос её звучит над планетой. Огромной, безмолвной планетой. Она ещё раз посмотрела вниз и сказала: — Только мне не понятно, куда мы приземлимся?
Внизу, на огромном зеленом пространстве, точечно виделись, как признаки человеческого корпения, темные пятна, по-видимому, села и деревни.
— Вон, аэродром, — буднично сказал ей голос за спиной. А приземлиться можем, куда захотим.
Она снова посмотрела вниз. "Куда захотим… так и дух выбирает спонтанно, любую из форм своей жизни предложенных плоскостью… так, в принципе, можно приземлиться совсем не в своей жизни, а в какой-нибудь… Мэри Энниной. И стоит ли доигрывать свою собственную, прошлую жизнь до конца, когда жизнь так абстрактна, почему бы ни перескочить из одной в другую…"
Медленно, плоско приближалась земля, увеличиваясь своими обжитыми местами. Вскоре стали различимы чертежи улиц, просек, дорог, конкретно вырисовался аэродром.
Начиналась жизнь.
ГЛАВА 4
"Я поднимаю тост за победу русской демократии", — прорычал главный за длинным столом в закрытом банкетном зале.
Алина чуть опоздала, и вошла именно в этот момент. Ее пустили в зал по списку, она ещё плохо понимала — в какое общество попала.
На банкет её пригласили по телефону, явно как журналистку. Пригласили, сказав, что банкет будет посвящен "свободе". Какой свободе?.. — может, как по Фоме: "свободе русского оружия" или свободе обезьянки Читы, убежавшей из клетки выездной секции Московского зоопарка?.. Мало ли что могло отмечаться в такие сумбурные времена… Но едва она вошла в зал, как поняла, что здесь дела посерьезней. За столом сидели явно бывшие зеки.
После своих поездок по зонам она мгновенно отличала в любой толпе человека бывшего там. За столом все были оттуда. И явно недавно.
Ей тут же определили место где-то с краю стола между мелким с пролысинами типом и длинным, нескладным, громогласным. Напротив сидел Фома. Они давно не виделись, и она даже обрадовалась ему, забыв то нетерпение, с которым бежала из Екатеринбурга, с надеждой навсегда избавиться от него, как от кошмарного сна, как от жестокого психологического монитора, после которого только в космос…
Фома кивнул ей. Она вопросительно посмотрела на него. Тот вздохнул и пожал плечами. Пришлось самой ориентироваться в неожиданной для неё обстановке.
Впрочем, банкет был похож на обыкновенное русское застолье, которое вот-вот должно было разразиться песней. Никаких словечек оттуда, никакой фени, обыкновенные тосты.
Что они здесь делают, зачем собрались? Думала она, вглядываясь в лица. Зачем позвали нас? Быть может это деловая сходка? Не похоже. Рядом с некоторыми из мужчин сидели женщины. Одеты они были дорого.
Мне теперь никогда не достичь такой модности, опечалилась немного Алина, и тут же прикинула, что дамы одеты хоть и дорого, но как-то не к месту, не к городу, не к этому времени, оттого и безвкусно. Она сидела среди них в своем стареньком тяжелого шелка черном брючном костюме, скорее деловом, чем праздничном, она всегда и везде ходила теперь в нем. Они же в декольтированных длинных платьях — ярких — голубых, красных… бархатно-зеленых. Бриллианты сверкали в сережках, кольцах, на шеях. А быть может, это были стекляшки, но сверкали же, и как сверкали!..
"Зачем здесь я? Какое отношение я имею к происходящему, не понимала Алина. Зачем здесь Фома? Зачем мы им? Или они считают, что мы свои? Или хотят купить нас, как журналистов? Но я не пишу ни о политике, ни о бизнесе…"
Она вспомнила плотное дыхание в ухо, крепкую руку, дуло направленное ей в висок. Она вспомнила обжигающий свист пуль и истерику, да именно истерику, как теперь оценивала она, истерику того беглого… в тайге…
Она, на клеточном уровне испытывая неприязнь к тому миру, что постигла за год странствий, год маеты души и полного отрешения от себя, она всячески обходила реалии всего, что чуждо ей, и ход её жизни теперь напоминал ход по канату. Нет. Ничего, что противно её сердцу она не сделает. Даже если ей тысячу лет жить и бороться со своей нищетой, а не год — все ровно. И вдруг подумала, что мысль о смерти, даже не мысль, постоянное ощущение близости своей смерти длящееся уже ровно год совершенно изменило её. Она стала прямей в своих поступках, перестала оглядываться, обреченно терпеть, петлять в своих чувствах. Ощущение смерти дало ясность в жизни. В каждом поступке, каким бы бредовым он не казался для постороннего, она проявлялась со всей своей полнотой, ничего не оставляя на потом.
— А вот теперь, пусть товарищи журналисты скажут нам, сколько они нажили на нашей выставке? — последовало после тоста за журналистов, которые "несмотря ни на что, вникли в духовный мир простых людей… жертв и т. п."
Алина не очень-то слушала этот словоблудный тост-вопрос, а лишь смотрела на Фому и казалось ей, что его эстетическо-нравственная система, якобы поэта, явно отказывала ему. Потому как он откровенно не делал скидку на то, кто же они в сути, эти "сильные мира", словно не помнил их жалкий лепет, наполненный дешевого пафоса, а принимал их безоговорочно — было видно, что он предал и самого себя и всех, кто был ему поддержкой и опорой раньше. А значит, и предал свое будущее. Подвел своей жизни жалкий итог. Сдался. А думал, наверняка, что выиграл, присоседившись к сильным. И сидел, распрямив тщедушные сутулые плечи, и с серьезным лицом кивал каждому слову.
— … так сколько же?
Алина вспомнила, как недавно к ней за столик в Доме Журналистов подсел один знакомый с двумя интервьюируемыми им, бывшими жертвами произвола властей из Воронежа. Парни сидели за столом и откровенно скучали — ну что это за ресторан — ни музыки тебе, ни девок в мини с длинными ногами?.. "Вон прошел Щекотихин, а это…" ведущий телепрограммы… — указывал им журналист на присутствующих в зале. Но парни скучно кивали в ответ. И лишь когда к их столику подошел просто завсегдатай этого места, мелко плавающий комбинатор Глеб, который, как личность явно не вызвал у них никакого интереса, (костюмчик был плоховат) журналист, подмигивая Глебу, спросил у него, слушай, а это не ты ли купил недавно белый Мерседес? Лишь тогда спины Воронежских пришельцев заметно выпрямились.
"Не-ка, по-простецки ответил Глеб, на фига мне "Мерс", "Мерс" купил вон он, он указал на редактора одной из примитивных газетенок, сидевшего с другом за соседним столом в стареньком свитере и стоптанных ботинках, я купил джип, по Испании без джипа не поколесишь".
Лишь тогда лица парней засияли приветливыми улыбками.
Вспомнив об этом, Алина понимала, что надо бы сказать, "да не особо, так… приобрели по БМВ…", но все же ответила:
— Нисколько. Только лишь получали убогие командировочные от редакций нескольких журналов и газет. Если бы не знакомые во время поездки, мы вряд ли бы вытянули все это.
— Зачем тогда вам это было надо? — осоловело уставился на неё тот, что сидел во главе стола, и все оглянулись на нее, как на сумасшедшую.
— Потому что мы хотели сделать настоящую работу, которая потом, через годы, через десятилетия могла бы явиться хорошим материалом для работ психологов, социологов, этнографов, исследователей развития сознания… а командировочных хватало лишь на чай, который мы обменивали на экспонаты.
— Но любой труд должен быть оплачиваем, — недоуменно вставил свое слово длинный сидевший рядом, про себя она окрестила его "Циркуль"
— Лично для меня он оплачен, — обернулась она к собеседнику.
— Чем же?
— Чувством окончательного знания и понимания того, что мы с разных планет. И я не за вас и не с вами. Я понимаю причины ваших преступлений, но понимание мое не означает, что я мыслю также.
— Что ж это выходит? Да ты нас, как юный натуралист насекомых?! — Он гневно выпрямился над ней.
— Однако! — прислушивавшийся, тот, что сидел во главе стола, уже порядком раскрасневшись от количества выпитого, и ельциноподобная физиономия его тяжело довлела над застольем. — Это наезд. И пишешь после, что все это искусство выеденного яйца не стоит как искусство?! Что представляет оно из себя какую-то там тнокрафф — он запнулся — тно… тьфу, ентнографическую ценность! Да как можно не оценить наших умельцев!..
— Я так не писала "Выеденного яйца"!
— Я все читал. Читал!
— Я так не писала, — твердо повторила она, не уступая зоновскому пахану.
Все в зале притихли, расценивая её отпор, как невероятную наглость.
— Я написала, — продолжила Алина, — Что, к сожалению, несмотря на природный талант, самородки и в зонах полностью подавлены культурной средой весьма низкого уровня. И любое их творение невозможно воспринимать иначе, чем оправдание, мол, и я не хуже, и я могу… Так проявляется рабство, заложенное где-то в подкорке. Еще бы, ведь сравнительно недавно мы отмечали столетие отмены крепостного права, но не успел народ очухаться от него, как на нас свалились ГУЛАГи… Рабство… снова рабство… А потом перестройка, голод… И от этого "и я" все их творчество ориентируется на некий ширпотреб, плодя вторичный кич, не более. Отчего представляет собой лишь этнографическую ценность аборигенов страны ГУЛАГ.
— А душу! Душу!.. Ты в душу нашу заглянула?! — взревел тамада, сидевший по правую руку главы собрания.
— Дура какая-то, — услышала Алина женский шепоток.
— А что душа? — оскорбившись бабьей усмешкой, встрепенулась в ней женская гордость, и презрение ко всему убогому, материально-плотскому, постоянно кивающему на некую душу, душу несчастную. — Что вы называете душой? Раздрызг эмоций, — "подай!", "Хочу", "Ах, я несчастный?"… Сорок обокрал, десять изнасиловал, с пяток перерезал, семь в упор расстрелял мальчоночка такой!.. И… никто теперь моей страдающей души не понимает. Да. Я писала о первобытных законах и примитивном мышлении в зоне. Но теперь вы эти законы легко перенесли в нашу действительность. И мне лично это противно.
— Нет, здесь никаких законов. Беззаконие! — возмутился кто-то дремавший в один ряд с Алиной.
— А что наши законы? Да ты наших законов не знаешь! Да если бы все по нашим законам бы было, не творилось бы такой несправедливости!..
— Да ты посмотри на Думу! На Думу посмотри, как шестерят, гады!..
— Всю страну по крохам растаскали! А нам, простым людям что?!
— Да уж лучше, хоть какой закон, чем беззаконие! — вставил Фома, все это время бледный, с въедливым прищуром смотревший на нее, — За свободу русского оружия! — встал он, произнося тост.
Все уставились на него охваченные мгновенной паузой. И начали постепенно подниматься, чтобы выпить стоя, поддаваясь всеобщему настрою, сами конкретно не понимая за что.
— Баба, чего с неё возьмешь…
— Баба она и есть баба, — тихо ворчали вокруг.
— А мы-то её королевою зон величали…
Выпили.
Пахан улыбнулся Фоме, — А вот здорово ты в "Вечерке" корреспонденту ответил: "Я бы песню пропел про этих людей!" Во, человек! Понимает! Песню!
И они затянули — "По ту-ндре, по желе-зной дороге,
Где мчится "скорый" Воркута — Ленинград,
Мы бежали с тобою…"
"Что я сделала! Собирая выставку этих убогих, я как бы дала им право поверить в то, что они действительно представляют собой интерес в искусстве и культуре. А таким только дай, а уж утвердиться для них ничего не стоит и будет вокруг вытоптанная территория и никакой иной культуры. И все мои последующие статьи, для них чушь, женский лепет. — Думала Алина, — И плевать, как они выглядят в других глазах, они теперь возвысились в собственных. Дура я, дура!" — ругала она саму себя, и передразнила: — "Я думала — раскопать истоки современного этнического сознания! — кровь прильнула к голове, в глазах потемнело, но внутренний монолог продолжался: — А на самом деле выпустила первобытных демонов наружу! Не только я… но и я тоже".
Песня кончилась, отвывшись, народ явно подобрел.
— А че бы там ни было, махнул рукой главный, но за Америку вам спасибо. Ну и как там наш брат поживает?
— О! Америка! — обрадовано подхватил Фома. — Догадайтесь с трех раз, кого я встретил воспитателем лос-анжелесской тюрьмы?
— Никсона? — предположил кто-то с дальнего края стола и заржал.
— Да не тяни.
— Анжелу Дэвис! — торжественно выдал Фома
В этом есть свой резон, подумала Алина, то по эту, то по ту сторону одних и тех же баррикад. Игрок одного поля. Но при чем здесь Америка?..
А Фома тем временем упоительно рассказывал о том, как сидя в тюрьме, можно выбрать себе любую профессию, и тебя будут учить ей за счет государства, о том, как можно заниматься любым творчеством и один заключенный подарил для его выставки шар вытесанный из мрамора. Он, вот, видите ли, захотел научиться вытесывать шар, и ему предоставили и мрамор, и скарпели…
Но его сообщение о шарах, картинах не особо вдохновляли публику, зато, когда он начал говорить, о том, что во многих американских тюрьмах есть прямо в камерах телевизоры и видеомагнитофоны, что можно в любой момент позвонить в город, — народ за столом оживился. Мужчины закачали головами, лица их обрели нивно-мечтательное выражение. Казалось, что детям рассказывают красивую сказку.
"А че, здеся жить можно, кормят, правда, плоховато, но хоть кормят. Еще бы женщину давали" — вспомнились Анне пожелания на обратной стороне анкет. Но какая Америка?!.. Откуда вообще взялась эта Америка?! По разговору она начала понимать, что Фома ездил туда с выставкой.
И это понимание, подобно параличу сковало все мысли. "Как же так?! Почему?! Зачем он поступил так нечестно?! Не может быть… Это же подлость! Как же так…"
— Бить будешь? — спросил Фома, застав её выходящей из туалета.
— Что? — Она, прищурившись, посмотрела ему в глаза.
— Я это… извиняй, в общем, вместо тебя ездил с Инессой.
— С какой ещё Инессой?
— Ну… ты её знаешь, она в "Огоньке" раньше публиковалась. Вы учились вместе. Ее это… там, в Америке, за тебя приняли.
— Как это за меня?
— Ну… перепутали — писали, что она совершила неженский подвиг подвижничества, путешествуя со мной по мужским зонам. О ней столько статей написали. Извиняй уж, перепутали журналисты… — скорчил он тут же невинно гримасу простака. — Ты же знаешь нашего брата.
— И она давала им интервью, так словно она была я?!
— Чего не сделаешь за ради славы… — вздохнул Фома, закурив, пустил колечками дымок под потолок.
— Но это подло?! И ты… — Алина ощутила белую вспышку в мозгу и у неё закружилась голова, слов не было.
— А зачем ты меня тогда в аэропорту бросила?
Алина не ответила, резко развернувшись, пошла в банкетный зал.
Народ выпил уже основательно, потому долго слушать одного и того же вещателя не могли и вновь затянули песню, теперь голосили женщины:
"Город Николаев, фарфоровый завод.
А девчоночка ребеночка несет.
Ах вы, мальчишки, с вами пропадешь.
С вами негодяями на каторгу пойдешь!.."
Пели громко, звонко, по-бабьи, что совсем не вязалось с их великосветскими нарядами. Алина незаметно вышла из банкетного зала.
ГЛАВА 5
Она ушла, словно все забыла, отсекая навсегда от себя жестокую комедию своего пробега по зонам. Но постоянно вспыхивало в мозгу Алины имя Инесса.
Через несколько дней Алина и Инесса случайно встретились в Доме Журналистов. Инесса входила в кафе. Алина сидела за столом напротив входа и беседовала редактором новой молодежной газеты. Инесса на секунду застыла, завидев Алину издалека. Их глаза встретились. Алина по мягкости своего характера улыбнулась, но лишь губами. "Подойди!.. Подойди! Ну извинись, и все будет нормально, и я пойму, ведь я же знаю по каким законам тебе пришлось так поступить тогда". — Все ныло в Алине. Ей почему-то стало бесконечно жаль бескомпромиссную снаружи Инессу. Ведь это же она дала слабинку и сломалась на возможности получить какую никакую, но славу, а не Алина. Алина так и застыла с улыбкой на устах, казалось ей, что именно улыбка облегчит путь…
Но Инесса прошла мимо, даже не поздоровавшись, словно они не знакомы. "Что же ты делаешь, что же ты делаешь… что!.." — вопило сердце Алины, словно чувствовало чужую катастрофу. "Ты же действуешь по законам уголовного мира. Обокрасть и ни сном, ни духом… не выдать себя. Ты повязана той же ментальностью, что и все эти воры! Вернись, скажи, что случайно они перепутали наши имена, что не хотела!.. Что так случайно получилось. Ведь мы же знаем, как журналисты спешат и все путают, как не вникают, как могут быть не точны! Подойди! Ведь мы не ссорились с тобой!.. Вернись! Извинись! Я прощу! Ведь это катастрофа!.."
Но зря.
"А что я так за неё испугалась? — рассуждала Алина, выходя на улицу. Это она меня облапошила, получилось, что я работала на её имидж, пусть не здесь, а где-то в чужой стране, но все же… Да у неё все нормально. Это я осталась в дураках. В дураках, по её меркам. Но я осталась как раз при себе!"
— Бить будешь? — в упор спросил её случайно встретившийся на пороге Фома.
Она снисходительно улыбнулась в ответ
"… И крови полные пригоршни Мне видеть холодно в тумане. Не помогай, не подходи, Хотя бы я о том молила, Ты только издали следи, Как боль в глаза мне ужас влила…"Почему ты не приедешь и не ударишь мне пощечину? Почему ты меня не побьешь?.. — навязчиво звучал голос Фомы рефреном по телефону.
Размеренная речь холодной вежливостью проливалась на него в ответ. Она мысленно уничтожала его. "Пошел к черту!" — цедила в сторону, выключая трубку.
И понимала, что ему нужна была реакция, настоящая реакция, чтобы он смог понять, увидеть, как разрывается все в Алине и оттого почувствовать, что он ещё жив в её сердце, он ещё в силе. Но она ускользала из его жизни
Она ускользала из всякой чужой жизни, пытавшейся поглотить, поймать её, будь то жизнь влюблявшихся в неё новых знакомых или жизнь её бывшего мужа.
В чем я виноват, в чем я виноват, что ты со мною развелась? добивался ответа Кирилл.
Она пыталась подумать, как ему правильно ответить, но у неё ничего не получилось. Мысли хаотично носились в её голове, сотрясаясь пляской святого Витта. Она уже не могла припомнить ничего конкретного из их совместной жизни, что бы действительно так обидело её и привело к решению порвать то, что он изменял ей?.. Орал иногда? Жадничал?.. Маму свою так некрасиво увез?.. Какая все глупость мелочь, факты, просто факты, перед чем-то большим, необъяснимым.
— Да ни в чем ты не виноват, — ответила она, чуть было не ответив: "отвяжись", — Никто ни в чем ни виноват. Просто когда-нибудь всему наступает предел.
Всему наступает предел…
"… но позабыла, что была Слабее всех я в этом мире. Царапина — и нож отброшен. Я зажимаю тряпкой рану. И крови полные пригоршни Мне видеть холодно в тумане…Она поднимается в лифте на свой этаж, щупает ключи в кармане… и вдруг чувствует мутную волну… — невесомость! Она взлетает к потолку лифта, зависает. Ей некогда. Пора все это прекратить! Она нащупывает потолочный люк, пытается открыть его и дергает крючки, но в ответ на её действия люк не открывается, а отпадет пол лифта. Она, зависнув под потолком, видит бездну огней под собою. Город. Ночной город. Милая, печальная земля все отдаляется и отдаляется от нее. Лифт завис. Падать-прыгать с такой высоты нельзя — поздно падать. Выше невозможно. Выше потолок. Она распластана по нему каким-то обратным притяжением. А может все наоборот? И видит она не землю, а выпуклое зеркальное отражение? Выпуклое?.. Значит, кривое?.. Где я? Кто я? Откуда?!
Голос её словно гаснет в вакууме.
Неопределенность, отсутствие точки опоры мешает ей ощутить красоту наполненной жизнью бездны. И чувствует, что может, оттолкнувшись от потолка, рвануть со скоростью кометы вниз, но если это действительно лишь кривое отображение того, что есть в ней, если это лишь действительно зеркало, оно разобьется при её падении, и тогда весь этот мир разлетится вдребезги, а ей его жалко.
ГЛАВА 6
Жизнь журналиста фрагментарна, как взгляд кришнаита — открыл глаза увидел — новость! Закрыл глаза, открыл, увидел то же самое — новость! Открыл, закрыл, увидел тоже — ба какая новость! Время не линейно. Прошлое не соединяется с настоящим, из настоящего не вытекает будущего — все перемешано в хаос. Вот и выдергивай из него что хочешь. И удивляйся и поражай воображение. Работа такая. А после погружай в хаос забвения. Вот так и жила Алина, забыв про то, что существует беспрерывная линия времени. Лишь вырывала цифры обозначающие время встречи с редактором ли, героем репортажа… И снова погружалась в безвременье.
— Эта… ну вот… — снова, после недельного перерыва, звонил Фома.
— Короче! Драться не буду, — резко отпарировала Алина.
— Я к тебе по делу, у тебя нет знакомых врачей?
— Каких врачей?
— Онкологов.
— Есть… вернее я знаю, где их можно достать. Но в чем дело? — Алина интуитивно поняла, о ком он будет говорить.
— Это очень серьезно… — и наполнив речь свою вздохами и всевозможными междометиями, поведал, что Инесса умирает. Еще в Америке ей вдруг стало плохо. Когда вернулась — оказалось, что у неё рак груди с метастазами. Какой-то особый — скоротечный. Оперировать поздно. Ее облучали на днях, но ей стало только хуже. Она уже лежит, не поднимается. Поэтому надо сделать все возможное.
— С правой груди все началось?
— Откуда ты знаешь, что с правой?
— Я знаю — глухо ответила Алина и надолго замолчала.
Альтруистическая душа её встрепенулась в порыве помочь, но тут же, словно что-то произошло в её сознании, словно холодной водой окатили её, и она заледенелом голосом ответила, — Пусть она сама меня об этом попросит.
Он понял, что это абсурд — никогда в жизни Инесса не обратиться к Алине за помощью, и положил трубку.
"Инесса… Инесса… Почему? Почему… Почему?!" — гудело в Алине.
И вновь, в одно мгновение, Алина все поняла и ужаснулась закону мистической связи между собственной болезнью и болезнью Инессы. Похитившая её славу, похитила и её мрак. Значит, ей, чтобы выжить, надо совершить путь Алины. Она похитила итог, не ощутив первопричины, и первопричина итога нависла над ней.
Так объяснила себе Алина и встала, вышла из-за письменного стола, машинально накинула на плечи куртку, подошла к двери, открыла и вышла из дома.
— Ты куда это направилась? — окликнула её во дворе, подруга юности и соседка Ирэн.
— Не знаю. — Как завороженная ответила Алина.
Ирэн чуть отшатнулась от её взгляда, словно смотрящего сквозь нее.
— Что это с тобой?
— Ничего.
— Слушай, может я с тобою? Все равно делать нечего.
Молча две женщины ехали в метро. Как не пыталась Ирэн узнать, куда же направилась Алина, но всякий раз получала странный ответ: — Не знаю, но чувствую что мне надо…
"Быть может она под наркотой? Вряд ли. Просто она такая… вся не такая…" — задумалась подруга Алины, и тем любопытнее стало, куда же это она направляется.
ГЛАВА 7
Это был очень странный маршрут, маршрут с ощущением некого надреального полета. Молча, Алина и Ирэн вышли на Кропоткинской.
Сейчас, сейчас, — вдруг сказала Алина и почти бежала по бульвару. И почему-то завела Ирэн в Фотоцентр.
Фотоцентр, так фотоцентр.
Они хотели пройти на выставку, но вход им загородила вахтерша. Я журналист, — сказала Алина. Вот, — как аргумент показала Алина свой диктофон.
— О, интервью, интервью! — закивала вахтерша, — Сейчас я позову фотографа, он на втором этаже, а пока осмотрите выставку.
— Это песнь! — воскликнула Алина и схватилась за сердце.
Весь зал был посвящен заключенным. Женщинам в зонах. Репортажные, со слабой претензией на художественное видение, фотографии показывали зоновских мадонн во всех ракурсах, притом четко соблюдая антураж — черные ватники, кирзовые сапоги… И казалось, что сам фотограф впадал в некую прелесть от увиденной им концепции женщины. Бежим отсюда, это уже я прошла в прошлой жизни, бежим… — еле проговорила Алина и направилась к дверям.
В дверях их остановил мужчина лет сорока пяти с лукавыми усами:
— Куда это вы? А интервью у меня брать?! — расставил он руки, словно ловил мячик удачи. Алина, увернулась от возможной ловушки. Мы сейчас, мы за батарейками, батарейки сели, — кричала Алина, ускользая.
Ирэн, повторив в точности движения подруги, нагнала её на улице.
Они прошли совсем немного, как распахнутые двери старого дворца поманили их, они вошли в мраморный холл и поняли, что попали в союз художников. Тем же способом, что и в фотоцентр, проскочили сквозь вахтершу, поднялись на выставку, расположившуюся на втором этаже. Их встретил художник, "ну вы покуда смотрите, а я вас жду в кафе и с удовольствием отвечу на ваши вопросы".
На картинах было изображено застолье. Застолье всех форм и видов. Застолье-полемика, застолье-просто-выпивон, застолье-спор, застолье-хор… Жрущие, сытые ли, истощенные, но все равно самодовольные, обалдевшие от возлияний лица с остекленевшими взорами в никуда!
О! Хватит! Алина почувствовала, как слабеют её коленки, и отчаянно по-детски хочется плакать.
— Невозможно!.. Невыносимо! — качала головой она, оглядывая зал расширенными глазами.
Они вышли на улицу, пусть ждет, пока они сбегают за батарейками для диктофона. У автобусной остановки остановились.
— О, господи, — оглянулась Алина, — Так где же Музей Народов Востока?
— Что же ты мне сразу не сказала, что тебе надо туда? — удивилась Ирэн, — Он, мне кажется, всегда был чуть дальше.
— Откуда я знала, что мне нужно туда, — пожала плечами Алина. — Я просто шла, и вошла в первые попавшиеся раскрытые двери, не взглянув даже на дом. Тут что-то не так. Что-то со мною случилось. Шли, шли и вдруг эта чудовищная фотовыставка с зонами, а потом застолья… Может это мой мини-маршрут по этой жизни? Мистика какая-то… Такое впечатление, что это материализовались метафоры окружающей жизни. Нам показывают. Ты понимаешь, нам явно показывают, откуда-то оттуда, — Алина ткнула пальцем в небо, Давай просто идти и смотреть.
— Давай согласилась Ирэн. — Все равно делать не чего, а с твоими фантазиями как-то даже интересней.
Они вошли в Музей Народов Востока.
— Скорей, скорей, — вдруг заторопила заглядывающуюся на экспонаты подругу Алина. — Нам некогда сегодня расплываться в впечатлениях, нам нужно увидеть только одну единственную вещь!
Алина быстро пробегала взглядом по экспонатам, переносясь из зала в зал с немузейной скоростью.
Смотрительницы залов встрепенулись. Таких скоростных экскурсантов у них ещё не было. "Быть может хулиганки? Быть может они сумасшедшие, но не похоже".
— Посмотрите Рериха, Рериха! — зазывали они.
— Конечно, как так — побывать в таком музее и не посмотреть картин Рериха, — усмехалась Алина на ходу тоном Друида.
— Но что же ты ищешь? Ты можешь сказать? — начала раздражаться Ирэн.
— Не знаю, не знаю, узнаю, когда найду.
— Быть может вот это? — указала Ирэн на женские туфельки в китайском зале, понимая, что сейчас её подруга ищет некую поэтическую метафору, и думая, что этот переносный смысл должен коснуться её женского бытия, — Ты представляешь, как больно им было ходить.
— А ты представляешь, как тесно сейчас мне искать?! Скорее! Нельзя расплываться.
— Быть может вот это? — Ирэн остановилась у вазы вырезанной из розового аметиста. Резная каменная лиана обвивала её.
— Не знаю, — задумалась и остановилась Алина, — Ты представляешь, сколько было вложено в неё вдохновения и труда? Это подарочная ваза. Когда китайцы дарили подобные вещи, они не дарили их, как вещи, то есть, не обогащали одариваемого материально, они говорили, "я дарю вам красоту". И тот, кто получал подобную вазу в подарок, ставил её на видное место и наслаждался её красотой, а когда он замечал за собою, что начинает к ней привыкать, и не замечать её прелести, он брал эту вазу и возвращал назад хозяину, говоря, что уже насладился её красотой. И тогда хозяин дарил красоту другому. Понимаешь, какое понимание, что красота приедается, что то, что привычно, то уже не наслаждает. Какое желание не терять остроты вкуса!.. Но все-таки я сейчас не об этом.
— А может об этом? Тут написано, что эти пластинки клали умирающим на темечко, чтобы через них выходил дух. Или, быть может, ты ищешь ответа в нэцках? Смотри, какой скупердяй — несет мешок с добром, а его проели крысы! Это наверняка соответствует смыслу, сколько не копи… Ты правильно сделала, что ушла от мужа и ничего не взяла — крыс, во всяком случае, не развела. Ни в добре, ни в голове.
— Нет… это тоже не то. Слишком однопланово, слишком просто ты читаешь увиденное. А это бог богатства — Дайкоку.
— А мне не видно, что это бог. Мне кажется, что это карикатура на скупердяев. Иначе бы из мешка не вылезали крысы.
— Но он же бог. Живет на небесах, а крысы прогрызают в его мешке дырочки и из них на нас сыплется манна небесная, то есть волшебный рис. В восточных культурах фактически нет зловредных животных — все они помощники человеку.
— Откуда ты все это знаешь? Начиталась?
— Начитаешься тут, когда месяцами муж тормозит и никакой деятельности развести не дает. Ну да ладно, все в прошлом.
И Алина рванула в следующий зал.
Ирэн совсем потеряла её из виду, и потеряв надежду догнать, медленно обходила залы, рассматривая затейливые экспонаты. Через час он натолкнулся на неё в зале искусства народов южно-азиатских островов, перед витриной поделок с острова Майями.
Алина стояла, как загипнотизированная, но когда Ирэн подошла к ней, она ткнула пальцем на один экспонат:
— Вот, — сказала она, — Смотри!
Это был рог. "Рог для хранения лекарственных трав" — было написано под ним. Рог был вырезан из черного камня, на нем из того же монолита по оба конца сидели фигурки. Маленькая-маленькая человеческая фигурка на остром конце рога, по-извозчики управляла удилами закинутыми на огромную идентичную человеческую фигурку, всю какую-то плотски нелепую, мясную.
— Вот! Это тот самый символ. — Вздохнула Анна. — Наконец-таки нашла.
— Кого? — не поняла поначалу Ирэн.
— Символ двойственности и единства человеческой сути, — ответила Алина. — Смотри, какой большой, плотский, весь материальный человек. Все животно-биологическое в нем. Дай ему волю, и он превратиться в гориллу. Чуть что не так — вынет "ксюшку" и изрешетит, как наши новые русские, а потом пойдет, пить гулять по бабам. Это зверь внутри нас, понимаешь, тот, кто не ведает, что творит. В нем нет ни космоса, ни табу. Смотри, сколько плоти! Знаешь сколько ей надо!.. Пульсирующий животный студень, сотрясаемый амбициями, зверством, тупостью и ленью!.. Это наше физическое тело.
Но этот маленький!.. Это даже не психика, психика сидит в плоти, как центр капризы. Психея… — психика… — душа… Этот же маленький человечек — ни чем не нуждается, ни в чем. Ему ничего не надо, кроме одного — явить себя, как божественное начало, провести это тело сквозь время и пространство. Это Бог внутри нас. Но проявить себя он может только через это плотское создание. Обретая тело и управляя им. Он управляет этим, огромным, словно кучер конем, сам выбирая дорогу. Именно с этого сравнения начинается учебник по магии Папюса. Но если конь окажется сильнее и его понесет!.. Никогда нельзя ослаблять поводьев…
— Чувствуется мне, что внутри каждого из нас сидит пьяный извозчик, покачала Ирэн головой, — иначе разве б мы выбирали такие судьбы-пути… Пьяный… и лошадь его плетется напропалую по бездорожью. Ему-то что.
— …Этому твоему истинному "Я" надо очень немного. Оно самодостаточно. Космос подпитывает его. Космос божественный, если хочешь мистических законов, — восторженно продолжала Алина. И задача его — не отпускать эти вожжи. Ты помнишь, как говорят, "человек распущенный". Это вожжи ослабли. Твое истинное "Я" не может тогда управлять Я плоти. Тогда наступает как бы переворот. Не конь идет на поводу у хозяина, (то есть энергетическое, божественное начало, слушается физическое), а хозяин на поводу у коня, отсюда все беды — пьянство, блуд, обжорство, хамство, разрывающие желания и безнадежность… Подлость, пошлость и примитив… Бесконечные, бесконтрольные пульсирования. Не по богу, не по божественному началу в нас. Но если довериться своему истинному "Я" — то человек способен сотворить невозможное. Это твой дух. Он знает и куда тебя направить, и что делать в самой трудной ситуации. Только надо уметь слушать его. Знаешь, когда я лет в пятнадцать забралась с мальчиками в подмосковные катакомбы, из которых добывали белый камень на строительство Москвы, мы, естественно, заблудились. Началась паника. Мальчишки к третьему часу, не стеснясь меня заплакали, и тогда я не села в псевдомудрую позу роденовского мыслителя, а легла на каменный пол, раскинув руки, и полностью расслабилась. Меня охватило какое-то странное состояние, при котором — ты видишь все, знаешь ответы на все вопросы, но со стороны выглядишь очень странно. И тогда я встала и пошла. Парни были истощены и поэтому не дергали меня вопросами, а пошли за мной молча. Мы вышли, не сделав ни одного лишнего поворота. Вот так надо уметь слушать это "Я". И не сбиваться на чужие мнения.
— Угу, — кивала Ирэн, глядя уже не на скульптурку, а на подругу.
— Часто люди делят людей на порядочных и непорядочных. Так вот если ты попробуешь окунуться в филологически исконный смысл этого слова, то поймешь, что порядочный человек — это тот, который имеет понятие о порядке.
— В доме что ли?
— Нет. Это слишком примитивный, внешний пласт. Такой человек просто аккуратный…О порядке ценностей, как и внешних, так и внутренних — своих порывов, желаний, эмоций… А у непорядочного — властвует хаос. Беспорядок. Бежать от такого надо, но главное восстановить порядок внутри себя. Это контроль, напоминающий тебе, что ты не животный бред во плоти, а человек. Чело — голова, ум, век — это же вечность! — Алина говорила и сияла, почти смеялась, хотя и сообщала о чем-то очень серьезном для нее, как будто боялась скатиться до всеподавляющего пафоса своих умствований и потерять легкость. — Вот я думала, думала, что удерживало меня в жизни от полной индифферентности, или же от слияния с тем, что предлагала мне жизнь, и вдруг поняла — вот этот маленький, истинный человек. Истина во мне. Она есть в каждом. Доверься этому маленькому, невидимому человечку в себе, своему ядру и все, что хочешь, — будет. Все! Все что в действительности тебе надо — подтянется. Если его нет за видимым человеком — значит он зомби. Не человек. Это хорошо видно по алкоголикам, которые совсем спились и потерли чувство совести. Это видно по многим психическим больным, — они оторвались от того маленького, истинного человечка. А бандюги, воры и прочие полу уголовные элементы — они оторвались и заблудились. Потому что человек не может быть изначально порочен, если он живет в гармонии с изначальным небесным духом заложенным в нем. Это даже кристалл духа в центре души! Доверься ему. Спрашивай, перед тем, как что-то совершить — в действительности именно это по воле его и тогда ты добьешься всего. Это я не только тебе, это я и себе говорю.
— Я хочу выйти замуж и жить нормальной семейной жизнью, — ответила Ирэн.
Алина скорбно посмотрела на неё и пошла к выходу.
ГЛАВА 8
Вечерело. Они молча брели по сентябрьскому бульвару
— Разве ты не пойдешь к Петлюре, в заповедник искусств? Там сегодня грандиозная тусовка. Кажется, ты ещё о нем не писала. Пошли, — предложила Ирэн.
— Нет, Нет. Я не могу, — замотала головой Алина, чувствуя, что не в силах сегодня переваривать новую информацию. — На сегодня я выдохлась, и вообще… я ужасно хочу в туалет.
— Ты будешь полной дурой, если не пойдешь, такое случается не часто. Кажется это их последний сейшн. Ты же хотела о них написать. Их, кажется, прикрыли. Лужков издал приказ снести эти дома. — Схватила Ирэн подругу под локоть и насильно повела за собой.
Я не могу! — вдруг встала как вкопанная Алина, — Не могу больше! Ты понимаешь!
— А… понимаю, — кивнула Ирэн, — Тебе просто надо в туалет. Сейчас сообразим подходящую подворотню. Слава богу, уже темно, — потащила за собою Алину Ирэн. А потом я тебя познакомлю с одним типом. Ты с ума сойдешь. Я знаю, что тебе он будет интересен. Ты же любишь все необычное. Он лысый абсолютно.
— Нашла чем удивить.
— Он играет буддистские песнопения.
— Я не специалист по этническим ансамблям.
— Но это же что-то колдовское!.. И ещё — он отрезал себе нос!
— О да… Это аргумент! — Закивала Алина, — Но я все равно не дойду до этого идола с обструганный носом, я хочу в туалет!
И начались их естественные, метания-мучения по вечерней Москве. Но все-таки им удалось вычислить выселенный двор, и они свернули в его сумрак, на его утоптанную почву, невдалеке светился прозрачным холлом недавно реставрированный особняк, окруженный помойкой, ямами, колдобинами и строительным мусором. Анна, отдав свою сумочку Ирэн, пошла в темный угол.
Когда же вышла, увидела, как из особняка выходят люди. Все в кремовых кашемировых пальто. Итальянцы, почему-то подумала она, и оглянулась — Ирэн нигде не было. Она позвала её стоя посреди двора.
— Бежим отсюда, бежим! — услышала громкий шепот подруги из-за ствола огромного тополя.
Ты чего это испугалась? — спросила Алина, совершенно не понимая, почему это вдруг она должна бежать с этого перерытого двора, спотыкаясь и ломая ноги в темноте, когда можно выйти вполне достойно по тропинке.
Она нащупала путь во тьме, и уже было ступила на него, как вдруг какой-то человек в черной кожаной куртке догнал её, в несколько прыжков, и пересек ей дорогу. Алина изумленно тряхнула кудрями, мол, что это с ним?.. — и увидела дуло автомата, направленного ей в грудь.
За спиной раздавался тихий, явно не итальянский, скорее вкрадчиво советско-южный говор.
"Чеченцы?" — подумала Алина, — "Ну и что? Почему это я должна бояться чеченцев?" Тем временем дуло больно упиралось ей в грудь.
— Журналистка? — спросил парень. Парень был свой, парень был совершенно русский — губошлеп из московских дворов, но стоял перед ней с непроницаемым выражением лица.
— Ну и что? Ты теперь убивать меня будешь? — усмехнулась Алина.
— Бежать! Идиотка! Бежать! — убегая орала Ирэн, от испуга забыв спряжения и склонения разом.
Но уже выбегая на бульвары, она оглянулась в проем двора освещенный полной луной и тусклыми фонариками у входа в особняк. Алина, как ни в чем не бывало, продолжала что-то говорить. Ирэн не слышала её слов, но понимала, что она явно насмехается над парнем. Колени её подкосились, сейчас, сейчас кровавое месиво взамен этой красивой, отважной, непонимающей, непринимающей!.. И поплыли телеобразы расстрелянных трупов… Слезы отчаяния выступили на глазах, и она, приседая, продолжала шептать-хрипеть, — бежать, бежать!
— И оно тебе надо. Надоели мне ваши пушки! — продолжала, с желтоватой скукой видевшего все на этом свете человека, рассматривая, словно игрушку забавного трехлетки, черное дуло, Алина.
Парень усмехнулся в ответ её выражению лица, и покачал головой.
— Дай хоть посмотреть — из чего меня чуть что расстреливают?!
— Не дам, не положено.
— А стрелять положено?
— Положено.
— Положено? — скептически хмыкнула Алина, и ей стало жалко этого русского парня, вынужденного служить чеченцам, с которыми все ещё воюют его ровесники…
Они посмотрели друг другу в глаза, и застыли на мгновения в прицельном обоюдном гипнозе мужчины и женщины.
И тут на героическом полете Ирэн подлетела к ней, и вцепившись в рукав её кожаной куртки, потащила со двора, — Да мы только в туалет сходить, пардон, пардон!!
— Да почему это я должна бежать? — продолжала упираться Алина, Почему я должна бояться ходить по своему городу? Не пойду! Не побегу никогда! Пусть стреляет! Пусть!
— Больные на голову что ли? — хмыкнул парень, — Да бегите же, бегите, пока вас хозяева не заметили! И видя, как упирается Алина, умоляюще зашептал, — Я вас умоляю, я вас прошу!
ГЛАВА 9
Вот это да! Вот это апофеоз! Метафора! Какой-то бред! — шла, восклицая, Алина, — О как все невозможно!
— По чему ты не испугалась?!
— Да надоело! Чуть что — тычут пушками, понимаешь ли. И все равно боятся больше. Все чего-нибудь боятся. Трясутся за свою жизнь. А я не хочу! Я хочу жить и не бояться, как невменяемое животное. И буду! Где твой лысый с обрубленным носом?! Впрочем, нет на свете ни одного мужчины, который бы мог хоть чем-то заинтересовать меня!
Они дошли до дощатого зеленого забора и вошли в ворота.
Это был город в городе. Это был настоящий мистический бал.
Разрушенный, выселенный двор, окруженный тремя старыми в желтой штукатурке с выбитыми кое-где окнами постройками, гудел народом, в свете факелов мелькали лица.
Женщина с покрытым густыми белилами лицом в белом платье с голубым крылом ангела прошла-проплыла мимо них, затем человек в цилиндре, длинноволосый хиппи, панк с зеленым гребнем волос на голове…
Что это? — спросила Алина никого, и ей ответили из темноты — Да, так… тусовка. Нас выселяют. Дома продали под гостиницу, на снос.
Вокруг Ирэн закружила толпа разномастных людей и увлекла её в мерцающую огоньками фонариков тьму. Алина осталась одна, среди незнакомых лиц, и в тоже время вроде бы знакомых. Все они были людьми приблизительно равного образования, воспитания, круга, хотя и совершенно разных возрастов. "Пора брать интервью", — подумала она, достала из сумки диктофон, включила и спросила первого попавшегося ей бородача, напоминающего купца, или художника передвижника: — Что для вас это место?
Он задумался на мгновение, его серьезные карие глаза таинственно блеснули в свете мелькнувшего мимо факела: — Мы существуем в ситуации информационного потопа, пора уже строить Ноев ковчег.
— Но если говорить объективно, это же страшно — приличные люди, носители культуры собираются в каких-то развалинах. Отсюда — наркотики, инфекции, депрессия, опустошенность и суицид!
— Объективность недоказуема. — Словно не слыша её, продолжал незнакомец, — Абсолютно недоказуема, потому что объективная реальность существует вне нас. Все что объективно, не субъективно. А здесь собрались люди не шаблонного мышления, здесь сплошь субъекты.
— Что для вас это место? — спрашивала Алина у другого, уже отчаявшись найти у спрашиваемого адекватность восприятия требований современной жизни и своего места в ней.
— Альтернативная культура… — после минутного раздумья, ответил ей одутловатый мужчина лет тридцати в черном, развевающемся полами, словно флагами, плаще. — Я думаю, что это уходящая реальность. И все кто приходят сюда немного ностальгируют по тому, что нет в реальной жизни. Это маленький остров, на котором все хотят обрести иллюзию времени давно утраченного, ответил ей Александр Детков.
"Детков… Детков…" — заработало в её мозгу, — "Детков руководитель группы, влетевшей в редакцию газеты "Московский Комсомолец", с целью предупредить о том, чтобы не выступали против "Памяти". Только его звали тогда Николаем. Интересно — папочка или старший брат там, весь в борьбе за одну единственную национальность — этот здесь — в ностальгии, где людей разделяют по уровню восприятия иллюзорного…"
— … Меня зовут Артур, я занимаюсь всем,
— Как всем?
— Всем. Пишу стихи, картины, работал грузчиком, слесарем. Нет лучше места для меня… Я пишу очень короткие стихи, Там не хватает четырех стихов. Это не так называется… Это не так называется… — поморщил мощный Добролюбовский лоб парень лет двадцати. Я забыл.
— То есть это не называется стихами?
— Да.
— Это типа японских танк?
— Да.
— Пожалуйста, прочитайте.
— Я не могу просто так. Мне бы хотелось, чтобы вам было тоже интересно, чтобы вы просто слушали меня, и не занимались своей работой.
— Я буду слушать.
— Но у вас есть тема. У всех журналистов есть тема.
— Нет у меня никакой темы. Какая здесь может быть тема?
— Вот первое стихотворение. Самое первое стихотворение. Так будет лучше:
Красивая девушка полицейский.
— Здорово.
— Вот. Разве это не стихотворение? Разве в нем нет объема?..
-.. Я отдыхаю в данный момент, а для зарабатывания денег иногда я бездельничаю сторожем в офисе. Для меня это как бы нормальное место. Я не шокирован.
— …Я художник. Я учусь на психологическом факультете МГУ.
— … Я на философском.
— … Меня привлекает простота.
— Простота бывает разная. Бывает хуже воровства. — Ответила Алина с печалью.
— Нет. Нет. Своей непосредственностью встречи со знакомыми. Вы знаете, это частное место. Здесь люди одного круга. Это своего рода клуб, клуб который объединяет не по интересам, а по некому родству душ. Все люди сюда приходят не просто так, не потому что им некуда пойти и тому подобное. Можно пойти в "Эрмитаж", "Белый Таракан"… Куда угодно. Но везде будет только часть того, что тебе интересно. Но здесь все объединено. Это спонтанное образование, как бы отделение от всего в качестве выдоха. Выдоха от всего: от поп музыки, худ — течений, поэтических догм… От псевдоэлитарных интерьеров… От всего, что насаждается навязчиво, и я бы сказал, — насильно. Это насилие унизительно для людей со своим внутренним миром.
— …Очень тяжело объяснить, что такое контр культура и что такое культура вообще. Все — есть некие пласты культуры. К примеру — искусство сознания и подсознания — это мы сумели разделить. Но есть ещё неосознанные закономерности, которые мы как бы не воспринимаем, а на самом деле это неосознанное творчество сознания. Поэтому все, что здесь происходит, как бы кажется, связано с мистикой, но это просто свобода творчества, не требующая отчета сознания. Это творчество можно осознавать потом.
— В зонах обратное — творчество изначально осознано несет на себе функцию оправдания того, кто создает произведение, перед обществом. А это уже не творчество. Да. Вы правы — здесь оправдываться не надо. — Добавила на диктофонную пленку Аля.
— …Пока за забором носятся с автоматами, торгуют, насилуют друг друга и грабят, устраивают, ничего не несущие ни уму, ни сердцу, вульгарные представления аля-запад, здесь идет поток сакральной информации, формируются новые коды культуры. А то, что в развалинах, в обломках, пыли, это уже не смущает. Это даже так символично, что получается лучше, живей, чем если бы было в подделке под приличные интерьеры Европы, потому как мы не Европа. Мы не итог, а вечное начало. Все зарождается здесь, культивируется там, а когда возвращается к нам, как культура запада, мы доводим свое живое начало, омертвленное их культивацией, до логического абсурда, освобождая тем самым путь новому этапу.
— …Здесь всех привлекает динамика жизни и творчества. Динамичный процесс осознания. Человек может ничего не производить из того, что можно потрогать, чем пользоваться, но его прозвучавшая мысль подбирает себе подобных и тогда её производной становится целый мир. Надо научиться жить во всем мире сразу. Для тех, кому не хватает своих квартир, своих ячеек общества, это ход. Это возможность вертикально путешествовать по пластам. У нас здесь было все, выставки, музыкальные вечера, показ театрализированный показ мод прошлых десятилетий, пьесы… Искусство — это своеобразное зеркало, отражающее динамику жизни. Может один оторваться и творить свое искусство в одиночестве, но как долго будет длиться его полет?.. Он все равно зависит от платформы, с которой он прыгнул, взлетел. Но если он не сможет подтянуть к себе следующую платформу и себе подобных, чтобы подняться далее, ему не от чего будет отталкиваться. Он будет стоять на месте достигнутого — а это смерть. Смерть в искусстве — всегда состояние застоя. Хотя и прав был Ходасевич, что "в искусстве прогресса нет", поскольку оно не развивается прямолинейно, да и вообще толком не развивается, но при этом все, в чем нет открытия, нет ощущения чего-то неизведанного, нового — это уже не искусство, это уже утоптанный пласт китч. То есть пошлость, красивенькая бытовуха. Люди создают свои миры, свои эстетическо-культурные ордена, мифы. Когда рушится система, механистически защищающая их материальную жизнь, одни уходят на вершины, в горы, другие опускаются в низины болот.
Параметр — бесконечность — вечность — материальные вещи при таких параметрах всегда становятся абстрактными, а абстракция переходит в образ образ — это всегда объем. Глобальность мышления дает восприятие объема. И в зависимости от того насколько вы можете своим сознанием охватить этот многомерный объем и в этом объеме преломить массу качеств, настолько вы будете совершенны, поскольку объятие получается здесь равное обладанию, как пониманию. Человек, который может с различных позиций профессионально рассмотреть любую точку в искусстве — и является настоящим тайным лидером, за которым тянется сознание века.
— Андеграунд?… — отвечал после мастера перфомансов человек в черных джинсах и черной рубашке, явно увлеченный больше политикой, чем искусством, — Эскалация андеграунда это анархизм, который ведет к фашизму. Так как всякая пересвобода уничтожает саму себя. Единственная альтернатива — это психоделический марксизм — а это осознание своей несвободы и существование в обществе в той функции, которую ты сам внутри себя сознаешь
"Господи, кого здесь только нет!.. — Воскликнула про себя Алина, — Но как ни странно, все сказанное и увиденное уживаются вполне мирно. Это тебе не черно-белый уголовный мир, где все требуют друг от друга жить по понятиям, о понятия о понимании не имеют. А тут — словно я вновь и вновь приземляюсь в неизведанный мир, принимая все, так прыгают с парашюта".
И все же с надеждой разобраться потом, при обработке пленки, пошла искать пропавшую в толпе Ирэн.
Она пересекла двор, заглянула в один их подъездов старого дома и попала в бар. В баре созданном из подручных материалов разрушенных особняков было вполне уютно. Парами, группками люди общались, говорили без умолку. Иностранные журналисты, коих было куда больше, чем отечественных, сновали с фотоаппаратами. И почувствовала что ей не тесно в толпе индивидуумов. Не найдя там Ирэн, Анна вышла и пошла в первый попавшийся открытый подъезд и спустилась на свет по разбитым ступеням в подвал. Ей хотелось прерваться, остановиться и трезво поразмыслить не об увиденном и услышанном, а о своем месте на фоне всей этой картины. Зачем она здесь? Но чувствуя, что это бесполезно, она уже, не понимая зачем, переступала порог.
ГЛАВА 10
На пороге она споткнулась.
— Осторожней, — послышалось, словно из неоткуда.
Она огляделась в полутьме, пронзенной острыми лучами серебристого света: зал, преобразованный их бывшей квартиры, с содранными обоями, и от того обнаженными стенами, бетонным полом — весь в серых тонах и оттенках, как на старой фотографии. Бесшумный, гулкий зал выглядел совершенно нереально. Небольшого роста лысый субъект в черном пропыленном, словно выгоревшем, комбинезоне сматывал провода.
— Ой, — растерялась Алина, снова споткнувшись.
— Приветик, — подошел он к ней, буратинно улыбаясь начисто лишенной зубов щелью рта. Нос его действительно был, словно обструган, обтесан скарпелью, после работы которой забыли о шлифовке.
— Вот… я и пришла, — проговорила она, а глаза её не могли оторваться от его ясных карих глаз, таких глаз, что они затмевали невероятную, светящуюся в полумраке бледность его лица. Руки её тем временем протягивали ему диктофон, и она недоуменно трясла его.
— Что? Сломался что ли? — посмотрел он на аппарат ловли слов, взял его, и приглашая кивком головы в маленькую конурку со столом и лавками, сказал: — Пойди, сначала чайку попей.
Она вошла в эту небольшую обшарпанную комнату, села на импровизированную под диван лежанку. Напротив сидел толстый мужчина с проплешиной на темечке, казалось, он не заметил её, даже не кивнул, приветствуя, продолжая разбирать запутанные провода.
— Меня вообще-то зовут Алина, — совершенно растерянно сказала она, — Я вообще-то пришла брать интервью.
Бритоголовый забавно усмехнулся и представился:
— Алексей.
Толстяк, как бы не отвлекаясь от своего занятия, молча налил ей в чистый, но потемневший от крепкой постоянной заварки, стакан чаю.
И пока Алина рассуждала — настолько чист предложенный стакан, чтобы решиться пить из него, никого не оскорбляя своей брезгливостью, не рискует ли она заразиться какой-нибудь заразой — "пить иль не пить, вот в чем вопрос", — зависло у неё в голове, Алексей, застыв в дверном проеме, молча разглядывая её, и вдруг спросил:
— Ну, чего, Альк, хочешь повыть в микрофон?
— Хочу, — кивнула она, совершенно не обидевшись на такое панибратское обращение мало знакомого человека.
— А! Ты уже здесь — влетела Ирэн в студию, — А я уже волноваться начала, как бы что с тобой не произошло! Вы представляете, Алексей, час назад эта женщина стояла под дулом автомата и хоть бы хны!
— Да, — словно вглядываясь во внутрь себя и с трудом вспоминая, что же это было и было ли вообще, кивнула Алина. — Это живая метафора. Меня не пускали сюда, кажется, они были мафией, или нет, чеченцами, но похожие на итальянцев… только автомат держал русский… Это как раз самое больное в этом моменте. А с остальным можно справиться. Меня не пускали сюда, а мне стало смешно, и я прошла сквозь заслон, словно сквозь стену судьбы. Вот и все. Сколько раз уже приходилось переступать через возможную смерть…
— Смерть? — Алексей посмотрел на неё внимательно, и тут она увидела, что не только нос, — все лицо его испещрено шрамами. А нос его вообще… Она совсем забыла про нос, но нос его лишенный выпуклости ноздрей весь кончик носа — сплошной шрам. "Так не режут в драке, это не ожог, господи, господи, что же это?.." И жалость, томительным ядом зародившись в сердце, разлилась по телу.
— …Смерть, — продолжал Алексей, — А знаешь ли ты что такое постоянное чувство присутствия собственной смерти?
— Знаю, — тихо кивнула она, неотрывно глядя ему в глаза.
— Пойдем, повоешь.
— А что мы будем выть, Алеш?
— А мантры. Ты будешь просто подвывать, а я со словами. Пойдем с нами, кивнул он Ирэн.
— Только и слышу мантры, мантры, а что это такое? — простодушно спросила Ирэн.
— Буддистские молитвы. Но главное в них не слова, а вибрация звука настраивающая на определенную волну. Ну, начали! — он протянул ей микрофон. И ударил по огромному барабану. Глухой величавый звук сотряс тьму подвала.
Алексей завыл, подчиняясь мягкому эху своих экзотических ударных инструментов, завыл невероятно низким, глубинно вибрирующим голосом. Ирэн подтянула певично-постановочным. Алина, никогда не обнаруживавшая до этого в себе певческого таланта, сначала пыталась подделаться под него, потом под нее, потом поняла, что вой её не будет иметь и никакого значения перекрываемый их разноголосицей и завыла просто так, от души, лишь повторяя остатки непонятных слов, пропеваемых Алексеем.
Она мгновенно вся ушла в это непонятное действие, из-под прикрытых ресниц с тайным изумлением наблюдая — насколько серьезен Алексей во время своего пения. И в тоже время, обозревая словно внутренним оком, как бы видя всех сразу, со стороны, она чувствовала, как её раздирает хохот. "Бред! Бред!" — вопил, хохоча её внутренний голос, и тут же перекрывал серьезный, — "А что не бред вообще в этом мире? Может быть именно это…"
— У меня, кажется, не в дугу, — скромно потупив глаза, сказала она Алексею, когда они окончили петь.
— Ничего. Ты выла, как настоящая ведьма, а тут немного не о том. Это молитва поклонения богине земли. Поконкретнее надо было. Вот так Алька, видишь, какую штучку я произвожу?
— Да-а. А вообще-то я пришла брать у тебя интервью.
— А интервью я не даю.
— А что же мне делать? Как жить-то теперь? — она протянула поближе к нему диктофон.
— Что говорить? Слова, которые будут приемлемы всеми, поскольку узнаваемы?
— Не знаю, — сдалась окончательно Алина, — Но мне кажется, что ты можешь сказать что-то особенное… кругом столько слов, столько информации, как кто-то определил сегодня — просто потоп!
— Любая ценная информация на сегодняшний день не может быть популярной. Если она популярна, то есть народ интересуется ею, то значит, она не достойна называться откровением. Мы трансформируем действительно вещи в себе. Когда-нибудь, кто-нибудь возьмет их на вооружение и с народом что-то произойдет. На сегодняшний день в мире, на планете эти вещи не могут практиковаться. И если они появляются, они вырастают не из потока жизни, а приносятся извне не в то место, не в то время.
— Вот мне однажды пришло откровение, — задумчиво закивала Алина, — И я его никому объяснить не могу, оно будет воспринято как бред. Или если будет воспринято, как реальность, пусть вторая, надреальность, то я чувствую, что затреплется как пошлость, и потеряет свой действенный смысл, действенность… — вспомнила она сразу все свои отчаянные "нет!", и порыв любви, спасавший от смерти Фому, — Получается некая двусторонность. И все же к чему все идет, катится, что с миром-то твориться, я никак не пойму. На уровне политики вроде все ясно — просто бред, но если говорить о большем…
— Но тут совсем другая история с миром, дело в том, что мир сейчас существует в виде некого порядка. Порядок основан на деньгах. То есть, это не бог весть какой порядок. И та демократия, которая воспевается не бог весть какое достижение — ещё Платон говорил — что ниже демократии только куклократия.
— Демократия — власть черни. — Наконец-таки вставила слово удивленная легкости общения своей подруги с этим крутым и непонятным типом, Ирэн.
— Смотри, — продолжал Алексей, — к чему все идет — скоро каких-нибудь тысячу лет и все языки перемешаются в один язык, при таком развитии средств передвижения и коммуникаций сотрутся границы. Появится некое единое планетарное государство. Но государство — это организация, следовательно власть. Это сейчас все делят власть по национальным или же традиционно привычным или же заимствованным из других стран политическим убеждениям, в планетарном же государстве должна быть тирания аристократов, единственная возможная схема, удерживающая человечества от скатывания до животных страстей. И мы должны к ней перейти.
— А кто же будет аристократами — та часть, которая владеет деньгами, или та, что культурой?
— Ни деньгами, ни культурой. Аристократы совсем другие. Это те, кто выше по своей духовной иерархии, при этом не важно кто он — монгол, якут или африканец. Тут уже расы не играют никакой роли, играют роль касты, Кто ты есть такой в своей сути. Аристократия всегда направлена против бытия, этого пошлого прагматизма. Поэтому она не зависима, неуязвима. Ей странен животный страх за собственную животную жизнь. Им страшно одно предать некую идею, но это не фанатики, идея их как свет рассеивается по всем ежесекундным движениям, действиям, словам, предметам… Рыцарь, будь он нищим, все одно оставался рыцарем. Он все равно был выше богатого ростовщика, потому что обладал неким кодексом духа.
— Да-да — закивала Алина, припоминая, — Не всякого фараона посвящали в жрецы.
— Хорошая ли она или плохая эта будет власть, но все идет к этому.
— Власть… это организация жизненного пространства заполненного огромным количеством разномастных людей, а что же такое культура?
— А культура… это память человечества о самих себе. Кроме культуры ничего нет. То есть когда мы говорим мы люди, мы всегда подозреваем свою культуру…
— Что же делать сейчас? На таком перепутье?
— … мы должны овладевать навыками, навыками действия согласно своим доктринам. Это очень сложный момент для любого человека. Единицы действуют согласно своим убеждениям.
— А что делается у Вас сейчас, Алеша?
— Берется некая древняя доминанта до цивилизации, некая штука, как фундамент, и на этом фундаменте мы извлекаем, с помощью канонов, то и на чем будет базироваться реальное время. Это знания древности в действии, потому что на пустом месте, благодаря только лишь чтению книжек и всяким популяризационными шуткам, ничего не получиться. Ты должен сначала освоить нулевой цикл, а потом уже возводить свою архитектуру, которая принадлежит настоящему, в принципе будущему, поэтому это такое пение — для самих себя…
"Некий нулевой цикл… возводить архитектуру себя…" эхом отозвалось в душе Алины. Алексей тем временем продолжал: — …а не для самолюбования перед толпой, не для чужих оценок, гонораров и аплодисментов. Потому что оценить то, что мы делаем, его качество — можем только мы, мы же копаем, другие получают только верхушки. Кто действительно хорошо знает качество построенного здания — лишь тот, кто его строил, или тот, кто возводил другие — специалист. Толпа же любуется фасадом. Пение для самих себя, это, конечно же, относительно. Потому как, когда это в голове — это психо-химическая-физическая энергия — не более. Когда же это становится реальностью звучащей — это принадлежит уже эгрегору материальному. Это то что уже есть. Вот мы сегодня сыграли и эта информация уже прописана в эгрегоре. Эта информация уже есть, она остается и другой начавший касаться того же поля может вынуть её. Все остается — разговор, мысленный образ, перенесенный творчеством в этот мир, выраженный при помощи того, или иного искусства…
Вот это да! Ну ты даешь! И как это вы сошлись, прямо так, сходу! Восклицала Ирэн по дороге домой.
Алина молчала.
— А почему это он с тобою разговаривал сразу на "ты", мне показалось это неприличным. Он вроде бы из приличной семьи, а это панибратское "Алька"! Вы что, давно уже знали друг друга? Вы просто обманывали меня, да? Признавайся!
— Нет. Просто мы должны были встретиться. Для этого и был весь это длинный день, прокрученный, как пленка про прошлую жизнь с дикой скоростью. Но то, что прокручивается повторно — уходит в прошлое навсегда. Оно уже не повториться. Это метафористическое повторение означало для меня, что теперь все будет по иному.
ГЛАВА 11
Пленка диктофона кончилась. Жаркий полдень не предрасполагал к проявлению трудолюбия. Еще поплутав по переулкам, она вышла на Арбат, прошла мимо стихоплетов, торжественно выкидывающих при чтении своих грубо скроенных творений, руку вперед, словно Ленины на броневиках, прошла мимо пожилого страстного политического оратора, призывающего толпу зевак то ли к недоверию кому-то, то ли пойти дружную толпой голосовать за очередного кандидата.
Лукавая мартышка панибратски поманила Алину снятся с нею в обнимку. Алина отвернулась и прошла мимо, мимо лошади, на которой можно было посидеть верхом, мимо спящего удава, мимо огромного ньюфаундленда дремлющего перед шляпой для сбора милостыни на пропитание ему же. Мимо шаржистов, набрасывающих легкие комические портреты зазнававшихся прохожих, либо покупай, либо выставят публике на посмешище… Мимо лотков с матрешками, пионерскими знаками, кокардами, дудками и флагами рухнувшей империи.
Мимо прошествовали с воинственными лицами христиане американской миссии, декламируя: "Бог есть любовь!"
"Хари Кришна! Кришна Хари! "набежали волной бледные кришнаиты в сари. Развернулись, и в диком темпе прошли, пробежали метров сто, чтобы вновь прокричать то же самое и, развернувшись, вернуться туда, откуда ушли.
Алина подошла к индейцам-студентам МГУ, они след в след, бредя, друг за другом, по кругу, распевали свои национальные песни. Это четкое соблюдение поступи, словно не в Москве они, а действительно на тропе в джунглях, полных смертельной опасности, привлекло её внимание. Да и музыка, необычная, но уже понимаемая, воспринимаемая. Спешить было некуда. Она села на бетонный постамент дощатого забора, подложив под себя полиэтиленовый пакет со своими публикациями, которые она взяла из редакции Независимой Газеты, обняла колени, и вся превратилась в зрение и слух. И впала Алина в прострацию.
Они ступали по кругу, били в бубны, шаманские барабаны, сотрясали вместо четок гроздью копытцев новорожденных козлят. Гитара, ясный голос подобный исполнителям фламенко, видимо испанская культура ассимилировалась в их коренной индейской традиции, тихий ритм, и вдруг всплеск, разворот и обратно, точно вслед вслед за предыдущим.
Алина просидела более часа, не шелохнувшись. Слушатели в толпе тихо сменяли друг друга, только девушки с восторженно романтическими взглядами бессменно слушали их. Индейцы привлекали самую густую толпу слушателей на Арбате. "Какой же русский, не играл в детстве индейцев!" — Переделывая фразу Гоголя, усмехнулась про себя Алина. Но… что-то стало холодать. Алина собралась уж было встать, взглянула чуть сверху на все это действие в последний раз и, насторожилась, поняв, что ещё один бессменный слушатель, стоявший напротив Алины в модном песчаного цвета плаще и темных очках все это время безотрывно смотрел на нее.
"Тебя мне только не хватало". — Усмехнулась про себя Алина, по опыту зная, что для неё уличные знакомства, не несут ничего, кроме ощущения пошлости и скуки, от которых назойливо тянет под душ — отмыться.
Она спустилась со своего постамента, надеясь исчезнуть незаметно, в тот момент, когда новая толпа слушателей прихлынула к индейцам. Но, увы. Он нагнал её в районе бывшей кулинарии ресторана "Прага".
Извините, — услышала она его хрипловатый, словно простуженный с легким пришепелявинием сквозь короткие, ровно стриженые усики, голос, — я не из тех, кто пристает к женщинам на улице…
— Вот и не приставайте, — не оборачиваясь, ответила она.
— Но я наблюдал за Вами целый час, и понял, что не могу не познакомиться с Вами, хотя бы не узнать Вашего имени.
Он говорил, казалось, искренне. И Алина смягчилась, обернулась к нему лицом — лет пятьдесят, сорок пять, а, может и сорок, смотря, чем он занимается…
— Да кто Вы такой? — резко спросила она.
— Ну… я…
— Бандит что ли? — Улыбнулась при этом Алина.
— Почему бандит? — отпрянул он от нее.
— Потому что, сейчас все, кто прилично одет, как бы по-европейски, либо бандиты, либо бизнесмены, что в принципе одно и тоже.
— Ну, тогда считайте, что я бандит, — растерянно улыбнулся он сомкнутыми губами.
— А я это я. Вот и познакомились, — сказала Алина, — А теперь прощайте.
— Постойте!.. Я не знаю, как Вас удержать, но клянусь мамой, мамой клянусь, в моих мыслях нет ничего неприличного.
Алина застыла на мгновение, внимательно всматриваясь в его лицо, словно какой-то код сработал в её подсознании, но сознание не понимало, что это. "Нет, лицо кажется знакомым, это только кажется, что где-то его видела…" — но где, припомнить не могла.
— Постойте! — умоляюще повторил он.
— Тогда… тогда предложите мне выпить с Вами чашечку кофе, а не заставляете стоять посредине людского потока. И почему я должна вас этому учить?..
Алина села за белый пластиковый столик под зонтиком, он вошел в кафе и вынес две малюсенькие белоснежные чашечки.
— Простите, — обратился он к ней, соблюдая самые, что ни наесть, вежливые интонации, — а как Вас зовут?
— Алина. А Вас?
— Кар… — он словно поперхнулся, но продолжил: — Карим.
— Что-то уж больно смутно в Вас угадывается восточная кровь. Разве, что разрез глаз. Вы татарин?
— Нет!
— Тогда что же Каримом представляетесь? Тем более что Вас зовут не Карим.
— Да, — кивнул он, чувствуя, как волосы на голове потеют от перенапряжения. Меня зовут… Но все… зовут уже много лет Карагозом.
Это имя ни о чем не говорило Алине. Не слышала она такого. Она, свободно устроившись за столом, распахнула свою кожаную куртку, и он увидел черную водолазку обтягивающую маленькие груди, окинул Алину внимательным взглядом. И вспомнил ту.
А была ли она, та женщина, что стала для него как наваждение, то звездным ангелом во снах, то дьявольским кошмаром. Даже Петро потом, спустя несколько дней, не мог ему толком ответить с полной определенностью, была ли женщина, или впали они тогда от переутомления, от перенапряжения в совместную галлюцинацию.
— А сколько же Вам лет? — не испытывая особого напряжения или неприязни с этим случайным типом, спросила Алина.
— А сколько Вы дадите?
— Вы не женщина, чтобы кокетничать возрастом.
— Тридцать восемь.
— Понятно, — кинула Алина, и лицом помрачнела, словно что-то ужасное узнала про него. "Он сидел" — она быстро выпила свой кофе. Ну вот и все. Мне пора.
— Постойте, — поднялся за ней Карагоз, — Можно я провожу Вас хотя бы до метро?
— Если только до метро…
Он шел рядом с ней и не знал о чем говорить. Словно голос пропал.
— Вот и все, — кивнула она ему перед входом метро.
— Алина, извините меня, клянусь мамой, я действительно попал в затруднительное положение. Вы не купите мне жетончик для телефона.
— Вот это да! — покачала головой Алина, — Бандит и без денег!
— Но почему бандит?! Впрочем, как хотите… Просто я… ночь на свадьбе гулял… потратился, вышел на Арбат проветриться. А тут Вы… Кафе дорогим оказалось, по два с половиной доллара чашечка. Я думал если у меня в рублях не хватит, то возьму тебе, и скажу, что кофе не люблю, и вдруг хватило. Но ровно на пять долларов денег оказалось.
— Ты даешь! Грузин, что ли, так пижонить?
— Нет. Не знаю кто я. Я… детдомовский.
— Да, да знаю. Детдом, или интернат, потом непонятка, потом зона…
— Откуда ты знаешь?! — он чувствовал, что совершенно не может врать этой женщине.
— А я ведьма. От меня ничего не скроешь, — усмехнулась она.
— А можно я дам тебе номер своего телефона.
— Не надо, все равно не позвоню.
— А вдруг, тебе станет скучно, грустно…
— Скучно мне не бывает, а когда грустно… кому какое дело, да и мне до моей грусти, что себя жалеть?..
— А может, тогда ты мне дашь свой?
— Ах, ты какой! — усмехнулась Алина, — Не люблю я телефон давать, но ты какой-то забавный. Бандит, говоришь, и без копейки в кармане. Это как-то даже мило, что ты на последние деньги в кафе со мной посидел…
Она достала из сумочки ручку, написала номер своего телефона на клочке бумажки, свернула его в трубочку, завернула в денежную купюру и протянула ему.
Он отпрянул. Не могу я брать деньги у женщины! Мне только на жетончик. Я позвоню, и мне привезут.
— А вдруг не дозвонишься, она сунула ему сверточек в карман и исчезла в дверях метро.
Алина, Аля! Какой же ты человек! — звонил он ей, и незаметно для самого себя весь перетекал в долгие монологи. Он все рассказал ей, все. Она теперь знала, что он вор, вор в законе. Не рассказал он лишь ей о своем побеге и о том, как обрисовывал абрис женщины, так похожей на нее, на сон… сон в ледяной зиме. Она слушала его, даже не пытаясь направить на путь истинный, словно сердобольная лох ушка, лишь усмехаясь, называла его горе-бандитом. От денег его отказывалась, ничего от него не хотела, и все время спешила куда-то, отказываясь от любой возможности встретиться с ним.
Она слушала его, думая о своем.
ГЛАВА 12
Ни новые лекарственные препараты, ни облучения, ни операции, на которые собрали средства её вездесущие коллеги, не могли спасти Инессу. Жизнь её скоропалительно неслась к полному завершению.
— Мне кажется, ты виновата в её смерти. — Словно догадавшись о чем-то, обмолвился Фома.
— Фома! Но при чем здесь я?! — изобразив голосом возмущенную наивность, попыталась закамуфлировать свое знание ситуации Алина.
— Меня спасла от смерти, значит, и её можешь. — Выдал Фома совсем о другом.
— Но не за счет своей жизни. И все же — пусть она мне позвонит.
— Она никому не верит. Да и я считаю, что это просто какой-то злой рок сметает у нас в стране самых талантливых. Кто не смотался заграницу, тот и смертник.
— Талантливых?.. Рок?.. Пусть позвонит.
Позвони мне, позвони!.. — Твердила про себя Алина. "Что ж ты, дурочка натворила?" — мучительно вопрошала она, посылая сигналы Инессе сквозь пространство. Тщетно. Материалистка Инесса явно не понимала — по каким каналам ей передалась эта обреченность. Но Алина, не давала себе позвонить самой той, что совершила, в общем-то, подлость по отношению к ней.
И боялась вновь пройти осмотр в онкологическом центре. Боли, так неожиданно начавшиеся когда-то, больше вовсе не напоминали о болезни. Все новые и новые журналистские темы помогали нестись по жизни, не останавливаясь.
Мистический коридор!.. А куда я по нему влетела?! Не пойму! — твердила Алина, пытаясь сосредоточиться вечерами перед телевизором. Но иной фильм жизни последнего года проходил у неё перед внутренним взором. С ума сойти… С ума сойти, — часто повторяла она про себя, засыпая, и как бы общим взглядом обозревая всего лишь за год пройденный путь.
С ума сойти, — качала она головой, слушая рассказ таможенника, о том, как негр пытался провести экзотические плоды покрытые насекомыми и когда они сползали с плодов, клал их в рот, на глазах у обалдевшей таможни, поясняя, что это у них особый деликатес.
А ещё был один идиотический случай, — попытались сквозь нас провести скрипку Страдивари. — Раздобрел таможенник.
Что?! — встрепенулась Алина, — Когда?! Вы знаете о том, что из музея музыкальных инструментов год назад…
— Нет, это было года два назад. Идиоты! Разобрали скрипку до такого состояния, что оказалось, реставрации она не подлежит. Это не музейная была скрипка. Мы проверяли. Это скрипка в нашей стране была нигде не учтена…
Это была моя скрипка!.. Моя скрипка… моя! — повторяла про себя Алина, бредя по улицам, плутая по переулкам. Она вышла на гоголевский бульвар и оглянулась. Как она оказалась здесь? Она совершенно не помнила дороги от аэропорта. Что она делает здесь, ведь её скрипку убили… "Сердце мое!.."
ГЛАВА 13
И словно кем-то ведомая, шла и шла под дождем, пока не дошла до Алешиного дома, она приблизительно знала, где он живет, но подойдя к дому, почувствовала, что именно здесь. Все дело было в том, что разрывающая, пилящая её душу невыносимой высокой болью музыка вдруг оборвалась на пол ноте, едва она взглянула на этот дом. Ясная тишина наполнила её. Алина увидела неподалеку телефонную будку. Позвонила. Да. Это был его дом. Он пригласил зайти. Вошла в подъезд, поднялась на лифте на последний этаж, и постучалась в его, покрытую черным лаком, фанерную дверь. Черная дверь распахнулась, и Анна впервые переступила порог Алешиной полутемной мастерской пронизанной туманными серебристо-голубыми лучами, сделав всего два шага вперед с грохотом натолкнувшись на что-то железное, сшибла, рассыпала миску винтиков, болтиков, гаек, стоявшую прямо перед входом в комнату, на старой ржавой наковальне. Ой, ну вот… это я пришла, наклонилась она поднимать непонятную ей железную мелочь.
Все ясно с тобой, вздохнул Алексей, оставь я потом соберу.
Она сняла куртку. Он повесил её на вешалку в предбаннике за входной дверью.
Она сделала ещё шаг и оглянулась. Напротив вешалки на стеллажах лежала всякая необъяснимая всячина, стояли банки с крупой, электроплитка, металлическая миска, два, мутных от времени, чаепитных стакана. Она посмотрела туда, куда не пустила её рассыпавшаяся мелочь, и замерла, созерцая — невиданное раньше. На серебристом паркете, который был виден лишь, как тропинка, огибаются непонятную центральную конструкцию из штативов, подставок под барабаны, ударных тарелок, и прочих остатков музыкальных приспособлений располагался фантастический ландшафт, который если и можно было назвать интерьером, то лишь, как интерьер пришельца. Дневной свет не проникал в окна плотно закрытые черной фотографической бумагой. Из-под высокого потолка струился голубоватый свет. На правой боковой стене, покрытой огромным листом фольги, висел ряд изящных старомодных ботинок денди прошлых времен в великолепном состоянии, а между ними — флейты, скрипки всевозможных размеров, колотушка, бубенцы, и ещё много музыкальных инструментов, непонятного для Алины названия. С фрачными черными ботинками вперемежку все это смотрелось как стильная современная инсталляция, и в ней, казалось, был заложен глубокий философский смысл.
На противоположной светло-серой стене, на вбитых крюках висели мотки проволоки, струн, и невероятные детали от каких-то астролябий и прочих приборов. Чуть ниже почти по полу располагался пульт управления со всевозможными шкалами и ручками, он был весь покрыт серебрянкой, даже экран телевизора был запылен тонким слоем этой же краски. В комнате вообще не присутствовало иных цветов кроме белого, нежно-серебристого и черного. Ни что не раздражало глаз. У окна стоял огромный черный кожаный диван с отпиленными ножками. Алина прошла к нему по узкой тропинке и села по-турецки. Перед ней вписанный в скелет оркестра обнажился небольшой столик покрытой пылью. На нем стояла старинная фотография-открытка только что взятой ставки Гитлера, сожженного логова мании силы.
"Бедный, подумала Алина, словно болезненный Ницше, не выходивший на улицу без зонта и калош, он старается прикрыть свою уязвимость такими мрачными напоминаниями" И снова жалось, но теперь не болью, а сумраком, пропитала каждую клеточку её тела. Алина испугалась этого уводящего в небытие состояние и насильно сосредоточилась на показной организации его мира. Рядом с фотографической открыткой лежали камушки, амулетики, создавая некий микроландшафт в этом фантастическом ландшафте. На углу стола, особняком, грузная прозрачного равного стекла, куском из плафона времен сталинского ампира стояла пепельница, рядом лежали черная курительная трубка, шомпол для прочистки трубки, черная зажигалка со стертым специально ацетоном лейблом, чуть поодаль правильным рядком — ручка, карандаш и ручка с чернильным пером…
Алина вынула из кармана сигареты, взяла со стола зажигалку, на месте, где лежала зажигалка, обнажился ровный лишенной пыли черный лаковый прямоугольник. Она прикурила и положила зажигалку на стол. Алексей взял зажигалку и положил ровно на то место, на котором она лежала.
"Это шизофрения, — подумала Алина, — Черт, ну мне и везет. Сначала муж параноик-бизнесмен, потом гений-эпилептик, а теперь… До чего же здоровые люди парашютисты и яхтсмены, да только скучные… Скучные своей здоровой, какой-то физиологической романтикой перемещения тела туда-сюда… Но это… кажется, все-таки шизофрения".
Я понимаю, это похоже на шизофрению, — сказал, словно прочитал её мысли Алексей, — но при таком маленьком пространстве, согласись, ведь, всего одна комната, обычный художественный беспорядок легко превратит тебя в раба вещей, тратящего свою жизнь в пустую на их поиски. Поэтому здесь каждый предмет имеет свое строго определенное место.
Он стоял перед ней в хлопковых шароварах сороковых годов с драными коленками, в такой же черной, завязанной узлом хлопковой рубашке и босиком. Фантастически крепкий южный загар покрывал его изъеденную буграми и язвами кожу.
— Лето ты провел в городе, — подняла она глаза на него, с трудом отрываясь от осмотра всех его мелочей, — а такой загорелый…
— Окно моей мастерской выходит на козырек балкона соседа снизу, я загораю на нем каждый день. И зимою. Знаешь тибетскую практику тумо? Это когда обнаженный монах растапливает снег вокруг себя на несколько метров. Для этого надо хорошо разогреться сначала… вот я и качаюсь, и он кивнул на металлическую перекладину над входом в комнату, на ней висела черная боксерская груша, рядом огромная старинная двухпудовая гиря…
"Да он качек! Все качки ужасно жестоки, им ничего не стоит ударить женщину. Господи, куда я попала!" — с тоской подумала Алина.
Он подошел к висевшей в дверном проеме боксерской груше, нанес ей пару ударов, и снова, словно прочитав её мысли, сказал:
— А вообще-то я вполне мирный человек. За всю жизнь я не ударил ни одного человека.
— Мне говорили, что ты художник.
— Да, вообще-то я художник. Я этому учился с пяти лет. Но по настоящему я научился рисовать в армии.
— Как в армии?
— После Строгановки, у нас не было военной кафедры, отправили служить, правда, служил я в кремлевском гарнизоне. Но все одно, армия есть армия. Побудка, собирает нас прапорщик — на дачу к генералу — ты кирпичи таскать, ты гвозди заколачивать… Всю жизнь мечтал, отвечаю. А он говорит, а что вообще ты умеешь делать?
— Картины писать.
— А мне картину сбацаешь?
— Сбацаю, говорю, только выдумывать ничего не буду. Принеси, какую хочешь у себя видеть — напишу. Тут он мне приносит репродукцию картины Леонардо. А что — времени много, писать умею. Я четыре месяца точную копию делал, потом он мне принес Вермеера. За службу я всего четыре картины написал, но зато до микрона изучил технику.
Вот какие я картинки пишу, он полез на антресоли над аппендиксом напротив окна по проекту видимо задуманного как хранилище картин. Встал на черное кресло с отпиленными ножками и вынул картину.
Если бы не халат. Обыкновенный ситцевый больничный халат на женщине расчесывающей волосы перед окном ранним солнечным утром… Нет, так теперь не писали. Не писали так никогда в России! Картины такого письма она видела только в галерее Уфицио. Чувствовалось, как воздух прохладен в тени, как он дрожит, нагреваясь на солнце… Алина смотрела, смотрела, и слезы проступили на её глазах. Слезы от прикосновения к шедевру… Слезы от проникновения, сочувствия, соучастия и тихой скорби.
— Так я уже лет десять как ничего не пишу. Потому что я это умею. Да и жизнь настолько динамична теперь, что едва произведенная картина сразу отходит в прошлое. Время сейчас не изобразительного искусства, а музыки… для меня это неосвоенное пространство. Я осваиваю его всего лишь с пятнадцати лет, видишь, как поздно купили мне родители гитару, и все никак не освою. Хотя играю на всех инструментах… ребята из консерватории называют меня маэстро, хотя я всему учился сам… Предлагают вести уроки совершенствования игры на флейте, скрипке, фортепьяно… Но лично для себя, я считаю, что мне далеко до горизонта. Хотя играю я уже двадцать пять лет, а последние десять не меньше чем по двенадцать часов в сутки. Не хило, а? Вот так и освоил, приучил к себе каждый из инструментов. Хочешь, я сыграю тебе симфонию, которую я сочинил после встречи с тобой?
— Да, — кивнула она совершенно растеряно.
Он подошел к семплеру, снял черную байковую тряпку с клавиш и заиграл.
И Алина унеслась в неведомые, и все-таки знакомые, не ей, а той, что управляла ей во все века, пространства.
— Как музычку назовем, Альк? — очнулась она от его голоса. Он кончил играть.
— Это… это "Рассвет над древним Египтом". Ей вспомнилась египетская пустыня, поблескивающая окислами меди, и черные арабские скакуны…
— Похоже, — задумался он, — Но не так. Точнее будет "Восход солнца над Египтом" Во всяком случае, про Египет ты угадала.
"Восход солнца, во-о-сход…" — все вспыхнуло в Алине необъятными горизонтами жизни освященными мощным солнцем, но она сидела, как окаменевшая, с ужасом стараясь не смотреть на его нос. Нос был мертвецки белый. "Атрофия тканей! Атрофия!" — пульсировало в её мозгу. Но её уважение к нему, даже страх, бурными эмоциями отчаяния раздирающими её, страх оскорбить его обособленность, разрушить ту тонкую связь, что образовалась между ними, все это, как короткое замыкание, обессилило её. Она подумала о его скором конце и ничего не сказала ему об этом.
Он догадался, о чем она думает. Он помрачнел. Окончил играть. Дал понять, что ей пора уходить
ГЛАВА 14
"Восход солнца… Восход солнца над уснувшей навеки цивилизацией"
Все! Хватит с меня! Невыносимо. Мучительно! — Ирэн мотала головой сидя посредине столовой Алининого, отъехавшего со всей семьей отдохнуть брата, прямо на паласе, отодвинув стол в угол, сидела по-турецки, раскидывая вокруг себя банки из-под выпитого пива и продолжала пить, — И главное, что ничего не понятно. Подумать только — я пишу статьи, я делаю работы аналитического, психологического, философского, социального плана, но чем больше пишу, тем больше понимаю, что я ничего не понимаю. Я больше не могу! Зачем я вся, когда я вся одна! Уже кончается сентябрь, а лето прошло как во сне… Годы уходят!
Алина, вернувшись от Алексея и увидев подругу в таком состоянии, застыла в дверях, усмехнулась печально и, присев перед ней на корточки, хотела что-то сказать, но глубоко задумалась.
Она окинула внутренним философским оком всю жизнь, во всех её мелочах, во всех проявлениях — от жизни амебы, до жизни дворняги, от жизни бомжа, до собственной жизни. И вдруг поняла, что жизнь сама по себе механистически равнодушна, как впрочем, и смерть, ну что это за повесть — о жизни и смерти амебы?.. Что может противопоставить вроде бы живая амеба своей собственной жизни, своей смерти? И только любовь в этом случае обладает энергией не просто желаний, а страсти. Это энергия неравнодушия способная раздвигать и перемещать пространства жизни и смерти. "Смерть — это равнодушие, которое боится лишь любви. Любовь, как ток энергии, единственная спасающая сила" сложилось в ней умозаключением. Алина произнесла его в слух, но Ирэн не услышала её, а плавно перейдя с высказывания своих недовольств на возмущение нерешительностью своего нового жениха.
"Ирэн! Ирэн! не отвлекай меня! Что-то важное сейчас происходит со мной! — молила про себя Алина, — Главное не расконцентрироваться… главное не рассыпаться в эмоциях и мелочах! "- А сама сказала: — Послушай, ты просто заблудилась.
— Заблудилась. Как Мальчик-с пальчик по камушкам… Людоед что ли разбросал их?.. — хмыкнула Ирэн, размазывая черные слезы. — Это я не плачу, просто тушь с ресниц потекла и разъедает глаза. — Стесняясь своих слез, пояснила она. — Но сколько же можно жить в ожидании?!
"Я слушаю сейчас её болтовню, думала Алина, поглядывая на Ирэн, а он умирает".
Атрофия тканей… заражение крови! Он примет свою смерть, как данное. Он не вызовет "скорую"… Он… Он. Он!" И все время, пока слушала, набирала номер его телефона. Она знала, что он дома. Но он не поднимал трубку. И молилась, помня чье-то изречение из святых — "если хочешь спасти человека, помолись за него, чтобы были у него и силы и желание спастись самому".
— Между прочим, — догадалась Ирэн и тут же стала совершенно трезвой, этот твой гений совершенно ужасный человек, к нему приходят журналисты брать интервью, а он их посылает. Может договориться о встречи и не прийти, дверь не открыть. Иногда он сидит у себя дома, и неделями к нему не дозвонишься, — просто не поднимает трубку. Мне моя подружка — Наталья рассказала, что однажды она приехала к нему с телекомандной, а он сказал, что тиражирование телевидением все портит, снижает идею, а его интересует только сакральная передача информации, поэтому снимать им свой концерт не даст. Как можно!.. Это в наше время, когда все гонятся за рекламой! Ему что — деньги не нужны?! Невероятно мрачный тип. Одна моя знакомая говорила, что у него рак крови. И зачем он тебе, не понимаю! Нашла себе любовь на помойке жизни! — совершенно успокоилась Ирэн, закурив, продолжила: — Совсем с ума сошла — то носишься по этапам со своим вечно пьяным поэтом от фотографии… А где он, где теперь? Бросила мужа, который тебя кормил, кажется, что живешь ты лучше других, а на хлеб насущный не хватает. Одумайся! О чем ты думаешь?
— Я?! О любви, — печально вздохнула Алина, — Потому что не жизнь борется со смертью, а любовь с нелюбовью, и эта борьба называется жизнь.
Но её рассуждения вдруг прервал телефонный звонок. И взвыла душа Алины: — Алексей!..
ГЛАВА 15
Они шли рядом по бульварному кольцу — она уже пышноволосая с прической похожей на одуванчик, вся в легком шелке и он бритоголовый, настолько странный лицом, что в глаза прохожих читалось мимолетное ощущение шока. Шли, словно шествовали с полной ответственностью в каждом шаге. Подошли к киоску. Алексей купил две пачки сигарет.
— Что-то надо еще, — сказала Алина, сосредоточенно оглядывая мелочевку киоска.
— Ты точно знаешь — что надо? — спросил он серьезно, заглянув ей в глаза, — А то смотри, аристократы духа не позволяют себе ничего лишнего, того, что не служит их внутренней идее.
— Лишнего?.. Точно сказал.
— Так что тебе купить?
— Нет. Я сама. Я должна подарить тебе… — проговорила она, ещё не зная, что именно. Но взглянула на прилавок и неясная идея, зародившаяся в ней, вдруг обрела окончательную форму, и Алина купила шоколадное яйцо с игрушкой-конструктором внутри.
— По этой игрушке, можно гадать. Если там, к примеру, самолет, то, значит, ты поедешь в другую далекую страну…
— Не нужны мне другие страны, что за блажь, ездить по свету глазеть. Все равно, будучи туристом, ничего сокровенного не увидишь. Я хочу другого, я хочу группу создать, чтобы исполнять такую музычку… на основе гармоний древнего Египта, Тибета и одного из направлений тяжелого рока — Сванса. Слышала?
— Сванс? Это лебедь? Лебедь у мистиков был знак посвященных… Вот и посмотрим от чего будет зависеть воплощение твоей мечты.
Они пришли к нему в студию.
— Хочешь, новую покупку покажу? — спросил он и снял со стены черный футляр и аккуратно изъял из него старинную скрипку. И протянул её, как младенца двумя руками. Алина взглянула на скрипку и почувствовала, что тело её закаменело. Она смотрела на скрипку и не могла протянуть рук в ответ.
Бери же, посмотри… Старинная. — Продолжал протягивать ей скрипку Алексей, — Я её у одного алкаша на толкучке, у музыкального магазина, купил. Говорит, музейная. Говорил, что музей расформировали, скрипку хотели стибрить какие-то бандюги, а он взамен её, простую подложил, а эту спас. Он тогда в охране служил. Говорит, что ему за эту скрипку пять тысяч долларов предлагали, но я с ним договорился на пятьсот. Все равно ему эта скрипка счастья не принесла. Он просто её уже ненавидел — лишь бы сбагрить и опохмелиться. Я вообще-то скрипки не люблю, но в этой что-то есть. Он счастлив был, бомж! А скрипка-то действительно старинная. Даже маленьким с гербом на грифе. Вот приглядись, герб выцарапан.
— Черный орел! Черный орел?! А ниже три алмаза?! — теряя контроль над собой, вскрикнула Алина.
— А ты откуда знаешь?.. Я изучал работы всех старинных мастеров. Думал, поначалу уж не Страдивари ли? Вышло вроде Страдивари, но этот герб… какой дурак его сюда прилепил?.. Похоже, ты знаешь?..
Алина через силу сдержалась, чтобы не крикнуть: "мой дед!", протянула руки и легкая скрипка оказалась у неё на ладонях. И закружилась голова.
Она пришла в себя и посмотрела на гриф — да это был герб её рода. "Пусть. Пусть. — Думала она, — Пусть она будет у него, она будет жить. И теперь никто не будет смотреть на неё как на сумму до миллиона долларов. Пусть! Пусть живет!..
А он тем временем заинтересованно, словно ребенок, отделил шоколад и вскрыл желтое пластмассовое яйцо, высыпал детали игрушки на стол, аккуратно собрал её. Когда оба они увидели то, что получилось, оба поняли и озадаченно помрачнели — каждый о своем.
Получилась куколка, куколка держала в одной руке фотоаппарат, в другой — магнитофон. Куколка явно была журналисткой. Еще оставалась маленькая свеча, видимо по случайности, попавшая в яйцо от другой игрушки — феи.
— А это что — в третью руку? — пошутил он, понимая, что встреча с Анной дана ему не случайно. И злился, оттого что некий символ намекал ему на то, что теперь он как бы от неё зависим он нее, от Алины. Ведь это вовсе не случайная характеристика её — магнитофон, фотоаппарат и свеча!..
Да и Алине было не до шуток. Она вспомнила свою третью руку, вытягивающую Фому из смерти… Свеча предполагалась явно для третьей руки… Значит и здесь, с ним, она должна выполнить миссию спасительницы, да и только. Выполнить… А дальше что?.. Уйти. И нечего искать в нем любви. Любви взаимной.
Почувствовав, что вот-вот задохнется от переполнявших её переживаний, Алина встала и вышла на улицу.
Пронзительно печально, разрывая сердце и в тоже время, вселяя в неё невероятную силу свободы человека надпространства, пела скрипка ей вослед.
И вдруг услышала голос Друида, — Аля, Алечка! Ты как камикадзе…"
Она оглянулась — никого. Так, словно она одна на планете. И небо над головой дрожит от вибрации, полное мертвых петель судеб.
— Алина! Ты знаешь, что Инесса умерла? — прорвался к Алине, хрипловатый голос Фомы.
А потом была долгая пауза, и она услышала в этой укоряющей тишине, Ты же не будешь выяснять отношения с умершей?
И Фома сообщил день и час похорон, — Неприлично не приходить.
В день похорон Инессы Алина влетела в кабинет своего врача.
— Наверное, это была какая-то ошибка, — через неделю, очередной раз просмотрев все анализы Алины, пришла к такому выводу её врач.
— Какая ошибка?! Сколько я здесь сидела здесь в очередях! Вы же не с первого раза вынесли мне приговор!
— Никаких признаков! Что вы принимали?
— Ничего, — замотала головой ошеломленная Алина.
— Может быть, вы лечились у какой-нибудь знахарки? Что вы скрываете от меня, ведь если вы обнародуете способ…
— Ха-ха… — Нервный смех охватил Алину и она, уставившись на вопрошающую сумасшедше-вдохновенным взглядом, заговорила быстро-быстро, Всех больных поднять с постелей ночью, ничего не понимающих запихнуть в люльки американских горок, прокрутить на мониторах, для подготовки в космос, а потом посадить в вертолет и разбросать по пустыне, степи, тайге. Кто выберется сам — тот и выживет. И никаких музеев, театров и прочих приятных эмоций! Нескончаемый стресс!
— Вам, я думаю, пора обратиться к психиатру, — оскорблено отрезала врач.
ГЛАВА 16
Мысли её крутились, подобно бреду шизофреника, но она не сомневалась присутствии параллельной реальности. Но она уже не мучилась от своего бесконечного одиночества. И не было желания поделиться своим ощущением мистических взаимосвязей. Лишь некое внутреннее оцепенение в себе не нравилось ей.
Встань! Не стыдно про все-то спать?
Встань, ведь скоро пора воскресать.
Крематорий — вот выбрала место для сна!
Встань! Поставлю я шкалик вина.
Господи! Отблеск в витрине — я это и есть?.. — вдруг прозвучали в ней стихи Елены Шварц.
Подъем! Я преодолела смерть! Я преодолела не только свою собственную смерть, но и Фомы. Я уловила невидимую связь! Неужели я не смогу спасти Алексея?!.. Он не превратит свою жизнь в невнятную сумятицу. Он действительно сильный, он достоин её, потому что творец.
И постоянно звонила Алексею, но он не подходил к телефону. "Он при смерти. Все-таки он при смерти. Он умирает. — Чувствовалось ей. — Только я могу помочь ему. Я должна…" — Засыпала она над телефоном.
И вдруг телефон зазвонил.
— Алло. Здравствуйте. Это говорит Анна Викторовна.
— Простите, если мы знакомы, но я что-то не припомню… — глухо отозвалась Алина, чувствуя, как все ухнуло в ней, словно в пропасть — не Алексей.
— Я ваш врач. Вы извините меня за то, что я не поняла вас, когда вы мне говорили про вертолеты, и посоветовала обратиться к психиатру. Мы врачи такой тонкой специальности так устаем! Так загружены, что иногда перестаем понимать больных. Я прочитала вашу статью о прыжке с парашютом.
— Да… вам понравилось? — рассеянно спросила Алина, не понимая, что к чему.
— Конечно, конечно. Но все дело даже не в том, что мне понравилось. Я поняла, о чем вы говорили.
— Что вы этим хотите сказать?
— Дело в том, что я ещё раз проверила все ваши анализы. Ошибки быть не могло. Вы действительно были неизлечимо больны. Чудес не бывает. А с вами оно произошло, хотя вы не делали ни химиотерапию, не облучались, отказались от операции. Впрочем, операция вам бы не помогла, если уж говорить совсем честно. Но в результате, у меня на руках анализы совершенно здорового человека. Вы понимаете, что это значит?
— Что? Их перепутали?
— Да нет. Это невозможно. Это вам не анализы крови, или мочи, когда можно перепутать баночки. Все дело в том, что вы абсолютно правы.
— То есть — в чем я права?
— По поводу парашютов.
— Причем здесь парашюты?
— Вы пережили стресс. Об этом вы мне и говорили в последний раз на приеме, предлагая скидывать больных с парашюта ещё сонными.
— Это я так… Я не знаю, что мне помогло.
— Я вас умоляю, признайтесь — вы испытывали стресс, сильный стресс, за этот год?
— Естественно. Я же продолжала работать журналистом.
— Вас посылали в горячие точки? Вы были в Чечне?
— Нет.
— Неужели только прыжок с парашютом так подействовал на вас.
— Да забудьте вы про этот прыжок. Я сказала не подумав.
— Но вы сказали правду! В медицинских периодических изданиях время от времени мелькают странные сообщения о том, что люди пережившие стресс… К примеру, больные раком, случалось, даже поздней стадии, попадали в центр катаклизмов… Предложим, случалось землетрясение, пожары, но это не так, поскольку не настолько длительно, наводнения… И что же…
— И что же…
— После они замечали, что болей нет.
— И оказывалось, что рака нет, как у меня. Похоже.
— Но подобные сообщения в нашей специальной прессе слишком редки. Хотя поступают давно.
— Да. Я вижу, что в этом есть своя правда. Но люди христианской культуры, хотя и превозносят страдания превыше всего, никогда не признают этого. Хотя фактов, кажется, действительно хватает. Вот Шлиман, тот, который открыл Трою, болел в юности неизлечимой формой туберкулеза, а быть может и раком легких, но попал в кораблекрушение, долго ждал помощи в ледяной воде. И что в результате — чахотки — как ни бывало! Кажется, он с тех пор вообще не болел.
— Ой, да что там, какой-то мифический Шлиман! У меня тут ещё один реальный случай произошел. Был у нас больной. Мы думали — уж умер. А тут встречаю на улице — хромает. Он, узнав что у него злокачественная опухоль, не подлежащая хирургическому вмешательству, отправился наемным солдатом в Чечню, чтобы хоть какие-то деньги оставить после себя семье. И вы представляете — уже три года как вернулся. Ранили его конечно там. Ногу потерял. А мы его карточку уже в архив отправили, как быть может умершего. Но живой! Живой! И о своей болезни ничего слышать не хочет! Я уговорила его провериться. Сейчас у меня на руках его анализы. Чисто, как у вас.
— Так может быть всех в виде лечения отправлять на войну? — черным юмором отозвалась Алина.
— Когда бы эти отдельные случаи были собраны воедино… — вздохнула врач, — Да тогда никто бы не принял официальным такой способ лечения. Все-таки, согласитесь, он слишком немилосерден. Еще известный мне случай из первых уст: шахтер. Саркома легкого последней степени. Из последних сил тащится в шахту. Обвал. Их откапывали неделю. Когда его нашли — кожа да кости! Просто живой скелет. Но болезни, как и не бывало!
— Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете? Вы хотите, чтобы я написала об этом статью?
— Упаси вас бог! Алина! Можно я вас буду так, без отчества?.. Вас обвинят в черти чем! Я обращаюсь к вам с личной просьбой. Мой муж болен соответственно моей специальности. Он ещё не в той стадии, чтобы не передвигаться. Но эта депрессия! Он ничего не хочет. Он, крупный бизнесмен, вяло доделывает дела и лежит. Он все время лежит, даже газет не читает. Смотрит в потолок и иногда капризничает…
— Я тоже так смотрела.
— Надеюсь, теперь вы меня понимаете?
— Но чем я могу вам помочь?!
— Во-первых — тем, что не откажите мне в моей просьбе. Я знаю, что она исполнима. Деньги у нас в семье есть. Посчитайте сколько нужно, чтобы выполнить её. Плюс вам гонорар лично от меня в размере десяти тысяч. Я понимаю, что это не много, по сравнению с операциями на западе… Умоляю. Я заплачу вам сразу после результата… Нет. Чтобы вы решились — первую половину сейчас же. Плюс все расходы беру на себя. Если не получиться — вам не придется отдавать эти пять тысяч. Вы же будете стараться. У вас есть знакомства. Возьмите, пожалуйста, во имя спасения жизни человека, на прокат вертолет. Еще нужен инструктор…
— Ах, вот вы о чем. Но… Если честно говорить, я не думаю, что одного прыжка достаточно. Должна идти долгая борьба за жизнь.
— Продумайте. Продумайте все сами. Я заплачу. Я оплачу все. Только помогите.
— Но если у человека лопнет сердце от страха?
— Если говорить откровенно, это будет не такая мучительная смерть. Он иначе все равно умрет.
— Но вы же посадите меня за издевательство, доведшее человека до смерти.
— Я вам дам все расписки. Мы продумаем такую форму, что никто не догадается — что же на самом деле произошло.
— Но я не способна… — ошарашено выдавила из себя Алина. — Я не способна на жестокость.
Голос врача, голос женщины, жены, вдруг резко изменился — она заплакала, но продолжала говорить сквозь слезы:
— Кто знает, что на самом деле жестоко, а что нет. Хирургические операции, которые не спасают и увеличивают мучение, это не жестоко? А гладить человека по головке, улыбаться ему, говорить, что все хорошо, когда все ужасно — это не жестоко? Я не могу жить и каждый день и ожидать, когда его начнут мучить боли. Помогите! Я умоляю вас!..
"Отдайте ребенка в интернат, все равно ему потом жить в детском доме" — вспомнила Алина, как эта же врач менторским голосом отвечала, словно отрезала безнадежно больной.
— Я сделаю все, что в моих силах.
Встревоженная таким нелегким обязательством Алина почувствовала, что ей надо выполнить его. Но как — это было для неё неизвестно. Она включила в себе того маленького человечка у истока рога для лекарственных трав и пошла, шла и шла по ночному городу, но ни что, никакая улица, ни знакомые площади ни перекрестки не вызывали у неё желания остановиться. Измотанная в конец, чувствуя, что просто хочет лечь и спать, спать. Алина нащупала в кармане жетон. С удивительной ясностью вспомнились цифры телефона, который она никогда и не помнила вроде бы наизусть. Это был телефон Надежды. Той самой Надежды — в шрамах.
ГЛАВА 17
— Когда я увидела тебя в первый раз в Онкологическом центре, я знала, что ты не умрешь. — Спокойно говорила Надежда, сидя перед Алиной в морской тельняшке за кухонным столом, оголенная столешница которого была покрыта несмываемыми пятнами, прожжена брошенными мимо пепельницы сигаретами. Впрочем, такой вид стола нисколько не смущал обеих.
— Почему? — спросила Алина. Она очень устала за сегодняшний день, а ещё это долгий пересказ Надежде о том, что хочет от неё врач-онколог, вконец измотал её. Впрочем, ей показалось, что Надежда, слушавшая её внимательно и долго не перебивая, все поняла с первых слов и была готова помочь ей.
— Потому. Я не различаю людей по лицам, но по свету исходящему… Ты была так удивлена. Да. Ты всю жизнь подавлялась обстоятельствами, характерами других… но те, что тебя окружали, излучали короткие лучи света. А ты — долгие. Ты не разучилась удивляться. Понимаешь?
— Нет. — Рассеяно ответила Алина. — Ты про ауры?
— Не ауры. Есть нечто большее. А ладно. Ты так сейчас растеряна из-за страха собственной слабости так, что ничего не замечаешь. А ведь слабости в тебе нет. Есть жалость, нежность, трепетное отношение ко всему живому, но не слабость.
— Ой, ты шлифуешь шрамы? — не способная сконцентрироваться на сказанном отвлеклась Алина, — Поздравляю!
— Нет. Я не шлифую шрамы. Я влюблена и любима. Я выхожу замуж. От того и шрамы на моем лице воспринимаются под другим углом зрения даже теми, кто не знает о том, что со мной.
— Но шрамы на твоем лице, прости, стали какими-то декоративными полосками… Я никогда не спрашивала. Это у тебя откуда?
— Это спасло мне жизнь.
— То есть как?
— А так. Жизнь моя подходила к логическому концу. Каратистка. Жена известного каратиста. Красивая, сильная. Легко вступающая в борьбу с любым мужчиной. О, это состояние победительницы, это пьянящее чувство непобедимости!.. И вдруг перестройка. Избалованный жизнью муж, сын весьма влиятельных в то время людей, привыкший получать от неё все, что захочет, оказался без денег, никому ненужный… Он не вытерпел и пол года. Застрелился. Я опять почувствовала себя сильнее его. Я почувствовала себя такой сильной!.. Что потеряла всякий интерес к борьбе. Среди баб тогда равных мне не было. Это сейчас появляются новые Амазонки. А я… Я почувствовала, что мне нет равных, соревновательный момент кончился во мне, и потеряла всякий интерес к жизни. Я бродила по ночам по улице с надеждой, что ко мне хоть кто-то пристанет, лишь для того, чтобы потешиться, чтобы снова ощутить хоть что-то. Но таких идиотов не оказалось. Я сникла. Я стала толстеть, хотя и продолжала машинально тренировки. Всю свою жизнь, начав заниматься каратэ с десяти лет, я шла по одному направлению и не могла его изменить. Я выбирала цель, чтобы сокрушить её. Я раскидала все цели. Я была победительницей, вместо пьедестала, взбирающейся на руины. Однажды ночью, я, не думая, просто кинулась в поножовщину. Вариант был проигрышным сразу. Но мне уже хотелось только одного — погибнуть в борьбе.
— Странно. А я думала. Что тебя порвали собаки во время дрессировки. Слушай, а не кажется ли что нас так затюкали изначально, что мы слабые, что мы начинаем делать черти что, действовать во вред себе, лишь бы доказать хотя бы не всем, а себе и близким, что мнение это ложное.
— Кажется. Я это поняла. Потому и решила резко свернуть. Взглянула в зеркало и не узнала себя. Это была не я. Но эта новая говорила со мной старой совсем иным языком. Она ненавидела мою гордыню, она презирала мое стремление быть сильной. Она говорила о другой силе, о той, которая есть в маленьких хрупких женщинах, не способных шлепнуть даже ребенка. О той… Она решила победить меня прежнюю, чтобы открыть мне иные горизонты. Но эта сила навсегда стала недоступной для меня. Чтобы наступить на горло всем свои волчьим воям, чтобы снести барьеры обозначенные мне с детства, ведь мой отец воспитывал меня как мальчишку, мне надо было все стереть, начать с нуля. И тогда я сделала совершенно радикальный поворот — я устроилась в больницу уборщицей, и стала мыть полы. Чтобы забыть о себе непобедимой. Так простая поножовщина спасла мне жизнь. Иначе бы сейчас я, если бы не умерла, лежала бы под забором алкоголичкой. Я забыла сказать тебе, что я ещё и крепко поддавала в последние годы. Особенно после самоубийства мужа.
— А теперь… теперь ты действительно выходишь замуж? И тебе это надо?
— Да. За испанского дрессировщика тигров. Я же дрессирую собак. У меня всегда были собаки…
— Но прости, если откровенно — даже дрессировщик мужчина. А мужчины любят женщин не за их мастерство и профессионализм… Ты не боишься, что он просто ищет в тебе помощника. Что он будет эксплуатировать твою силу и…
— Мужчины любят тех женщин, которые сделали себя сами, если это настоящие мужчины. А играются теми, что как перышки, летят по воле случая. Но не любят. А нравится им в их женщинах то, что они сделали для них.
— Интересно вещаешь. Но это все внешне — внешне мой муж сделал для меня много, фактически райскую жизнь. Но практически сковал, волю, да что волю — даже желания я много лет высказывала с опаской, с оглядкой. Я стала зависима от него не только материально, но и психически. А внешне все было красиво, внешне он считался с моей личностью — мы почти все время носились по круизам… в Москве каждый день — рестораны, бани, бильярдные, пока я не заболела окончательно. Он думал, что развлекает меня, но все служило только его интересам. Любил ли он меня или нет?
— Он любил он тебя за то, что ты была сильной. Сильной духом. Неломающейся. Подави он тебя окончательно — вытер бы о тебя ноги и дальше пошел. Впрочем, он добился кое-чего, поскольку ты была менее плотским созданием. Твой ментал на физиологическом уровне не выдерживал состояния борьбы с мужчиной, поскольку рацио, то есть дух был куда меньше привязан к материальному набору благ, вот ты и заболела.
— Но и теперь я не чувствую себя материалисткой.
— Зато научилась сопротивляться. А теперь от тебя требуется научить этому других. Быть может в этом и есть смысл явления твоего духа в этой материи. Освободившегося от страхов тела. У меня, как и у тебя есть и знакомые вертолетчики, и кое-кто из начальства спортивного аэродрома под Чеховом. Но прыжка будет мало. Он должен оказаться действительно в пустыне. А мы её предоставить не можем. Впрочем, в трестах, да и в двухстах километрах от Москвы — такая глушь! У меня есть мастера спорта по спортивному ориентированию. Зашлем его куда-нибудь за Иваньковское водохранилище под незаметным присмотром охотников и моих ребят, спортсменов. Мне тридцать процентов от твоего гонорара.
— Половина… да хоть весь.
ГЛАВА 18
Николай Иванович, внешне крепкий мужчина, пятидесяти пяти лет от роду, экономист по образованию, в советские времена работавший заведующим одного из крупнейших складов медикаментов, а после экономических переворотов открывший свою сеть аптек по Москве и московской области, никогда не бедствовал. Всю жизнь прожил в достатке и комфорте, но жизнью был не удовлетворен. Постоянно хотелось чего-то большего. Планы его явно превосходили его возможности. Вечно что-то было не так. Раньше, когда был молод, боялся жить на широкую ногу. Приходилось прятаться. Не позволять себе то, что мог себе позволить, благодаря естественным при его должности левым доходам. Теперь снова приходилось прятаться, не только от государственного рэкета, но и от бандитского. Вел дела он честно. Но быть может оттого не всегда удачно. Постоянно приходилось что-то выдумывать, выкручиваться, и ещё бороться с конкурентами. При этом, имея деньги жить не по деньгам скромно. А ему всегда казалось, что он создан для роскоши.
Последние годы Николай Иванович чувствовал, что больше не способен отстаивать свое понимание нормальной жизни. Чувствовал, что все — запас его энергии окончился, и он смертельно устал.
Устал. И лежал, глядя в потолок часами. Бессонница мучила его. Жена принесла снотворное. Он покривился, но выпил. Сон был единственным лекарством от мрачных мыслей одолевавших его. Жить не хотелось. Хотя и был он человеком удачливым для других. И не хотелось жить без точно объяснимой причины. Впрочем, жизнь и так вот-вот должна была закончиться. Закончиться… какая жалость.
Николай Иванович поворочался, поворочался и заснул.
Никому неизвестно, что ему снилось тогда. Он и сам вспомнить не мог, настолько последующие события перечеркнули все предыдущие впечатления и мысли.
Он даже не помнил, как запихнули его в мешок сильные руки. Помнит лишь, что вдруг почувствовал, что он в мешке. Мелькнула мысль: уж не перепутали ли него с трупом. Начал отчаянно сопротивляться, брыкаться, кричать. Но его уже везли в какой-то машине. Везли и везли. Гладкое шоссе кончилось, начались колдобины. Он устал. Он устал сопротивляться и лежал в мешке, прислушиваясь к признакам похитивших его людей. Но… — тишина. Они как будто специально не разговаривали между собой, что бы он не запомнил тембра их голоса. Ни особенности произношения.
Николай Иванович понял все однозначно — похищение с целью получения выкупа. Он был реалистом. "Идиоты, — думал он — Я и так одной ногой в могиле. Неужели Анька будет платить за меня? За меня, итак полу труп. Нет. Не для этого я копил все эти годы деньги. Так хотелось, хоть детям что-то оставить после себя. Лишь бы не платила. Я все одно пропал. Если смогу выберусь сам. Только бы не сломалась. Она же врач. Она же знает, что мне осталось не долго. А ей — жить и жить… Нет смыла расставаться из-за меня — все одно останется с деньгами. А дачу?.. Только бы не продавала дачу!"
Неожиданно гул, невыносимо механический гул, прервал его мысли, и все внутри похолодело. Никогда Николай Иванович не видел вертолета вблизи, но понял сразу, что это вертолет. Машина остановилась. Взяв мешок, в котором находился он, за концы, крепкие мужчины понесли его. Как бы он не извивался в центре вертолетного гула, только усиливал свое ощущение полета в самую глубину Дантевского ада. Когда уже замер, отчаявшись, почувствовал, как его опустили на пол. И понял — что в вертолете окончательно, и что вертолет набирает высоту. Страх пошевельнуться, соскользнуть сего плоскости в пропасть сковал все его мускулы. Только сердце настолько учащенно билось, что казалось, заглушало рев пропеллера и шуршание разрываемого им воздуха. Несмотря на этот сердечный бой в ушах, ему самому казалось, что все — он уже умер. Умер и оттого, что у смерти нет времени — это будет длиться всегда.
Неожиданно на него навалилось месиво тяжело дышащих тел. Задрали мешок, но не снимая его с головы, связали руки. Перетянули тело ремнями, пропустив один из них между ног. Он мог брыкнуться. Но уже не сопротивлялся. Его пристегнули спиной к чему-то живому, должно быть к такому же пленнику, как он.
В последний момент с него сдернули мешок, натянули очки, и он увидел, что стоит в арке, которая летит над клубящейся пропастью в розоватых оттенках. "Если клубящийся ад так красив, то я согласен… Я на все согласен" — последнее, что подумалось ему перед падением в пропасть.
Оказалось, что он шагнул в небо. Небо в оттенках лучей вот-вот готового взойти солнца.
Он не успел обрести голос, перед тем как ухнуть в небо… и все… Он полетел вниз головой с невероятной скоростью сквозь плотный, жесткий воздух.
Зазвонил телефонный звонок.
Алина встревожено схватила трубку, но это был не Алексей. Карагоз что-то ныл о том, как он изнемогает от желания ещё хоть раз увидеть её.
— Стоило ли будить меня в четыре утра ради этого? — возмутилась Алина.
— Но я хотел убедиться, что ты ночуешь дома. — Наивно объяснил Карагоз.
— Улыбайся. — Приказал ему чей-то голос со спины, и Николай Иванович безвольно подчинился, насильно растянув губы в улыбке. И ощутил свободу и счастье настолько, словно их можно было пощупать.
Что-то резко дернуло Николай Ивановича и падение прекратилось. То, что он увидел, не поддавалось его способности описывать красоту.
Когда они приземлились. Николай Иванович уже пришел в себя. Полный не то что бы возмущения, а чувства собственного достоинства, которое требовало объяснений, выпутался из строп парашюта, обернулся… человек в очках лишь взмахнул рукой улетая от него на дельтаплане с моторчиком. Это было выше всякого разумения.
Николай Иванович долго провожал взглядом его уменьшающийся силуэт, пролетающий над лесом. Высоко-высоко над человечком парил вертолет. На западе, далеко, где-то за лесом он пошел на снижение.
"Значит, там тоже поле. Значит, там жизнь". — Подумал Николай Иванович и пошел безропотно в ту сторону. Во что бы то ни стало выбираться с этой полузатопленной лесной поляны. Он посмотрел на парашют. Подумал — может быть стоит взять его с собой, чтобы потом, если путь будет долгим, завернувшись в него спать. Все-таки он был в одних трусах. Но тут увидел рюкзак. В рюкзаке был его спортивный костюм, даже свитер, кроссовки, которые он приобрел несколько лет назад, чтобы заняться бегом, да только вот все было — недосуг. А ещё несколько зажигалок, флягу с водой, солдатский котелок, перочинный нож, леску на катушке с крючком на конце, плед верблюжьей шерсти. Два батона черного хлеба, пакет картофельного пюре… соль…
Все было слишком аккуратно уложено и сложено. Слишком напоминало старания жены. И полностью выходило за рамки возможного осмысления.
Э… нет! Нашли с кем шутить! Не сдамся я! — пригрозил Николай Иванович небу, и закинув за спину рюкзак, твердым шагом пошел в спину солнцем палимый.
ГЛАВА 19
Анна Викторовна, решившаяся на такой неординарный поступок, теперь в день по несколько раз звонила Алине.
— Как он там?!
— Идет.
— Господи, уже третьи сутки!
— Все дело в том, что он почему-то идет прямо в противоположную сторону от ближайших деревень. Наши ребята недавно передавали по рации, там даже мобильные телефоны почему-то не работают, что сами замучались с ним.
— Я же не дала ему даже тушенки, думая о том, что вегетарианство полезно таким больным. А он наперекор мясо очень любил. Я думала поголодает два три дня…
— Не голодает он. На леску с крючком утку в озерке поймал ваш Николай Николаевич. Дикую.
— Ах! Неужели! Не может быть! Он у меня такой неприспособленный!..
— А вот у наших ребят скоро провизия кончится. Замучились его тропить. Ходит по лесу, как хочет. Никакой системы.
Неделю длились их переговоры. Неделю чуть ли не каждый час Алина давала отчет Анне Викторовне о том, что знает. Но знала она немного. На связь по рации с сопровождающим их по бездорожью газиком, её охотники, шедшие по следу нечаянного Робинзона, выходили лишь раз в сутки. Но Анна Викторовна требовала и требовала отчета по несколько раз на дню. Пришлось научиться выдавать ей суточную информацию по частям, с каждым разом прибавляя подробности. Временами она горько сожалела о том, что решилась на такое. Но едва Алина предлагала приказать охотникам выйти на её мужа и вывести к какой-нибудь деревне, сразу отказывалась.
— Нет, — отвечала она твердо. — Если он ещё жив, не ранен, пусть идет. Лишь бы шел. — И бросала трубку.
Алина, ввязавшись в это дело, так была поглощена им, что уже забыла про свои обязательства перед редакциями, но про Алексея забыть не могла. "Нет, конечно, у него не будет скорой смерти. Но то, что нос его атрофируется — это точно. И вообще, что это у него за болезнь такая, из-за которой у него столько маленьких черточек шрамов на теле?!"
Она звонила Алексею, но никто не подходил к телефону. Впрочем, залетевшая к ней выпить чашечку кофе Ирэн, обмолвилась, что проходила мимо его студии и слышала душераздирающие вопли, которые он издает, подражая тибетским ламам, которых никогда живьем не слышал. А если и слышал на пленке, то явно думает, что те звуки, которые они издают, дуя в морские раковины, они выдавливают из своего горла.
— И надо человеку так себя истязать?! — возмущалась она.
— Он не истязает. Он выгоняет из себя болезнь. — Поняла Алина.
— Ты хочешь сказать, что у него совсем первобытное мышление?
— Нет. Просто действие, требующее такой невероятной самоотдачи, заставляет его не думать о своей болезни. — Отвечала Алина и бежала к телефону с единственной мыслью-криком: "Алеша!"
Но это перезванивала Анна Викторовна. Не свершенное дело с Николаем Ивановичем мучило Алину, там все было под контролем, но Анна Викторовна со своим нетерпеливым волнением, сама же все это затеявшая, стала невыносимой.
— Как вы думаете, уже октябрь все же — он не простудит почки?
— Он рубит лапник на ночь, покрывает себя им, или разводит такой костер из поваленных деревьев, что его пламя наверняка видно со спутника.
— Ой, Алина, я забыла ему дать очки!..
Алина засыпала и просыпалась с её голосом.
И вдруг все кончилось — не прошло и двадцати дней. Николай Иванович вышел на сопровождавший его тайно "Газик". Как потом говорил: по нюху. Вышел и все. Игра окончилась. Его, прокоптившегося дымом костра, исхудалого, но словно помолодевшего духом и энергией тела, пришлось везти до Конаково.
Анна Викторовна спешно отдала Алине часть — в две тысячи долларов, остальное пообещала отдать после того, как получит результаты анализов, вернулась домой и приняла ангельский вид, ожидающей возлюбленного Сольвейг.
На самом деле с ужасом в сердце Анна Викторовна ожидала, что ей придется объясняться с мужем. Объяснять необъяснимое.
Он ворвался в дом со счастливой улыбкой то ли юноши, то ли дикаря поцеловал жену, обнял её за плечи и не мог от неё оторваться.
— Мы будем жить долго-долго. Мы будем жить долго и счастливо, твердил он.
За последующий месяц лишь раз Анна Викторовна позвонила Алине:
— У нас медовый месяц — сообщила она со звонкими, девичьими нотками в голосе. — Что с ним было — вразумительно ответить не может, но главное — он так хочет жить!.. Он так уверен в себе! И ни что его не раздражает!
— А если он узнает, что это вы натворили с ним такое.
— О нет! Ему сейчас не до того — у него такие планы!
— А как с анализами.
— Я боюсь его тревожить мыслями об этом.
Алина вздохнула спокойно, несмотря на отсутствия истинного результата и снова начала заниматься своей журналисткой работой.
Иногда Алине позванивали участники авантюры — нет ли ещё подобной работки. Все-таки, если не ей, то им, выставившим суммы в три раза перекрывающие затраты Анна Викторовна заплатила сразу, ещё до начала предприятия, выдав деньги Алине, как аванс — покрывающий изначальные расходы. Деньги кончились. Ребятам хотелось подработать еще. К тому же такое занятие, показавшееся по началу слишком тяжелым — по прошествии времени их здорово забавляло. Рассказ "бывалых" постепенно перекраивались в анекдоты. Они приглашали Алину к себе в гости и в который раз в подробностях описывали, как заблудший в чаще лесной, городской житель с удивлением оглядывал местность, и постепенно превращался в первобытного человека. Он то молился стволам деревьев, то небу. То угрожал сгущающимся тучам, и чувствовал себя властелином, угрозы которого возымели действие, если все-таки тучи рассеивались, и не шел дождь. Несмотря на осень, в той местности стояла солнечная сушь. Действительно не шли дожди. Везде шли. А там нет.
— В колдуна мы его превратили, — смеялись ребята. Воспоминания не только забавляли их, но и вызывали желание снова отправиться сопровождающими наблюдателями в новые приключения.
И лишь в начале декабря в дом её ворвалась Анна Викторовна. Молча, отодвинув Алину, она прошла в её комнату, и торжественно медленно отсчитывая деньги, выложила сто долларовые банковские пачки на стол. Когда на столе образовалась куча денег, болезненно напомнившая Алине о её былой жизни, о Кирилле, о Монте-Карло… Анна Викторовна, прервав загадочное молчание, дидактически громко сказала:
— Это раз. А два… — Глаза её уставились в зрачки Алины, которая, мучительно сморщившись, как бы взывала пожалеть её и не продолжать. Но Анна Викторовна продолжила молча, протянув ей непонятный список с фамилиями и телефонами.
— Я не понимаю — замотала Алина головой, понимая втайне, но не желая понимать.
— Я не давала твоего телефона, деточка. Зачем рисковать. Когда снимешь помещение под офис, который в любой момент можно перенести, тогда и будешь светить свое местонахождение. Мало ли чего. К тому же рэкет… А деньги пойдут, как я понимаю — немалые. Но пока же — ты сама позвонишь им, узнаешь, в чем дело, и что от тебя требуется. Я нашла юриста, он с удовольствием поступит тебе на службу, чтобы юридически грамотно составлять заверения в том, что ты ни в чем не виновата, и в случае несчастного случая родные и близкие не будут иметь к тебе претензий. Только требуй заключения врача на возможность физических нагрузок в турпоходе. Есть такая форма. И не бери сердечников. Остальные все выдержат. Они сами не представляют, какие возможности таятся в их организмах. С каждого поставленного тебе клиента беру один процент.
— Но тут так много! Если для вашего мужа мне и удалось кое-как уговорить и задействовать человек семь… Четверо вообще работали, как в экспедиции две недели. То получается, что теперь мне потребуется не то, что взвод, — рота бравых ребят!
— Что ж придется расширять производство. Но если будете выбрасывать на землю сразу по несколько человек, то себестоимость перемещения на вертолете резко упадет. Я все продумала. Тут у меня не только раковые больные. Сосед по даче, богатейший человек, готов все отдать, чтобы спасти брата алкоголика. Есть и истерик. Сынок приличных родителей, извел всю семью. Раньше таких при церкви розгами пороли, а теперь даже психиатры не считают нужным с ним возиться. Сам, мол, должен изъявить желание лечиться. А как он может изъявить что-либо, если не понимает, что болен?.. Но теперь, благодаря всевозможным международным конвенциям и защитникам прав человека у психиатров лечатся только добровольно, или в случае, если это угрожает жизни больного. Но мы же знаем, — выпаливала она слова с невероятной скоростью, — что как бы эти истерики не угрожали покончить жизнь самоубийством, они скорее прикончат всех вокруг, чем погибнут. Вы представляете, что он-то удумал — чуть в чем ему откажут — сразу бежит и ножку закидывает за балкон! Мать его — за сердце. Отец тащит её ванну. Потому, как самое главное для истерика, — что бы все видели и переживали его возможное самоубийство. Вот они и прячутся в ванной чуть ли не каждый день. А он оглянется, видит, что никто не видит, и успокаивается. Только они из ванной — он снова, подлец, на балкон!.. Так и вытягивает из них деньги. Им легче один раз заплатить, чем всю жизнь мучаться, да понимать, что такого психа и подлеца вырастили. Если он уж так хочет сброситься с высоты — сбросьте его. Сбросьте его и, пожалуйста, деточка. И без инструктора! Иначе у его матери когда-нибудь сердце откажет. Да и отец уже один инфаркт перенес. А этот везде выживет. А еще… Надеюсь, вы все поймете по списку. Если что — звоните.
— А как анализы вашего мужа? — совершенно пораженная Алина еле успела выговорить вдогонку.
— Естественно, нормальные. — Убегая, прокричала Анна Викторовна.
Алина обреченно села перед кучей денег, подпирая руками тяжелую голову в полном не знании ни что делать с деньгами, ни что делать вообще.
ГЛАВА 20
— Мне нужна шляпка! — подошла Алина к управляющему одного из самых дорогих магазинов.
— Но весь ассортимент в вашем распоряжении.
— Нет. У вас такой нет. Я объездила все магазины. Такой, какую мне надо — нет нигде.
— Тогда, давайте посмотрим по каталогу из Парижа.
Алина долго разглядывала каталог, и когда ткнула пальцем в нужную ей шляпку, заметила, как изменился в лице управляющий.
— А вы уверенны, что именно она стоит вашего выбора?
— Не беспокойтесь — я прибью её на стену. Так надо.
— Конечно, если у вас коллекция, мы выпишем вам этот экземпляр.
— Да у меня коллекция… Коллекция памяти.
И зачем ей была необходима эта шляпка, та самая, которую она не смогла приобрести в Ницце? Ну и, слава богу, что не смогла!.. В ней действительно нельзя было ходить. И все-таки она была ей необходима. Лишь прибив это чудовище с огромным бантом на стену, так чтобы, когда она лежала в своей одинокой постели, взгляд упирался в нее, лишь тогда Алина почувствовала, что освободилась от чего-то, что неясно тяготило её. Лишь тогда она взялась за осуществление производства невероятных приключений с людьми по списку.
Брат, со своею женою живший с ней в одной квартире, никак не тяготил её. Но она чувствовала, что им тесно рядом с нею. То она слишком часто занимала телефон, то забывала помыть за собою посуду… Самые добрые отношения легко портятся из-за бытовых мелочей. Решившись повторить фокус с вертолетом, теперь из-за погодных условий и морозов, сократив маршруты до недельного срока, всего за месяц набрала необходимую сумму на отдельную однокомнатную квартиру. Снимать квартиру ей было противно, хотя и разумнее, поскольку на хорошую, окончательную жилплощадь все равно не хватало. Но ей во что бы то ни стало надо было иметь свою.
Постепенно, она и сама не заметила как, дело за которое она взялась однажды, скорее по слабости воли, не чувствуя в себе сил отказать, развилось настолько, что превратилось в основное дело, в её фирму.
"Услуги садистов" — ухмыляясь щелью рта, называла их спонтанно образовавшуюся фирму Надежда. — Устали, надоело жить? Добро пожаловать в ад.
Она, со своим исполосованном театрально-авангардными шрамами лицом, отлично смотрелась в роли привратницы спасительного ада.
Заказов было столько много, что пришлось снимать квартиру под офис и дежурить круглосуточно у телефона. Надежда окончательно переселилась туда, забыв о том, что она дрессировщик собак, фанатично увлеклась дрессировкой человеческой воли к жизни. Она превратилась в верного напарника Алины. Целыми днями они разрабатывали все новые и новые проекты раз и навсегда отбивающие у него животную тягу к саморазрушению потерявших чувство оптимизма, когда-то проигравших, позволивших себя подавить, смирившихся, потерявших цель людей.
Себестоимость их проектов постоянно уменьшалась. Оттого и цена становилась все более и более доступной, если не для основного, как прежде бедствующего населения, то для тех, кто зарабатывал не за счет занятия бизнесом — она стала возможной.
Не только вертолетный десант был теперь у них в арсенале, но и высадка на катере на необитаемый берег незамерзающего залива из-за близкого присутствия ТЭЦ все того же Иваньковского водохранилища. Освоили ещё и катакомбы под горками Ленинскими. Много веков назад в них добывали белый камень для строительства Москвы и система подземных лабиринтов, если их распрямить, была примерно равна пути из Москвы в Питер.
Придумывали и приключения попроще. Связавшись с дигерами, забрасывали горьких пьяниц, когда-то людей достойных, в канализационную систему и там дилеры разыгрывали перед ними адские сцены, внушая чувство ужаса и нежелания повторения. Одновременно, следили за их самочувствием, подкидывая в пару якобы дружка по несчастью. Это был тщательно продуманный спектакль ужасов, с неожиданным блеском фонарей, эхом, страшными звуками, непонятного происхождения мелькающими немыми чудовищами, в коих переодевались ребята Алины, его обычно хватало, чтобы измучившие всю семью горемыки, бросали пить и соглашались лечиться.
Если же с первого раза такие пациенты не понимали, что пора остановиться — начиналась тщательная система слежки. Но едва, упрямо стремящийся спрятаться от проблем мира сего в темной норке собственной деградации, брался за стакан — происходили ужасающие чудеса. То любимая шаурма тут же наполнялась дымом, или начинала гудеть сирена, назначалась всеобщая паника. То по облюбованной скамеечке в парке начинали ползать змеи… То преследовали какие-то типы в костюмах пришельцев. Спрячется такой в доме, заснет в постели — очнется вновь канализационном люке, а если холодно — в теплом подвале, да хоть в квартире оформленной столь мрачно, что рехнуться можно, ан нет — мало?.. — рядом спит женщина в шрамах — мало не покажется. А прикорнет ещё где — все одно — ужасающей местности при пробуждении не избежать — то свалка, то заброшенный дом, в обезлюдившей деревне, посередине заснеженной равнины, полный сухих цветов и протезов. А ещё того хлеще — среди трупов в морге. И никто ничего не мог объяснить. И никто ничего не понимал, и даже собутыльники ему перестают верить. И просыпалось даже в самых упрямых чувство гордости — не позволю! "Не позволю делать из меня игрушку даже потустороннему миру! Оно мне надо!".
Имея власть над чужими судьбами, Алина, тем не менее, не могла прорваться к Алексею. С тех пор как он получил символический подарок куколку, похожую на нее, суеверный страх зависимости от этой странной молодой, но словно живущей вне времени и пространства женщины, заставлял его избегать встреч с нею. Впрочем, по телефону он разговаривал с ней. Их разговоры длились часами. Разговоры обо всем. И вроде бы ни о чем. Темы поднимались настолько глобальные, что бессильна была человеческая жизнь прописаться в них, впрочем, как и влиять на эту глобальность. Алина отмечала про себя, что в фантазиях об "Аристократах духа", его явно клинит. Что-то уж больно не совпадало то, к чему тянулся Алексей с его реальной формой бытия. Все чаше голос его становился особенно мрачным. Он явно с трудом произносил слова. Очень скоро Алина поняла, что он голодает, просто-напросто голодает. Но помощи, боясь оскорбить, откровенно не предлагала.
Вскорости Алексей стал находить у своих дверей огромные сумки с едой. В них было все необходимое, даже витамины и соки. Он гордо объявил ей, что там, в космосе, откликнулись и прислали ему тайных покровителей, чтобы не думая о еде, он мог добиваться освоения космической идеи, зацепляя её своими вибрациями. Ей хотелось плакать от умиления. Никогда она не видела взрослого человека, чтобы он настолько серьезно жил своими фантазиями. Она понимала, что он не совсем нормальный. Вернее совершенно ненормальный, но он был единственным человеком, которого ей было естественно слушать и слушать, не перебивая. А Алексей удивлялся — что нужно этой странной женщине от него, женщине совсем из другого мира, — она же ничего не понимает в его музыке! Неужели мистические связи действительно повязали их, и когда-нибудь его произведения будут зависеть от нее?..
Алина хотела только одного, что бы он жил. Жил и жил, оставаясь вот таким, не вписывающимся никуда. Она не стремилась жить с ним в тесной плотности действительности, а жить в его присутствии. Ощущение, что он скоро умрет, ужасало её постоянно, хотя длилось уже почти год. Не молясь, она словно молилась за него ежедневно, и чувствуя с неудовольствием, что слишком привязалась душой к этому, все-таки городскому сумасшедшему, молилась и приказывала себе оторваться одновременно. И отрывалась. Насильно. Полностью погружаясь в свое дело, постоянно разрабатывая в деталях не только маршруты, но и целую долгоиграющую систему психологического прессинга, не думая о собственной выгоде, поскольку ей это было невероятно интересно. Несмотря на то, что психология делит человечество на весьма малое количество типов — всякий попадавший к ней казался Алине уникумом. Возможность реализовать все новые и новые фантазии — вот что увлекало её. А деньги сами притекали к ней.
Как бы дорого не оценивала труд своих напарников, её положенные пятнадцать процентов от дохода постепенно складывались в крупные суммы. Быть может, оттого, что ей не на что было особо тратиться?.. Работа была настолько увлекательна, что не тянуло её ни в игорные, ни в прочие развлекательные заведения. Она забыла — что такое бильярд, что такое рестораны, вернисажи, богемные тусовки, арт-галереи. В мае она уже смогла продать свою однокомнатную квартирку и купить большую, в доме, сталинской эпохи на набережной Москвы-реки. Ей всегда хотелось жить и видеть — как течет река. В доме с высокими потолками она блаженствовала, ощущая, что ни что не сутулит её, как бы придавливая излучаемую ею энергию, сверху. Правы были архитекторы прошлого, не экономя стройматериалов на высоте потолков философствовала Алина, — они, наверняка, знали нечто более серьезное, чем деньги.
Впрочем, теперь она рассуждала все меньше и меньше, чаще действовала. И дела её шли настолько хорошо, что уже начала подумывать — как бы официально, не таясь, зарегистрировать свою фирму и оформить патент, как "ноу-хау", но её отговаривали, объясняя, что в обществе озверевшим от естественной жестокости, скорее согласятся официально до смерти заласкать, чем признать возможность лечения таким способом. Но все-таки фирму учредили, как благотворительную психологическую помощь.
Однажды в её офис залетела столь взволнованная женщина, что не могла объяснить сразу — в чем её проблема. Женщину принимала Надежда, умеющая ни при каких обстоятельствах не дрогнуть своим фантастическим лицом. Когда её видели клиентки, обращающиеся с просьбами, они сначала впадали в состояние шока, а потом начинали медленно и правильно излагать свои мысли и пожелания.
После часовой беседы, Надежда зашла в кабинет Алины.
— Патологический мот нам подходит?
— Это не болезнь. Это судьба, — усмехнулась Алина. — Если у него есть, что проматывать, то она должна быть счастлива, что муж не безработный лентяй. И чего это нашим женщинам вечно не терпится что-то исправить, кого-то воспитать?.. Хоть бы один мужик заслал свою жену в наше виртуальное путешествие…
— Было. Вспомни — раковая больная, желудок. Мы её отправили голодать в пустыню с бурдюком воды. Не в пустыню, конечно, а поволжскую степь. Выбралась через три дня в деревушку из трех домов. Там наши люди заплатили оставшимся местным старикам, чтобы все соблюдали диету сыроедения и подольше под любыми предлогами не отпускали её. Неужели не помнишь? Так что бабы были. И патологический лентяй был. А вот мотов у нас ещё не было.
— Так в чем же дело? Что, его жене денег не хватает?
— Нет. Зарабатывает он много, но… по её выражению: выбрасывает деньги в форточку.
— Пусть встает под форточкой и ловит. — Усмехнулась Алина.
Ей было некогда переключаться на другую проблему, она читала отчет о похождениях патологического вруна, очередной раз доведшего до истерики всю семью, тем, что объявил приятелям причиной своей тоскливой внешности похороны обоих родителей, неожиданно скончавшихся в один день. Приятели, взрослые, преуспевающие люди, уже давно не верившие своему школьному товарищу, сужавшие ему деньги, лишь бы отвязался, да из милосердия не надеясь, что отдаст долг, вдруг поверили, и выпытав у него день и час похорон, явились к нему домой с траурными венками. На ленточках обвивающие венки были написаны имена родителей вруна. Открыла дверь его мать, ничего не подозревающая женщина, хотя и шестидесяти пяти лет, но явно бодрая, можно сказать в соку и в полном расцвете сил. Скорая помощь еле откачала её от сердечного припадка. Теперь этот враль десятый день проводил в компании глухонемых в забытой богом глуши. В лесном пансионате на Валдайской возвышенности, из которого невозможно было сбежать. Отчет напоминал комедию. С чувством юмора у наблюдателя было все в порядке. Впрочем, как и у Алины, придумавшей болтуну подобное наказание.
— Это её образное выражение: "Бросает деньги в форточку". — Продолжила Надежда. Но выражение это заставило вернуться Алину к собственной фантастической реальности, — уже смутно вспоминалось что-то из её прошлой жизни. А Надежда продолжала, — Он даже на трусики ей потратиться — не то что бы жадничает, но забывает, говорит, что деньги даст потом, потом и не дает. А по ресторанам ходит и её таскает, не замечая, что дома нуждается во всем её ребенок от первого брака. Она вышла за него, как за респектабельного мужчину, а получила второго ребенка, игры которого даже не сдерживаются отсутствием средств.
— Может быть его ограбить? А потом вернуть деньги месяца через три, или шесть?..
— Я уже предлагала это. Она сказала, что это невозможно. Он делает деньги ежедневно, как бы ни из чего — играючи.
— Красиво. С таким не грех и поиграть на "кто — кого". Ладно. Давай устроим ему маршрут номер пять. И по деревням и весям, чтобы катали его на телеге по замкнутому кругу без копейки денег. На какую сумму она способна?
— Говорит, не задумываясь, возьмет у него из кармана тысячу долларов, поскольку в день, обычно, он пускает на ветер чуть ли не тысячу. Врет, конечно… но уверенно.
— Вот видишь, за тысячу и с парашютом не кинешь. Сунуть в мой "джип", а потом выкинуть в чистом поле, километров за триста от Москвы — дешевле получается. Только ты уверенна, что этот новый русский не дознается от неё потом, что произошло, и не устроит нам облаву? Они ребята вспыльчивые. Опасный контингент. У нас же таких ещё не было.
— Я думаю, можно будет подписать с ней такую форму договора, что она сама не будет знать, когда это с ним произойдет. Возьмем внезапным нападением. А когда результат скажется, месяца через три возьмем с неё деньги. Он успокоится, а она не будет знать, что это исходило от нас. Через три месяца побоится признаться ему, когда догадается, что его исчезновение было нашей работой.
— Нормально. Заодно её ценить научим таких вот. Но не проще было бы развестись? Если уж действительно такое несовпадение?..
— Спрашивала. Боится. Уже пожила одна. Сама знаешь, что такое зависимость.
— Какая зависимость — независимость… Не поймешь — что лучше, и кто в действительности от кого зависит. Может, он без неё и деньги бы не тратил на что попало… как мой Кирилл без меня, слышала я, остепенился, по бильярдным и ресторанам меньше шляется, новую жену, во всяком случае, никуда с собой не таскает. А мне бы обидно было, что муж без меня развлекается. Хотя я и ворчала… Мы были красивой парой. Я его так любила… а бежала от него.
— Любила?
— Конечно. Я теперь это понимаю. Он был как я — такой же. Оба свободолюбивые. Единственная проблема была в том, что мне при нем было дано маленькое пространство, а ему большое. Нет, мне порою без него тоскливо никто тебя не поднимает, не тянет играть черти куда, да и с шишками на лбу никто не устраивает театра…
— А этого… музыканта своего сумасшедшего ты тоже любишь?
— Это моя боль милосердия. — Усмехнулась сама над собою Алина.
— На Руси говорят, любить значит жалеть.
— Что полностью опровергает наше занятие.
— Может быть его тоже скинуть?
— Я не знаю — чем он болен. Я не могу понять.
— Шизофренией.
— Но какой заманчивой, какой интересной!
— Да чего там интересного — ты посмотри на результат.
— А что результат, Надежд, какой может быть результат? У мужчин он поразнообразнее, чем у женщин.
— У женщин пик истории, к сожалению один — вышла замуж.
— Вот именно. Вышла замуж и все. Считай — конец истории. Что я буду делать без тебя, когда ты выйдешь замуж за своего укротителя тигров? Он же не сможет жить у нас. У нас даже тигры в цирке голодают, не говоря про дрессировщиков.
— Я уеду туда, прощупаю почву, и мы перейдем на мировой уровень. Тигров тоже можно вписать в систему наших маршрутов. Так что конца истории не будет.
— Н-да… — вздохнула Алина. — Недаром Надежда была последней из зол, вылетевшей из ящика Пандоры. Ты железная леди.
— От железной и слышу.
Алина улыбнулась печально в ответ и занялась своими делами. Но зря Надежда вспомнила при ней про Алексея. Алина ни на чем не могла сосредоточиться — сердце ныло по Алексею. Сердце ныло ещё и по Кириллу… Сердце ныло даже по Фоме, оттого, что встреться он ей сейчас — быть может, она бы перевернула его сознание так, как собиралась перевернуть завтра очередному алкоголику — Пете Дятлову.
По анкете Петя Дятлов, сорока двух лет, пропил все — семью, детей, квартиру доставшуюся в наследство, машину и весь имидж живого человека, превратившись в некий фантом. И все это, якобы, во имя поэзии. Однажды почувствовав себя поэтом, он стал слагать, естественно, напившись, романтически-возвышенные стихи. Поклонялся черным розам, нектарам из бутонов, наброшенным на женские плечи не платкам, а почему-то вуалям, веерам, бутоньеркам. Откуда он их откапывал, никому не было понятно. Но этими видениями он жил, подпитывая физическое тело весьма калорийной водочкой. Бывшая жена, уйдя от него, открыла свое дело, стала прилично зарабатывать, выучила детей, добилась того, что они стали учиться в институте. Казалось бы, все у нее, вопреки былому браку, сложилось хорошо. Но дети страдали от сознания, что их отец — опустившийся алкоголик. И она, сама же бросив его, болела о нем, таком лиричном, и неприспособленном, вечном юноше, теперь уж в теле немощном, но все таком же романтике. Она даже подружилась со многими его любовницами, пытавшимися спасти после неё поэта. Петя всегда, не смотря ни на что, почему-то был твердо уверен в том, что его спасет только любовь. И любовью обделен он не был. Женщин, способных любить и все прощать, ничего не понимавших в поэзии, но чувствовавших высокое "нечто", так и влекло на его поэтический настрой. Они, свято веря в свою спасительную миссию, перебирались к нему, и издавали в своем минигосударстве созидательные указы… А он читал им стихи и продолжал пить. Женщины покидали его в трагическом отчаянии. А он все пил, считая, что все они не те, и продолжал страдать от нехватки любви. Женщины страдали не меньше, чем он, но почему-то не спились, а некоторые, из "бывших", образовали во главе с его бывшей женой союз по спасению Пети-поэта. Они таскали его по всевозможным наркологическим службам, кодировали, плакали, убеждали и с ужасом замечали, как в своих витиеватых фразах он становился однообразным, что стихи — похожими на уже написанные когда-то, а сам же он далее красивого жеста рукой, не был способен уже ни на какое действие. Восхищаясь неким далеким, не подвластным описанию, прекрасным — мочился в постель, месяцами не мылся и пил с кем придется, при этом соблюдая романтически устремленное выражение глаз.
ГЛАВА 21
Петя заснул в доску пьяным, но в своей постели. Проснулся в взопревшем ватном мешке в кромешной тьме. Зарыл глаза, ничего не увидев, поворочался, побурчал под нос невесть что и снова заснул. В прибор ночного видения за ним наблюдал спелеолог по кличке Марлок. Спелеолог истомился. Петя открывал глаза, шарил выключатель, и не нашарив, снова засыпал. Так, при полном отсутствии раздражителей, проспал Петя целые сутки.
Когда же почувствовал, что спать больше не может, сунул руку в карман джинсов, что было естественно, так как засыпал он, обычно, не раздеваясь, достал зажигалку. Маленькое пламя охватило немного пространства, но достаточно, чтобы понять, что он в подземелье. Пете вспомнились пирамиды Египта… лабиринт минотавра… Пете вспомнился поэт Гумилев, и он стал ожидать, что сейчас появится тонконогая девушка с головой гиены. В мозгу закрутилась одна и та же строка: "Я видел голову гиены на тонких девичьих ногах…" Он ждал. Если бы она появилась, — это бы его не испугало. Рациональных объяснений происходящему давно не требовала его душа. Гиеноподобная девушка была бы естественным продолжением полусна-полуяви системы его жизни. Но девушка не появилась. Он ощупал вокруг себя камни и наткнулся на чекушку водки. Это было очень кстати, поскольку начинался похмельный колотун. Петя отпил немного и снова заснул. Истощенный многодневным возлиянием организм требовал отдыха. Он так и спал трое суток. Иногда просыпался, отпивал глоток водки, вылезал из спальника, мочился в двух шагах от него, снова нащупывал свой теплый кокон, влезал в него и снова спал ни о чем не беспокоясь. Наблюдатели же хоть и привыкли к подобным реакциям, все-таки заволновались было, — не летаргический ли сон?.. Но сон был не летаргическим. Сон был самым необходимым лекарством истощенной алкоголем нервной системой.
Тайм-аут прошел. Петя выбрался из кокона, огляделся в кромешной тьме и словно сыч, сказал: — У.
— У-у-у. — глухо отдалось эхом.
Петя снова сказал: — У.
И долго ещё ошарашено укал в полой тишине. Потом ему стало все равно. Невероятное равнодушие окатило его душу и он понял, что давным-давно, ещё в той, предыдущей жизни, ему на самом деле было естественно ничего не переживать и быть равнодушным. Что к себе, что к каким-то там детям, женщинам… Мертвые символы, которые хоть как-то будоражили его сознание, являлись на самом деле оградой. Огромной, поросшей засохшими колючими розами, оградой от живого вечного трепета жизни. Да и была ли она?..
История человечества смешалась в нем с памятью фантазий. Он тщетно перебирал века, виденные им когда-то во сне и наяву местности, и, в конце концов, пришел к выводу, что он в Испании, во времена великой инквизиции. Посажен в каменный мешок за стихи, воспевающие женские прелести. Оставалось только вспомнить эти стихи. И он вспомнил их с невероятной ясностью, и громко прочитал, сопротивляясь религиозной косности человечества. Но ничто не откликнулось на его косвенный призыв к восстанию. Петр встал и пошел искать соратников.
Встал и тут же больно стукнулся о понижающийся потолок штрека. Вспышка в глазах, озарила его память. Он понял, что случайно переступил мистическую черту и попал в затерянный мир — в пещеру к первобытным людям. Его миссия быть Прометеем. Он зажег зажигалку. Но не смог долго удержать пламени. Обжег большой палец. Пока был свет, определил правую стену лабиринта и, слегка опираясь на неё рукой, пошел вперед. Повернул по ней на право. За поворотом наткнулся на ржавую железку. Прощупал её и понял, что там, наверху, сейчас идет война с фашистами. Расстреливают мирное население. А он спасся в одесских катакомбах. Теперь его задача найти отсюда выход. Он принюхался. И ему показалось, что учуял свежий ветерок.
Оставив стену, пошел на струйку свежего воздуха. Пошел и услышал со спины чьи-то шаги. По стене мелькнула вспышка света. Теперь Петр вспомнил, что зовут его Томом Сойером. А там, сзади беглый негр. Ему ничего не пришло в голову, как обернувшись, и сжав кулак, крикнуть:
— Рот Фронт! Своду Луису Корвалану!
Собственные слова повергли его в глубинное изумление. И он застыл, замолчав даже в мыслях своих.
Петр оказался одним из самых тяжелых клиентов. Сопровождавшие его спелеологи замучались двадцать дней подряд плутать за ним, терять его в подземных лабиринтах, находить, мелькая, словно приведения, подбрасывать ему еду, а когда он засыпал на камнях, запихивать его в спальник, так как неизменные плюс семь градусов в катакомбах, не предрасполагали к сну без одеяла. Когда на него вышел все-таки один из проводников, желая вывести, Петр, прошедший через звуковые и зрительные галлюцинации, разучившийся уже рассуждать в слух с самим собой, и решивший окончательно, что он давно умер, а так как умер в пьяном виде, то естественно заблудился в лабиринтах между раем и адом, с трудом складывая слова, как бы удивляясь собственному голосу, спросил пришельца возникшего в туманной дымке света на его пути:
— Ты тоже, что ль недавно умер? Пошли вмести искать, где здесь заседание страшного суда. Надоело так болтаться.
— Жить хочешь? — все понимая спросил Марлок.
Петр вспомнил всю свою жизнь с предельной ясностью. Жизнь от маленького мальчика, впервые разглядывавшего цветы мать-мачехи, до отца семейства… Надо же когда-то было такое, что не в нем, а при нем жил маленький мальчик! Натуральный, которого требовалось защищать, кормить, растить, опекать… Что же случилось потом?! Пьяный период ушел из его памяти, смешавшись с ощущениями снов.
— Он вернулся к нам так, словно и не отсутствовал десять лет! звонила Алине жена Пети. — Мы молчим. Мы ему придумываем новую память. Как вы думаете, я права?..
Но Алина не успела подумать над этим вопросом. Из приемной донесся возмущенный женский голос. В её кабинет вошла Надежда, плотно закрыв за собой дверь. В дверь кто-то бился.
— Вот и пришла расплата за услуги? — улыбнулась, уже давно готовая ко всему, Алина и, отключив трубку телефона, повернулась к подруге абсолютно спокойным лицом: — Я всегда знала, что когда-нибудь нас не поймут.
— Нет. Помнишь того мота? Он не вернулся.
— То есть как? Из несчастных случаев у нас были только ожог, перелом руки… Все покуда живы!
— Да, но этот тип… То есть наша схема на него не подействовала.
— Не перестал проматывать деньги?
— Не знаю я. Он вообще не вернулся к жене. А в Москву вернулся. Его сопровождали наши до вокзала. Там поймал такси и уехал. Но к жене не вернулся.
— Дай-ка мне его дело.
Надежда принесла дискету. Алина сунула её в компьютер и ужаснулась при шрифте десятого размера, оно занимало сто страниц — целый роман!
— Я сейчас его просмотрю, а ты напои её кофе, успокой… сама знаешь, — ответила Алина Надежде и принялась читать.
"Выбросили из джипа вблизи деревни Дрябловка. В костюме, с галстуком… — почему-то наблюдатель не забыл упомянуть именно эту деталь, отметила про себя Алина. И пробежав глазами по экрану, убедившись, что номер 108С был без денег, и словно лось одним махом преодолел десять километров петляющей полевой тропы, пролистнула страницу экрана.
"… добравшись до деревни без особого труда, почистил ботинки лопухами, причесался и вошел избу старух сестер Поликарповых с возгласом:
— Дамы и господа! Я, заседатель Государственной Думы, возмущен тем очковтирательством, которым занимаются местные депутаты! Каким образом оказалось, что вы до сих пор живете без водопровода и магистрального газа, когда в отчетах ваша деревня является образчиком цивилизации. И вот теперь я приехал разобраться на местах…"
Текст был списан с диктофона. Но даже если бы он передавался по памяти, Алина бы поверила, каждому слову. Она ойкнула и захохотала до слез. Перелистала пару страниц назад, до той, на которой были выходные данные объекта номер 108С. Конечно же — это был Кирилл! Другого такого быть не могло.
Его возили из деревни в деревню на телеге аборигены забытой богом местности. Они кормили и поили его, совали деньги, которых он принципиально не брал. Его политические речи перемежались чтением стихов. Старушки слушали его как завороженные. Даже скептические настроенные старики, да редкие мужики, среди которых косили под гостей деревни инструкторы прогона, считали за честь пригласить его в свой дом. Постоянно оправдываясь, что личный водитель его сбежал, или шельма, застрял в тотальном бездорожье, Кирилл ни разу не выказал желания вернуться в Москву. В конце концов, сопровождавшие его тайно наблюдатели, были замечены им, и без всяких вопросов, тут же вписались в великое дело глобального переустройства русской деревни, как личная команда заседателя государственной думы. В Дрябловке, лишь по мановению взмаха его руки, началась реставрация давно завалившейся баньки, так как вскорости туда должны были приехать иностранцы, которые и дадут деньги на водопровод, магистральный газ, и прочие блага необходимые для экзотического курорта. В Тигуново, жители, озабоченные прогнозом окончательной нерентабельности сельского хозяйства в средней полосе России, и тем, что время требует, их выхода на мировую арену с производством нечто более ценного, открыли цех по плетению сувенирных лаптей. Кирилл сам просчитал его рентабельность, с затратами на дорогу, пересылку во все страны мира, и пришел к выводу, что через четверть века эта деревня будет одной из процветающих.
— Дамы и господа! Вы думаете, что деревня обречена на вымирание, в то время как на самом деле деградирует и вымирает городская форма жизни. Все крупные миллионеры во всем мире бегут из городов. Благодаря свершившемуся плану ГОЭРЛО, стала возможна компьютеризация всей страны, отчего через интернет человек сможет чувствовать себя не выброшенным на задворки мира, как рыба на сушу из моря, находясь в самой глуши, но всегда только в центре! Из моря информации! А ведь человеческая сущность на 90 % состоит из информации, как человеческое тело состоит из воды и прочих там всяких белков. И ему требуется обмен этой информации, как белковый обмен — не меньше. Это — некий неотъемлемый процесс жизни существа разумного, как непостижимый процесс фотосинтеза, которым нас мучили в школе ещё на уровне пятого класса! О нет! Мы теперь уже окончили ликбез. Хорошо ли плохо познать это можно — только войдя во взаимообмен понятиями со всем человечеством сразу! Ощущение собственной провинциальности или столичности теперь не зависит от места пребывания, но только от обладания определенным кругозором и количеством информации, которую вам и обеспечит сеть интернет. В Испании, солнечной стране, к 1986 году 96 % процентов населения занималось сельским хозяйством. И что же?! Едва случилась у них та же перестройка, что и у нас — провели они её по уму и посчитали, что гораздо дешевле закупать у стран третьего мира сельхозпродукцию, чем биться за урожай даже в такой стране, с более мягкими климатическими условиями. Нечего держаться и гробить свои жизни на то, что просто отбирает силы и время, являясь абсолютно нерентабельным производством. Оглянитесь на мир. Пора мыслить в мировом контексте на исходе двадцатого столетия… Становиться производителем единственно-возможного продукта. Хотя бы чистого воздуха, так обильно оснащенного кислородом… Замки будут выситься среди этих лесов. Вертолетные площадки помогут плевать на бездорожье. Та же картошка, измучившая вас, сгнивающая наполовину ещё по дороге к рынку, будет доставляться авиацией из какой-нибудь Зимбамбу, и окажется дешевле, чем нашенская, родная вроде бы. Только стоит ли нам жизнь класть на её выращивание. Да вы посмотрите на себя со стороны, господа крестьяне! Разве ж вы работаете на полях?! Да вы ж костьми ложитесь! Костьми! В результате ежегодной бесчеловечно жестокой битвы за урожай! И никто!.. Никто ваших жертв не ценит. А оно вам нужно?..
В следующей деревне он не стал открывать конкурирующую фирму, а потребовав Алининых наблюдателей, ставших спонтанно его телохранителями, связаться по мобильному телефону с ведущими фармацевтическими фирмами, открыл цех по заготовке живицы, сосновой смолы, подсчитав, что не менее чем через год, каждый житель этой деревни сможет позволить себе иметь карманный телефон, а о пропитании вообще перестанет ломать голову. Открыв ещё фермы, которые должны будут заниматься разведением коллекционных бабочек, а так же полезных для сельского хозяйства божьих коровок и особо жирных дождевых червей, он оставил, как забыл навсегда затерянный мир в сорока верстах от города Старицы и отправился в Москву, якобы зарегистрировать свои новые предприятия. Команду, перекинувшуюся на его сторону, рассортировал покуда по деревням, исполнять роли его заместителей.
Вся эта прочитанная Алиной сквозь смех и слезы, повесть пестрела цитатами из любимых стихов и фразами Кирилла. Наблюдатель просто превратился в летописца, влюбившись в Кирилла, как в героя своего времени. Без копейки денег этот прохвост постоянно пребывал в застольях, банях, праздниках, отмечая великие исторические даты, коими не была обделена его память. Он умудрился восстановить традиции русских гуляний, объявив, что вернется с киносъемочной бригадой из Голливуда, заставил вспомнить, как водят хороводы, песни поют на завалинках. Провожая его на станцию, наблюдатели ждали, что он попросит денег на дорогу. Но не тут-то было. Он смело зашел в местное отделение милиции и, объявив о пропаже документов, билетов и кошелька Заседателя Государственной Думы тут же получил бесплатный билет до Москвы в депутатском купе. Билет на купе ему выделили, но подобных купе в поезде не было. Он попытался выгнать из одноместного купе проводницу, и когда ему это почти удалось, потерял интерес к цели, заставил работать закрывшийся вагон-ресторан и весьма весело провел ночь за накрытым столом, набирая членов в свою партию. Взяв с собою одного из наблюдателей — представлял его своей правой рукой. Но когда доверие и заинтересованность обслуживающего персонала достигло пика, неожиданно резко сошел с поезда и вместе с помощником сел в электричку. Посадив напротив себя приставленного Алиной наблюдателя, вдруг поклонился ему, сняв воображаемую шляпу: "Мое почтение вашей госпоже. Не думал, что сам попадусь на её удочку". Больше ни словом о том, что знаком с хозяйкой их оригинальной фирмы не обмолвился.
"Боже! Значит, он следил за мной!" — ужаснулась про себя Алина.
ГЛАВА 22
Кирилл прибывал не в том возрасте, чтобы как шпана кидать таксистов. Он, конечно, мог внушить водителю уважение к себе, и попросив его подождать у подъезда, и честно вынести ему денег из дома, но… Но на гребне волны "Заседателя (а быть может завсегдатая) Государственной Думы" не мог он так сразу спуститься до примитивного. Узнав, что одному из приезжих, стоявших в очереди за такси нужен Ленинградский проспект, Кирилл договорился с ним, что едут вместе, поделив цену такси пополам, и сев в машину приказал своим не изменяющим его густым, вальяжным басом — Аэропорт. Печальный и бесперспективный, словно картофельный сухарь, коим оказался его попутчик, не вдаваясь в подробности, согласился. Водитель глянул на севшего рядом солидного пассажира и, не переспрашивая, рванул в Шереметьево.
Уже на выезде из Москвы, Кирилл очнулся, понял, что что-то не то. Затормозил машину и потребовал от водителя сатисфакции за то, что не туда завез, ибо аэропорт и аэровокзал не одно и тоже. Дело чуть не дошло до драки, в результате которой сухарь, не знавший Москвы, поддержал Кирилла, а водитель отказался везти их обратно. Выйдя на трассу, друзья по несчастью познакомились. Картофельного сухаря звали Витюшей. Витюша сбегал за пузырем в придорожный ларек. Разговорились окончательно. Оказалось, что в том районе Москвы, где родился Кирилл, родился и племянник Витюши, отчего Витюша тут же прозвал Кирилла земляком.
Когда новоявленный земляк вновь проголосовал машину, и сев в неё сказал, что ему вовсе не надо на Ленинградский проспект, а поедут они на Сухаревку, Витюша насторожился. Попытался противостоять. Но получив в ответ очередное: "да брось ты", потребовал срочно остановить машину и, выбежав из нее, понесся как ошпаренный в арку двора. Кирилл припустил за ним. Приметив подъезд, в котором спрятался его попутчик поневоле, Кирилл выскочил на противоположную улицу, проголосовал машину. Водитель оказался как раз именно такой, какой был необходим для поимки его родного дяди сбежавшего из психбольницы. Дядя был быстро загнан в машину. И сидел уже в ней не рыпаясь. Когда Кирилл подъехал к дому своего личного водителя, как раз туда, куда и надо было попутчику, он строго настрого приказал "больному дяде" ждать его.
Долго водитель, охраняя сумасшедший груз, ждал возвращения своего основного пассажира.
— Да что она хочет?! Да разве она сможет жить с таким человеком?! Пусть будет счастлива, что он не вернулся! — отвечала Алина вопрошающей Надежде. — Даже я скукожилась от его постоянного вроде бы смышленого безумия. Да я семь лет была зрителем бесконечной феерии. А его коронные проходы сквозь витрины и стеклянные стены! И всего один единственный раз рассек себе лоб стеклом. И где — в Ницце. Так мало того — ему принесли деньги за лечение! А как он заставлял меня крутиться волчком из-за его мнимых болезней!.. А бизнес!.. Какой он развел бизнес! А… — махнула она рукой отчаянно, но тут же помягчала, — А все-таки после него жить с другими неинтересно. И, быть может, он был прав, что не давал мне концентрироваться на моей болезни, жалости к самой себе… Жестоко, но прав.
— Теперь ты поступаешь также с другими. Она, кстати, похожа на тебя чем-то внешне. Волосами, что ли…
— Кто?
— Его новая жена. Значит, он ещё тебя любит. Прими её. Будь великодушной.
— …Когда мы с ним познакомились, он показался мне таким солидным, приличным мужчиной… и всегда при деньгах… Я думала, вот заживем как люди… — шептала как в бреду новоявленная жена Кирилла.
О люди, люди!.. — вздыхала про себя, засыпая, Алина, — Люди-нелюди! Когда я росла, когда взрослела, я и предположить не могла, что люди совсем не такие, как "люди вообще".
Телефонный звонок прервал её мысли:
— Ну… неужели за год ты не соскучилась по мне?
Это был голос Кирилла.
— Соскучилась?..
Он позвонил ей в дверь квартиры, едва она повесила трубку. Наглец! Он застал её врасплох! Скинул плащ, оставшись в костюме и шляпе, он шокировал её словно подрывник мирного жителя. Огромный букет из ста одиннадцати роз рассыпался по квартире:
— Ты помнишь город Канн?
Алина молча провела его в свою спальню и указала на шляпку, прибитую напротив изголовья кровати.
— Ты меня любишь! Ты меня любишь! — и рухнул на неё с объятиями. Алина показалось, что-то хрустнуло в её позвоночнике от этакой тяжести. Еле-еле увернулась из-под навалившейся на неё массы Кириллового тела, с одной единственною мыслью — спасти себя от возможной травмы. — Почему ты думаешь, что люблю? — недоуменно вздохнула она, в тайне радуясь тому что, их былой бой, так неожиданно прервавшийся, продолжается.
Потому что борешься — взмахнул он руками, словно дирижер: — Начинается сраженье! — пропел он и снова ринулся повиснуть на её плечах всем своим центнером.
— Нет! — отчаянно отскакивая, крикнула Алина, и слезы застыли у неё в глазах. Чувство что её сейчас увезут в другое, не выбранное ею путешествие, в котором пусть все будет чудесно, пусть она будет счастлива, но увезут против её воли, отбросило её в паническое состояние. — Нет! Я…
— Что?!
— Я столько ещё не успела! — рухнула она в кресло.
— По-моему ты уже столько всего успела, что пора остановиться.
— Ну вот! Опять! Ты так говоришь, как будто нет меня, нету! А я…
— Но ты посмотри на этот блин, то есть шляпу! Я же вижу, что ты не можешь без меня! Без внутреннего монолога со мной, как и я! Представляю, с каким отчаянием ты прибивала её к стене! Я тебе достану гвозди ржавые, огромные. И вбивай, вбивай, вбивай их в поля этой шляпки!.. В свой каприз! Который требует, чтобы с ним считались. Вот я был дурак! Вот дурак! Как я тебе не позволял!.. И что! Быть иногда не идеалом, а просто женщиной и только!.. Короче, я понял все. Вбивай со всей своей энергией все гвозди, пока руки не опустятся. Пока… О господи, какая сексуальная энергия взрывается в тебе, когда я не на месте! А место мое… — он вырвал её из кресла, сорвал с неё халат бросил на постель.
— Ты бы сам хоть шляпу снял. — Только и успела сказать она, чувствуя, что теряет все ориентиры.
— Все смешалось в её мозгу. Тепло его тела, их сердцебиения, руки, ноги…
Раздался телефонный звонок. Она очнулась. За окном было светло. На круглых часах прикрепленных к шторам над окном — 12 дня. Она опустила руку к телефонной трубке валявшейся на ковре. Он, не открывая глаз, перехватил её за запястье:
— Хватит — пробурчал он, сгреб её в охапку и прижал к постели. Она зажатая в его объятьях сначала дернулась, мгновенно почувствовав бесполезность своих сопротивлений, смирилась, словно утонула в нем навсегда.
Он спал рядом. Родной… как будто родной… И все же соблюдалось к нему некое недоверие… Парадоксально понятный. Единственный. Единственный, отсекающий множественность…
Но вдруг глаза её открылись. Она бессмысленно уставилась в потолок. Что-то тревожило её. Но что?! Ужас объял её из-за четко промелькнувшей мысли, что это конец — то есть все кончилось в ней и теперь — тишина. Она с ним как под толщей воды. Она счастлива?.. Быть может… Но там!.. В подводном царстве… как аквалангист… но аквалангист, может вырваться наужу, когда захочет. Ей же дан лишь подводный мир… и больше ничего… Ничего нет и не будет — кроме него. А что ей ещё надо? Тупой вопрос.
"Что?! Что же?" — тревожно спрашивала она саму себя, и словно ощупывала внутренним оком свое тело где-то там, в потустороннем мире, где тела нет в принципе и быть не может
— Я искал тебе внешнюю замену… Но ты же знаешь мою манеру все доводить до абсурда… — шептал ей на ухо Кирилл.
— До полного конца. То есть смерти… но не своей, а чужой.
— Но не нашел. — Не обращая внимания на её комментарии, продолжал он объясняться ей в ухо, не ослабляя своих объятий. — То есть — нашел себе женщину… но я и не думал, что с женщинами так скучно жить. Может, это после тебя мне с ними скучно. Чего я только не делал — никуда не рвется. Как я гайки не закручивал — мог бы ещё и еще. Только "деньги давай, деньги давай" и все. Я даю, она откладывает, я даю — снова экономит. И ничего ей не интересно. Лишь разбухает, как нарыв, который обязательно должен лопнуть… Прорваться гноем. Там больше нету ничего, кроме гноя бытовщины! Одним словом, я сам навел её на твою контору.
— Но откуда ты знал?!
— Я?! А за кого ты меня принимаешь?!
— То есть…
— Да чем я хуже тебя?!
— Ты?! Да ты вообще!….мужчина.
— Но как я на твоем аттракционе поразвлекся!.. Так что устал. — Он встал и начал быстро одеваться. Без белой рубашки застегнутой на все пуговицы, он уже не мог чувствовать себя нормально.
— Вот сволочь!
— Устал… Любимая! Зачем тебе творить какой-то частный конец света по заказу. Итак его предсказывают все кому не лень.
— Это кто это ещё его предсказывает?!
— Ты хочешь спросить кто, кромке тебя?
— Да я… да что я… Я, считай, давно уж умерла. А все-все продолжается бесконечно. А я отлетела из мира вещественных доказательств. "Мне нет названий, очертаний нет. Я вне всего, Я — дух, а не предмет".
— Кто это написал? — он схватил галстук и нервно затянул его.
— Суфи. Ибн аль-Фарида.
— Ты с ним сала?
— Не помню.
— Что?!
— Я… Я не помню. Он же жил в средневековье.
— Где энциклопедический словарь?
— Да что ж это за ревность?! Его там нет.
— Но ты же все равно мне жена!
— У тебя теперь другая жена. Я помню — помой посуду… Завтрак… кофе… Я помню, он не должен быть горячим.
— "Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя…" — с горестью глядя на нее, произнес он.
Она растерялась, не зная, что ответить. Она потерялась в его тепле.
Он нежно поцеловал, и потом долго рассматривал её обиженное выражение лица:
— Пожалей меня. Почему ты меня не жалеешь? — обнял он её.
И она почувствовала, как мутится её разум от его обволакивающего тепла.
— Тебя мамочка пожалеет, — процедила она, отстраняясь.
— Замуж вышла мамочка и умотала. У каждого человека свое место, как луза у шара. — Приподнялся он над ней.
— Вот как! А я-то дура!.. Ну… у вас и семейный подряд по части театра! Весело теперь твоей жене. Ты же женился!
— Не расписался я. Так… решил эксперимент провести. А зачем, я так и не понял. Я тебя люблю! Люблю! И буду только тебя! Понимаешь?!
— Угу — кивнула Алина и протянула к нему руки. Он упал на постель. Она быстро расстегнула мелкие пуговички его рубашки, раздела его, оставив лишь в галстуке.
И невозможно было им оторваться друг от друга.
— Ты любишь меня?! Хотя бы как свое поле сражения?!
— Угу… — задумчиво кивала Алина.
Но тут зазвонил телефон. Она перепрыгнула через него. Он попытался ухватить её за ногу, но она увернулась и вместе с трубкой заперлась в ванной.
С щемящей тоской он посмотрел ей вслед.
— Кто это? — спросил Кирилл, когда Алина вышла из ванной.
— По делу.
— Но я тебя спрашиваю, кто звонил? И вовсе не спрашиваю — по какому поводу.
— Что?! — взвилась Алина и застыла, уставившись ему в глаза.
"Это конец! Нет, это конец! — судорожно думала она. — Он вновь затянет меня во все свое, и меня не будет. Я не смогу ничего делать, я должна буду быть только для него и все. И ничего, ничегошеньки я не смогу изменить из того, что зависит от меня. Какое там мое дело! Фирма!.. Черт с ней, но даже Алеше я не могу помочь!"
— Разберись в своих чувствах. — Обиженно вздохнул Кирилл, одеваясь. Только знай. Теперь у нас не будет все как прежде. Ты свободна. Я доверяю тебе… Но должен сказать, что несмотря на то, что ты с поразительной холодностью продумываешь адские аттракционы, твое сердце способно захлестнуть не любовь, а жалость. Поэтому я болел с тобой так отчаянно, зная, что ты отзовешься. Но жалость — это ещё не любовь. Я из любви к тебе не дал тебе этого. — Он положил международную кредитную карточку ей на подушку.
— Что это? — с удивлением смотрела она на нее.
— Это деньги за твой дом. Я не продал его. Я оформил долгосрочную аренду.
— Но почему теперь?! Теперь, когда я не так нуждаюсь?! Почему, уходя тогда, ты посмел напророчить мне, что я умру в одиночестве и нищете, зная, что открыл на меня счет?!
— Потому что не жалел, а любил. Я ждал, когда ты сама… Если бы ты умирала с голоду… Но я только и наблюдал, как — едва захлебнувшись, ты тут же выныриваешь. Я любовался тобой. Я гордился и горжусь. Ты же у нас неиссякаемая. За что и люблю. Вернее разлюбить тебя не могу.
— Сволочь! — вскинулась она, — Убирайся отсюда сейчас же!
— Только вместе с тобой. И ко мне. Я снял отличную квартиру. Нам там хватит пространства. Собирай свой скарб.
— Да пошел ты к черту!
— Я уже почти сутки у чертовки в гостях. И никуда не уйду. Ты блуди, пока не надоест, я подожду. Все равно — каждый заблудший, в конце концов, ищет дорогу домой. Я тоже так блудил. Но теперь все — с этим покончено. Не могу любить многих. Могу любить сильно. Я сильный человек.
— То-то же играешься со мной, как кошка с мышкой.
— Нет. Просто я тебе нужен. Потому что сейчас ты способна сорваться. Ты потерпишь крах в своих чувствах. Я буду при тебе, как часовой при часах.
— Тогда я ухожу!
— Иди — попетляй по судьбе. Иди. Посмотришь, чем это окончится.
— Чем бы ни окончилось — это мое!
— Ты — моя.
— Что?!
— А я твой. — Смягчил он её гнев улыбкой. — Иди. Спасай его. А я подожду.
— Кого?
— Да уж не из тех, кого ты лечишь своими забавами. Его ты не скинешь с парашютом — пожалеешь. Он бьет в свои барабаны, и все ему по барабану. А ты, как птица счастья, ему продукты мешками под дверь подкидываешь. Идеалистка! Хорошо ему — можно вообще окопаться и делать вид что умираешь. Но не быть мужчиной! Потому что мужчина это тот, кто сам. Все сам! И женщину… тоже сам.
— Конечно, и сам ты меня бросил в холод и голод.
— Я, а не ты бросилась? И теперь, сделав выводы, бросаешь?.. А на чем твой бизнес стоит? Вот пойди, и брось его во имя спасения, согласно идее: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Что ж ты его лишаешь возможности сопротивляться самому?
Она не нашла слов в ответ и стала молча одеваться с единственной мыслью — бежать. Бежать все равно куда. Лишь бы бежать. От него, от своего тепла, от все про неё знающего, незаметно заполняющего все её жизненное пространство и время, затягивающего в свою систему сразу и навсегда. Зазвонил телефон:
— Алина, не могу, умираю, хочу тебя видеть! — хрипел с тяжелыми придыханиями голос Карагоза. — Клянусь мамой, просто кофе попьем.
И её даже не тошнило от его слов.
Тут же согласилась пойти с ним на встречу, назначив её в кафе-стекляшке на Бронной, напротив Синагоги и Литинститута. Так было надо — надо бежать, — куда не важно.
— Иди. И ты поймешь, что ни с кем, кроме меня жить не сможешь. Ты не умеешь любить.
— Я просто не путаю любовь с погибелью. А у некоторых слышится, когда они произносят "люблю" — убью! Я же силой любви сражаюсь со смертью. Такой животно-сладостной черной дырой.
— Эх ты, Аника-воин. Я с бинтами постою на краю поля твоего сражения. Но ответь напоследок, ты любишь меня? — удержал он её за локоток уже за дверью.
— Люблю, — с удивлением произнесла Алина, вырвалась и понеслась вниз по лестнице.
ГЛАВА 23
Это было кафе свободных художников, туда не заглядывали ни толстосумы, ни бандиты, ни проститутки.
Карагоз пришел на свидание, одевшись, как он думал, под Алинин стиль весь в черном: в черной, тонкой кожи, куртке, в черных джинсах, водолазке и только ботинки его были светло кремовые, почти белые, как кроссовки.
"Бандит" — очередной раз среагировала Алина на его униформу, и что-то заныло в душе отвращающим ритмом, закружило туман памяти. Шея… линия плеча… куртка сидит на нем, как ватник… ватник… И сладкая, томительная ненависть растворила остатки трезвого поведения. Глядя в его отзывчивые черные глаза, рассказала ему, как жила, жила, тихо, мирно, вроде нормально, и вдруг узнала, что при смерти. Как муж её начал впадать в истерики-скандалы, оттого, что психика его не выдерживала. Ломкая вроде оказалась психика у лидера, фантазера и эгоиста. Привыкшего к тому, что женщины заботятся о нем. Говорила и удивленно вспоминала, неужели ещё и свекровь, теперь вышедшая замуж, умирала когда-то?.. Умирала похлеще её. И она поняла, что не было в том ничего особенного, что все это — обычно, обычно… и сорвалась. Господи, да разве это была она тогда, или сейчас она та самая?…. и казалось ей, что теперь между нею прошлой, домашней, спокойной, эмоционально чувственной женой и теперешней — пролегла пропасть. Пропасть. А тогда, когда она сорвалась с единственным желанием — бежать, потому что при всем своем внутреннем напряжении, и внешней выдержке, не могла молча наблюдать обреченности того, что было для неё обыденным, этого житейского равнодушия… И сорвалась в ледяное равнодушие всеразрушающей лавиной от предсмертной вспышки её личного солнца… И тогда поехала с известным фотокорреспондентом, известным в малоизвестном кругу, черти куда…
Она рассказала все — в подробностях, естественно не упоминая о своем падении в объятия Фомы. О своей жажде утолить муку страха смерти пьяной любовью. Но рассказала все остальное — до той самой встречи в тайге, когда вышли на неё двое… И их тоже скосила мужская истерика, как она теперь это может оценить, а тогда… Тогда… Она хотела умереть, то есть не просто умереть, пасть и умереть, а умереть достойно, не дрогнув, глядя в глаза смерти. Потому и стояла не шелохнувшись, пока бугай развлекался обстреливал её, её абрис… а она истощенная болью…
И тогда, когда осталась одна в безграничном покрытом мраком полярной ночи морозном пространстве, в молчащей тайге, вдруг что-то перевернулось в ней, и она всегда готовая всех понять и всех простить, вдруг резко, раз и навсегда, потеряла желание искать родственную связь с людьми, что встречались ей на пути, поняв, что её мир и их несовместимы на уровне сознания одного человека. И не будет она их никогда совмещать… потому что автоматная очередь разверзла между нею и ими бездонную пропасть. "Я видела, видела, как летят в меня пули, так медленно, словно сонные пчелы. Все было как в замедленном сне. Он метко стрелял, обрисовывая мой силуэт, лишь бы так… попугать, добиться, чтоб сердце мое разорвалось от страха или, быть может, хотел, чтобы я упала на колени и молила его о пощаде. И тогда он, унижаемый зоной, вертухаями и т. п. испытал бы победное удовольствие. Или он хотел меня расстрелять, только пули, словно меняли свой ход, под силой моего неприятия его мира, под силой моего взгляда… Нет… мне трудно об этом… Я ведь уже думала, что проиграла все роли, все спектакли жизни, и хотела умереть. Да. Но не быть расстрелянной, растерзанной каким-то варваром. Это противно. — Говорила она.
ГЛАВА 24
"Аля! Алечка! Замолчи! Руки твои целовать надо, да что там руки, следы!" — страстно шептал он в ответ, — Замолчи, не могу больше, не могу больше.
Она сделала небольшую паузу, прикурив сигарету, едким пращуром заглянула ему в глаза, и выдохнула: — … после этого, ничто уже как бы не касалось меня. Я чувствовала себя так, словно я вся другая. Я обрела космическую отстраненность, и если и вмешивалась в процесс какой-нибудь надвигающейся катастрофы, то без оглядки на других, без объяснений перед всем миром и соседями по жизни… Меня перестало волновать, как меня поймут… потому что мое одиночество больше не тяготило меня. Я ощутила свободу, свободу пусть не тела, но духа и захотела так жить!.. А ведь раньше я всегда ощущала, что я какая-то не такая, что меня никто не понимает, я мучалась и не хотела, подсознательно не хотела, жить, словно стремилась изъять себя из этой жизни, как лишнюю. Главное, не ломаться самой, и тогда ничто и никто не сможет тебя сломить. Почему я должна уступать пространство жизни тем, кто имеет на него точно такое же право, как и я. Не больше. Каждый должен брать свою высоту. Вот с каким чувством я уже ездила по зонам и находила своей теории множественные подтверждения, потому что очень многие, оказавшиеся там, сначала сломались сами… — и ускорив повествование, продолжила своим тихим голосом, резко скомкав все последующие события до смерти новой, а быть может старой, подруги Фомы, до онкологического диспансера. Она говорила, не прерываясь, около часа.
Он смотрел на неё расширенными глазами, глотал ртом воздух, пришептывал на разные лады её имя и пил. Пил по началу красное сухое, а потом, забывшись, заказал себе водку. Пил. А она говорила, говорила, и понимала, что сидит перед нею тот самый — кто в неё стрелял.
Юноша, присевший за соседний столик, поставил магнитофон на соседний стул и, включив его, взяв стакан водки, пил, опустив понуро голову. "Но я хочу быть с тобой! Я так хочу быть с тобой…" — тихо звучала песня. И Карагоз, совершенно обессиленный от переживаний своего прошлого, сопереживания Алине, той самой женщине, что казалась ему видением тогда… — впал в ритм посторонней песни, чуть покачивая понурой головой.
"Что же я делаю! Что же я делаю! Сижу здесь, пью вино, как краснокосыначная агитка тридцатых, режу правду матку тому, кто убил меня однажды, убил меня ту…"
И вдруг испытала неизъяснимое чувство благодарности к этому невменяемому по жизни типу. Невменяемому, потому что он не ведал, что творил на самом деле. Это же он! Нет не он, а он, как спусковой механизм сработал, дав ей иные старты. Он сам не понимал, что он натворил, и теперь прибывал в сентиментальном смятении.
Она на секунду застыла в своих мыслях, как вдруг мысли её лавинным потоком захлестнули: "… что я делаю! Что я вообще здесь делаю! Я же, как пошлый пассажир, севший в поезд, исповедующийся попутчику — прощаюсь… Прощаюсь с пейзажем, который оставляю навсегда. Но я же оставляю в нем Алешу! А он сейчас, не понимая, что все когда-нибудь кончается, сидит, запершись от всех, словно забившись в угол своего одиночества и умирает!…так же, как умирала когда-то я. Если я его не столкну сейчас с мертвой точки — я буду предателем самой себя"
— Да… — качал головою Карагоз, не решаясь признаться ей в том, что это был он, только был он тогда другой, стриженый под машинку, без усов, весь обветренный, промороженный… Да… Какой ты человек! Аля, Алечка, клянусь мамой, ты настоящий человек! Я все, все сделаю для тебя. Жемчугами озолочу. Ты у меня будешь на таких "мерсах" кататься!.. Хочешь, шубу тебе подарю?.. Дорогую самую!..
— Ты уж прости, но неужели ты не понимаешь, что не нужны мне все эти шмотки. Ты всю жизнь свою потратил на то, чтобы их иметь, и девок с барского плеча одаривать мечтал. Да вряд ли одаривал, когда даже было. А у меня все не о том. Понимаешь, мы с разных планет. И мы никогда не поймем друг друга, не смотря на всю эту примирительную демократию.
— Почему? Как это с разных планет?
— Потому. Время такое. Все смешалось, вроде, в одну единую кашу псевдоравенства. А на самом деле, на одной плоскости оказались и первобытные дикари, и шаманы, и комсомольцы, и проститутки, и гопники, и гении, и программисты, компьютерщики, и механические люди, и сибирские купцы, и эльфы… Ты знаешь, как сейчас молодежь разыгрывает в фэнтази Толкина, по его книгам?
Она говорила запальчиво, вроде вглядываясь в глаза собеседника, но в тоже время не замечая как вытягивается его лицо от удивления.
Живет часть молодежи игрой и ничего знать не хочет. Вот так-то — все философские обоснования демократии — что якобы мы равные, и якобы нет между нами границ, а на самом деле между всеми нами стены, огромные неприступные стены непонимания, из разных внутренних законов. Это… как тебе сказать, когда уток у ковров один и рисунок вроде бы один, да основа разная… плотность ее… Ты же не положишь на один прилавок…
И тут образ ковров, как символ трудной кропотливой работы, не просто рук, но и воображения, векового мыслительного процесса человечества, как символ глобального процесса, под который легко подделать современными технологиями нечто внешне похожее, но клееное, рассыпающиеся в течение десятилетий ни во что, застыл у неё перед глазами, как аллегория разницы внутренних людских основ. Она прервала свою пламенную речь на мгновение и продолжила, с сожалением:
— Да, что я тебе об этом говорю… Чушь!.. Ты же знаешь — кто ты. Ты же — вор. Обыкновенный квартирный вор. И плевать тебе на все философии, пусть живут и копят свое богатство, а ты вовремя придешь и экспроприируешь, мол, потому что обижен ты на жизнь. Потому что считаешь, что недодали тебе. Что общего между тобой и мной?.. Лишь случай свел… — сказала она не обидно, а искренне грустно.
— Аля, Алечка!.. Вор ли я, не вор. Да пусть и вор, но я же человек!..
— Человек человеку рознь.
— Пусть, — он глотнул залпом пол стакана водки, и опустил голову. Нет! — и голова его поднялась. Я тебе нужен! Я все для тебя сделаю. Все!
— Да знаю я цену ваших услуг!
— Нет! И приставать к тебе я не буду… если сама меня, как мужчину не захочешь, просто так сделаю, просто! Ты как сестра мне, сестра по душе, сердцем чую, мамой клянусь! Прости меня, прости. Я всю жизнь тебе переменю! Я за все и за всех счастливой тебя сделаю!..
— Конечно, прямо так и сделаешь… — грустно усмехнулась она. — Но если узнаешь, что у меня есть другой мужчина…
— Он любит тебя? Любит?! Если он тебе мозги пудрит, если он…
— Ну что… что тогда ты?
— Я приеду и все ему скажу, он не сможет… Я ему в глаза посмотрю!..
— А… — отмахнулась Алина, — Все не о том…
— А о чем? Ну в чем сейчас твоя печаль?! Скажи, скажи мне, я все — что могу — сделаю.
— Пока я здесь с тобою сижу — человек умирает.
— Какой человек?! Ты любишь его?
— Какая разница — люблю — не люблю. Что с того… он же умирает!
Карагоз заглотнул воздух, тряхнул головой и распрямил свои плечи. Горящими глазами обвел кафе, всех его редких посетителей, закрыл глаза, словно взял себя в руки, наступил на горло собственной песне, встал, подошел к стойке и заказал ещё бутылку водки. Сколько бы он не пил сегодня, а словно и не был пьян. Наполнил свою и её рюмку, на этот раз она, за все это время выпившая лишь стакан сухого вина, не отказалась.
— Хорошо, — как мог спокойнее сказал он, — Скажи, что мне надо делать, чтобы спасти твоего мужчину?
Она обреченно пожала плечами и, не чокаясь с ним, выпила свои пятьдесят грамм.
— Ты видишь, как я к тебе отношусь, если ты любишь его…
— Да причем здесь любовь! — прервала она его, — Он гений! Его нельзя так просто любить, вот как все люди любят друг друга, привязываясь, плотски и губят гениев друг в друге… Он писал великолепные картины, а теперь пишет музыку. Не повеситься ему на шею, а дать свободу, дать возможность дописать. Вот что я хочу!
— А… знаю я этих женщин, пристраиваются к какому-нибудь дураку и талдычат — он гений, гений, а он хам просто! И ноги об них вытирает, а они все: вы ничего не понимаете, гений, гений… Но ведь гений и хамство несовместны!
— Гений и злодейство.
— Нет! Не прав ваш Пушкин! Или язык с тех пор изменился… Хам, он что мужик — ползал, ползал и вдруг поднялся. Облизали его мамки-няньки. Голову поднял. А вот гений — он не ползал никогда.
— То есть, ты хочешь сказать, — не унижался?
— Да кто вас разберет, — унижался — не унижался! Этим… как его холопом не был. Потому что холопами, как и гениями, рождаются. И это… как его… не взаимо-заме-няю-щиеся сосуды. — С трудом произнес свою мысль по слогам, — И каждый на своем месте. А едва не на свое место холоп попадает, бабами, да газетной славой вылизанный недоумков всяких, — тьфу ты! — вот что получается. И что они с ними носятся?! Все надеются, небось, что когда-нибудь он разбогатеет, и они погреются от его славы, думаешь, совсем я темный, думаешь, не знаю я. А он сотворит какую-нибудь фитюльку, пшик, и все вокруг него прыгать должны, ты из таких, что ли?
— Эх ты… дальше своего предела не видишь… И ничем ты мне не поможешь, и не понимаешь меня. И не веришь. — Она хотела было встать и уйти, но он схватил её за руку:
— Нет! Нет! Верю.
— И ничего мне от него не нужно… и дело вообще не в этом. Главное… чтобы музыка жила. Музыка не для удовольствия кого-то, а как вибрация космоса. Неважно — какой живой организм её производит, но тот, кто её производит должен жить, — чтоб музыка жила и обновлялась, иначе мы погибнем, мы задохнемся в сиюминутной пыли. И он должен жить. И я люблю его не больше прочих, я вообще разучилась любить как все… сексуально эгоистической тягой… Любовь для меня не что-то обособленное, не итог, не сладостное забвение, но как воздух, путь… энергия пути. Я знаю, что ему не хватает этой энергии неравнодушия, я знаю, что могу ему помочь, и он нуждается во мне. Оттого и свела нас судьба. Оттого я так пристально… голос её сорвался, и она хрипло прошептала, — …не веришь?
— Верю, верю, — кивал Карагоз и пил, — Что с ним? Какие лекарства нужны?
— Не знаю я — что с ним. Только знаю, как бы это тебе сказать, что он… в общем, нос себе обтесал, обрезал.
— Че-е-го?!
— Ну… вот так. — Не нашлось в ней больше слов.
— И кровь течет?!
Нет. Нос он обрезал давно.
Это что же это за религия новая, что уже обрезание носа делает?!
— Ты не понял. Это, по всей видимости, не совсем религия, а эстетика такая. Хотя у некоторых и эстетика как религия… Бывает. Он произвел на носу, как бы пластическую операцию, ну обрезал все лишнее…
— Как это лишнее?!
— Ну… все, что за прямую линию выпирает.
— Так он сделал пластическую операцию, как Майкл Джексон?
— Считай — да, только сам. Он все делает сам.
— Потому что он гений, — продолжил за нее, кивая, совершенно обескураженный Карагоз.
— Д-да, — с трудом выдавила она из себя.
— Клянусь мамой, кошмар какой-то! — Карагоз вспотел, словно в бане, Может, он не гений, а сумасшедший просто?.. Аля, Алечка, с кем ты связалась! Зачем гению резать нос?
— Какая разница?! — чуть не плакала Алина от его вопросов, — Может, он по стилю ему не подходил. Может, болезнь у него какая, у него все лицо в шрамчиках, может… и я знаю, что он сумасшедший, но гений! Верь!
— Верю, верую! — он смотрел на неё и не мог закрыть парализованный удивлением рот. А она продолжала с глазами полными слез:
— А нос опасно оперировать. Вот у него, наверное, и начался некроз. Понимаешь, некроз! Омертвение тканей! Потом ткани начнут разлагаться… и человек умирает от заражения крови. Я у него, правда, очень давно этот некроз наблюдаю. Но не могу я больше! Я разговаривала с ним вчера. Он между делом сказал, что у него какие-то приступы боли во всем организме. Но хотя он к ним привык — уже все! Хватит! Я чувствую, что промедление смерти подобно!
— Так давай вызовем ему "скорую помощь"! — наконец-таки ощущение реальности вернулось к Карагозу.
— Какую "скорую"?! Он ни кому не верит! Он заперся сидит и умирает! Он никогда никого не попросит о помощи! Никогда!.. Он, может быть, даже сам не знает, о том — что с ним. Просто впал в депрессию… А считает, что это у него дух таким образом аристократизируется.
— Какой ещё дух?
— Ну… как тебе объяснить?! Это кристалл человека, остальное все наросты.
— Короста? Он моется?
— Ледяным душем. Но это лишь механическая тренировка воли.
— А-а — разинул рот Карагоз.
— А заражение крови, знаешь, как проходит, сильная температура, упадок сил… человек может даже не понять, что с ним. Просто хочется лечь и заснуть!
— Так что же надо делать?!
— Надо объяснить ему, что это опасно, что он может умереть. Надо убедить его, что надо лечиться!
— Так объясни! Почему ты ему не объяснила?
— Не могла. Долго пыталась и не могла. Словно трамплин какой… Не могу я с ним об этом. Он так себя ведет, что не позволяет опускаться на… Как бы житейские мелочи. Он не дает даже возможности заговорить о его здоровье… Но сейчас!.. В двух шагах отсюда он живет. А я сижу с тобой и пью!
— Пойдем вместе, я скажу ему сам.
— Да не будет он слушать тебя.
— А кого будет?
— Я сама ему должна сказать. Только он мне дверь не откроет. Он телефонную трубку не поднимает, в такие дни, когда боль начинается. Он никому не открывает дверь!! Я не знаю — как, каким способом заставить его открыть дверь. Я заходила к нему перед встречей с тобой, я стучала… у него нет звонка, просила постучать соседа. Я пыталась обмануть его и, сделав вид, что уехала на лифте, вернулась по лестнице… Бесполезно.
— А он там?
— Да. Он очень аккуратный… И если бы не был там, не звучала бы музыка. Там тихо музыка звучала. "Сванс". Такую не крутят по радио… Я не знаю, как к нему проникнуть, — опустила она голову и тут же резко подняла, — А ты можешь вскрыть замок?!
— Могу.
— Пошли.
— Да ты что! А если он ещё жив! Он заявит в милицию!
— Вот как ты! Человек умирает, а ты милиции трусишь?! Да все эти службы вообще вне его! Они для него не существуют. Это же мне надо проникнуть! Мне! А ты… "все сделаю!.." и тут же струсил!
— Аля-я! Алечка! Да я…
Они шагали по ночной Москве широкими шагами. Преодолев Поварскую, свернули на улицу Неждановой.
Только смотри, предупреждала на ходу Алина, будь поосторожней. Он человек особенный. Сначала постучи, тихо, будто сосед. И… ничего не говори, когда откроет, я сразу подойду сама, а ты — в сторону, а то… он же качок.
— Да видел я этих качков.
— Да… не забудь, он все же не простой, ты… это… пары свои поугась. Он же книги всякие по мистике читает, и вообще он бритоголовый!
— Да видел я этих кришнаитов! Экстрасенсов!..
Две бутылки водки, окромя вина, выпил Карагоз, а словно не в одном глазу. Он был уверен в себе и четок в движениях. Он на все был готов ради этой расстрельной женщины.
ГЛАВА 25
Карагоз с Алиной на лифте поднялись на предпоследний этаж кооперативного дома союза художников.
— Что делать дальше, говори, — спросил её Карагоз, когда они на цыпочках поднялись к окну между этажами.
Она знаками показала ему: "тише" и, в ожидании, когда шум от лифта, забудется в сознании Алеши… если он ещё жив… и все-таки он жив, затаив дыхание, чувствовала она, и достав косметичку начала приводить себя в порядок.
Настал момент, и они поднялись на последний этаж, ступили в туннель длинного коридора, по стенам которого располагались двери живописных студий, подкрались к его черной деревянной двери. Карагоз тихо постучал. Ответа не последовало. За дверью было слышно, как высокогорно распевают свои мантры тибетские монахи. Приглушенные удары в бубны и барабаны… Значит, включен магнитофон. Значит — он там. Алина вдруг, словно воочию, увидела, как он, лежа на черном диване, тихо сдавшись смерти, отходит в мир иной под буддистские заклинания. О нет! Что за покорность судьбе! А как же аристократы духа?! Великое противостояние духа! А рыцари медленно спускающиеся с холмов на восходе солнца?! И солнце так палит за их спинами, что видны лишь черные силуэты на конях, продвигающиеся параллельно к единой цели… И никто не касается друг друга!.. Нет! Так просто сдаться смерти все одно, что погрязнуть в безразличном хаосе! Давай! — махнула Алина рукой и Карагоз, прощупав подушечками пальцев замок, вынул из кармана отмычку.
Не успел вскрыть дверь, как дверь распахнулась и Карагоз, онемев от увиденного им человека, рухнул на колени. Все помешалось в его уме.
На фоне каких-то фантастических конструкций, странно мерцающих в полутьме и голубых лучах направленного света, на фоне пения тяжелых голосов, перед ним стоял начисто лишенный волос, даже безбровый человек-нечеловек в длинном серебристом халате с черной повязкой на носу.
— А-а! Клянусь мамой! Мамой клянусь! — завопил Карагоз, рухнул на колени и гулко стукнулся лбом о пол.
— Что Вам надо?! — Горловым басом выдавил из себя чуть было сам не онемевший от удивления Алексей, и на шаг отступил назад.
— Твоя жизнь в опасности, гуру! — обезумевший Карагоз вновь ударил лбом об пол и прополз несколько сантиметров вперед, Алексей опять отступил.
— Клянусь мамой, мамой клянусь! Гуру, гуру! Твоя жизнь в опасности.
Алина, внутренне готовая ко всему, такого и представить себе не могла, "ой, ай, что ж это с ним?!" — единственное, что приходило ей на ум в процессе взятия мистического бастиона. А Карагоз все бился об пол и бился, Алексей отступал, Карагоз снова продвигался вперед. И когда уж не было видно ей подошв его ботинок, Алина подтянулась, сосредоточилась и вошла в оставшуюся распахнутой дверь. Прогуливающейся походкой, словно не видя никого, обошла Карагоза клянущегося мамой, Алексея, пытающегося показать бицепсы сквозь рукава халата, и утверждающего, что его жизнь в его руках, обогнула по серебряной дорожке скелет оркестра, состоявший из подставок под барабаны и прочего, уселась на диван. И тут, словно туман сошел с её глаз, и чувство реальности вернулось к ней. Алина в голос захохотала.
И хохот её с подвываниями был похож на кошмарный сон о Лысой горе.
Алексей окончательно растерялся.
Под глухие удары Карагоза головой об пол, он обернулся, оттого что не понял — показалось ли ему, что мимо прошла женщина, тень ли… или вправду прошла?.. Он обернулся и словно оглох, от её хохота — он увидел как в немом кино — настоящую древнюю жрицу тайны тайн. В полутьме пышные волосы Алины, светящиеся пропускаемым голубым светом, обрамляли её затененное, с тайным блеском глаз, лицо, а над её головой клубился туманно-серый дымок… Против света лампы она казалась совершенно инфернальным видением. Алексей дрогнул и вновь услышал её хохот!.. Так должна была хохотать птица сирин.
Сознание Алексея и без того переполненное текстами литературы по мистике, на мгновение окончательно помутилось, и он застыл в пол-оборота к бьющему гулкие поклоны и к ней, стараясь удержать в поле зрения их обоих одновременно, как советовал Карлос Кастанеда. Тут влажные руки Карагоза коснулись пальцев его босых ног. И в последний раз, полный немого удивления, взглянув на распростертого пред ним в поклоне пришельца, Алексей схватил его за шкирку, и резким движением вышвырнул в коридор. Захлопнул дверь, провернув замок на два оборота и замер, боясь повернуться. Ведьмаческий хохот за его спиною тут же смолк.
Но тот, что оказался за дверью продолжал биться в её черную плоскость.
— Уходи, — обернулся Алексей к Алине.
Она молчала. Он повторил.
— Я никуда не уйду.
— Ты что, не понимаешь, я никого не хочу видеть. — Он весь дрожал, лоб его покрылся испариной.
— Потому что ты болен. — Мрачно прозвучал её голос.
— Да я болен. Я болен этой болезнью двенадцать лет! Это моя жизнь. И никому не позволяю вмешиваться в мою жизнь.
— А я и не спрашиваю у тебя разрешения — голос её звучал глухо, словно эхо, — Не время спрашивать. Тот, кто действительно нуждается в помощи, не просит о ней.
— Но… я не связываюсь с женщинами, я ни с кем не связываюсь, потому что я не могу нести ответственности… я каждый такой раз жду смерти.
— А я могу нести ответственность.
— Но зачем я тебе?! У меня… у меня рак крови! — и он взглянул в неё глазами полными отчаяния, покорившегося смерти человека.
— О! — даже радостно воскликнула она, — Ну я тебе устрою веселую жизнь! Она вскочила с дивана, потирая руки. Я тебе такое устрою! Такой полтергейст! Ох, ты у меня и полетаешь!..
— Ты что? Ты что говоришь? Ты что не понимаешь?
— Я-то как раз очень хорошо понимаю… Только что с тобой? Почему ты думаешь, что это рак?
— Для меня уже больше десяти лет мука носить одежду. От соприкосновения с ней то тут, то там начинает гореть, потом образуется красное пятно, уплотнение и растет шишка. В этот период меня всего трясет, как от тока. И нет сил ни общаться с людьми, ни говорить по телефону. И когда вырастают эти шишки — становится легче. Я сам научился их вырезать.
Боже мой, Господи, мама мия, — вопило все внутри её, и чувствовала, как губы немеют от его боли, едва представила, как он встает, идет в ванную, берет скальпель и медленно врезается по кругу в собственное тело, вырезая бугорок с корнем. "Без новокаина, с обезболивающим нельзя, иначе не поймешь — все вырезал, или нет…" Коленки её онемели, а сердце словно заливали расплавленной магмой, и вся боль — она продолжала слушать на грани обморока.
— …У меня все тело в шрамах, не только лицо. А нос… мне приходиться замазывать белилами, чтобы не было видно красных рубцов. Я ходил в первый год к врачам, они брали анализы крови, но ничего не нашли. Рак тоже так сразу определить невозможно.
— Это не рак, — с неким прискорбием сообщила Анна, — Это не рак, повторила она, — При раке крови ничего такого не происходит. Просто растет печень, пухнет селезенка, а потом… потом уже поздно… Может, это сифилис? Как это у тебя началось?
Алексей сел на противоположный конец дивана, и долго смотрел ей в глаза, — Знаешь, я ведь раньше совсем другим был, — начал он, — Я был веселым парнем из элитарной, благополучной семьи, художником с отличным образованием, академическим стипендиатом… Мы весело жили тогда — вино, девки, компании… Я был мастером перфоманса. У меня была коллекция лучших костюмов для лондонских денди с начала века, вон она ещё висит, он кивком головы указал на каскад костюмов у выхода из комнаты, покрытых пылью. Нарядился и пошел по улицам шокировать народ. А чего — пописал картинку четыре месяца — и год можно было жить. Однажды, шел дождь, я только что получил деньги за проданную в музей картину, и купил себе в "Березке" дорогой японский зонт, за такими тогда в очередях стояли, деньги на них копили, доставали по блату, а я, когда дождь кончился, сложил его и сунул в урну. Мне нравилось — как я живу. Я был мастер подобных акций в этой тухлой совдепии.
— Ты был её рабом, механическим клоуном. Тебе было необходимо хоть чем-то подцепить её, утрировать её голодные пороки. Вот и она тебя догнала.
— Чем же?
— Больными блядями и бесплатной медициной. Ведь никто не мог тогда определить твою болезнь, потому, как и не было у них такой задачи. Им было все равно — есть ты или нет тебя. Оно надо — надрываться за мизерную зарплату. А ты и поверил им, равнодушным, не проявил должного упорства. Ты сдался. Ты, как и все совдеповцы, думал, что та жизнь, что была — будет продолжаться вечно, и ты будешь играть с её проявлениями, как мальчик с кубиками. Ты не был сам по себе. Иначе бы ты не тратил заработанные деньги на дорогие зонты, ты строил бы жизнь по своей независимой абстракции, а не ради того чтобы шокировать. Но теперь!..
— Оставь в покое мою болезнь. Я благодарен ей. Если бы не она, я так бы и шел по жизни талантливым разгильдяем, и все бы превратилось в ничто. Но за годы одиночества, я столько постиг!.. Ты не можешь себе представить, — насколько по-другому относиться к тому, что ты делаешь, что создаешь, что творишь, когда чувствуешь за спиною тень смерти.
— Знаю, — кивнула она,
— Да откуда ты знаешь? Ты обыкновенная тусовочная журналистка и нет в тебе никакой крутизны.
Господи, — подумала она, закатив глаза к высокому потолку, — ну что же мне так везет, то один по колено в могиле, то другой — и все судят меня. Куда не повернись — уже ждут с ярлыком. Обалдеть!..
— С тех пор… — она не смогла проговорить дальше и несвязанно окончила, — …я иду по жизни затаив дыхание. И я знаю, какой бы я не выбрала путь, все кончаются смертью. Но главное — это качество пути. А оно зависит лишь от того, соответствует ли истинному тебе то, что ты делаешь.
— Но что ты делаешь сейчас!
— То, что соответствует мне — прекратить твои заблуждения. Хватит мучаться! Теперь ты стал другим, ты уже никогда не станешь тем, былым, талантливым шалопаем! Ты уже научился постигать, копать в глубину, относиться к себе и к своей жизни серьезно. Ты теперь должен быть свободен от этого физического ужаса! Чтобы идти дальше той же дорогой! Чтобы творить! Я пришла дать тебе свободу… — полушепотом окончила она.
— Освобождает от всего лишь смерть.
— Нет. Смерть это полное потеря всякой возможности быть. Только жизнь дает шансы явить себя. И я не дам тебе умереть. Умереть — это сдаться. Ты будешь жить.
— Но как? А если это, сифилис, как ты говоришь! Я же заражу тебя! Лучше уходи!
— Опомнился. Да хоть сто раз. От сифилиса теперь можно вылечиться, но это не сифилис… двенадцать лет… нет. Ты бы разложился сто раз за это время. У тебя бы провалился нос, да и сам бы ты стал полным дебилом. А вдруг это такая замедленная чума, и у тебя выступают чумные бубоны? увлекшись, перебирала она.
— Люди добрые, помогите! — носился по коридору тем временем совсем ополоумевший Карагоз.
"Нет, не чума… Я докопаюсь. Иначе, что моя жизнь? Зачем? Зачем надо было побеждать собственную смерть?.. И столько раз её, гоняющуюся за другими?! Я найду название и изничтожу его. Если он не захочет ходить по врачам, я притащу их к нему, если он устанет ходить на обследования, я заражусь от него, и найду причину его кошмара через себя, а потом мы вылечимся вместе. Моя шоковая терапия здесь не поможет — это инфекция… или… Да это же разновидность кандидоза! Точно! Считай, всего-то грибок! Я же все тома этой чертовой медицинской энциклопедии наизусть выучила, пока с Кириллом мучалась. Но лечить такие заболевания приходится долго и трудно. Их действительно не определяли совсем недавно. Но я обязательно вылечу его, потому что иначе быть не должно! "- все вопило у Анны внутри.
— Я не дам тебе умереть. — Сказала она твердо. — Я вылечу тебя назло тебе.
— Но почему?!..
Глухие удары в дверь кулаком заставили Алексея обернуться.
— Гад! Ты ж мне куртку порвал, плати за куртку! Клянусь мамой, плати! — хрипел за дверью, приходящий в себя, полтергейст этого вечера
— Я тоже, был когда-то романтиком, но я реалист. Эти… "Бегущие по волнам" — постоянно доводят до кораблекрушения, — проходя мимо, похлопал его по плечу Кирилл. — За это их и стоит любить. Будь мужчиной.
— Он свободен как ветер! Вор в законе, вот это путь! Герой-одиночка! воскликнул Фома и стукнул себя стаканом по лбу.
— Раньше я думала, что взрослые, это серьезно, а теперь поняла… задумчиво произнесла девочка-подросток по имени Аля, проходя мимо.
— А почему вы не устроитесь на работу, не женитесь, не обеспечиваете свою семью? — озабоченно спросила Ирэн.
— Потому что… — ответила Алина, — не обращая внимания на потусторонние вопли.
— Но какое тебе дело до меня?!.. Это же безнадежно.
— Теперь нет, я от тебя не отступлюсь! Помнишь: "До цели она всегда долетает"
— "До высшей точки" — поправил он её.
— А… это для меня одно и тоже.
— С подобными себе не водится, клюв её направлен вверх… Но это же написано было не о тебе, а об Одинокой Птице, французским монахом-мистиком!
— Эта птица — я.
— Но почему?! — он смотрел на неё отчаянно нежно.
— Потому что… — ей трудно было произнести это слово, но оно вырвалось из её глубин с невероятной силой: — Потому что я люблю тебя.
Музыка… мучительно изнывающая, взлетающая и пронзающая музыка скрипки Страдивари… Прорывающая ткань мощного зова тибетской трубы и медленных ударов в гигантские барабаны и голос… космически одинокого человека среди равнодушно мерцающих звезд.
Бред. Бред!
Истинная правда.
ПОСТФАКТУМ
Гул в мозгу становился нестерпимым, тело вибрировало каждой клеточкой. Кто-то подтолкнул её в спину, повязка с глаз слетела, но зрение обволокло пеленой, и она зажмурилась. Ледяной воздух шлифовал слух и кожу, словно наждачной бумагой. Что-то дернуло её так, что перетряхнуло все позвонки, так что показалось — зависла она на крюке, и наступила невероятная тишина, и она прозрела. Под ней простирались холмы, покрытые хвойными лесами, проплешинки полян… ручейками казались реки… И показалась она себе богом, ясным спокойным богом, который вот-вот станет простым человеком.
— И куда ж она теперь? Кругом же сопки, — с облегчением вздохнул, едва увидел, как парашют Алины раскрылся, и прокричал на ухо Кириллу его бывший водитель, а теперь исполнительный директор, той самой конторы, которую проворонила Алина, запутавшись в своих чувствах то ли любви, то ли роли спасателя к Алексею. (Впрочем, "любить" и "спасать" — почти одно и тоже, для людей, живущих в России — все спасают друг друга, иногда даже не понимая — отчего и зачем.)
— Спокойно! — уже твердым голосом хирурга костоправа рявкнул Кирилл, У меня по всему Алтаю под каждым кустом свой юродивый или дервиш сидит. Выведут её на буддистский храм. Пусть пожует их вонючую конину. Дождусь я, как она от экзотики не озвереет. Приготовься! Сейчас высадка у храма. Достань из рюкзака тряпки. Эту — монашескую хламиду. Давай-давай, крутись! Не запутайся! Выходим и действуем молниеносно — придется разом всем ламам мозги свихнуть, дабы одной, но любимой, черт побери, женщине мозги вправить. Итак — запомни: теперь мы воплощение истинного Будды
КОНЕЦ ДВАДЦАТОГО ВЕКА.



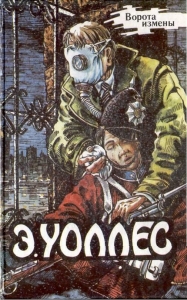

Комментарии к книге «Опоенные смертью», Елена Сулима
Всего 0 комментариев