Стивен Кинг Команда скелетов (сборник)
© Stephen King, 1985
© AST Publishers, 2014
* * *
Туман
Глава 1. Буря
[1]
Вот как это произошло. В июле 19.. года, в ту ночь, когда на севере Новой Англии наконец прошла самая страшная за всю ее историю полоса жарких дней, в западном регионе штата Мэн разразилась невиданная по силе буря.
Мы жили на Лонг-лейк и заметили, как первые порывы бури бьют по глади озера перед самым закатом. За час до этого наступил полный штиль. Американский флаг, что мой отец повесил над нашим лодочным сараем еще в 1936 году, безвольно приник к штоку, и даже его края не колыхались. Жара стояла плотная, почти осязаемая и, казалось, такая же глубокая, как неподвижная вода в бухте. После обеда мы все втроем ходили купаться, но даже в воде не было спасения, если не уходить на глубину. Но ни Стеффи, ни я не хотели этого делать из-за Билли. Ему всего пять.
В полшестого мы перебрались на верхнюю террасу с видом на озеро и принялись за холодный ужин, без всякого энтузиазма ковыряя картофельный салат и пережевывая бутерброды с ветчиной. Никто, похоже, не хотел ничего, кроме пепси-колы, стоявшей в железном ведерке с кубиками льда.
После ужина Билли отправился играть на турникет. Мы со Стеффи продолжали сидеть на террасе, почти не разговаривали и курили, посматривая через угрюмое плоское зеркало озера в сторону Харрисона на противоположном берегу. Деревья там стояли пыльные и пожухшие. На западе, словно армия перед наступлением, собирались огромные фиолетовые грозовые тучи, среди которых то и дело вспыхивали молнии. И каждый раз радиоприемник нашего соседа Брента Нортона, настроенный на станцию, что постоянно передает с Вашингтон-хилл классическую музыку, откликался громкими раскатами статики. Нортон вел адвокатскую практику в Нью-Джерси, и на Лонг-лейк у него был только летний коттедж без печки и без утепления. Два года назад у нас с ним возник конфликт из-за границы участков, дело дошло до суда, и я выиграл. Нортон утверждал, что я выиграл только потому, что он нездешний, и с тех пор отношения между нами оставались довольно прохладными.
Стефф вздохнула и принялась обмахивать грудь верхним краем купальника. Не думаю, что ей стало намного прохладнее, но зато мне стало видно гораздо больше.
– Не хочу тебя пугать, – сказал я, – но, думаю, скоро начнется сильная буря.
Она посмотрела на меня с сомнением:
– Вчера тоже были тучи, и позавчера, Дэвид. Но они разошлись.
– Сегодня не разойдутся.
– Ты уверен?
– Если буря будет очень сильной, нам придется спуститься вниз.
– А насколько сильной, ты думаешь, она будет?
Мой отец первым построил на этой стороне озера настоящий дом, где можно было жить круглый год. Еще мальчишкой он с братьями поставил на том месте, где сейчас дом, летний коттедж, но в 1938 году буря разрушила его до основания, даже каменные стены не уцелели. Остался только лодочный сарай. Через год он начал строить этот дом. Обычно больше всего разрушений приносят деревья. Они умирают, и ветер вырывает их с корнем. Видимо, таким образом природа периодически наводит у себя порядок.
– Не знаю, – сказал я, что в общем-то было правдой, поскольку о большой буре тридцать восьмого я слышал только рассказы. – Но ветер с озера может разогнаться, как скорый поезд.
Чуть позже вернулся Билли, жалуясь, что играть на турникете неинтересно, потому что он «весь взмок». Я взъерошил ему волосы и открыл для него еще одну бутылку пепси. Можно сказать, прибавил работы нашему дантисту.
Тучи подбирались ближе, распихивая голубизну неба в стороны. Никаких сомнений, что будет буря, у меня не осталось. Нортон выключил свой радиоприемник. Билли, зачарованно глядя на небо, сидел между нами. Медленно прокатившись над озером и вернувшись эхом назад, прогремел гром. Тучи вились и перекатывались: черные, фиолетовые, полосатые и снова черные. Вскоре они нависли над озером, и я увидел, как из них посыпалась тонкая завеса дождя. Но пока еще дождь был далеко. То, что мы видели, проливалось, может быть, над Болстерс-Миллс или над Норвеем.
Зашевелился воздух, неуверенно поднял флаг, затем снова отпустил. Но становилось свежее, и вскоре ветер окреп, сначала охладив наши потные тела, а чуть позже, как стало казаться, просто начав их замораживать.
Вот в этот момент я увидел бегущий по озеру серебристый смерч. За несколько секунд пелена дождя закрыла собой Харрисон и двинулась прямо на нас. Моторные лодки к тому времени уже все ушли.
Билли вскочил со своего кресла – миниатюрной копии наших «директорских» с его именем на спинке.
– Папа! Смотри!
– Пойдем в дом, – сказал я, встал и положил руки ему на плечи.
– Но ты видишь? Пап, что это?
– Водяной смерч. Пойдем.
Стефф бросила на меня короткий удивленный взгляд и сказала:
– Пойдем, Билли. Папу надо слушаться.
Мы прошли в гостиную через раздвижные стеклянные двери, после чего я закрыл их на защелку и остановился, глядя наружу. Серебристая завеса уже прошла три четверти пути через озеро, превратившись в бешено крутящуюся воронку между оседающим черным небом и поверхностью воды цвета свинца с потеками чего-то белого. Озеро делалось похожим на океан, высокие волны бежали на берег, фонтанами брызг разбиваясь о причалы и волнорезы. В середине же озера волны вскипали перекатывающимися белыми гребнями.
Смерч завораживал. Он подобрался почти к нашему берегу, когда молния полыхнула так ярко, что еще, наверное, с полминуты я видел все, как на негативной пленке. Телефон испуганно звякнул. Я обернулся и обнаружил, что жена с сыном стоят напротив большого панорамного окна с видом на северо-западную часть озера.
И тут меня посетило одно из тех ужасных видений, что, наверное, уготованы лишь мужьям и отцам: стекло, взрывающееся внутрь с тяжелым, похожим на кашель треском; кривые стрелы осколков, летящие в обнаженный живот жены и в лицо сына. Никакие ужасы инквизиции не сравнятся с судьбами близких людей, которые может нарисовать обеспокоенное воображение.
Я схватил их обоих за руки и рывком оттащил от окна.
– Что вы встали тут, черт побери? Марш отсюда!
Стефф посмотрела на меня удивленно, а Билли выглядел так, словно его только что пробудили от глубокого сна. Я отвел их на кухню и включил свет. Снова коротко звякнул телефон.
И тут налетел ветер. У меня создалось впечатление, что дом взлетает, словно «Боинг-747». Где-то засвистело высоко и протяжно, срываясь на басовый рев перед тем, как снова плавно перейти в пронзительный визг.
– Идите вниз, – сказал я Стефф, но теперь приходилось кричать, чтобы меня услышали. Прямо над домом захлопал, словно громадными досками, гром. Билли вцепился в мою ногу.
– Ты тоже иди! – крикнула в ответ Стефф.
Я кивнул и махнул рукой, прогоняя их. С трудом оторвал Билли.
– Иди с мамой. Я хочу на всякий случай найти свечи.
Он пошел за ней вниз, а я принялся рыться в ящиках. Странные штуки эти свечи. Кладешь их каждую весну в определенное место, зная, что из-за летней бури может нарушиться энергоснабжение, но, когда приходит время, они прячутся.
Четвертый ящик. Пол-унции «травки», что мы со Стефф купили четыре года назад и с тех пор почти не трогали, заводные игрушечные челюсти, купленные для Билли в магазине новинок; куча фотографий, которые Стефф давно уже собиралась наклеить в семейный альбом. Я заглянул под толстенный торговый каталог и пошарил рукой за резиновой куклой, сделанной в Тайване. Куклу я выиграл, сбивая кегли теннисными мячами…
Свечи, все еще упакованные в полиэтиленовую обертку, оказались за этой самой куклой со стеклянными неживыми глазами. Как раз в тот момент, когда я их нащупал, свет погас, и электричества, кроме того, что бушевало в небе, не стало. Гостиную то и дело озаряло сериями частых белых и фиолетовых вспышек. Я услышал, как внизу заплакал Билли и Стефф начала говорить ему что-то успокаивающее.
Мне захотелось еще раз взглянуть на непогоду за окном.
Смерч или уже прошел, или иссяк, добравшись до берега, но все равно дальше двадцати ярдов на озере ничего не было видно. Вода буквально кипела. Мимо пронесло чей-то причал – видимо, Джессеров, – то разворачивая сваями вверх, то вновь скрывая его под бурлящей водой.
Как только я спустился вниз, Билли снова обхватил меня за ноги. Я взял его на руки и прижал к себе, потом зажег свечи. Сидели мы в комнате для гостей, через коридор от моего маленького кабинета. Сидели, глядя друг на друга в мигающем желтом свете свечей, и слушали, как буря воет снаружи и бьется в наш дом. Минут через двадцать послышался сухой треск рвущегося дерева, и мы поняли, что где-то рядом упала одна из больших сосен. Затем наступило затишье.
– Все? – спросила Стефф.
– Может быть, – сказал я. – А может быть, еще нет.
Все втроем мы поднялись наверх, каждый со свечой в руке, словно монахи, идущие на вечернюю молитву. Билли нес свою свечу осторожно, но с гордостью: нести свечу, то есть огонь – для него это много значило. И помогало забыть, что ему страшно.
В комнате не хватало света, чтобы разглядеть, какой ущерб нанесен дому. Билли уже давно было пора спать, но ни я, ни Стефф не стали предлагать ему укладываться. Мы просто сидели в гостиной, слушали ветер и наблюдали за молниями.
Примерно через час ветер снова начал крепчать. В течение предыдущих трех недель держалась температура около девяноста градусов[2], и шесть раз за эти двадцать с лишним дней станция Национальной метеорологической службы в Портленд-Джетпорте сообщала, что температура перевалила за сто. Невероятная погода. Плюс суровая зима, плюс поздняя весна – и люди опять заговорили о том, что все это последствия испытаний атомных бомб в пятидесятых годах. Об этом и еще, разумеется, о конце света. Самая старая из всех баек.
Второй шквал оказался не таким сильным, но мы услышали, как падают несколько деревьев, ослабленных первой атакой ветра. И, когда ветер начал уже совсем стихать, одно из них рухнуло на нашу крышу. Билли подскочил и с опаской поглядел на потолок.
– Он выдержит, малыш, – сказал я.
Билли неуверенно улыбнулся.
Около десяти налетел последний шквал. Ветер взревел так же громко, как в первый раз, а молнии, казалось, засверкали прямо вокруг нас. Снова падали деревья. Недалеко от воды что-то рухнуло с треском, и Стефф невольно вскрикнула. Но Билли продолжал спать у нее на коленях.
– Дэвид, что это было?
– Я думаю, лодочный сарай.
– О Боже…
– Стеффи, пойдем вниз. – Я взял Билли на руки и встал.
Стефф смотрела на меня большими испуганными глазами.
– Дэвид, все будет хорошо?
– Да.
– Правда?
– Да.
Мы отправились вниз. И через десять минут, когда шквал достиг максимальной силы, сверху донесся грохот и звон разбитого стекла: разлетелось панорамное окно. Так что привидевшаяся мне сцена, может быть, вовсе и не была столь нелепой. Стефф, которая к тому времени задремала, вскрикнула и проснулась. Билли заворочался на постели для гостей.
– Комнату зальет дождем, – сказала она. – Мебель испортит…
– Испортит – значит испортит. Мебель застрахована.
– Мне от этого не легче, – произнесла она расстроенно. – Шкаф твоей матери… Наш новый диван… Цветной телевизор.
– Ш-ш-ш, – сказал я. – Спи.
– Не могу, – ответила она, но минут через пять уснула.
Я не ложился еще с полчаса, оставив для компании одну горящую свечу, и сидел, слушая, как бродит, бормоча, снаружи гром. Нетрудно было представить себе, как завтра утром множество людей, живущих вокруг озера, начнут вызывать своих страховых агентов, как зажужжат бензопилы владельцев домов, чьи крыши и окна порушило падающими деревьями, как на дорогах появятся оранжевые машины энергокомпании.
Буря стихала, и вроде бы нового шквала не предвиделось. Оставив Стефф и Билли, я поднялся наверх посмотреть, что стало с комнатой. Раздвижная дверь выдержала, но там, где было панорамное окно, в стекле зияла рваная дыра, из которой торчали ветки березы – верхушка старого дерева, стоявшего во дворе у входа в погреб с незапамятных времен. И я понял смысл реплики Стефф, когда она сказала, что ей не легче от того, что у нас все застраховано. Я любил это дерево. Много суровых зим мы пережили с ним – единственным деревом на нашем берегу, которое я никогда даже не думал спиливать. В лежащих на ковре больших кусках стекла многократно отражалось пламя свечи, и я подумал, что нужно будет обязательно предупредить Стефф и Билли: оба они любили шлепать по утрам босиком.
Я пошел вниз. В ту ночь мы все трое спали на кровати для гостей, мы со Стефф по краям, Билли между нами. И мне снилось, будто я вижу, как по Харрисону, на другом берегу, идет Бог. Такой огромный, что выше пояса он терялся в чистом голубом небе. Во сне я слышал хруст и треск ломающихся деревьев, которые Бог вдавливал в землю огромными ступнями. Он шел по берегу, приближаясь к Бриджтону, к нам. Дома, коттеджи, беседки на его пути вспыхивали фиолетово-белым, как молнии, пламенем, и вскоре все вокруг затянуло дымом. Белым, похожим на туман дымом.
Глава 2. После бури. Нортон. Поездка в город
– О-о-о! – вырвалось у Билли.
Он стоял у забора, отделявшего нас от участка Нортона, и смотрел вдоль подъездной аллеи, ведущей к нашему дому. Аллея эта, длиной около четверти мили, выходит на грунтовую дорогу, которая через три четверти мили, в свою очередь, выходит на двухрядное шоссе, называющееся Канзас-роуд. Оттуда уже вы можете ехать куда угодно или по крайней мере до Бриджтона. Я взглянул в ту же сторону, куда смотрел Билли, и у меня похолодело сердце.
– Ближе не подходи, малыш. Даже здесь уже слишком близко.
Билли спорить не стал.
Утро было ясное и чистое, как звук колокола. Небо, сохранявшее, пока стояла жара, какой-то размытый пористый вид, вернуло свою глубокую, свежую, почти осеннюю голубизну. Дул легкий ветерок, от которого по дороге весело бегали чередующиеся пятна солнечного света и теней от деревьев. Недалеко от того места, где стоял Билли, из травы доносилось шипение, и на первый взгляд могло показаться, что там извивается клубок змей: ведущие к нашему дому провода оборвались и лежали теперь беспорядочными витками всего в двадцати футах от нас на участке выжженной травы. Изредка они лениво переворачивались и плевались искрами. Если бы пронесшийся ливень не промочил деревья и траву столь основательно, дом мог бы загореться. А так траву выжгло лишь на почерневшей проплешине, где спутались провода.
– Лектричество может убить человека, пап?
– Да. Может.
– А что мы будем с ним делать?
– Ничего. Подождем машину энергокомпании.
– А когда они приедут?
– Не знаю. – У пятилетних детей вопросов бывает хоть отбавляй. – Думаю, сегодня утром у них полно забот. Хочешь пройтись со мной до конца аллеи?
Он двинулся за мной, потом остановился, с подозрением глядя на провода. Один из них выгнулся и лениво перевернулся, словно приманивая к себе.
– Пап, а лектричество может пройти через землю?
Справедливый вопрос.
– Да, но не беспокойся. Электричеству нужна земля, а не ты. Все будет в порядке, если ты не станешь подходить близко.
– Земля нужна… – пробормотал он, подбежав ко мне, и мы, взявшись за руки, пошли вдоль аллеи.
Все оказалось несколько хуже, чем я ожидал. В четырех местах на дорогу упали деревья: одно маленькое, два средних и еще одно совсем старое, толщиной, наверное, футов в пять, облепленное мхом, словно гнилым корсетом.
Ветки с наполовину ободранными листьями валялись повсюду, и мы с Билли дошли до самой грунтовой дороги, отбрасывая те, что были не очень большие, обратно в заросли. Все это напомнило мне события одного летнего дня, случившиеся около двадцати пяти лет назад. Я тогда, видимо, был не старше чем Билли сейчас. В тот день собрались все мои дяди и с самого утра ушли в лес с топорами и резаками вырубать кустарник. После работы все уселись за стол на козлах, что мои родители держали на улице, и уничтожили чудовищное количество сосисок, пирожков с мясом и картофельного салата. Пиво лилось рекой, и дядя Рубен нырнул в озеро прямо в одежде и в ботинках. В те дни в лесу еще водились олени.
– Пап, можно, я пойду к озеру?
Он устал бросать ветки, а когда ребенок устает что-то делать, единственный разумный способ занять его – это разрешить делать что-то другое.
– Конечно.
Мы вместе вернулись к дому, и оттуда Билли побежал направо, обогнув дом и упавшие провода по широкой дуге, а я пошел налево. К гаражу, где хранился мой «маккаллох». Как я и предвидел, вдоль всего берега озера уже запели свою заунывную песню бензопилы соседей. Я залил бак пилы горючим, снял рубашку и двинулся было к аллее, но тут, озабоченно глядя на повалившиеся деревья, вышла из дома Стефф.
– Как там?
– Справлюсь. Как дома?
– Я убрала стекла, но, Дэвид, ты должен сделать что-нибудь с березой. Дерево в гостиной будет нам мешать.
– Пожалуй, ты права, – сказал я.
Мы посмотрели друг на друга и расхохотались, стоя под яркими лучами утреннего солнца. Я поставил пилу на бетонированную площадку у крыльца и поцеловал Стефф, крепко обхватив ее за ягодицы.
– Не надо, – прошептала она. – Билли…
В тот же момент он выскочил из-за угла дома.
– Папа! Папа! Иди посмотри…
Стеффи заметила оборванные провода и закричала, чтобы он был осторожнее. Билли, бежавший достаточно далеко от них, остановился и поглядел на свою мать так, словно она сказала какую-то глупость.
– Все в порядке, мама, – произнес он таким тоном, каким люди обычно успокаивают очень старых и глупых, и двинулся к нам, демонстрируя, что с ним действительно все в порядке.
Я почувствовал, как Стефф задрожала.
– Не волнуйся, – сказал я ей на ухо. – Я его предупредил.
– Да, но людей постоянно убивает током, – сказала она. – По телевизору все время предупреждают про оборванные провода, но люди… Билли, немедленно иди домой.
– Да ладно тебе, мам! Я хочу показать папе лодочный сарай. – Глаза его просто лезли из орбит от возбуждения и обиды. Преисполнившись ощущения апокалипсиса, принесенного бурей, он хотел теперь им поделиться.
– Иди домой! Эти провода опасны и…
– Папа сказал, что им нужна земля, а не я…
– Билли, не спорь со мной!
– Я сейчас приду посмотрю, малыш. Ты пока беги. – Я почувствовал, как напряглась Стефф. – С другой стороны дома.
– Ага. Ладно.
Он пронесся мимо нас, перескакивая через две ступеньки по лестнице, огибающей дом с западной стороны. Рубашка вылезла у него из брюк; он скрылся за углом, и вскоре оттуда донеслось еще одно «О-о-о!», свидетельствующее о том, что он обнаружил новые следы разрушения.
– Он знает про провода, Стеффи, – сказал я, положив руки ей на плечи. – Он их боится, и это хорошо, потому что так он будет в безопасности.
По щеке ее скатилась слеза.
– Я тоже боюсь, Дэвид.
– Ну что ты. Все уже кончилось.
– Ты уверен? Зима была плохая… И поздняя весна… В городе ее называют Черной Весной, говорят, такого в здешних местах не было с 1888 года…
«Говорят» – это наверняка имеется в виду миссис Кармоди, владелица «Бриджтонского антиквариата», магазинчика со всяким хламом, куда Стефф иногда заглядывала. Билли всегда с радостью ходил с ней. Там, в глубине магазинчика, в одной из темных пыльных комнат «жили» чучела сов с окаймленными золотым блеском глазами, навсегда расправившие крылья и ухватившиеся лапами за полированные сучья; трио енотов, стоящих у «ручья», сделанного из длинного куска покрывшегося пылью зеркала; и даже изъеденное молью чучело застывшего в леденящем душу вечном молчаливом рыке волка, из пасти которого вместо слюны падали опилки. Миссис Кармоди уверяла, что волка еще в 1901 году застрелил ее отец, когда зверь пришел напиться у ручья Стивен-Брук.
Эти экспедиции в антикварную лавку доставляли и жене, и сыну массу удовольствия. Стефф отводила душу, перебирая стеклянные украшения, а Билли изучал «смерть во имя таксидермии». Однако мне всегда казалось, что старуха довольно неприятным образом влияет на здравомыслие Стефф, которая во всех других отношениях была практична и рациональна. Старухе просто удалось найти ее слабое место, ахиллесову пяту ее разума. Впрочем, в городе Стефф оказалась не единственным человеком, кого миссис Кармоди сумела приворожить своими готическими предсказаниями и народными рецептами (которые всегда прописывались именем Божьим).
Вода из гнилого пня поможет вам избавиться от синяков под глазами, если ваш муж из тех, кто после третьего стакана распускает руки. Зиму предсказать вы сможете, сосчитав в июле количество сегментов на гусеницах или измерив толщину пчелиных сот в августе. А сейчас, Боже спаси и сохрани, вновь наступила ЧЕРНАЯ ВЕСНА 1888 ГОДА (восклицательных знаков проставьте, сколько вам захочется). Я тоже слышал эту историю. Ее здесь любят рассказывать: если весна будет достаточно холодная, лед на реке станет черным, как гнилой зуб. Редкое, конечно, явление, но едва ли из тех, что случаются раз в столетие. Тем не менее все эту историю рассказывают, но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, кроме миссис Кармоди, мог рассказывать ее с такой убедительностью.
– Была обычная плохая зима, потом поздняя весна, – сказал я. – Теперь наступило жаркое лето. И прошла буря, но теперь все кончилось. Ты всегда умела рассуждать здраво, Стефани.
– Это была не обычная буря, – сказала она все тем же хриплым голосом.
– Хорошо. Здесь я с тобой соглашусь.
Рассказ о Черной Весне мне довелось услышать от Билла Джости, владельца и в некотором смысле управляющего «Мобил Джости» в Каско-Виллидж. Под его началом работали трое пьяниц-сыновей (которым, когда они могли оторваться от своих снегоходов и мотоциклов, помогали четверо пьяниц-внуков). Биллу стукнуло семьдесят, выглядел он на восемьдесят, но пить, когда на него находило настроение, мог, как двадцатитрехлетний. Мы с Билли как-то, когда в наших краях в середине мая неожиданно выпало около фута мокрого тяжелого снега, покрывшего молодую траву и цветы, гоняли к нему на заправку наш «скаут». Билл был «под газом» и с удовольствием выдал нам свою версию истории про Черную Весну. Но в этих местах действительно иногда выпадает снег в мае, выпадает и тает через два дня. Ничего особенного.
Стефф снова с сомнением поглядела на упавшие провода.
– Когда приедут люди из энергокомпании?
– Как только смогут. Скоро. И не беспокойся о Билли. У него голова на месте. Он, может быть, иногда забывает убрать на место свою одежду, но, уверяю тебя, он не будет бегать посреди проводов под напряжением. Он прекрасно понимает, что такое опасность. – Я коснулся пальцем уголка ее губ, и он послушно двинулся чуть вверх, рождая улыбку. – Уже лучше?
– Когда я поговорю с тобой, мне всегда становится лучше, – сказала она, и от этого мне тоже стало лучше.
– Тогда пойдем осмотрим развалины.
– Для этого, – фыркнула она, печально улыбнувшись, – мне достаточно пройти в гостиную.
– Ну тогда просто доставь малышу удовольствие.
Держась за руки, мы двинулись вниз по каменным ступеням и только дошли до первого поворота, как навстречу нам, едва не сбив нас с ног, вылетел Билли.
– Ты что так носишься? – спросила Стефф, чуть нахмурясь. Может быть, ей представилось, как он, поскользнувшись, влетает в этот страшный клубок искрящихся проводов.
– Идите скорее! – задыхаясь, закричал Билли. – Лодочный сарай раздавило! Пристань выкинуло на камни, а в бухте деревья. Черт знает что!
– Билли Дрэйтон! – негодующе воскликнула Стефф.
– Ой, больше не буду, мам… Идите скорее… Там… – И он снова исчез.
– «Произнеся мрачное пророчество, он удалился», – сказал я, и Стефф рассмеялась. – Давай я, как только распилю деревья на дороге, сгоняю в контору «Энергоцентрала Мэна» на Портленд-роуд и расскажу им, что у нас тут случилось? О’кей?
– О’кей, – сказала она обрадованно. – Когда ты сможешь поехать?
Если не считать того большого дерева в корсете из мха, работы было от силы на час. Но с ним я не рассчитывал справиться раньше одиннадцати.
– Тогда я принесу тебе ланч. Но ты должен будешь заехать в магазин кое-что купить… У нас почти кончилось молоко и масло. И потом… Короче, я напишу тебе список.
Проходит стихийное бедствие, и женщина начинает вести себя как белка. Обняв ее за плечи, я кивнул, и тут мы дошли до угла дома. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, от чего Билли пришел в такое возбуждение.
– Боже, – слабым голосом произнесла Стефф.
С небольшой возвышенности, где мы стояли, отлично просматривалось почти четверть мили побережья: участок Биббера слева от нас, наш собственный и участок Брента Нортона направо.
Огромная старая сосна, что охраняла нашу лодочную гавань, сломалась посередине. То, что от нее осталось, торчало из земли, словно неаккуратно заточенный карандаш, и поблескивающая древесина на изломе казалась беззащитно белой по сравнению с потемневшей от времени и непогоды корой. Верхняя же половина старой сосны, около ста футов длиной, рухнула и наполовину ушла под воду в нашей мелкой бухте. Нам здорово повезло, подумал я, что наш «Стар-Крузер» не затонул под ней: неделю назад мотор катера начал барахлить, и я отогнал его в Нейплс, где он до сих пор терпеливо дожидался ремонта.
На другом конце нашего маленького участка берега под еще одним повалившимся деревом стоял лодочный сарай, построенный еще моим отцом. Сарай, в котором когда-то, когда состояние семейства Дрэйтонов было значительнее, чем сейчас, хранился шестидесятифутовый «Крис-Крафт». Тут я увидел, что упавшее дерево росло на участке Нортона, и меня охватило негодование. Это дерево высохло еще лет пять назад, и Нортону давно следовало его свалить. Теперь же оно упало само, и подпирал его только наш сарай с перекошенной, словно пьяной, крышей. Тонкие доски из пробитой деревом дыры разбросало ветром по всему берегу. Когда Билли сказал, что сарай «раздавило», он не сильно погрешил против истины.
– Это дерево Нортона! – сказала Стефф, и в голосе ее чувствовалось такое негодование, что я улыбнулся, несмотря на собственную боль в душе.
Шток с флагом упал в воду, и промокший «звездно-полосатый» плавал там же вместе с запутавшимся шнуром. Я представил себе ответ Нортона: «А ты подай на меня в суд!»
Билли забрался на волнорез, разглядывая выброшенный на камни причал в голубую и желтую полоску. Оглянувшись через плечо, он радостно закричал:
– Это, наверное, причал Мартинсов, да?
– Он самый, – сказал я. – Большой Билл, как насчет того, чтобы слазить в воду и выудить флаг?
– Сейчас!
Справа от волнореза был маленький песчаный пляж. В 1941 году, перед тем как Пирл-Харбор заплатил за Великую Депрессию большой кровью, мой отец нанял человека привезти сюда хорошего песка для пляжа – целых шесть самосвалов – и раскидать его до глубины, чтобы мне было примерно по грудь, то есть футов пять. Человек запросил за работу восемьдесят долларов, и песок так и остался на берегу. Что, может быть, и к лучшему: сейчас запрещают устраивать на своей земле пляжи. После того как сточные воды растущих предприятий, занимающихся изготовлением и строительством коттеджей, убили почти всю рыбу в озере, а выжившую есть стало небезопасно, Управление по охране окружающей среды запретило частные пляжи, якобы потому, что они нарушают экологический баланс озера, и теперь для всех, кроме крупных подрядчиков, их устройство незаконно.
Билли полез за флагом. И остановился. В тот же момент я почувствовал, как насторожилась Стефф, и заметил причину сам. Весь берег со стороны Харрисона исчез под полосой яркого белого тумана, похожего на облако из тех, что бывают в ясный, погожий день.
Снова вспомнилось приснившееся прошлой ночью, и, когда Стефф спросила, что это может быть, я чуть не сказал: «Бог».
– Дэвид?
Даже намека на береговую линию не было видно, но за долгие годы жизни здесь я столько раз смотрел на противоположный берег Лонг-лейк, что мне казалось, будто ровная, словно по линейке вычерченная полоса тумана сползла на воду всего на несколько ярдов.
– Что это, папа? – крикнул Билли, стоя по колено в воде и пытаясь дотянуться до вымокшего флага.
– Туман.
– На озере? – с сомнением спросила Стефф, и я увидел в ее глазах отблеск влияния миссис Кармоди. Черт бы побрал эту старуху! Мой собственный испуг уже проходил: сны в конце концов штука столь же бесплотная, как и сам туман.
– Ну да. Ты никогда раньше не видела тумана на озере?
– Такого – никогда. Он больше похож на облако.
– Это от яркого солнечного света, – сказал я. – То же самое можно увидеть, пролетая над облаками на самолете.
– Но откуда он взялся? Туман бывает здесь только в сырую погоду.
– Как видишь, не только. По крайней мере в Харрисоне. Это всего лишь последствия бури. От столкновения двух воздушных фронтов. Или что-нибудь еще в таком же духе.
– Ты уверен, Дэвид?
Я рассмеялся, обхватив рукой ее шею.
– Нет, на самом деле я несу что в голову придет. Если бы я был уверен, то читал бы прогноз погоды в шестичасовых новостях. Беги, готовь список покупок.
Она еще раз с сомнением поглядела на меня, потом на полосу тумана, заслоняя глаза от солнца ладонью, и покачала головой.
– Странно все это, – сказала она и пошла к дому.
Для Билли это необычное природное явление быстро потеряло свою новизну. Он вытащил из воды флаг вместе со спутанным шнуром и расстелил его на лужайке сушиться.
– Пап, я слышал, что флагу нельзя касаться земли, – сказал он деловым тоном, словно решил прямо сейчас разобраться до конца в этом вопросе.
– Н-да?
– Да. Виктор Макалистер сказал, что людей за это сажают на лектрический стул.
– Ты скажи этому Виктору, что у него в голове то, от чего трава хорошо растет.
– Навоз? – Билли всегда отличался сообразительностью, но с чувством юмора у него было похуже. В таком возрасте они все воспринимают всерьез, и я надеюсь только, что он проживет достаточно долго и успеет понять, что относиться так к нашему миру довольно опасно.
– М-м-м, да, но только не говори маме, что это тебе сказал я. Когда флаг высохнет, мы его уберем. Можем даже положить его для верности в ковбойскую шляпу.
– Пап, а мы починим сарай? Новый флагшток поставим? – Впервые за это утро он выглядел озабоченно. Видимо, на какое-то время панорама разрушений ему надоела.
– Ты слишком торопишься, – сказал я, похлопывая его по плечу.
– Можно, я пойду к Бибберам, посмотрю, что там у них?
– Только на пару минут. Они, видимо, тоже заняты расчисткой, а в такие минуты люди иногда бывают здорово злы. – Приблизительно такое чувство я испытывал к Нортону.
– О’кей. Я пошел. – Он бросился бежать.
– Не приставай к ним, малыш. И, Билли…
Он остановился и обернулся.
– Помни про провода. Если ты где-нибудь увидишь другие провода, держись от них подальше.
– Ладно.
Я остался стоять, глядя на разрушенный сарай, потом посмотрел на полосу тумана. Мне показалось, что он приблизился, но за это я бы не поручился. Если он приближался, то опровергал все законы природы, потому что ветер – легкий бриз – дул с нашей стороны, и такого просто не могло быть. Туман был белым-белым. Единственное, с чем я мог его сравнить, это с только что выпавшим снегом, ослепительно контрастирующим с глубокой голубизной зимнего неба. Но снег всегда отражает тысячи и тысячи алмазных лучиков солнца, а этот странный яркий и чистый туман не блестел совсем. Несмотря на то что говорила Стефф, туман в ясные дни не такое уж редкое явление, но, когда его много, от взвешенной в воздухе влаги почти всегда возникает радуга. Сегодня радуги не было.
Снова вернулось какое-то тяжелое предчувствие, но не успело оно окрепнуть, как я услышал низкое механическое «чух-чух-чух», за которым последовало едва слышное: «Дьявол!» Механический звук повторился, но человек смолчал. В третий раз за кашляющим звуком мотора последовало: «Чтоб тебя!..», произнесенное тем же тоном. Тоном человека, решившего самостоятельно справиться с трудной задачей и быстро в этом решении разочаровавшегося.
«Чух-чух-чух-чух…»
Молчание.
Потом: «Зараза!»
Я невольно улыбнулся. Звук хорошо разносится здесь, жужжащие бензопилы были далеко, и я без труда узнал не особенно приятный голос моего соседа, известного адвоката и владельца участка на берегу озера, Брента Нортона.
Спустившись ближе к воде, я сделал вид, что просто иду к причалу, выброшенному на наш волнорез. Отсюда Нортона уже было видно. Он стоял на усыпанной старыми сосновыми иглами прогалине у веранды, одетый в заляпанные краской джинсы и спортивную майку. Его сорокадолларовая прическа совершенно потеряла форму, а по лицу стекал пот. Стоя на одном колене, он пытался завести свою бензопилу. Его агрегат выглядел гораздо дороже и солиднее моей модели за 74.95. Там, казалось, было все, кроме кнопки стартера, и он безуспешно дергал за трос, добиваясь лишь вялого «чух-чух-чух». В глубине души я даже немного обрадовался, увидев, что на его стол, предназначенный для пикников, упала желтая береза и разломила его на две части.
Нортон снова рванул трос стартера.
«Чух-чух-чухчухчух-ЧОХ!ЧОХ!ЧОХ!.. ЧОХ! Чух».
Почти удалось, приятель.
Еще один рывок, достойный Геркулеса.
«Чух-чух-чух».
– Скотина! – яростно прошептал Нортон, осклабившись на свою шикарную бензопилу.
Я вернулся, чувствуя себя по-настоящему хорошо в первый раз за все утро. Моя пила завелась с первого же рывка, и я принялся за работу.
* * *
Около десяти кто-то постучал меня по плечу. Я обернулся и увидел Билли с банкой пива в одной руке и списком, составленным Стефф, в другой. Засунув список в задний карман джинсов, я взял у него банку пива, не то чтобы совсем ледяного, но по крайней мере холодного, и одним глотком махнул сразу половину (редко пиво кажется таким вкусным), потом поднял банку в сторону Билли.
– Спасибо, малыш.
– А мне можно чуть-чуть?
Я дал ему сделать глоток. Он скорчил физиономию и вернул мне банку. Я допил оставшееся и едва успел остановить себя, чтобы не смять банку посередине. Закон о наценке на бутылки и банки действовал уже три года, но от старых привычек не так легко избавиться.
– Она что-то приписала внизу, но я не смог разобрать ее почерк, – сказал Билли.
Я достал листок из кармана. «Никак не поймаю «ВОКСО» по радио, – написала Стефф. – Может, после бури они не могут выйти в эфир?»
«ВОКСО» – местная автоматическая станция, транслирующая рок-музыку в длинноволновом диапазоне. Станция передает из Норвея, что примерно милях в двадцати к северу, но это почти все, что берет наш старый слабенький приемник.
– Скажи маме: «Может быть», – поручил я Билли, предварительно прочитав ему сам вопрос. – И пусть она попробует поймать Портленд на коротких волнах.
– О’кей. Пап, а мне можно будет поехать с тобой в город?
– Конечно. И тебе, и маме, если она захочет.
– О’кей. – Он бросился к дому с пустой банкой в руке.
Добравшись наконец до большого дерева, я сделал первый пропил, затем заглушил пилу, чтобы дать ей немного остыть. Дерево на самом деле было для нее слишком большим, но я полагал, что справлюсь, если не буду пороть горячку. Потом я подумал, расчищена ли дорога, ведущая к шоссе Канзас-роуд, и как раз в этот момент в просвете между деревьями мелькнул оранжевый грузовик энергокомпании, видимо, направляющийся в дальний конец нашего маленького отрезка дороги. Значит, все в порядке: к полудню, можно надеяться, люди из энергокомпании будут у нас и займутся проводами. Потом я отпилил большой кусок ствола, оттащил его к краю дороги и столкнул. Он скатился вниз и исчез в кустарнике, вновь разросшемся после того, как мой отец и его братья, тоже художники, вырубили его в тот далекий летний день. Мы, Дрэйтоны, всегда были семьей художников.
Я стер пот с лица и подумал, что было бы неплохо выпить еще пива: одна банка только растравляет душу. Затем снова взялся за пилу, но меня продолжали преследовать тревожные мысли насчет «ВОКСО». Именно оттуда надвигался этот странный туман. И там же был городок Шеймор (местные жители произносили его название «Шемор»), где размещался «Проект “Стрела”».
Этот самый «Проект “Стрела”» служил у Билла Джости основой еще одной его версии так называемой Черной Весны. В западной части Шеймора, недалеко от того места, где город граничит со Стонхемом, действительно находилась принадлежащая правительству земля, обнесенная колючей проволокой. Зона охранялась часовыми, телекамерами по периметру и Бог знает чем еще. Так я по крайней мере слышал.
Сам я этого места не видел, хотя старое шоссе на Шеймор примерно милю идет вдоль восточной границы обнесенной территории. Никто не знал, откуда, собственно, взялось название «Проект “Стрела”», и никто не мог сказать с уверенностью, действительно ли это название проекта и ведутся ли там вообще какие-нибудь работы. Однако Билл Джости утверждал, что ведутся, но, когда я спросил его, каким образом и откуда он это узнал, тот начал крутить. Якобы его племянница работает в телефонной компании «Континентал» и слышит порой разные вещи. В таком вот духе.
– Это все атомные дела, – сказал он как-то, наклонившись к окошку «скаута» и дохнув на меня мощным пивным духом. – Вот этим они там и занимаются. Атомы в воздух пуляют и все такое.
– Мистер Джости, в воздухе и так полно атомов, – влез в разговор Билли. – Так сказала миссис Нири. Она говорила, что атомов везде полно.
Билл Джости уставился на моего сына долгим взглядом своих покрасневших глаз, отчего Билли в конце концов сник.
– Это совсем другие атомы, сынок.
– А-а-а, да… – пробормотал Билли, не вступая в спор.
Дик Мюллер, наш страховой агент, говорил, что «Проект “Стрела”» – это опытная сельскохозяйственная станция, выполняющая работу для правительства, ни больше ни меньше.
– Крупные томаты, способные плодоносить более длительное время, – изрек Дик глубокомысленно и вернулся к разъяснениям того, как я могу наиболее эффективным образом помочь своей семье, умерев молодым.
Дженина Лоулесс, почтальонша, уверяла, что там ведется геологоразведка, якобы ищут сланцевое масло. Она это точно знала, потому что брат ее мужа работал у человека, который…
Миссис Кармоди… Она, пожалуй, больше склонялась к мнению Билла Джости: не просто атомы, а другие атомы.
Я отпилил еще два куска большого дерева, потом снова пришел Билли с банкой в одной руке и запиской от Стефф в другой. Если и есть какое-нибудь дело, которое Большой Билл любит больше, чем бегать с поручениями, то я просто не представляю, что бы это могло быть.
– Спасибо, – сказал я, забирая у него пиво и записку.
– А мне можно будет глоток?
– Только один. В прошлый раз ты сделал два. Я не могу допустить, чтобы ты бегал пьяный в десять утра.
– Уже четверть одиннадцатого, – сказал он, смущенно улыбаясь над краем банки. Я улыбнулся в ответ: не бог весть какая смешная шутка, но Билли пытается шутить так редко. Затем я прочитал записку.
«Поймала «Джей-ви-кью», – писала Стефф. – Не напивайся, пока не съездишь в город. Я разрешу тебе еще одну банку, но до ланча это все. Как ты думаешь, дорога свободна?»
Я отдал Билли записку и отобрал пиво.
– Скажи маме, что с дорогой все в порядке, потому что я видел, как прошел грузовик энергокомпании. Скоро они доберутся и сюда.
– О’кей.
– Малыш?
– Что, пап?
– Скажи маме, что все в порядке.
Он снова улыбнулся, словно сначала повторил это про себя, сказал: «О’кей» – и бросился бегом к дому.
Я стоял и глядел ему вслед, глядел, как он изо всех сил толкает ногами землю, как мелькают подошвы его кед. Я люблю его. Что-то есть в его лице и иногда в том, как он смотрит на меня, от чего мне начинает казаться, что в жизни все в порядке. Конечно, это ложь: в нашем мире никогда не бывает все в порядке и никогда не было. Но мой сын дает мне возможность поверить в эту ложь.
Я отпил немного пива, осторожно поставил банку на камень и снова взялся за пилу. Минут через двадцать кто-то легонько постучал меня по плечу, и я обернулся, ожидая снова увидеть Билли. Но оказалось, это Брент Нортон, и я заглушил пилу.
Выглядел он совсем не так, как выглядит обычно. Он был потный, уставший, несчастный и немного ошарашенный.
– Привет, Брент, – сказал я.
Последний раз мы с ним разговаривали довольно резко, и я не знал, как себя вести. У меня появилось забавное ощущение, что он стоял в нерешительности за моей спиной последние минут пять и старательно прочищал горло под агрессивный рев бензопилы. Этим летом я его даже толком не видел. Он сбросил вес, но выглядеть лучше не стал. Должен был, потому что фунтов двадцать он на себе носил явно лишних, но тем не менее не стал. Жена его умерла в прошлом ноябре. От рака, как сообщила Стефф Агги Биббер, которая все в этих случаях знает. В каждой округе есть такие. Из того, как Нортон обычно изводил и унижал свою жену (делая это с легкой презрительностью матадора-ветерана, всаживающего бандерильи в тело старого неуклюжего быка), я заключил, что он будет даже рад этой развязке. Если бы меня спросили, я мог бы предположить, что на следующее лето он появится под руку с девицей лет на двадцать моложе его и с глупой сальной улыбкой на лице. Но вместо глупой улыбки у него лишь прибавилось морщин, и вес сошел как-то не в тех местах, где нужно, оставив мешки, складки и наплывы, рассказывающие совсем другую историю. На какое-то мгновение мне захотелось отвести его на солнце, усадить рядом с упавшим деревом, дать ему в руку мою банку пива и сделать угольный набросок портрета.
– Привет, Дэйв, – ответил он после продолжительного неловкого молчания, показавшегося еще глубже без треска и грохота бензопилы. Он помолчал еще, потом буркнул: – Это чертово дерево… Извини. Ты был прав.
Я пожал плечами, и он добавил:
– Еще одно дерево упало на мою машину.
– Сочувствую… – начал было я, и тут у меня возникло ужасное подозрение. – Неужели на «ти-берд»?
– Да. На нее.
У Нортона был «тандерберд» шестидесятого года выпуска в идеальном состоянии, который пробегал всего тридцать тысяч миль. В этой машине, окрашенной снаружи и внутри в темно-синий полуночный цвет, он ездил только летом, да и то редко. Своего «берда» он любил, как некоторые любят, скажем, игрушечные железные дороги, или модели кораблей, или свой пистолет для стрельбы в цель.
– Паршиво, – сказал я совершенно искренне.
Он медленно покачал головой.
– Я чуть было не передумал. Собирался ехать на другой машине, а потом спросил себя: «Какого черта?» – и поехал на этой… И ее придавило старой гнилой сосной. Крышу всю смяло внутрь. Думал, распилю. Дерево, я имею в виду… Но эта зараза-пила не заводится… Я заплатил за нее две сотни долларов, а она…
Он издал горлом какой-то странный звук. Губы его шевельнулись, словно у беззубого старика, пережевывающего даты прошлого. Секунду мне казалось, что он вот-вот заплачет беспомощно, как ребенок в песочнице, но он кое-как справился с собой, пожал плечами и отвернулся, будто бы поглядеть на отпиленные мною куски ствола.
– Ладно, пилу твою посмотрим, – сказал я. – «Ти-берд» застрахован?
– Да, – ответил он. – Как и твой сарай.
Я понял, что он имеет в виду, и вспомнил, что говорила о страховке Стефф.
– Послушай, Дэйв, может быть, ты одолжишь мне свой «сааб» сгонять в город? Я хочу купить хлеба, каких-нибудь закусок и пива. Много пива.
– Мы с Билли собрались в город на «скауте», – сказал я. – Если хочешь, можешь поехать с нами. Только тебе придется помочь мне оттащить с дороги то, что осталось от дерева.
– С удовольствием.
Он ухватился за один конец ствола, но даже не смог приподнять его, и почти всю работу пришлось делать мне. Но в конце концов нам удалось скинуть сосну в заросли внизу. Нортон пыхтел и никак не мог отдышаться, щеки его стали совсем пунцовыми. А перед этим он еще столько раз дергал стартер своей пилы, что я начал немного беспокоиться, не случилось бы у него что-нибудь с сердцем.
– О’кей? – спросил я, и он кивнул, все еще часто дыша. – Тогда пойдем к дому. Угощу тебя пивом.
– Спасибо, – сказал он. – Как Стефани?
Видимо, к нему стала возвращаться его старая гладкая манерность, за которую я его недолюбливал.
– Все хорошо, спасибо.
– А сын?
– Он тоже в порядке.
– Рад слышать.
Из дома вышла Стефф, и на секунду на ее лице застыло удивление, когда она увидела, с кем я иду. Нортон улыбнулся, ползая взглядом по ее плотно обтягивающей грудь кофточке. Все-таки он не сильно изменился.
– Привет, Брент, – сказала она настороженно, и из-под ее руки тут же высунул голову Билли.
– Привет, Стефани. Привет, Билли.
– «Тандерберд» Брента здорово потрепало в бурю, – сообщил я. – Он говорит, придавило крышу.
– Да как же это?..
Потягивая наше пиво, Нортон рассказал свою историю еще раз. Я пил уже третью банку, но у меня даже в голове не шумело: видимо, все тут же выходило с потом.
– Он поедет в город с нами.
– Наверное, на это уйдет какое-то время. Может быть, вам придется заехать в магазин в Норвее.
– Почему?
– Ну, если в Бриджтоне нет электричества…
– Мама сказала, что все кассовые аппараты работают на лектричестве, – пояснил Билли.
Что ж, справедливо.
– Ты еще не потерял список?
Я похлопал себя по заднему карману, и Стефф перевела взгляд на Нортона.
– Мне было очень жаль, когда я узнала про Карлу. Нам всем было жаль…
– Спасибо, – сказал он. – Спасибо вам.
Затем наступил еще один период неловкого молчания, которое нарушил Билли.
– Мы уже можем ехать, папа? – Он успел переодеться в джинсы и кроссовки.
– Да, пожалуй. Ты готов, Брент?
– Если можно, еще одно пиво на дорожку, и я готов.
Стефф чуть нахмурилась. Она никогда не одобряла ни подобных привычек, ни мужчин, которые водят машину, зажав между ног банку с пивом. Я едва заметно кивнул, и она, пожав плечами, принесла Нортону еще одну банку. Я не хотел сейчас спорить с ним.
– Благодарю, – сказал он Стеффи, даже не благодаря на самом деле, а только пробормотав это слово, словно разговаривал с официанткой в ресторане. Потом повернулся ко мне: – Вперед, Макдафф!
– Я сейчас, – сказал я, направляясь в гостиную.
Нортон двинулся за мной, начал охать по поводу березы, но в тот момент меня не интересовали ни его впечатления, ни стоимость нового стекла. Я смотрел в сторону озера через окно, выходящее на террасу. Ветер немного окреп, и, пока я пилил деревья, стало теплее градусов на пять. Я думал, странный туман, что мы видели утром, наверняка разойдется, но этого не произошло. Более того, он стал ближе, добравшись уже до середины озера.
– Я тоже его заметил, – сказал Нортон с важным видом. – Надо думать, это какая-то температурная инверсия.
Мне это не понравилось. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Отчасти меня беспокоила удивительно прямая линия фронта наступающего тумана, потому что в природе не бывает таких ровных линий: прямые грани – это изобретение человека. Отчасти же настораживала его ослепительная белизна, непрерывная и без влажного блеска. До тумана теперь оставалось всего полмили, и контраст между ним и голубизной неба и озера стал еще более разительным.
– Поехали, пап! – Билли потянул меня за штанину.
Мы все вернулись на кухню, и по пути Нортон еще раз окинул взглядом дерево, вломившееся в нашу гостиную.
– Жалко, что это не яблоня, а? – сострил Билли. – Это моя мама сказала. Здорово, да?
– Твоя мама просто прелесть, Билли, – сказал Нортон, взъерошив его волосы машинальным жестом, и его взгляд снова вернулся к кофточке Стефф. Нет, определенно он не тот человек, который мог бы мне понравиться.
– Слушай, а почему бы тебе не поехать с нами, Стефф? – спросил я. Сам не знаю почему, я вдруг не захотел ее оставлять.
– Нет, я, пожалуй, останусь и займусь сорняками в саду, – ответила она. Взгляд ее скользнул к Нортону, потом снова на меня. – Сегодня утром, похоже, я здесь единственная машина, которой не требуется электричество.
Нортон рассмеялся, слишком громко и неискренне. Я понял, что она хочет сказать, но на всякий случай попробовал еще раз.
– Ты точно не поедешь?
– Точно, – ответила она твердо. – И потом, немного упражнений мне не повредит.
– Ладно, только на солнце долго не сиди.
– Я надену соломенную шляпу. К приезду наделаю вам сандвичей.
– Отлично.
Она подставила щеку для поцелуя.
– Осторожнее там… На Канзас-роуд тоже могут быть поваленные деревья.
– Буду осторожен.
– И ты тоже, – сказала она Билли и поцеловала его в щеку.
– Хорошо, мама. – Он вылетел на улицу, с грохотом захлопнув дверь.
Мы с Нортоном вышли за ним.
– Может, нам отправиться к тебе и перепилить это дерево, что упало на твою машину? – спросил я, неожиданно для себя начав придумывать тысячи причин, чтобы отложить поездку в город.
– Не хочу даже смотреть на него до тех пор, пока не перекушу и не приму еще пару вот таких, – сказал Нортон, поднимая банку с пивом. – Что случилось, то уже случилось, Дэйв, старина.
То, что он назвал меня так, мне тоже не очень понравилось.
Мы забрались все втроем на переднее сиденье «скаута», и я задним ходом выехал из гаража, в дальнем углу которого поблескивал мой побитый топор, напоминая о грядущем Рождестве. Под колесами машины захрустели сорванные бурей ветки. Стефф стояла на бетонной дорожке, ведущей к грядкам в западном конце нашего участка. В одной руке, уже натянув перчатки, она держала садовые ножницы, в другой тяпку для прополки. На голову она надела старую мятую соломенную шляпу, и лицо ее было в тени. Я дал два коротких гудка, она помахала в ответ рукой, в которой держала ножницы, и мы выехали на дорогу.
С тех пор я больше не видел свою жену.
По дороге до Канзас-роуд один раз нам пришлось остановиться. Видимо, уже после того, как проехал грузовик энергокомпании, поперек дороги упала довольно большая сосна. Мы с Нортоном выбрались из машины и, вымазав все руки в смоле, отодвинули ее ровно настолько, чтобы «скаут» мог проехать. Билли тоже хотел помочь, но я махнул ему рукой, чтобы сидел в машине: я боялся, что он выколет себе глаз о какой-нибудь сучок. Старые деревья всегда напоминали мне энтов из замечательной саги «Властелин колец» Толкина, только злых энтов. Старые деревья всегда стараются навредить. Не важно, пробираетесь ли вы через чащу на снегоступах, катаетесь на лыжах или просто гуляете в лесу, они стараются это сделать, и мне иногда кажется, они убивали бы, если б могли. Шоссе Канзас-роуд оказалось свободным от завалов, но в некоторых местах мы видели оборванные провода, а примерно в четверти мили за туристским лагерем «Викки-Линн» в канаве лежал весь столб, у верхушки которого толстые провода спутались, словно в какой-то дикой прическе.
– Однако нам досталось от погоды, – сказал Нортон своим гладким, оттренированным на судебных заседаниях голосом, но сейчас он не работал на публику, а просто, видимо, был озабочен.
– Да уж.
– Смотри, папа!
Билли показывал на остатки сарая Элличей. Двенадцать лет подряд он устало оседал на задворках фермы Томми Эллича, весь заросший одуванчиками, золотарником и незабудками. Каждую осень я думал, что он не переживет зиму, но каждую весну он стоял на том же месте. А теперь его не было. Остались лишь обломки да скелет крыши почти без досок. Что называется, дожил свой век. Почему-то при этой мысли мне померещилось что-то многозначительное, даже зловещее, хотя всего-то: пришла буря и снесла сарай начисто.
Нортон допил пиво, раздавил банку рукой и, не задумываясь, бросил ее на пол «скаута». Билли открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрыл. Молодец. Нортон жил в Нью-Джерси, где закон о бутылках и банках не действовал. Да и грех было выговаривать ему за то, что он раздавил мои пять центов, когда я сам порой забываю не делать этого.
Билли принялся крутить ручки радиоприемника, и я попросил его проверить, не вернулись ли в эфир «ВОКСО». Он прогнал движок до конца длинноволнового диапазона, но, кроме нудного гудения, ничего не поймал, и я попытался вспомнить, какие еще станции располагались по ту сторону этого странного тумана.
– Попробуй «ВБЛМ», – сказал я.
Он прогнал движок в другую сторону, пройдя через передачи еще двух станций. Эти передавали как обычно, но «ВБЛМ», основная станция в Мэне, специализировавшаяся на прогрессивном роке, молчала.
– Странно, – сказал я.
– Что странно? – спросил Нортон.
– Нет, ничего. Просто мысли вслух.
Билли вернулся к одной из музыкальных станций, и довольно скоро мы приехали в город.
Прачечную «Нордж» в торговом центре закрыли, поскольку без электричества в автоматической прачечной делать нечего, но бриджтонская аптека и супермаркет «Федерал фудс» работали. Как всегда в середине лета, на автостоянке перед супермаркетом было полно машин, и среди них много с номерами других штатов. Тут и там на солнцепеке стояли небольшие группки людей, видимо, обсуждали бурю, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами.
Я заметил миссис Кармоди, повелительницу чучел и проповедницу воды из трухлявого пня. Одетая в ослепительный канареечного цвета брючный костюм, она вплыла в двери супермаркета. Сумка, размерами похожая скорее на чемодан, висела у нее через руку. Потом какой-то идиот в джинсовой куртке, зеркальных очках и без шлема с ревом пронесся мимо меня на «ямахе», едва не задев передний бампер.
– Вот глупая скотина! – прорычал Нортон.
Я объехал стоянку по кругу, подыскивая место получше. Мест не было, и я уже совсем решился на долгую прогулку пешком из дальнего конца стоянки, когда мне повезло: из ряда, ближайшего ко входу в супермаркет, начал выбираться «кадиллак» размерами с автобус. Как только он освободил место, я мгновенно его занял.
Список покупок я вручил Билли. Хотя ему всего пять, он умеет читать печатные буквы.
– Бери тележку и начинай. Я попробую позвонить маме. Мистер Нортон тебе поможет. Я скоро.
Мы выбрались из машины, и Билли сразу же схватил Нортона за руку. Мы давным-давно приучили его не ходить по автостоянке без взрослых, и он до сих пор не забыл этой привычки. Нортон сначала удивился, но потом улыбнулся, и я почти простил ему то, как он ощупывал глазами Стефф.
Я двинулся к телефону на стене между аптекой и прачечной. Какая-то, видимо, изнемогающая от жары женщина в фиолетовом купальнике стояла у телефона и непрерывно дергала за рычаг. Остановившись за ее спиной, я сунул руки в карманы, размышляя, почему я так волнуюсь за Стефф и почему это волнение как-то связано с линией белого матового тумана, замолчавшими радиостанциями и «Проектом “Стрела”».
Женщина с обгоревшими, покрытыми веснушками полными плечами выглядела как вспотевший оранжевый ребенок. Она швырнула трубку на рычаг, повернулась к аптеке и тут заметила меня.
– Не тратьте деньги. Одно только «ту-ту-ту», – сказала она раздраженно и пошла прочь.
Я чуть не хлопнул себя по лбу. Конечно же, где-нибудь оборвало и телефонные провода. Часть из них проложена под землей, но ведь далеко не все. На всякий случай я попробовал позвонить. Телефоны-автоматы в здешних местах из тех, что Стефф называет «параноидными». Вместо того чтобы сразу опустить туда десять центов, вы сначала слышите гудок, потом набираете номер. Когда кто-то отвечает, телефон автоматически отключает звук, и вы должны срочно, пока там не повесили трубку, запихивать свою монету. Это раздражает, но в тот день я действительно сэкономил десять центов. Как сказала дама в купальнике, только «ту-ту-ту».
Я повесил трубку и, направившись неторопливым шагом к супермаркету, успел как раз вовремя, чтобы стать свидетелем одной забавной сценки. Престарелая чета, разговаривая на ходу, двигалась к двери, помеченной «Вход», и, все так же разговаривая, они натолкнулись на толстое стекло. Разговор оборвался, и женщина удивленно вскрикнула. Потом они комично переглянулись, рассмеялись, и старик с некоторым усилием открыл дверь, пропуская вперед жену. Эти автоматические двери с фотоэлементами довольно тяжелые, и когда электричество пропадает, оно подводит нас в сотне различных ситуаций.
Так же оттолкнув дверь, я вошел в магазин и первым делом заметил, что не работает кондиционирование. Летом кондиционеры тут включают так, что, если пробудешь в магазине больше часа, наверняка что-нибудь себе отморозишь.
Как все современные супермаркеты, «Федерал» больше всего напоминал лабиринт, где волей современной техники торговли все покупатели превращаются в подопытных белых крыс. То, что вам действительно нужно, например, такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, пиво, замороженные обеды, – все это находится в самом дальнем конце магазина, и, чтобы попасть туда, вы должны пройти мимо того, что покупается под влиянием момента, мимо всех ненужных предметов, начиная от зажигалок и кончая резиновыми костями для собак.
Сразу у входной двери начинался отдел фруктов и овощей. Я оглядел проход, но ни Нортона, ни Билли не увидел. Старушка, та самая, что врезалась в дверь, внимательно изучала грейпфруты, а ее муж держал в руках сетку для продуктов.
Я двинулся вдоль стеллажей, потом свернул налево и нашел их только в третьем проходе, где Билли остановился в задумчивости перед упаковками желе и концентрата для пудинга. Нортон стоял у него за спиной, заглядывая в список в таком замешательстве, что я невольно улыбнулся.
Я стал пробираться к ним мимо наполовину загруженных тележек (очевидно, Стефф была не единственной, у кого сработал «беличий» инстинкт) и обирающих стеллажи покупателей. Нортон выбрал две банки начинки для пирога и положил их в тележку.
– Как успехи? – спросил я, и Нортон оглянулся с видом явного облегчения.
– Все в порядке. Да, Билли?
– Конечно, – сказал Билли и, не удержавшись, добавил довольно ехидным тоном: – Правда, здесь записано еще много такого, что мистер Нортон тоже не смог разобрать.
Возле каждого пункта, что они с Билли выполнили, Нортон поставил по-адвокатски аккуратную галочку – примерно с полдюжины, включая молоко и упаковку кока-колы. Оставалось еще с десяток различных продуктов.
– Придется нам вернуться во «Фрукты и овощи», – сказал я. – Маме нужны помидоры и огурцы.
Билли принялся разворачивать тележку, когда Нортон сказал:
– Ты лучше посмотри, какая там очередь, Дэйв.
Я пошел смотреть. Такое можно иногда увидеть лишь в газете на фотографии с какой-нибудь забавной подписью в дни, когда им больше нечего печатать. Работали только две кассы, и двойная очередь людей с покупками тянулась мимо почти опустевших хлебных стеллажей, загибалась вправо и исчезала из виду за рефрижераторами с замороженными продуктами. Новенькие компьютеризованные кассовые аппараты стояли под чехлами, а на контроле две уже измучившиеся девушки подсчитывали стоимость покупок на батареечных калькуляторах. Рядом с ними стояли два менеджера супермаркета, Бад Браун и Олли Викс. Олли мне всегда нравился больше, чем Бад Браун, который, как мне кажется, считал себя неким Шарлем де Голлем мира универмагов.
Когда каждая из девушек заканчивала подсчет, Бад или Олли подкалывали листки с суммой к банкнотам или чекам покупателей и бросали их в специальный ящик. Все четверо, похоже, взмокли и устали.
– Надеюсь, ты захватил с собой хорошую книгу, – сказал Нортон, присоединяясь ко мне. – Мы, видимо, простоим долго.
Я снова подумал о Стефф, оставшейся дома в одиночестве, и снова испытал какое-то неуютное чувство.
– Ты иди пока подбирай, что тебе нужно, – сказал я, – а мы с Билли справимся с остальными покупками.
– Для тебя прихватить пива?
Я подумал и решил, что, несмотря на некоторое наше сближение, мне совсем не хочется провести вторую половину дня, напиваясь с Брентом Нортоном. Слишком много было дел дома.
– Спасибо, нет, – сказал я. – Как-нибудь в другой раз, Брент.
Его лицо чуть заметно посуровело.
– О’кей, – коротко ответил он и пошел за покупками. Я посмотрел ему вслед, но тут Билли потянул меня за рубашку.
– Ты говорил с мамой?
– Нет. Телефон не работает. Надо полагать, телефонные провода тоже пооборвало.
– Ты волнуешься за нее?
– Нет, – солгал я. Я действительно волновался, сам не понимая почему. – Нет, конечно. А ты?
– Не-е-е… – Но он тоже волновался, и по его лицу это было заметно.
Нам следовало бы ехать домой сразу. Но даже тогда, может быть, уже было поздно.
Глава 3. Туман
Пробираясь обратно к фруктам и овощам, я чувствовал себя, словно лосось, сражающийся с течением. Стали попадаться знакомые лица: Майк Хатлен, один из членов городского управления, миссис Репплер, учительница начальных классов (гроза нескольких поколений третьеклассников с улыбкой разглядывала стеллаж с дынями), миссис Терман, которая иногда оставалась посидеть с Билли, когда мы со Стефф отправлялись куда-нибудь вдвоем. Но в основном здесь собрались люди, приехавшие на лето: они запасались не требующими приготовления продуктами и перебрасывались шутками насчет «суровых условий», в которых приходится проводить отпуск. Отдел копченостей и прочих закусок они подчистили так же основательно, как, бывает, подчищают стенды с десятицентовыми книгами в день дешевой распродажи: там не осталось ничего, кроме сосисок, фарша и одинокой неприличного вида колбасы.
Я взял помидоры, огурцы и банку майонеза. Стефф нужен был еще бекон, но бекона уже не осталось, и я прихватил вместо него колбасного фарша, хотя с тех пор, как ФДА сообщило, что в каждой упаковке содержится определенное небольшое количество примесей от насекомых (бесплатный довесок), я никогда не ел его с большим энтузиазмом.
– Посмотри, – сказал Билли, когда мы свернули за угол в четвертом проходе, – вон солдаты.
Их было двое, и серая форма сразу бросалась в глаза на фоне гораздо более яркой летней одежды и спортивных костюмов остальных покупателей. Все давно привыкли к появлению на улицах военнослужащих: примерно миль тридцать отделяло город от «Проекта “Стрела”». Эти двое выглядели так, словно бриться начали совсем недавно.
Я просмотрел список и убедился, что мы взяли все, что нужно… Нет, почти все. В самом конце, словно вспомнив об этом напоследок, Стефф дописала: «Бутылка «Лансерс»?» Пожалуй, это будет кстати: пара стаканов вина сегодня вечером, когда Билли уснет, потом, может быть, часок неторопливых ласк перед сном.
Оставив тележку, я прошел к винным стеллажам, выбрал бутылку и двинулся обратно мимо большой двустворчатой двери в складское помещение, из-за которой доносилось ровное гудение сильного генератора. Но, видимо, его хватало только на то, чтобы поддерживать холод в рефрижераторах, а на автоматические двери, кассовые аппараты и другое электрическое оборудование мощности уже недоставало. Звук был такой, словно за дверью работал мотоцикл.
Когда мы встали в очередь, появился Нортон с двумя упаковками светлого пива, буханкой хлеба и колбасой, которую я заметил раньше, в руках и встал в очередь рядом с нами. Без кондиционирования в помещении магазина было жарко, и я подумал, что тут стало бы гораздо лучше, если бы кто-нибудь из подсобных рабочих по крайней мере застопорил входные двери в открытом положении. Через два прохода позади от нас я видел грузчика Бадди Иглтона в красном фартуке, но он явно бездельничал и не собирался трогаться с места. От монотонного гудения генератора у меня начала болеть голова.
– Положи продукты в нашу тележку, – сказал я Нортону.
– Благодарю.
Теперь очереди тянулись мимо секции замороженных продуктов, и, чтобы добраться к нужным стеллажам, покупателям приходилось, постоянно извиняясь, пробираться через два ряда людей.
– Мы здесь хрен знает сколько будем стоять, – угрюмо пробормотал Нортон, и я нахмурился: на мой взгляд, такого рода выражения Билли лучше не слышать.
Когда очередь проползла немного вперед, рев генератора стал менее слышен, и мы с Нортоном разговорились, старательно обходя некрасивый раздор из-за земли, в результате которого мы оба оказались в суде, и касаясь лишь шансов на победу команды «Ред сокс» и погоды. Исчерпав наконец запас ни к чему не обязывающих тем, мы оба замолчали. Билли вертелся у моих ног. Очередь ползла. Теперь справа от нас оказались замороженные обеды, а слева более дорогие вина и шампанское. Когда мы продвинулись к дешевым винам, мне пришло в голову прихватить бутылку «Рипла», вина моей горячей юности, но я передумал. Впрочем, и юность моя никогда не была так уж горяча.
– М-м-м. Почему они так медленно, пап? – спросил Билли, лицо которого все еще сохраняло встревоженное выражение, и внезапно окутывающий меня туман беспокойства на мгновение расступился. Сквозь него проглянуло что-то ужасное – блестящее металлическое лицо страха.
– Спокойнее, малыш, – сказал я.
Теперь мы дошли до хлебного ряда, и в этом месте двойная очередь поворачивала налево. Отсюда уже было видно кассовые линии: две работающие и еще четыре пустые с табличками на неподвижных конвейерных лентах. На табличках значилось: «Пожалуйста, встаньте в другую очередь», а рядом реклама «Уинстон». За кассами располагалось большое, поделенное на секции витринное стекло с видом на автостоянку и перекресток дорог номер 117 и номер 302. Панораму частично закрывали белые с тыльной стороны плакаты, рекламирующие последние издания и бесплатную серию книг под названием «Энциклопедия матери-природы». Мы двигались в очереди, что вела к кассирше, рядом с которой стоял Бад Браун, и перед нами оставалось еще человек тридцать. Особенно выделялась в очереди миссис Кармоди в своем кричащем желтом брючном костюме. На мой взгляд, она выглядела как реклама желтой лихорадки.
Внезапно откуда-то издалека возник похожий на крик звук. Он быстро стал громче и превратился в вой полицейской сирены. С перекрестка донесся автомобильный гудок, потом визг тормозов и горящих покрышек. Оттуда, где я стоял, видно было плохо, но вскоре звук сирены достиг максимальной громкости, когда полицейская машина пронеслась мимо супермаркета, и стал стихать по мере того, как она удалялась. Несколько человек, стоявших в очередях, пошли посмотреть, в чем дело, но большая часть осталась на месте: люди стояли слишком долго, чтобы рисковать потерять свою очередь.
Нортон пошел: его покупки все равно лежали в нашей тележке. Спустя несколько секунд он вернулся и встал на место.
– Местные легавые, – прокомментировал он.
Тут, медленно перерастая в крик, стихая, потом снова возвышаясь до крика, завыла сирена городской пожарной охраны. Билли взял меня за руку. Вернее, схватил.
– Что это, папа? – спросил он и тут же еще: – Ты думаешь, с мамой все в порядке?
– Должно быть, пожар на Канзас-роуд, – сказал Нортон. – Эти чертовы оборванные провода… Сейчас поедут пожарные машины.
Такое объяснение лишь сконцентрировало мое беспокойство на одном факте: у нас во дворе тоже лежали оборванные провода под током.
Бад Браун что-то сказал кассирше рядом с ним, когда та обернулась посмотреть, что происходит, и она, покраснев, снова принялась считать на своем калькуляторе. Мне не хотелось быть в этой очереди. Совершенно внезапно мне вдруг расхотелось здесь стоять. Но очередь двигалась, и уйти было бы глупо. Мы дошли уже до сигарет.
Какой-то парень распахнул входную дверь, и мне показалось, что это был тот самый, на «ямахе» и без шлема, которого мы чуть не сбили.
– Туман! – закричал он. – Что творится! Это надо видеть! Он просто катится по Канзас-роуд.
Люди стали поворачиваться к нему. Он дышал тяжело, словно долго бежал. Все молчали.
– В самом деле это надо видеть, – повторил он, на этот раз уже будто оправдываясь.
Люди продолжали молча глядеть на него, кто-то шаркнул ногой, но уходить из очереди никто не хотел. Несколько человек из тех, что еще не встали в очередь, бросили свои тележки и прошли мимо неработающих касс посмотреть, о чем идет речь. Какой-то здоровый тип в летней шляпе с пестрой лентой (таких шляп никто сейчас не носит, разве что в телевизионных заставках, рекламирующих пиво на фоне гриля с жарящимся мясом во дворе загородного дома) рывком открыл дверь с надписью «Выход», и вместе с ним вышли на улицу человек десять – двенадцать. Молодой парень тоже вышел.
– Так все кондиционирование выпустят, – пошутил один из солдат. Кто-то засмеялся. Я молчал: я уже видел, как туман движется через озеро.
– Билли, почему бы тебе тоже не сходить посмотреть? – предложил Нортон.
– Нет, – тут же сказал я, даже не понимая почему.
Очередь снова двинулась вперед. Люди вытягивали шеи, стараясь разглядеть туман, о котором говорил вбежавший в магазин парень, но через окно было видно лишь чистое голубое небо. Кто-то сказал, что парнишка, видимо, пошутил. Кто-то еще ответил, что меньше часа назад видел полосу необычного тумана на озере. Пожарная сирена продолжала завывать. Все это мне очень не нравилось. Слишком сильно отдавало большой катастрофой.
Еще несколько человек вышли на улицу. Некоторые даже оставили место в очереди, отчего очередь продвинулась чуть дальше. Затем старый седой Джон Ли Фровин, механик с заправочной станции «Тексако», прошмыгнул в магазин и крикнул:
– Эй! У кого-нибудь есть фотоаппарат?
Он оглядел зал и выскочил обратно на улицу. Тут уже все зашевелились: если зрелище стоит того, чтобы его фотографировать, то уж хотя бы посмотреть надо обязательно.
Неожиданно своим ржавым, но сильным старческим голосом закричала миссис Кармоди:
– Не ходите туда!
Люди стали оборачиваться к ней. Стройная очередь распалась: кто-то отправился посмотреть на туман, несколько человек шарахнулись в стороны от миссис Кармоди, кто-то просто отошел, разыскивая своих друзей. Привлекательная молодая женщина в красной блузке и темно-зеленых брюках задумчиво, оценивающе смотрела на миссис Кармоди. Кто-то воспользовался неразберихой, чтобы продвинуться в очереди на несколько шагов вперед. Кассирша рядом с Бадом Брауном снова обернулась, и тот постучал ее по плечу своим длинным пальцем.
– Не отвлекайся, Салли.
Снова закричала миссис Кармоди:
– Не ходите туда! Там смерть! Я чувствую, там смерть!
Бад и Олли, хорошо знавшие ее, лишь раздраженно поморщились, но приезжие, даже стоявшие в очереди, тут же отошли от нее подальше. Видимо, к этим крикливым старухам в больших городах относятся так же. Словно они переносчицы какой-то заразной болезни. И кто знает? Может быть, так оно и есть.
Потом все начало происходить быстро и беспорядочно. Через входную дверь ввалился мужчина с разбитым носом.
– Там что-то есть в тумане! – закричал он. Билли прижался ко мне, испугавшись то ли этого человека с окровавленным лицом, то ли того, что он говорил.
– Там в тумане что-то есть! – продолжал кричать мужчина. – Что-то из тумана схватило Джона Ли! Что-то… – Покачнувшись, он наткнулся спиной на витрину с подкормкой для газонов и опустился рядом с ней на пол. – Что-то из тумана схватило Джона Ли, и я слышал, как он кричал!
Ситуация переменилась. Волнение, вызванное бурей, а потом полицейскими и пожарными сиренами, растерянность, которую средний американец всегда испытывает при нарушении электроснабжения, атмосфера нарастающей по мере того, как что-то вокруг менялось, напряженности, – я не знаю, какими другими словами можно передать то, что происходило, – все это вдруг заставило людей двинуться одновременно.
Они не побежали. Сказав так, я создал бы у вас неверное впечатление. Паники не было. Никто не бежал, по крайней мере большинство людей не бежали. Они просто пошли. Одни пробрались к большой витрине у конца кассового ряда, другие направились прямо к дверям, причем некоторые с неоплаченными покупками. Бад Браун тут же закричал требовательным голосом:
– Эй! Вы не заплатили! Эй, вы! Ну-ка вернитесь! Немедленно верните сюда пирожки с сосисками!
Кто-то рассмеялся над ним, и от этого сумасшедшего неестественного хохота остальные люди заулыбались. Но даже улыбаясь, все они выглядели испуганно, неуверенно и неспокойно. Потом засмеялся кто-то еще, и Браун побагровел. Он выхватил коробку с грибами у дамы, которая пыталась протиснуться мимо него к окну, облепленному теперь людьми, как забор новостройки.
– Отдайте мои грибочки! – завизжала дама, и этот неуместный уменьшительный термин вызвал истерический хохот еще у двоих мужчин, стоявших рядом.
Происходящее напоминало чем-то сумасшедший дом. Миссис Кармоди продолжала трубить, чтобы мы не выходили на улицу. Не переставая, завывала пожарная сирена, словно крепкая старуха, заставшая у себя дома вора. Билли заплакал.
– Папа, что это за человек в крови? Почему?
– Все в порядке, Большой Билл, он просто расшиб себе нос. Не волнуйся.
– Что он имел в виду, этот человек? Про что-то там в тумане? – спросил Нортон, усиленно хмурясь, что, видимо, заменяло ему замешательство.
– Папа, я боюсь, – сквозь слезы произнес Билли. – Пожалуйста, давай поедем домой.
Кто-то пробежал мимо, грубо меня толкнув, и я взял Билли на руки. Я тоже испугался. Смятение нарастало. Салли, кассирша, работавшая рядом с Бадом Брауном, попыталась встать, и он вцепился в воротник ее красного халата. Ткань лопнула, и кассирша, отмахиваясь от него руками, вырвалась, закричав:
– Убери свои поганые лапы!
– Заткнись, сучка, – сказал Браун, но по его голосу чувствовалось, что он совершенно ошарашен.
Он снова потянулся за ней, но его остановил Олли Викс:
– Бад! Остынь!
Кто-то еще закричал. Если раньше паники не было – почти не было, – то теперь обстановка быстро приближалась к панической. Люди текли из обеих дверей. Послышался звон бьющегося стекла, и по полу разлилась пузырящаяся лужа кока-колы.
– Боже, что происходит? – воскликнул Нортон.
И в этот момент начало темнеть. Я подумал было, что отключился свет в зале, и совершенно рефлекторно задрал голову, взглянув на флуоресцентные лампы. И не один я решил, что потемнело именно из-за этого. Потом я вспомнил, что тока нет и что лампы и так не горели все это время, пока мы были в магазине. Но ведь света хватало… И тут до меня дошло, даже раньше, чем люди, стоявшие у окон, начали кричать и указывать руками на улицу.
Надвигался туман.
Туман катился с Канзас-роуд к автостоянке, и даже с близкого расстояния он казался мне таким же, каким я впервые заметил его на другой стороне озера. Белый, чистый, но не искрящийся туман. Он быстро продвигался, почти совсем закрыв солнце. Вместо солнца на небе осталась теперь маленькая серебряная монета, словно полная луна, видимая зимой сквозь тонкий покров облаков.
Несмотря на скорость, с какой надвигался туман, мне казалось, он лишь лениво ползет, и это зрелище напомнило мне водяной смерч, что пронесся по озеру днем раньше. В природе есть огромной силы явления, с которыми нам очень редко приходится встречаться в жизни: землетрясения, ураганы, торнадо. Я не наблюдал их все, но видел достаточно, чтобы знать, что все они протекают с такой вот ленивой гипнотизирующей быстротой. Они завораживают, как заворожил смерч стоявших у панорамного окна Билли и Стефф.
Туман тем временем катился по двухрядному шоссе и скрывал его под собой. Отремонтированный голландский домик Маккеонсов поглотило целиком. Какое-то время из тумана торчал второй этаж стоящего по соседству ветхого дома, но потом и он пропал. Дорожные знаки с призывом «Держись правой стороны» у въезда на стоянку супермаркета и выезда с нее тоже исчезли, хотя сами буквы еще несколько секунд после того, как растворился грязно-белый фон полотнищ, плавали в воздухе. Потом одна за другой стали исчезать из виду машины.
– Боже, что происходит? – снова спросил Нортон, и на этот раз в его голосе уже что-то дрогнуло.
Туман наступал, съедая голубое небо и чистый черный асфальт с одинаковой легкостью. Даже на расстоянии двадцати футов линия, отделяющая туман, была четко видна. У меня возникло чувство, будто я наблюдаю какой-то сногсшибательный киноэффект, что-нибудь созданное Виллисом О’Брайеном или Дугласом Тримбуллом. Все происходило невероятно быстро. Голубое небо из широкой полосы превратилось сначала в ленту, потом в тонкую карандашную линию, потом исчезло совсем. Широкое стекло витрины заволокло ровным белым цветом. Дальше урны, стоявшей, может быть, в четырех футах от окна, я не мог разглядеть ничего. Едва виден был лишь передний бампер моего «скаута».
Послышался долгий и громкий женский крик. Билли прижался ко мне еще плотнее. Он дрожал, словно моток провода под высоким напряжением. Какой-то мужчина вскрикнул и бросился мимо одной из пустующих касс к выходу. Видимо, с этого и началось паническое бегство. Люди беспорядочной толпой бросились в туман.
– Эй! – заорал Браун. Я не знаю, был ли он напуган, рассержен или и то и другое сразу. Лицо его стало почти фиолетовым, на шее вздулись вены, толстые, словно аккумуляторные провода. – Эй, вы все! Вы не имеете права… Ну-ка вернитесь сюда с продуктами! Это воровство!
Люди не останавливались, но некоторые все же побросали покупки в сторону. Кто-то смеялся, развеселившись, но таких было меньшинство. Они вливались в туман, и никто из нас, из оставшихся, больше их не видел. Через распахнутые двери проникал слабый едкий запах. На выходе началась толкучка. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то ударил. От тяжести у меня заболели плечи: Билли парень довольно крупный, Стефф в шутку иногда называла его молодым теленком.
Нортон с каким-то задумчивым и несколько ошарашенным выражением лица отошел чуть в сторону, собираясь направиться к дверям. Я пересадил Билли на другую руку, чтобы успеть схватить Нортона, пока он не ушел далеко.
– Не стоит пока, – сказал я.
– Что? – спросил он, обернувшись.
– Лучше подождем.
– Чего подождем?
– Не знаю, – сказал я.
– Не думаешь ли ты… – начал было он, но тут кто-то пронзительно закричал в тумане.
Нортон замолчал. Пробка у выхода из магазина чуть рассосалась, потом люди бросились назад. Гомон возбужденных голосов, крики – все стихло. Лица людей у дверей вдруг стали бледными, плоскими и словно двухмерными.
Крик не прекращался, соревнуясь с пожарной сиреной. Невозможным казалось, что в человеческих легких может хватить воздуха на столь долгий пронзительный крик.
– О Господи, – пробормотал Нортон, взъерошив волосы обеими руками.
Неожиданно крик прекратился. Не стих, а оборвался, словно его отрезало. Еще один мужчина вышел на улицу – здоровяк в рабочих брюках. Наверное, он хотел помочь этой женщине. Какое-то мгновение его было видно через стекло и туман, словно сквозь пленку высохшего молока на стакане, а потом (насколько я знаю, кроме меня, этого никто не заметил) что-то двинулось за ним, какая-то серая тень на фоне белизны, и мне показалось, что вместо того, чтобы вбежать в туман, он с раскинутыми от неожиданности руками был буквально вдернут туда.
Несколько секунд в зале супермаркета царило молчание. Внезапно целое созвездие лун вспыхнуло снаружи: включились все фонари на автостоянке, питание к которым, видимо, подводилось подземными кабелями.
– Не ходите туда, – произнесла миссис Кармоди своим каркающим голосом. – Там смерть!
Желающих спорить или смеяться вдруг не оказалось.
Снаружи донесся еще один крик, приглушенный расстоянием, и Билли вздрогнул, прижимаясь ко мне.
– Дэвид, что происходит? – спросил Олли Викс, оставив свое место у кассы. На его гладком круглом лице застыли крупные капли пота. – Что это?
– Если б я, черт побери, знал, – сказал я.
Олли выглядел очень испуганным. Жил он один в симпатичном маленьком домике на берегу озера Хайлэнд, любил заходить в бар у Приятной Горы. На мизинце левой руки Олли носил кольцо с сапфиром в виде звезды, купленное им с выигрыша в лотерею в прошлом феврале. Мне всегда казалось, что он немного боится девушек.
– Ничего не понимаю, – сказал он.
– Я тоже. Билли, у меня руки отрываются. Мне придется поставить тебя на пол. Я буду держать тебя за руку, о’кей?
– Мама… – прошептал он.
– С ней все в порядке, – сказал я. Надо же было что-нибудь сказать.
Мимо нас прошел старик, хозяин комиссионного магазинчика, что рядом с «Рестораном Джона», как всегда в своем свитере с названием колледжа, который он носил круглый год.
– Это одно из тех ядовитых облаков. Заводы в Рамфорде и Саут-парке… Химикалии… – сказал он и двинулся дальше по четвертому проходу мимо лекарств и туалетной бумаги.
– Надо смываться отсюда, Дэвид, – сказал Нортон, впрочем, без всякого убеждения в голосе. – Что ты думаешь, если…
Тут нас тряхнуло. Ногами я почувствовал странный тяжелый удар, словно здание неожиданно упало с высоты фута в три. Музыкальным звоном отозвались бутылки на полках, падая через край на плиточный пол. От одной из секций витринного стекла откололся стеклянный клин, по форме похожий на кусок торта, и я заметил, как выгнулись и кое-где расщепились сами деревянные рамы, удерживающие стекла на месте.
Вопль пожарной сирены внезапно оборвался. Люди молчали в наступившей тишине, словно напряженно ждали чего-то еще, чего-то худшего. Я стоял, потрясенный и окаменевший, и мысли мои сами каким-то образом вернулись к прошлому. Когда Бриджтон состоял всего из нескольких зданий на перекрестке дорог, мой отец иногда брал меня с собой в магазин, и, пока он разговаривал у прилавка, я всегда стоял и глядел через стекло на дешевые леденцы и двухцентовую жевательную резинку… Была январская оттепель. На улице ни звука, лишь оттаявшая вода сбегала по желобам из нержавейки в дождевые бочки по обеим сторонам здания. Я стоял и разглядывал «зубодробилки», «подушечки» и «колесики». Мистические желтые шары света у потолка отбрасывали чудовищные удлиненные тени целых батальонов мертвых с прошлого лета мух. Маленький мальчик по имени Дэвид Дрэйтон, стоящий со своим отцом, знаменитым художником, чья картина «Кристина в одиночестве» висит в Белом доме. Маленький мальчик по имени Дэвид Дрэйтон, разглядывающий леденцы и картинки на жевательной резинке. Мальчику смутно хочется в туалет. А снаружи давящий, накатывающийся туман январской оттепели…
Очень медленно воспоминания ушли.
– Эй, люди! – прокричал Нортон. – Слушайте все!
Люди стали оборачиваться. Нортон поднял руки с раскрытыми ладонями над головой, словно политический деятель, произносящий слова присяги.
– Выходить на улицу сейчас, видимо, опасно! – вещал он.
– Почему? – крикнула какая-то женщина. – У меня дома дети. Мне нужно к ним.
– Там на улице смерть! – снова вылезла миссис Кармоди. Она стояла рядом с уложенными друг на друга у окна двадцатипятифунтовыми мешками удобрений, и ее лицо казалось чуть припухшим, словно ее раздувало изнутри.
Какой-то подросток резко толкнул ее, и она, удивленно хрюкнув, села на мешки.
– Заткнись, ты, карга старая! Несешь всякую чушь собачью!
– Прошу вас! – продолжал Нортон. – Если мы немного подождем, туман развеется, и мы увидим…
Ответом послужил гомон противоречивых возгласов.
– Он прав, – подал голос я, стараясь перекричать шум. – Давайте наберемся терпения.
– Я думаю, это было землетрясение, – произнес мягким голосом мужчина в очках. В одной руке он держал сверток пирожков с мясом и пакет с булочками, другой держал за руку маленькую девочку, может быть, на год младше Билли. – Честное слово, землетрясение.
– Четыре года назад то же самое было в Нейплсе, – отреагировал толстяк из местных.
– Это было в Каско, – тут же оспорила его мнение жена безошибочно узнаваемым тоном закоренелой спорщицы.
– В Нейплсе, – повторил толстяк, но уже с меньшей убежденностью.
– В Каско, – твердо сказала жена, и он сдался.
С какого-то стеллажа, видимо, откинутая на самый край ударом, землетрясением или что бы это там ни было, упала запоздавшая банка, громко и неожиданно загремев на полу. Билли расплакался.
– Я хочу домой! Я хочу к ма-а-аме!
– Будь добр, заткни ему пасть, – попросил Бад Браун. Глаза его быстро, но бесцельно метались из стороны в сторону.
– А в зубы ты не хочешь, трепло? – спросил я.
– Дэйв, ну пожалуйста… Лучше от этого не будет… – проговорил Нортон, думая о чем-то другом.
– Очень жаль, – сказала женщина, кричавшая про детей. – Мне очень жаль, но я не могу здесь оставаться. Мне надо домой, к детям.
И она обвела нас всех взглядом. Блондинка с усталым, но привлекательным лицом.
– Ванда должна смотреть за маленьким Виктором, понимаете? Ванде всего восемь, и она иногда забывает… Забывает, что ей положено смотреть за ним, знаете?.. А маленький Виктор… Он любит включать конфорки на плите; там загораются такие маленькие красные лампочки… Ему нравятся лампочки… И иногда он выдергивает вилки из розеток… А Ванда… Ей надоедает смотреть за ним… Ей всего восемь… – Она замолчала и посмотрела на нас. Должно быть, мы представлялись ей тогда целой шеренгой безжалостных глаз, не людей, а одних только глаз. – Неужели никто не поможет мне? – закричала она. Губы ее задрожали. – Неужели… Неужели никто не проводит женщину до дома?
Никто не ответил. Изредка кто-то лишь шаркал ногой по полу. Женщина переводила взгляд своих несчастных глаз с одного лица на другое. Толстяк неуверенно шагнул к ней, но жена одним рывком отдернула его назад и крепко схватила за запястье, словно кольцом наручников.
– Вы? – спросила блондинка Олли.
Тот покачал головой.
– Вы? – обратилась она к Баду.
Он накрыл рукой калькулятор, лежавший на прилавке, и промолчал.
– Вы? – повернулась она к Нортону, и он начал говорить что-то своим сильным адвокатским голосом, что-то о том, что нельзя, мол, так, сломя голову… Она махнула на него рукой, и он смущенно замолк.
– Вы? – спросила она меня, и я снова взял Билли на руки, держа его как щит, словно им я пытался отразить этот ужасный взгляд сломленного человека.
– Чтоб вам всем сгореть в аду… – сказала она. Не выкрикнула, а именно сказала смертельно усталым голосом. Потом подошла к двери и оттянула ее двумя руками.
Я хотел сказать что-то, вернуть ее, но у меня во рту все пересохло.
– Э-э-э, леди, послушайте… – сказал подросток, накричавший на миссис Кармоди, и схватил ее за руку.
Она поглядела на его руку. Он, покраснев, отпустил ее, и она вышла в туман. Мы смотрели, как она уходит, и никто не произнес ни слова. Туман поглощал ее, делая бесплотной, оставляя вместо человека лишь размытый набросок человеческой фигуры на самой белой в мире бумаге, и никто не произнес ни слова. Какое-то время она была как надпись «Держитесь правой стороны», плавающая в воздухе: ее руки, ноги, светлые волосы стерлись, осталось только пятно красного летнего платья, казалось, танцующего в белом пространстве. Потом исчезло и оно, и никто не проронил ни слова.
Глава 4. Склад. Проблема с генератором. Что случилось с носильщиком
Билли, мгновенно вернувшись к двухлетнему возрасту, расплакался громко и истерично, хрипло, сквозь слезы требуя маму. На верхней губе у него появились сопли, и я повел его по одному из средних проходов, обняв за плечи и пытаясь успокоить. Мы остановились у длинного белого холодильника с мясом, расположенного вдоль всей задней стены магазина. Мистер Маквей, мясник, еще стоял за прилавком. Мы просто кивнули друг другу, поскольку в данных обстоятельствах ничто другое не казалось уместным.
Я сел на пол, посадил Билли на колени, прижав лицом к себе, стал успокаивать его и что-то ему говорить. Я говорил всю неправду, которую родители обычно держат про запас для тяжелых случаев, ту самую неправду, которая так убедительно звучит для ребенка, и говорил ее совершенно убежденно.
– Это не простой туман, – сказал Билли, взглянув на меня потемневшими и полными слез глазами. – Да, папа?
– Да, я думаю, это не простой туман. – Здесь я лгать не хотел.
Дети сражаются с потрясениями не так, как взрослые. Они пытаются сжиться с ними, может быть, потому что лет до тринадцати они и так живут в состоянии полуперманентного шока. Билли начал дремать. Я продолжал держать его, опасаясь, что он может снова проснуться, но вскоре он заснул по-настоящему. Возможно, он не спал часть предыдущей ночи, когда мы легли втроем в первый раз с тех пор, как он вышел из младенческого возраста. А возможно – при этой мысли я почувствовал, как внутри у меня пронесся маленький холодный вихрь, – возможно, он предчувствовал что-то еще.
Убедившись, что он крепко заснул, я положил его на пол и пошел искать, чем бы его укрыть. Почти все оставшиеся в магазине до сих пор стояли у витрин, вглядываясь в плотный покров тумана. Нортон собрал небольшую группу слушателей и продолжал вещать, или по крайней мере честно пытался. Бад Браун твердо стоял на посту, но Олли Викс уже покинул свое место у кассы. Несколько человек с испуганными лицами еще бродили в проходах, словно призраки.
Через большую двойную дверь между рефрижераторным шкафом для мяса и охладителем пива я прошел в складское помещение, где за фанерной перегородкой ровно гудел генератор. Что-то здесь было не так. Слишком сильно пахло дизельным выхлопом. Я двинулся к перегородке, стараясь дышать неглубоко, потом расстегнул рубашку, задрал ее и закрыл нос и рот скомканной тканью.
Узкий длинный склад скудно освещали два ряда аварийных лампочек. Повсюду стояли штабеля коробок: пачки отбеливателя с одной стороны, ящики с безалкогольными напитками с другой, дальше упаковки макарон с мясом и коробки с кетчупом. Одна из них упала, и сквозь картон сочилось что-то красное.
Я открыл задвижку на дверце генераторного отсека и прошел внутрь. Машину окутывали подвижные маслянистые клубы голубого дыма. Выхлопная труба выходила на улицу через отверстие в стене, и, очевидно, что-то закрывало ее снаружи. Генератор приводился в действие простым выключателем. Я щелкнул рычажком: генератор чихнул, полыхнул дымом, закашлялся и умолк, издав напоследок серию затихающих маленьких хлопков, напомнивших мне упрямую бензопилу Нортона.
Аварийное освещение погасло, и, оставшись в темноте, я испугался и тут же потерял ориентацию. Мое собственное дыхание напоминало мне звук ветра, шуршащего в соломе. Выходя из отсека, я ударился носом о хлипкую фанерную дверь, и сердце у меня екнуло.
На входных дверях, ведущих на склад, имелись окошки, но по какой-то причине их закрасили черной краской, отчего темнота была почти полной. Я сбился с пути и наткнулся на штабель коробок с отбеливателем. Коробки посыпались на пол. Одна из них пролетела у самого моего лица, и, невольно шагнув назад, я споткнулся о другую, которая упала позади меня. Я растянулся на полу и так сильно ударился головой, что в полной темноте передо мной засверкали яркие звезды. Хорошенькое представление!
Некоторое время я просто лежал, ругая самого себя, и потирал ушибленное место, призывая себя успокоиться, подняться осторожно и выходить на свет, к Билли. Пытался себя уверить, что ничего мягкого и склизкого, собирающегося обвить мою ногу или заползти на руку, в темноте нет. Говорил себе, что, если я не проявлю выдержку, дело кончится тем, что я начну метаться в панике, сшибая все подряд и создавая себе все новые и новые препятствия.
Я осторожно встал, пытаясь нащупать взглядом карандашную линию света между створками двери, и наконец нашел еле заметную царапину на полотне тьмы. Двинулся туда и замер, услышав какой-то звук.
Мягкий скользящий звук. Он прекратился, потом снова возник с легким осторожным ударом. Внутри у меня все обмерло, словно я волшебным образом вновь стал четырехлетним ребенком. Звук доносился не из магазина, а откуда-то из-за спины. Снаружи. Оттуда, где туман. Что-то скользило и скребло там по шлакобетону. Пытаясь, может быть, пробраться внутрь.
А может быть, оно уже внутри и тянется ко мне. Может быть, спустя мгновение я почувствую, как это что-то ползет по моему ботинку. Или хватает меня за шею.
Снова раздался шорох. Теперь я был уверен, что это снаружи. Но легче не стало. Я заставлял свои ноги двигаться, но они не подчинялись. Потом звук изменился, и что-то проскребло в темноте.
Сердце у меня подскочило, и я бросился вперед к тонкой вертикальной линии света, ударил двери вытянутыми руками и вылетел в помещение магазина.
Несколько человек стояли у дверей, среди них Олли Викс. Они испуганно отскочили назад, и Олли схватился за сердце.
– Дэвид! – произнес он испуганно. – Боже… Ты что, хочешь лишить меня десяти лет… – Тут он увидел мое лицо. – Что с тобой?
– Ты слышал? – спросил я, и мой голос даже мне показался странным – высоким и визгливым. – Вы ничего не слышали?
Они, конечно, ничего не слышали. Сюда они пришли посмотреть, почему не работает генератор. Пока Олли все это мне объяснял, появился носильщик с охапкой батареечных фонариков и с любопытством поглядел сначала на Олли, потом на меня.
– Я отключил генератор, – сказал я и объяснил почему.
– А что ты слышал? – спросил один из мужчин, работавший в городском управлении дорог. Звали его Джим… Фамилию я тогда не вспомнил.
– Не знаю. Какой-то скребущий звук. Скользящий. Не хотел бы я снова его услышать.
– Нервы, – прокомментировал еще один мужчина из тех, что подошли вместе с Олли.
– Нет. Нервы тут ни при чем.
– А ты слышал этот звук до того, как погас свет?
– Нет. После. Но… – Добавить мне было нечего. Я видел, как они смотрят на меня. Им не хотелось ни плохих новостей, ни чего-то пугающего, ни даже необычного. Всего этого уже случилось достаточно. Только Олли смотрел так, словно поверил мне.
– Надо пойти снова его включить, – сказал носильщик, раздавая фонарики.
Олли взял фонарик и посмотрел на него с сомнением. Носильщик предложил один и мне, окинув меня чуть презрительным взглядом. На вид ему было лет восемнадцать. После секунды раздумий я взял фонарик: мне все равно нужно было найти что-нибудь, чем можно укрыть Билли.
Олли распахнул двери и застопорил их, чтобы хоть немного света попадало в помещение склада, и я увидел разбросанные по полу коробки с отбеливателем около приоткрытой двери в генераторный отсек.
Джим принюхался и сказал:
– Пожалуй, действительно запах слишком сильный. Видимо, ты сделал то, что надо.
Лучи фонариков запрыгали и заплясали по коробкам с консервами, туалетной бумагой и банками кормежки для собак. В лучах клубился дым, который заблокированная выхлопная труба вернула в помещение склада. Носильщик повел фонариком вправо, в сторону широкой загрузочной двери.
Олли и еще двое зашли в генераторный отсек. Пятна света от их фонариков причудливо метались туда-сюда, напоминая мне что-то из приключенческих рассказов для мальчишек. Еще когда я учился в колледже, мне доводилось иллюстрировать множество подобных историй. Пираты, в полночь закапывающие кровавое золото, или сумасшедший профессор и его ассистент, крадущие тело для экспериментов… По стенам прыгали изогнутые чудовищные тени от бегающих и пересекающихся лучей. Остывая, генератор изредка неравномерно пощелкивал.
Носильщик пошел к загрузочной двери, направив перед собой луч фонарика.
– Я не стал бы туда выходить, – сказал я.
– Я знаю, что ты бы не стал.
– Попробуй теперь, Олли, – сказал один из мужчин.
Генератор чихнул и заревел.
– Черт! Выключай! Фу, зараза, какая вонь!
Генератор снова заглох.
Носильщик вернулся от двери, как раз когда остальные выбрались из генераторного отсека.
– Там в самом деле что-то заткнуло выхлоп, – сказал один из мужчин.
– Вот что, – предложил носильщик. Глаза его блестели в лучах фонариков, а на лице появилось бесшабашное выражение, которое я столько раз использовал для фронтисписов тех самых приключенческих историй. – Вы его включите ровно настолько, чтобы можно было открыть вон ту загрузочную дверь. Я выскочу на улицу и уберу, что там мешается.
– Норм, я не уверен, что это хорошая идея, – с сомнением произнес Олли.
– А что, эта дверь открывается электромотором? – спросил Джим.
– Точно, – ответил Олли. – Но я думаю, это неразумно…
– Все нормально, – сказал второй мужчина, сдвигая на затылок свою бейсбольную шапочку. – Я справлюсь.
– Вы не понимаете… – снова сказал Олли. – Я в самом деле не думаю, что кому-то…
– Не волнуйся, – презрительно перебил его второй мужчина.
Тут возмутился носильщик Норм:
– Послушайте, это была моя идея.
И они вдруг принялись спорить, кто пойдет наружу, вместо того чтобы решить, стоит ли это делать вообще. Ведь никто из них не слышал этого отвратительного скользящего звука.
– Прекратите! – сказал я громко.
Все обернулись ко мне.
– Вы, похоже, еще не поняли, что это не обычный туман. И упорно не хотите понять. С тех пор, как он появился, никто не заходил в магазин. Если вы откроете эту дверь и что-нибудь заползет…
– Что заползет? – спросил Норм с типичным для восемнадцатилетнего бравым презрением.
– То, что издавало эти звуки, которые я слышал.
– Мистер Дрэйтон, – сказал Джим. – Простите, но я совсем не убежден, что вы что-то слышали. Я знаю, что вы известный художник со связями в Нью-Йорке, Голливуде и все такое, но это, на мой взгляд, не делает вас отличным от всех остальных людей. Я так понимаю, вы оказались тут в темноте и, видимо, э-э-э… малость струхнули.
– Может быть, – сказал я. – А может быть, если вам так хочется наружу, вам следовало прежде всего проводить ту леди до дома, где у нее остались дети.
Непонимание ситуации этими людьми одновременно злило меня и пугало еще больше. Глаза у них горели, как бывает у некоторых мужчин, когда они стреляют крыс на городской свалке.
– Эй, – сказал приятель Джима. – Когда нам понадобится ваш совет, мы сами спросим.
Олли нерешительно предложил:
– Генератор на самом деле не так уж и нужен. Продукты в холодильных шкафах могут пролежать двенадцать часов или даже больше, если нужно, без всякого…
– О’кей, парень, вперед, – сказал Джим, не обращая на Олли никакого внимания. – Я включу генератор, а ты быстро поднимай дверь, пока здесь снова не завоняло дымом. Мы с Майроном будем у выхлопной трубы, так что крикни, когда освободишь ее.
– О’кей, – ответил Норм возбужденно и двинулся к двери.
– Это какое-то сумасшествие, – сказал я. – Вы позволили женщине идти одной…
– Я что-то не заметил, чтобы ты сам сильно рвался ее провожать.
– …а теперь собираетесь позволить этому мальчишке рисковать жизнью из-за генератора, который даже не нужен.
– Заткнешься ты или нет? – крикнул Норм.
– Послушайте, мистер Дрэйтон, – проговорил Джим, и на губах его заиграла холодная улыбка. – Вот что я вам посоветую: если вы захотите сказать что-нибудь еще, лучше пересчитайте сначала свои зубы, а то мне надоело слушать этот понос.
Олли испуганно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Они все просто сошли с ума. На какое-то время их оставило ощущение реальности. Они были напуганы и сбиты с толку, а тут перед ними стояла чисто механическая проблема: генератор. Эту проблему они в состоянии решить, что поможет им стать менее беспомощными и растерянными. Следовательно, они будут ее решать.
Джим и его дружок Майрон сочли, что я сдался, и направились в генераторный отсек.
– Ты готов, Норм? – спросил Джим.
Норм кивнул, потом понял, что его кивок никто не увидел, и ответил:
– Да.
– Норм, – сказал я. – Не валяй дурака.
– Это ошибка, – добавил Олли.
Норм посмотрел на нас, и лицо его вдруг перестало выглядеть на восемнадцать лет. Оно стало лицом маленького ребенка. Его кадык судорожно дернулся, и я понял, что он до смерти напуган. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, видимо, отказаться, но в этот момент снова взревел генератор, и, когда он загудел ровно, Норм нажал кнопку справа от двери. Дверь медленно, со скрежетом поползла вверх по двум стальным направляющим. Когда заработал генератор, включилось аварийное освещение, но теперь лампы снова засветились вполсилы, из-за того что мотор, поднимающий дверь, съедал какую-то часть мощности.
Тени отползли назад и растаяли. Склад начал наполняться мягким белым светом, словно в пасмурный зимний день, и я снова почувствовал этот странный едкий запах.
Дверь поднялась на два фута, потом на четыре, и в открывшемся проеме я увидел прямоугольную бетонную площадку, очерченную желтыми полосами, которые уже в трех футах от стены исчезали в невероятно плотном тумане.
– Оппа! – крикнул Норм.
Языки тумана, белые и прозрачные, словно взвешенное в воздухе кружево, поползли внутрь вместе с холодным воздухом. Все утро было прохладным, особенно по сравнению с тремя последними неделями удушающей жары, но это летняя прохлада. Теперь же стало по-настоящему холодно. Как в марте. Я вздрогнул и вспомнил про Стефф.
Генератор заглох, и как раз в тот момент, когда Норм, пригнувшись, нырнул в проем под дверью, Джим вышел из-за загородки. Он увидел. И я. И Олли.
Над дальним краем бетонной разгрузочной площадки прозмеилось щупальце и схватило Норма за ногу. У меня отвисла челюсть. Олли от неожиданности издал какой-то странный горловой звук. Щупальце было толщиной около фута в том месте, где оно обернулось вокруг ноги Норма под коленом, и, может быть, четыре-пять футов там, где его уже скрывал туман. Серое сверху и почти телесно-розового цвета на внутренней стороне, где рядами располагались присоски – они двигались и шевелились, словно сотни маленьких сморщенных ртов. Норм посмотрел вниз и увидел, что его держит. Глаза его расширились от ужаса.
– Уберите это от меня! Эй, снимите это! Боже, уберите эту чертову штуку!
– О Господи! – простонал Джим.
Норм ухватился за нижнюю кромку двери и подтянул себя назад. Щупальце чуть вздулось, как мускулы на руке, когда ее сгибают, и отдернуло Норма обратно, ударив головой о гофрированную поверхность стальной двери. Потом оно напряглось еще раз и вытянуло Норма до половины на улицу. Рубашка его зацепилась за нижний край двери, и ее вытащило из брюк. Норм снова рванулся и подтянул себя назад, словно спортсмен на перекладине.
– Помогите же мне! – всхлипывая, просил он. – Эй, вы, помогите мне! Пожалуйста!
– Иисус, Мария, Иосиф… – пробормотал Майрон, увидев, что творится, когда он вышел из генераторного отсека.
Я стоял ближе всех. Схватив Норма за пояс, я дернул изо всех сил, откачнувшись назад на каблуках. Секунду мы действительно двигались назад, но только секунду. Это было все равно что тянуть круглую резинку или конфету-тянучку. Щупальце подалось, но не отпустило. Из тумана выплыли еще три щупальца и потянулись к нам. Одно ухватило болтающийся красный фирменный фартук Норма и рывком содрало его. Когда щупальце скрылось в тумане, крепко сжимая эту красную тряпку, я вдруг вспомнил, что говорила моя мать, когда мы с братом начинали выпрашивать у нее что-нибудь, что она не хотела нам покупать – конфеты, комикс или игрушку. Она говорила: «Нужна она тебе как курице флаг». Я вспомнил об этом, когда увидел, как щупальце машет в тумане красным фартуком Норма, и рассмеялся. Только мой смех и крики Норма звучали почти одинаково. Может быть, никто, кроме меня, и не понял, что я смеялся.
Другие два щупальца слепо скользили взад-вперед по разгрузочной площадке, издавая тот самый скребущий звук, что я слышал раньше. Затем одно из них наткнулось на левое бедро Норма и скользнуло вокруг, задев меня за руку. Оно было теплое, пульсирующее и гладкое. Наверное, если бы оно вцепилось в меня своими присосками, я бы тоже оказался на улице. Но щупальце меня не тронуло, схватив только Норма. Третье обвило кольцами его другую лодыжку, и теперь все три тянули Норма наружу.
– Помогите мне! – закричал я. – Олли! Кто-нибудь! Помогите!
Никто не подошел. Не знаю, что они там делали, но на помощь мне никто не пришел.
Я взглянул вниз и увидел, как щупальце, обвившееся вокруг пояса Норма, въедается в кожу. Присоски в полном смысле слова поедали Норма в том месте, где рубашка выбилась у него из-под брюк. Красная, как сорванный фартук, кровь начала сочиться из проеденной пульсирующим щупальцем полосы кожи.
Я ударился головой о нижний край наполовину поднятой двери, и ноги Норма снова оказались на улице. Одна кроссовка Норма соскочила с ноги; из тумана тут же появилось новое щупальце, крепко схватило его концом и снова скрылось в тумане. Побелевшие пальцы Норма цеплялись за нижний край двери мертвой хваткой. Он больше не кричал, только голова болталась из стороны в сторону да дико метались длинные черные волосы.
Из тумана появились новые ползущие щупальца, сначала дюжина, потом целый лес. Большинство из них – маленькие, но несколько было просто гигантских, толщиной, может быть, с облепленное мхом дерево, что еще утром лежало поперек дороги у нашего участка, с карамельно-розовыми присосками величиной с крышку люка. Одно такое огромное щупальце с грохотом ударилось о бетон платформы и поползло в нашу сторону, словно слепой червь. Я снова дернул изо всех сил, и щупальце, державшее правую ногу Норма, чуть соскользнуло, но не больше. И перед тем, как оно снова плотно обхватило его, я увидел, что оно тоже въедается в кожу.
Одно из щупалец коснулось моей щеки и зависло, дрожа, в воздухе, словно раздумывая. Я вспомнил о Билли, уснувшем у длинного белого мясного рефрижератора мистера Маквея, и о том, зачем сюда пришел. Если одна из этих штук вцепится в меня, некому будет заботиться о нем, кроме, может быть, Нортона…
Я отпустил Норма и упал на четвереньки. Щупальце скользнуло слева от меня, как бы перешагивая на присосках, потом тронуло руку Норма, замерло на секунду и обвило его кольцами.
Норм выглядел теперь как фрагмент из кошмарного сна со змеями. Щупальца опутали его почти целиком и вились уже вокруг меня. Я неуклюже отпрыгнул в сторону, упал на плечо и откатился. Джим, Олли и Майрон все еще стояли неподалеку, словно застывшие восковые фигуры из Музея мадам Тюссо, с бледными лицами и блестящими глазами. Джим и Майрон замерли по обеим сторонам двери в генераторный отсек.
– Включайте генератор! – закричал я.
Никто не двинулся с места. Они не отрываясь, словно загипнотизированные, продолжали смотреть в проем загрузочной двери.
Я пошарил по полу, схватил первое, что попалось под руку (коробка отбеливателя «Снежный»), и швырнул в Джима. Попал ему в живот, прямо над пряжкой ремня, и он, охнув, схватился за ушибленное место. Какое-то подобие нормальности вернулось в его взгляд.
– Включай этот чертов генератор! – заорал я так громко, что заболело в горле.
Он не двинулся с места и принялся оправдываться, решив, видимо, что теперь, когда какая-то сумасшедшая тварь вылезла из тумана и почти съела Норма живьем, наступило время выяснять, кто в этом повинен.
– Я не виноват, – визгливо заговорил он. – Я не знал… Откуда я, черт побери, мог знать? Ты сказал, что слышал что-то, но я не понял, что ты имеешь в виду… Надо было лучше объяснить. Я думал… Не знаю… Может, птица какая…
Олли, опомнившись, оттолкнул его плечом в сторону и бросился в генераторный отсек. Джим споткнулся о коробку с отбеливателем и упал, как я тогда в темноте.
– Я не виноват, – повторил он.
Его рыжая челка сбилась на лоб. Щеки стали белыми, словно сыр, а в глазах застыл ужас маленького ребенка. Секунду спустя генератор кашлянул и заревел.
Я повернулся к загрузочной двери. Норма почти не было видно, но он все еще упорно цеплялся одной рукой. Щупальца буквально кишели вокруг него, а на бетон падали капли крови величиной с десятицентовую монету. Голова его все еще болталась из стороны в сторону, а глаза, глядящие в туман, лезли из орбит от ужаса. Новые щупальца подползли ко входу и забрались внутрь помещения. Около кнопки, включающей дверной механизм, их оказалось так много, что туда страшно было подойти. Одно из них обвило поллитровую бутылку пепси и унесло с собой. Другое скользнуло вокруг картонной коробки и сдавило ее. Картон лопнул, и из коробки фонтаном взметнулись рулоны туалетной бумаги, упакованные в целлофан, попадали на пол, раскатились. Щупальца расхватали их мгновенно.
Одно из самых больших заползло дальше других, чуть приподнялось кончиком от пола, словно принюхиваясь, и двинулось в сторону Майрона. Тот, бешено вращая глазами, отпрыгнул, и из безвольных губ вырвался истошный визг.
Я поискал глазами что-нибудь длинное, чем можно дотянуться до кнопки на стене над ищущими щупальцами, потом заметил прислоненную к штабелю ящиков с пивом швабру.
Норм не выдержал и, разжав пальцы свободной руки, упал на бетонную платформу, лихорадочно пытаясь уцепиться за что-нибудь еще. Взгляды наши на секунду встретились: глаза его горели, но я видел, что он понимает, какой конец его ждет. И спустя мгновение клубок щупалец, подпрыгивая и перекатываясь, потянул Норма в туман. Он издал последний полузадушенный крик и исчез.
Я нажал кнопку рукояткой швабры, мотор взвыл, и дверь заскользила вниз. Коснулась сначала самого толстого щупальца, того, что ползло в направлении Майрона, сдавила его кожу, или что у них там; потом прорезала. Из пореза брызнула черная жижа. Щупальце бешено забилось, заметалось по складу, словно огромный неприличной толщины кнут. Потом вдруг сплющилось, скользнуло под дверь и исчезло. Остальные тоже начали отползать.
Одно из них тянуло за собой пятифунтовую упаковку собачьих консервов и никак не хотело ее оставлять. Опускающаяся дверь разрубила его надвое и с тяжелым стуком встала на место. Отрубленный кусок щупальца конвульсивно сжался, раздавив пачку, и по складу во все стороны разлетелись коричневые куски собачьего концентрата. Щупальце забилось на полу, словно рыба, выброшенная на берег. Оно сжималось и раскручивалось, но с каждым разом все медленнее, до тех пор, пока не замерло совсем. Я ткнул его рукояткой швабры, и трехфутовый кусок щупальца хищно сжался вокруг нее, потом обмяк и упал среди рулонов туалетной бумаги, собачьей кормежки и пакетов с отбеливателем.
Все стихло, только генератор продолжал гудеть, и плакал за фанерной перегородкой Олли. Через открытую дверь я видел, что он сидит на стуле, закрыв лицо руками.
Затем я осознал, что слышу еще какой-то звук. Мягкое скользящее шуршание, которое слышал раньше, только теперь оно стало в десять раз сильнее. Кишащие щупальца за загрузочной дверью пытались проникнуть внутрь.
Майрон сделал несколько шагов в мою сторону.
– Послушай… – начал он. – Ты должен понять…
Я ударил его кулаком в лицо, и от неожиданности он даже не попытался защититься. Удар пришелся под нос, верхнюю губу расплющило о зубы, и из разбитой губы потекла кровь.
– Ты убил его! – закричал я. – Ты хорошо видел, что произошло? Ты видел, что ты наделал?
И я принялся бить его, нанося удары и левой, и правой, но не так, как учили меня когда-то в секции бокса в колледже, а просто наотмашь. Он отступал, отбивая часть ударов и принимая другие в оцепенении, вызванном, может быть, отрешенностью и чувством вины. От этого я злился еще больше. Я расквасил ему нос и посадил синяк под глазом, который, почернев, должен смотреться просто великолепно. Я ударил его в челюсть, после чего его глаза затуманились и потеряли осмысленное выражение.
– Послушай… – продолжал твердить он. – Послушай, ну послушай же…
Я ударил его в живот, и он, резко выдохнув, замолчал. Не знаю, как долго я лупил бы его, но тут кто-то схватил меня за руки. Я вырвался и обернулся, надеясь, что это Джим. Ему мне тоже хотелось врезать.
Но это оказался не Джим, а Олли. С круглым смертельно-бледным лицом и темными кругами под глазами, еще влажными от слез.
– Не надо, Дэвид, – сказал он. – Не бей его больше. Это ничего не изменит.
Джим с ошарашенным пустым лицом стоял неподалеку. Я пнул ногой коробку с чем-то в его сторону. Она ударилась о его ботинок и отскочила.
– Ты и твой приятель – безмозглое дерьмо, – сказал я.
– Хватит, Дэвид, – сказал Олли устало. – Успокойся.
– Вы, два дурака, убили этого парня.
Джим смотрел себе под ноги. Майрон сидел на полу, держась за свой «пивной» живот. Я тяжело дышал, кровь стучала в висках, и меня била дрожь. Я сел на пару картонных коробок, уронив голову между колен, и обхватил руками лодыжки. Какое-то время я сидел не двигаясь, чувствуя, что я или потеряю сознание, или меня стошнит, или еще что-нибудь.
Потом это ощущение стало проходить, и я поглядел на Олли. Его кольцо блестело в тусклом свете аварийных ламп сдержанным огнем.
– Ладно, – тупо сказал я. – Все.
– Хорошо, – сказал Олли. – Надо подумать, что делать дальше.
В помещении снова запахло дизельным выхлопом.
– Выключить генератор для начала.
– Да, и давайте сматываться отсюда, – добавил Майрон, глядя на меня виновато. – Мне жаль, что так получилось с этим парнем. Но ты должен понять…
– Ничего не хочу понимать. Вы с приятелем идите обратно в магазин, но ждите нас прямо тут, у пивного охладителя. И никому ничего не говорить. Пока.
Они пошли, не споря, и, прижавшись друг к другу, протиснулись в дверь. Олли заглушил генератор, и за секунду до того, как свет погас, я увидел брошенную на ящик с пустыми бутылками стеганую тряпку вроде тех, что грузчики обычно подкладывают под хрупкие предметы, и прихватил ее с собой.
Шаркая ногами и на что-то натыкаясь, Олли выбрался из генераторного отсека. Как большинство людей с лишним весом, он дышал тяжело и чуть с присвистом.
– Дэвид? – Его голос немного дрожал. – Ты еще здесь?
– Здесь, Олли. Осторожнее, тут кругом эти коробки с отбеливателем.
Я наводил его голосом, и через полминуты или около того он протянул в темноте руку и схватил меня за плечо, судорожно, с облегчением вздохнув.
– Черт. Давай выбираться отсюда. Здесь темно и… паршиво.
– Да уж, – сказал я. – Но подожди минуту. Я хотел поговорить с тобой, только без этих двух идиотов.
– Дэйв, они ведь не заставляли его. Ты должен это помнить.
– Норм – мальчишка, а эти двое – взрослые люди. Но ладно, хватит об этом. Нам придется рассказать им, Олли. Людям в магазине.
– Если будет паника… – с сомнением проговорил Олли.
– Может, будет, может, нет. Но по крайней мере они дважды подумают, прежде чем выходить на улицу, чего как раз и хотят большинство из них. Почти у всех дома кто-то остался. У меня тоже. Надо заставить их понять, чем они рискуют, выходя наружу.
– Ладно, – сказал он, крепко сжимая мою руку. – Только я не перестаю себя спрашивать… Все эти щупальца – как у осьминога или… Дэвид, чьи они? Чьи могут быть такие щупальца?
– Не знаю. Но я не хочу, чтобы те двое разболтали все сами. Тогда точно начнется паника. Пошли.
Я осмотрелся и через несколько секунд нашел тонкую вертикальную линию света между двумя половинками двери. Мы двинулись вперед, скользя ногами по полу, чтобы не споткнуться о разбросанные коробки. Олли продолжал держаться за мою руку. Только в этот момент я сообразил, что мы потеряли все наши фонарики. Уже у самой двери Олли сказал растерянно:
– То, что мы видели… Это невозможно, Дэвид. Ты ведь согласен? Даже если бы, скажем, грузовик из Бостонского океанариума вывалил позади магазина какое-нибудь чудовище вроде тех, что описаны в «Двадцать тысяч лье под водой», оно бы умерло. Просто умерло.
– Да, – сказал я. – Согласен.
– Так что же случилось, а? Что произошло? И что это за чертовщина?
– Олли, я не знаю, – ответил я, и мы вернулись в магазин.
Глава 5. Спор с Нортоном. Дискуссия. У охладителя пива. Подтверждение
Джим и его приятель Майрон стояли сразу за дверями, и каждый держал в руках по банке «Будвайзера». Я посмотрел на Билли, увидел, что он еще спит, и укрыл его стеганой подстилкой. Он зашевелился во сне, но потом снова затих. Я взглянул на часы: было 12.15. Невероятно. Мне казалось, с тех пор, как я пошел на склад искать что-нибудь для Билли, прошло по крайней мере часов пять. Но на самом деле все заняло не больше тридцати пяти минут.
Я вернулся к Олли, Джиму и Майрону. Олли тоже взял себе пива и предложил банку мне. Я одним глотком отпил половину, как утром, когда пилил деревья. Стало чуть легче.
Джим оказался Джимом Грондином, а фамилия Майрона была Ляфлер. Цветок. Выглядел мистер Цветок теперь немного комично, но что поделаешь: на губах, подбородке и щеках Майрона-цветка засыхала кровь. Подбитый глаз уже распухал. Девушка в красной кофточке, проходя мимо, бросила на него настороженный взгляд. Я хотел было сказать ей, что он опасен лишь для подростков, которые пытаются доказать, что уже повзрослели, но смолчал. В конце концов Олли был прав: они действительно хотели сделать как лучше, хотя делали это слепо и скорее от страха, чем для общего блага. А теперь эти двое будут нужны мне для того, что я считаю правильным. Впрочем, я думал, они не станут спорить: их обоих здорово встряхнуло происшедшее, и оба они, особенно Майрон-цветок, какое-то время будут еще не в себе. Что-то, что блестело в их глазах, когда они отправляли Норма прочистить выхлопную трубу, теперь погасло.
– Нам нужно будет сказать что-то людям, – начал я.
Джим открыл было рот, собираясь возразить.
– Мы с Олли не станем болтать о том, как вы посылали Норма наружу, если вы подтвердите сказанное нами о том… О том, что его утащило.
– Конечно, – подобострастно произнес Джим. – Если мы им не скажем, кто-нибудь еще пойдет на улицу. Как та женщина… которая… – Он вытер ладонью губы и торопливо приложился к банке. – Боже, что происходит?..
– Дэвид, – сказал Олли. – А что… – Он замолчал, потом заставил себя продолжить: – А что, если они заберутся внутрь? Щупальца.
– Каким образом? – спросил Джим. – Вы же закрыли дверь.
– Да, – сказал Олли. – Но весь фасад магазина – сплошная стеклянная витрина.
У меня возникло такое ощущение, словно я упал в лифте с двадцатого этажа. Конечно, я все время это знал, но до сих пор почему-то с успехом игнорировал. Я обернулся в ту сторону, где спал Билли, вспомнив, как обвивали щупальца Норма, и представил, что то же самое случится с Билли.
– Витринное стекло, – прошептал Майрон. – Боже милостивый!..
Я оставил их у охладителя пива, где они начали уже по второй банке, и пошел искать Брента Нортона. Нашел его с Бадом Брауном у кассы номер два. Оба они – Нортон с его шикарной седеющей прической и привлекательностью уже немолодого, но еще активного мужчины и Браун с его строгой физиономией – словно сошли с карикатуры из «Нью-Йоркера».
Человек двадцать пять бесцельно бродили между линией касс и витриной. Некоторые выстроились вдоль стекла, вглядываясь в туман, и это снова напомнило мне людей, разглядывающих новостройку через щели в заборе.
Миссис Кармоди сидела на конвейерной ленте у одной из касс и курила. Ее взгляд скользнул по мне, потом ушел в сторону. Выглядела она так, будто видела сны наяву.
– Брент, – позвал я.
– Дэвид? Куда ты запропастился?
– Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить.
– Там у охладителя люди пьют пиво, – мрачно произнес Браун тоном человека, сообщающего, что на церковной вечеринке показывали порнографический фильм. – Я их вижу в специальное зеркало. С этим нужно покончить.
– Брент?
– Извините меня, мистер Браун, я на минутку.
– Конечно. – Он сложил руки на груди и мрачно уставился в выпуклое зеркало. – Нет, это определенно нужно прекратить.
Мы с Нортоном двинулись мимо стеллажей с посудой и кухонными принадлежностями к охладителю в дальнем конце магазина. Я оглянулся через плечо, с нелегким чувством отметив, как сильно выгнулись и потрескались деревянные рамы, удерживающие высокие прямоугольные секции витринных стекол. Одно из них, вспомнил я, уже разбилось. Неровный клин стекла вывалился из верхнего угла рамы после того странного подземного толчка. Может быть, нам удастся заткнуть дыру какими-нибудь тряпками, скажем, охапкой тех женских кофточек по 3 доллара 95 центов, что я видел у винного стеллажа…
Эти мысли оборвались внезапно, и мне пришлось заткнуть рот тыльной стороной ладони, как будто я хотел заглушить звук отрыжки.
На самом деле я пытался задушить отвратительный поток испуганного хихиканья, вызванного мыслью о том, как я собираюсь запихать в дыру охапку кофточек, чтобы защититься от щупалец, утащивших Норма. Я сам видел, как одно из них – причем маленькое – давило пачку собачьих консервов, пока та просто не лопнула.
– Дэвид? Что с тобой?
– А?
– Твое лицо… Ты выглядишь так, словно придумал что-то или очень хорошее, или совсем ужасное.
Тут меня как будто ударило.
– Брент, а что с тем человеком, который выбежал из тумана и кричал, будто что-то схватило Джона Ли Фровина?
– С разбитым носом?
– Да, он самый.
– Он потерял сознание, и мистер Браун приводил его в чувство какой-то ароматной солью из аптечки первой помощи. А что?
– Он сказал что-нибудь, когда очнулся?
– Продолжал говорить что-то про эту свою галлюцинацию. Мистер Браун отвел его в свой кабинет, а то женщины начали пугаться. Он пошел, в общем-то, даже охотно. Говорил что-то про стекла. Когда мистер Браун сказал, что в кабинете менеджера только маленькое окно, да и то забрано решеткой, он пошел охотно. Надо полагать, он все еще там.
– То, о чем он говорил, не галлюцинация.
– Конечно, нет.
– А тот толчок, что мы почувствовали?
– Тоже, но, Дэвид…
Он напуган, напоминал я себе. Не перестарайся. На сегодня уже достаточно. С ним нужно полегче, потому что именно так он вел себя во время того дурацкого спора из-за земли. Сначала покровительственно, потом саркастически и наконец, когда стало ясно, что он проигрывает, просто мерзко. Не перестарайся, потому что он тебе нужен. Он, может быть, не способен завести свою собственную бензопилу, но он выглядит как образ отца для всего западного мира, и, если он скажет людям не паниковать, они не будут. Поэтому не перестарайся.
– Ты видишь вон те двойные двери за охладителем пива?
Он посмотрел и нахмурился.
– Один из тех, что пьют пиво… Это не помощник ли менеджера? Викс, кажется? Если Браун его увидит, могу пообещать тебе, что скоро этому человеку придется искать новую работу.
– Брент, ты меня слушаешь?
Он рассеянно взглянул на меня.
– Извини, Дэйв. Что ты говорил?
«Видимо, сейчас ему придется несладко».
– Ты видишь эти двери?
– Вижу, конечно. И что?
– Они ведут в складское помещение, расположенное вдоль всей западной стены здания. Когда Билли уснул, я пошел туда поискать, чем можно его укрыть…
Я рассказал ему все, скрыв только спор о том, стоит ли Норму выходить или нет. Я рассказал ему о том, что заползло в загрузочную дверь и чем все кончилось. Брент Нортон отказывался верить. Нет, он отказывался даже предположить, что такое может произойти. Я подвел его к Джиму, Олли и Майрону. Все трое подтвердили мои слова, хотя Джим и Майрон-цветок были уже здорово пьяны.
Нортон опять отказывался поверить. Просто уперся.
– Нет, – сказал он. – Нет, нет и нет. Простите, джентльмены, но это совершенно возмутительно. Или вы пытаетесь меня разыграть, – он одарил нас сияющей улыбкой, показывая, что не хуже других понимает шутки, – или вы все страдаете от какой-то формы группового гипноза.
Я начал терять самообладание, но все же сдержался. Обычно я считал себя человеком спокойным, но обстоятельства были не совсем обычные. Мне нужно было думать о Билли и о том, что могло случиться или уже случилось со Стефани. Эти мысли грызли меня постоянно.
– Ладно, – сказал я. – Пошли туда. Там на полу остался кусок щупальца. Его отрезало дверью, когда мы ее закрывали. И там ты сможешь услышать их. Они шуршат у двери, словно ветер в зарослях плюща.
– Нет, – сказал он спокойно.
– Что? – Я действительно подумал, что ослышался. – Что ты сказал?
– Я сказал «нет». Я не пойду туда. Шутка зашла слишком далеко.
– Брент, клянусь тебе, это не шутка.
– Разумеется, вы решили пошутить, – сурово произнес он, потом посмотрел на Джима и Майрона, остановил взгляд на Олли Виксе, который выдержал его спокойно и бесстрастно, и наконец взглянул на меня. – Это то, что вы, местные, называете «животы надорвать можно»? Да, Дэвид?
– Брент… Послушай…
– Нет, это ты послушай! – Голос его загремел, разносясь по магазину, словно в зале суда, и несколько человек, изнервничавшихся и бесцельно шатавшихся по проходам, обернулись в нашу сторону посмотреть, что происходит. – Это шутка. Банановая кожура. И вы выбрали меня, чтобы я на ней поскользнулся. Никто из вас особенно не любит людей со стороны, так ведь? Вы все тут друг за друга. Так же, как случилось в тот раз, когда я потащил тебя в суд, чтобы получить, что причитается мне по праву. Ты тогда выиграл, ладно. Ну как же? Ведь твой отец знаменитый художник, и это твой город, а я здесь лишь плачу налоги и трачу деньги!
Он уже не играл, отчитывая нас хорошо поставленным адвокатским голосом. Он почти кричал, готовый вот-вот совсем потерять контроль над собой. Олли Викс развернулся и пошел прочь со своим пивом. Майрон и Джим смотрели на Нортона с откровенным удивлением.
– И я должен идти туда и смотреть на какую-то резиновую игрушку за девяносто восемь центов, а эти два болвана будут стоять рядом и ржать?
– Эй, ты, полегче. Кого ты называешь болваном? – сказал Майрон.
– Я, если хочешь знать, просто счастлив, что дерево упало на твой лодочный сарай. Просто счастлив! – Нортон улыбался мне с издевкой в глазах. – Его всмятку раздавило? Замечательно! А теперь прочь с моей дороги!
И он попытался отпихнуть меня, чтобы пройти. Я схватил его за руку и толкнул спиной об охладитель. Две упаковки по шесть банок сорвались с полки и упали на пол.
– Прочисти уши и слушай, Брент. От этого зависят жизни. И жизнь моего ребенка для меня не последнее дело. Так что ты лучше слушай, а не то, клянусь, я из тебя повыколочу дерьмо.
– Ну давай, – сказал Нортон, все еще улыбаясь с какой-то безумной бравадой во взгляде. Глаза его, огромные и налившиеся кровью, лезли из орбит. – Покажи всем, что ты сильный и смелый и можешь избить человека с больным сердцем, который тебе в отцы годится.
– Вмажь ему! – крикнул Джим. – Хрен с его больным сердцем. Я думаю, у дешевого нью-йоркского крючкотвора вообще нет сердца.
– Не лезь, – сказал я Джиму и наклонился к Нортону. Охладитель не работал, но от него еще тянуло холодом. – Прекрати кипятиться. Ты прекрасно знаешь, что я говорю правду.
– Я… ничего такого… не знаю, – проговорил он, тяжело дыша.
– Если бы это случилось в другое время и в другом месте, я бы отвязался от тебя. Но сейчас мне наплевать, насколько ты напуган, и я не держу на тебя зла за твои слова. Я тоже напуган, но ты мне нужен, черт побери! Дошло до тебя? Ты мне нужен!
– Отпусти меня!
Я схватил его за рубашку и встряхнул.
– Ты что, ничего не понял? Люди начнут выходить из магазина и наткнутся прямо на это чудовище! Понял ты наконец, черт побери?
– Отпусти меня!
– Нет. До тех пор, пока ты не пойдешь со мной и не посмотришь.
– Я сказал тебе, нет! Это все обман, шутка, и я не настолько глуп, чтобы…
– Тогда я потащу тебя силой.
Я схватил его за плечо и за шею. Шов рубашки на одном из рукавов не выдержал и с легким треском разошелся. Я потащил его к дверям склада. Нортон издал сдавленный крик. Поблизости собралось человек пятнадцать или восемнадцать, но никто не подошел и не собирался вмешиваться.
– Помогите! – закричал Нортон, выпучив глаза за стеклами очков. Его прическа снова рассыпалась, и волосы торчали двумя маленькими пучками за ушами. Люди шаркали ногами и наблюдали.
– Что ты кричишь? – заговорил я ему на ухо. – Это же всего лишь шутка. Именно поэтому я взял тебя с собой в город, когда ты попросил, и поэтому доверил тебе перевести Билли через автостоянку. Все потому, что у меня тут был заготовлен туман; я арендовал специальную машину в Голливуде за пятнадцать тысяч долларов и еще заплатил восемь тысяч за доставку – все для того, чтобы тебя разыграть. Прекрати вести себя как идиот и открой глаза.
– От-пу-сти! – провыл Нортон, когда мы были почти у дверей.
– Ну-ка, ну-ка! Что там такое? Что вы делаете? – Расталкивая толпу, появился Браун.
– Заставьте его отпустить меня, – хрипло сказал Нортон. – Он сошел с ума.
– Нет. Хотел бы я, чтобы так было, но это не так, – вступился за меня Олли, и я был готов молиться на него. Он прошел между стеллажами позади нас и остановился напротив Брауна.
Взгляд Брауна упал на банку пива, которую Олли держал в руке.
– Ты пьешь! – произнес он, и в его голосе послышалось удивление, не лишенное, впрочем, нотки удовлетворения. – Ты потеряешь за это работу!
– Брось, Бад, – сказал я, отпуская Нортона. – Сейчас чрезвычайные обстоятельства.
– Правила пока никто не отменял, – самодовольно произнес Браун. – Я позабочусь, чтобы руководство компании узнало о случившемся. Это моя обязанность.
Нортон тем временем отбежал в сторону и остановился там, приглаживая волосы и заправляя рубашку. Взгляд его метался между Брауном и мной.
– Эй! – неожиданно крикнул Олли громким и басовитым голосом. Я никогда бы не подумал, что этот полный, но мягкий и скромный человек может говорить таким голосом. – Эй! Вы все! Идите сюда и слушайте! Это касается всех вас! – Он взглянул на меня спокойно и спросил, совершенно игнорируя Брауна: – Я правильно делаю?
– Да.
Люди начали собираться. Толпа зрителей, наблюдавших за моим спором с Нортоном, сначала удвоилась, потом утроилась.
– Вам всем следует кое-что узнать… – начал Олли.
– Немедленно поставь пиво на место, – перебил его Браун.
– Немедленно заткнись, – сказал я и шагнул к нему.
Браун тут же сделал шаг назад.
– Я не знаю, что некоторые из вас думают, – сказал он, – но могу пообещать, что все происходящее здесь будет доложено руководству «Федерал фудс компани»! Все! И я хочу, чтобы вы поняли, что за этим, возможно, последуют судебные обвинения!
Губы Брауна приоткрыли в нервной гримасе пожелтевшие зубы, и мне стало его немного жалко. Он просто пытался справиться с ситуацией. Точно так же, как Нортон поставил сам себе мысленный барьер. Как Майрон и Джим, пытавшиеся превратить все в мужскую браваду: если мы починим генератор, туман сам разойдется… Браун поступал по-своему: он «защищал магазин».
– Давай записывай фамилии, – сказал я. – Только молчи.
– Я запишу много фамилий, – ответил Браун, – и твоя будет в списке первой, ты, богема.
– Мистер Дрэйтон должен сказать вам что-то важное, – объявил Олли, – и, я думаю, всем вам стоит прислушаться на тот случай, если вы собираетесь отправиться домой.
Я рассказал им обо всем, что произошло, примерно так же, как рассказывал Нортону. Сначала некоторые смеялись, но к концу рассказа всех охватило глубокое беспокойство.
– Это все ложь, как вы понимаете, – сказал Нортон, пытаясь голосом подчеркнуть значение своих слов, но немного перестарался. И этому человеку я рассказал первому, надеясь заручиться его умением убеждать. Как я, однако, ошибся!
– Конечно, все это ложь, – согласился Браун. – Бред. Откуда, по-вашему, взялись эти щупальца, мистер Дрэйтон?
– Я не знаю, и сейчас это не самый главный вопрос. Они есть. И…
– Я подозреваю, что они появились из этих вот пивных банок. Вот что я подозреваю.
Эта реплика вызвала смех, но его тут же заглушил сильный скрипучий голос миссис Кармоди.
– Смерть! – выкрикнула она, и смеявшиеся быстро замолчали.
Она вышла в центр неровного круга, образованного собравшимися. Ее канареечные брюки, казалось, сами излучали свет, огромная сумка болталась у расплывшегося бедра. Черные глаза смотрели высокомерно и сверкали остро и зло, как глаза сороки. Две симпатичные девчонки лет шестнадцати с надписями «Лесной лагерь» на спинах белых рубашек из искусственного шелка испуганно отскочили от нее в сторону.
– Вы слушаете и не слышите! Слышите и не верите! Кто из вас хочет выйти наружу и убедиться сам? – Она обвела взглядом собравшихся, затем посмотрела на меня. – И что вы предполагаете делать, мистер Дэвид Дрэйтон? Что, вы считаете, можно сделать? – Она улыбнулась, словно череп над канареечным гарнитуром, и продолжила: – Это конец, говорю я вам! Конец всему! Перст Божий вывел строку приговора не огнем, а туманом. Земля разверзлась и исторгла чудовищ…
– Заткните ее кто-нибудь! – выкрикнула одна из девчонок, расплакавшись. – Она меня пугает.
– Ты напугана, дорогая? – спросила миссис Кармоди, накинувшись на нее. – Это еще не страх! А вот когда гнусные твари, которых дьявол выпустил на землю, доберутся до тебя…
– Достаточно, миссис Кармоди, – сказал Олли, взяв ее за руку. – Хватит.
– Ну-ка отпусти меня! Это конец, говорю я вам! Это смерть! Смерть!
– Это куча дерьма, – прокомментировал с отвращением мужчина в очках и шляпе рыболова.
– Нет, сэр, – сказал Майрон. – Я знаю, что все это звучит как фрагмент фантазии наркомана, но это чистая правда. Я сам видел.
– И я, – сказал Джим.
– Я тоже, – вставил Олли. Ему все же удалось угомонить миссис Кармоди, по крайней мере на время. Но она стояла рядом, сжимая в руках свою огромную сумку, и улыбалась своей безумной улыбкой. Никто не хотел стоять рядом с ней. Люди что-то бормотали: то, что мой рассказ подтвердили, никого не обрадовало. Несколько человек задумчиво посмотрели на витринные стекла, и это меня обнадежило.
– Все ложь, – сказал Нортон. – Вы просто покрываете друг друга, вот и все.
– В то, что ты рассказал, невозможно поверить, – заявил Браун.
– А нечего здесь стоять и молоть воду в ступе, – ответил я. – Пойдем на склад. Сам увидишь. И услышишь.
– Покупателям не положено…
– Бад, – сказал Олли, – иди с ним. Пора кончать это.
– Ладно, – сказал Браун. – Мистер Дрэйтон, давайте наконец покончим с этим вопросом.
Оттолкнув двери, мы вошли в темноту.
Звук был неприятный, даже зловещий.
Браун тоже это почувствовал, несмотря на всю свою твердолобую американскую манерность. Он тут же схватил меня за руку, дыхание его на мгновение пресеклось, потом он снова задышал, но уже как-то хрипло.
Низкий шепчущий звук доносился со стороны загрузочной двери, почти ласкающий звук. Я провел ногой по полу, задел один из фонариков, наклонился, подобрал его и включил. Лицо Брауна застыло, хотя он еще ничего не видел, только слышал. Но я видел и мог представить себе, как щупальца извиваются и ползают по гофрированной стальной поверхности двери, словно живые лианы.
– Ну что ты теперь думаешь? Невозможно поверить?
Браун обвел взглядом разбросанные коробки и пакеты.
– Это все они натворили?
– Да. По большей части они. Иди сюда.
Он с неохотой подошел. Я направил луч фонарика на сжавшийся свернутый кусок щупальца, лежавший рядом со шваброй. Браун наклонился.
– Не трогай, – сказал я. – Оно может быть еще живо.
Браун быстро выпрямился. Я подобрал швабру, взяв ее за щетину, и потыкал щупальце рукояткой. На третий или четвертый раз оно разогнулось лениво, показав две целые присоски и неровный сегмент третьей. Потом обрубок молниеносно сжался и замер. Браун издал какой-то придушенный звук, словно его тошнило.
– Достаточно?
– Да, – сказал он. – Пойдем отсюда.
Мы проследовали за прыгающим лучом к дверям и вышли в торговый зал. Все лица повернулись к нам, гул голосов стих. Лицо Нортона стало похожим на старый сыр. Глаза миссис Кармоди заблестели. Олли продолжал пить пиво, и по его лицу все еще сбегали капельки пота, хотя в магазине было уже не жарко. Две девчонки с надписями «Лесной лагерь» на рубашках прижались друг к другу, как молодые лошадки перед грозой. Глаза. Так много глаз. Я мог бы написать их, подумал я, холодея. Не лица, а одни глаза в полумраке. Я мог бы написать их, но никто не поверит, что это было в действительности.
Бад Браун сложил ладони с длинными пальцами перед собой.
– Внимание, – сказал он. – Мы, похоже, действительно столкнулись со значительной проблемой…
Глава 6. Дальнейшее обсуждение Миссис Кармоди. Что случилось с «Обществом верящих, что Земля плоская»
Следующие несколько часов прошли, словно во сне. За подтверждением Брауна последовала долгая и полуистеричная дискуссия. Впрочем, может быть, она длилась не так долго, как мне показалось. Просто у людей возникла мрачная необходимость пережевать полученную информацию, взглянуть на нее со всех сторон и потрепать, как собака треплет кость, чтобы добраться до костного мозга. Люди начинают верить медленно. То же самое вы можете наблюдать на любом городском собрании в Новой Англии.
«Общество Верящих, Что Земля Плоская», возглавляемое Нортоном, состояло человек из десяти, которых мой рассказ не убедил. Нортон снова и снова повторял, что всего четыре свидетеля якобы видели, как носильщика унесли, по его выражению, «щупальца с планеты Икс» (в первый раз это вызвало смех, но быстро приелось; Нортон, однако, все больше и больше распаляясь, казалось, этого не замечал), и добавлял, что лично он ни одному из четверых не верит. Кроме того, указывал он, пятьдесят процентов свидетелей безнадежно пьяны, что было, безусловно, верно: Джим и Майрон Ляфлер, имея в своем распоряжении целый охладитель пива и винную секцию, упились безобразно. Впрочем, вспоминая, что случилось с Нормом и какую роль сыграли в этом они, я их не осуждал. Они протрезвеют слишком скоро.
Олли тоже продолжал пить, игнорируя протесты Брауна, и спустя какое-то время тот махнул на него рукой. Лишь изредка, видимо, в утешение себе, он разражался угрозами от лица компании. Похоже, он просто не понимал, что «Федерал фудс компани» с магазинами в Бриджтоне, Северном Уиндеме и Портланде, возможно, уже не существует. Может быть, всего Восточного побережья уже нет. Олли пил размеренно, но не пьянел, выгоняя с по́том все, что он в себя вливал.
Наконец, когда дискуссия с «Обществом Верящих, Что Земля Плоская» стала слишком язвительной, Олли не выдержал:
– Если вы нам не верите, мистер Нортон, это ваше дело. Я вам подскажу, что вы можете сделать. Вы выйдете через главный вход и пройдете за магазин. Там гора пустых банок из-под пива и бутылок от содовой. Мы с Нормом и Бадди выставили их туда сегодня утром. Вы прихватите пару бутылок, и мы убедимся, что вы действительно там были. Если вы это сделаете, я обещаю, что первый сниму и съем свою рубашку.
Нортон начал краснеть.
Олли продолжал добивать его тем же самым ровным, мягким голосом:
– Своими разговорами вы только вредите, вот что я вам скажу. Здесь есть люди, которые хотят пойти домой, чтобы удостовериться, что их семьи в порядке. У меня у самого сестра с годовалым ребенком дома в Нейплсе, и я, конечно, хотел бы проверить, как она там. Но если люди поверят вам и начнут расходиться, с ними случится то же самое, что с Нормом.
Нортона он не убедил, зато убедил нескольких человек из тех, что колебались или собирались присоединиться к нему, убедил главным образом не тем, что он сказал, а скорее взглядом – испуганным и обеспокоенным. Сам Нортон, видимо, цеплялся за свои теории, потому что на этом держалось его здравомыслие или по крайней мере потому, что ему так казалось. Но он не принял предложения Олли. Никто не принял. Они еще не были готовы выйти наружу, пока не были. Он и его маленькое «общество» (потерявшее теперь несколько человек) отошли насколько могли дальше от нас, к прилавку с готовыми мясными продуктами. Один из них задел моего сына за ногу, и Билли проснулся.
Я наклонился к нему, и он обнял меня за шею, а когда я попытался положить его снова, он прижался еще крепче и сказал:
– Не надо, папа. Пожалуйста.
Я разыскал тележку и посадил его на сиденье для детей. Оказалось, что он для нее слишком велик. Это было бы даже забавно, если бы не его бледное лицо, темные волосы, сбившиеся на лоб, и грустные глаза. Наверное, года два уже прошло с тех пор, как его в последний раз возили на детском сиденье тележки для продуктов. Эти маленькие вехи проходят мимо, и мы не замечаем их, а когда перемены вдруг все-таки доходят до сознания, они всегда неожиданны.
Тем временем в отсутствие «Общества Верящих, Что Земля Плоская» дискуссия нашла себе новый громоотвод, и теперь в этой роли оказалась миссис Кармоди. По вполне понятным причинам она была одна.
При тусклом унылом освещении в своем ослепительном канареечном костюме, в яркой кофте, с раздувшейся сумкой и целой пригоршней позвякивающей бижутерии из меди, черепаховой кости и адамантина, она здорово походила на ведьму. Лицо ее прочертили глубокие вертикальные морщины. Седые мелко завитые волосы удерживались на месте тремя роговыми гребнями и были собраны сзади в пучок, а сжатые губы выглядели словно отрезок узловатого каната.
– Нет защиты против воли Божьей! И того, что произошло, следовало ожидать. Я видела знамения. Здесь есть те, кому я говорила это, но нет таких, кто был бы настолько слеп, что не увидел бы сам.
– Ну и что? Что вы предлагаете? – нетерпеливо перебил ее Майк Хатлен, член городского управления, хотя сейчас в своей яхтсменской шапочке и «бермудах» с отвисшим задом он на лицо официальное ничем не походил. Он пил пиво, что теперь делали уже почти все мужчины. Бад Браун прекратил протестовать, но действительно записывал фамилии, стараясь уследить за всеми сразу.
– Предлагаю? – эхом отозвалась миссис Кармоди, поворачиваясь к Хатлену. – Я предлагаю, чтобы ты, Майкл Хатлен, готовился встретить своего Господа. – Она обвела взглядом всех собравшихся. – Готовьтесь встретить своего Господа!
– Готовьтесь встретить кучу дерьма! – пьяным голосом пробормотал Майрон Ляфлер из-за охладителя. – Старуха, у тебя язык, наверное, подвешен посередине, чтобы ты могла трепать им с обоих концов.
Голоса поднялись в одобрительном ропоте. Билли нервно оглянулся, и я положил руку ему на плечо.
– Нет, я все-таки скажу свое слово! – прокричала миссис Кармоди. Верхняя губа ее вытянулась вверх, открывая кривые зубы, желтые от никотина, и мне вспомнились пыльные чучела животных из ее магазина, вечно лакающие воду из зеркала, изображающего ручей. – Сомневающиеся будут сомневаться до самого конца! Но чудовища заберут этого заблудшего молодого человека! Чудовища из тумана! Мерзость из дурных снов! Безглазые уроды! Бледные ужасы! Ты сомневаешься? Тогда выйди на улицу! Выйди и поздоровайся с ними!
– Миссис Кармоди, вам придется прекратить это, – сказал я. – Вы пугаете моего ребенка.
Какой-то мужчина с маленькой девочкой поддержал меня. Девчонка с пухлыми ножками и ободранными коленками прижалась лицом к его животу и закрыла уши руками.
– У нас есть только один шанс, – провозгласила миссис Кармоди.
– Какой, мадам? – вежливо спросил Майк Хатлен.
– Жертвоприношение, – ответила она и, мне показалось, улыбнулась в полумраке. – Кровавое жертвоприношение.
«Кровавое жертвоприношение» – слова будто повисли в воздухе, медленно поворачиваясь. Даже сейчас, когда я знаю, что это не так, я говорю себе, что она, может быть, имела в виду чью-нибудь собачку. Две как раз бегали по залу, несмотря на правила, запрещающие приводить в помещение магазина собак. Даже сейчас я говорю себе это. В полумраке она выглядела, словно какое-то безумное воплощение пережитков новоанглийского пуританства, но, я подозреваю, нечто более темное и глубокое, чем просто пуританство, двигало ею. У пуританства есть свой мрачный праотец, старый Адам с окровавленными руками.
Она открыла рот, собираясь что-то добавить, но в этот момент небольшого роста мужчина в красных спортивных брюках и опрятной футболке ударил ее ладонью по лицу. Мужчина с аккуратным, словно по линейке, пробором слева, в очках – типичный турист из тех, что наезжают сюда летом.
– Немедленно прекратите эти грязные речи, – сказал он мягким невыразительным голосом.
Миссис Кармоди подняла руку к губам, потом вытянула ее в нашу сторону в молчаливом обвинении. На ладони была кровь, но ее черные глаза светились, казалось, диким ликованием.
– Давно добивалась! – выкрикнула из толпы женщина. – Я бы и сама с удовольствием это сделала!
– Они еще доберутся до вас, – сказала миссис Кармоди, предъявляя нам окровавленную ладонь. Ручеек крови стекал с ее губ по одной из морщин, словно дождевые капли по водостоку. – Не сейчас, может быть. Вечером. Ночью, когда опустится темнота. Они придут в ночи и возьмут кого-нибудь еще. Ночью они придут! И вы услышите, как они ползут и скребутся. И когда они придут, вы еще будете умолять мать Кармоди подсказать вам, что делать.
Мужчина в красных спортивных брюках медленно поднял руку.
– Ну, ударь меня, – прошептала она и улыбнулась ему окровавленными губами.
Рука его дрогнула.
– Ударь, если посмеешь.
Рука упала, и миссис Кармоди пошла прочь. Билли заплакал, прижавшись лицом ко мне, как только что плакала маленькая девочка.
– Я хочу домой, – хныкал он. – Я хочу к маме.
Я утешал его как мог. Но наверное, я мог не очень много.
Постепенно темы разговоров стали менее пугающими и обескураживающими. Кто-то упомянул витринные стекла, наиболее уязвимое место супермаркета. Майк Хатлен спросил, какие еще входы есть в магазине, и Олли с Брауном тут же их перечислили: две загрузочные двери, кроме той, что открывал Норм, главный вход и окно в кабинете менеджера (толстое армированное стекло, все надежно заперто).
Разговор на эту тему произвел парадоксальный эффект. Опасность стала казаться более реальной, но в то же время все почувствовали себя значительно лучше. Даже Билли это ощутил. Он спросил меня, можно ли ему пойти взять плитку шоколада, и я разрешил при условии, что он не будет подходить к окнам. Когда он отошел подальше, мужчина, стоявший рядом с Майком Хатленом, сказал:
– О’кей. Что мы будем делать с окнами? Старую леди, может быть, действительно бешеный клоп укусил, но она права: ночью и в самом деле кто-то может вломиться.
– Может, туман к тому времени разойдется, – предположила какая-то женщина.
– Может, – сказал мужчина, – а может, и нет.
– Есть какие-нибудь идеи? – спросил я у Бада и Олли.
– Минутку, – сказал мужчина рядом с Хатленом. – Я Ден Миллер из Линна, штат Массачусетс. Вы меня не знаете, не было повода познакомиться, но у меня дом на озере Хайлэнд. Купил только в этом году. Содрали с меня черт знает сколько, но я просто должен был его купить. – Кто-то рассмеялся. – Я вот о чем хотел сказать. Там в углу я видел целую гору мешков с удобрениями и подкормкой для газонов. Фунтов по двадцать пять большинство из них. Мы можем сложить их как мешки с песком. Оставить просветы, чтобы смотреть…
Люди закивали, начав возбужденно обсуждать предложение. Я едва сдержался, чтобы не высказать то, что вертелось у меня на языке. Миллер был прав. Можно сложить эти мешки у витрин – это никому не повредит, и, возможно, даже будет какая-то польза. Но мои мысли все время возвращались к воспоминанию о том, как щупальце сжимает упаковку с концентратом для собак, и я подумал, что щупальце побольше с легкостью может сделать то же самое с двадцатипятифунтовым мешком «Зеленых акров» или «Вигоро». Однако проповеди на эту тему вряд ли помогли бы нам или улучшили чье-то настроение.
Люди начали расходиться, намереваясь приняться за дело, и Миллер закричал:
– Стойте! Стойте! Пока мы все здесь, давайте попробуем решить остальные вопросы!
Люди вернулись, и человек пятьдесят – шестьдесят собрались в углу между охладителем, дверью в складское помещение и мясным прилавком, где мистер Маквей обычно выкладывал никому вроде бы не нужные продукты: потроха, бараньи мозги и зельц. Билли просочился сквозь толпу с подсознательным проворством, которым пятилетние обладают в мире гигантов-взрослых, и протянул мне плитку шоколада.
– Хочешь, папа?
– Спасибо. – Я откусил кусочек. Стало сладко и хорошо.
– Может быть, это глупый вопрос, – продолжил Миллер, – но нужно выяснить все до конца. У кого-нибудь есть оружие?
Все замолчали, поглядывая друг на друга и пожимая плечами. Седой старик, представившийся Амброзом Корнеллом, сказал, что у него в багажнике машины есть охотничье ружье.
– Если хотите, я попробую его достать.
– Сейчас, я думаю, – сказал Олли, – это не очень хорошая идея, мистер Корнелл.
– Сейчас, – буркнул Корнелл, – я тоже так думаю. Но я решил, что предложить нужно было.
– Так, ладно, я в общем-то и не надеялся, – сказал Миллер, – но думал…
– Подождите минуту, – раздался женский голос. Оказалось, это леди в красной кофточке и зеленых брюках. У нее были светлые, песочного цвета волосы и очень хорошая фигура. Вообще, очень привлекательная молодая женщина. Она расстегнула сумочку и достала оттуда средних размеров пистолет. Толпа издала глухой возглас удивления, словно на их глазах фокусник проделал какой-то особенно эффектный трюк. Женщина, и так уже пунцовая, покраснела еще сильнее. Она покопалась в сумочке и извлекла оттуда коробку патронов «смит-и-вессон».
– Аманда Дамфрис, – сказала она Миллеру. – Этот пистолет… Это идея мужа. Он считал, что мне нужен пистолет для самозащиты. Я ношу его незаряженным уже два года.
– Ваш муж здесь, мадам?
– Нет, он в Нью-Йорке. По делам. Он часто ездит туда по делам, и поэтому хотел, чтобы у меня был пистолет.
– Что ж, – сказал Миллер, – если вы умеете им пользоваться, то пусть он лучше останется при вас. Он тридцать восьмого?
– Да. Но я стреляла из него всего один раз в жизни, в тренировочном тире.
Миллер принял от нее пистолет и, немного покопавшись, открыл барабан. Проверил, действительно ли он не заряжен.
– О’кей, – сказал он. – У нас есть пистолет. Кто хорошо стреляет? Я, к сожалению, не умею.
Люди переглянулись, но все молчали. Потом Олли сказал неохотно:
– Я довольно часто тренируюсь. У меня дома «кольт» сорок пятого калибра и «лама» двадцать пятого.
– Ты? – удивился Браун. – Ха! Ты к вечеру так налижешься, что и видеть-то ничего не будешь.
– Почему бы тебе не заткнуться и не заняться своими списками? – спросил Олли внятно и отчетливо.
Браун уставился на него изумленно, открыл было рот, но потом, видимо, действительно решил заткнуться. Я думаю, правильно решил.
– Он ваш, – сказал Миллер, несколько ошарашенно выслушав этот обмен репликами, и вручил ему пистолет. Олли снова его проверил, уже более профессионально. Потом положил в правый карман брюк. Коробку с патронами он сунул в нагрудный карман, где она здорово напоминала выпячивающуюся пачку сигарет. Проделав все это, он прислонился плечом к охладителю и со щелчком открыл новую банку пива. По его лицу все так же стекали капельки пота. Меня не оставляло ощущение, что я вижу совершенно не такого Олли Викса, каким привык себе его представлять.
– Благодарю вас, миссис Дамфрис, – сказал Миллер.
– Не стоит, – ответила она, и у меня мелькнула мысль о том, что, если бы я был ее мужем, владельцем этих зеленых глаз и прекрасной фигуры, я не разъезжал бы по делам так часто. Купить жене пистолет – поступок смехотворный и чисто символический.
– Это, может быть, тоже покажется вам глупым, – продолжал Миллер, повернувшись к Брауну с его записями и Олли с пивом, – но нет ли здесь чего-нибудь вроде огнемета? Нет?
– У-у-у, дьявол! – вырвалось у Бадди Иглтона, и он тут же покраснел, как до него Аманда Дамфрис.
– Что такое? – спросил Майк Хатлен.
– М-м-м… До прошлой недели у нас был целый ящик таких маленьких паяльных ламп. Из тех, что обычно используют дома, чтобы запаять протекающую трубу, или выхлоп у автомашины, или что-нибудь в таком духе… Вы помните их, мистер Браун?
Тот мрачно кивнул.
– Распроданы? – спросил Миллер.
– Нет, они совсем не пошли. Мы продали всего три или четыре штуки и отослали остальные обратно. Вот зараза!.. Виноват… Жаль… – Покраснев так, что щеки его стали чуть ли не фиолетовыми, Бадди Иглтон снова смешался с толпой.
У нас, конечно, были спички, соль (кто-то смутно припоминал, что он когда-то слышал, будто всяких кровососов и прочую нечисть вроде бы нужно посыпать солью) и различные щетки и швабры с длинными ручками. Многие все еще выглядели более или менее уверенно, а Джим и Майрон были слишком пьяны, чтобы вразумительно противоречить, но я поймал взгляд Олли и увидел в нем спокойную безнадежность, которая хуже, чем страх. И он, и я видели эти щупальца. И мысль о том, что мы будем бросать в них соль или отбиваться швабрами, казалась даже забавной, но забавной, как страшная карикатура.
– Майк, – сказал Миллер, – почему бы тебе не возглавить это маленькое мероприятие? Я хочу еще переговорить с Олли и Дэйвом.
– С удовольствием. – Хатлен хлопнул Дена Миллера по плечу. – Кто-то должен был взять на себя командование, и у тебя это отлично получилось. Добро пожаловать в наш город.
– Означает ли это, что я получу скидку с налогов? – спросил Миллер. Внешне он напоминал петуха: маленький, подвижный, с редеющей рыжей шевелюрой. Он был из тех, кто не может не понравиться при первом знакомстве и так же легко может разонравиться, когда пообщаешься с ним некоторое время. Из тех, кто знает, как делать абсолютно все лучше вас.
– Никоим образом, – рассмеявшись, ответил Хатлен и пошел работать. Миллер взглянул на моего сына.
– О Билли не беспокойтесь, – сказал я.
– Боже, я в жизни никогда ни о чем так не беспокоился! – заявил Миллер.
– Пожалуй, – согласился Олли, опустил пивную банку в охладитель и, достав новую, открыл ее. Послышалось шипение вырывающегося газа.
– Я заметил этот взгляд, которым вы обменялись, – сказал Миллер.
Доев шоколад, я взял банку пива, чтобы запить сладкое.
– Вот что я думаю, – сказал Миллер. – Надо отрядить с полдюжины человек обматывать швабры тряпками и обвязывать веревками. Потом надо будет приготовить пару этих канистр с жидкой растопкой для угля. Если срезать с них крышки, можно очень быстро делать факелы.
Я кивнул. Идея была хорошей. Хотя наверняка недостаточно хорошей для тех, кто видел, как щупальца утащили Норма. Но в любом случае факелы лучше, чем соль.
– По крайней мере им будет чем себя занять, – сказал Олли.
Губы Миллера сжались.
– Дела настолько плохи?
– Вот именно, – подтвердил Олли и снова принялся за пиво.
К полпятому мешки с удобрениями и подкормкой были на местах, закрывая все окна, за исключением небольших просветов для наблюдения. У каждого из них сидел дежурный со вскрытой банкой угольной растопки и горкой самодельных факелов. Всего сделали пять проемов, и Ден Миллер организовал смену дежурств. К полпятому я уже сидел на мешке у одного из проемов, Билли сидел рядом, и мы вглядывались в туман.
Сразу за окном стояла красная скамейка, где люди иногда поджидали друг друга, поставив рядом сумки с покупками. Дальше начиналась автостоянка. Плотный тяжелый туман медленно перемещался. В нем угадывалась влага, но все равно он казался безрадостным и мрачным. Один вид этого тумана заставлял чувствовать себя безвольным и проигравшим.
– Папа, ты знаешь, что происходит? – спросил Билли.
– Нет, малыш, – ответил я.
Он замолчал, разглядывая свои руки, лежащие на коленях.
– А почему нас никто не спасает? – спросил он наконец. – Полиция, ФБР или еще кто-нибудь?
– Я не знаю.
– А ты думаешь, с мамой все в порядке?
– Билли, я просто не знаю, – сказал я и обнял его за плечи.
– Я очень хочу к маме, – сказал Билли, борясь со слезами. – Я не буду больше плохо себя вести.
– Билли… – сказал я и остановился, ощутив в горле соленый привкус и едва сдерживая дрожь в голосе.
– Это когда-нибудь кончится? Папа? Кончится?
– Я не знаю, – ответил я, и он уткнулся лицом в мое плечо. Я положил руку ему на затылок, на изгиб черепа под густой шевелюрой, и почему-то вспомнил вечер того дня, когда мы со Стефф обручились. Я смотрел, как она снимает простое коричневое платье, в которое она переоделась после церемонии. На бедре у нее был большой фиолетовый синяк, оттого что за день до венчания она ударилась о полуоткрытую дверь. Помню, я смотрел на этот синяк, думая: «Когда она наставила себе этот синяк, она была еще Стефани Степанек», и испытывал что-то вроде удивления. Потом мы лежали рядом, а за окном сыпал с тускло-серого декабрьского неба снег.
Билли заплакал.
– Тш-ш-ш, Билли, тш-ш-ш, – говорил я ему, чуть покачивая его голову, уткнувшуюся в мое плечо, но он продолжал плакать. Такой плач умеют успокаивать только матери.
В «Федерал фудс» наступила преждевременная ночь, и Бад Браун раздал штук двадцать фонариков – все, что были в запасе. Нортон от лица своей группы громко потребовал выделить фонари и им тоже и получил два. Пятна света запрыгали по проходам, словно беспокойные призраки.
Прижимая к себе Билли, я продолжал глядеть в проем между мешками. Молочный полупрозрачный свет снаружи почти не изменился. Темно стало от того, что мы заложили витрины мешками. Несколько раз мне казалось, будто я что-то вижу, но скорее всего мне это просто казалось. Однако вскоре кто-то еще из дежурных неуверенно поднял ложную тревогу.
Билли снова увидел миссис Терман и, обрадовавшись, побежал к ней, хотя она и не приходила посидеть с ним целое лето. Ей тоже выделили фонарик, и она позволила Билли поиграть с ним. Скоро Билли уже выписывал свое имя лучом на чистых стеклянных панелях шкафов с замороженными продуктами. Оба они, похоже, были одинаково рады видеть друг друга, и спустя какое-то время они вдвоем подошли ко мне. На груди у Хэтти Терман, высокой, худощавой женщины с красивыми рыжими волосами, в которых только-только начала появляться седина, висели на цепочке с орнаментом очки – такие очки, как я понимаю, с полным правом могут носить лишь женщины средних лет.
– Стефани здесь, Дэвид? – спросила она.
– Нет. Дома.
Она кивнула.
– Алан тоже. Долго тебе еще дежурить?
– До шести.
– Что-нибудь видел?
– Нет. Только туман.
– Если хочешь, я побуду с Билли до шести.
– Ты хочешь, Билли?
– Да. Можно? – ответил он, медленно выводя фонариком дугу над головой и глядя на игру света на потолке.
– Господь сохранит твою Стеффи и моего Алана, – сказала миссис Терман и увела Билли за руку. Она сказала это с искренней убежденностью, но в глазах ее не было уверенности.
Около пяти тридцати в дальнем конце магазина послышались громкие спорящие голоса. Кто-то над чем-то рассмеялся, и кто-то – я думаю, это был Бадди Иглтон – выкрикнул:
– Вы все сумасшедшие, если вы туда собираетесь.
Несколько лучей света сошлись в центре группы спорящих, потом двинулись вместе с ними к выходу. Резкий издевательский смех миссис Кармоди, напоминающий неприятный звук, когда ведешь пальцем по грифельной доске, расколол тишину. А над гомоном голосов послышался адвокатский тенор Нортона:
– Позвольте пройти! Позвольте нам пройти!
Мужчина, дежуривший у соседнего со мной проема, оставил свой пост и пошел посмотреть, из-за чего крики. Я решил остаться на месте: они все равно двигались в мою сторону.
– Пожалуйста, – говорил Майк Хатлен, – давайте все обговорим.
– Нам не о чем разговаривать, – заявил Нортон. Из темноты выплыло его лицо, решительное, но изможденное и несчастное. В руках он держал один из выделенных «обществу» фонариков. Закрученные пучки волос все еще торчали у него за ушами, как украшение рогоносца. Нортон вел за собой маленькую группку людей – пять человек из тех девяти или десяти, что были с ним вначале.
– Мы идем на улицу, – объявил он.
– Что за сумасшествие?! – спросил Миллер. – Майк прав. Мы ведь можем все обсудить. Мистер Маквей жарит кур на газовом гриле, и мы сможем сесть спокойно, поесть и…
Он оказался на пути Нортона, и тот оттолкнул его. Миллеру это не понравилось. Лицо его налилось краской, потом сделалось суровым.
– Можете делать, что хотите, – сказал он. – Но вы все равно что убиваете этих людей.
Ровным тоном, свидетельствующим о непреклонной решимости или о непробиваемой глупости, Нортон произнес:
– Мы пошлем вам помощь.
Один из его сторонников пробормотал что-то в его поддержку, но другой в этот момент потихоньку скользнул в сторону. Теперь с Нортоном осталось четверо. Может быть, это не так уж и плохо: даже самому Христу удалось найти только двенадцать.
– Послушайте, – сказал Майк Хатлен. – Мистер Нортон… Брент, останьтесь по крайней мере поесть. Горячее вам не помешает.
– Чтобы дать вам шанс продолжить ваши уговоры? Я слишком много времени провел на судебных заседаниях, чтобы попасться на эту удочку. Вы уже одурачили с полдюжины моих людей.
– Ваших людей? – Хатлен почти простонал. – Ваших людей? Боже праведный, что это за разговоры? Они просто люди, и все. Это не игра и тем более не судебное заседание. Там снаружи бродят какие-то твари, другого слова и не подберешь, так какой же смысл рисковать своей жизнью?
– Твари, говорите? – сказал Нортон с усмешкой. – Где? Ваши люди уже часа два дежурят у проемов. Кто-нибудь хоть что-нибудь видел?
– Но там, позади магазина. В…
– Нет, нет и нет, – сказал Нортон, качая головой. – Это мы уже обсуждали не один раз. Мы уходим…
– Нет, – прошептал кто-то, и этот звук разнесся вдруг, отражаясь эхом, словно шорох опавших листьев в полумраке октябрьского вечера. – Нет-нет-нет…
– Вы попытаетесь удержать нас силой? – пронзительным голосом спросила престарелая леди в бифокальных очках, одна из «людей Нортона», если воспользоваться его же термином. – Вы хотите задержать нас?
Легкое бормотание протестующих голосов стихло.
– Нет, – сказал Майк. – Я не думаю, что кто-то будет вас удерживать.
Я пошептал Билли на ухо, и он посмотрел на меня вопросительно и удивленно.
– Прямо сейчас беги, – сказал я. – Быстренько.
Билли побежал выполнять поручение.
Нортон пригладил волосы рассчитанным жестом бродвейского актера. Мне он нравился гораздо больше, когда беспомощно дергал стартер бензопилы, ругаясь и думая, что его никто не видит. Я не мог сказать тогда и сейчас не знаю, верил ли он в то, что делает, или нет. В глубине души, я думаю, он знал, что должно случиться. Я думаю, что та логика, которой он молился всю жизнь, в конце концов обернулась против него, как взбесившийся и озверевший дрессированный тигр.
Он беспокойно огляделся вокруг, словно желал сказать что-нибудь еще, потом повел четверку своих сторонников мимо одной из касс. Кроме старушки, с ним были пухлый парень лет двадцати, молодая девушка и мужчина в джинсах и сдвинутой на затылок шапочке для гольфа.
Взгляд Нортона встретился с моим, глаза его чуть расширились, потом ушли в сторону.
– Брент, подожди минуту, – сказал я.
– Я не хочу больше ничего обсуждать. Тем более с тобой.
– Я знаю, но хочу попросить об одной услуге. – Я обернулся и увидел, что Билли бежит к кассам.
– Что это? – спросил Нортон подозрительно, когда Билли вручил мне целлофановый пакет.
– Бельевая веревка, – ответил я, смутно понимая, что сейчас все в супермаркете смотрят на нас, собравшись по другую сторону от линии касс. – Тут довольно много. Триста футов.
– И что?
– Я подумал, может быть, ты привяжешь один конец за пояс перед тем, как выйти. Когда веревка натянется, привяжи ее к чему-нибудь. Например, к дверце машины.
– Боже, зачем?
– Я буду знать, что вы прошли по крайней мере триста футов, – сказал я.
Что-то мелькнуло в его глазах, но только на мгновение.
– Нет, – сказал он.
Я пожал плечами.
– О’кей. В любом случае удачи.
Мужчина в шапочке для гольфа неожиданно сказал:
– Я сделаю это, мистер. Не вижу причины, почему бы нет.
Нортон обернулся к нему, словно собирался сказать что-то резкое, и мужчина пристально и спокойно посмотрел на него. В его глазах не мелькало ничего. Он решил, и у него просто не было никаких сомнений. Нортон тоже понял это и промолчал.
– Спасибо, – сказал я, разрезая упаковку своим карманным ножом, и веревка вывалилась гармошкой жестких колец. Я вытащил один конец и обвязал пояс «чемпиона по гольфу» свободной петлей с бабьим узлом. Он тут же развязал веревку и быстро затянул туже на добротный морской узел. В зале магазина стояла полнейшая тишина. Нортон в нерешительности переминался с ноги на ногу.
– Дать нож? – спросил я мужчину.
– У меня есть. – Он взглянул на меня с тем же самым холодным презрением в глазах. – Ты, главное, следи за веревкой. Если она запутается, я ее обрежу.
– Мы все готовы? – спросил Нортон слишком громким голосом. Пухлый парень подскочил, будто его толкнули.
Не получив ответа, Нортон двинулся к выходу.
– Брент, – сказал я, протягивая руку. – Удачи.
Он посмотрел на мою руку с сомнением.
– Мы пришлем вам помощь, – сказал он наконец и толкнул дверь с надписью «Выход».
Я снова почувствовал тот едкий запах. «Его люди» последовали за Нортоном. Майк Хатлен подошел и остановился рядом со мной. Группа Нортона из пяти человек стояла в медленно движущемся молочном тумане. Нортон сказал что-то, что я вполне мог бы расслышать на таком расстоянии, но туман, казалось, гасил все звуки. Кроме двух-трех слогов, словно доносящихся из работающего вдалеке радиоприемника, я не расслышал ничего. Потом они начали удаляться.
Хатлен придерживал открытую дверь. Я стравливал веревку и старался, чтобы она свободно провисала, помня об обещании перерезать ее, если она застрянет. Снаружи по-прежнему не доносилось ни звука. Билли неподвижно стоял рядом, но я чувствовал, как он весь дрожит от напряжения.
Снова возникло странное чувство, что эти пятеро не исчезли в тумане, а просто стали невидимы. Какое-то мгновение их одежда плыла уже без них, а затем и она пропала. Этот туман по-настоящему впечатлял своей плотностью, лишь когда можно было увидеть, как он проглатывает людей буквально в течение нескольких секунд.
Я продолжал стравливать веревку. Сначала ушла в туман четверть, потом половина. Потом на мгновение движение прекратилось, веревка обмякла. Я задержал дыхание, но она снова пошла. Я стравливал ее через пальцы и неожиданно вспомнил, как отец возил меня в Бруксайд смотреть «Моби Дика» с Грегори Пеком. Наверное, я даже улыбнулся.
Ушло три четверти веревки, и я уже видел конец, лежащий на ботинке Билли, но тут веревка в моей руке снова остановилась. Секунд пять она лежала неподвижно, потом рывком ушли еще пять футов, и вдруг, резко дернув влево, веревку натянуло о край двери так, что она даже зазвенела.
Потом еще двадцать футов рывком сдернуло с моей руки, оставив на ладони тонкий ожог, и из тумана донесся высокий дрожащий крик. Я даже не мог сказать, мужчина кричит или женщина.
Снова дернуло веревку. И снова. Ее мотало в дверном проеме то вправо, то влево, потом уползло еще несколько футов, и из тумана донесся захлебывающийся вопль, услышав который Билли застонал. Хатлен замер с широко раскрытыми от ужаса глазами, один уголок его рта, подрагивая, опустился вниз.
Вопль внезапно оборвался, и, казалось, целую вечность стояла тишина. Потом закричала старушка, и на этот раз никаких сомнений насчет того, кто кричит, не было.
– Уберите его от меня! – кричала она. – О Господи, Господи, уберите… – И голос ее тоже оборвался.
Внезапно почти вся веревка сбежала по моей ладони, оставив еще более сильный ожог, но потом обвисла, и из тумана донесся новый звук, сочное громкое хрюканье, от которого у меня во рту все пересохло.
Такого звука я не слышал никогда в жизни, но ближе всего тут подошло бы сравнение с каким-нибудь кинофильмом, снятым в африканском вельде или в южноамериканских болотах. Звук большого животного. Он снова донесся до нас, низкий, неистовый, звериный звук. И снова, но потом перешел в прерывистое бормотание и затих совсем.
– Закройте дверь, – дрожащим голосом попросила Аманда Дамфрис. – Пожалуйста.
– Минуту, – сказал я и потянул за веревку.
Она выползала из тумана и укладывалась у моих ног неровными петлями и кольцами. Последние фута три новой бельевой веревки были окрашены в кирпично-красный цвет.
– Смерть! – выкрикнула миссис Кармоди. – Там смерть! Вы все видели?
На отгрызенном и растрепанном конце веревки на волокнах хлопка остались крошечные капельки крови.
Никто не стал спорить с миссис Кармоди.
Майк Хатлен отпустил дверь, и она захлопнулась.
Глава 7. Первая ночь
Мистер Маквей работал в Бриджтоне мясником еще с тех пор, когда мне было лет двенадцать или тринадцать, но я не знал ни его имени, ни сколько ему лет. Он установил небольшой газовый гриль под одной из вентиляционных решеток (вентиляторы не работали, но решетки создавали хоть какую-то тягу), и к 6.30 вечера запах жарящихся цыплят заполнил весь магазин. Бад Браун не стал возражать. Может быть, от потрясения, но скорее всего он просто осознал, что птица и мясо отнюдь не становятся свежее. Цыплята пахли великолепно, но не всем хотелось есть. Мистер Маквей, маленький, худой и аккуратный в своем белом халате, все равно продолжал жарить цыплят, укладывать куски на бумажные тарелки и расставлять их, как это делают в кафетериях, на мясном прилавке.
Миссис Терман принесла нам с Билли по порции с гарниром из картофельного салата. Я поел сколько смог, но Билли даже не притронулся к своей тарелке.
– Тебе надо поесть, силач, – сказал я.
– Я не голоден, – ответил он и отодвинул тарелку.
– Ты не станешь большим и сильным, если…
Миссис Терман, сидящая немного позади Билли, покачала головой.
– Ладно, – сказал я. – По крайней мере пойди съешь персик. О’кей?
– А если мистер Браун скажет что-нибудь?
– Если он скажет что-нибудь, скажи мне.
– О’кей.
Он медленно пошел вдоль стеллажей. Мне показалось, он как-то сник, и мое сердце сжималось, когда я видел его таким. Мистер Маквей продолжал жарить цыплят, совершенно не обращая внимания на то, что почти никто не ест, удовлетворенный, видимо, своими чисто механическими действиями. Кажется, я уже писал, что люди по-разному реагируют на подобные ситуации. Трудно представить, что это может быть так, но это действительно так. Разум человека – темный лес.
Мы с миссис Терман сидели в середине аптечного ряда, и нам было видно, что по всему магазину люди собирались маленькими группками. Никто, кроме миссис Кармоди, не сидел один. Даже Майрон и Джим были вместе: оба храпели у пивного охладителя.
Шестеро новых дежурных сидели у проемов в мешках. Один из них – Олли. Он грыз цыплячью ногу и запивал ее пивом. У каждого поста стояли прислоненные к мешкам факелы, изготовленные из швабр, а рядом банки с угольной растопкой, но, я думаю, теперь никто уже не верил в эти приготовления, как раньше. После того ужасного звериного рыка и после отгрызенной окровавленной веревки никто уже не верил. Если что-то оттуда, снаружи, захочет нас, оно нас получит. Оно или они.
– Насколько опасно будет сегодня ночью? – спросила миссис Терман. Голос ее звучал спокойно, но в глазах застыл испуг.
– Хэтти, я не знаю.
– Пусть Билли побольше будет со мной. Я… Дэвид, я боюсь смертельно. – Она коротко хохотнула. – Да, видимо, это так называется. Но если Билли будет со мной, я буду в порядке. Ради него.
Глаза ее блестели. Я наклонился и тронул ее за плечо.
– Я так волнуюсь за Алана, – сказала она. – Но он, наверное, мертв, Дэвид. Я сердцем чувствую, что его уже нет.
– Не надо, Хэтти. Ты не можешь этого знать.
– Но я чувствую, что это так. Ты ничего не чувствуешь про Стефани? Хоть какое-то ощущение?
– Нет, – солгал я, стиснув зубы.
Она издала горлом странный сдавленный звук и зажала рот рукой. В ее очках отражались тусклые отсветы лучей фонариков.
– Билли возвращается, – пробормотал я.
Билли ел персик. Хэтти Терман похлопала по полу рядом с собой и сказала, что, когда он доест, она покажет ему, как из персиковой косточки и нитки делается человечек. Билли устало улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ.
В 20.00 новые шесть дежурных сели у проемов, и Олли подошел ко мне.
– Где Билли?
– Там дальше, с миссис Терман, – ответил я. – Занимаются рукоделием. Они уже прошли человечков из персиковых косточек, маски из пакетов и яблочных кукол, а теперь мистер Маквей показывает ему, как делать маленьких трубочистов.
Олли сделал большой глоток пива и сказал:
– Там за окнами что-то движется.
Я пристально посмотрел на него, но он ответил мне уверенным взглядом.
– Я не пьян, – сказал он. – Я пытался набраться, но меня не берет. А как хотелось бы, Дэвид.
– Что ты имеешь в виду? Что там движется?
– Я не знаю. Спросил у Уолтера, и он сказал, что у него такое же чувство. На минуту какая-то область тумана становится темнее, иногда просто маленькая полоса, иногда пятно, похожее на синяк. Потом снова пропадает. И сам туман шевелится. Даже Эрни Симмс почувствовал, что там что-то происходит, а он слепой как крот.
– А остальные?
– Они все из других штатов, я их не знаю, – сказал Олли. – Я ни у кого из них не спрашивал.
– Ты уверен, что тебе не померещилось?
– Уверен, – сказал он и кивнул в сторону миссис Кармоди, сидевшей в одиночестве в конце прохода. Происшедшее отнюдь не испортило ей аппетита, и на ее тарелке лежала целая груда цыплячьих костей. Запивала она чем-то красным: то ли соком, то ли кровью.
– В одном она была права, – добавил Олли. – Мы все узнаем. Станет темно, и мы все узнаем.
Но темноты ждать не пришлось. Когда это случилось, Билли почти ничего не видел, потому что миссис Терман держала его в дальнем конце магазина. Олли сидел со мной, когда один из дежуривших взвизгнул и, размахивая руками, отскочил от проема. Время приближалось к 20.30, и жемчужно-белый туман снаружи потемнел до ровного серого цвета ноябрьских сумерек.
Что-то прижалось со стороны улицы к стеклу у одного из проемов.
– Боже! – вскрикнул дежуривший там мужчина. – Пустите меня! Я не могу!..
И он, выпучив глаза, побежал, кидаясь из стороны в сторону. В полутьме блеснула на его лице струйка слюны, выползшая из угла рта. Потом он свернул и бросился к дальнему проходу мимо морозильников с продуктами.
Кто-то еще вскрикнул в темноте, и люди побежали посмотреть, что происходит. Другие, наоборот, кинулись в дальний конец зала, не интересуясь и не заботясь, что там ползает по стеклам снаружи.
Мы с Олли двинулись к проему. Олли держал руку в кармане брюк, куда положил пистолет миссис Дамфрис. Еще один наблюдатель вскрикнул, но скорее от отвращения, чем от страха. Мы прошли мимо касс, и теперь я понял, что напугало дежурного. Я не знал, что это, но я мог видеть. Существо напоминало одно из маленьких чудовищ с картин Босха. Было в нем что-то и комичное, потому что оно немного походило на те странные игрушки из винила за доллар девяносто восемь центов, что люди покупают, чтобы попугать друзей. Как раз такая штука, про которую говорил Нортон.
Фута два длиной, сегментированная тварь цвета розовой, заживающей после ожога кожи. Два выпуклых глаза на коротких стебельках таращились одновременно в две стороны. По стеклу существо ползло, цепляясь толстыми присосками. Сзади из туловища торчал какой-то отросток: то ли половой орган, то ли жало. За спиной существа медленно колыхались огромные слюдяные крылья, похожие на крылья мухи.
У другого проема, слева от нас, откуда доносились резкие возгласы отвращения, по стеклу ползали сразу три такие твари, оставляя за собой липкие улиточные следы. Глаза, если это на самом деле глаза, покачивались на концах стебельков толщиной с палец. Самая большая из них была около четырех футов в длину. Время от времени эти твари просто переползали друг через друга.
– Смотри, какая чертовщина, – сказал Том Смолли с отвращением в голосе. Он стоял у проема справа от нас. Я промолчал. Если эти твари ползают по окнам у каждого проема, значит, они облепили все здание… Как черви – кусок мяса. Сравнение, конечно, не из приятных, и я почувствовал, как курятина, которую мне удалось в себя запихать, просится обратно.
Где-то плакали. Миссис Кармоди кричала про «исчадия ада». Кто-то грубо приказал ей заткнуться, если она не хочет получить… Все по-прежнему.
Олли достал из кармана пистолет миссис Дамфрис, и я схватил его за руку.
– Не сходи с ума.
– Я знаю, что делаю, – сказал он, высвобождаясь, потом с застывшей на лице маской отвращения постучал стволом по стеклу. Твари заработали крыльями так быстро, что крыльев почти не стало видно. Если б я не знал, я бы решил, что они вообще бескрылые. Потом твари взлетели.
Другие увидели, что делает Олли, и, воспользовавшись идеей, стали стучать по окнам рукоятками швабр. Твари улетали, но вскоре возвращались обратно. Очевидно, мозгов у них было не больше, чем у обыкновенной мухи. Почти паническая обстановка разрядилась гомоном разговоров, и я услышал, как кто-то кого-то спрашивает, что будет, если такая тварь на тебя сядет. Отнюдь не тот вопрос, ответ на который мне хотелось бы узнать из личного опыта.
Стук по окнам стал утихать. Олли повернулся ко мне, собираясь что-то сказать, но не успел он открыть рот, как из тумана вынырнуло еще что-то и схватило ползающую по стеклу тварь. Кажется, я закричал. Не помню.
Вторая тварь тоже была летающей. Больше я не разглядел. Участок тумана потемнел точно так, как рассказывал Олли, и превратился во что-то с хлопающими кожистыми крыльями, белым, как у альбиноса, телом и красноватыми глазами. Это что-то схватило розовую тварь и исчезло. Все вместе заняло не более пяти секунд. Мне показалось, что розовая тварь дергалась и трепыхалась, исчезая в глотке, как трепыхается маленькая рыбешка в клюве чайки.
Раздался еще один удар, потом еще. Снова послышались крики, и люди опять бросились в дальний конец магазина. Потом кто-то пронзительно вскрикнул, на этот раз от боли, и Олли сказал:
– О Господи, там упала старушка, и они ее чуть не растоптали.
Он бросился в проход между кассами. Я повернулся было бежать за ним, но тут заметил нечто такое, что меня остановило.
Справа от меня один из мешков с удобрениями под самым потолком начал сползать. Том Смолли сидел прямо под ним, глядя в туман через свой проем.
Еще одна розовая тварь плюхнулась на стекло у проема, где стояли мы с Олли, и ее тут же подхватил спикировавший летающий хищник. Сбитая с ног старушка продолжала кричать пронзительным надтреснутым голосом.
Мешок. Мешок сползал.
– Смолли! – крикнул я. – Берегись! Сверху!
В общем шуме он меня так и не расслышал. Мешок сполз и упал прямо ему на голову. Смолли рухнул на пол, задев подбородком низкую полку, проходящую под витриной.
Одна из тварей-альбиносов начала протискиваться через рваную дыру в стекле, и теперь, когда крики немного стихли, я расслышал производимый ею мягкий скребущий звук. На чуть склоненной в сторону треугольной голове поблескивали красные глаза. Хищно раскрывался и закрывался тяжелый загнутый клюв. Она одновременно напоминала птеродактиля из книги про доисторических животных и фрагмент бредового сна сумасшедшего.
Я схватил один из факелов и макнул его в банку с угольной растопкой, опрокинув ее и разлив на полу лужу горючей жидкости.
Летающая тварь уселась на верхний мешок, оглядываясь вокруг и медленно, зловеще переступая с одной когтистой лапы на другую. Я уверен, что эти существа тоже глупы: дважды оно пыталось расправить крылья, ударяясь ими о стены, и складывало их за горбатой спиной, словно гриф. В третий раз тварь потеряла равновесие и неуклюже свалилась со своего насеста, упав на спину Тома Смолли. Одним взмахом когтистой лапы она разорвала рубашку Тома и располосовала его до крови.
Я стоял всего в трех футах от нее. С факела капала жидкость для растопки, и я был готов ее убить, но тут понял, что мне нечем зажечь огонь. Последнюю спичку я истратил за час до того, зажигая мистеру Маквею сигару.
В зале творилось что-то невероятное. Люди увидели сидящую на спине Смолли тварь – зрелище, которого никто никогда на Земле еще не видел. Она стремительно ударила клювом и вырвала кусок мяса из шеи Смолли.
Я уже собрался воспользоваться факелом как дубиной, когда обмотанный тряпками конец его вдруг вспыхнул. Рядом, держа зажигалку с эмблемой морской пехоты, стоял Ден Миллер. Лицо его словно окаменело от ужаса и ярости.
– Убей ее, – хрипло сказал он. – Убей, убей!
Тут же с пистолетом в руке стоял Олли, но он не мог стрелять из опасения попасть в Тома.
Тварь расправила крылья и взмахнула ими, явно не собираясь взлетать, а просто чтобы получше уцепиться за свою жертву, потом обволокла крыльями туловище бедняги Смолли, и оттуда донесся звук чего-то рвущегося. Отвратительный звук, я даже не могу его описать.
Все это произошло за считанные секунды. Затем я ткнул в нее горящим факелом. У меня возникло ощущение, что я ударил что-то не более прочное, чем воздушный змей, и в следующий момент тварь вспыхнула, издав скрежещущий звук и снова расправив крылья. Голова ее задергалась, глаза закатились, я искренне надеялся, в болезненной агонии. Потом со звуком, напоминающим хлопающие на ветру простыни, тварь взлетела и опять издала этот ржавый скребущий крик.
Следя за ее огненным предсмертным полетом, повернулись головы. Наверное, из всего происшедшего ничто не запомнилось мне ярче, чем этот зигзагообразный полет пылающей твари над залом супермаркета. Она летела, роняя то тут, то там горящие куски, и в конце концов рухнула на стеллаж с соусами для спагетти, разбрызгав вокруг кровавые сгустки «Рагу-энд-Принс» и «Примы». От нее не осталось почти ничего, кроме пепла и костей. По магазину пополз тошнотворный резкий запах горящего мяса, и, словно подчеркивая его, появился другой – тонкий едкий запах тумана, проникающего в разбитое окно.
Мгновение стояла тишина. Нас всех словно околдовала черная магия этого огненного полета. Потом кто-то завизжал. Все закричали, и откуда-то издалека я услышал плач сына.
Кто-то схватил меня за плечо. Оказалось, Бад Браун. Глаза его лезли из орбит, рот кривился в гримасе, открывающей искусственные зубы.
– Там еще одна. Другая… – сказал он, показывая рукой.
Сквозь дыру в стекле пролезла розовая тварь и уселась на мешке с удобрениями – она таращилась глазами на стебельках и жужжала своими мушиными крыльями, как дешевый вентилятор. Розовое, болезненно-пухлое тело быстро подымалось и опадало.
Мой факел еще не погас, и я бросился к ней, но меня опередила миссис Репплер, учительница третьих классов, лет пятидесяти пяти, может быть, шестидесяти, худая сухощавая женщина, которая своим видом всегда напоминала мне полоску вяленого мяса.
В каждой руке она держала по банке «Рэйда», словно какой-то сумасшедший персонаж из экзистенциальной комедии. Издав яростный крик, сделавший бы честь любому пещерному человеку, разбивающему череп врага, она вытянула руки с аэрозольными банками вперед и нажала обе кнопки. Густой слой инсектицида покрыл розовую тварь, и она забилась в конвульсиях, завертелась и наконец свалилась с мешков, отскочила от тела уже, без всяких сомнений, мертвого Тома Смолли и упала на пол. Крылья ее бешено зажужжали, но они уже не могли никуда ее унести: их покрывал толстый слой «Рэйда». Через несколько секунд крылья ослабели, потом замерли, и тварь умерла.
Я снова услышал плач. И стоны. Все еще стонала затоптанная пожилая леди. Откуда-то доносился смех. Смех сумасшедшего. Миссис Репплер, часто и тяжело дыша, стояла над своей жертвой.
Хатлен и Миллер нашли небольшую тележку типа тех, на которых грузчики подвозят к секциям магазина ящики с товарами, и вдвоем запихнули ее на мешки с удобрениями, закрыв клинообразную дыру в стекле. Как временная мера это было неплохо.
Двигаясь словно лунатик, появилась Аманда Дамфрис. В одной руке она держала пластиковое ведерко, в другой – метелку, все еще завернутую в прозрачный целлофан. Она наклонилась, глядя перед собой огромными пустыми глазами, и замела мертвую розовую тварь в ведерко. Я даже расслышал треск целлофановой обертки, когда Аманда водила метелкой по полу. Потом она подошла к двери – к счастью, на ней не было этих тварей, – приоткрыла ее немного и выбросила ведерко на улицу. Оно упало на бок, перекатываясь туда-обратно по сокращающейся дуге. Еще одно розовое насекомое появилось с жужжанием из темноты, уселось на ведерко, потом принялось ползать вокруг.
Аманда разрыдалась. Я подошел и обнял ее за плечи.
Полвторого ночи. Я сидел в полудреме, прислонившись спиной к белой эмалированной стенке мясного прилавка. Билли спал, уткнувшись лицом мне в живот. Неподалеку, положив под голову чей-то пиджак, спала Аманда Дамфрис.
После того как летающая тварь сгорела, мы с Олли сходили на склад и принесли еще штук шесть подстилок, таких же, какой я укрыл Билли. Теперь на них спали люди. Потом мы притащили несколько тяжелых ящиков с апельсинами и персиками и вчетвером затолкали их на мешки напротив разбитого стекла. Этим птицеподобным тварям пришлось бы поработать, чтобы сдвинуть ящики: каждый из них весил фунтов девяносто.
Но птицы и розовые твари были не единственными, кто таился в тумане. Были еще щупальца, утащившие Норма. И обгрызенный конец веревки тоже заставлял кое о чем задуматься. Было, наконец, то невидимое существо, что издавало низкий гортанный рев. До нас время от времени доносились эти звуки, чаще издалека, хотя кто может сказать, как далеко это «издалека», когда туман так гасит звуки? А иногда они раздавались так близко, что тряслось здание, и казалось, что сердце вдруг наполняется ледяной водой.
Билли зашевелился во сне и застонал. Я погладил его по голове, и он простонал чуть громче, но потом, похоже, снова уплыл в менее опасные воды сновидений. Я, однако, очнулся от дремоты и продолжал сидеть без сна. С наступлением темноты мне удалось поспать лишь часа полтора, да и то меня все время преследовали кошмары. В одном из фрагментов сна я снова увидел предыдущий вечер. Билли и Стеффи стояли у панорамного окна, глядя на черную с переливами серого воду, на серебряный крутящийся смерч, возвещающий начало бури. Я пытался увести их, зная, что достаточно сильный ветер может разбить окно и разбросать по всей комнате смертоносные стеклянные стрелы. Но как я ни бежал, я не мог приблизиться к ним ни на шаг. А потом из смерча поднялась птица, гигантская алая птица смерти, чьи расправленные крылья погрузили во тьму все озеро с востока до запада. Раскрыв клюв с огромной, как Голландский тоннель, глоткой, птица ринулась на жену и сына, и в этот момент низкий зловещий голос зашептал, повторяя: «Проект “Стрела”»… «Проект “Стрела”»… «Проект “Стрела”»…
Не только мы с Билли спали плохо. Одни вскрикивали во сне, другие продолжали кричать, уже проснувшись. Пиво исчезало из охладителя с огромной скоростью. Бадди Иглтон молча подвез со склада еще несколько ящиков. Майк Хатлен сказал мне, что кончился соминекс. Полностью. Видимо, некоторые брали снотворное по шесть – восемь бутылочек.
– Есть еще итол, – сказал он. – Хочешь, Дэвид?
Я покачал головой и поблагодарил его.
В проходе у кассы номер пять обосновались наши пьянчуги. Их было человек семь, все из других штатов, кроме Лу Таттингера, работавшего на мойке машин. Лу, как говорится, никогда долго не искал повода, чтобы понюхать пробку. Вся винная бригада анестезировала себя уже довольно прилично.
Да. Еще было человек шесть-семь, которые сошли с ума. Не совсем точный термин, но я не могу придумать лучшего. Эти люди впали в полнейшую апатию без помощи пива, вина или пилюль. Пустыми, блестящими, как дверная ручка, глазами смотрели они вокруг. Твердый бетон реальности дал трещину в каком-то немыслимом землетрясении, и эти бедняги в нее провалились. Со временем они могли бы оправиться. Если бы было время.
Остальные приноровились к ситуации, сделав собственные выводы и компромиссы, порой несколько странные. Миссис Репплер, например, была уверена, что все это сон. Так по крайней мере она сказала. Но сказала с убеждением.
Я взглянул на Аманду. К ней у меня появилось какое-то неудобно сильное чувство. Неудобное, но не неприятное. Глаза ее были невероятного ярко-зеленого оттенка, и некоторое время я наблюдал за ней, ожидая, что она снимет контактные линзы, но, очевидно, это был их естественный цвет. Я хотел ее. Моя жена осталась дома, может быть, она была еще жива, скорее всего нет, но в любом случае одна; я любил ее и больше всего на свете я хотел вернуться к ней вместе с Билли, но я также хотел эту леди по имени Аманда Дамфрис. Я говорил себе, что причина здесь в том, что мы попали в такую ситуацию. Возможно, это действительно было так, но объяснения ничего не меняли.
Я снова задремал и неожиданно проснулся уже около трех. Аманда свернулась калачиком, поджав колени и засунув руки между ног. Похоже, она спала крепко. Кофточка на одном боку у нее задралась, обнажив полоску чистой белой кожи. Я глядел на нее и чувствовал себя неловко.
Пытаясь перевести мысли на какую-нибудь другую тему, я начал вспоминать, как днем раньше хотел написать Нортона. Конечно, не что-нибудь значительное, не картину… Просто посадить его на бревно с моей банкой пива в руке и сделать набросок его потного усталого лица с небрежно торчащими позади двумя крыльями обычно аккуратных волос. Получилось бы хорошо. Мне потребовалось двадцать лет жизни рядом с отцом, чтобы принять наконец мысль: просто хороший художник – это тоже неплохо.
Знаете, что такое талант? Проклятие ожидания. И надо суметь сжиться с ним еще в детстве. Если вы можете писать, вам кажется, что Господь создал вас, чтобы превзойти Шекспира. Если вы рисуете, вам кажется… Мне казалось, что он создал меня, чтобы превзойти отца.
Оказалось, я не настолько хорош. Я пытался стать таким, даже больше, чем следовало. У меня была выставка в Нью-Йорке, неудачная. Критики разбили меня в пух и прах, сравнивая с отцом, и через год, чтобы содержать Стефф и себя, я занялся коммерческой живописью. Стефф уже была беременна, и поэтому я как-то раз сел и серьезно сам с собою поговорил. Результатом этого разговора стало убеждение, что серьезное искусство будет для меня всего лишь хобби, не более того.
Я делал рекламу для шампуня «Золотая девушка», ту, где девушка стоит на педалях велосипеда, ту, где она играет во фризби на пляже, ту, где она стоит на балконе своей квартиры с бокалом в руке. Я делал иллюстрации к рассказам почти для всех больших журналов, хотя пробился я туда, иллюстрируя на скорую руку рассказы в менее солидных изданиях для мужчин. Я делал рекламу для кино. Деньги были. Жили мы, в общем-то, не бедно.
Не далее как прошлым летом я даже участвовал в выставке в Бриджтоне. Я выставил девять полотен из тех, что написал за последние пять лет, и продал шесть из них. Одна картина, которую я категорически отказывался продавать, изображала супермаркет «Федерал фудс» (странное совпадение) видом с дальнего конца автостоянки. На моей картине на стоянке не было ничего, кроме череды консервных банок с фасолью, причем каждая по мере приближения к зрителю становилась все больше и больше. Последняя казалась высотой футов в восемь. Картина называлась «Фасоль и искаженная перспектива». Один человек из Калифорнии, глава какой-то компании, изготовляющей теннисные мячи, ракетки и бог знает какой еще спортинвентарь, очень хотел ее купить и долго не принимал моего отказа, даже несмотря на карточку «Не для продажи», воткнутую в левом нижнем углу простой деревянной рамы. Он начал с шести сотен долларов и дошел до четырех тысяч. Говорил, что хочет ее для своего кабинета. Я не согласился, и он уехал крайне удивленный, но и тогда не сдался: на случай, если я передумаю, он оставил мне свою визитную карточку.
Деньги бы нам не помешали. В тот год мы как раз сделали пристройку к дому и купили «скаут» с четырехколесным приводом, но я просто не мог ее продать. Не мог, поскольку чувствовал, что это самая лучшая из всех написанных мною картин, и я хотел иметь возможность смотреть на нее после того, как кто-нибудь, не осознавая своей жестокости, спрашивал, когда же я наконец сделаю что-нибудь серьезное.
Но однажды прошлой осенью я показал картину Олли Виксу, и он попросил разрешения сфотографировать ее и использовать для рекламы. Это был конец моей собственной искаженной перспективы. Олли безошибочно распознал, чего стоит моя картина, и, сделав это, заставил признать и меня. Прекрасный образец легковесной коммерческой живописи. Не больше. И слава Богу, не меньше.
Я разрешил ему, а потом позвонил этому предпринимателю домой в Сан-Луис-Обиспо и сказал, что он может купить картину за две с половиной тысячи, если он еще хочет. Он хотел, и я отправил ее на побережье почтой. После этого голос разочарованных ожиданий, тот самый голос обманутого ребенка, которого никак не устраивало умеренное определение «хороший», замолчал. И за исключением нескольких раскатов – что-то вроде звуков, издаваемых невидимыми существами в туманной ночи, – он с тех пор по большей части молчит. Может быть, вы скажете мне, почему молчание этого требовательного детского голоса так похоже на смерть?
Около четырех Билли проснулся, по крайней мере частично, и огляделся вокруг сонными непонимающими глазами.
– Мы еще здесь?
– Да, родной, – сказал я. – Еще здесь.
Он заплакал слабо, беспомощно, и это было ужасно. Аманда проснулась и поглядела на нас.
– Эй, малыш, – сказала она, мягко обнимая Билли. – Придет утро, и все будет гораздо лучше.
– Нет, – заупрямился Билли. – Не будет. Не будет. Не будет.
– Тш-ш-ш, – сказала она, глядя на меня поверх его головы. – Тш-ш-ш, тебе давно пора спать.
– Я хочу к маме!
– Я знаю, малыш, – сказала Аманда. – Конечно.
Прильнув к ней, Билли повертелся немного и лег так, чтобы ему было меня видно. Какое-то время он смотрел на меня, потом снова уснул.
– Спасибо, – сказал я. – Может быть, вы были ему нужны.
– Он меня даже не знает.
– Это не важно.
– А что, вы думаете, будет дальше? – спросила она, не сводя с меня твердого взгляда своих зеленых глаз. – Что вы действительно думаете?
– Спросите меня утром.
– Я спрашиваю сейчас.
Я уже собрался было ответить, но тут из темноты, словно нечто из рассказа с ужасами, материализовался Олли Викс. В руках он держал направленный в потолок фонарик с обернутой вокруг отражателя женской кофточкой, и приглушенный свет отбрасывал на его лицо странные тени.
– Дэвид, – прошептал он.
Аманда взглянула на него, сначала встревоженно, потом снова испуганно.
– Что такое, Олли? – спросил я.
– Дэвид, – прошептал он и добавил: – Пойдем. Пожалуйста.
– Я не хочу оставлять Билли. Он только что уснул.
– Я побуду с ним, – сказала Аманда. – Вы идите. – Потом добавила чуть тише: – Боже, это никогда не кончится.
Глава 8. Что случилось с солдатами вместе с Амандой. Разговор с Деном Миллером
Я пошел вслед за Олли. Он направлялся к складскому помещению и, проходя мимо пивного охладителя, схватил банку пива.
– Олли, что случилось?
– Я хочу, чтобы ты сам увидел.
Мы прошли за двойные двери, и створки закрылись за нами, чуть всколыхнув воздух. Здесь было холодно. Место это совсем не нравилось мне после того, что случилось с Нормом. Кроме того, я вспомнил, что где-то здесь все еще валяется отрубленный кусок щупальца.
Олли убрал закрывающую отражатель кофточку и направил луч фонарика вверх. В первый момент мне показалось, что кто-то подвесил на обогревательную трубу под потолком два манекена. Что они висят на тонких струнах… Знаете, детские шуточки в канун Дня Всех Святых?..
Затем я увидел ноги, болтающиеся в семи дюймах от бетонного пола, и две кучи разбросанных картонных коробок. Я взглянул вверх, и в горле у меня начал подниматься крик, потому что там были лица, но не манекенов. Обе головы свернулись набок, словно их хозяева смеялись над какой-то жутко забавной шуткой, так смеялись, что лица аж посинели.
Тени. Длинные тени на стене позади них. Высунутые языки.
Оба были в военной форме. Те самые молодые солдаты, которых я заметил еще вначале, но потом потерял из виду в сутолоке событий. Солдаты из…
Крик. Я ощущал, как он поднимается у меня в горле, словно визг полицейской сирены, но тут Олли схватил меня за руку над локтем.
– Не кричи, Дэвид. Кроме нас с тобой, никто еще не знает. И лучше будет, если так и останется.
Как-то я справился с собой и проговорил:
– Это солдаты…
– Из «Проекта “Стрела”», – сказал Олли. – Точно.
Что-то холодное ткнулось мне в руку. Банка пива…
– На, выпей. Полегчает.
Я осушил одним глотком, и Олли начал рассказывать:
– Я пришел посмотреть, нет ли здесь еще баллонов для гриля мистера Маквея. И увидел их. Как я понимаю, они сначала сделали петли, а потом забрались на сложенные одна на другую картонные коробки. Должно быть, связали друг другу руки… Ну, знаешь, чтобы были за спиной. Затем, я думаю, сунули головы в петли, затянули, дергая ими из стороны в сторону. Возможно, один из них сосчитал до трех, и они вместе прыгнули. Не знаю…
– Такого не может быть, – сказал я, чувствуя, как пересохло у меня во рту. Но руки у них действительно были связаны. Я не мог оторвать взгляда от их рук.
– Может. Если они сильно хотели, Дэвид, то может.
– Но почему?
– Я думаю, ты знаешь почему. Конечно, летние туристы вроде этого парня, Миллера, не поймут, но здесь есть и местные, которые вполне могут догадаться.
– «Проект “Стрела”»?
– Я целыми днями стою у касс, – сказал Олли, – и многое слышу. Всю весну до меня доходили разные слухи про эту чертову «Стрелу», но ни одного хорошего. Черный лед на озере…
Я вспомнил, как Билл Джости наклонился к окну моей машины, дохнув мне в лицо теплым алкогольным перегаром… Не просто атомы, а другие атомы. А теперь эти тела, свисающие с трубы под потолком. Склоненные набок головы…
С ужасом я начал осознавать, что где-то во мне открываются новые двери восприятия. Только новые ли? Скорее старые. Двери восприятия ребенка, еще не научившегося защищать себя тоннельным зрением, которое не позволяет видеть девяносто процентов окружающего. Дети видят все, на что падает их взгляд, и слышат все, что находится в пределах слышимости. Но если жизнь – это рост сознания, тогда она еще и сужение восприятия.
Страх расширяет перспективу и обогащает восприятие, и мне было страшно осознавать, что я погружаюсь туда, откуда большинство из нас уходят, когда из пеленок перебираются в ползунки. Я видел то же самое на лице Олли. Когда рациональное рушится, происходит перегрузка цепей человеческого мозга. Нервные клетки раскаляются добела и начинают вибрировать. Галлюцинации превращаются в реальность: в том месте, где перспектива заставляет сходиться параллельные линии, действительно появляется ртутная лужа; мертвые встают и заговаривают; розы начинают петь…
– Я слышал кое-что. Сразу от нескольких человек, – продолжил Олли. – Джастин Робардс, Ник Точай, Бен Майклсон. В маленьких городках секретов не бывает. Что-то обязательно всплывет. Иногда это как родник: он просто выбивается из-под земли, и никто не знает, откуда он взялся. Ты что-то услышал в библиотеке, передал кому-то другому. Или на пристани в Харрисоне… Бог знает, где еще или почему. Но все лето я слышу: «Проект “Стрела”», «Проект “Стрела”»…
– Но эти двое… – сказал я. – Боже, Олли, они еще совсем мальчишки.
– Во Вьетнаме такие мальчишки отрезали у местных уши. Я был там. Я видел.
– Но… что заставило их сделать это?
– Я не знаю. Может быть, они что-то знали. Или только догадывались. Но они, видимо, понимали, что люди в конце концов начнут задавать им вопросы. Если мы доживем до этого конца концов.
– Если ты прав, – сказал я, – то это должно быть что-то действительно кошмарное.
– Буря, – сказал Олли мягким ровным голосом. – Может, там что-то повредило во время бури. Может, случилась какая-то катастрофа. Кто знает, чем они там занимались? Некоторые утверждают, что там экспериментировали с высокомощными лазерами и мазерами. А иногда я слышу про термоядерную энергетику. Вдруг они… Вдруг они прокололи дыру в какое-нибудь другое измерение?
– Бред, – сказал я.
– А они? – спросил Олли, показывая на трупы.
– Они нет. Но сейчас перед нами другая проблема. Что мы будем делать?
– Я думаю, надо срезать их и спрятать, – тут же предложил Олли. – Завалить чем-нибудь, что никому не понадобится. Собачьими консервами, стиральным порошком или еще чем. Если люди об этом узнают, будет только хуже. Именно поэтому я к тебе и пришел, Дэвид. Я никому больше не мог довериться.
– Как нацистские военные преступники, – пробормотал я, – которые кончали с собой в камерах, когда война была проиграна.
– Да. Я тоже об этом подумал.
Мы замолчали, и неожиданно снаружи из-за стальной загрузочной двери снова донеслись скребущие звуки щупалец, ползающих у входа. Мы невольно встали ближе друг к другу, и я почувствовал, как по коже у меня бегают мурашки.
– О’кей.
– Быстро закончим и обратно, – сказал Олли. В свете фонарика тускло блеснуло его сапфировое кольцо. – Я хочу убраться отсюда поскорее.
Я взглянул вверх. Солдаты воспользовались той же самой бельевой веревкой, которой я обвязывал мужчину в шапочке для гольфа. Петли врезались в распухшую кожу на шее, и я снова подумал: «Что же заставило их пойти на это?» Олли был прав, когда сказал, что будет только хуже, если об этом двойном самоубийстве станет известно другим. Мне уже стало хуже, хотя до этого я думал, что хуже некуда.
Олли со щелчком открыл свой нож, отличный тяжелый нож, удобный для того, чтобы вскрывать картонные коробки. И разумеется, перерезать веревки.
– Ты или я? – спросил он.
– Каждому по одному, – ответил я, проглотив комок в горле.
И мы сделали это.
Когда я вернулся, Аманды не было, а с Билли сидела миссис Терман. И он, и она спали. Я пошел вдоль одного из проходов и услышал:
– Мистер Дрэйтон. Дэвид. – Аманда стояла у лестницы, ведущей в кабинет менеджера. Глаза ее сверкали изумрудами. – Что там случилось?
– Ничего, – ответил я.
Она подошла ближе, и я уловил слабый запах духов. Боже, как я ее хотел.
– Ты обманываешь меня, – сказала она.
– В самом деле ничего. Ложная тревога.
– Как скажешь. – Она взяла меня за руку. – Я только что поднималась в кабинет. Там пусто, и дверь запирается. – Лицо ее было совершенно спокойно, но в глазах светился какой-то неистовый огонь, и на шее билась маленькая жилка.
– Я не…
– Я видела, как ты смотрел на меня, – сказала она. – Едва ли нам нужно об этом говорить. Терман побудет с твоим сыном.
– Да. – Мне пришло в голову, что именно так, может быть, не лучшим образом, но именно так я смогу снять с себя заклятие только что проделанной мной и Олли работы. Не лучший способ, но единственный.
Мы поднялись в кабинет по узкой лестнице. Как Аманда и сказала, он пустовал. И дверь запиралась. Я повернул ручку. В темноте она была лишь формой. Я вытянул руки вперед, коснулся ее и прижал к себе. Она дрожала. Мы опустились на пол, целуя друг друга, сначала на колени, и я положил ладонь на ее твердую грудь, ощущая через кофточку быстрое биение ее сердца. Я вспомнил, как Стеффи говорила Билли, чтобы он не трогал упавшие провода. Вспомнил синяк на ее бедре, когда она сняла свое коричневое платье вечером в день обручения. Вспомнил, как я, направляясь с папкой рисунков под мышкой в класс Винсента Хартгена, увидел ее в первый раз проезжающей на велосипеде мимо меня по аллее в университете в Ороно.
Мы упали, и она сказала:
– Люби меня, Дэвид. Сделай, чтобы мне было тепло.
Чуть позже она назвала меня чужим именем, но я не возражал: это нас как-то уравняло.
Когда мы спустились вниз, уже, крадучись, подступала заря. Чернота в проемах между мешками с удобрениями очень неохотно уступила место гусиному серому цвету, потом желтоватому и, наконец, яркой безликой матовой белизне экрана кинотеатра на открытом воздухе. Майк Хатлен спал в своем кресле, которое он неизвестно где выкопал. Ден Миллер сидел неподалеку на полу и уминал пончик, посыпанный сахарной пудрой.
– Садитесь, мистер Дрэйтон, – пригласил он.
Я оглянулся на Аманду, но она была в середине прохода и шла не оборачиваясь. Наша близость в темноте уже начала казаться мне чем-то из области фантазии, чем-то, во что невозможно поверить даже при таком странном дневном свете. Я сел.
– Берите пончик. – Он протянул мне коробку.
Я покачал головой:
– Эта сахарная пудра – верная смерть. Хуже сигарет.
– Тогда возьмите два, – сказал он, рассмеявшись.
Я с удивлением обнаружил, что во мне тоже осталось немного смеха. Он выманил его из меня и этим мне понравился. Я взял два пончика, и они оказались довольно приятными на вкус. После них я еще выкурил сигарету, хотя обычно не курю по утрам.
– Мне надо к сыну, – сказал я. – Он скоро проснется.
Миллер кивнул.
– Эти розовые жуки… – сказал он. – Все исчезли. И птицы. Хэнк Ваннерман сказал, что последняя ударилась в окно около четырех. Видимо, этот зверинец гораздо активнее, когда темно.
– Брент Нортон так бы не сказал, – заметил я. – И Норм.
Он снова кивнул, помолчал, потом закурил сигарету и взглянул на меня.
– Мы не можем здесь долго оставаться, Дрэйтон, – сказал он.
– Здесь полно еды. И есть что пить.
– Запасы к этому делу не имеют никакого отношения, как ты сам прекрасно понимаешь. Что мы будем делать, если одна из этих больших зверюг решит к нам вломиться? Вместо того чтобы просто топать по ночам снаружи? Будем отгонять ее швабрами и угольной растопкой?
Конечно же, он был прав. Может быть, туман защищал нас в какой-то степени. Прятал. Но не исключено, что это ненадолго, и, кроме того, меня тревожили другие соображения. Мы пробыли в «Федерал фудс» примерно восемнадцать часов, и я уже чувствовал, как что-то вроде летаргии охватывает меня, что-то очень похожее на оцепенение, которое я ощущал, заплыв слишком далеко. Хотелось остаться, не рисковать, продолжать заботиться о Билли («…и может быть, еще раз трахнуть Аманду Дамфрис посреди ночи», – прошептал голосок в голове), подождать, вдруг туман разойдется и все станет по-прежнему.
То же самое я видел на других лицах, и мне пришло в голову, что сейчас в супермаркете есть люди, которые не уйдут отсюда ни при каких обстоятельствах. После того, что случилось, одна мысль о том, что нужно выйти за дверь, заморозит их.
Миллер следил, вероятно, как эти мысли отражаются на моем лице, потом сказал:
– Когда появился этот чертов туман, здесь было человек восемьдесят. Из этого количества вычти носильщика, Нортона, четверых, что были с ним, и Смолли. Остается семьдесят три.
«А если вычесть еще двух солдат, что лежат теперь под мешками щенячьей кормежки, остается семьдесят один».
– Затем вычти людей, которые просто свихнулись, – продолжал он. – Их человек десять – двенадцать. Скажем, десять. Остается шестьдесят три. Но… – Он поднял испачканный в сахарной пудре палец. – Из этих шестидесяти трех человек двадцать никуда не пойдут, даже если их тащить и толкать.
– И что это все доказывает?
– Что надо отсюда выбираться, вот и все. Я иду около полудня, я думаю. И собираюсь взять с собой столько людей, сколько пойдут. Я бы хотел, чтобы ты и твой парень пошли со мной.
– После того, что случилось с Нортоном?
– Нортон пошел, как баран на бойню. Это не означает, что я или люди, которые пойдут со мной, должны поступать так же.
– Как ты можешь этому помешать? У нас всего один пистолет.
– Хорошо хоть один есть. Но если нам удастся пройти через перекресток, может быть, мы попадем в «Спортмэнс эксчейндж» на Мэйн-стрит. Там оружия более чем достаточно.
– Тут на одно «если» и на одно «может быть» больше, чем нужно.
– Дрэйтон, – сказал он, – мы вообще попали в довольно сомнительную ситуацию.
Это у него легко сошло с языка, но у него не было маленького сына, о котором нужно заботиться.
– Слушай, давай пока все это оставим, о’кей? Я не очень много спал сегодня ночью, зато имел возможность о многом подумать. Хочешь, поделюсь?
– Конечно.
Он встал и потянулся.
– Пойдем пройдемся со мной к окну.
Мы прошли вдоль касс, около хлебных полок и остановились у одного из проемов.
– Все эти твари исчезли, – сказал дежуривший там мужчина.
Миллер хлопнул его по спине:
– Можешь сходить выпить кофе. Я постою за тебя.
– О’кей. Спасибо.
Он ушел, и мы с Миллером подошли к проему.
– Скажи мне, что ты там видишь, – попросил он.
Я посмотрел в окно. Очевидно, одна из летающих тварей опрокинула ночью мусорный бак, рассыпав по асфальту бумажки, банки и пластиковые стаканчики. Чуть дальше исчезал в тумане ряд ближайших к магазину автомашин. Больше я ничего не видел и так ему и сказал.
– Вон тот голубой пикап «шевроле» мой, – сказал он, указывая рукой, и я различил в тумане намек на что-то голубое. – Но если ты помнишь, вчера, когда ты подъезжал, стоянка была почти полна, не так ли?
Я взглянул на свой «скаут», вспоминая, что мне удалось поставить машину близко к входу в магазин только потому, что кто-то освободил место, и кивнул.
– А теперь, Дрэйтон, – сказал Миллер, – присоединим к этому факту еще кое-что. Нортон и его четверка… Как ты их назвал?
– «Общество Верящих, Что Земля Плоская».
– Отлично. Прямо в точку. Они выбрались, так? И прошли почти всю длину веревки, а потом мы услышали этот рев, словно там бродило целое стадо слонов. Так?
– Это не было похоже на слонов, – сказал я. – Скорее на…
«На что-то из доисторических болот», – просилось на язык, но я не хотел говорить этого Миллеру после того, как он хлопнул этого парня по спине и отослал пить кофе, словно тренер, выводящий игрока из большой игры. Я мог бы сказать это Олли, но не Миллеру.
– Я не знаю, на что, – закончил я тихо.
– Но, судя по звуку, это было что-то большое.
– Да, пожалуй. И я полагаю, это еще мягко сказано.
– Тогда почему мы не слышали, как бьются машины? Скрежет металла? Звон стекла?
– Ну потому что… – Я замолчал. – Не знаю.
– Они никак не могли все выбраться со стоянки до того, как нас тряхнуло, – сказал Миллер. – Я вот что думаю. Я думаю, мы не слышали этих звуков, потому что машин просто нет. Сквозь землю провалились, испарились, как хочешь… Если уж перекосило эти рамы, с полок все попадало… И городская сирена замолчала в тот же момент.
Я попытался представить себе половину автостоянки. Представил, как я иду и подхожу к свежему провалу в земле, где кончается асфальт с аккуратно расчерченными желтой краской местами для автомашин. Провал, склон или, может быть, бездонная пропасть, затянутая ровным белым туманом…
– Если ты прав, – сказал я через пару секунд, – то как далеко, ты думаешь, ты уедешь на своем пикапе?
– Я про него не думал. Я думал про твою машину с четырехколесным приводом.
Об этом, конечно, стоило подумать, но не сейчас.
– Что у тебя на уме?
– Соседняя аптека, – не заставляя себя упрашивать, продолжил Миллер. – Об этом я тоже думал. Что ты на это скажешь? – Я открыл было рот, собираясь сказать, что не имею ни малейшего представления, о чем он говорит, но тут же и закрыл. Когда мы подъезжали к магазину, бриджтонская аптека работала. Прачечную закрыли, но аптека работала. Чтобы впустить свежий воздух, они открыли двери настежь и застопорили их резиновыми колодками, потому что кондиционеры у них, как и везде, остались без электричества. Дверь в аптеку должна быть не дальше двадцати футов от входа в магазин. Тогда почему…
– Почему никто из тех людей не пришел к нам? – задал за меня вопрос Миллер. – Ведь прошло восемнадцать часов. Они должны проголодаться. Не могут же они питаться «дристаном» и гигиеническими пакетами.
– Там есть продукты, – сказал я. – Они всегда продают что-нибудь. Крекеры, выпечку и всякую всячину. Плюс кондитерский прилавок.
– Я не думаю, что они стали бы сидеть на такой диете, когда здесь столько всего.
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, что я хочу смотаться отсюда, но не хочу стать обедом для какого-нибудь беглеца из второсортного фильма ужасов. Четверо или пятеро из нас могут сходить и проверить ситуацию в аптеке. Своего рода пробный шар.
– Это все?
– Нет, есть еще одно дело.
– Что еще?
– Она, – сказал Миллер и ткнул пальцем в направлении одного из средних проходов. – Эта сумасшедшая стерва. Ведьма.
Указывал он на миссис Кармоди. Она уже была не одна: к ней присоединились две женщины. По их яркой одежде я заключил, что они из тех, которые приезжают сюда на лето, леди, оставившие, может быть, дома семьи, чтобы «сгонять в город и кое-что купить», и теперь снедаемые беспокойством за своих мужей и детей. Леди, готовые ухватиться за любую соломинку. Даже за мрачные утешения миссис Кармоди.
Ее брючный костюм высвечивался в темноте все с тем же зловещим великолепием. Она говорила и жестикулировала непрерывно с мрачным и твердым лицом. Две леди в ярких платьях (не таких ярких, как одеяние миссис Кармоди, которая все еще держала свою похожую на мешок сумку, прижимая ее к себе пухлой рукой) внимали каждому ее слову.
– Она – это еще одна причина, почему я хочу убраться отсюда, Дрэйтон. К вечеру рядом с ней будет уже шесть человек. А если розовые твари и птицы вернутся сегодня ночью, завтра утром у нее будет целая конгрегация. И тогда уже нужно будет беспокоиться о том, кого она прикажет им принести в жертву, чтобы результат был получше. Может быть, меня, или тебя, или этого Хатлена. Может, твоего сына.
– Бред какой-то, – сказал я.
Но так ли это? Холодок, пробежавший у меня по спине, подсказывал, что, может быть, он прав. Губы миссис Кармоди двигались и двигались, а дамы-туристки не отрываясь следили за ее морщинистыми губами. Бред? Я вспомнил пыльные чучела, пьющие воду из зеркального ручья. Миссис Кармоди обладала какой-то силой. Даже Стефф, обычно рациональная и рассудительная, упоминала ее имя с некоторой настороженностью.
«Сумасшедшая стерва, – назвал ее Миллер. – Ведьма».
– Люди, что остались здесь, испытывают на себе такое воздействие… Это как восьмой круг ада, – сказал Миллер и, показав жестом на выкрашенные красной краской рамы, обрамляющие стекла, перекошенные, выгнутые, потрескавшиеся, добавил: – Их мозги сейчас – как эти вот рамы. Уж про себя я точно могу сказать. Половину прошлой ночи я думал, что свихнулся, что на самом деле я в смирительной рубашке где-нибудь в Данверсе, что я просто вообразил этих розовых тварей, доисторических птиц, щупальца, и все это исчезнет, когда войдет хорошенькая медсестра и вколет мне в руку успокоительное. – Его маленькое лицо побелело и напряглось. Он посмотрел на миссис Кармоди, затем снова на меня. – Я скажу тебе, что произойдет. Чем больше люди свихиваются, тем лучше для некоторых она будет выглядеть. И я не хочу тут оставаться, когда это случится.
Губы миссис Кармоди продолжали шевелиться. Язык танцевал среди ее старческих кривых зубов. Она и в самом деле походила на ведьму. Надеть на нее черный остроконечный колпак, и это станет очевидно. О чем она говорит там с этими двумя пойманными пташками в летней расцветки перьях?
О «Проекте “Стрела”»? О Черной Весне? Об исчадиях ада? О человеческом жертвоприношении?
Чушь.
И все же…
– Что ты скажешь?
– Кое с чем я согласен, – ответил я. – Мы попробуем сходить в аптеку. Ты, я, Олли, если он захочет, еще кто-нибудь, один-два человека. Потом обговорим остальное…
Даже это вызвало у меня такое чувство, словно я иду по узкому бревну над бездонной пропастью. Я едва ли помогу Билли, погибнув. Но с другой стороны, я едва ли помогу ему, просто просиживая здесь зад. Двадцать футов до аптеки. Не так уж плохо.
– Когда? – спросил он.
– Дай мне час.
– О’кей.
Глава 9. Экспедиция в аптеку
Я рассказал миссис Терман и Аманде, потом рассказал Билли. В то утро он, похоже, чувствовал себя уже лучше: на завтрак съел два пончика и миску каши. После этого я пробежал с ним туда и обратно вдоль двух проходов наперегонки и даже немного рассмешил. Дети так приспосабливаются, что это иногда просто пугает. Он был бледен, мешки под глазами от слез, выплаканных ночью, еще не прошли, и все лицо его имело какой-то ужасно изможденный вид. Чем-то оно теперь напоминало лицо старика, словно слишком большое эмоциональное напряжение слишком долго держалось за этим лицом. Но он оставался подвижен и все еще мог смеяться, по крайней мере до тех пор, пока снова не вспоминал, где находится и что происходит.
После забегов мы сели вместе с Амандой и Хэтти Терман, попили кофе из бумажных стаканчиков, и я рассказал им, что собираюсь идти в аптеку еще с несколькими людьми.
– Я не хочу, чтобы ты ходил, – немедленно заявил Билли, мрачнея.
– Все будет в порядке, Большой Билл. Я тебе принесу комиксы про Человека-Паука.
– Я хочу, чтобы ты остался. – Теперь он был не просто мрачен, теперь веяло грозой.
Я взял его за руку, но он тут же ее отдернул. Я снова взял его за руку.
– Билли, рано или поздно нам придется отсюда выбираться. Ты ведь это понимаешь?
– Когда туман разойдется. – Но он произнес это без всякого убеждения в голосе, медленно и без удовольствия прихлебывая кофе.
– Билли, мы здесь уже почти целый день.
– Я хочу к маме.
– Может быть, это первый шаг, чтобы мы могли к ней попасть.
– Не надо, чтобы мальчик сильно надеялся на это, Дэвид, – сказала миссис Терман.
– Черт! – сорвался я. – Нужно же ему на что-то надеяться!
Миссис Терман опустила глаза.
– Да. Может быть, нужно.
Билли ничего этого не заметил.
– Папа… Там же всякие… чудовища, папа.
– Мы знаем. Но большинство из них – не все, но большинство – похоже, выходят только ночью.
– Они подстерегут вас, – сказал он, глядя на меня огромными глазами. – Они будут ждать вас в тумане, и, когда вы будете возвращаться, они вас съедят. Как в сказках. – Он крепко обнял меня с какой-то панической страстностью. – Не ходи, пожалуйста, папа.
Я как мог осторожно расцепил его руки и объяснил, что должен идти.
– Я вернусь, Билли.
– Ладно, – произнес он хрипло, но больше не смотрел на меня. Он не верил, что я вернусь, и это было написано на его лице, уже не гневном, а печальном и тоскующем.
Я снова подумал, правильно ли делаю, подвергая себя такому риску, но потом взгляд мой случайно остановился на среднем проходе, где сидела миссис Кармоди. У нее появился третий слушатель, небритый мужчина со злыми, налитыми кровью глазами. Его насупленные брови и трясущиеся руки просто кричали слово «похмелье», и это был не кто иной, как Майрон Ляфлер. Человек, бездумно пославший мальчика выполнять работу мужчины.
«Сумасшедшая стерва. Ведьма».
Я поцеловал Билли и крепко прижал его к себе. Затем пошел к витрине, но не через проход с посудой: не хотел лишний раз попадаться на глаза миссис Кармоди. Когда я прошел уже три четверти пути, меня догнала Аманда.
– Ты в самом деле должен это сделать? – спросила она.
– Да, думаю, должен.
– Извини, но все это мне кажется просто мужской бравадой. – Щеки ее раскраснелись, а глаза стали зеленее обычного. Она боялась, очень боялась.
Я взял ее под руку и пересказал свой разговор с Деном Миллером. Загадка с машинами и тот факт, что никто не пришел к нам из аптеки, ее не очень тронули. Зато тронули предположения относительно миссис Кармоди.
– Возможно, он прав, – сказала она.
– Ты серьезно в это веришь?
– Не знаю. Но в этой женщине есть что-то ядовитое. И если людей пугать достаточно сильно и достаточно долго, они пойдут за любым, кто пообещает спасение.
– Но человеческие жертвоприношения, Аманда?
– Ацтеки это делали, – сказала она ровно. – Послушай, Дэвид. Ты обязательно возвращайся. Если что-нибудь случится, хоть что-нибудь, сразу возвращайся. Бросай все и беги. Не ради меня. То, что случилось ночью, было хорошо, но это было ночью. Возвращайся ради сына.
– Хорошо. Обязательно.
– Дай Бог тебе… – Теперь она выглядела, как Билли, усталой и постаревшей. Мне пришло в голову, что так выглядим почти все мы. Но не миссис Кармоди. Миссис Кармоди стала моложе и как-то ожила. Словно она попала в свою среду. Словно… Словно все это шло ей на пользу.
Собрались мы не раньше 9.30 утра. Пошли семеро: Олли, Ден Миллер, Майк Хатлен, бывший приятель Майрона Ляфлера Джим (тоже с похмелья, но преисполненный решимости каким-то образом загладить свою вину), Бадди Иглтон и я. Седьмой была Хильда Репплер. Миллер и Хатлен вполсилы попытались отговорить ее, но это оказалось невозможно. Я даже не пытался, подозревая, что она может оказаться более подготовленной, чем любой из нас, за исключением, может быть, Олли. В одной руке она держала небольшую полотняную сумку, загруженную аэрозольными баллончиками с инсектицидами «Рэйд» и «Черный флаг», уже без колпачков и готовыми к употреблению. В другой руке несла теннисную ракетку из секции спортинвентаря в проходе номер два.
– Что вы собираетесь с ней делать, миссис Репплер? – спросил я.
– Не знаю, – сказала она низким и хриплым, однако уверенным голосом, – но она хорошо сидит в руке. – Потом миссис Репплер взглянула на Джима пристально, и глаза ее остыли. – Джим Грондин, не так ли? Ты учился у меня в школе?
Губы Джима растянулись в некоем подобии неловкой улыбки.
– Да, мэм. Я и моя сестра Полин.
– Слишком много выпил вчера?
Джим, выше ее на голову и тяжелее, должно быть, фунтов на сто, густо покраснел до самых корней коротких волос.
– Э-э-э, нет.
Она резко отвернулась, обрывая его жестом.
– Я думаю, мы готовы, – сказала она.
Каждый из нас держал что-то в руках, хотя выглядел такой набор оружия довольно-таки странно. У Олли был пистолет Аманды, Бадди Иглтон принес откуда-то стальной ломик. Я прихватил рукоятку от швабры.
– О’кей, – сказал Ден Миллер, повысив голос. – Прошу внимания!
Человек двенадцать добрели до выхода посмотреть, что происходит, и остановились нестройной группой. Справа от них стояла миссис Кармоди со своими новыми сторонниками.
– Мы собираемся в аптеку посмотреть, как там дела. Надеюсь, мы найдем что-нибудь для миссис Клапхем.
Так звали старушку, которую затоптали вечером, когда появились розовые твари. Ей сломали ногу, и она сильно мучилась от боли.
Миллер взглянул на нас.
– Мы не хотим рисковать, – сказал он. – И при первых же признаках опасности мигом вернемся в магазин…
– И приведете к нам эти исчадия ада, – выкрикнула миссис Кармоди.
– Она права! – поддакнула одна из «летних» дам. – Из-за вас они нас заметят! Вы приманите их сюда! Почему бы вам не успокоиться, пока все хорошо?
– Леди, это вы называете «все хорошо»? – спросил я.
В замешательстве она опустила взгляд. Миссис Кармоди с горящими глазами шагнула вперед.
– Ты умрешь там, Дэвид Дрэйтон! Ты хочешь, чтобы твой сын остался сиротой? – Она обвела нас всех взглядом. Бадди Иглтон опустил глаза и одновременно поднял ломик, словно защищаясь от ее злых чар.
– Вы все умрете там! Разве вы не поняли, что наступил конец света? Враг рода человеческого шагает по земле! Пылает адский огонь, и каждый, кто ступит за дверь, будет растерзан! Они придут за теми из нас, кто остался здесь, как сказала эта добрая женщина. Люди, вы позволите, чтобы это случилось? – Теперь она обращалась к собравшимся зрителям, и толпа зароптала. – После того, что случилось с неверящими вчера? Там смерть! Смерть! Там…
Банка зеленого горошка, пролетев через две кассы, ударилась ей в правую грудь. Миссис Кармоди, квакнув от неожиданности, замолчала. Вперед вышла Аманда.
– Заткнись, – сказала она. – Стервятница. Заткнись.
– Она служит нечистому! – опять заорала миссис Кармоди, и на губах ее заиграла нервная улыбка. – С кем ты спала прошлой ночью, миссис? С кем ты легла? Мать Кармоди все видит! Да! Мать Кармоди видит, чего не видят другие!
Но сотканные ею чары уже оборвались, и Аманда спокойно выдержала ее взгляд.
– Мы идем или будем стоять здесь целый день? – спросила миссис Репплер.
И мы пошли. Спаси нас Бог, мы пошли.
Ден Миллер шел первым. Олли вторым. Я шел последним, сразу за миссис Репплер. Наверное, я никогда в жизни так не боялся. Моя рука, сжимающая рукоятку от швабры, стала скользкой от пота.
Выйдя за дверь, я снова почувствовал тонкий неестественный едкий запах тумана. Миллер и Олли уже растворились в белизне, а Хатлена, шедшего третьим, едва было видно.
«Всего двадцать футов, – твердил я себе. – Всего двадцать футов».
Миссис Репплер медленно, но твердо шагала впереди меня, чуть покачивая зажатой в правой руке теннисной ракеткой. Слева от нас была красная шлакоблочная стена. Справа, как призрачные корабли, стояли в тумане машины первого ряда автостоянки. Потом из белизны возник еще один мусорный бак, а за ним скамейка, на которой люди иногда ждали очереди к телефону-автомату. «Всего двадцать футов. Миллер, наверное, уже там. Двадцать футов – это всего десять – двенадцать шагов, так что…»
– О Боже! – вскрикнул Миллер. – Боже милостивый! Вы только посмотрите!
Миллер действительно добрался до места.
Бадди Иглтон, шедший перед миссис Репплер, повернулся было, испуганно таращась огромными глазами, и хотел бежать. Она легонько толкнула его в грудь ракеткой.
– Куда это ты собрался? – спросила она строгим, чуть скрипучим голосом, и на этом паника прекратилась.
Мы догнали Миллера. Я бросил взгляд через плечо и увидел, что «Федерал фудс» скрыло туманом. Красная шлакоблочная стена становилась бледно-розовой и исчезала из виду полностью буквально в пяти футах от входа в супермаркет. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким изолированным, таким одиноким.
Внутри аптека больше всего напоминала бойню. Мы с Миллером почти угадали. Все твари, скрывающиеся в тумане, находили жертву в основном по запаху. И это логично. Зрение было бы для них почти бесполезно. От слуха толка ненамного больше, поскольку, как я уже писал, туман странным образом путает всю акустику: звуки, раздающиеся близко, делает далекими, а далекие иногда близкими. Эти твари из тумана шли, повинуясь самому верному чувству. Шли по запаху.
Тех, кто остался в супермаркете, в каком-то смысле спасло отсутствие электричества, потому что перестали работать двери с фотоэлементами, и, когда появился туман, магазин оказался как бы запечатанным. В аптеке же двери были открыты и застопорены. Когда прервалась подача электричества, перестали работать их кондиционеры, и они открыли двери, чтобы вошел свежий воздух. Однако со свежим воздухом вошло и еще что-то.
В дверях лежал на животе мужчина в бордовой рубашке. Вернее, это сначала я подумал, что она бордовая, а потом заметил несколько белых участков внизу и понял, что недавно рубашка была белой целиком. Бордовой она стала от высохшей крови. Что-то еще было не так, и я долго не мог сообразить что. Даже когда Бадди Иглтона громко стошнило, до меня и то дошло не сразу. Видимо, когда с людьми случается что-то столь необратимое, мозг отказывается принимать это сразу. Если вы не были на войне.
У мужчины не хватало головы. Ноги его лежали на пороге аптеки, и голове полагалось бы свисать с нижней ступеньки. Но ее просто не было.
Джиму Грондину этого оказалось достаточно. Он отвернулся, закрывая руками рот, взглянул на меня безумными красными глазами и, качаясь, поплелся обратно к магазину. Никто не обратил на него внимания. Миллер прошел внутрь. Майк Хатлен за ним. Миссис Репплер остановилась у одной из дверей с теннисной ракеткой в руках. Олли встал с другой стороны, держа в руке направленный в землю пистолет, и сказал:
– Кажется, я начинаю терять надежду, Дэвид.
Бадди Иглтон стоял, прислонившись к телефонной будке с видом человека, только что получившего плохие известия. Широкие плечи тряслись от рыданий.
– Не надо так сразу сбрасывать нас со счетов, – сказал я Олли и вошел в аптеку. Мне не хотелось этого делать, но я обещал Билли комиксы.
В аптеке царил сумасшедший хаос. Повсюду валялись книги в бумажных обложках и журналы. У самых моих ног лежали «Человек-Паук» и «Невероятная Громадина» – почти не задумываясь, я поднял их и сунул в задний карман. Бутылочки и коробочки с лекарствами были разбросаны по всему полу. Из-за прилавка свисала чья-то рука.
Меня охватило ощущение нереальности происходящего. Разгром, кровь – все это само по себе странно. Но помещение выглядело так, словно тут справляли какой-то сумасшедший праздник: повсюду висели, как мне сначала показалось, гирлянды и ленты. Не широкие и плоские, как обычно, а похожие или на толстые струны, или на тонкие провода. Я еще обратил внимание, что они такого же яркого белого цвета, как сам туман, и по спине у меня пробежал холодок нехорошего предчувствия. Если это не креп, то что же? С некоторых из «гирлянд» свисали, болтаясь в воздухе, книги и журналы.
Майк Хатлен пнул ногой какую-то странную черную штуку. Длинную и щетинистую.
– Что это за чертовщина? – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно.
И внезапно я понял. Я знал, что убило всех этих людей, которым пришлось остаться в аптеке, когда нахлынул туман. Людей, которых нашли по запаху…
– Назад, – сказал я. В горле у меня совершенно пересохло, и слова вылетали коротко и сухо, как выстрелы. – Уходим.
Олли взглянул на меня.
– Дэвид?..
– Это паутина, – сказал я, и в этот момент с улицы донеслись два крика. Первый, возможно, от испуга, второй – от боли. Кричал Джим. Видимо, если есть такая штука, как долг судьбе, он теперь расплачивался.
– Бежим! – крикнул я Майку и Дену Миллеру.
Тут что-то взвилось в тумане. На белом фоне невозможно было разглядеть, что это, но я услышал звук, похожий на свист хлыста, которым хлопнули вполсилы. И когда он обвил ногу Бадди Иглтона, перехватив джинсы над коленом, я увидел.
Он вскрикнул и схватился за первое, что попало под руку, – телефон. Трубка соскочила и, пролетев на длину провода, закачалась у земли.
– О Боже! Больно! – закричал Бадди.
Олли подхватил его, и я, увидев, что случилось, понял, почему у человека, лежавшего на ступенях, не было головы. Тонкий белый «провод», закрутившись вокруг ноги Бадди, как шелковый шнур, начал врезаться в кожу. Штанина, отрезанная словно бритвой, стала сползать по ноге, а на коже, в том месте, где в нее врезался «провод», появился круглый надрез, брызжущий кровью.
Олли дернул его на себя. Раздался такой звук, будто что-то лопнуло, и Бадди освободился. Губы его посинели от испуга.
Майк и Ден тоже двинулись назад, но слишком медленно. Ден налетел на несколько растянутых веревок и прилип, как жук к липучке. С огромным усилием он высвободился, оставив кусок рубашки на паутине.
Внезапно воздух заполнило звуками щелкающих хлыстов, и отовсюду вокруг нас стали падать тонкие белые веревки. Пригнувшись, я увернулся от двух из них, но скорее благодаря везению, нежели ловкости. Одна упала у моих ног, и я услышал слабое шипение пузырящегося асфальта. Еще одна выплыла из тумана, и миссис Репплер хладнокровно отбила ее ракеткой. Веревка прилипла к ней накрепко, и я услышал тонкое «пинг-пинг-пинг» разъедаемой лопающейся лески. Звук был такой, словно кто-то быстро-быстро щипал скрипичные струны. Секундой позже еще одна веревка обмоталась вокруг верха ракетки, выдернула ее из рук миссис Репплер и унесла в туман.
– Назад! – крикнул Олли.
Мы бросились к магазину. Олли поддерживал Бадди. Ден Миллер и Майк Хатлен шли по обе стороны от миссис Репплер. Белые обрывки паутины продолжали вылетать из тумана, почти невидимые, разве только когда появлялись на фоне красной шлакоблочной стены.
Одна веревка обмоталась вокруг левой руки Майка Хатлена. Вторая перехлестнула его шею и затянулась после нескольких рывков. Вена на шее прорвалась, выбросив фонтан крови, и Майка с безвольно повисшей головой уволокло в туман. Один его ботинок свалился с ноги и остался лежать на мостовой.
Неожиданно Бадди стал падать вперед, и Олли чуть не рухнул на колени.
– Он потерял сознание, Дэвид. Помоги мне.
Я обхватил Бадди за пояс, и мы неуклюже поволокли его дальше. Даже потеряв сознание, Бадди не выпустил из рук стальной ломик. Нога, которую зацепило паутиной, торчала в сторону под каким-то неестественным углом.
Миссис Репплер обернулась.
– Осторожнее! – крикнула она хрипло. – Сзади!
Я начал оборачиваться, и в этот момент еще одна веревка опустилась на голову Дена Миллера. Он принялся рвать ее и отбивать руками.
Из тумана позади нас появился паук величиной с крупную собаку. Черный с желтыми полосками. «Как гоночный автомобиль», – пронеслась у меня в голове сумасшедшая мысль. Глаза его блестели красно-фиолетовым, гранатовым огнем. Он деловито приближался к нам, переступая двенадцатью или четырнадцатью лапами с множеством сочленений – не обычный земной паук, увеличенный, словно для съемок фильма ужасов, а что-то совершенно другое, может быть, и не паук вовсе. Глядя на него, Майк Хатлен, очевидно, понял перед смертью, что он пинал ногой на полу аптеки.
Паук приближался к нам, выпуская паутину из отверстия вверху живота. Веревки плыли к нам почти правильным веером. Глядя на этот кошмар, так похожий на черных пауков, застывших над мертвыми мухами и жуками в полутьме нашего лодочного сарая, я чувствовал, что вот-вот сойду с ума. Наверное, только мысль о Билли позволила мне сохранить какое-то подобие способности рассуждать. Кажется, я смеялся, или плакал, или кричал. Не помню.
Олли, однако, держался совершенно хладнокровно. Он плавно поднял пистолет, словно был в стрелковом тире, и в упор, с равномерными промежутками, всадил весь барабан в отвратительное существо. Из какой бы преисподней его ни вынесло, неуязвимым оно не было. Черная кровь брызнула из его ран. Паук издал мерзкий мяукающий звук, такой низкий, что он скорее чувствовался, чем слышался, как басовая нота на синтезаторе, и, метнувшись в туман, исчез. Можно было бы подумать, что это плод воображения, чудовищный наркотический бред, если бы не лужа липкой черной жидкости, которую он оставил после себя.
Звякнул об асфальт ломик, который Бадди наконец выпустил из рук.
– Он мертв, – сказал Олли. – Отпусти его, Дэвид. Эта чертовщина зацепила его бедренную артерию, и он умер. Давай, к черту, сваливать отсюда. – Большое круглое лицо его снова покрылось потом, глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Одна из «веревок» коснулась, опускаясь, тыльной стороны его ладони, и он одним резким движением отдернул руку. На коже осталась кровавая полоска.
Миссис Репплер снова закричала: «Берегись!», и мы обернулись в ее сторону. Еще один паук выбежал из тумана и обхватил своими лапами Дена Миллера, словно в диком любовном объятии. Ден отбивался кулаками. Я успел лишь наклониться и подхватить ломик Бадди, а паук уже принялся опутывать Миллера своей смертоносной паутиной, превратив его попытки высвободиться в мрачный танец смерти.
Миссис Репплер приблизилась к пауку, держа в вытянутой руке баллончик с инсектицидом. Когда несколько паучьих лап потянулись в ее сторону, она нажала кнопку и выпустила струю яда прямо в его сверкающие, словно рубины, глаза. Я снова услышал тот мяукающий звук. Паук задрожал всем телом и стал, пошатываясь, пятиться, царапая волосатыми лапами по асфальту и волоча за собой перекатывающееся и подпрыгивающее тело Дена. Миссис Репплер швырнула в него банкой инсектицида. Банка отскочила от паука и покатилась по асфальту. Паук врезался в дверцу маленькой спортивной машины с такой силой, что та закачалась на рессорах, потом скрылся во мгле.
Я подбежал к едва державшейся на ногах, бледной миссис Репплер и подхватил ее рукой.
– Благодарю вас, молодой человек, – сказала она. – Мне вдруг стало плохо.
– Ничего, – хрипло ответил я.
– Я спасла бы его, если бы могла.
– Я знаю.
Олли присоединился к нам, и мы бросились к дверям магазина, уворачиваясь от падающих веревок. Одна из них опустилась на сумку миссис Репплер и тут же проела полотняный бок. Миссис Репплер обеими руками пыталась удержать свою сумку, но проиграла, и она покатилась вслед за веревкой в туман. Когда мы были уже у самого входа в магазин, из тумана вдоль стены здания выбежал маленький паук, не больше щенка кокер-спаниеля. Паутину он не выбрасывал: видимо, еще не дорос.
Олли надавил плечом на дверь, пропуская вперед миссис Репплер, а я в этот момент с размаху всадил в паука стальной прут, наколов его словно на дротик. Он бешено задергался, заскреб лапами воздух; его красные глаза нашли мои глаза и уставились, будто запоминая.
– Дэвид! – Олли еще держал дверь.
Я бросился внутрь, он сразу за мной.
Нас встретили бледные испуганные лица. Мы уходили всемером, а вернулись только трое. Олли, тяжело дыша, прислонился к тяжелой стеклянной двери и принялся перезаряжать пистолет. Его белая рубашка прилипла к телу, а под руками расплылись огромные серые пятна пота.
– Что там? – спросил кто-то низким хриплым голосом.
– Пауки, – мрачно ответила миссис Репплер. – Мерзкие твари утащили мою сумку.
Тут Билли, просочившись сквозь толпу, бросился ко мне, вытянув вперед руки, и я крепко обнял его.
Глава 10. Чары миссис Кармоди. Вторая ночь в магазине. Последняя конфронтация
Пришла моя очередь спать, и про эти четыре часа я ничего не помню. Аманда сказала, что я много говорил, вскрикивал пару раз, но я не помню никаких снов. Проснулся я уже во второй половине дня, испытывая ужасную жажду. Молоко начало скисать, но пока скисло не все, и я выпил целую кварту.
Вскоре к нам с Билли и миссис Терман присоединилась Аманда. С ней подошел старик, предлагавший сходить за ружьем. Корнелл, вспомнил я. Амброз Корнелл.
– Как ты, сынок? – спросил он.
– Все в порядке. – Но я еще хотел пить, и у меня болела голова. И самое главное, я боялся. Обняв Билли, я посмотрел на Корнелла и Аманду, потом спросил: – Что нового?
– Мистер Корнелл беспокоится насчет этой миссис Кармоди. Я тоже.
– Билли, почему бы тебе со мной не прогуляться? – спросила Хэтти.
– Не хочу, – ответил Билли.
– Прогуляйся немного, Большой Билл, – сказал я, и он с неохотой ушел.
– Что там насчет миссис Кармоди? – спросил я.
– Она продолжает мутить воду, – сказал Корнелл и посмотрел на меня с какой-то особой старческой удрученностью. – Я думаю, мы должны прекратить это. Любым доступным способом.
– С ней уже больше десяти человек, – добавила Аманда. – Это какая-то дикая религиозная служба.
Я вспомнил разговор с одним своим другом, писателем из Отисфилда, который зарабатывал на жизнь себе, жене и двум детям, разводя кур и выпуская по одной новой книжке в год. Шпионские романы. Мы разговорились о растущей популярности книг, касающихся сверхъестественных явлений, и Голт заметил, что еще в сороковые годы журнал «Дикие истории» мог платить авторам лишь жалкие гроши, а в пятидесятых и совсем обанкротился. Когда машины выходят из строя, сказал он (в это время его жена собирала в курятнике яйца, а снаружи сердито кукарекали петухи), когда технология терпит крах, когда система привычных религий рушится, людям все равно нужна какая-то опора. И даже зомби, крадущиеся в ночи, могут показаться явлением достаточно привлекательным по сравнению с экзистенциалистской комедией ужасов, вызванной к жизни разрушением озонового слоя под общим натиском миллионов аэрозольных баллончиков с дезодорантами.
Мы сидели в осаде уже двадцать шесть часов и не смогли сделать абсолютно ничего. Результатом нашей единственной экспедиции наружу стали пятидесятисемипроцентные потери. Неудивительно, что акции миссис Кармоди растут.
– У нее в самом деле уже больше десятка человек? – спросил я.
– На самом деле только восемь, – ответил Корнелл. – Но она говорит непрерывно. Это черт знает что.
Восемь человек. Не так много. Не хватит даже на суд присяжных. Но я понимал беспокойство, отражавшееся на их лицах. Восьмерых было достаточно, чтобы сделать их самой большой политической силой в супермаркете, особенно теперь, когда не стало Дена и Майка. И мысль о том, что самая большая политическая сила в нашей замкнутой системе внимает каждому ее слову об ужасах ада и чашах гнева Господня, вызывала у меня чертовски сильную клаустрофобию.
– Она опять начала болтать о человеческих жертвоприношениях, – сказала Аманда. – Бад Браун подошел к ней и велел прекратить эти мерзкие разговоры в его магазине. Двое мужчин, что теперь с ней – один из них, кстати, Майрон Ляфлер, – сказали, чтобы он сам заткнулся, потому что, мол, это еще свободная страна. Он не заткнулся, и произошла… Ну в общем, немного помахали руками, я бы сказала.
– Брауну разбили нос, – добавил Корнелл. – Они всерьез готовы на многое.
– Но не на убийство же в самом деле, – сказал я.
– Я не уверен, как далеко они зайдут, – мягко произнес Корнелл, – если туман не развеется. Но я не хотел бы узнать. Я собираюсь дать отсюда ходу.
– Легче сказать, чем сделать. – Но какие-то мысли зашевелились у меня в голове. Запах. Вот ключ к решению. Здесь, в магазине, мы были более или менее в безопасности. Розовых тварей, видимо, привлекал свет фонарей, как обычных насекомых. Но чудовища побольше не трогали нас до тех пор, пока мы не высовывались. Бойня в аптеке произошла именно потому, что там оставили двери открытыми. В этом я не сомневался. То существо или, скажем, существа, что прикончили группу Нортона, по звуку казались огромными, как дом, но они не приближались к супермаркету. А это означало…
Мне срочно понадобилось переговорить с Олли Виксом. Я просто должен был с ним поговорить.
– Я или выберусь отсюда, или погибну, – сказал Корнелл. – Я не собираюсь жить тут все лето.
– Четверо уже покончили с собой, – неожиданно сказала Аманда.
– Что? – Первая мысль, пришедшая мне в голову вместе с чувством полувины, была о том, что тела солдат обнаружены.
– Снотворное, – коротко ответил Корнелл. – Я и еще несколько человек отнесли тела на склад.
Я чуть не засмеялся, подумав, что скоро у нас там будет настоящий морг.
– Уже темнеет, – сказал Корнелл. – Я хочу двигаться.
– Вы не доберетесь до своей машины, поверьте.
– Даже до первого ряда? Это ближе, чем до аптеки.
Я не ответил. Время еще не подошло.
Примерно через час я нашел Олли у пивного охладителя. Он пил пиво с бесстрастным лицом, но тоже, похоже, наблюдал за миссис Кармоди. Старуха не знала усталости. И она действительно снова обсуждала человеческое жертвоприношение, только теперь никто не говорил ей заткнуться. Некоторые из тех, кто еще днем раньше требовал, чтобы она замолчала, сегодня или были с ней, или по крайней мере охотно слушали. Других же оставалось все меньше.
– К завтрашнему утру она сможет их уговорить, – заметил Олли. – Может быть, нет, но, если это случится, кого, ты думаешь, она выберет?
Бад Браун перешел ей дорогу. Аманда. Тот человек, что ее ударил. И конечно, я.
– Олли, – сказал я, – я думаю, с полдюжины человек могут отсюда выбраться. Не знаю, как далеко мы уедем, но по крайней мере мы выберемся.
– Как?
Я выложил ему свой план. Ничего сложного я не предлагал. Если броситься бегом к моему «скауту» и всем быстро забраться внутрь, они не успеют ничего учуять. Во всяком случае, если закрыть окна.
– Но предположим, их привлечет какой-нибудь другой запах? – спросил Олли. – Например, выхлопные газы?
– Тогда нам крышка, – согласился я.
– Движение, – сказал он. – Движение машины в тумане тоже может привлечь их, Дэвид.
– Я не думаю. Без запаха жертвы они не нападут. Я действительно думаю, что в этом все дело.
– Но ты не уверен.
– Нет. Не уверен.
– Куда ты собираешься ехать?
– Сначала? Домой. За женой.
– Дэвид…
– Ладно. Проверить. Убедиться.
– Эти твари могут быть везде, Дэвид. Они могут напасть на тебя, как только ты выйдешь из машины.
– Если это случится, «скаут» твой. Я только прошу, чтобы ты позаботился о Билли, как и сколько сможешь.
Олли допил пиво и бросил банку в охладитель, где она со звоном упала на гору других пустых банок. Рукоять пистолета, который дала ему Аманда, торчала у него из кармана.
– На юг? – спросил он, глядя мне в глаза.
– Да, видимо, – сказал я. – Надо двигаться на юг и пытаться выбраться из тумана. Изо всех сил пытаться.
– У тебя много бензина?
– Почти полный бак.
– Тебе не приходило в голову, что выбраться вдруг будет невозможно?
Мне приходило. Что, если это самое, с чем они там экспериментировали в «Проекте “Стрела”», перетянуло весь наш район в другое измерение с такой же легкостью, как люди выворачивают носок наизнанку?
– Приходило, – сказал я. – Но единственная альтернатива – это сидеть и ждать, кого миссис Кармоди выберет на почетную роль.
– Ты думал отправиться сегодня?
– Нет, сейчас уже поздно, а эти твари как раз ночью становятся активными. Я думал отправиться завтра утром, очень рано.
– Кого ты хочешь взять?
– Тебя, Билли, Хэтти Терман, Аманду Дамфрис. Этого старика Корнелла и миссис Репплер. Может быть, Бада Брауна тоже. Это уже восемь, но Билли может сесть к кому-нибудь на колени, и мы немного потеснимся.
Он ненадолго задумался.
– О’кей, – сказал он наконец. – Давай попробуем. Ты с кем-нибудь уже говорил?
– Нет. Пока не говорил.
– И я посоветую тебе пока никому ничего не говорить. Часов до четырех утра. Я приготовлю пару пакетов продуктов под прилавком у кассы, ближайшей к выходу. Если нам повезет, мы сможем выскользнуть еще до того, как кто-нибудь что-нибудь заметит. – Взгляд его снова скользнул в сторону миссис Кармоди. – Если она узнает, она может попытаться помешать нам.
– Ты так думаешь?
Олли взял еще одну банку пива.
– Да, я так думаю.
Вторая половина дня – вчерашнего дня – прошла словно в замедленной съемке. Подползла темнота, снова превращая белый туман в грязно-желтый, и к половине девятого мир, оставшийся снаружи, медленно растворился в черноте.
Вернулись розовые твари, потом, бросаясь на окна и подхватывая розовых, появились твари-птицы. Что-то рыкало изредка в темноте, и один раз незадолго до полуночи раздалось долгое, протяжное «аааррууууу…». Люди повернулись к черным стеклам с испугом и ожиданием на лицах. Примерно такого звука можно, наверное, ожидать от самца крокодила в болоте.
Все шло примерно так, как и предсказал Миллер. К началу новых суток миссис Кармоди заполучила еще с полдюжины душ. Среди них оказался и мясник мистер Маквей. Он стоял со сложенными на груди руками и внимательно за ней наблюдал.
Миссис Кармоди разошлась не на шутку. Казалось, сон ей совсем не нужен. Ее проповедь – сплошной поток ужасов из Доре, Босха и Джонатана Эдвардса – продолжалась и продолжалась, неуклонно приближаясь к какому-то зловещему финалу. Группа ее сторонников уже начала бормотать вместе с ней и невольно раскачиваться взад-вперед, как «истинно верующие» на сходке. Пустые глаза лихорадочно блестели. Они полностью отдались чарам миссис Кармоди.
Около трех утра (проповедь продолжалась, и те, кого она не интересовала, ушли в дальний конец магазина, чтобы там попытаться хоть немного уснуть) я увидел, как Олли положил пакет с продуктами на полку под прилавком ближайшей к выходу кассы. Через полчаса он добавил туда еще один пакет. Похоже, кроме меня, его действий никто не заметил. Билли, Аманда и миссис Терман спали, прижавшись друг к другу, у опустошенной секции колбас. Я присоединился к ним и погрузился в тревожную дремоту.
В четыре пятнадцать по моим часам Олли меня разбудил. Рядом с ним стоял Корнелл, и глаза его блестели за стеклами очков.
– Время, Дэвид, – сказал Олли.
Я почувствовал, как от нервов кольнуло у меня в животе, но это быстро прошло. Я разбудил Аманду. Вопрос о том, что может произойти, когда Аманда и Стефани окажутся в одной машине, возникал у меня, но я не стал думать на эту тему: пока надо было принимать все как есть.
Ее замечательные зеленые глаза открылись и взглянули в мои.
– Дэвид?
– Мы хотим сделать попытку выбраться отсюда. Ты пойдешь с нами?
– О чем ты говоришь?
Я начал объяснять, потом разбудил миссис Терман, чтобы мне не пришлось повторять одно и то же дважды.
– Эта твоя теория насчет запахов, – спросила Аманда, – пока просто догадка?
– Да.
– Для меня это не имеет значения, – сказала Хэтти. Лицо ее стало бледным, и, несмотря на то что ей удалось поспать, под глазами темнели большие пятна. – Я готова на все, на любые шансы, только бы снова увидеть солнце.
«Только бы снова увидеть солнце». Я вздрогнул. Она очень близко угадала центр моих собственных страхов, того чувства почти полной обреченности, что охватило меня, когда я увидел, как щупальца выволокли Норма через загрузочную дверь. Сквозь туман солнце казалось маленькой серебряной монеткой, словно мы были на Венере.
Страхи эти вызывали не чудовища, подстерегающие нас в тумане. Мой удар ломиком доказал, что они не бессмертные монстры из книг Лавкрафта, а всего лишь органические существа с их собственными уязвимыми местами. Дело было в самом тумане, который отбирал силу и лишал воли. «Только бы снова увидеть солнце». Она права. Одно это стоит того, чтобы пройти через ад.
Я улыбнулся Хэтти, и она неуверенно улыбнулась в ответ.
– Да, – сказала Аманда. – Я тоже.
Я начал осторожно будить Билли.
* * *
– Я с вами, – коротко ответила миссис Репплер.
Мы все собрались у мясного прилавка. Все, кроме Бада Брауна. Он поблагодарил нас за приглашение, но отказался, сказав, что не может оставить магазин, потом добавил на удивление мягким голосом, что не осуждает Олли за уход.
От белых эмалированных ящиков начало тянуть неприятным сладковатым запахом, напомнившим мне случай, когда во время нашей недельной поездки на Мыс у нас испортился морозильник. Может быть, этот запах протухающего мяса и погнал мистера Маквея в команду миссис Кармоди.
– …искупление! Сейчас мы должны думать об искуплении! Бог покарал нас! Мы наказаны за то, что пытались проникнуть в секреты, запрещенные Богом древних! Мы видели, как разверзлись губы земли! Мы видели отвратительные кошмары! Камень не спрячет от них, мертвое дерево не даст убежища! И как все это кончится? Что остановит это?
– Искупление! – орал старый добрый Майрон Ляфлер.
– Искупление… искупление… – шептали неуверенно остальные.
– Я хочу услышать, что вы действительно верите! – кричала миссис Кармоди. Вены вздулись у нее на шее, словно канаты. Голос ее сел, охрип, но все еще сохранял властную силу, и я подумал, что эту силу дал ей именно туман. Силу и способность затуманивать людям головы. Туман, отобравший у всех нас силу солнца. До этого она оставалась всего лишь немного эксцентричной старой женщиной с антикварным магазином в городе, где полно антикварных магазинов. Просто старая женщина с чучелами животных в дальней комнате магазина и репутацией знатока
(ведьма… стерва…)
народной медицины. Говорили, что она может найти воду с помощью яблоневого черенка, что она умеет заговаривать бородавки и может продать вам крем, почти полностью избавляющий от веснушек. Я даже слышал, кажется, от Билла Джости, что к миссис Кармоди можно обратиться (только тайно) по поводу половой жизни: если, мол, в постели дела у вас идут не блестяще, она, мол, даст напиток, от которого все встанет на свои места.
– ИСКУПЛЕНИЕ! – закричали они все хором.
– Искупление, верно! – гнула свое миссис Кармоди. – Искупление разгонит туман! Искупление сметет этих чудовищных монстров! Искупление снимет завесу тумана с наших глаз и позволит увидеть! – Голос ее стал чуть тише. – А что есть искупление по Библии? Что есть единственное средство, снимающее грех в глазах и разуме Божьем?
– Кровь.
На этот раз меня всего затрясло; еще чуть-чуть, и у меня, наверное, зашевелились бы волосы. Слово это произнес мистер Маквей. Мясник мистер Маквей, который резал мясо в Бриджтоне еще с тех пор, когда я был ребенком, державшимся за талантливую руку отца. Мистер Маквей, принимающий заказы и режущий мясо в своем запачканном белом халате. Мистер Маквей, чье знакомство с ножом было долгим. И с пилой тоже. И с топором. Мистер Маквей, который лучше других поймет, что средство для очищения души вытекает из ран на теле.
– Кровь… – прошептали они.
– Папа, я боюсь, – плаксиво произнес Билли, крепко сжав мою руку. Лицо его заметно побледнело.
– Олли, – сказал я, – по-моему, нам пора двигаться из этого дурдома.
– О’кей, – ответил он. – Пошли.
Олли, Аманда, Корнелл, миссис Терман, миссис Репплер, Билли и я неплотной группой двинулись по второму проходу к дверям. Было уже без четверти пять, и туман снова начал светлеть.
– Ты и Корнелл, берите пакеты, – сказал Олли, обращаясь ко мне.
– О’кей.
– Я пойду первым. У «скаута» четыре дверцы?
– Да.
– Отлично. Я открою дверцу водителя и заднюю с одной стороны. Миссис Дамфрис, вы удержите Билли на руках?
Она взяла его на руки.
– Я не слишком тяжелый? – спросил Билли.
– Нет, милый.
– Хорошо.
– Вы с Билли забирайтесь вглубь, – продолжал Олли. – К противоположной дверце. Миссис Терман – вперед, в середину. Ты, Дэвид, за руль. А остальные…
– Куда это вы собрались? – спросила миссис Кармоди.
Она остановилась рядом с кассой у входа, где Олли спрятал продукты. Брючный костюм ее словно кричал желтизной в полумраке. Всклокоченные волосы дико торчали во все стороны, напомнив мне на мгновение Эльзу Ланчестер в «Невесте Франкенштейна». Глаза ее горели, а за спиной, загораживая двери, стояли человек пятнадцать. И все они выглядели так, словно только что выбрались из машины, потерпевшей аварию, или увидели летающую тарелку, или на их глазах дерево вытащило из земли корни и пошло.
Билли прижался к Аманде, уткнувшись лицом в ее щеку.
– Мы уходим, миссис Кармоди, – сказал Олли необычайно мягким голосом. – Пожалуйста, не задерживайте нас.
– Вы не можете уйти. Там смерть. Вы что, до сих пор не поняли?
– Вам никто не мешал, – сказал я, – и мы хотели бы, чтобы к нам отнеслись так же.
Она наклонилась и безошибочно нашла пакеты с продуктами, с самого начала, должно быть, догадываясь о наших планах. Она вытащила их с полки, и один пакет разорвался сразу, рассыпав по полу консервные банки. Другой она швырнула рядом, и он лопнул от удара об пол со звуком бьющегося стекла. Газированная вода с шипением растеклась во все стороны и забрызгала хромированную стенку соседней кассы.
– Вот такие люди виновны в том, что случилось! – закричала миссис Кармоди. – Люди, которые не желают склониться перед волей Всемогущего! Грешники в гордыне, надменные и упрямые! Из их числа должна быть выбрана жертва! Их кровь должна принести искупление!
Поднявшийся одобрительный ропот будто пришпорил ее. Она впала в неистовство и, брызжа слюной, закричала собравшимся:
– Нам нужен мальчишка! Хватайте его! Хватайте! Нам нужен мальчишка!
Они бросились к нам, и впереди всех с каким-то радостным блеском в пустых глазах бежал Майрон Ляфлер. Мистер Маквей бежал сразу за ним. Лицо его было неподвижно и бесстрастно.
Аманда отшатнулась назад, еще крепче прижав к себе Билли, обнявшего ее за шею, и испуганно взглянула на меня.
– Дэвид, что мне…
– Обоих хватайте! – кричала миссис Кармоди. – Девку тоже хватайте!
Будто апокалиптическое воплощение желтой и мрачной радости, миссис Кармоди запрыгала на месте, все еще держа накинутую на руку сумку.
– Хватайте мальчишку! Хватайте девку! Обоих хватайте! Хватайте всех! Хватайте…
Раздался короткий звук выстрела.
Все замерли, словно балующиеся дети в классе, когда вдруг вошел учитель и резко хлопнул дверью. Майрон Ляфлер и мистер Маквей остановились примерно в десяти шагах от нас, и Майрон неуверенно оглянулся на мясника. Тот не ответил на его взгляд и даже, кажется, не понял, что Ляфлер рядом. На лице мистера Маквея застыло то самое выражение, что я слишком часто замечал у людей за последние два дня: его разум не выдержал.
Майрон попятился, глядя на Олли Викса расширившимися испуганными глазами, потом бросился бежать, свернул в конце прохода, поскользнулся на банке, упал, снова вскарабкался на ноги и скрылся где-то в дальнем конце магазина.
Олли замер в классической стойке для стрельбы, сжимая пистолет Аманды обеими руками. Миссис Кармоди продолжала стоять у ближайшей к выходу кассы, схватившись покрытыми пятнами руками за живот. Кровь текла у нее между пальцами и капала на желтые брюки.
Рот ее открылся и закрылся. Потом еще раз. Она пыталась что-то сказать, и наконец ей это удалось.
– Вы все умрете там, – произнесла она и медленно упала вперед. Сумка ее соскользнула с руки и ударилась об пол, рассыпав содержимое. Завернутый в бумагу цилиндрик выскочил из сумки, прокатился по полу и задел о мой ботинок. Не задумываясь, я наклонился и поднял его. Оказалось, это начатая упаковка таблеток, и я тут же выкинул ее. Не хотелось касаться ничего, что принадлежало ей.
Конгрегация, лишенная своего центра, попятилась. Люди расходились, не отрывая взглядов от лежащей фигуры и расползающегося из-под нее темного пятна.
– Ты убил ее! – крикнул кто-то испуганно и зло. Однако никто не сказал, что она хотела сделать то же самое с моим сыном.
Олли все еще стоял в позиции для стрельбы, но теперь губы его задрожали. Я тронул его за плечо.
– Олли, пойдем. И спасибо тебе.
– Я убил ее, – хрипло произнес он. – Я в самом деле убил ее.
– Да, – сказал я. – Именно за это я тебя и поблагодарил. А теперь пойдем.
Мы снова двинулись к выходу. Избавленный стараниями миссис Кармоди от пакета с продуктами, я смог взять Билли на руки. У двери мы на мгновение остановились, и Олли сказал низким сдавленным голосом:
– Я не стал бы в нее стрелять, Дэвид, если бы был какой-нибудь другой выход.
– Да.
– Ты мне веришь?
– Да, верю.
– Тогда идем.
И мы вышли на улицу.
Глава 11. Конец
Держа пистолет наготове, Олли бросился вперед. Мы с Билли еще не успели выйти, а он уже стоял у «скаута», бесплотный, как призрак из телефильма. Он открыл дверцу водителя, потом заднюю дверцу, потом что-то выскочило из тумана и почти разрезало его пополам.
Я даже не разглядел толком, что это. Может быть, к лучшему. Оно было красное, словно вареный омар, с клешнями, и издавало низкое хрюканье, довольно похожее на то, что мы слышали, когда Нортон и его маленькое «Общество Верящих, Что Земля Плоская» ушли из супермаркета.
Олли успел выстрелить один раз, но клешни этой твари дернулись со щелчком вперед, и он словно переломился в ужасном фонтане крови. Пистолет выпал у него из руки, ударился о мостовую и снова выстрелил. Я успел заметить лишь кошмарные черные матовые глаза, похожие на горсть винограда, а затем тварь метнулась в туман, унося с собой то, что осталось от Олли Викса. Длинное сегментированное, как у скорпиона, тело с шуршанием уползло по асфальту.
Я пережил мгновение выбора, которое, видимо, бывает всегда, может быть, очень краткое, но бывает. Какая-то часть сознания звала меня прижать к себе Билли и броситься назад в супермаркет. Другая часть приказывала бежать к машине, забросить Билли внутрь и нырнуть вслед. Тут закричала Аманда. Высоким поднимающимся криком, взбирающимся все выше и выше, пока он почти не перешел в ультразвук. Билли прижался ко мне, пряча лицо у меня на груди.
На Хэтти Терман набросился огромный паук. Он сбил ее с ног; платье ее задралось, обнажив тощие коленки. Паук буквально сел на нее, обхватив за плечи волосатыми лапами, и тут же принялся опутывать своей паутиной.
«Миссис Кармоди была права, – пронеслось у меня в голове. – Мы все умрем здесь. Мы действительно все умрем».
– Аманда! – закричал я.
Она не отреагировала, совершенно отключившись от происходящего. Паук оседлал останки бывшей сиделки Билли, когда-то так любившей головоломки и кроссворды, с которыми ни один нормальный человек не может справиться без того, чтобы не сойти с ума. Веревки белой паутины, опутывающей ее тело, покраснели там, где покрывающая их кислота уже въелась в кожу.
Корнелл медленно попятился к магазину, глядя на нас огромными как блюдца глазами за стеклами очков, потом повернулся, побежал, оттолкнул тяжелую входную дверь и скрылся внутри.
Мой миг нерешительности закончился, когда миссис Репплер подскочила к Аманде и дважды ударила ее ладонью по щекам. Аманда замолчала. Подбежав к ней, я развернул ее к «скауту» и крикнул ей в лицо:
– Вперед!
Она пошла. Миссис Репплер промчалась мимо меня, затолкала Аманду на заднее сиденье, забралась сама и захлопнула дверцу.
Я оторвал от себя Билли и толкнул его в машину. Когда я садился сам, из тумана вылетела еще одна белая веревка и опустилась на мою лодыжку. Кожу обожгло, как бывает, когда через сжатый кулак рывком протягиваешь рыболовную леску. Держала она крепко, и, чтобы высвободиться, мне пришлось изо всех сил дернуть ногой. Затем я скользнул за руль.
– Закрой дверь, закрой… О Боже!.. – истерично закричала Аманда.
Я захлопнул свою дверцу, и мгновением позже в нее с разбегу ткнулся один из пауков. Я сидел всего в нескольких дюймах от его красных, бездумно-холодных глаз. Лапы, каждая толщиной с мою руку у запястья, двигались туда-сюда по капоту машины. Аманда кричала не переставая, словно пожарная сирена.
– Да заткнись же ты, – приказала ей миссис Репплер.
Паук наконец сдался. Он не мог учуять нас, следовательно, нас тут не было. Паук засеменил обратно в туман на многочисленных лапах, превратившись сначала в призрачный силуэт, а затем и вовсе исчезнув.
Я выглянул в окно, чтобы удостовериться, что он ушел, и открыл дверцу.
– Что ты делаешь? – закричала Аманда, но я знал, что делаю, и, думаю, Олли сделал бы то же самое. Я ступил одной ногой на мостовую, наклонился и схватил пистолет. Что-то бросилось ко мне из тумана, но я не разглядел, что именно. Нырнул обратно в машину и захлопнул дверцу.
Аманда разрыдалась. Миссис Репплер обняла ее и принялась успокаивать.
– Мы поедем домой, папа? – спросил Билли.
– Мы попробуем, Большой Билл.
– О’кей, – сказал он тихо.
Я проверил пистолет и положил его в отделение для перчаток. Олли перезарядил его после экспедиции в аптеку, и, хотя остальные патроны пропали вместе с ним, я решил, что оставшихся хватит. Он выстрелил один раз в миссис Кармоди, один раз в эту тварь с клешнями, и один раз пистолет выстрелил сам, когда ударился о мостовую. В «скауте» нас было четверо, но я решил, что, если уж нас совсем прижмет, для себя я найду еще какой-нибудь способ.
Несколько жутких секунд я не мог найти ключи. Обшарил все карманы – их не было. Потом заставил себя проверить снова, медленно и спокойно. Ключи оказались в кармане джинсов, спрятались среди монет, как это иногда бывает с ключами. «Скаут» завелся сразу, и, услышав уверенный рокот мотора, Аманда снова расплакалась.
Я немного погонял двигатель вхолостую, выжидая, какое еще чудовище может привлечь шум мотора или запах выхлопа. Прошло пять минут, самые длинные пять минут в моей жизни, но ничего не случилось.
– Мы поедем или будем здесь сидеть? – спросила миссис Репплер.
– Поедем, – ответил я, вывел машину со стоянки и включил ближний свет.
Какое-то неосознанное желание заставило меня проехать вдоль супермаркета у самых витрин, и правый бампер «скаута» оттолкнул опрокинутый мусорный бачок в сторону. Внутри разглядеть ничего не удавалось – из-за мешков с удобрениями магазин выглядел так, словно мы попали сюда в самый разгар сумасшедшей распродажи товаров для садоводов, – но из каждого проема на нас глядели два-три бледных лица.
Потом я свернул налево, и непроницаемый туман сомкнулся позади нас. Что случилось с теми людьми, я не знаю.
Осторожно, со скоростью всего пять миль в час, мы двинулись обратно по Канзас-роуд. Даже с включенными фарами и подфарниками дальше чем на семь – десять футов вперед ничего не было видно.
Миллер оказался прав. Землетрясение действительно сильно покорежило грунт. Кое-где дорога лишь потрескалась, но в отдельных местах встречались провалы с огромными вывернутыми из земли кусками асфальта. Слава Богу, у «скаута» четырехколесный привод, иначе мы бы не выбрались. Но я сильно опасался, что где-нибудь впереди нам встретится препятствие, которое не одолеет даже эта машина.
Сорок минут ушло на дорогу, которая обычно занимала не больше семи-восьми. Наконец впереди показался знак, указывающий на поворот к нашему дому. Билли, которого подняли в четверть пятого, крепко заснул в машине, знакомой ему настолько, что, должно быть, она уже казалась ему домом.
Аманда, нервничая, взглянула на дорогу.
– Ты действительно хочешь туда проехать?
– Хочу попробовать, – сказал я.
Но это оказалось невозможно. Пронесшаяся буря ослабила много деревьев, а тот странный подземный удар довершил ее работу, повалив их на землю. Через два небольших дерева я еще перебрался, но вскоре наткнулся на огромную древнюю сосну, лежащую поперек дороги, словно это было делом рук лесных разбойников. До дома оттуда оставалось почти четверть мили. Билли продолжал спать рядом со мной. Я остановил машину и, закрыв лицо руками, принялся думать, что делать дальше.
Сейчас, когда я сижу в здании «Ховард Джонсонс», что у выезда номер 3 на шоссе, идущее через весь штат Мэн, и записываю все, что с нами случилось, на фирменных бланках отеля, я уверен, что миссис Репплер с ее опытом и выдержкой могла бы охарактеризовать безвыходность положения, в котором мы оказались, несколькими быстрыми штрихами. Но у нее достаточно такта и понимания, чтобы позволить мне самому прийти к соответствующему выводу.
Выбраться я не мог. Не мог оставить их. Я не мог даже уговорить себя, что все эти чудовища из фильмов ужасов остались там, у супермаркета: приоткрыв окно, я слышал, как они продираются сквозь заросли в лесу, раскинувшемся на крутом склоне, который в здешних краях называют Карнизом. С нависающей листвы непрерывно капала влага, и на мгновение туман вокруг совсем потемнел, когда прямо над нами пролетел какой-то чудовищный, едва различимый во мраке воздушный змей.
Я пытался убедить себя в том, что, если она действовала быстро и наглухо закрылась в доме, ей должно хватить продуктов дней на десять, может быть, на две недели. Но это мало помогает. Мешает мое последнее воспоминание о ней: я вижу ее в мягкой соломенной шляпе, в садовых перчатках, на дорожке к нашему маленькому огороду, а позади неотвратимо накатывается с озера туман.
Теперь мне надо думать о Билли. «Билли, – говорю я себе. – Большой Билл, Большой Билл…» Я должен написать его имя на этом листке бумаги, может быть, сотню раз. Как школьник, которого заставили писать фразу «Я не буду плеваться промокашкой в школе», когда в окна льется солнечная трехчасовая тишь, а за своим столом сидит, проверяя домашние задания, учительница, и единственный звук в классе – это скрип ее авторучки да долетающие откуда-то издалека голоса детей, поделившихся на команды для игры в бейсбол…
В конце концов я сделал единственное, что мне оставалось. Осторожно вывел «скаут» задним ходом на Канзас-роуд. И там заплакал.
– Дэвид, мне очень жаль… – сказала Аманда, тронув меня за плечо.
– Да, – сказал я, пытаясь безуспешно остановить слезы. – Мне тоже.
Мы проехали до шоссе номер 302 и свернули налево, к Портленду. Дорога здесь тоже потрескалась и местами разрушилась, но в целом она оказалась более проходимой, чем Канзас-роуд. Меня очень беспокоили мосты. Весь Мэн изрезан водными путями, и здесь кругом большие и малые мосты. Но дамба у Нейплса устояла, и оттуда мы без осложнений, хотя и медленно, добрались до Портленда.
Туман оставался таким же густым. Один раз мне пришлось остановиться, потому что мне показалось, будто поперек дороги лежат повалившиеся деревья. Но потом «стволы» начали двигаться и изгибаться, и я понял, что это щупальца. Мы подождали, и спустя какое-то время они уползли. Потом на капот опустилась большая тварь с переливчатым зеленым туловищем и длинными прозрачными крыльями, больше всего похожая на огромную уродливую стрекозу. Она посидела немного, взмахнула крыльями и унеслась прочь.
Часа через два после того, как мы оставили позади Канзас-роуд, проснулся Билли и спросил, добрались ли мы до мамы. Я сказал, что не смог проехать по нашей дороге из-за упавших деревьев.
– С ней ничего не случилось, папа?
– Я не знаю, Билли. Но мы еще вернемся и узнаем.
Он не заплакал, а снова задремал, и я подумал, что лучше бы он расплакался: он спал слишком много, и меня это беспокоило.
От напряжения у меня разболелась голова. От напряжения, вызванного продвижением в тумане со скоростью пять – десять миль в час и полным незнанием того, что может ждать нас впереди: обвал, оползень или какая-нибудь трехголовая гидра. Кажется, я молился. Я молил Бога, чтобы Стефани осталась жива, чтобы Он не мстил ей за мою измену. Я молил Его, чтобы Он позволил мне спасти Билли, потому что слишком много уже выпало на его долю.
Когда нахлынул туман, большинство водителей прижались к краю шоссе, и к полудню мы добрались по свободной дороге до самого Северного Уиндема. Я попытался проехать по Ривер-роуд, но мили через четыре нас остановил рухнувший в воду мост над небольшой шумной речушкой. Почти целую милю пришлось ехать задним ходом, прежде чем я нашел место достаточно широкое, чтобы развернуться. В конце концов мы двинулись к Портленду по шоссе номер 302.
Добравшись до города, я проехал к заставе. Аккуратный ряд будок, где принимают плату за проезд, выглядел с остатками выбитых стекол словно пустые глазницы. Во вращающейся двери одной из них застряла куртка с эмблемами Мэнской заставы, пропитанная липкой высыхающей кровью. По дороге от супермаркета мы не встретили ни одного живого человека.
– Попробуй радио, Дэвид, – сказала миссис Репплер.
Я хлопнул себя по лбу, сердясь за то, что не подумал об этом сразу: ведь в «скауте» был приемник.
– Не стоит себя ругать, – коротко сказала миссис Репплер. – Ты не можешь думать обо всем сразу. А если будешь пытаться, то вообще с ума сойдешь и ничем не сможешь нам помочь.
На коротких волнах я не поймал ничего, кроме статики, а на длинных царило ровное зловещее молчание.
– Значит, они все не работают? – спросила Аманда, и мне показалось, я понял, что она имеет в виду: мы отъехали достаточно далеко на юг и могли бы принимать сразу несколько мощных бостонских радиостанций. Но если Бостон тоже…
– Это пока ничего еще не значит, – сказал я. – Статика на коротких – это просто помехи. Кроме того, туман гасит радиосигналы.
– Ты уверен, что этим все объясняется?
– Да, – ответил я, хотя совсем не был уверен.
Мы двинулись на юг мимо бегущих назад столбов с отметками расстояния, начавшими свой отсчет примерно от сорока с лишним миль. У отметки «1 миля» должна быть граница Нью-Хэмпшира. На главной автостраде двигаться стало сложнее: многие водители не хотели сдаваться, и это привело к большому числу столкновений. Несколько раз мне пришлось выезжать на разделительную полосу.
Минут в двадцать второго, когда я уже начал ощущать голод, Билли вдруг схватил меня за руку.
– Папа, что это? Что это?
Окрашивая туман в более темный цвет, впереди выросла тень. Огромная, как скала, она двигалась в нашу сторону. Я ударил по тормозам, и задремавшую было Аманду бросило вперед.
Что-то шло мимо, лишь это я могу сказать с уверенностью. Отчасти потому, что туман позволил разглядеть детали только мельком, но я думаю, с таким же успехом это можно объяснить и тем, что некоторые вещи мозг человека просто не приемлет. Бывают явления настолько темные и ужасные – равно как, я полагаю, и невероятно прекрасные, – что они просто не могут пройти через крошечные двери человеческого восприятия.
Существо было шестиногое, это я знаю точно, с серой кожей, местами в темно-коричневых пятнах. Эти коричневые пятна, как ни странно, напомнили мне пятна на руках миссис Кармоди. К коже в глубоких морщинах и складках жались сотни розовых тварей с глазами-стебельками. Я не уверен, каких размеров существо достигало на самом деле, но оно прошло прямо над нами. Одна серая сморщенная нога опустилась рядом с окнами машины, и миссис Репплер сказала позже, что так и не смогла разглядеть туловище, хотя выгибала шею изо всех сил. Она увидела только две циклопические ноги, уходящие все выше и выше в туман, словно живые колонны.
Когда это существо прошло над «скаутом», я подумал, что синий кит по сравнению с ним будет выглядеть как форель. Другими словами, что-то такое огромное, что не под силу никакому воображению. Потом оно миновало нас, но мы еще долго слышали его сотрясающую землю поступь. В покрытии дороги остались такие глубокие следы, что из машины я даже не видел их дна, и в каждый след вполне мог поместиться автомобиль.
Какое-то время стояла тишина, нарушаемая лишь звуком нашего дыхания и топотом удаляющегося чудовища. Потом Билли спросил:
– Это был динозавр, папа? Как птица, которая прорвалась в магазин?
– Не думаю. Я не уверен даже, что животное таких размеров когда-либо существовало, Билли. По крайней мере на Земле.
Я снова вспомнил о «Проекте “Стрела”», задавая себе вопрос: «Чем эти сумасшедшие могли там заниматься?»
– Может быть, нам стоит двигаться? – спросила Аманда робко. – Оно может вернуться.
Да. А может быть, нечто подобное ждет нас впереди. Но говорить об этом я не стал. Куда-то нужно было двигаться, и я погнал машину вперед, объезжая эти жуткие следы, пока они не ушли в сторону от шоссе.
* * *
Вот что с нами произошло. Это почти все, и остался лишь один момент, о котором я хотел рассказать, но это чуть позже. Хочу предупредить, чтобы вы не ожидали какого-нибудь аккуратного финала. Здесь не будет фраз типа «И они выбрались из тумана в яркий солнечный новый день» или «Когда мы проснулись, прибыли наконец солдаты Национальной гвардии». Или даже классического «Все это случилось во сне».
Я полагаю, это можно назвать, как, хмурясь, говорил мой отец, «финалом в духе Альфреда Хичкока». Под таким определением он подразумевал двусмысленные финалы, позволяющие читателю или зрителю самому решить, как все закончилось. Отец всегда презирал такие истории, называя их «дешевыми трюками».
До отеля «Ховард Джонсонс» у выезда номер 3 мы добрались уже в сумерках, когда вести машину стало просто опасно. Перед этим мы рискнули проехать по мосту через реку Сако. Выглядел он сильно поврежденным, но в тумане невозможно было разглядеть, цел мост или нет дальше. В этот раз нам повезло.
Но теперь надо думать о завтрашнем дне.
Сейчас уже ночь, без четверти час. Двадцать третье июля. Буря, послужившая сигналом к началу этого кошмара, пронеслась всего четыре дня назад. Билли спит в холле на матрасе, который я для него отыскал. Аманда и миссис Репплер спят рядом. Я сижу и пишу при свете большого карманного фонаря, а снаружи бьются в стекло все те же розовые твари. Время от времени раздается более громкий удар, когда одну из них подхватывает «птица».
У «скаута» осталось горючего еще миль на девяносто. Альтернатива – заправляться здесь. Совсем рядом есть заправочная «Эксон», и, хотя электрические насосы не работают, думаю, я смог бы откачать из хранилища немного бензина. Но…
Но это означает, что придется выходить из машины.
Если мы добудем бензин – здесь или дальше по пути, – мы сможем продолжать двигаться. Дело в том, что у меня есть мысль, куда надо двигаться. Это последнее, о чем я хотел рассказать.
Конечно, я не уверен до конца. В этом-то вся загвоздка. Может быть, меня подвело воображение, выдав желаемое за действительное. Но даже если это не так, шансы все равно невелики. Сколько миль еще впереди? Сколько мостов? Сколько страшных тварей, только и ждущих, чтобы наброситься на моего сына?
Есть вероятность, что мне это только померещилось, и поэтому я решил ничего не говорить остальным. Пока.
В квартире управляющего я нашел батареечный приемник с широким диапазоном, антенна от которого была выведена через окно на улицу. Включив приемник, я перевел его на питание от батареек, покрутил настройку, пощелкал переключателем диапазонов, но, кроме статики или просто молчания, так ничего и не поймал.
И когда я уже собрался выключить его, перегнав движок в самый конец коротковолнового диапазона, мне показалось, что я расслышал одно-единственное слово.
И все. Я прислушивался еще целый час, но больше ничего не услышал. Если это одно-единственное слово действительно прозвучало, оно, должно быть, прорвалось через какой-то крошечный разрыв в гасящем радиоволны тумане, разрыв, который тут же снова сомкнулся.
Одно слово.
Мне надо поспать… если я смогу уснуть без того, что до утра меня будут преследовать во сне лица Олли Викса, миссис Кармоди, носильщика Норма… и лицо Стефф, на которое падает тень от широких полей соломенной шляпы.
Здесь есть ресторан, типичный для отелей «Ховард Джонсонс» ресторан с обеденным залом и длинным в форме подковы прилавком с закусками. Я собираюсь оставить эти страницы на прилавке, и, может быть, когда-нибудь кто-нибудь их найдет и прочтет.
Одно слово.
Если только я действительно его слышал. Если только.
Надо ложиться спать. Но сначала я поцелую сына и шепну ему на ухо целых два слова. Знаете, чтобы не снилось ничего плохого.
Два слова.
Одно из них – то самое: «Хартфорд».
Другое слово – «надежда».
Здесь тоже водятся тигры
[3]
Чарлзу стало совсем невтерпеж. Уже не имело смысла убеждать себя, что он сможет дотянуть до перемены. Мочевой пузырь исходил криком, и мисс Берд заметила, что он ерзает на стуле.
В начальной школе на Акорн-стрит в третьем классе преподавали три учительницы. Мисс Кинни, молодая пухленькая блондинка, за которой после занятий заезжал дружок на синем «камаро». Миссис Траск, плоская, как доска, которая заплетала волосы в косички и оглушительно смеялась. И мисс Берд.
Чарлз знал, что такое может случиться с ним только на уроке мисс Берд. Давно знал. Понимал, что этого не избежать. Потому что она не разрешала детям уходить с уроков в подвал. В подвале, говорила мисс Берд, стоят бойлеры, а хорошо воспитанные дамы и господа в подвал не ходят, потому что там грязно и ужасно. Тем более не ходят в подвал юные дамы и господа. Они ходят в туалет.
Чарлз вновь заерзал на стуле.
Тут уж мисс Берд взяла его в оборот.
– Чарлз, – обратилась она к нему, по-прежнему тыча указкой в Боливию, – тебе надо в туалет?
Кэти Скотт, сидящая впереди, хихикнула, благоразумно прикрыв рот рукой.
Кенни Гриффен прыснул и пнул Чарлза под столом.
Чарлз покраснел как свекла.
– Говори, Чарлз, – радостно продолжила мисс Берд. – Тебе надо…
(помочиться, она сейчас скажет помочиться, как всегда)
– Да, мисс Берд.
– Что – да?
– Мне надо спуститься в под… пойти в туалет.
Мисс Берд заулыбалась.
– Хорошо, Чарлз. Ты можешь пойти в туалет и помочиться. Ведь ты идешь туда именно для этого? Помочиться?
Чарлз кивнул, сгорая от стыда.
– Очень хорошо. Иди, Чарлз. И в следующий раз, пожалуйста, не дожидайся, пока я спрошу, надо ли тебе в туалет.
Все захихикали. Мисс Берд постучала указкой по доске.
Чарлз поплелся к двери. Тридцать пар глаз впились ему в спину, и каждый из его одноклассников, включая Кэти Скотт, знал, что он идет в туалет, помочиться. А дверь оказалась так далеко! Мисс Берд не продолжила урок. Нет, она хранила молчание, пока он не открыл дверь, не вышел в пустой (какое счастье!) коридор и не закрыл ее за собой.
Спустился к мужскому туалету,
(в подвал, в подвал, в подвал, КАК ХОЧУ, ТАК И ГОВОРЮ)
ведя пальцем по холодной шероховатой стене, пощелкав по доске объявлений и аккуратно погладив стеклянный квадрат
(РАЗБИТЬ СТЕКЛО В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ)
прикрывающий кнопку пожарной тревоги.
Мисс Берд это нравилось. Она млела от удовольствия, вгоняя его в краску. На глазах у Кэти Скотт (вот уж у кого никогда не возникало желания спуститься в подвал во время урока) и остальных.
Старая с-у-к-а, подумал он. Последнее слово Чарлз произнес по буквам, потому что годом раньше пришел к выводу, что произносить нехорошие слова по буквам – не грех.
Он вошел в мужской туалет.
Там царила прохлада, а в воздухе стоял слабый, но не такой уж и неприятный запах хлорки. Во время урока тут было чисто, тихо и безлюдно, не то что в прокуренном сортире кинотеатра «Звезда».
Туалет
(!подвал!)
построили в виде буквы L. Короткая перекладина начиналась у двери. На стене квадратные зеркала, под ними – фаянсовые раковины, тут же висели бумажные полотенца. Длинную перекладину занимали два писсуара и три кабинки.
Мельком глянув на отражение своего худого, бледного лица в одном из зеркал, Чарлз повернул за угол.
Тигр лежал в дальнем конце, прямо под окошком с матовым стеклом. Большой тигр с черными полосами на желто-коричневой шкуре. При появлении Чарлза он вскинул голову, его зеленые глаза сузились. Из пасти вырвалось негромкое рычание. Мышцы напряглись, тигр поднялся на мощные лапы. Хвост застучал по последнему в ряду писсуару.
Выглядел тигр очень голодным и дурно воспитанным.
Чарлз отпрянул назад. Дверь с пневматической пружиной закрывалась очень долго, но в конце концов встала на место, и он смог перевести дух, почувствовав себя в относительной безопасности. Дверь открывалась только внутрь, а он нигде не читал и ни от кого не слышал, чтобы тиграм хватало ума открывать двери.
Он вытер пот со лба. Сердце разве что не выпрыгивало из груди. Желание же облегчиться не пропало, а наоборот – усилилось.
Чарлз даже согнулся, прижав руку к животу. Вот уж приспичило так приспичило. Будь он уверен, что его не застукают, то юркнул бы в женский туалет. Благо находился он в том же коридоре. Чарлз с тоской воззрился на далекую дверь, зная, что никогда не решится пойти на такое. Вдруг в подвал спустится Кэти Скотт? Или (о ужас!) заявится сама мисс Берд?
А может, тигр ему померещился?
Он чуть приоткрыл дверь, заглянул в туалет.
Тигр высунулся из своего закутка, его глаза сверкали зеленым. Но Чарлзу показалось, что он уловил в них синий отблеск, словно тигриный глаз съел его собственный. Словно…
Чья-то рука легла ему на шею.
Чарлз сдавленно вскрикнул, сердце и желудок подпрыгнули до самого горла. Как он не надул в штаны, осталось загадкой для него самого.
Рука принадлежала самодовольно улыбающемуся Кенни Гриффену.
– Мисс Берд послала меня за тобой, потому что ты пропал на шесть лет. Она тебе всыплет.
– Знаю, – кивнул Чарлз, – но я не могу войти в подвал.
– Так у тебя запор! – Кенни захлебнулся от восторга. – Я обязательно расскажу Кэ-э-эти!
– Не советую! – вырвалось у Чарлза. – И потом, никакого запора у меня нет. Там тигр.
– И что он там делает? – осведомился Кенни. – Писает?
– Не знаю. – Чарлз отвернулся к стене. – Лучше б он оттуда ушел. – Он заплакал.
– Эй. – В голосе Кенни слышались удивление и испуг. – Эй.
– Что же мне делать? Я же не нарочно. А мисс Берд скажет…
– Пойдем. – Кенни одной рукой взял Чарлза за руку, второй толкнул дверь. – Ты все выдумал.
И они вошли в туалет, прежде чем Чарлз успел в ужасе выдернуть руку и метнуться назад.
– Тигр, – пренебрежительно фыркнул Кенни. – Парень, мисс Берд тебя убьет.
– Он за углом.
Кенни двинулся вдоль раковин.
– Кис-кис. Кис-кис-кис.
– Не ходи! – прошептал Чарлз.
Кенни скрылся за углом.
– Кис-кис. Кис-кис-ки…
Чарлз метнулся за дверь и прислонился к стене, прижав руки ко рту, крепко-крепко закрыв глаза, в ожидании, долгом ожидании крика, крика, крика!
Но ничего не услышал.
Он понятия не имел, сколько простоял, не шевелясь, с лопающимся мочевым пузырем. Не отрывая глаз от двери в мужской туалет. Но она ничего ему не говорила, ничем не намекала на происходящее за ней. Дверь как дверь, что с нее взять.
Он не хотел входить.
Не мог.
Но наконец вошел.
Чистенькие раковины и зеркала, все тот же легкий запах хлорки. Но появился еще какой-то запах. Очень слабый, но неприятный. Какой идет от свеженачищенной меди.
Стеная (про себя) от ужаса, Чарлз двинулся к углу, заглянул за него.
Тигр распластался на полу, вылизывая лапы длинным розовым языком. На Чарлза он взглянул безо всякого интереса. За когти правой лапы зацепился клок рубашки.
Мочевой пузырь заставил Чарлза забыть обо всем на свете. И желание облегчиться перевесило все страхи. Поскольку путь к писсуарам тигр отрезал, Чарлз попятился к ближайшей от двери раковине.
Мисс Берд влетела в туалет, когда он застегивал ширинку.
– Ах ты мерзкий, гадкий мальчишка, – с ходу охарактеризовала она Чарлза.
Тот все поглядывал на угол.
– Извините меня, мисс Берд… тигр… раковину я собирался помыть… с мылом… клянусь, собирался…
– Где Кеннет? – ровным, спокойным голосом вопросила мисс Берд.
– Я не знаю.
Он действительно не знал.
– Он там?
– Нет! – вскричал Чарлз.
Но мисс Берд уже огибала угол. С явным намерением наброситься на Кеннета. Если б она знала, подумал Чарлз, кто ждет ее за углом, рвения у нее поубавилось бы.
Он вновь выскользнул за дверь. Попил воды из фонтанчика. Взглянул на американский флаг, висевший над дверью в спортивный зал. Посмотрел на доску объявлений. Лесные совы призывали: ЛУЧШЕ УХАТЬ И КРИЧАТЬ, ЧЕМ ПРИРОДУ ЗАГРЯЗНЯТЬ. Полицейский советовал: НИКОГДА НЕ САДИТЕСЬ В АВТОМОБИЛЬ К НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ. И то и другое Чарлз прочитал дважды.
Затем вернулся в класс, прошествовал по проходу к своему месту, не отрывая глаз от пола, сел. Часы показывали без четверти одиннадцать. Он открыл «Дороги, которые мы выбираем» и начал читать о Билле, попавшем на родео.
Обезьяна
[4]
Она бросилась в глаза Хэлу Шелберну, когда его сын Деннис извлек ее из заплесневелой картонки «Ролстон-Пурина», задвинутой глубоко под чердачное стропило, и на него нахлынуло такое омерзение, такое отчаяние, что он чуть не закричал. И прижал кулак ко рту, загоняя крик обратно… И лишь покашлял в кулак. Ни Терри, ни Деннис ничего не заметили, но Пит недоуменно оглянулся.
– Э-эй, клево! – сказал Деннис с уважением. В разговорах с сыном Хэл теперь редко слышал от него этот тон. Деннису шел тринадцатый год.
– А это что? – спросил Питер и снова посмотрел на отца, но тут же его глаза, как магнитом, притянула находка старшего брата. – Папа, что это?
– Да обезьяна же, пердунчик безмозглый, – сказал Деннис. – Ты что, обезьян никогда не видел?
– Не называй брата пердунчиком, – привычно сказала Терри и наклонилась над коробкой с занавесками. Занавески осклизли от плесени, и она брезгливо выпустила их из рук. – Брр!
– Можно, я ее возьму, папа? – спросил Питер. Ему было девять.
– Чего-чего? – вскинулся Деннис. – Ее я нашел!
– Мальчики, перестаньте, – сказала Терри. – У меня голова разбаливается.
Хэл их не слышал. Обезьяна словно тянулась к нему из рук его старшего сына, скалясь в такой знакомой ухмылке – той, которая преследовала его в кошмарах все детские годы, преследовала, пока он не…
Снаружи на крышу налетел порыв холодного ветра, и бесплотные губы протяжно засвистели в старый ржавый водосток. Пит шагнул поближе к отцу, его взгляд тревожно заметался по грубому чердачному потолку в шляпках гвоздей точно в рябинах.
– Кто это там, папа? – спросил он, когда посвист замер в глухих всхлипываниях.
– Просто ветер, – ответил Хэл, не отводя глаз от обезьяны. В слабом свете единственной лампочки без абажура медные тарелки в ее лапах, раздвинутых примерно на фут, больше смахивали на полумесяцы, чем на диски. Они были неподвижны, и он добавил машинально: – Ветер свистит, а самого простого мотивчика не высвистит.
Внезапно он сообразил, что повторил присловье дяди Уилла, и его пробрала холодная дрожь.
Вновь раздалась та же нота – с Кристального озера налетел по длинной крутой дуге еще один порыв ветра и задрожал в водостоке. Полдесятка сквознячков защекотали лицо Хэла холодным октябрьским воздухом. Черт! Чердак был так похож на чуланчик в старом хартфордском доме, что они словно перенеслись на тридцать лет назад во времени.
Не стану думать об этом!
Но конечно, ни о чем другом он думать не мог.
В кладовке, где я нашел проклятую обезьяну в этой же самой картонке.
Терри отошла к деревянному ящику со всякими безделушками – двигалась она вперевалку из-за крутого наклона крыши.
– Она мне не нравится, – сказал Пит и ухватился за руку Хэла. – Пусть ее берет Деннис, если хочет. Папа, может, уйдем отсюда?
– Привидений струсил, говнюшка цыплячья? – осведомился Деннис.
– Деннис, прекрати, – рассеянно сказала Терри и вынула почти прозрачную фарфоровую чашечку с китайским рисунком. – Очень милая. Это…
Хэл увидел, что Деннис нащупал заводной ключ в обезьяньей спине.
– Нет! Не надо! – Ужас окутал его черными крыльями, голос у него невольно сорвался на крик, и он вырвал обезьяну у Денниса, неожиданно для себя. Деннис испуганно оглянулся. Терри тоже поглядела через плечо, а Пит поднял на него глаза. Мгновение они все молчали, а ветер снова засвистел, на этот раз очень тихо, будто это было нежеланным приглашением.
– То есть она, наверное, сломана, – сказал Хэл.
Она и была сломана… пока это ее устраивало.
– Мог бы и не вырывать так, – сказал Деннис.
– Деннис, замолчи!
Деннис заморгал и даже, казалось, смутился. Хэл уже очень давно не говорил с ним так резко. С тех самых пор, как потерял работу в «Нэшнл аэродайн» в Калифорнии два года назад и они не переехали в Техас. Деннис решил не нажимать… пока. И повернулся к картонке «Ролстон-Пурина», снова принялся в ней рыться, но там не оказалось больше ничего, кроме хлама… старые игрушки, кровоточащие сломанными пружинками и набивкой.
Ветер теперь звучал громче, завывал, а не посвистывал. Чердак начал тихонько поскрипывать, словно кто-то ступал по рассохшимся половицам.
– Папочка, ну пожалуйста? – попросил Пит так, чтобы услышать его мог только отец.
– Да-да, – сказал Хэл. – Терри, пойдем.
– Я еще не кончила…
– Я сказал пой-дем!
Теперь настала ее очередь испугаться.
Они сняли в мотеле номер с двумя смежными комнатами. В десять вечера мальчики уже крепко спали в своей, а Терри уснула в другой – для взрослых. На обратном пути из дома в Каско она приняла две таблетки валиума. Чтобы помешать нервам довести ее до мигрени. Последнее время она то и дело принимала валиум. Началось это примерно тогда, когда «Нэшнл аэродайн» уволила Хэла. Последние два года он работал в «Техас инструментс» – на четыре тысячи долларов в год меньше, но это была работа. Он говорил Терри, что им повезло. Она соглашалась. Сколько системных программистов живут сейчас на пособие по безработице, сказал он. Она согласилась. Дома компании в Арнетт были ничуть не хуже, чем их дом во Фресно, сказал он. Она согласилась, но он подумал, что, соглашаясь, она кривила душой.
И он терял Денниса. Он чувствовал, как мальчик отдаляется, до времени обретя скорость убегания, – прощай, Деннис, бывай, незнакомец, было очень приятно посидеть с вами в этом купе. Терри сказала, что ей кажется, мальчик курит марихуану. Она иногда улавливает запах. Ты должен поговорить с ним, Хэл. И он согласился, но еще не поговорил.
Мальчики спали. Терри спала. Хэл прошел в ванную, запер дверь, сел на опущенную крышку унитаза и посмотрел на обезьяну.
Было отвратительно ощущать ее в пальцах – этот мягонький бурый короткий мех, там и сям в пролысинах. Он ненавидел ее ухмылку – эта макака ухмыляется будто черномазый, сказал как-то дядя Уилл, но ухмылялась она не как черномазый и даже вообще не по-человечески. Не ухмылка, а оскал, и, если повернешь ключ, губы задвигаются, зубы словно вырастут – зубы вампира, губы начнут извиваться, а тарелки – ударяться друг о друга, дурацкая обезьяна, дурацкая заводная обезьяна, дурацкая, дурацкая…
Он уронил ее. У него затряслись руки, и он ее уронил.
Ключ звякнул о выложенный плиткой пол. В тишине звук этот показался оглушительным. А она ухмылялась ему, и ее мутно-янтарные глаза, кукольные глаза, были полны кретиничного злорадства, и медные тарелки разведены, словно чтобы грянуть марш какого-то адского оркестра. На обратной стороне были выдавлены слова «Сделано в Гонконге».
– Ты не можешь быть здесь, – прошептал он. – Я бросил тебя в колодец, когда мне было девять.
Обезьяна ухмылялась ему с пола.
В ночи снаружи черное ведро ветра плеснуло на мотель, и стены задрожали.
Билл, брат Хэла, и жена Билла Колетт на следующий день встретили их у дяди Уилла и тети Иды.
– Тебе не приходило в голову, что смерть родных – довольно паршивый повод для возобновления семейных связей? – спросил его Билл с легкой ухмылкой. Его назвали в честь дяди Уилла. Уилл и Билл, чемпионы родео, говаривал дядя Уилл и трепал Билла по голове. Одно из его присловий… вроде того, что ветер свистит, а самого простого мотивчика не высвистит. Дядя Уилл уже шесть лет как умер, и тетя Ида жила здесь одна, пока на прошлой неделе инсульт не свел ее в могилу. Внезапно, сказал Билл, когда позвонил по междугородной, чтобы сообщить Хэлу об этом. Словно бы он мог предвидеть, словно кто-нибудь мог предвидеть. Умерла она совсем одна.
– Угу, – сказал Хэл, – это мне в голову приходило.
Они вместе поглядели на дом, в котором выросли. Их отец, торговый моряк, словно бы исчез с лица земли, когда они были еще совсем маленькими; Билл утверждал, что помнит его, хотя и смутно, но у Хэла никаких воспоминаний не сохранилось. Их мать умерла, когда Биллу было десять, а Хэлу восемь. Тетя Ида привезла их на междугородном автобусе, который останавливался в Хартфорде, и они выросли тут, и отсюда отправились в колледжи. Тут было родное место, по которому их томила ностальгическая грусть. Билл остался в Мэне и теперь был преуспевающим адвокатом в Портленде.
Хэл заметил, что Пит направился к ежевичнику с восточной стороны дома, разросшемуся в настоящие джунгли.
– Пит, держись оттуда подальше! – крикнул он ему.
Пит вопросительно оглянулся. Хэл ощутил нахлынувшую на него такую простую любовь к сыну… и внезапно снова подумал об обезьяне.
– Почему, папа?
– Там где-то заброшенный колодец, – ответил Билл. – Но провалиться мне, если я точно помню, где именно. Твой папа прав, Пит, от этого места полезнее держаться подальше. Колючки тебя здорово изукрасят, верно, Хэл?
– Конечно, – ответил Хэл машинально.
Пит пошел назад, даже не оглянувшись, а потом направился вниз к галечному пляжику, где Деннис пускал рикошетом по воде плоские камешки. Хэл почувствовал, что ему немного отпустило сердце.
* * *
Возможно, Билл и правда забыл, где находится колодец, но под вечер Хэл безошибочно пробрался к нему через ежевику, которая рвала его старую спортивную куртку и старалась выцарапать глаза. Он дошел до места и, тяжело дыша, уставился на гнилые искривленные доски, прикрывавшие колодец. После недолгого колебания он опустился на колени (под ними словно треснули два выстрела) и сдвинул две доски в сторону.
Со дна этой влажной, выложенной камнями глотки на него смотрело тонущее лицо – вытаращенные глаза, гримасничающий рот. У него вырвался стон, еле слышный, кроме как в его сердце. Там стон был очень громким.
Его собственное лицо в темной воде.
Не морда обезьяны. На мгновение ему там почудилась морда обезьяны.
Он затрясся. Затрясся всем телом.
Я же бросил ее в колодец. Я бросил ее в колодец, Господи Боже, не дай мне сойти с ума. Я бросил ее в колодец.
Колодец высох в то лето, когда умер Джонни Маккейб, в тот год, когда Билл и Хэл приехали жить у дяди Уилла и тети Иды. Дядя Уилл занял деньги в банке, чтобы пробурить артезианский колодец, и вокруг старого, выкопанного, густо разрослась ежевика. Старого высохшего колодца.
Но только вода вернулась. Как вернулась обезьяна.
На этот раз воспоминания взяли верх. Хэл сидел там, поникнув, позволяя им вернуться, пытаясь двигаться с ними, оседлать их, как пловец на доске оседлывает гигантскую волну, которая расплющит его, если он сорвется в нее, пытаясь вытерпеть их, чтобы они опять исчезли.
Он прокрался сюда с обезьяной на исходе того лета, и ягоды ежевики уже перезрели, и запах их был густым и липким. Никто не забирался сюда собирать ягоды, хотя тетя Ида иногда подходила к краю зарослей и собирала горсть-другую в свой передник. Но здесь они перезрели, и многие уже гнили, источая густую белесую жидкость, похожую на гной, а в высокой траве внизу сверчки тянули свою доводящую до исступления песенку: рииииии…
Колючки царапали его, усеивали точками крови щеки и голые руки. Он и не старался избегать их язвящих уколов. Он ослеп от ужаса – настолько ослеп, что чуть было не наступил на гнилые доски колодезной крышки, возможно, чуть было не провалился, не пролетел тридцать футов до илистого колодезного дна. Он замахал руками, удерживая равновесие, и новые колючки оставили на них свои клейма. Именно это воспоминание толкнуло его так резко остановить Пита, заставить мальчика вернуться.
Это был тот день, когда умер Джонни Маккейб, его лучший друг. Джонни взбирался по перекладинам в свой домик на дереве в их заднем дворе. В то лето они проводили много часов на дереве – играли в пиратов, наблюдали за выдуманными галеонами на озере, снимали пушки с передков, брали в рифы стакселя (что бы это ни значило), готовились к абордажу. Джонни карабкался вверх в древесный домик, как карабкался тысячи раз до этого, и перекладина прямо под люком древесного домика сломалась у него в руках, и Джонни пролетел тридцать футов до земли и сломал шею, и все это подстроила обезьяна, обезьяна, чертова мерзкая обезьяна. Когда зазвонил телефон, когда рот тети Иды разинулся и округлился от ужаса, пока ее подруга Милли, жившая дальше по улице, рассказывала ей о случившемся, когда тетя Ида сказала: «Пойдем на веранду, Хэл, случилось очень страшное…», он подумал с тошнотворным ужасом: Обезьяна! Что натворила обезьяна теперь?
В тот день, когда он бросил обезьяну в колодец, его лицо не отразилось на дне колодца, не было стиснуто там – только булыжники да вонь илистой сырости. Он посмотрел на обезьяну, лежащую на жесткой траве, которая пробивалась между плетьми ежевики, – тарелки разведены в готовности, огромные зубы скалятся между растянутыми губами, мех с чесоточными проплешинами там и сям, мутные стеклянные глаза.
«Ненавижу тебя!» – прошипел он ей, обхватил пальцами мерзкое туловище, почувствовал, как проминается мех. Она ухмылялась ему, когда он поднес ее к лицу. «Ну давай! – подначил он ее, уже плача – впервые за этот день. И встряхнул ее. Тарелки в ее лапах задрожали мелкой дрожью. Обезьяна портила все хорошее. Все-все. – Ну давай же, брякни ими! Брякни!»
Обезьяна только ухмылялась.
«Давай, брякай!!! – Его голос стал пронзительным, истерическим. – Трусишь, трусишь! Давай брякай! Слабо тебе! СЛАБО ТЕБЕ!»
Ее коричневато-желтые глаза. Ее огромные злорадные зубы.
И тогда он швырнул ее в колодец, сходя с ума от горя и ужаса. Он увидел, как в падении она перекувырнулась – макака-акробат в обезьяньем цирке, и солнце в последний раз блеснуло на этих тарелках. Она громко ударилась о дно, и, наверное, удар включил механизм – внезапно тарелки забрякали. Их размеренное жестяное бряканье донеслось снизу до его ушей, жутким эхом отдаваясь в каменной глотке мертвого колодца: блям-блям-блям-блям…
Хэл прижал ладони ко рту и на мгновение увидел ее там – возможно, только глазами воображения… Лежит в иле, глаза свирепо глядят вверх на маленький овал мальчишеского лица, наклоненного над краем колодца (чтобы навсегда его запомнить?), губы раздвигаются и сужаются вокруг скалящихся в ухмылке зубов, тарелки брякают, смешная заводная обезьянка.
Блям-блям-блям-блям, кто умер? Блям-блям-блям-блям, это Джонни Маккейб падает, широко раскрыв глаза, проделывая такой же акробатический кувырок в солнечном воздухе летних каникул, все еще сжимая в руках обломившуюся перекладину, – чтобы удариться о землю с коротким сухим и злым треском, и кровь брызжет из его носа и широко раскрытых глаз? Это Джонни, Хэл? Или это ты?
Со стоном Хэл сдвинул доски над провалом, не обращая внимания на вонзающиеся в руки занозы, заметив их много позже. Но все равно он слышал, даже сквозь доски, приглушенный и оттого почему-то еще более жуткий лязг: там внизу, в замкнутой камнями тьме, она все еще брякала тарелками и дергалась омерзительным телом, а звуки доносились снизу, будто звуки во сне.
Блям-блям-блям-блям, кто умер на этот раз?
Он с трудом продрался назад сквозь плети ежевики. Колючки деловито наносили новые вздувающиеся кровью черточки на его лицо, а репейник вцепился в отвороты его джинсов, и он растянулся во весь рост на земле, а в ушах у него брякало, будто обезьяна нагоняла его. Позднее дядя Уилл отыскал его в гараже – он сидел на старой покрышке, горько рыдая, и дядя Уилл решил, что он плачет из-за смерти своего друга. Так оно и было, но плакал он и из-за пережитого ужаса.
Обезьяну он бросил в колодец днем. А вечером, когда сумерки смешались с колышущейся дымкой наземного тумана, машина, мчавшаяся чересчур быстро для такой ограниченной видимости, переехала на дороге кота тети Иды и укатила, даже не притормозив. Кишки размазались повсюду. Билла стошнило, но Хэл только отвернул лицо, бледное окаменевшее лицо, услышав рыдания тети Иды (такое добавление к смерти сыночка Маккейбов вызвало припадок плача почти истерический, и прошло чуть не два часа, прежде чем дядя Уилл ее наконец успокоил), словно бы доносящиеся откуда-то издалека. Его сердце переполняла холодная ликующая радость. Очередь была не его. Погиб кот тети Иды, а не он, не его брат Билл или его дядя Уилли (просто два чемпиона родео). А теперь обезьяны больше нет, она в колодце, и один паршивый кот с ушами, полными клещей, – не такая уж большая цена. Если обезьяна захочет бряцать своими адскими тарелками, пусть ее! Пусть бряцает, пусть брякает для ползающих там козявок и жуков, для темных тварей, которые выбрали своим домом каменную глотку колодца. Она умрет там. В иле и темноте. Пауки соткут ей саван.
Но… она вернулась.
Медленно Хэл снова закрыл колодец, точно так же, как в тот день, и в ушах у него зазвучало призрачное эхо обезьяньих тарелок: Блям-блям-блям-блям, кто умер, Хэл? Может, Терри? Деннис? Может, Пит, Хэл? Он же твой любимчик, верно? Так это он? Блям-блям-блям…
* * *
– Положи сейчас же!
Пит вздрогнул, уронил обезьяну, и на Хэла навалился кошмар: значит, опять, значит, толчок приведет механизм в действие и тарелки начнут греметь и лязгать.
– Папа, ты меня испугал.
– Извини. Я просто… Я не хочу, чтобы ты играл с ней.
Они ведь пошли в кино, и он думал, что вернется в мотель раньше их. Но он оставался в старом родном доме дольше, чем ему казалось; былые ненавистные воспоминания словно пребывали в своей собственной зоне вечного времени.
Терри сидела возле Денниса и смотрела серию «Придурков из Беверли-Хиллз». Она вглядывалась в старую рябящую ленту с глубокой, дурманной сосредоточенностью, указывающей на недавно проглоченную таблетку валиума. Деннис читал рок-журнал с «Культуристским клубом» на обложке. А Пит сидел по-турецки на ковре и возился с обезьяной.
– Она все равно не заводится, – сказал Пит. «Так вот почему Деннис отдал ее ему», – подумал Хэл, его охватил стыд, и он разозлился на себя. Все чаще и чаще он испытывал приливы необоримой враждебности к Деннису, а потом чувствовал себя мелочным, сварливым… беспомощным.
– Да, – сказал он. – Она старая. Я ее выброшу. Дай ее мне.
Он протянул руку, и Питер тревожно отдал ему обезьяну.
Деннис сказал матери:
– Папаша заделался хреновым шизофреником.
Хэл оказался на другой стороне комнаты, даже не осознав, что сделал первый шаг, сжимая в руке обезьяну, которая ухмылялась с явным одобрением. Он вытащил Денниса из кресла за ворот рубашки. С мурлыкающим звуком лопнул какой-то шов. Потрясение на лице Денниса выглядело почти комичным. «Рок-волна» полетела на пол.
– Э-эй!
– Пойдешь со мной, – свирепо сказал Хэл, таща сына к двери смежной комнаты.
– Хэл! – почти взвизгнула Терри. Пит только вытаращил глаза.
Хэл протащил Денниса через дверь, захлопнул ее, а потом с силой прижал к ней сына. Вид у Денниса стал испуганным.
– У тебя со ртом непорядок, – сказал Хэл.
– Пусти! Ты мне рубашку порвал, ты…
Хэл снова ударил сына спиной о дверь.
– Да, – сказал он, – большой непорядок. Ты этому в школе научился? Или на задворках для курящих?
Деннис виновато побагровел, и лицо у него безобразно исказилось.
– Я бы не учился в этой говенной школе, если бы тебя не выгнали! – выкрикнул он.
Хэл еще раз стукнул Денниса спиной о дверь.
– Меня не выгнали, а уволили по сокращению штатов, и ты это знаешь, и я обойдусь без твоих дерьмовых прохаживаний на мой счет. Ах, у тебя трудности? Добро пожаловать в мир, Деннис. Только не сваливай их все на меня. Ты сыт. Задница у тебя прикрыта. Тебе двенадцать лет, и в двенадцать лет… я не… намерен… терпеть твое… дерьмо.
Паузы ложились на рывки, которыми он притягивал мальчика к себе, пока их носы почти не соприкоснулись, а потом опять ударил его спиной о дверь. Не так сильно, чтобы причинить вред, но Деннис перепугался – отец ни разу его не трогал, с тех пор как они переехали в Техас, – и он заплакал, захлебываясь в громких, отрывистых здоровых рыданиях маленького мальчика.
– Ну давай, избей меня! – крикнул он Хэлу, и его в красных пятнах лицо искривилось. – Избей, если хочешь, я же знаю, до чего ты меня, хрен, ненавидишь!
– Ненавижу? Вовсе нет. Я очень люблю тебя, Деннис. Но я твой отец и ты должен меня уважать, или я с тобой разделаюсь.
Деннис попытался высвободиться. Хэл притянул мальчика к себе и крепко его обнял. Деннис несколько секунд вырывался, а затем прижался лицом к груди Хэла и заплакал так, словно у него уже не осталось сил. Такого плача Хэл уже несколько лет не слышал от своих сыновей. Он закрыл глаза, потому что у него тоже не осталось сил.
Терри забарабанила кулаками в дверь:
– Прекрати, Хэл! Что бы там ты с ним ни делал, прекрати!
– Я его не убиваю, – сказал Хэл. – Уйди, Терри.
– Не смей…
– Мам, все нормально, – сказал Деннис, все еще уткнувшись в грудь Хэла.
Он ощущал ее безмолвное недоумение, потом она отошла от двери, и Хэл снова посмотрел на сына.
– Извини, пап, что я тебе нагрубил, – неохотно сказал Деннис.
– Ладно. Принимаю извинения с благодарностью. Когда мы вернемся домой на следующей неделе, я подожду два-три дня, а тогда обыщу все твои ящики, Деннис. Если в них есть что-то, чему на глаза мне попадаться не стоит, лучше выброси загодя.
И вновь проблеск виноватости. Деннис опустил глаза и утер под носом тыльной стороной ладони.
– Можно, я пойду? – Голос у него вновь стал враждебным.
– Конечно, – сказал Хэл и отпустил его.
«Нужно будет весной взять его с собой в лес. Только вдвоем. На рыбалку, как дядя Уилл брал Билла и меня. Нужно стать ему близким. Нужно постараться».
Он сел на кровать в пустой комнате и посмотрел на обезьяну. Ты никогда не станешь ему близким, Хэл, казалось, сказала ее ухмылка. Не сомневайся. Я вернулась, чтобы снова взять все на себя: ты же всегда знал, что когда-нибудь я вернусь.
Хэл отложил обезьяну и закрыл глаза ладонью.
Поздно вечером Хэл стоял в ванной, чистил зубы и думал: «Она была в той же самой картонке. Как она могла быть в той же самой картонке?»
Зубная щетка дернулась вверх, царапая десну.
Ему было четыре года, Биллу шесть, когда он в первый раз увидел эту обезьяну. Их пропавший отец купил дом в Хартфорде, и это был их дом, без условий и ограничений, пока он не умер, или не провалился в дыру к центру мира, или… ну, что бы с ним ни произошло. Их мать работала секретаршей на заводе по сборке вертолетов в Хартфорде в компании «Холмс айркрафт», а мальчики оставались с вереницей приходящих нянь – или один Хэл, потому что Билл уже учился в первом классе школы. Ни одна из них долго не задерживалась. Они беременели и выходили замуж за своих дружков, или устраивались на работу в компанию, или миссис Шелберн обнаруживала, что они прикладывались к бутылке кухонного хереса или к бутылке коньяка, приберегаемого для особых случаев. Почти все были молодыми дурехами, которые словно бы думали о том, как бы поесть всласть и хорошенько выспаться. И ни одна не желала читать Хэлу вслух, как читала ему мама.
Нянькой в ту долгую зиму была могучая, гладкая черная девушка по имени Бьюла. Она так и вилась вокруг Хэла, пока его мать была дома, и иногда шлепала его, когда та уходила. Тем не менее Хэл предпочитал ее другим, потому что она иногда читала ему какую-нибудь жуткую историйку из журнала откровенных признаний или сборника подлинных детективных рассказов («Смерть Настигла Роскошную Рыжеволосую Красавицу», – зловеще и нараспев произносила Бьюла в сонной дневной тишине комнаты и бросала в рот очередную шоколадку с арахисовой начинкой, а Хэл внимательно разглядывал нечеткие картинки и пил молоко из своей кружки «Исполнения желаний»). И потому что она ему нравилась, то, что произошло, казалось еще страшнее.
Он нашел обезьяну в марте, в холодный пасмурный день. В окна время от времени била ледяная крупа, а Бьюла спала на диване, и раскрытый номер «Моей истории» стоял домиком на ее великолепной груди.
Хэл прокрался в чулан посмотреть на вещи своего отца.
Чулан этот тянулся по всей длине второго этажа с левой стороны – запасное помещение, оставшееся недостроенным. Входили в него через маленькую дверцу (вроде той, за которой могла оказаться вертикальная кроличья нора), расположенную в той части комнаты мальчиков, которая принадлежала Биллу. Им обоим нравилось забираться туда, хотя зимой там было холодно, а летом жара прямо-таки могла выжать ведро пота из твоих пор. Длинный, узкий и почему-то уютный чулан был полон всякого интересного хлама. И сколько бы вы в нем ни рылись, все равно каждый раз находилось что-то новое. Они с Биллом проводили там по субботам весь день, почти не разговаривая, вытаскивая вещи из ящиков, осматривали, поворачивали в руках так и эдак, чтобы их руки впитывали каждую уникальную реальность, а потом убирали на место. И теперь Хэл подумал: а не пытались ли они с Биллом по мере своих сил каким-то образом отыскать след своего исчезнувшего отца?
Он был торговым моряком с дипломом штурмана, и в чулане лежали стопки морских карт, некоторые с нанесенными на них аккуратными кружками (с ямочкой компасного румба в каждом). И двадцать томов какого-то «Руководства по навигации» Баррона. Набор косоглазых биноклей – если долго смотреть в них, глаза становились словно бы горячими и какими-то непривычными. И всякие сувенирные штучки из десятка портов назначения – резиновые куколки хула-хула, черный картонный котелок с рваной лентой и надписью на ней: «ВЫБИРАЙ И ПРЯМО В РАЙ», стеклянный шар с крохотной Эйфелевой башней внутри. Конверты с иностранными марками, аккуратно уложенными внутри, и иностранные монеты; и образчики камней с гавайского острова Мауи, стеклянисто-черные и тяжелые и какие-то зловещие; и пластинки с непонятными иностранными надписями на разных языках.
В тот день под гипнотический шорох ледяной крупы на крыше прямо у него над головой Хэл добрался до дальнего конца чулана, отодвинул картонку и увидел за ней еще одну картонку – картонку «Ролстон-Пурина». Из-за ее края выглядывали два стеклянных карих глаза. Он даже вздрогнул и торопливо отскочил, а сердце у него бешено заколотилось, будто он наткнулся на кровожадного пигмея. Затем он заметил безмолвие, стеклянистость взгляда и сообразил, что это какая-то игрушка. Шагнул вперед и осторожно вынул ее из картонки.
В желтоватом свете она ухмылялась своей вневременной зубастой ухмылкой, разведя тарелки.
В полном восторге Хэл поворачивал ее так и эдак, чувствуя, как проминается ее мех. Веселая ухмылка ему очень понравилась. Но ведь было же и еще что-то? Почти инстинктивное отвращение, которое вспыхнуло и угасло практически до того, как он его осознал? Может быть, может быть, но с подобными старыми воспоминаниями следует обращаться осторожнее, чтобы не поверить лишнему. Старые воспоминания иногда лгут. Но… разве он не заметил такого же выражения на лице Пита, там, на чердаке старого родного дома?
Он увидел ключ, вставленный в ее задницу, и повернул его. Повернулся ключ слишком уж легко, без пощелкивания механизма. Значит, сломана. Сломана, но все равно симпатяга.
Он забрал ее, чтобы играть с ней.
– Чтой-то это у тебя, Хэл? – спросила Бьюла, проснувшись.
– Ничего, – сказал Хэл. – Я ее нашел.
Он устроил обезьяну на полке в своей части спальни. Поставил на стопку книжек-раскрасок про Лесси, и она ухмылялась оттуда, глядя в пространство, раздвинув тарелки. Она была сломана, но все равно скалила зубы. Ночью Хэл проснулся от какого-то тревожного сна с полным мочевым пузырем и встал, чтобы пройти в ванную в коридоре. Билл был дышащим бугром на кровати по ту сторону комнаты.
Хэл вернулся, уже засыпая… как вдруг в темноте обезьяна начала бряцать тарелками.
Блям-блям-блям-блям…
Он разом проснулся, словно его хлопнули по лицу мокрым холодным полотенцем. Его сердце подпрыгнуло от неожиданности, из горла вырвался мышиный писк. Он уставился на обезьяну, вытаращив глаза. Губы у него дрожали.
Блям-блям-блям-блям… Ее туловище раскачивалось и выгибалось на полке. Губы расползались и смыкались, расползались и смыкались в жутком веселье, обнажая огромные хищные зубы.
– Перестань, – прошептал Хэл.
Его брат перевернулся на другой бок и испустил громкий храп. И снова полная тишина… если не считать обезьяны. Тарелки бряцали и лязгали, и, конечно, они разбудят его брата, его мать, весь мир. Они мертвых разбудят.
Блям-блям-блям-блям…
Хэл подошел к ней, чтобы как-нибудь ее остановить. Ну, сунуть ладонь между тарелками, пока завод не кончится, но тут она сама остановилась. Тарелки в последний раз столкнулись – блям! – и медленно разошлись в исходное положение. Медь мерцала в тени. Грязно-желтые зубы обезьяны скалились в ухмылке.
В доме снова воцарилась полная тишина. Его мать повернулась в постели и тоже один раз всхрапнула, как Билл. Хэл вернулся к себе в постель, натянул одеяло на голову. Его сердце отчаянно колотилось, и он подумал: «Завтра я уберу ее назад в чулан. Не нужна она мне».
Но на следующее утро он забыл про обезьяну, потому что его мать не пошла на работу. Бьюла умерла. Мама не рассказала им, как это произошло. «Несчастный случай, просто ужасный несчастный случай», – ничего больше она не сказала. Но днем, возвращаясь домой из школы, Билл купил газету и под рубашкой пронес четвертую страницу к ним в комнату. Билл запинаясь прочитал Хэлу статью, пока их мать на кухне готовила ужин. Но заголовок Хэл сумел прочесть и сам: «ДВОЕ УБИТЫ В КВАРТИРНОЙ ПЕРЕСТРЕЛКЕ. Бьюла Маккаффери, 19 лет, и Салли Тремонт, 20 лет, были застрелены приятелем мисс Маккаффери Леонардом Уайтом, 25 лет, в результате спора, кому сходить за заказанным китайским ужином. Мисс Тремонт скончалась в приемном покое Хартфордской больницы. Бьюла Маккаффери умерла на месте происшествия».
Так похоже на Бьюлу – исчезнуть в одном из ее детективных журналов, подумал Хэл Шелберн и почувствовал, как холодный озноб пробежал по его спине, а потом опоясал сердце. И тут он понял, что выстрелы раздались примерно тогда, когда обезьяна…
– Хэл? – сонный голос Терри. – Ты ложишься?
Он выплюнул зубную пасту в раковину и прополоскал рот.
– Да, – сказал он.
Еще раньше он убрал обезьяну в свой чемодан и запер его. Дня через два-три они улетят назад в Техас. Но еще прежде он навсегда избавится от этой чертовой штуки.
Уж как-нибудь.
– Сегодня днем ты был очень крут с Деннисом, – сказала Терри в темноте.
– Мне кажется, Деннису уже давно требуется, чтобы кто-то обходился с ним круто. Он разболтался. Я не хочу, чтобы он испортился.
– Психологически, избиение мальчика не самый хороший…
– Я его не избивал, Терри… побойся Бога!
– …способ утвердить родительский авторитет…
– Избавь меня от дерьма дискуссионных групп, – сердито сказал Хэл.
– Я вижу, ты не желаешь этого обсуждать. – Голос у нее был ледяной.
– И еще я ему сказал, чтобы он убрал наркотики из дома.
– Да? – Теперь ее голос стал тревожным. – Как он это воспринял? Что он сказал?
– Послушай, Терри! Что он мог сказать? «Вы уволены»?
– Хэл, да что с тобой? Так не похоже на тебя! Что случилось?
– Ничего, – ответил он, думая об обезьяне, запертой в его чемодане. Услышит он, если она начнет лязгать тарелками? Да, безусловно. Приглушенные, но различимые звуки. Налязгивать гибель, как тогда на Бьюлу, и на Джонни Маккейба, и на Дейзи, собаку дяди Уилла. Блям-блям-блям, это ты, Хэл? – Я переутомился.
– Надеюсь, что и только. Потому что такой ты мне не нравишься.
– Да? – И слова вырвались у него, прежде чем он успел их удержать. Но хотел ли он их удерживать? – Так проглоти таблетку, и все снова станет тип-топ.
Он услышал, как она судорожно втянула воздух и прерывисто выдохнула. И заплакала. Он мог бы ее утешить (вероятно), но утешать у него не осталось сил. Слишком велик был ужас. Станет легче, когда он избавится от обезьяны, избавится навсегда. Дай Господи, чтобы навсегда.
Второй раз обезьяну нашел Билл.
Примерно через полтора года после того, как Бьюла Маккаффери умерла на месте происшествия. Было лето. Хэл как раз простился с детским садом.
Он вернулся домой, наигравшись, и его мать крикнула:
– Вымойте ваши руки, сеньор, грязный, как свиийнья.
Хэл символично ополоснул руки холодной водой и припечатал грязными пятнами ручное полотенце.
– Где Билл?
– Наверху. Скажи, чтобы он убрал свою половину комнаты. Настоящий хлев.
Хэл, которому нравилось быть вестником неприятных распоряжений в подобных делах, взлетел по лестнице. Билл сидел на полу. Дверца, ведущая в чулан, была распахнута. В руках он держал обезьяну.
– Она поломана, – выпалил Хэл.
Ему стало страшно, хотя он почти забыл, как вернулся из ванной в ту ночь, а обезьяна внезапно забряцала тарелками. Примерно через неделю ему приснился страшный сон про обезьяну и Бьюлу – что именно ему снилось, он не помнил, но он проснулся с воплем и подумал, что мягко прижимается к его груди обезьяна, что он откроет глаза и увидит, как она ухмыляется ему сверху вниз. Но конечно, это была просто подушка, которую он стиснул от ужаса. Вошла мама, чтобы успокоить его глотком воды и двумя мучнисто-оранжевыми детскими аспиринками, транквилизаторами нежных младенческих лет. Она думала, что кошмар вызвала смерть Бьюлы. И не ошиблась, хотя было все совсем не так, как она полагала.
Все это он успел почти совсем забыть, но обезьяна продолжала внушать ему страх. Особенно ее тарелки. И зубы.
– Да знаю я, – сказал Билл и отшвырнул обезьяну. – Ни на что не годится.
Обезьяна упала на кровать Билла, уставилась в потолок, держа тарелки наготове.
– Пошли к Тедди за эскимо? – предложил Билл.
– Я мои карманные уже потратил, – сказал Хэл. – А мама велела, чтобы ты убрал свою половину комнаты.
– Потом уберу, – сказал Билл. – И дам тебе взаймы пять центов, если хочешь. – Билл бывал не прочь ожечь Хэла веревкой по ногам, повалить его или отвесить ему оплеуху без видимой причины, но по большей части он был что надо.
– Пошли! – сказал Хэл с благодарностью. – Я только сперва уберу обезьяну в чулан, ладно?
– Не-а, – сказал Билл вскакивая. – Идем-идем-идем.
И Хэл пошел. Настроение у Билла менялось быстро, и замешкайся он с обезьяной, так мог бы лишиться фруктового эскимо. Они пошли к Тедди и купили не просто какое-то там эскимо, а самое редкое, черничное. Потом отправились на игровую площадку, где какие-то ребята как раз прицелились устроить бейсбольный матч. Хэл был еще слишком маленьким, чтобы участвовать в игре, но он уселся в уголке, лизал свое черничное эскимо и гонялся за мячом, если он вылетал за линию – старшие ребята называли это «китайской пробежкой». Домой они добрались уже в сумерки, и мама отшлепала Хэла за грязные пятна на ручном полотенце и отшлепала Билла за то, что он не прибрал свою половину комнаты, а после ужина они смотрели телик, и за всем за этим Хэл совсем забыл про обезьяну. Каким-то образом она забралась на полку Билла и стояла рядом с фотографией Билла Бойда, которую тот надписал для Билла. И там она простояла почти два года.
К этому времени Хэлу исполнилось семь, приходящие няни превратились в перевод денег, и миссис Шелберн каждое утро распоряжалась перед уходом: «Билл, присматривай за братом».
Однако в тот день Биллу пришлось остаться в школе после уроков, и Хэл пошел домой один, останавливаясь на каждом перекрестке и, прежде чем перейти улицу, убеждаясь, что ни справа, ни слева не видно ни единой машины. А тогда бросался через мостовую, вжимая голову в плечи, точно пехотинец, пересекающий ничейную полосу. Достал ключ из-под коврика, отпер дверь и сразу направился к холодильнику налить себе стакан молока. Он достал бутылку, но тут же она выскользнула из его пальцев и разбилась об пол – осколки так и брызнули во все стороны.
Блям-блям-блям-блям, донеслось сверху из их комнаты. Блям-блям-блям, приветик, Хэл! Добро пожаловать домой. И кстати, Хэл, это ты? Это ты на этот раз? И тебя найдут мертвым на месте происшествия?
* * *
Он застыл там, глядя на бутылочные осколки, на молочную лужу, полный ужаса, который не мог ни назвать, ни понять. Просто ужас этот сочился из всех его пор.
Он повернулся и кинулся по лестнице в их комнату. Обезьяна стояла на полке Билла и словно бы смотрела на него в упор. Фотографию с автографом Билла Бойда обезьяна сбросила лицом вниз на кровать Билла. Обезьяна раскачивалась, ухмылялась и стукала тарелки друг о друга. Хэл медленно подходил к ней, против воли, но не в силах остановиться. Тарелки рывком раздвигались, лязгали, снова раздвигались. Подойдя ближе, он услышал, как урчит механизм в обезьяньем нутре.
Внезапно с воплем отвращения и ужаса он смахнул ее с полки, как смахивают жука. Она ударилась о подушку Билла и свалилась на пол, тарелки бряцали блям-блям-блям, губы размыкались и смыкались, а она лежала на спине в позднеапрельском солнечном луче.
Хэл наподдал ей носком ботинка, наподдал со всей мочи, и теперь у него вырвался вопль ярости. Заводная обезьяна пролетела через весь пол, ударилась о стену и осталась лежать неподвижно. Хэл уставился на нее, сжимая кулаки; сердце у него бешено колотилось. Она в ответ лукаво ухмыльнулась ему. В одном стеклянном глазу пылающей точкой отражалось солнце. Пинай меня сколько хочешь, словно говорила она ему, я же всего шестереночки, да колесики, да парочка истершихся рычажков, так пинай меня сколько вздумается, я же не настоящая, а просто смешная заводная обезьянка – вот и все, что я такое, а кто умер? На вертолетном заводе произошел взрыв! Что это взмывает в небо точно большой шар из чертова кегельбана – весь в крови и с глазами там, где положено быть ямкам для пальцев? Это голова твоей матери, Хэл? Ух ты! Здорово прокатилась голова твоей матери! А там на углу Брук-стрит! Смотри, смотри, приятель! Машина мчалась слишком быстро! Водитель был пьян! И одним Биллом в мире меньше! Ты расслышал, как хрустнуло, когда колесо прокатилось через его череп и мозг прыснул у него из ушей? Да? Нет? Может быть? Не спрашивай меня, я ж не знаю, не могу знать, все, что я знаю, это как греметь тарелками блям-блям-блям и кто умер на месте происшествия, Хэл? Твоя мать? Твой брат? Или ты, Хэл? Или ты?
Он снова ринулся к ней, чтобы раздавить, растоптать, прыгать на ней, пока колесики и шестереночки не разлетятся во все стороны, а эти жуткие стеклянные глаза не покатятся по полу. Но в тот момент, когда он был уже перед ней, ее тарелки вновь сошлись в очень тихом блям… когда какая-то пружина внутри подтолкнула последний зубчик… и стенки его сердца, как легкий шепот, будто пронизала ледяная игла, пригвоздив его, охладив его ярость, вновь оставив его на жертву тошнотному ужасу. А обезьяна словно бы знала – такой злорадной была ее ухмылка.
Он подобрал ее, защемив одно плечо между большим и указательным пальцами правой руки, искривив рот от омерзения, будто держал труп. Ее вытертый искусственный мех, касавшийся его кожи, казался лихорадочно горячим. Он кое-как открыл крохотную дверцу чулана и зажег электрическую лампочку. Обезьяна ухмылялась ему, пока он пробирался по всей длине чердака между ящиками, нагроможденными на другие ящики, мимо томов навигационного руководства и альбомов с фотографиями, от которых пахло старыми химикалиями, мимо сувениров и старой одежды, и Хэл думал: «Если она начнет брякать тарелками прямо сейчас и задвигается у меня в руке, я закричу, а если я закричу, она будет не только ухмыляться, она начнет хохотать, хохотать надо мной, и тогда я сойду с ума, и они найдут меня тут: я буду пускать слюни и хохотать будто сумасшедший, я буду сумасшедшим, ну, пожалуйста, Боженька, пожалуйста, добрый Иисус, пусть я не стану сумасшедшим…»
Он добрался до дальнего конца, негнущимися пальцами раздвинул две картонки, опрокинув одну, и запихнул обезьяну назад в картонку «Ролстон-Пурина» в самом дальнем углу. А она уютно прислонилась к картону, будто наконец добралась домой. Тарелки держала наготове и ухмылялась своей обезьяньей ухмылкой, будто все равно в дураках остался Хэл. А он начал пробираться назад, потея, то совсем горячий, то ледяной – огонь и лед, и ждал, чтобы забряцали тарелки, а когда они забряцают, обезьяна выпрыгнет из картонки и побежит за ним, точно жук: механизм жужжит, тарелки грохочут и…
…и ничего этого не случилось. Он повернул выключатель, захлопнул дверцу кроличьей норы и прислонился к ней, тяжело дыша. В конце концов ему немного полегчало. Он спустился по лестнице на подгибающихся ногах, достал пустой пакет и начал аккуратно подбирать острые осколки, зазубренные осколки молочной бутылки, все время думая, что вот сейчас он порежется и истечет кровью до смерти – если это подразумевали бряцающие тарелки. Но и этого не случилось. Он достал тряпку, вытер разлитое молоко и сел ждать, вернутся ли домой его мать и брат.
Первой пришла мама и сразу спросила:
– А где Билл?
Тихим, бесцветным голосом, уже полностью уверенный, что Билл умер на месте происшествия, Хэл начал объяснять про собрание школьного театрального кружка, прекрасно понимая, что даже с самого долгого собрания Билл должен был вернуться домой полчаса назад.
Мама посмотрела на него очень внимательно, уже спросила, что с ним, но тут дверь открылась, и вошел Билл… Только это был совсем не Билл, ну совсем. Это был Билл-призрак, бледный и безмолвный.
– Что с тобой? – воскликнула миссис Шелберн. – Билл, что с тобой?
Билл заплакал и сквозь слезы рассказал им. Машина, сказал он. Они с его другом Чарли Силверменом пошли домой вместе после собрания, а из-за угла Брук-стрит вдруг вылетела машина на огромной скорости, и Чарли застыл на месте, Билл дернул Чарли за руку, но не удержал ее, а машина…
Билл почти задохнулся в громких судорожных рыданиях, и мама обняла его, прижала к себе, стала укачивать, а Хэл посмотрел наружу на крыльцо и увидел, что там стоят двое полицейских. А у тротуара стояла патрульная машина, в которой они привезли Билла домой. Тут он и сам заплакал… но его слезы были слезами облегчения.
Теперь настала очередь Билла мучиться кошмарами – снами, в которых Чарли Силвермен умирал снова и снова, вырванный из своих ковбойских сапог, брошенный на проржавелый капот «хадсон-хорнета», которым управлял алкоголик. Голова Чарли Силвермена и ветровое стекло «хадсона» столкнулись с силой взрыва и разбились вдребезги. Пьяный водитель, владелец кондитерской в Милфорде, перенес сердечный приступ почти сразу, как его задержали (возможно, причиной были обрывки мозга Чарли Силвермена, засыхавшие на его брюках), и на суде его адвокат весьма успешно использовал тему: «Этот человек уже достаточно наказан». Алкоголику дали шестьдесят дней (условно) и лишили привилегии управлять транспортными средствами с мотором в штате Коннектикут в течение пяти лет… Примерно такой же срок Билла Шелберна мучили кошмары. Обезьяна была снова спрятана в чулане. Билл даже не заметил, что она исчезла с его полки… или если все-таки заметил, то ничего не сказал.
Некоторое время Хэл чувствовал себя в безопасности. Он даже начал снова забывать про обезьяну, верить, что это был просто страшный сон. Но когда он вернулся домой из школы в тот день, когда умерла его мать, она снова стояла на его полке, разведя тарелки, ухмыляясь ему.
Он подошел к ней медленно, словно бы вовне самого себя; казалось, при виде обезьяны его собственное тело превратилось в заводную игрушку. Он увидел, как его рука протянулась и взяла ее с полки. Почувствовал, как искусственный мех промялся под его пальцами, но ощущение было каким-то приглушенным, просто нажимом – словно его накачали новокаином. Он слышал свое дыхание, частое, сухое, будто на ветру шелестела солома.
Он перевернул ее, ухватил ключ… Много лет спустя он думал, что именно в таком наркотическом одурении человек прижимает шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане к закрытому подрагивающему веку и спускает курок.
Нет, не надо… оставь ее выбрось ее не трогай ее…
Он повернул ключ и в тишине услышал идеально ровное пощелкивание завода. Когда он отпустил ключ, обезьяна начала брякать тарелкой о тарелку, а он чувствовал, как дергается ее туловище – изогнется и дерг, изогнется и дерг, – будто она была живой, она и была живой, извиваясь в его пальцах точно какой-то омерзительный пигмей, и вибрации, которые он ощущал сквозь ее лысеющий коричневый мех, не были вращением колесиков, а ударами ее сердца.
Со стоном Хэл выронил обезьяну, попятился, впиваясь ногтями в кожу под глазами, зажимая ладонями рот. Он споткнулся обо что-то и с трудом удержался на ногах (не то бы он очутился на полу рядом с ней и его выпученные голубые глаза уставились бы в ее стеклянные карие). Кое-как он добрался до двери, вышел спиной вперед, захлопнул ее, прислонился к ней. Внезапно он кинулся в ванную, и его стошнило.
Рассказать им пришла миссис Стаки с вертолетного завода и оставалась с ними две бесконечные ночи, пока из Мэна не приехала тетя Ида. Их мать умерла днем от инсульта. Стояла у бачка с охлажденной водой, держа в руке полный стаканчик, и вдруг упала как подстреленная, все еще держа бумажный стаканчик. Другой рукой она попыталась уцепиться за бачок и увлекла в своем падении большую стеклянную бутылку «Польской воды». Она разбилась… но заводской врач, который тут же прибежал, позже говорил, что, по его мнению, миссис Шелберн умерла еще до того, как вода просочилась сквозь ее платье и белье и смочила ее кожу. Мальчикам ничего этого не рассказывали, но Хэл все равно знал. В долгие ночи после смерти матери это снова и снова снилось ему. «Тебе все еще трудно заснуть, братик?» – спросил его Билл, и Хэл решил, что Билл, наверное, думает, что он мечется на постели и видит страшные сны, потому что их мать умерла так внезапно, и это было верно… но только отчасти верно. Еще была вина – неумолимое смертоносное сознание, что он убил свою мать, заведя обезьяну, когда в тот солнечный день вернулся из школы.
Когда Хэл наконец заснул, сон его, видимо, был очень глубоким. Когда он проснулся, время приближалось к полудню. Пит сидел по-турецки в кресле у противоположной стены, методично поедая апельсин, дольку за долькой, и следя по телевизору за каким-то матчем.
Хэл скинул ноги на пол с ощущением, что кто-то уложил его спать ударом кулака… а потом вторым ударом вышиб в явь. В висках у него стучало.
– Пит, а где мама?
Пит оглянулся.
– Они с Деннисом пошли по магазинам. Я сказал, что посижу с тобой. Пап, а ты всегда разговариваешь во сне?
Хэл посмотрел на сына с опаской.
– Нет. А что я такого сказал?
– Ничего нельзя было разобрать. Я даже испугался немножко.
– Ну, сейчас я опять в своем уме, – сказал Хэл и умудрился чуть улыбнуться. Пит расплылся в ответной улыбке, и Хэл вновь испытал прилив простой отцовской любви, ясной, сильной, ничем не осложненной. И спросил себя, почему он всегда чувствует себя с Питом так хорошо, чувствует, что понимает Пита, может ему помочь, и почему Деннис кажется окном, слишком темным, чтобы было можно заглянуть внутрь, загадочным в своих поступках и привычках – мальчиком, которого ему не дано понять, потому что сам он таким мальчиком не был никогда. Слишком уж легко сослаться на то, что переезд из Калифорнии изменил Денниса или что…
Его мысли оборвались. Обезьяна! Обезьяна сидит на подоконнике, разведя тарелки. Хэл почувствовал, как у него оборвалось сердце, замерло и вдруг заколотилось. В глазах у него помутилось, и без того тяжелая голова словно раскололась от боли.
Она выбралась из чемодана и теперь стояла на подоконнике, ухмылялась ему. Думал, ты избавился от меня, а? Но ты и прежде так думал, а?
Да, подумал он с тошнотным ужасом. Да.
– Пит, ты вынул обезьяну из моего чемодана? – спросил он, уже зная ответ. Ведь чемодан он запер, а ключ спрятал в карман пальто.
Пит взглянул на обезьяну, и по его лицу скользнуло выражение… тревоги, подумал Хэл.
– Нет, – сказал Пит. – Ее туда посадила мама.
– Мама?
– Ну да. Забрала ее у тебя. И засмеялась.
– Забрала у меня? О чем ты говоришь?
– Ты забрал ее к себе в кровать. Я зубы чистил, а Деннис увидел. Он тоже смеялся. Сказал, что ты спишь будто сосунок с мишкой. Плюшевым.
Хэл посмотрел на обезьяну. Во рту у него так пересохло, что он не мог сглотнуть. Она была с ним в кровати? В кро-ва-ти?! Этот гадостный мех прижимался к его щеке, а может быть, и к губам! Эти злобные глазки глядели на его спящее лицо, а ухмыляющиеся зубы были совсем рядом с его горлом! Впивались ему в горло?! О Господи!
Он резко отвернулся и подошел к стенному шкафу. Чемодан стоял там. Все так же запертый. И ключ лежал в кармане его пальто.
Позади него раздался щелчок, и телевизор смолк. Хэл медленно отошел от шкафа. Пит смотрел на него очень серьезно.
– Папа, мне эта обезьяна не нравится, – сказал он еле слышным шепотом.
– И мне тоже, – сказал Хэл.
Пит посмотрел на него пристально, проверяя, не пошутил ли он. И увидел, что нет. Он подошел к отцу и крепко его обнял. Хэл почувствовал, что мальчик весь дрожит.
И тут Пит зашептал ему на ухо, очень торопливо, словно опасаясь, что у него не хватит духа сказать это еще раз… или что его услышит обезьяна.
– Она как будто смотрит прямо на тебя. Где бы ты ни был в комнате, она смотрит на тебя. И если уйдешь в другую комнату, она смотрит на тебя сквозь стену. У меня такое чувство, будто… будто я ей для чего-то нужен.
Пит затрясся. Хэл обнял его покрепче.
– Будто она хочет, чтобы ты ее завел, – сказал Хэл.
Пит отчаянно закивал.
– Она ведь на самом деле не сломана, верно, пап?
– Иногда сломана, – сказал Хэл, глядя на обезьяну через плечо сына. – Но иногда она заводится.
– Меня все время тянуло пойти и завести ее. Было так тихо, и я думал: нельзя, она разбудит папу, но меня все равно тянуло, и я пошел туда и я… я дотронулся до нее, и мне стало так противно… но и понравилось… а она будто говорила: «Заведи меня, Пит, и мы поиграем, твой папа не проснется, он вообще больше не проснется, заведи меня… заведи меня…»
Внезапно мальчик заплакал.
– Она плохая, я знаю, она плохая. Какая-то скверная. Нельзя ее выбросить, пап? Ну пожалуйста!
Обезьяна ухмыльнулась Хэлу своей нескончаемой ухмылкой. Он ощущал слезы Пита, которые разгораживали их. Позднее утреннее солнце пускало зайчиков от медных тарелок в обезьяньих лапах на простой беленый потолок номера в мотеле.
– Когда мама с Деннисом должны вернуться, Пит? Она сказала?
– К часу. – Мальчик вытер покрасневшие глаза рукавом рубашки, смущаясь своих слез и упорно отводя глаза от обезьяны. – Я включил телик, – шепнул он. – Громко-громко.
– И правильно сделал, Пит.
«Как это произошло бы? – думал Хэл. – Инфаркт? Эмболия, как у моей матери? Как? Хотя какое это имеет значение, так ведь?»
И следом другая, холодящая мысль: «Избавиться от нее, говорит он. Выбросить. Но можно ли от нее избавиться? Хоть когда-нибудь?»
Обезьяна ухмылялась ему язвительно, разведя тарелки на фут. Она внезапно ожила ночью, когда умерла тетя Ида, вдруг подумалось ему. И последний звук, который та услышала, были приглушенные блям-блям-блям тарелок, которыми обезьяна хлопала в черноте чердака, а ветер свистел в водостоке…
– Может, не так уж бессмысленно, – медленно сказал Хэл сыну. – Сбегай-ка за своей авиасумкой, Пит.
Пит растерянно посмотрел на него.
– А что мы будем делать?
Может, от нее можно избавиться, может, навсегда или на какой-то срок… долгий срок или короткий. Может, она будет возвращаться и возвращаться, и все тут… но, может, я… мы сумеем распроститься с ней надолго. На этот раз ей на возвращение потребовалось двадцать лет. Ей потребовалось двадцать лет, чтобы выбраться из колодца…
– Поедем прокатиться, – сказал Хэл. Он был спокоен, только внутри словно бы налился тяжестью. Даже глазные яблоки, казалось, набрали веса. – Но сначала сходи с авиасумкой в конец автостоянки и отыщи там пару-другую камней побольше. Положи их в сумку и принеси сумку мне. Понимаешь?
Глаза Пита ответили «да».
– Хорошо, папа.
Хэл посмотрел на часы. Почти четверть первого.
– Пошевеливайся. Я хочу уехать, пока мама не вернулась.
– А куда мы едем?
– В дом дяди Уилла и тети Иды, – сказал Хэл. – В старый родной дом.
Хэл вошел в ванную, заглянул за унитаз и извлек щетку-ерш. С ней он вернулся к окну и встал там, держа ее в руке, точно уцененный магический жезл. Он следил, как Пит в суконной курточке шел через автостоянку с сумкой, на которой белые буквы, маршируя по голубому фону, провозглашали название авиакомпании «ДЕЛЬТА». В верхнем углу окна жужжала муха, медлительная и отупевшая на исходе теплых дней. Хэл прекрасно понимал, как она себя чувствует.
Он следил, как Пит подобрал три увесистых камня и пошел назад через стоянку. Из-за угла мотеля выскочила машина – на большой скорости, слишком большой, и не думая, подчиняясь рефлексу, как хороший вратарь в броске, Хэл резко опустил руку со щеткой, точно каратист, наносящий удар ребром ладони… Рука замерла.
Тарелки беззвучно уперлись в нее с обеих сторон, и Хэл ощутил в воздухе что-то… Что-то вроде ярости.
Взвизгнули тормоза машины. Пит отскочил, человек за рулем махнул ему – раздраженно, будто виноват был Пит. И мальчик припустил через стоянку так быстро, что воротник куртки заколыхался. Затем он скрылся в задней двери мотеля.
По груди Хэла струился пот; он ощущал его капли у себя на лбу, точно маслянистую изморось. Тарелки холодно вжимались в его руку, и она немела.
«Валяй, – думал он угрюмо. – Валяй, я так хоть весь день простою. До скончания века, если понадобится».
Тарелки разошлись и застыли в неподвижности. Хэл услышал легкий щелчок во внутренностях обезьяны. Он приподнял щетку и осмотрел ее. Кое-где щетинки почернели, словно их опалили.
Муха билась о стекло и жужжала, стремясь к холодному солнечному свету, казавшемуся таким близким.
В комнату влетел Пит, часто дыша, разрумянившийся.
– Пап, я нашел три отличных! Пап, я… – Он запнулся. – Папа, тебе нехорошо?
– Наоборот, – сказал Хэл. – Давай-ка сумку.
Хэл ногой подтащил стол к окну от дивана и поставил на него сумку. Она оказалась чуть ниже подоконника. Потом открыл ее – точно раздвинул губы в оскале. Он увидел, как на дне заискрились камни, которые нашел Пит. Щеткой для чистки унитаза он зацепил обезьяну и дернул. Она закачалась, а потом упала в сумку. Раздалось чуть слышное дзинь! Одна из тарелок задела камень.
– Пап? Папа? – Голос Пита казался испуганным. Хэл оглянулся на него. Что-то было не так. Что-то изменилось. Но что?
Тут он проследил, куда смотрит Пит, и понял. Жужжание мухи смолкло. Она лежала на подоконнике мертвая.
– Это обезьяна сделала? – спросил Пит.
– Пошли, – сказал Хэл, задергивая молнию сумки. – Я все тебе расскажу по дороге в старый родной дом.
– А как мы поедем? Мама с Деннисом взяли машину.
– Не беспокойся, – сказал Хэл и взъерошил Питу волосы.
Он показал регистратору свои шоферские права и двадцатидолларовую бумажку. Взяв в залог наручные электронные часы Хэла, регистратор вручил ему ключи от собственной машины – старенького «гремлина» фирмы АМК. Они повернули на север по шоссе 302 в сторону Каско, и Хэл заговорил – сначала запинаясь, потом все быстрее. Для начала он сказал Питу, что скорее всего обезьяну привез его отец из дальнего плавания в подарок сыновьям. Игрушка эта не особенно редкая, в ней не было ничего особенного или ценного. В мире, наверное, есть сотни тысяч заводных обезьян – некоторых делают в Гонконге, некоторых на Тайване, а некоторых в Корее, но где-то по пути – возможно даже, в темном чулане дома в Коннектикуте, где началось взросление двух мальчиков – с обезьяной что-то произошло. Что-то плохое. Не исключено, сказал Хэл, улещивая регистраторский «гремлин» набрать скорость свыше сорока миль в час, что многое плохое – или даже почти все плохое – на самом деле знать не знает, что оно такое. На этом он остановился, поскольку дальше Пит просто бы не понял, однако мысленно продолжил ход своих рассуждений. Он подумал, что по большей части зло похоже на обезьяну с механизмом внутри, который ты заводишь; колесики вращаются, тарелки начинают бряцать, зубы скалиться, глупые стеклянные глаза смеяться… или как будто смеяться.
Он рассказал Питу, как нашел обезьяну, но этим ограничился: он не хотел наводить новый ужас на уже перепуганного мальчугана. А потому его рассказ утратил связность и ясность, но Пит не задавал вопросов: возможно, он мысленно сам заполнял пробелы, подумал Хэл, вот как он сам снова и снова видел во сне смерть матери, хотя не присутствовал при ней.
Дядя Уилл и тетя Ида были на похоронах вместе. А потом дядя Уилл вернулся в Мэн (было время жатвы), а тетя Ида осталась с мальчиками еще на две недели, чтобы привести дела покойной сестры в порядок, прежде чем увезти Билла и Хэла в Мэн. Но не только – она потратила это время и на то, чтобы дать им узнать ее получше: смерть матери так их оглушила, что они впали в прострацию. Если им не удавалось уснуть, она была рядом со стаканом теплого молока; когда Хэл просыпался в три ночи от кошмара (кошмара, в котором его мать подходила к бачку и не видела, что в его прохладной сапфировой глубине плавает и подпрыгивает обезьяна, ухмыляется и брякает тарелками, и всякий раз, сходясь, они оставляют за собой шлейфы пузырьков), она была рядом; когда через три дня после похорон Билл слег в жару и рот у него изнутри усыпали язвочки, а потом началась крапивница, она была рядом. Вот так мальчики узнали ее получше, и до того, как они отправились с ней на автобусе из Хартфорда в Портленд, и Билл, и Хэл, каждый в свой черед, пришли к ней и выплакались у нее на груди, а она обнимала их и нежно покачивала, и вот так их связала любовь.
Накануне того дня, когда они навсегда покинули Коннектикут и уехали в Мэн («на Север», как говорили тогда), прикатил на своем дребезжащем грузовичке старьевщик и забрал кучу всяких ненужных вещей, которые Билл и Хэл перенесли из чулана на тротуар. Когда весь хлам был там сложен, тетя Ида попросила их еще раз осмотреть чулан и взять на память то, что им особенно хотелось бы сохранить. Для всего у нас просто места нет, мальчики, сказала она им, и Билл, решил Хэл, наверное, поймал ее на слове и в последний раз порылся во всех завлекательных ящиках и картонках, оставшихся после их отца. Хэл не присоединился к старшему брату. Чулан Хэла больше не манил. В эти первые две недели горя ему в голову пришла жуткая мысль: вдруг их отец не просто исчез, не сбежал, потому что ему не сиделось на одном месте и он понял, что семейная жизнь не для него.
Вдруг его забрала обезьяна!
Когда Хэл услышал, как по улице, дребезжа, хлопая глушителем, пердя синим дымом, катит грузовичок старьевщика, он собрался с духом, сдернул обезьяну с полки, где она стояла со дня смерти их матери (до этой минуты он не осмеливался прикоснуться к ней, даже чтобы швырнуть назад в чулан), и сбежал с ней по лестнице. Ни Билл, ни тетя Ида его не видели. На бочке, забитой сломанными безделушками и проплесневевшими книгами, стояла картонка «Ролстон-Пурина», полная того же. Хэл с силой засунул обезьяну назад в картонку, откуда она появилась, истерически подначивая ее забряцать тарелками (давай же, давай, слабо тебе, слабо тебе, СЛАБО ТЕБЕ, слышишь?!), но обезьяна просто ждала там, небрежно прислонясь спиной к краю, будто на автобусной остановке, и ухмылялась своей жуткой ухмылкой, будто ей все было известно заранее.
Хэл отошел в сторонку, маленький мальчик в старых вельветовых штанишках, в стоптанных сапожках, когда старьевщик, итальянский джентльмен, который ходил с крестом на шее и насвистывал сквозь щель между зубами, начал грузить ящики и бочки в дряхлый грузовичок с деревянными бортами. Хэл смотрел, как он поднял бочку вместе с картонкой «Ролстон-Пурина» на ней; он смотрел, как обезьяна скрылась в кузове грузовичка; он смотрел, как старьевщик забрался в кабину, гулко высморкался в ладонь, вытер ее огромным красным носовым платком и завел мотор, оглушительно взревевший и выбросивший клуб вонючего сизого дыма; он смотрел, как грузовичок уезжает по улице. И тяжелый груз скатился с его сердца, он просто почувствовал, как оно освободилось. И подпрыгнул раз, другой – как мог выше, раскинув руки, повернув ладони наружу, и если бы кто-нибудь из соседей его увидел, так они сочли бы это странным, почти кощунственным – почему этот мальчик прыгает от радости (ведь так и было: прыжок от радости не замаскируешь ни подо что другое), уж конечно, спросили бы они себя, а еще и месяца не прошло, как схоронили его мать?
А прыгал он потому, что избавился от обезьяны. Избавился навсегда.
То есть так он думал.
Меньше чем через три месяца тетя Ида послала его на чердак за елочными украшениями, и пока он шарил, разыскивая коробки с ними, пропылив насквозь колени штанишек, он внезапно опять столкнулся с ней лицом к лицу и от изумления и ужаса впился зубами в край ладони, лишь бы не закричать… лишь бы не потерять сознание. А она ухмылялась своей зубастой ухмылкой, разведя тарелки на фут в полной готовности, небрежно прислоняясь в углу картонки «Ролстон-Пурина», будто ждала автобуса на остановке и, казалось, говорила: Думал, ты от меня избавился? Но от меня так легко не избавишься, Хэл. Ты мне нравишься, Хэл. Мы были созданы друг для друга – просто мальчик и его любимая обезьянка, парочка старых друзей-приятелей. А где-то к югу отсюда глупый старый итальянский старьевщик лежит в ванне на львиных лапах, глазные яблоки у него выпучились из орбит, а вставные челюсти полувыскочили изо рта, его вопящего рта; старьевщик, который воняет, как замкнувшаяся батарейка. Он оставил меня для своего внучка, Хэл, он поставил меня на полку в ванной рядом с его мылом, и его бритвой, и его кремом для бритья, и его радиоприемником, настроенным на матч «Бруклин Доджерс», а я начала бряцать, и одна моя тарелка задела этот старый приемничек, а он бухнулся в ванну, и тогда я пошла к тебе, Хэл, шла проселочными дорогами по ночам, и лунный свет отражался от моих зубов в три часа ночи, и я оставила много мертвецов во многих местах. Я пришла к тебе, Хэл, я твой рождественский подарок, так что заведи меня, и кто умер? Это Билл? Это дядя Уилл? Это ты, Хэл? Это ты?
Хэл пятился, пятился, жутко гримасничая, глаза у него закатывались, и он чуть не упал, пока спускался с чердака. Тете Иде он сказал, что не нашел елочные игрушки – он впервые солгал ей, и по его лицу она увидела, что он лжет, но не спросила его, почему он солгал (слава Богу), а попозже, когда пришел Билл, попросила его поискать, и он принес игрушки с чердака. А еще попозже, когда они остались вдвоем, Билл зашипел на него – ну и олух же он: своей задницы не отыщет, хоть обеими руками, хоть с фонариком. Хэл ничего не сказал. Хэл был очень бледным и молчал, и только поковырял свой ужин. А ночью ему снова приснилась обезьяна – одна тарелка ударила по радиоприемничку, пока Дин Мартин выпевал из него: «Когда в небе луна загорится, как огромная круглая пицца», ломаясь под итальянца, и приемничек кувыркнулся в ванну, а обезьяна ухмыльнулась и брякнула тарелками БЛЯМ, и БЛЯМ, и БЛЯМ; но только когда вода стала электрической, в ванне лежал не старьевщик.
В ней лежал он.
Хэл и его сын торопливо спустились к лодочному сараю позади старого родного дома, поставленному на сваях над водой. В правой руке Хэл нес авиасумку. В горле у него пересохло, уши настроились на противоестественный воющий звук. Сумка была очень тяжелой.
Хэл поставил сумку.
– Не трогай ее, – сказал он, нашарил в кармане кольцо с ключами, которое дал ему Билл, и взялся за ключ с аккуратной надписью на полоске липкого пластыря «Л. САРАЙ».
День был ясный, холодный, ветреный под слепяще голубым небом. Листва деревьев, которые теснились к самой воде, уже обрела все яркие осенние краски от кроваво-алой до желтизны школьного автобуса. Листья шептались на ветру. Листья кружили вокруг ног Пита, застывшего в тревожном ожидании, и Хэл уловил в порыве ветра запахи ноября и надвигающейся следом зимы.
Ключ повернулся в висячем замке, и Хэл дернул дверь на себя. Как хорошо он все помнил! Даже не взглянув вниз, он придвинул чурбак, не дающий двери захлопнуться. Внутри пахло только летом – парусина, лакированное дерево, сохранившееся пьянящее тепло.
Лодка дяди Уилла была на своем обычном месте, весла аккуратно уложены вдоль бортов, будто дядя Уилл только накануне погрузил в нее рыболовную снасть и две упаковки «Блек лейбл» по шесть банок в каждой. И Билл, и Хэл много раз отправлялись ловить рыбу с дядей Уиллом, но никогда вместе. Дядя Уилл считал, что для троих лодка слишком мала. Красная кайма, опоясывающая борта, которую дядя Уилл обновлял каждую весну, теперь поблекла и облупилась, а нос лодки пауки заткали шелком паутины.
Хэл ухватил лодку и стащил ее по слипу на галечный пляжик. Рыбалка была одной из главных радостей его детских лет, проведенных у дяди Уилла и тети Иды. Ему казалось, что и Билл чувствует то же. Обычно дядя Уилл был молчаливейшим из людей, но стоило ему поставить лодку по своему вкусу в шестидесяти – семидесяти ярдах от берега, забросить удочки, он, глядя на покачивающиеся поплавки, открывал банку пива для себя и банку для Хэла (он редко выпивал больше половины этой единственной банки, которую разрешал ему дядя Уилл с обязательным ритуальным предупреждением не проговориться тете Иде, потому что «она на месте меня пристрелит, узнай она, что я вас, мальчиков, пивком угощаю, сам понимаешь») и становился разговорчивым. Рассказывал всякие истории, отвечал на вопросы, опять наживлял крючок Хэла, когда требовалось, а лодка тихонько дрейфовала по воле ветра и легкого течения.
– А почему ты никогда не выплываешь на середину, дядя Уилл? – как-то спросил Хэл.
– Погляди-ка за борт, – ответил дядя Уилл.
Хэл поглядел. Он увидел голубую воду и свою леску, уходящую в черноту.
– Ты смотришь в самую глубину Кристального озера, – сказал дядя Уилл, одной рукой сминая пустую пивную банку, а другой вытаскивая новую. – Сто футов, и ни на дюйм меньше. Там где-то старый «студебекер» Эймоса Каллигена. Дурак чертов съехал на озеро в начале декабря, когда лед еще не окреп. Еще повезло, что он живым выбрался. Ну а «студа» им никогда не вытащить и не увидеть до Страшного суда. Озеро глубже глубокого, черт его дери. Крупные прямо тут плавают, Хэл. Вот и нечего дальше заплывать. Ну-ка, посмотрим, как твой червячок поживает. Вытаскивай его, сукина сына.
Хэл вытащил и, пока дядя Уилл наживлял на его крючок нового мотыля из старой жестянки из-под лярда, которая заменяла ему коробку для наживки, Хэл смотрел в воду, точно завороженный, пытаясь разглядеть старый «студебекер» Эймоса Каллигена, проржавелый насквозь, и водоросли колышутся в открытом окне с шоферской стороны, через которое Эймос выбрался в самую последнюю секунду; водоросли фестонами свисают с рулевого колеса точно гниющее ожерелье; водоросли болтаются на зеркале заднего вида, и течение перебирает их будто невиданные четки. Но видел он только голубизну, переходящую в черноту, и там посреди всего покачивался мотыль дяди Уилла, пряча крючок в своих извивах. Своя особая реальность в солнечном луче, пронизывающем толщу воды. На мгновение Хэл сквозь головокружение почувствовал, что он сам подвешен над гигантским провалом, и на мгновение зажмурился, пока голова не перестала кружиться. В этот день, вспомнилось ему, он словно бы выпил всю банку пива.
…Самая глубина Кристального озера… сто футов, и ни на дюйм меньше.
Он на секунду замер, тяжело дыша, и поглядел вверх на Пита, который все так же тревожно следил за ним.
– Тебе помочь, папа?
– Немножко погодя.
Он перевел дух и потащил лодку через узкую полоску песка к воде, оставляя позади широкую борозду. Краска облезла, но лодка хранилась под брезентом и выглядела прочной.
Когда они с дядей Уиллом отправлялись на озеро, дядя Уилл стаскивал лодку по слипу, а когда нос оказывался в воде, забирался внутрь, хватал весло, чтобы оттолкнуться, и говорил: «Ну-ка, толкни меня, Хэл… Отрабатывай свою долю!»
– Дай сумку, Пит, а потом толкни лодку, – сказал он. И чуть улыбаясь добавил: – Отрабатывай свою долю.
Пит не улыбнулся в ответ.
– А я поплыву, папа?
– Не в этот раз. В другой раз я возьму тебя ловить рыбу, но… не сейчас.
Пит нерешительно промолчал. Ветер ерошил его каштановые волосы, несколько желтых листьев, совсем сухих, спланировали через его плечи и опустились на воду у кромки берега, покачиваясь, будто лодки.
– Тебе надо было бы обмотать их, – сказал он еле слышно.
– Что? – Но он не сомневался, что понял Пита правильно.
– Обложить тарелки ватой. Примотать ее пластырем. Чтобы она не могла… лязгать.
Хэл внезапно вспомнил, как Дейзи брела к нему – не шла, а пошатывалась, – и как внезапно кровь брызнула из обоих глаз Дейзи, потекла струйками, намочила шерсть у нее на груди и закапала на пол амбара… а Дейзи упала на передние лапы… и в неподвижном весеннем воздухе этого дождливого дня он услышал лязг, не приглушенный, но странно четкий, доносившийся с чердака дома в пятидесяти футах от амбара: блям-блям-блям-блям!
Он истерически закричал, уронил охапку дров, которые нес для плиты, кинулся на кухню за дядей Уиллом, который ел яичницу с жареным хлебом, еще даже не натянув подтяжки на плечи.
«Она была старая собака, Хэл, – сказал дядя Уилл, а лицо у него было осунувшееся, грустное, он и сам выглядел старым. – Ей же уже двенадцать лет стукнуло, а для собаки это старость. Ну и хватит… старушке Дейзи это не понравилось бы».
«Старая» сказал и ветеринар, но все равно вид у него был встревоженный, потому что собаки не умирают от массированных мозговых кровоизлияний даже в двенадцать лет. («Ну, прямо словно кто-то взорвал шутиху у нее в голове». Хэл услышал, как ветеринар сказал это дяде Уиллу, когда дядя Уилл рыл яму за сараем, неподалеку от места, где он в 1950 году похоронил мать Дейзи. «Я в жизни ничего подобного не видел, Уилл!»)
А позже, с ума сходя от ужаса и все-таки не в силах противиться, Хэл пробрался на чердак.
Приветик, Хэл, как делишки? Обезьяна ухмылялась из своего темного угла. Тарелки были разведены на фут или около того. Подушка с дивана, которую Хэл поставил между ними, теперь валялась в другом конце чердака. Что-то… какая-то сила швырнула ее так, что материя лопнула и набивка пеной вылезла наружу. Не грусти из-за Дейзи, шептала обезьяна у него в голове, а ее стеклянные карие глаза пристально смотрели в широко открытые глаза Хэла Шелберна. Не грусти из-за Дейзи, она была старая, Хэл, ведь даже ветеринар сказал так, да, и кстати: ты видел, как кровь потекла у нее из глаз. Хэл? Заведи меня, Хэл. Заведи меня, давай поиграем, и кто мертвый, Хэл? Это ты?
А когда он опомнился, то подползал к обезьяне, будто загипнотизированный. Одна рука уже тянулась к ключу. Он отпрянул назад и чуть было не скатился с чердачной лестницы – да и скатился бы, не будь она такой узкой. Из его горла вырывался придушенный писк.
А теперь он сидел в лодке и смотрел на Пита.
– С тарелками ничего сделать нельзя, – сказал он. – Я уже пробовал.
Пит испуганно покосился на свою аэросумку.
– И что случилось, папа?
– Ничего, о чем бы мне хотелось говорить, – сказал Хэл, – а тебе слушать. Ну-ка, оттолкни меня.
Пит нагнулся, поднатужился, и корма лодки заскрипела по песку. Хэл помог толчком весла, и внезапно ощущение прикованности к земле исчезло, и лодка легко скользнула вперед, сама себе хозяйка после долгих лет в темном сарае, закачалась на маленьких волнах. Хэл взял второе весло и запер уключины.
– Будь поосторожнее, папа, – сказал Пит.
– Я скоро, – обещал Хэл, но взглянул на аэросумку и заколебался.
Он начал грести, налегая на весла. В крестце и между плечами появилась старая, такая знакомая ноющая боль. Берег удалялся. Пит у кромки воды вновь магически стал шестилетним… четырехлетним… и заслонял глаза от солнца младенческой ручонкой.
Хэл посматривал на берег, но не позволял себе вглядываться в него. Прошло почти пятнадцать лет, внимательный взгляд подмечал бы только изменения, а не былые приметы, и он бы свернул с нужного направления. Солнце пекло ему шею, и он вспотел. Покосился на аэросумку и на миг сбился с ритма. Сумка, казалось… казалось, вздувается. Он начал грести быстрее.
Налетел порыв ветра, высушил пот, охладил кожу. Лодка вздыбилась, и нос, опускаясь, разрезал воду. Ветер вроде бы посвежел за последнюю минуту? И Пит кричит ему что-то? Да. Но ветер не позволял разобрать слова. Но не важно. Избавиться от обезьяны еще на двадцать лет, а может
(дай, Господи, навсегда)
навсегда. Вот что было важно.
Лодка вздыбилась и опустилась. Он взглянул налево и увидел белые барашки. Снова взглянул на берег и увидел Охотничий мыс и провалившуюся крышу – в дни их с Биллом детства это, наверное, был лодочный сарай Бердонов. Значит, он почти добрался. Почти добрался до места, где прославленный «студебекер» Каллигена провалился под лед в давнем-давнем декабре. Почти до самого глубокого места в озере.
Пит отчаянно выкрикивал что-то – выкрикивал и тыкал пальцем. Но Хэл все равно не мог его расслышать. Лодка накренялась и раскачивалась, разбрасывая облачка мелких брызг по сторонам ободранного носа. В одном повисла крохотная радуга и была разбита. По озеру скользили пятна солнечного света и нагоняли тени, и волны уже не были ласковыми – барашки стали больше, круче. Пот высох, кожа пошла пупырышками, как от холода, а спина куртки намокла от брызг. Он упрямо греб, а его взгляд перескакивал с береговой линии на аэросумку. Нос вновь задрался, и на этот раз так высоко, что лопасть левого весла загребла воздух вместо воды.
Пит указывал на небо, а его вопли доносились теперь, будто слабеющее звонкое эхо.
Хэл поглядел через плечо.
Озеро превратилось в свистопляску волн. Оно обрело мертвенно-темную синеву, исполосованную белыми швами. По воде к лодке стремительно скользила тень, и в форме ее было что-то знакомое, что-то столь жутко знакомое, что Хэл взглянул вверх, и в его сжавшемся горле забился вопль, стараясь вырваться наружу.
Солнце спряталось за тучу, превратив ее в сгорбленную движущуюся фигуру, а по краям горели золотом два полумесяца, словно разведенные тарелки. В одном конце тучи зияли две дыры, и из них вырывались два снопа солнечных лучей.
Пока туча скользила над лодкой, залязгали тарелки обезьяны, только чуть приглушенные сумкой. Блям-блям-блям-блям, это ты, Хэл, наконец-то это ты, сейчас ты над самой глубокой частью озера, и пришла твоя очередь, твоя очередь, твоя очередь…
Все береговые приметы разом заняли свои места. Гниющий остов «студебекера» Эймоса Каллигена лежал где-то под лодкой, здесь таились самые крупные, здесь было место.
Хэл одним движением закинул весла вдоль бортов, наклонился вперед, не обращая внимания на бешеное раскачивание лодки, и схватил аэросумку. Тарелки творили свою дикую языческую музыку, бока сумки вздувались и опадали словно от зловещего дыхания.
– Прямо тут, сукина дочь! – выкрикнул Хэл. – ПРЯМО ТУТ!
Он швырнул сумку за борт.
Она утонула стремительно. Какое-то мгновение он видел, как она опускается ниже, ниже, и все это бесконечное мгновение он все еще слышал лязг тарелок. И на миг черная вода словно обрела прозрачность, и он мог заглянуть в эту страшную водную бездну, где покоились самые крупные: «студебекер» Эймоса Каллигена, а за осклизлым рулем – мать Хэла: ухмыляющийся скелет, и из одной костяной глазницы холодно пучил глаза озерный окунь. Возле нее полулежали дядя Уилл и тетя Ида, и седые волосы тети Иды тянулись вверх, а сумка, снова и снова переворачиваясь, падала мимо, и несколько серебряных пузырьков поднялись вверх: блям-блям- блям-блям…
Хэл резко погрузил весла в воду, оцарапав костяшки пальцев до крови (и, о Господи, на заднем сиденье «студебекера» Эймоса Каллигена было полно мертвых детей! Чарли Силвермен… Джонни Маккейб…), и начал поворачивать лодку.
Между его ступнями раздался резкий сухой треск, будто пистолетный выстрел, и внезапно из щели между двумя досками выступила прозрачная вода. Лодка же старая, старое дерево чуть ссохлось, вот и все. Да и течь крохотная. Но когда он выгребал от берега, течи не было вовсе, он мог в этом поклясться.
Озеро и берег переместились в поле его зрения. Пит теперь был у него за спиной. Над головой жуткая обезьяноподобная туча начинала рассеиваться. Хэл налег на весла. Двадцати секунд оказалось достаточно, чтобы осознать – гребет он, спасая свою жизнь. Пловец он был так-сяк, а в этих внезапно разбушевавшихся волнах и чемпиону пришлось бы нелегко.
Еще две доски внезапно разошлись с тем же звуком пистолетного выстрела. Воды в лодке сразу прибавилось, она залила его ботинки. Послышались металлические пощелкивания – он понял, что это ломаются гвозди. Запор одной из уключин сломался и канул в воду. Не последует ли за ним сама уключина?
Ветер теперь бил ему в спину, будто стараясь остановить его, а то и отогнать назад на середину озера. Его охватил ужас, но в ужасе этом было и какое-то безумное радостное возбуждение. На этот раз обезьяна исчезла навсегда. Почему-то он твердо это знал. Что бы ни случилось с ним, обезьяна не вернется омрачить жизнь Деннису или Питу. Обезьяна исчезла – быть может, упокоилась на крыше или капоте «студебекера» Эймоса Каллигена на дне Кристального озера. Исчезла навсегда.
Он греб, нагибаясь вперед и откидываясь назад. Вновь раздался этот хрустящий треск, и теперь ржавая банка из-под лярда, валявшаяся на носу лодки, плавала в воде, поднявшейся на три дюйма. В лицо Хэла летели брызги. Снова хруст, гораздо более громкий: носовая скамья разлетелась на два куска, и они поплыли рядом с ржавой банкой для наживки. От левого борта оторвалась доска, а затем другая – от правого борта у самой ватерлинии. Хэл греб и греб. Горячее сухое дыхание шелестело у него во рту, а затем из его глотки поднялся медный привкус усталости. Ветер ерошил слипшиеся от пота волосы.
Теперь трещина пробежала по всему дну лодки, образовала зигзаг у него между ступнями и устремилась к носу. Вода взметнулась фонтаном, поднялась до голеней, лизнула колени. Он греб и греб, но лодка уже почти не продвигалась вперед. Он не осмеливался оглянуться на берег, проверить, насколько до него далеко.
Оторвалась еще доска. Трещина, разделившая дно, начала разветвляться точно молодое деревце. Вода заполняла лодку. Хэл со всей мочи налегал на весла, хрипя, все больше задыхаясь. Гребок, второй… а на третьем вырвались обе уключины. Одно весло он упустил, но вцепился в другое, встал и начал загребать им воду. Лодка качнулась, чуть было не перевернулась и опрокинула его назад на скамью.
Еще несколько досок отлетели, скамья переломилась, и он погрузился плашмя в воду между бортами, изумившись тому, какая она ледяная. Он попытался встать на колени, с отчаянием думая: «Пит не должен увидеть этого, увидеть, как утонет его отец у него на глазах. Плыви! По-собачьи, если иначе не умеешь, но не жди, плыви…»
Раздался еще один треск – оглушительный, – и он уже плыл к берегу, плыл, как никогда еще не плавал… а берег оказался на удивление близко. Еще минута – и он уже стоит, погруженный в воду по пояс, всего в пяти шагах от пляжа.
Пит, разбрызгивая воду, побежал к нему, крича, смеясь, плача. Хэл двинулся к сыну и потерял равновесие, Пит в воде по грудь забарахтался.
Они ухватились друг за друга.
Хэл, судорожно ловя ртом воздух, тем не менее подхватил мальчика на руки и выбрался с ним на пляж, где оба растянулись на песке, тяжело дыша.
– Пап? Ее больше нет? Этой противной обезьяны?
– Да, думаю, ее больше нет. И на этот раз – навсегда.
– А лодка развалилась. Она… взяла и развалилась вокруг тебя.
Хэл посмотрел на доски, покачивающиеся на воде футах в сорока от берега. Они ничем не напоминали крепкую, собранную вручную лодку, которую он вытащил из лодочного сарая.
– Теперь все хорошо, – сказал Хэл, опираясь на локти. Он зажмурил глаза и подставил лицо теплым лучам солнца.
– А тучущу ты видел? – шепнул Пит.
– Да, но теперь не вижу ее… а ты?
Они оба посмотрели на небо. По нему там и сям плыли пушистые облачка, но черной тучи нигде не было. Она исчезла, как он и сказал.
Хэл поднял Пита и поставил на ноги.
– В доме есть полотенца. Пошли! – Но он остановился, глядя на сына. – Ты просто с ума сошел: надо же вот так броситься в воду.
Пит поглядел на него очень серьезно.
– Ты такой храбрый, папа.
– Неужели? – Мысль о храбрости не приходила ему в голову. Был только страх. Такой огромный страх, что он заслонял все остальное. Если было что заслонять. – Пошли, Пит?
– А маме мы что скажем?
Хэл улыбнулся.
– Понятия не имею, парень. Что-нибудь сочиним.
Он еще помедлил, глядя на доски, плавающие в воде. Озеро опять стало почти зеркальным. Легкая рябь искрилась и блестела. Внезапно Хэл подумал о людях, приезжающих летом на озеро, людях, ему не известных. Возможно, отец с сыном забрасывают спиннинги на самых крупных. «У меня клюет, папа!» – кричит мальчик. «Ну так подсекай! Посмотрим твою добычу», – говорит отец, и из глубины возникает, волоча водоросли на тарелках, ухмыляясь своей жуткой приветственной ухмылкой… обезьяна.
Он вздрогнул… но это же было только предположение…
– Пошли, – снова сказал он Питу, и они зашагали вверх по тропинке через пламенеющий октябрьский лес к старому родному дому.
Из «Бриджтон ньюс»
24 октября 1980
Бетси Мориерти
ТАЙНА ПОГИБШЕЙ РЫБЫ
В конце прошлой недели сотни погибших рыб, плавающих брюхом вверх, были замечены в Кристальном озере в окрестностях городка Каско. Наибольшее количество, видимо, погибло возле Охотничьего мыса, хотя течения не позволяют установить это с полной точностью. Среди погибших рыб были все виды, водящиеся в озере: ушастые окуни, щуки, черные окуни, карпы, сартаны, радужная форель и даже один не вернувшийся в море лосось. Специалисты в полном недоумении…
Возвратившийся Каин
[5]
С яркого майского дня Гарриш вошел в прохладу общежития. Какое-то время его глаза привыкали к сумраку холла, так что поначалу он лишь услышал голос Гарри Бобра, донесшийся из тени.
– Жуткий предмет, не правда ли? – спросил Бобер. – Действительно жуткий.
– Да, – кивнул Гарриш. – Крепкий орешек.
Теперь его глаза различали Бобра. Тот тер прыщи на лбу, а мешки под глазами блестели от пота. Одет он был в сандалии на босу ногу и футболку. На груди висел значок-кнопка, гласящий, что Хоуди Дуди – извращенец. В полумраке белели громадные передние зубы Бобра.
– Я собирался сдать его еще в январе, – бубнил Бобер. – Говорил себе, что надо сдавать, пока есть время, но вот дотянул до последнего. Думаю, я провалил экзамен, Курт. Честное слово.
В углу, у почтовых ящиков, стояла комендантша. Невероятно высокая женщина, чем-то похожая на Рудольфа Валентино. Одной рукой она пыталась вернуть лямку бюстгальтера под платье, другой прикрепляла к доске объявлений какую-то бумажку.
– Тяжелый случай, – вздохнул Гарриш.
– Я хотел тебя кое о чем спросить, но не решился, потому что у этого парня глаза, как у орла. Ты думаешь, что опять получишь «А»?
– Я думаю, что, возможно, завалил экзамен.
У Бобра отвисла челюсть.
– Ты думаешь, что завалил? Ты думаешь, что…
– Я пойду приму душ, ладно?
– Да, конечно, Курт. Конечно. Это был твой последний экзамен.
– Да, это был мой последний экзамен, – эхом отозвался Гарриш.
Он пересек холл, толкнул дверь и стал подниматься по лестнице. Пахло там, как в мужской раздевалке. Сколько же лет ходили по этим ступеням! Его комната находилась на пятом этаже.
Куин и другой идиот с третьего этажа, с волосатыми ногами, протиснулись мимо него, перекидываясь футбольным мячом. Заморыш в очках в роговой оправе, еле волочащий ноги, попался ему между четвертым и пятым этажами. Учебник по алгебре он прижимал к груди, словно Библию, а губы его повторяли шепотом логарифмы. Глаза парня были пусты, как чисто вымытая классная доска.
Гарриш остановился и посмотрел ему вслед, гадая, а не показалась бы этому убогому смерть благом, но, пока он раздумывал, заморыш уже скрылся из виду. Гарриш поднялся на пятый этаж и направился к своей комнате. Свин уехал два дня назад. Четыре экзамена за три дня, пам-бам, мерси, мадам. Свин знал, как ухватить жизнь за шкирку. От него остались только фотографии красоток, два вонючих носка от разных пар да керамическая пародия на «Мыслителя» Родена, сидевшего, по воле подражателя гению, на унитазе.
Гарриш вставил ключ в замочную скважину.
– Курт! Эй, Курт!
Роллингс, тупорылый старший по этажу, который отправил Джимми Броуди к декану за пьянку, махал ему рукой с лестничной площадки. Высокий, хорошо сложенный, с короткой стрижкой.
– Ну как, развязался? – спросил Роллингс.
– Да.
– Не забудь подмести пол и составить список разбитого и неработающего, ладно?
– Сделаем.
– Бланк я подсунул тебе под дверь в прошлый вторник, не так ли?
– Было дело.
– Если меня в комнате не будет, подсунешь заполненный бланк и ключ мне под дверь, хорошо?
– Обязательно.
Роллингс схватил его за руку и дважды тряхнул. Рука у Роллингса была сухая, кожа – шершавая. Гарриш словно провел ладонью по рассыпанной по столу соли.
– Веселого тебе лета, парень.
– Спасибо.
– Только не перетрудись.
– Ладно.
– Поработать можно, но главное – не перетрудиться.
– Буду иметь в виду.
Роллингс окинул Гарриша взглядом, рассмеялся.
– Тогда счастливо тебе.
Он хлопнул Гарриша по плечу и двинулся дальше, задержавшись у комнаты Рона Фрейна, чтобы сказать тому, что стерео надо приглушить. Гарриш представил себе мертвого Роллингса, лежащего в канаве. По его глазам ползали мухи. Роллингса это не волновало. Мух – тоже. Или ты ешь мир, или мир ест тебя, третьего не дано.
Гарриш постоял, пока Роллингс не скрылся из виду, потом вошел в комнату.
Со Свином пропал и сопутствующий ему бардак, так что комната выглядела пустой и стерильной. От груды вещей на кровати Свина остался один матрас. А со стены лыбились две двухмерные красотки с разворотов «Плейбоя».
А вот половина комнаты, которую занимал Гарриш, совсем не изменилась, там всегда поддерживался казарменный порядок. Если б кто бросил четвертак на его кровать, он отскочил бы от натянутого одеяла. Такая аккуратность просто бесила Свина. Он защищался по английскому языку и литературе, и с чувством слова у него все было в порядке. Гарриша он называл бюрократом. Пустую стену за кроватью Гарриша украшал лишь постер Хамфри Богарта, который он купил в книжном магазине колледжа. Боджи, в подтяжках, держал в каждой руке по автоматическому пистолету. Свин еще заявил, что пистолеты и подтяжки – символы импотенции. Гарриш сомневался, что Боджи – импотент, хотя ничего о нем и не читал.
Он подошел к стенному шкафу, открыл дверцу, достал карабин («магнум», калибр 352) с прикладом из орехового дерева, подаренный ему на Рождество отцом, методистским священником. Телескопический прицел к карабину Гарриш купил сам, в марте.
Действующие в колледже инструкции не допускали хранения оружия, даже охотничьих карабинов, в комнатах общежития, но контролировались они не очень жестко. Вот и Гарриш забрал карабин из камеры хранения днем раньше, самолично расписавшись на бланке-разрешении на выдачу оружия. Карабин он уложил в водонепроницаемый чехол и спрятал в лесу за футбольным полем. А в три часа утра сходил за ним и принес в свою комнату. Благо все спали и его никто не заметил.
Гарриш посидел на кровати, положив карабин на колени, поплакал. «Мыслитель» смотрел на него с туалетного сиденья. Гарриш положил карабин на кровать, поднялся, подошел к столу Свина, взял керамическую статуэтку и хряпнул об пол. И тут же в дверь постучали.
Гарриш спрятал карабин под кровать.
– Входите.
Вошел Бейли, в одних трусах. Из пупка торчала вата. Вот уж у кого не было будущего. Женится Бейли на глупой женщине, народятся у них глупые дети. А потом он умрет от рака или инфаркта.
– Как химия, Курт?
– Нормально.
– Слушай, а конспекты не одолжишь? У меня экзамен завтра.
– Сжег их сегодня утром.
– Ну надо же! Господи, это проделки Свиньи? – Он указал на остатки «Мыслителя».
– Наверное.
– Зачем он это сделал? Мне нравилась эта вещица. Я собирался купить ее у него. – Острыми чертами лица Бейли напоминал Гарришу крысу. А трусы у него были старые, заштопанные. Гарриш легко представил его умирающим от эмфиземы в кислородной палатке. Пожелтевшего. Я мог бы избавить тебя от мук, подумал Гарриш.
– Как ты думаешь, он не будет возражать, если я позаимствую этих крошек?
– Пожалуй, что нет.
– Хорошо. – Бейли пересек комнату, осторожно переступая босыми ногами через осколки, снял плейбойских девочек. – И Богарт у тебя отличный. Пусть без буферов, но все равно есть на что посмотреть. Понимаешь? – Бейли уставился на Гарриша, ожидая, что тот улыбнется, а когда его надежды не оправдались, добавил: – Как я понимаю, выкидывать этот постер ты не собираешься?
– Нет. Я собираюсь принять душ.
– Конечно, конечно. Веселого тебе лета, на случай если больше не увидимся, Курт.
– Спасибо.
Бейли двинулся к двери, трусы свободно болтались на тощей заднице. Остановился, взявшись за ручку.
– Еще один семестр позади, Курт?
– Похоже на то.
– Отлично. Увидимся осенью.
Бейли вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Гарриш посидел на кровати, потом достал карабин, разобрал, почистил. Приложился глазом к дулу, посмотрел на световую точку в дальнем конце. Ствол чист. Собрал карабин.
В третьем ящике комода лежали три тяжелые коробки с патронами. Гарриш положил их на подоконник. Запер дверь, вернулся к окну, поднял жалюзи.
Залитую солнцем зеленую лужайку оккупировали студенты. Куин и его идиот приятель гоняли мяч, носились взад-вперед как заведенные, словно муравьи перед замурованной норой.
– Вот что я тебе скажу, – обратился Гарриш к Боджи. – Бог разозлился на Каина, потому что Каин почему-то принимал Бога за вегетарианца. Его брат знал, что это не так. Бог сотворил мир по Своему образу и подобию, и, если ты не можешь съесть мир, мир сожрет тебя. Вот Каин и спрашивает у брата: «Почему ты мне этого не сказал?» А брат отвечает: «А почему ты не слушал?» И Каин говорит: «Ладно, теперь слушаю». А потом как звезданет братца и добавляет: «Эй, Бог! Хочешь мяса? Давай сюда! Тебе вырезку, или ребрышки, или авельбургер?» Вот тут Бог и прогнал его. И… что ты думаешь по этому поводу?
Боджи ничего не ответил.
Гарриш поднял раму, уперся локтями в подоконник, так, чтобы ствол «магнума» не высовывался из окна и не блестел на солнце. Прильнул к окуляру телескопического прицела.
Повел карабином в сторону женского общежития «Карлтон мемориэл», больше известного среди студентов как «Собачья конура». Поймал в перекрестье большой «форд-пикап». Аппетитная студентка-блондинка в джинсах и голубеньком топике о чем-то разговаривала с матерью. Отец, краснорожий, лысеющий, укладывал чемоданы на заднее сиденье.
Кто-то постучал в дверь.
Гарриш замер.
Стук повторился.
– Курт? Может, поменяешь на что-нибудь плакат Богарта?
Бейли.
Гарриш промолчал. Девушка и мать над чем-то смеялись, не подозревая о микробах, живущих в их внутренностях, паразитирующих в них, плодящихся. Отец девушки присоединился к ним, и теперь они стояли втроем, залитые солнечным светом, семейный портрет в перекрестье.
– Черт побери, – донеслось из-за двери. Послышались удаляющиеся шаги.
Гарриш нажал на спусковой крючок.
Приклад ударил в плечо, сильный, тупой толчок, какой бывает, когда затыльник установлен как должно. Улыбающуюся головку блондинки как ветром сдуло.
Мать какое-то мгновение еще продолжала улыбаться, потом ее рука поднялась ко рту. Она закричала, не убирая руки. В нее Гарриш и выстрелил. И кисть, и голова исчезли в красном потоке. Мужчина, который засовывал чемоданы на заднее сиденье, попытался убежать.
Гарриш прикончил его выстрелом в спину. Поднял голову, оторвавшись от прицела. Куин держал в руках мяч и смотрел на мозги блондинки, заляпавшие знак СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА. Тело лежало под знаком. Куин не шевелился. Замерли все, кто находился на лужайке, словно дети, игравшие в колдунчиков.
Внезапно кто-то забарабанил в дверь, начал дергать за ручку. Опять Бейли.
– Курт? С тобой все в порядке, Курт? По-моему, кто-то…
– Хороша вода, хороша еда, велик наш Бог, не упусти кусок! – проорал Гарриш и выстрелил в Куина. Дернул спусковой крючок, вместо того чтобы плавно потянуть, и не попал. Куин уже бежал. Невелика беда. Следующий выстрел достал Куина в шею, и тот пролетел футов двадцать.
– Курт Гарриш застрелился! – раздался за дверью вопль Бейли. – Роллингс! Роллингс! Скорее сюда!
Его шаги замерли в конце коридора.
Теперь побежали все. Гарриш слышал их крики, слышал звук шагов по дорожкам.
Он взглянул на Боджи. Боджи сжимал в руках пистолеты и смотрел поверх него. Он взглянул на осколки «Мыслителя» Свина и подумал, чем занят сейчас Свин: спит, сидит перед телевизором или ест что-нибудь вкусненькое? Ешь мир, Свинья, подумал Гарриш. Заглатывай его целиком, без остатка.
– Гарриш! – Теперь в дверь барабанил Роллингс. – Открывай, Гарриш!
– Дверь заперта! – пискнул Бейли. – Он так хреново выглядел, он застрелился, я знаю.
Гарриш вновь выставил ствол карабина в окно. Парень в цветастой рубашке прятался за кустом, тревожно оглядывая окна общаги. Он хотел бы убежать, Гарриш это видел, да ноги не слушались.
– Велик наш Бог, не упусти кусок, – пробормотал Гарриш, нажимая на спусковой крючок.
Короткая дорога миссис Тодд
[6]
– Вон поехала жена Тодда, – сказал я.
Хоумер Бакланд посмотрел на движущийся мимо маленький «ягуар» и кивнул. Женщина помахала ему рукой. Хоумер снова кивнул большой косматой головой, но рукой в ответ не махнул. У семьи Тоддов был большой летний дом на берегу Касл-Лейк, и он присматривал за ним с незапамятных времен. У меня создалось впечатление, что ко второй жене Уэрта Тодда Хоумер относится настолько же неприязненно, насколько хорошо он относился к его первой жене, Офелии Тодд.
Этот разговор произошел два года назад. Мы сидели на скамейке перед магазином «Беллс»: я с апельсиновой газировкой, Хоумер со стаканом минеральной воды. В октябре в Касл-Роке спокойно. Кое-где в коттеджах на берегу озера по выходным еще бывают люди, но агрессивная, хмельная летняя круговерть к этому времени уже заканчивается. Охотники же с их большими ружьями и дорогими лицензиями, приколотыми к оранжевым шапкам, приезжают обычно позже. Урожай почти везде уже убран. Ночами бывает прохладно, и от этого хорошо спится, а мои старые суставы в октябре еще не ноют. Небо над озером в это время более или менее чистое, с медленно ползущими большими белыми облаками. Мне всегда нравилось, что они такие плоские снизу и серые, словно предзакатная тень. Я могу долго смотреть, как солнце отражается в водах озера, и это никогда мне не надоедает. Именно в октябре, сидя на скамейке перед «Беллс» и глядя на далекое озеро, я чаще всего жалею, что мне уже нельзя курить.
– Она гоняет не так быстро, как Офелия, – сказал Хоумер. – Меня всегда удивляло, что у женщины, которая действительно умеет выжать из машины столько, сколько она, такое старомодное имя.
Люди вроде Тоддов, те, что приезжают на лето, на самом деле интересуют нас, постоянных жителей городков штата Мэн, гораздо меньше, чем они думают. Постоянные жители предпочитают свои собственные истории о любви и ненависти, свои скандалы и слухи о скандалах. Когда тот тип, что разбогател на текстиле, застрелился, Эстонию Корбридж с ее рассказом о том, как она нашла его и как он все еще сжимал пистолет в коченеющей руке, приглашали на ланчи всего неделю или около того. Зато о Джо Камбере, которого загрызла его же собственная собака, люди говорят до сих пор.
Но это не важно. Просто мы с ними бежим по разным дорожкам. Летние приезжие, они – рысаки, а мы – те, кто не тянет лямку и не надрывается, иноходцы. Но даже при всем при этом местных сильно всколыхнуло, когда в 1973 году Офелия Тодд исчезла. Женщина она была по-настоящему милая и много сделала для нашего городка. Офелия собирала средства для библиотеки, помогала приводить в порядок военный мемориал и все такое. Правда, летние все любят сборы средств. Стоит упомянуть про сбор денег, как у них загораются и начинают блестеть глаза. Они создают комитет, назначают секретаря и составляют повестку дня. Им это нравится. Но попробуйте вы упомянуть время (если это не время, потраченное на большое шумное сборище, заседание комитета вперемежку с коктейлями), и у вас ничего не выйдет. Ценнее времени для них, похоже, ничего нет. Они его экономят, и, я думаю, если б можно было его консервировать в банках, они бы и этим занялись. Офелия, однако, никогда не жалела своего времени: она не только собирала деньги для библиотеки, но еще и дежурила там. Когда понадобилось драить и чистить военный мемориал, Офелия в халате и с убранными под платок волосами оказалась среди местных женщин, чьи сыновья погибли в трех различных войнах. А когда надо было возить детей на занятия плаванием, вы не реже других могли видеть ее за рулем большого сверкающего пикапа Уэрта Тодда с полным кузовом ребятишек. Хорошая женщина. Не наша, но хорошая. И когда она исчезла, люди заволновались. Хотя горевать никто, пожалуй, не горевал, потому что исчезновение и смерть – вещи разные: когда кто-то умирает – это как отрублено топором, а тут скорее похоже на то, как утекает вода в раковину, но так медленно, что ты понимаешь это, когда только все утекло.
– «Мерседес» она водила, – произнес Хоумер, словно отвечая на вопрос, которого я не задавал. – Двухместку спортивную. Тодд его купил для нее году в шестьдесят четвертом или шестьдесят пятом. Помнишь, она возила ребятишек все эти годы, пока у них были занятия? Эти «Лягушки и головастики»?
– Угу.
– Она никогда не выжимала с ними больше сорока, поскольку ребятишки сидели в кузове. Но медленная езда ее всегда раздражала. Про таких говорят «свинцовая нога и подшипник в пятке».
Раньше Хоумер никогда не рассказывал про «своих» летних людей. Но потом умерла его жена. Пять лет назад это случилось. Она перепахивала крутой склон, и трактор опрокинулся вместе с ней. Хоумер тяжело переносил утрату. Года два он горевал, но потом вроде немного отошел. Хотя прежним уже не стал. Похоже было, что он ждал чего-то, ждал своего часа. Проходишь в сумерках мимо его аккуратного маленького дома, а он сидит на веранде весь в дыму, стакан минеральной стоит на перилах, в глазах отражается закатное солнце, и подумаешь – я по крайней мере всегда думал, – Хоумер ждет своего часа. Меня это беспокоило гораздо больше, чем я хотел себе признаться. В конце концов я решил, что на его месте я не стал бы ждать чего-то, словно напяливший костюм и наконец-то завязавший правильно галстук жених, который сидит теперь на краю постели в своей комнате на втором этаже и глядит то на себя в зеркало, то на часы над камином, дожидаясь одиннадцати, когда его должны женить. На его месте я не стал бы ждать своего часа, я ждал бы последнего часа.
Но в течение этого периода выжидания, который закончился, когда Хоумер годом позже уехал в Вермонт, он иногда рассказывал о Тоддах. Мне и еще нескольким людям.
– Насколько я знаю, она даже с мужем никогда не ездила быстро. Но когда с ней сидел я, «мерседес» у нее разве что не взлетал.
В этот момент кто-то подъехал к колонке и начал заправлять бак. На машине стоял номерной знак штата Массачусетс.
– Эти новые спортивные машины, которые жгут дорогущий бензин и подпрыгивают каждый раз, когда ты нажмешь на газ, совсем не то. У нее был старый «мерседес» со спидометром, прокалиброванным аж до ста шестидесяти, странного коричневого оттенка. Я как-то спросил у нее, как называется такой цвет, и она сказала, что это «шампань». «Блеск!» – отреагировал я, и она смеялась тогда до упаду. Мне, знаешь, нравятся женщины, которые смеются, когда им не надо объяснять, где смеяться.
Человек у колонки заправил машину.
– Добрый день, джентльмены, – сказал он, приближаясь к ступенькам.
– Добрый день, – ответил я, и он зашел в магазин.
– Офелия всегда искала, где срезать дорогу, – продолжал Хоумер, как будто нас и не прерывали. – Она просто помешалась на коротких дорогах. Я, признаться, никогда этого не понимал. Но она говорила, что сэкономить расстояние – это все равно что сэкономить время. Говорила, что по этому закону жил ее отец. Он был коммивояжером, всегда в пути. Когда ей удавалось, она отправлялась с ним, и он всегда искал короткие маршруты. У нее это тоже вошло в привычку. Я ее как-то спросил: не странно ли, что она сначала тратит время, отдраивая эту старую статую на площади, или возит малышей на занятия плаванием вместо того, чтобы купаться, играть в теннис и надираться, как все нормальные летние, а потом так заводится из-за возможности сэкономить пятнадцать минут по дороге отсюда до Фрайберга, что мысли об этом, возможно, не дают ей спать ночью? Мне казалось, что все это не очень вяжется друг с другом, если ты понимаешь, о чем я. Но она посмотрела на меня и сказала:
«Я люблю помогать кому-нибудь, Хоумер. И я люблю водить машину, по крайней мере когда для меня это вызов, но мне жаль времени, которое уходит на дорогу. Это как с одеждой, которую нужно починить: можно застрочить складку, а можно эту вещь просто отдать. Ты понимаешь?»
«Вроде бы да, миссус», – сказал я, все еще сомневаясь.
«Если бы я считала, что лучше, чем сидеть за рулем постоянно, ничего нет, я бы выбирала дороги подлиннее», – пояснила она, и мне стало так смешно, что я рассмеялся в голос.
Из магазина вышел приезжий из Массачусетса. В одной руке он держал упаковку с шестью банками пива, в другой – несколько лотерейных билетов.
– Удачного вам выходного, – сказал Хоумер.
– Они у меня всегда здесь удачные, – ответил приезжий. – Хотел бы я, чтобы мог позволить себе жить тут круглый год.
– Ну, мы тут постараемся сохранить все как есть до тех пор, когда вам это удастся, – сказал Хоумер, и приезжий рассмеялся.
Когда он отъезжал, я снова обратил внимание на массачусетский номерной знак. Зеленый знак. Моя Марсия говорила, что такие выдаются Массачусетским бюро регистрации тем водителям, у которых за два года не было ни одного дорожного происшествия в этом странном, озлобленном, раздраженном штате. Если же что-то случалось, то выдавали красные, чтобы люди видели вас на дороге и вели себя осторожно.
– Знаешь, они были из нашего штата, оба, – сказал Хоумер, словно отъехавшая машина из Массачусетса напомнила ему об этом.
– Знаю, похоже.
– Тодды – единственные, пожалуй, наши птицы, которые зимой улетают на север. Эта, новая – она, я думаю, не особенно любит туда летать.
Он отхлебнул минеральной и замолчал, задумавшись.
– Офелия, однако, не возражала, – продолжал Хоумер. – Я по крайней мере думаю, что не возражала, хотя иногда она по этому поводу жаловалась. Вроде как объясняла, почему она все время ищет дороги покороче.
– Ты хочешь сказать, что ее муж не возражал, когда она таскалась по всем этим просекам отсюда до Бангора только для того, чтобы узнать, где тут можно срезать девять десятых мили?
– Ему было наплевать, – коротко ответил Хоумер, поднялся и пошел в магазин.
«Ну вот, Оуэнс, – сказал я себе, – знаешь ведь, что, когда он рассказывает, вопросов лучше не задавать, но все-таки взял и спросил и обломал историю, которая, кажется, неплохо складывалась».
Я продолжал сидеть, подставив лицо солнцу. Минут через десять Хоумер вышел, держа в руке вареное яйцо, сел и принялся есть. Я молчал. Вода в Касл-Лейк отсвечивала голубизной такой удивительной, словно это не вода вовсе, а что-то драгоценное. Хоумер доел яйцо, отхлебнул минеральной и продолжил рассказ. Я, конечно, удивился, но ничего не сказал: уж это было бы совсем глупо.
– Они держали несколько машин, – сказал он. – «Кадиллак», его грузовик и ее маленький чертенок «мерседес». Пару раз зимой он оставлял грузовик здесь, потому что они собирались приехать покататься на лыжах. Обычно же, когда лето кончалось, он брал «кадди», а она возвращалась на своем чертенке.
Я кивнул, по-прежнему не произнеся ни слова. По правде сказать, я боялся ляпнуть еще чего-нибудь, хотя позже понял, что в тот день, чтобы Хоумер Бакланд замолчал, его потребовалось бы перебивать очень часто. Ему, видимо, уже давно хотелось рассказать эту историю о короткой дороге миссис Тодд.
– В ее машине даже стоял специальный одометр, который показывал, сколько миль машина проехала. Отправляясь из Касл-Рока в Бангор, она каждый раз выставляла его на 000,0 и замеряла путь. Это было для нее чем-то вроде игры, и она меня порой подзуживала.
Хоумер замолчал, что-то обдумывая.
– Хотя, пожалуй, нет…
Он снова умолк, и на лбу у него появились тонкие морщинки, похожие на ступеньки.
– Офелия делала вид, что это для нее игра, но на самом деле она относилась к дороге очень серьезно. По крайней мере так же серьезно, как ко всему остальному. – Хоумер махнул рукой, и я думаю, он имел в виду ее мужа. – В ее машине в отделении для перчаток всегда лежало множество карт, и сзади, где у обычной машины второе сиденье, тоже валялись карты. Карты с заправочными станциями, страницы из дорожного атласа, несколько карт из путеводителя по Аппалачам и целая куча топографических планшетов. Я говорю, что она всерьез занималась этим делом, не потому что у нее было столько карт, а из-за того, как она все время вычерчивала в них свои маршруты, отмечая дороги, которыми уже ездила или пыталась проехать. Несколько раз она, случалось, застревала, и ей приходилось просить помощи у какого-нибудь фермера с трактором. Как-то раз я у них облицовывал плиткой ванную и просидел там целый день: раствор получился жидкий и лез изо всех щелей. Мне в ту ночь только и снились одни квадраты да щели, из которых сочится раствор. Так вот, я сижу работаю, а она остановилась в дверях и начала рассказывать. Я сначала подтрунивал над ней, но потом мне тоже вроде как стало интересно. Не только из-за того, что мой брат Франклин жил в пригороде Бангора и я ездил туда почти всеми теми дорогами, о которых она рассказывала. Мне стало интересно, потому что я из тех, кому обязательно нужно знать, где можно срезать, хотя я и не всегда, может быть, такой дорогой воспользуюсь. У тебя, наверно, тоже так?
– Угу, – сказал я.
Зная короткий путь, ты уже обладаешь какой-то силой, даже если ты специально поедешь дальней дорогой, потому что, например, знаешь: дома сидит теща. Уметь быстро добраться – это, может, и ни к чему вовсе, хотя вряд ли кто-нибудь из Массачусетса думает так же. Но знать, как быстро добраться, или даже знать, как добраться такой дорогой, которой человек, сидящий рядом с тобой, еще не ездил, – это сила…
– Дороги она знала, как бойскаут морские узлы, – сказал Хоумер и улыбнулся своей широкой солнечной улыбкой. – Она тогда сказала мне: «Я сейчас, через минуту…», совсем как девчонка, и я слышал, что она за стеной копается в столе. Потом вернулась со своей маленькой записной книжкой в руках. Знаешь, такая… со спиралью сбоку… По виду судить, так ее таскали с собой, наверно, лет сто: обложка вся затрепанная, странички выпадают…
«Уэрт ездит – да и все остальные ездят – по дороге номер 97 до Меканик-Фолс, потом по дороге номер 11 до Льюистона и оттуда по шоссе до Бангора. 156,4 мили».
Я кивнул.
«Если хочешь миновать дорожную заставу – и сэкономить расстояние, – тогда нужно ехать до Меканик-Фолс, дорогой номер 11 до Льюистона, дорогой номер 202 до Огасты, потом дорогой номер 9 через Чайна-Лейк, Юнити и Хэвен до Бангора. Получится 144,9 мили».
«Так вы время не сэкономите, миссус, особенно если ехать через Огасту. Хотя, надо признать, маршрут по Олд-Дерри-роуд до Бангора очень неплох».
«Сэкономишь расстояние – сэкономишь время, – сказала она. – И я же не говорю, что поеду именно так, хотя несколько раз я так тоже ездила. Я просто перечисляю маршруты, которыми люди обычно пользуются. Продолжать?»
«Нет, уж лучше я пойду сидеть в этой чертовой ванной и пялиться на эти чертовы щели, пока совсем не рехнусь».
«Всего есть четыре главных маршрута, – сказала она. – По дороге номер 2 получается 163,4 мили. Я однажды пробовала – слишком долго».
«Вот таким маршрутом я и поехал бы, если б жена позвонила и сказала, что к ужину ничего не приготовила», – пробормотал я вполголоса.
«Что-что?»
«Нет, ничего, – сказал я. – Заговариваю раствор».
«Ладно. Четвертый маршрут – и о нем не многие знают, хотя там тоже неплохая дорога, по крайней мере асфальтированная – идет через Пик Пятнистой Птицы по дороге номер 219 с выездом на номер 202 уже за Льюистоном. Дальше дорогой номер 19 в объезд Огасты, потом Олд-Дерри-роуд. Всего 129,2 мили».
Я какое-то время молчал. Она, видимо, решила, что я ей не поверил, и добавила с вызовом: «Я знаю, в такое трудно поверить, но это действительно так». Я сказал, что, наверно, она права, и, подумав, решил, что так оно и есть. Потому что именно этой дорогой я ездил в Бангор навещать Франклина, когда тот еще был жив. С тех пор, однако, минуло несколько лет… Как ты думаешь, Дейв, может человек просто… забыть дорогу?
Я подумал и сказал, что такое бывает. Думать про хорошее шоссе труда не составляет. Через какое-то время оно просто оседает в памяти, и люди начинают думать не о том, как вообще добраться из одного места в другое, а о том, как добраться к выезду на шоссе, с которого можно быстрее попасть туда, куда нужно. Повсюду есть запущенные, заброшенные дороги. Дороги с каменистыми осыпями по сторонам, настоящие дороги, где по краям растет ежевика, которую некому есть, кроме птиц. Или карьеры, засыпанные гравием, со старыми, ржавыми, провисшими цепями перед въездом, заброшенные карьеры, поросшие травой, забытые, как старые детские игрушки. Забытые всеми, кроме людей, которые живут поблизости и думают только о том, как бы скорее выбраться оттуда на шоссе. У нас в штате Мэн любят шутить, что тут «не проедешь, не пройдешь», но, может быть, это не очень хорошая шутка. На самом деле всяких дорог здесь столько, что можно двигаться сотнями разных маршрутов. Просто никто не пробует.
Хоумер продолжал:
– Я довольно долго провозился с плиткой, сидя в этой маленькой, душной ванной, а она все это время стояла, скрестив ноги, в дверях – в шлепанцах на босу ногу, в юбке цвета хаки и чуть более темном свитере. Волосы она стянула «хвостом». Ей тогда было, пожалуй, тридцать четыре или тридцать пять, но лицо ее буквально светилось от того, что она мне рассказывала, и выглядела она, словно студентка, вернувшаяся домой на каникулы. Потом она, наверно, поняла, что уже долго стоит тут, молотит языком, и спросила, не надоела ли она мне.
«Да, мэм, – ответил я. – Ведь я всегда предпочитал общаться только с плиткой и раствором».
«Не остри, Хоумер», – сказала она.
«Нет, мэм, вы мне нисколько не надоели», – ответил я еще раз.
Она улыбнулась и принялась снова листать свою маленькую книжечку, словно разъезжий торговец, проверяющий заказы. Вдобавок к тем четырем основным маршрутам – на самом деле трем, поскольку дорогу номер 2 она оставила в покое после первого же раза – у нее было описано штук сорок разных вариантов, сочетаний основных маршрутов и множества всяких других дорог. Дороги с государственными номерами и без, дороги с названиями и какие-то безымянные просеки… У меня голова пошла кругом. Потом она наконец спросила:
«Хочешь, я расскажу про мой рекордный маршрут, Хоумер?»
«Пожалуй», – ответил я.
«Это пока самый мой рекордный маршрут, – продолжила она. – Ты знаешь, Хоумер, что в 1923 году в «Сайенс тудей» появилась статья, автор которой доказывал, что ни один человек не в состоянии пробежать милю быстрее чем за четыре минуты? Он доказал это с помощью всяческих вычислений, основанных на данных о максимальной длине мускулов на ногах человека, максимальном объеме легких, максимальной скорости работы сердца и еще бог знает чего. Меня эта статья просто захватила. Настолько захватила, что я отдала ее Уэрту и попросила передать профессору Мюррею с кафедры математики университета штата Мэн. Я хотела, чтобы эти выкладки проверили. Я была убеждена, что они либо исходят из ошибочных постулатов, либо еще что-нибудь. Уэрт, наверно, решил, что я веду себя глупо – как он говорит: «Офелия вбила себе в голову…» – но он все-таки согласился. Профессор Мюррей проверил выкладки довольно тщательно, и знаешь, что, Хоумер?»
«Нет, миссус».
«Цифры оказались правильными. Все, что автор постулировал, тоже. Еще в 1923 году он доказал, что человек не может пробежать милю быстрее чем за четыре минуты. Он доказал это. Но люди бегают быстрее, и ты знаешь, что это означает?»
«Нет, миссус», – ответил я, хотя уже начинал догадываться.
«Это означает, что ни один рекорд не вечен, – сказала она. – Когда-нибудь – если до тех пор мы не разнесем планету вдребезги – кто-нибудь пробежит милю на Олимпийских играх за две минуты. Это может случиться через сто лет или через тысячу, но обязательно случится. Потому что нет предельных рекордов. Есть ноль, есть бесконечность, есть смерть, но нет ничего предельного».
Она стояла совсем рядом. Чистое, холеное, сияющее лицо. Волосы стянуты назад. Всем своим видом она словно говорила: «Только попробуй не согласиться!» И я, конечно, не мог не согласиться. Потому что думаю примерно так же. Это нечто вроде того, что имеют в виду священники, когда говорят о благодати, разумея изящество и совершенство.
«Так ты хочешь, чтобы я рассказала про мой пока самый рекордный маршрут?» – спросила она.
Я сказал, что хочу, и даже перестал ляпать раствор на стену. Все равно я уже добрался до ванны, и мне остались одни только эти маленькие чертовы уголки. Она глубоко вздохнула и начала говорить быстро-быстро, как тот аукционер в Гейтс-Фолс, когда ему случалось перебрать. Я не помню все точно, но что-то в таком вот духе…
Хоумер Бакланд закрыл на секунду глаза. Руки его лежали на коленях совершенно неподвижно. Потом он поднял веки, и мне вдруг показалось, что он на какой-то миг стал вдруг похож на нее. Клянусь. Семидесятилетний старик стал похож на тридцатичетырехлетнюю женщину, похожую в такой же момент в свое время на двадцатилетнюю студентку, и из того, что он мне сказал, я тоже помню не больше, чем запомнил он, когда говорила Офелия. Не потому, что это было так сложно, а потому, что он меня так поразил своим видом, когда повторял ее слова:
– Нужно выезжать на дорогу номер 97, затем свернуть на Дентон-стрит до дороги к старой городской управе. Так ты объедешь пригороды Касл-Рока, но снова окажешься на дороге номер 97. Через девять миль можно срезать по старой просеке и через полторы мили оказаться на городской дороге номер 6, которая у мельницы выйдет на Биг-Андерсен-роуд. Там есть проезд, который старики называют Медвежьей тропой, и через него можно выехать на 219-й маршрут. А как только ты вылетаешь на другую сторону Пика Пятнистой Птицы, дуешь по Стэнхаус-роуд и сворачиваешь налево по Булл-Пайн-роуд. Там есть болотистые участки, но их легко проскочить, если хорошо разогнаться по гравию. Оттуда выезжаешь на дорогу номер 106. Она идет прямо через плантации к Олд-Дерри-роуд, и есть еще две или три лесные просеки, по которым можно выскочить на дорогу номер 3 сразу за больницей в Дерри. Оттуда всего четыре мили до дороги номер 2 в Энте, и ты уже в Бангоре.
Она остановилась перевести дух и посмотрела на меня.
«Знаешь, сколько все это получается в милях?»
«Нет, мэм». – Про себя я решил, что больше всего это похоже миль на 190 плюс четыре сломанные рессоры.
«116,4 мили», – сказала она.
Я рассмеялся. Смех у меня вырвался прежде, чем я успел подумать, что следовало бы мне помолчать, если я хочу дослушать историю до конца. Но Хоумер усмехнулся и кивнул.
– Вот-вот. И ты знаешь, Дейв, я ни с кем не люблю спорить. Но ладно, когда врут немного, а тут…
«Ты мне не веришь», – сказала она.
«В это трудно поверить, миссус».
«Пусть раствор отдыхает. Поехали, я тебе покажу. Там, за ванной, завтра доделаешь. Поехали, Хоумер. Уэрту я оставлю записку – он все равно сегодня к вечеру, может быть, не приедет, а своей жене ты можешь позвонить. Мы будем сидеть за обеденным столом в «Лоцман-Гриль» через… – она посмотрела на часы, – два часа сорок пять минут. И если я опоздаю хоть на минуту, я покупаю тебе бутылку ирландского виски. Мой отец был прав. Когда сэкономишь много миль, сэкономишь время, даже если для этого тебе придется пробираться через все лесные болота и канавы. Ну что скажешь?»
Она смотрела на меня своими карими глазами, светящимися, словно две лампы. Какой-то в них горел дьявольский огонь, а в улыбке на ее губах читалась та же самая бесшабашность. И скажу тебе, Дейв, мне очень хотелось поехать. Я бы даже не стал закрывать банку с раствором. Конечно, я не хотел вести эту дьявольскую машину: я бы просто сидел на втором сиденье и смотрел, как садится она. Юбка чуть сползает вверх, и она ее поправляет, а может быть, и нет. Волосы светятся…
Хоумер умолк и вдруг рассмеялся, сухо и саркастически. Этот смех напоминал выстрелы из ружья, заряженного солью.
– Позвонить Меган и сказать: «Ты помнишь Офелию Тодд, ту самую, из-за которой ты настолько извелась от ревности, что не можешь сказать о ней ни одного доброго слова? Так вот, мы с ней собрались рвануть на рекорд до Бангора в том самом ее «мерседесе» цвета «шампань». Ты уж меня к ужину не жди». Позвонить и сказать. Ну было бы дело! Ну было бы…
Он снова рассмеялся, держа руки по-прежнему на коленях, и на этот раз на лице его промелькнуло что-то вроде раздражения. Минуту спустя он взял с перил стакан с минеральной и отпил немного.
– Ты не поехал, – сказал я.
– В тот раз нет.
Он рассмеялся, но теперь смех его стал уже мягче.
– Она, должно быть, заметила что-то в моем лице, потому что вдруг как-то сразу снова стала сама собой. Перестала быть похожей на студентку и превратилась в Офелию Тодд. Потом взглянула в свою записную книжку, словно только что ее заметила, и положила рядом.
«Я бы с удовольствием, миссус, но мне надо закончить здесь, и потом жена готовит к ужину жареное мясо», – сказал я.
«Понимаю, Хоумер. Просто меня немного занесло. Со мной это частенько случается. Уэрт даже говорит, что постоянно. – Затем она вроде как выпрямилась и добавила: – Но предложение остается в силе. Так что я готова в любой момент. Поможешь в случае чего толкнуть машину, если мы где-нибудь застрянем. – Она рассмеялась. – Сэкономишь мне пять долларов».
«Я когда-нибудь вашим предложением воспользуюсь, миссус», – сказал я, и она поняла, что я сказал это серьезно, а не просто из вежливости.
«И прежде чем ты решишь, что сто шестнадцать миль до Бангора – цифра нереальная, возьми карту и проверь, сколько дотуда по прямой».
Я закончил с плиткой и отправился домой есть остатки вчерашнего ужина: никакого жареного мяса жена, разумеется, не готовила, и, я думаю, Офелия Тодд знала это. Когда Меган легла спать, я достал линейку, ручку, карту штата и занялся тем, что мне посоветовала Офелия. Все-таки как-то это меня захватило. Я прочертил прямую линию и подсчитал расстояние с учетом масштаба карты. Признаться, я был здорово удивлен. Потому что, если двигаться из Касл-Рока до Бангора по прямой, как летят птицы в ясный день – когда не нужно объезжать озера, огороженные участки леса, что принадлежат деревообрабатывающим компаниям, болота, когда можно пересекать реки там, где нет мостов, – получается, подумать только, всего семьдесят девять миль плюс-минус какая-то мелочь.
Я даже подпрыгнул на месте.
– Проверь сам, если не веришь, – сказал Хоумер. – Я, пока не убедился, тоже не думал, что штат Мэн так мал.
Хоумер отхлебнул еще минеральной и посмотрел на меня.
– Следующей весной Меган как раз уехала погостить к брату в Нью-Хэмпшир, а мне нужно было идти к дому Тоддов снимать зимние ставни и навешивать сетчатые экраны на окна и двери. Прихожу, а ее маленький «мерседес» уже там: Офелия приехала раньше мужа. Она подходит к дверям и говорит:
«Хоумер! Ты пришел навешивать экраны?»
А я возьми и ляпни:
«Нет, миссус, я пришел узнать, как насчет поездки в Бангор коротким маршрутом».
Она посмотрела на меня как-то невыразительно, и я уже подумал, что она забыла наш разговор. Чувствую, у меня лицо краснеет, знаешь, как вот когда ляпнешь что-нибудь не то. Собрался уже извиняться, но тут она улыбнулась той самой прежней улыбкой.
«Стой здесь, я сбегаю за ключами. И смотри не передумай!»
Через минуту она вернулась с ключами.
«Если мы застрянем, увидишь, где водятся комары размером со стрекозу».
«В Рэнгли, миссус, я видел комаров побольше воробья, – сказал я, – но, думаю, мы оба весим чуть-чуть больше, чем они могут с собой унести».
Она рассмеялась.
«Я тебя предупредила, Хоумер. Поехали!»
«Но если мы не доберемся до места через два часа сорок пять минут, – напомнил я, – вы собирались купить мне бутылку “Айриш Мист”».
Водительская дверца была открыта. Офелия еще не успела сесть и одной ногой стояла на земле. Она посмотрела на меня, потом сказала:
«Хоумер, черт побери, это уже старый рекорд. Я нашла дорогу еще короче. Мы будем в Бангоре через два с половиной часа. Забирайся в машину. Едем!»
Хоумер снова замолчал. Руки его лежали на коленях неподвижно, глаза потускнели. Может быть, внутренним взором он опять видел этот двухместный «мерседес» цвета «шампань», стоящий на крутом въезде к участку Тоддов.
– Она остановила машину у дороги и спросила, не передумал ли я.
«Погнали», – сказал я.
Она вдавила педаль газа, и после этого я не очень хорошо помню, что происходило дальше. Прошло немного времени, и я уже просто не мог оторвать глаз от нее. Что-то в ее лице появилось такое странное, Дейв, что-то дикое, свободное, и я даже испугался. Она была невероятно красива, и я буквально влюбился в нее. Кто угодно влюбился бы, любой мужчина и, может быть, даже любая женщина, но все-таки я ее немного боялся, потому что выглядела она так, словно могла убить силой взгляда, если бы глаза ее оторвались от дороги и она вдруг посмотрела бы на тебя, отвечая тем же чувством. На ней были джинсы и старая белая рубашка с закатанными рукавами – я еще подумал, когда пришел: наверно, мол, собиралась красить что-нибудь на террасе, – но спустя какое-то время мне начало казаться, что она окутана в белые одежды, словно богиня из какой-то старой книги.
Хоумер задумался, глядя на озеро, и лицо его потемнело.
– Как та охотница, которая гоняла по небу луну…
– Диана?
– Угу. Только вместо луны у нее была машина. Офелия выглядела для меня именно так, и я клянусь тебе, меня словно молнией поразило – так я в нее влюбился. Но я боялся даже шевельнуться, хотя лет мне было тогда поменьше, чем сейчас. Я бы, наверно, не прикоснулся к ней, будь мне всего двадцать… хотя в шестнадцать лет я бы, наверно, осмелился. И умер бы, посмотри она на меня с тем же чувством во взгляде, что испытывал тогда я.
Она казалась мне той женщиной, что преследует луну по всему небу, перегнувшись через край колесницы… Белые невесомые одежды бьются на ветру серебряной паутиной, и волосы отброшены назад, а на висках видны маленькие темные ямочки… Она гонит лошадей и кричит, не обращая внимания на то, как они дышат: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!»
Мы ехали какими-то лесными дорогами, и первые две или три я еще знал, но потом пошли совсем незнакомые. Надо полагать, все эти леса никогда не видели подобного зрелища: кроме грузовиков и снегоходов, туда никто, наверно, и не забирался. Ее маленький «мерседес» гораздо уместнее выглядел бы где-нибудь на бульваре, а не в лесу, где он пулей несся мимо деревьев, разбрызгивая из-под колес грязь, взбираясь на холмы, срываясь в лощины, пронизывая пыльные зеленые полосы прорывающегося сквозь кроны послеполуденного света. Верх машины Офелия откинула назад, и я ощущал запахи леса – старые, удивительные запахи чего-то забытого и нетронутого. Когда мы пролетали по уложенным кем-то в болотистых местах гатям, между бревнами сочилась черная грязь, и Офелия смеялась, как ребенок. Кое-где стволы совсем сгнили, потому что на некоторых из этих дорог люди – кроме Офелии, конечно, – не появлялись лет пять или десять. Мы были там одни, нас никто не видел – только птицы и какие-нибудь, может, звери. Кроме звука нашего мотора, то низко ревущего, то снова высокого, когда Офелия дергала ручку переключения передач, я не слышал ничего. И хотя я знал, что где-то недалеко есть люди – в наши дни уже не осталось совсем глухих мест, – мне начало казаться, будто мы провалились во времени и вокруг действительно никого, как если бы мы остановились и я влез на дерево, но увидел, что во все стороны только лес, лес и лес. А Офелия улыбалась и продолжала гнать машину; волосы ее развевались на ветру, глаза блестели. Мы вылетели на дорогу у Пика Пятнистой Птицы, и я понял, где мы, но она свернула, и сначала мне еще казалось, что я узнаю места, но потом я и думать про это забыл. Мы ехали по каким-то лесным просекам и вдруг выскочили, клянусь, на отличную мощеную дорогу с указателем «Автострада Б». Ты когда-нибудь слышал про дорогу в штате Мэн, которая называется «Автострада Б»?
– Нет, – ответил я. – По названию это что-то британское.
– Угу. И по виду тоже. Над дорогой всюду нависали кроны деревьев, что-то вроде ив. Офелия еще сказала: «Здесь осторожнее, Хоумер. Месяц назад одно из них чуть не выдернуло меня из машины. Веткой так хлестнуло, что остался ожог». Я сначала ее не понял и хотел уже переспросить, но тут заметил, что, хотя ветра и не было, ветви деревьев раскачиваются и пригибаются вниз. Внутри ветвей за зеленью угадывалось что-то черное и мокрое. Я глазам своим не верил, но потом одна из веток сорвала с меня кепку, и я понял, что мне это не снится.
«Эй, – крикнул я, – ну-ка отдай!»
«Поздно теперь, Хоумер, – сказала Офелия, смеясь. – Скоро выскочим на свет. Все в порядке».
Но тут еще одна ветка дернулась вниз, на этот раз с другой стороны, и попыталась ее схватить. Клянусь тебе. Офелия пригнулась, но ветка успела вцепиться ей в волосы и выдрала целый клок.
«У-у-у, больно!» – вскрикнула Офелия, но тут же засмеялась.
Машину чуть повело, когда она пригнулась, и я мельком увидел, что там творится в лесу. Боже правый, Дейв! Там все шевелилось, словно живое. Трава колыхалась, узловатые сросшиеся стволы будто корчили рожи. И я заметил какую-то тварь, сидящую на пне. Очень похожую на древесную лягушку, но только ростом с большого кота.
Потом мы выскочили из полумрака на вершину холма, и она сказала: «Ну как? Впечатляет?», словно мы всего лишь заглянули в «Дом с привидениями» на Фрайбургской ярмарке.
Минут через пять она свернула на еще одну лесную дорогу. Можешь поверить, мне уже лесных дорог было достаточно, но оказалось, что это обычная старая дорога. Спустя полчаса мы подъехали к стоянке у «Лоцман-Гриль» в Бангоре. Офелия ткнула пальцем в одометр и сказала:
«Взгляни, Хоумер».
Прибор показывал 111,6 мили.
«Ну как? Теперь ты поверил в мой короткий маршрут?»
Этот странный безудержный настрой почти оставил ее, и она снова превращалась в Офелию Тодд. Но оставил еще не совсем: она выглядела, как две женщины одновременно… Диана и Офелия. И та часть, которая была Дианой, настолько овладела ею, когда она вела машину по лесным дорогам, что сама Офелия и понятия не имела, по каким местам пролегал этот короткий маршрут. По местам, которых нет ни на одной карте штата Мэн, нет даже на тех топографических планшетах.
«Что ты думаешь о моей короткой дороге, Хоумер?» – снова спросила она.
Тут я, не подумав, ляпнул нечто такое, что в другое время при леди вроде Офелии Тодд сказать бы постеснялся. Она рассмеялась от души, и тогда только до меня дошло: она не заметила по пути ничего необычного. Ни ветку ивы, которая сорвала с меня кепку (хотя это была и не ива вовсе, а вообще неизвестно что), ни указателя «Автострада Б», ни эту мерзкую тварь, похожую на лягушку. Ничего этого она не помнила! Или мне приснилось, что все это было, или ей приснилось, что ничего не было. Точно я знал только, что мы проехали сто одиннадцать миль и оказались в Бангоре. Тут уж сомневаться не приходилось: цифры стояли в окошечке одометра, как говорится, черным по белому.
«Хотела бы я хоть раз вытащить на эту дорогу Уэрта, – сказала она, – но его из наезженной колеи можно выбить только взрывом, и то, наверно, для этого потребуется баллистическая ракета, потому что он в своей колее и бомбоубежище построил. Ладно, Хоумер, пошли затолкаем внутрь чего-нибудь съедобного».
Обед она мне устроила будь здоров, Дейв, но я почти не мог есть. Я все время думал о том, как мы поедем назад, потому что уже начинало темнеть. Посреди обеда Офелия извинилась и пошла звонить, потом вернулась и спросила меня, не отгоню ли я «мерседес» в Касл-Рок. Сказала, что разговаривала с какой-то женщиной, с которой они состояли в одном школьном комитете, и им что-то там надо обсудить. Сказала, что возьмет машину напрокат, если Уэрт не сможет захватить ее по дороге.
«Ты не сильно боишься возвращаться в темноте?» – спросила она меня и поглядела с этакой знающей улыбкой. Я сразу понял, что она все-таки кое-что помнит. Бог знает, сколько она помнила, но, видимо, достаточно, чтобы понимать, как мало мне хочется ехать ее маршрутом в темноте, да и днем тоже… Хотя по блеску в глазах я догадывался, что ее-то подобная поездка совсем не пугает.
Я сказал, что не боюсь, и к концу обеда настроение у меня улучшилось. Когда мы закончили, уже стемнело. Мы доехали с ней до дома той женщины. Офелия вышла из машины и с тем же самым блеском в глазах спросила:
«Ты уверен, что не хочешь меня подождать, Хоумер? Сегодня я приметила еще пару ответвлений дороги, и, хотя их нет на картах, я думаю, там несколько миль можно срезать».
«Я бы подождал, миссус, но в моем возрасте лучше всего спится в своей постели. Я отгоню машину, и на ней не прибавится ни одной вмятины, хотя, думаю, миль на счетчике набежит побольше, чем у вас».
Она рассмеялась, мягко так, и поцеловала меня. Наверно, это был самый лучший поцелуй за всю мою жизнь, Дейв. Она меня в щеку поцеловала, сдержанно, как целуют замужние женщины, но… Это как зрелый персик или как цветок из тех, что раскрываются ночью, и, когда ее губы коснулись моей щеки, я почувствовал себя… Я даже не знаю точно, как я себя почувствовал, потому что нельзя передать словами все то, что случилось с тобой, когда ты, например, был с молодой девушкой и мир был еще молод… нельзя рассказать, что ты чувствовал… Кажется, я опять говорю вокруг да около, но, думаю, ты меня понимаешь. Эти вещи отпечатываются в памяти красной краской, и сквозь них трудно что-то разобрать.
«Ты очень хороший человек, Хоумер, и я тебя люблю за то, что ты слушал меня и согласился со мной поехать, – сказала она. – Осторожнее на дороге».
Потом она отправилась к той женщине, а я поехал домой.
– Какой дорогой? – спросил я.
– По шоссе, дурная голова. – Хоумер мягко рассмеялся. Я никогда раньше не замечал у него на лице столько маленьких морщинок. Он поглядел на небо и снова заговорил: – Потом пришло лето, когда она исчезла. Я не часто ее видел… В то лето был пожар, помнишь? Потом бурей повалило много деревьев. В общем, работы хватало. Время от времени я думал о ней, и о том дне, и о том поцелуе, но мне уже начало казаться, что все это случилось во сне. Как один раз, когда мне было лет шестнадцать и я ни о чем не думал, кроме девчонок. Я тогда перепахивал западное поле Джорджа Баскомба, то самое, что у озера, напротив горы, и думал, о чем обычно думают подростки. Потом бороной вывернуло из земли камень, он раскололся, и из него потекла кровь. По крайней мере мне показалось, что из него течет кровь: что-то красное сочилось из трещины прямо на землю. Я никогда никому об этом не рассказывал, кроме матери. Она посоветовала мне помолиться, что я и сделал, но это ничего не прояснило, и спустя какое-то время мне начало казаться, что все это сон. Так иногда бывает. В жизни полно таких вот прорех, Дейв. Ты знаешь?
– Знаю, – сказал я, вспоминая одну ночь, когда я тоже видел нечто подобное. Это случилось в 1959 году. Плохой был год, но мои ребятишки не знали, что это плохой год, и хотели есть, как всегда. На дальнем поле Генри Брюггера я заметил несколько белохвостых оленей и как-то в августе отправился туда, как стемнело, с фонарем. Летом, когда они жирные, можно подстрелить сразу двух: второй обязательно вернется, принюхиваясь, к первому, словно спрашивая: «Что случилось? Неужели уже осень?», и подстрелить его при этом не труднее, чем сбить кеглю. Мяса будет достаточно, чтобы ребятишкам хватило недель на шесть, а остатки можно закопать. Охотникам в ноябре этих двух оленей, конечно, уже не видать, но детям тоже нужно есть. Как сказал тот, из Массачусетса, он бы хотел позволить себе жить тут круглый год, и в ответ я могу сказать только, что за эту привилегию иногда приходится расплачиваться, когда стемнеет. Короче, в тот раз я увидел, что в небе светится что-то большое и оранжевое. Оно опускалось все ниже и ниже, а я стоял и смотрел: челюсть у меня отвисла аж до груди. Потом эта штука плюхнулась в озеро, и, наверно, на целую минуту все озеро залило странным фиолетово-оранжевым сиянием, которое, казалось, поднималось лучами до самого неба. Никто мне об этом не рассказывал, и я тоже никому не говорил, отчасти потому, что боялся насмешек, но еще и потому, что кто-нибудь мог спросить, какого черта я делал ночью на чужом поле. А после, как и в случае с Хоумером, мне начало казаться, что это сон, но никакого такого глубокого смысла я в нем не видел. Как лунный свет: проку от него в хозяйстве никакого, а значит, и нечего волноваться. День все равно наступит.
– В жизни полно таких вот прорех, – повторил Хоумер, выпрямляясь, и вид у него стал какой-то немного ненормальный. – Прямо на пути. Не слева, не справа, где ты замечаешь что-то периферийным зрением и можешь сказать: «Померещилось». Нет. Прямо на пути, и ты их обходишь, словно яму на дороге, где можно сломать ось. А потом про это забываешь. Или вот когда пашешь… Можно распахать какую-нибудь каверну. Но если это трещина в земле, где кроется, словно в пещере, тьма, ты сам себе говоришь: «Сворачивай, старик. Не трогай это дело. Вот здесь слева в самый раз будет обойти». Потому что тебе ни пещеры не нужны, ни всякие там научные восторги, тебе просто нужно пахать. Но прорех таких в жизни полно…
После он долго молчал, и я его не дергал. Не хотелось. Спустя какое-то время он заговорил сам:
– Она исчезла в августе. В то лето я ее первый раз увидел в начале июля, и выглядела она тогда… – Хоумер повернулся ко мне и, выделяя каждое слово, произнес: – Дейв Оуэнс, она выглядела просто бесподобно! Чувствовалась в ней какая-то стремительность, необузданность. Все эти маленькие морщинки вокруг глаз, что я начал уже замечать, куда-то пропали. Уэрт Тодд уехал на какую-то конференцию в Бостон или еще что. Она вышла на балкон – я по пояс голый работал неподалеку – и сказала:
«Хоумер, ты ни за что мне не поверишь».
«Не поверю, миссус, но постараюсь», – ответил я.
«Я нашла две новые дороги и в последний раз добралась до Бангора, проехав всего шестьдесят семь миль».
Я вспомнил, что она говорила мне раньше, и сказал:
«Это невозможно, миссус. Прошу прощения, но я сам измерял расстояние по карте. До Бангора по прямой семьдесят девять миль».
Она рассмеялась и стала еще лучше. Словно богиня в лучах солнца… Знаешь, как в книжке, где только зеленые холмы с фонтанами и все очень хорошо.
«Верно. А еще невозможно пробежать милю меньше чем за четыре минуты. Это было доказано математически».
«Тут разные вещи».
«Это одно и то же, – сказала она. – Сложи карту и посмотри, сколько получится миль, Хоумер. Сложишь поменьше, получится немножко меньше, чем по прямой; сложишь сильно, будет намного меньше».
Мне вспомнилась тогда наша поездка, но вспомнилась так, как, бывает, вспоминаются сны.
«Миссус, вы можете сложить карту, потому что она из бумаги, но нельзя сложить землю. Или по крайней мере не стоит пробовать. Не стоит в это дело лезть».
«Ну нет уж, – сказала она. – Это дело я ни за что не оставлю, потому что здесь что-то есть, потому что это мое».
Три недели спустя – примерно за пару недель до того, как Офелия исчезла, – она позвонила мне из Бангора.
«Уэрт отправился в Нью-Йорк, а я скоро буду в Касл-Роке, – сказала она. – Я куда-то подевала ключи, Хоумер. Открой, пожалуйста, к моему приезду дверь, а то я не попаду в дом».
Позвонила она часов в восемь, как раз уже начинало темнеть. Я перед выходом съел сандвич с пивом, потратил на это минут двадцать. Потом поехал. Короче, минут через сорок пять оказался на месте, но, подъезжая, увидел, что в окне продуктовой кладовки горит свет. Я точно помнил, что в последний раз все выключал, и так засмотрелся на это светлое окно, что чуть не врезался в ее «мерседес». Он стоял немного боком, как, бывает, ставят машину пьяные, и весь до стекол был заляпан грязью. А вместе с грязью на машину налипло, как мне сначала показалось, что-то похожее на водоросли, но потом я увидел, как эта дрянь шевелится. Я остановился рядом и выбрался из машины. Конечно, это были не водоросли, а какие-то лесные растения, но они действительно шевелились, медленно так, лениво, словно умирали. Я коснулся одного отростка, и он тут же попытался обвить мою руку. Мерзкое ощущение. Я отдернул руку, вытер о штаны и обошел машину спереди. Выглядела она так, словно ее миль девяносто гнали по болоту. Устало выглядела, я бы сказал. На ветровом стекле налипло множество всяких насекомых, но я за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Например, мотылек размером с воробья: он все еще подергивал крыльями, но уже еле-еле. Потом еще твари, похожие на комаров, но я разглядел, что у них настоящие большие глаза, и мне даже показалось, что они меня замечают. Я слышал, как, умирая и стараясь за что-нибудь зацепиться, скребутся эти самые растения. У меня в голове только и вертелось: «Где она, черт побери, побывала? И как она добралась сюда меньше чем за три четверти часа?» Потом я увидел еще кое-что. На радиаторной решетке повисло какое-то наполовину раздавленное животное, прямо под эмблемой «мерседеса». Видел – круг, а внутри такая штука вроде звезды? Обычно животные, что погибают на дорогах, остаются под машиной, потому что, когда их сбивают, они прижимаются к земле, надеясь, что машина проедет над ними и ничего с ними не случится. Но иногда, бывает, какой-нибудь зверь вдруг прыгает не в сторону, а прямо на машину, словно для того, чтобы хоть раз, но успеть вцепиться зубами в эту чертову громадину, которая собирается его убить. Я сам такое видел. И вот эта тварь, видимо, сделала то же самое. Вида она была такого жуткого, что вполне бы, наверно, прыгнула и на танк, и выглядела как помесь сурка с горностаем, но там еще всякой всячины добавилось, и я даже не хотел на нее смотреть. Буквально глаза болели, Дейв, с души воротило. Шкура вся выпачкана в крови, когти торчат, как у кошки, только длиннее. Большие желтоватые глаза, уже помутневшие. И зубы. Длинные тонкие иглы, почти как штопальные. Зубами тварь впилась в решетку: именно поэтому она еще и держалась, потому что повисла, вцепившись зубами. Я только взглянул на нее и понял, что в ней полно яду, как у гремучей змеи. Эта тварь прыгнула, когда увидела, что ее вот-вот задавят, и хотела убить своим ядом машину. И будь я проклят, если я собирался снимать ее с радиатора, потому что у меня все руки были в порезах от сена: если бы хоть капля этого яда попала в порез, я бы тут же отдал концы.
Потом я подошел к водительской дверце и открыл ее. Внутри вспыхнул свет, и я взглянул на одометр, который Офелия специально поставила для таких вот поездок. Он показывал 31,6 мили.
Я довольно долго смотрел на эти цифры, потом пошел к двери позади дома. Офелия взломала экран и выбила стекло около замка, чтобы открыть дверь. Там же я нашел и записку: «Дорогой Хоумер, я добралась раньше, чем рассчитывала. Нашла новую короткую дорогу. Бесподобно! Тебя еще не было, и я забралась в дом, как грабительница. Уэрт приезжает послезавтра. Успеешь ли ты починить экран и перестеклить дверь? Я на тебя рассчитываю. Уэрта подобные вещи всегда беспокоят. Если я не выйду поздороваться, значит, я уснула. Я здорово устала с дороги, но зато времени потратила всего ничего. Офелия».
Устала! Я еще раз взглянул на это страшилище, что висело на радиаторе, и подумал: «Да уж, тут устанешь… Боже правый!»
Хоумер замолчал и взволнованно щелкнул пальцами.
– После этого случая я ее видел только один раз. Примерно через неделю. Уэрт уже приехал, но он тогда ушел плавать на озеро. Плавал туда-обратно, туда-обратно, словно пилил дрова или подписывал бумаги. Скорее подписывал бумаги.
«Миссус, – сказал я ей, – это, конечно, не мое дело, но вам следует все это оставить. В тот вечер, когда вы разбили стекло в двери, я видел какую-то тварь, повисшую на радиаторе…»
«А, сурка? Я его убрала».
«Боже! Надеюсь, вы действовали осторожно?»
«Я надела садовые перчатки Уэрта, – сказала она. – Ничего особенного, Хоумер, просто сурок-переросток, немного ядовитый».
«Но, миссус, там, где водятся сурки, бывают и медведи. И если сурки на этой короткой дороге выглядят вот так, то что будет, когда вам встретится медведь?»
Она посмотрела на меня, и я сначала увидел в ней ту, другую женщину, Диану.
«Если там, на этих дорогах, все по-другому, то я тоже, может быть, стала другой. Взгляни».
Волосы ее были собраны сзади в пучок и заколоты похожей на бабочку булавкой со шпилькой. Она убрала заколку и распустила их. Такие волосы любого мужчину, наверно, могут заставить задуматься о том, как они выглядят, рассыпанные на подушке.
«У меня уже начала появляться седина, Хоумер. Но сейчас ты видишь хоть один седой волос?» – спросила она и расправила волосы пальцами, чтобы на них падал солнечный свет.
«Нет, мэм», – ответил я.
Она посмотрела на меня смеющимися глазами и сказала:
«Твоя жена – хорошая женщина, Хоумер Бакланд, но мы встречались в магазине и на почте, и я видела, как она смотрит на мою прическу. С удовлетворением. Это только женщины понимают. И я знаю, что она говорит своим подругам… Офелия Тодд начала красить волосы. Но я этого не делала. Несколько раз, когда я искала, где еще срезать, я теряла дорогу и потеряла седину». – Она рассмеялась даже не как студентка, а как школьница. Я восхищался ею, и ее красота влекла меня, но одновременно я видел в ее лице ту, другую красоту и снова начинал бояться. И ее, и за нее.
«Миссус, – сказал я, – вы можете потерять гораздо больше, чем несколько седых волос».
«Нет. Я же говорю тебе, там я совсем другая. Я там настоящая. Когда я еду по дороге в своей маленькой машине, я совсем не Офелия Тодд, жена Уэрта Тодда, которая ни разу в жизни не смогла доносить ребенка до срока, и не та женщина, которая когда-то пыталась писать стихи, но поняла, что неспособна, и совсем не та, что сидит на собраниях комитетов и делает в своем блокноте какие-то пометки, и никакая другая. Когда я на той дороге, я живу в своем сердце и чувствую себя словно…»
«Диана», – сказал я.
Она посмотрела на меня как-то странно и немного удивленно, потом рассмеялась.
«Да, наверно, словно какая-то богиня. Диана, может быть, подойдет лучше всего, потому что мне хорошо ночью – я люблю читать, пока не кончится книга или пока по телевизору не заиграет национальный гимн – и потому что я бледная, как луна. Уэрт все время говорит, что мне нужно или принимать что-нибудь тонизирующее, или проверить кровь, или еще какую-нибудь ерунду в таком же духе. Но я думаю, в глубине души каждая женщина хочет быть какой-нибудь богиней. Мужчины чувствуют эхо этого желания и пытаются ставить их на пьедесталы, но они чувствуют совсем не то, чего хотят женщины. Женщина хочет быть свободной. Стоять, если хочется, или идти… – Офелия взглянула в сторону машины, стоящей в подъездной аллее, и ее глаза сузились. Потом она улыбнулась. – Или вести машину, Хоумер. Мужчины этого не видят. Они думают, богине хочется валяться где-нибудь на склоне у подножия Олимпа и есть фрукты, но в этом нет ничего божественного. Женщина хочет того же, чего хочет мужчина: женщина хочет вести».
«Тогда будьте осторожны, миссус», – сказал я.
Она рассмеялась и чмокнула меня прямо в лоб.
«Буду, Хоумер», – сказала она, но я понимал, что это ничего не значит, потому что сказала она это, как мужчина, который обещает жене или своей девушке вести себя осторожно, когда знает, что не будет или не сможет.
Я отправился к своей машине и помахал ей рукой. Через неделю Уэрт заявил, что она исчезла. Она и эта ее маленькая машина. Тодд подождал семь лет и в соответствии с законом объявил ее умершей. Потом для приличия подождал еще год – надо отдать ему должное – и женился на второй миссус Тодд, той самой, которая только что проехала. И я не думаю, что ты поверил хотя бы одному моему слову…
Большое плоское снизу облако отодвинулось в сторону, и стало видно призрак луны – бледную, как молоко, ее половину. Что-то при виде этого зрелища вздрогнуло у меня в душе, наполовину от испуга, наполовину от любви.
– Поверил, – сказал я. – Каждому, черт бы тебя драл, твоему слову. Даже если ты наврал, эта история слишком хороша и просто должна быть правдой.
Он по-дружески обнял меня за шею (мужчинам ничего больше не остается, поскольку целоваться в этом мире позволяется только женщинам), рассмеялся и встал.
– Даже если и не должна, это все равно правда, – сказал он, потом достал из кармана часы. – Мне надо проверить дом Скоттов. Пойдешь со мной?
– Я, пожалуй, посижу тут, – ответил я, – и подумаю.
Хоумер двинулся к лестнице, потом обернулся и взглянул на меня с полуулыбкой на губах.
– Видимо, Офелия была права, – сказал он. – Она действительно становилась другой на этих дорогах, которые она находила… Там ничто бы не осмелилось ее тронуть. Тебя или меня – может быть, но не ее. И я думаю, она сейчас очень молода.
Он сел в свою машину и отправился проверять дом Скоттов.
Было это два года назад. Позже Хоумер уехал в Вермонт, но, кажется, я об этом уже говорил. Однажды вечером он заехал меня навестить. Выбритый, причесанный, и пахло от него каким-то хорошим лосьоном. Лицо чистое, глаза живые. В тот вечер он выглядел на шестьдесят вместо своих семидесяти. Я обрадовался за него, позавидовал и даже немножко возненавидел. Артрит в нашем возрасте – страшное дело, но тогда мне показалось, что Хоумера он совсем не беспокоит, чего про себя я сказать не мог.
– Я уезжаю, – сказал он.
– Да?
– Да.
– Ладно. Почту тебе куда-нибудь пересылать?
– Не хочу никакой почты, – сказал Хоумер. – Мои счета оплачены. Обрубаю все концы.
– Тогда оставь мне свой адрес. Буду время от времени тебе писать, старик. – Я уже чувствовал, как меня, словно плащом, накрывает одиночество, и, глядя на него, я понял, что здесь не все так, как мне вначале показалось.
– Адреса еще нет, – ответил он.
– Ладно. Ты действительно уезжаешь в Вермонт?
– Для тех, кому будет интересно, это сойдет.
Сначала я не решался, но потом все же спросил:
– Как она сейчас выглядит?
– Как Диана, – ответил он. – Но она добрее.
– Я завидую тебе, Хоумер, – сказал я, и сказал тогда чистую правду.
Я остановился в дверях. Наступили сумерки, какие бывают в середине лета, когда поля заполняются ароматом цветов. Полная луна пробила на озере серебряную дорожку. Хоумер прошел к крыльцу и спустился по ступеням. На мягкой обочине дороги его ждала машина. Двигатель работал вхолостую, но тяжело. Так работают двигатели у старых машин, которые, однако, все еще носятся по дорогам во весь опор. Выглядела она немного потрепанной, но явно еще могла многое. Хоумер остановился у последней ступеньки и что-то поднял с земли: оказалось, это его канистра на десять галлонов бензина. Потом он подошел к машине. Офелия наклонилась и открыла дверцу. Включился свет, и на мгновение я увидел ее: длинные рыжие волосы, обрамляющие лицо, яркий, сияющий, словно лампа, лоб. Словно луна. Хоумер сел в машину, и они уехали. Я стоял на крыльце и долго смотрел, как мелькают в темноте, становясь все меньше и меньше, удаляющиеся красные огни маленького «мерседеса». Сначала словно гаснущие угли, потом как светлячки, а потом они исчезли совсем.
«Вермонт», – говорю я нашим городским, и они верят, поскольку большинству из них что-нибудь дальше Вермонта и представить-то трудно. Иногда я сам в это верю, особенно когда сильно устаю. А иногда думаю о них. Весь тот октябрь я их вспоминал, потому что как раз в октябре люди думают о далеких местах и ведущих туда дорогах. Я сижу на скамейке перед «Беллс» и думаю о Хоумере Бакланде и той красивой девушке, что наклонилась открыть ему дверцу, когда он подошел к машине с полной канистрой бензина в правой руке. Она выглядела не старше шестнадцати лет, словно девчонка с учебными водительскими правами, и красоты была действительно убийственной. Но я думаю, теперь эта красота не смертельна для мужчины, на которого она обращена: на мгновение ее глаза остановились, вспыхнув, на мне, и я остался жив, хотя какая-то часть моей души умерла у ее ног.
Олимп, наверное, сущая радость для глаз и для сердца, и есть такие, кто хочет туда и кто, может быть, попадает, но я знаю Касл-Рок как свои пять пальцев и никогда бы не поменял его ни на какие дороги. В октябре небо над озером, конечно, не самое лучшее, но все же более или менее чистое, с медленно ползущими большими белыми облаками. Я сижу на скамейке и думаю об Офелии Тодд и Хоумере Бакланде. Не то чтобы мне хотелось оказаться там же, где и они, но в такие минуты я всегда жалею, что мне уже нельзя курить.
Долгий джонт
[7]
– Заканчивается регистрация на джонт-рейс номер 701. – Приятный женский голос эхом прокатился через Голубой зал нью-йоркского вокзала Порт-Осорити. Вокзал почти не изменился за последние три сотни лет, оставаясь по-прежнему обшарпанным и немного пугающим. Записанный на пленку приятный женский голос, служивший, наверно, самой привлекательной его чертой, продолжал: – Джонт-рейс до Уайтхед-Сити, планета Марс. Всем пассажирам с билетами необходимо пройти в спальную галерею Голубого зала. Пожалуйста, убедитесь предварительно, что все ваши документы в порядке. Благодарим за внимание.
Спальная галерея на втором этаже в отличие от самого зала вовсе не выглядела обшарпанной: ковер серого цвета с перламутровым блеском от стены до стены, белые, как яичная скорлупа, стены с репродукциями приятных для глаз абстракций, мягкие, успокаивающие переливы света, сходящиеся в спираль на потолке. На одинаковом расстоянии друг от друга по десять в ряд размещались в галерее сто кушеток, между которыми двигались сотрудники джонт-службы. Пятеро стюардов развозили стаканы с молоком и тихо, подбадривающе переговаривались с пассажирами. Стоявший у входа рядом с вооруженным охранником дежурный проверял документы у запыхавшегося бизнесмена со сложенным номером «Нью-Йорк-интер-таймс» под мышкой, который едва не опоздал на свой рейс. С противоположной стороны пол плавно спускался желобом в пять футов шириной и длиной футов в десять, уходящим в открытый дверной проем, – вся конструкция немного напоминала детскую горку.
Семейство Оутсов расположилось на четырех стоящих рядом кушетках в дальнем конце галереи. Марк Оутс и его жена Мерилис по краям, дети между ними.
– Папа, а ты расскажешь нам про джонт? – спросил Рикки. – Ты обещал.
– Да, папа, ты обещал, – добавила Патриция и без всякой причины захихикала тоненьким голосом.
Бизнесмен мощного телосложения посмотрел в их сторону, затем снова вернулся к папке с бумагами. Он лежал на спине, сдвинув вместе ноги в начищенных до блеска ботинках. Со всех сторон доносились приглушенные звуки разговоров, шорохи, шелест одежды: пассажиры устраивались на своих местах.
Марк посмотрел на жену и подмигнул. Мерилис подмигнула в ответ, хотя волновалась она не меньше Патти. Что, по мнению Марка, было совершенно естественно: первый джонт в жизни для всех, кроме него. За последние шесть месяцев – с тех пор, как он получил уведомление от водоразведочной компании «Тексас уотер» о том, что его переводят в Уайтхед-Сити, – они с Мерилис множество раз обсуждали все плюсы и минусы переезда с семьей и в конце концов решили, что на те два года, которые Марку предстоит провести на Марсе, они переселятся в Уайтхед-Сити вместе. Сейчас же, глядя на бледное лицо Мерилис, Марк гадал, не сожалеет ли она о принятом решении.
Он взглянул на часы и увидел, что до джонта осталось еще около получаса: вполне достаточно, чтобы рассказать детям обещанную историю. Это, возможно, отвлечет их и успокоит. Может быть, даже успокоит Мерилис.
– Ладно, – сказал он.
Двенадцатилетний Рикки и девятилетняя Пат смотрели на него не отрываясь. Через два года, когда они вернутся на Землю, Рикки уже начнет засасывать трясина зрелости, а у Пат, наверное, появится грудь, и в это верилось с трудом. Дети будут учиться в крошечной школе в Уайтхед-Сити с сотней других детей инженеров и геологов компании, и не исключено, что через несколько месяцев его сын уже отправится на геологическую экскурсию на Фобос. Трудно поверить, но это так.
«Как знать? – подумал Марк, усмехнувшись. – Может быть, это развеет и мое беспокойство тоже…»
– Насколько нам известно, – начал он, – джонт изобрели около трехсот двадцати лет назад, примерно в 1987 году. Сделал это человек по имени Виктор Карун. Открытие он совершил в ходе работы над частным исследовательским проектом, который финансировало правительство… и в конце концов правительство присвоило себе результаты его работы. Между правительством и нефтяными компаниями шла тогда настоящая война. Причиной же того, что мы не знаем точной даты открытия, является некоторая эксцентричность Каруна…
– Ты имеешь в виду, что он был сумасшедшим, папа? – спросил Рикки.
– «Эксцентричный» – значит «чуть-чуть сумасшедший», милый, – пояснила Мерилис и улыбнулась Марку, которому показалось, что она выглядит уже не так обеспокоенно.
– А-а-а…
– Короче, он довольно долго экспериментировал с новым процессом, прежде чем информировать правительство об открытии, – продолжил Марк, – и то сделал он это только потому, что у него кончились деньги и его не хотели больше финансировать.
В дальнем конце помещения бесшумно открылась дверь, и появились еще двое служащих, одетых в ярко-красные комбинезоны джонт-службы. Перед собой они катили столик на колесах; на столике лежал штуцер из нержавеющей стали, соединенный с резиновым шлангом. Марк знал, что под столиком, спрятанные от глаз пассажиров длинной скатертью, размещаются два баллона с газом. Сбоку на крючке висела сетка с сотней сменных масок. Не желая, чтобы его семья заметила представителей Леты раньше, чем будет необходимо, Марк продолжал говорить: если у него будет достаточно времени, чтобы рассказать историю до конца, они встретят их буквально с распростертыми объятиями. Когда узнают, что их ждет в противном случае.
– Вы, конечно, знаете, что джонт – это телепортация, ни больше ни меньше, – сказал он. – Иногда в колледжах преподаватели физики или химии называют его «процессом Каруна», но это не что иное, как телепортация. И именно Карун – если верить истории – дал этому процессу название «джонт». Он любил фантастику, и когда-то ему попался под руку роман Альфреда Бестера «Моя цель – звезды», так вот этот Бестер заменил в романе слово «телепортация» словом «джонт». Только в его книге для того, чтобы джонтировать, достаточно было всего лишь подумать об этом, что на самом деле невозможно.
Один из служащих надел на штуцер маску и вручил ее пожилой женщине в дальнем конце комнаты. Она взяла маску, глубоко вдохнула и, обмякнув, тихо откинулась на кушетку. Юбка ее при этом чуть сползла вверх, обнажив дряблые ноги, испещренные варикозными венами. Один из сотрудников джонт-службы заботливо поправил юбку, а второй тем временем отсоединил использованную маску и прикрепил к штуцеру новую. Как пластиковые стаканы в мотелях… Марка беспокоила Патти, поскольку она все еще была возбуждена. Раньше ему приходилось видеть, как детей иногда удерживали на кушетках и как они, случалось, кричали, когда им подносили резиновую маску. Видимо, для ребенка такая реакция вполне естественна, но зрелище это не самое приятное, и ему не хотелось, чтобы подобное произошло с Патти. За Рика он почти не беспокоился.
– Думаю, с уверенностью можно сказать, что джонт открыли как раз тогда, когда он был жизненно необходим, – возобновил рассказ Марк, глядя на Рикки, потом перегнулся через него и взял дочь за руку. Пальцы ее сжались вокруг его пальцев с панической быстротой; маленькая ладошка чуть вспотела и казалась холодной. – Во всем мире кончалась нефть, а та, что еще оставалась, принадлежала живущим в ближневосточных странах людям, которые пользовались этой ситуацией как политическим оружием. Они даже сформировали картель, называвшийся ОПЕК.
– Что такое картель, папа? – спросила Патти.
– Ну, монополия, – ответила Мерилис. – И вступить в этот клуб могли только те, у кого было много нефти.
– А-а-а.
– У нас, наверно, нет времени, чтобы подробно разбирать всю эту кашу, – сказал Марк, – кое-что вы будете проходить в школе, а пока можете поверить мне на слово: в мире творился тогда страшный беспорядок. Если человек покупал машину, он мог ездить на ней только два дня в неделю, а бензин стоил пятнадцать старых долларов за галлон.
– Ого! – воскликнул Рикки. – Сейчас он стоит около четырех центов, да, папа?
Марк улыбнулся.
– Именно поэтому мы и отправляемся на Марс, Рик. На Марсе нефти столько, что ее хватит почти на восемь тысяч лет, а на Венере – еще на двадцать тысяч. Но сейчас нефть даже не так важна. Сейчас людям больше всего нужна…
– Вода! – выкрикнула Патти. Расположившийся неподалеку бизнесмен оторвался от бумаг и посмотрел на нее с улыбкой.
– Верно, – сказал Марк, – потому что за период между 1960 годом и 2030-м мы отравили почти всю нашу воду. Первая операция по переброске воды с марсианских полярных льдов называлась…
– Операция «Соломинка», – ответил на этот раз Рикки.
– Да. Это случилось году в 2045-м. Но задолго до того джонтирование использовали для переброски чистой воды здесь, на Земле. А теперь вода составляет основу марсианского экспорта. Нефть играет уже второстепенную роль. Хотя раньше она считалась очень важным продуктом.
Дети закивали.
– На Марсе всегда хватало и того и другого, но заполучить марсианскую воду и нефть мы смогли только после того, как появился джонт-процесс. Когда Карун сделал свое открытие, мир уже начинал сползать к новым темным векам. За год до открытия, зимой, только в одних Соединенных Штатах замерзло около десяти тысяч человек, потому что в стране не хватало энергии для обогрева домов.
– Ого. – Патти восприняла цифру довольно спокойно.
Марк посмотрел направо и заметил, как служащие уговаривают какого-то мужчину, по виду застенчивого и неуверенного в себе. Спустя какое-то время он все-таки согласился взять маску и секундой позже упал на кушетку словно мертвый. «Первый раз, – подумал Марк. – Это всегда заметно».
– Для Каруна все началось с карандаша, ключей, наручных часов и нескольких мышей. И именно мыши указали ему на главную проблему.
Виктор Карун вернулся в лабораторию, пошатываясь от охватившего его возбуждения. В его представлении, именно так чувствовали себя Морзе, Александр Белл, Эдисон… Но то, что сделал он, превосходило их достижения во много раз, и по дороге из зоомагазина в Нью-Палтц, где он, потратив свои последние двадцать долларов, купил девять белых мышей, Карун чуть не врезался в столб. Осталось у него всего лишь девяносто три цента в правом кармане и восемнадцать долларов на счету в банке, но он об этом даже не думал. Впрочем, если бы и подумал, это вряд ли бы его обеспокоило.
Его лаборатория размещалась в переоборудованном сарае в конце отрезка грунтовой дороги длиной в милю, уходящего в сторону от шоссе номер 26. Второй раз он чуть не врезался как раз у поворота на грунтовую дорогу. Бензина в баке осталось на донышке, а следующей заправки Карун мог ждать только дней через десять, может быть, через две недели, однако это его тоже не беспокоило: мысли его крутились лихорадочным водоворотом вокруг совсем другого. То, что произошло, не было в общем-то неожиданностью. Отчасти правительство и финансировало его работу (правда, в объеме жалких двадцати тысяч в год), потому что область физики, занимающаяся передачей на расстояние элементарных частиц, сулила какие-то смутные нераскрытые возможности.
Но началось все неожиданно, без предупреждения… И главное, электричества процесс потреблял меньше, чем цветной телевизор. Боже правый!..
Он с визгом шин остановил машину во дворе, схватил за ручку коробку, стоящую на грязном сиденье (на разрисованной собаками, кошками, хомяками и золотыми рыбками коробке стояла надпись: «Мы из зоомагазина “Стакполс”»), и бегом бросился к дверям лаборатории. Из коробки доносились шорохи возни его подопытных животных.
Карун попытался оттолкнуть одну из створок двери по направляющим и, когда она не подалась, вспомнил, что сам запер дверь перед уходом. Выругавшись, он полез за ключами. По контракту с правительством дверь его лаборатории должна была запираться постоянно – одно из условий, под выполнение которых он получал деньги, – но он нередко об этом забывал.
Наконец он достал ключи и на мгновение застыл словно загипнотизированный, машинально ощупывая большим пальцем бороздки на ключе зажигания от машины. «Боже правый!..» – снова пронеслось у него в голове, и он принялся лихорадочно перебирать связку ключей в поисках того, который отпирал дверь.
Телефонный аппарат впервые использовали в общем-то случайно. Белл закричал в него: «Уотсон, пойдите сюда!», когда опрокинул на бумагу и на себя пузырек с кислотой. И так же случайно произошел первый акт телепортации: Виктор Карун телепортировал на пятьдесят ярдов – как раз на длину сарая – свои два пальца.
Карун установил два портала в разных концах помещения. С его стороны размещалась несложная ионная пушка, какую можно приобрести в любом из магазинов электронного оборудования меньше чем за пятьдесят долларов. На другой стороне, сразу за вторым порталом – оба они были прямоугольные и размером не больше книги, – стояла камера Вильсона. Между ними висело нечто похожее на непрозрачную занавеску для душевой, хотя, конечно, никто не делает занавески для душевых из тонкого листового свинца. Идея заключалась в том, чтобы, пропуская ионный поток через первый портал, можно было наблюдать его прохождение в камере Вильсона, стоящей за вторым. Свинцовый же занавес гарантировал, что ионы действительно телепортируются. Правда, за последние два года сработала установка только дважды, и Карун не имел ни малейшего представления почему.
Устанавливая ионную пушку на место, он случайно просунул руку через первый портал. Ничего особенного в этом не было, но в то утро Карун задел бедром переключатель на панели управления сбоку от портала. Он даже не сразу заметил, что произошло, потому что аппаратура издавала едва слышное гудение, но потом почувствовал странное покалывание в пальцах.
«На действие тока это не походило, – писал Карун в своей первой и, поскольку правительство заставило его вскоре замолчать, единственной статье о новом открытии. Статья появилась, как ни странно, в «Популярной механике». Карун продал ее журналу за семьсот пятьдесят долларов в последней попытке сохранить джонт для частного предпринимательства. – Никаких неприятных ощущений, возникающих, если схватиться, например, за провод от лампы, у которого обтрепалась изоляция, я не почувствовал. Больше всего это напоминало вибрацию маленького, но мощного механизма, вибрацию столь быструю и мелкую, что, приложив руку к такому механизму, человек ощущает лишь легкое покалывание. Я посмотрел на портал и увидел, что мой указательный палец будто срезало по диагонали во втором суставе, средний палец тоже, но немного повыше. Исчезла и часть ногтя на безымянном пальце».
Карун вскрикнул и инстинктивно отдернул руку, сбив локтем на пол ионную пушку. Позже он писал, что ожидал увидеть кровь и в первое мгновение ему даже показалось, что он действительно ее видит.
Какое-то время он просто стоял рядом с порталом, держа пальцы во рту, пока не убедился, что они все-таки целы и все на месте. Сначала ему пришло в голову, что он слишком много работал, но потом появилась новая мысль о том, что последняя серия модификаций в аппаратуре, пожалуй, могла что-то действительно изменить.
Однако пальцы он решил больше туда не совать. По правде говоря, Карун за всю свою последующую жизнь джонтировал только один раз.
Сначала он вообще ничего не делал, долго и бесцельно слоняясь по сараю, ероша волосы руками и раздумывая, не позвонить ли Карсону в Нью-Джерси или, может быть, Баффингтону в Шарлотт. Карсон, конечно, не примет междугородный звонок за его счет, паразит дешевый, а вот Баффингтон, возможно, примет. Потом Каруна озарила новая идея, и он бросился ко второму порталу, надеясь, что, раз его пальцы действительно телепортировались через весь сарай, то там, может быть, остались какие-то следы.
Следов, разумеется, никаких не было. Второй портал стоял на трех поставленных друг на друга ящиках из-под апельсинов и больше всего напоминал игрушечную гильотину без лезвия. С одной стороны на металлической рамке размещалось гнездо штекера, провод от которого вел к передающему терминалу, а тот представлял собой преобразователь частиц в комплексе с компьютерным каналом…
Вспомнив о компьютере, Карун взглянул на часы и увидел, что уже четверть двенадцатого. По контракту с правительством, кроме жалких грошей, ему полагалось еще компьютерное время, что для Каруна обладало значительно большей ценностью. Но его время истекало в три после полудня, а потом – привет, до понедельника… Надо было двигаться, что-то делать…
«Я снова взглянул на сложенные друг на друга ящики, – писал Карун в своей статье для «Популярной механики», – потом посмотрел на свои пальцы. И конечно же, увидел доказательство. Я еще подумал тогда, что такое доказательство едва ли убедит кого-нибудь, кроме меня, но вначале надо убедить хотя бы себя».
– Что это было, папа? – спросил Рикки.
– Да, – добавила Патти. – Что?
Марк едва заметно улыбнулся. Они здорово увлеклись рассказом, даже Мерилис увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк заметил, как сотрудники джонт-службы медленно катят столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров. Он давно заметил, что в гражданском секторе это всегда занимало больше времени: гражданские нервничали и капризничали. Резиновая маска слишком живо вызывала в памяти операционную в больнице, где за спиной анестезиолога с его набором газов и баллонами уже готовится к работе хирург. С пассажирами случались истерики, паника, и всегда находились двое-трое таких, у кого просто не выдерживали нервы. Разговаривая с детьми, Марк заметил, как двое мужчин поднялись с кушеток и без шума прошли к выходу. Там они отцепили от лацканов приколотые билеты, вернули их дежурному и, не оглядываясь, вышли. Сотрудникам джонт-службы строго-настрого запрещалось в таких случаях спорить и уговаривать пассажиров: в зале ожидания всегда находились желающие отправиться именно этим рейсом, иногда человек сорок – пятьдесят, которые продолжали надеяться вопреки здравому смыслу. Когда те, кто не сумел справиться с собой, уходили, в галерею просто приводили других пассажиров с документами, уже приколотыми к рубашкам.
– В указательном пальце Карун обнаружил две занозы, – сказал Марк детям. – Позже он их вытащил и отложил в сторону. Одна потерялась, зато вторую можно увидеть в новом корпусе Смитсоновского института в Вашингтоне. Она хранится в герметичном стеклянном футляре рядом с лунными камнями, которые доставили первые космические путешественники, полетевшие на Луну.
– На нашу Луну или на одну из марсианских? – спросил Рикки.
– На нашу, – ответил Марк, улыбнувшись. – На Марсе побывал только один корабль с людьми – французская экспедиция, отправившаяся году в 2030-м. Короче, самая обычная старая заноза от ящика из-под апельсинов хранится в Смитсоновском институте, потому что она оказалась первым телепортированным, вернее, джонтированным предметом.
– А что случилось потом? – спросила Патти.
– Как утверждает история, Карун бросился…
Карун бросился к первому порталу и остановился там с бьющимся от волнения сердцем. «Необходимо успокоиться, – уговаривал он себя, переводя дух. – Надо все обдумать. Никакой пользы от спешки не будет…»
Нарочно не обращая внимания на неуемное кричащее желание поторопиться и сделать что-нибудь, он достал из кармана ногтечистку и острым концом пилки вытащил занозы из указательного пальца. Карун положил их на белую обертку от шоколада, который он съел, пока ковырялся в преобразователе и пытался увеличить его мощность (что, очевидно, ему удалось, да еще так, как ему и в мечтах не могло привидеться). Одна заноза скатилась на пол и потерялась, зато вторая очутилась в Смитсоновском институте в стеклянном футляре, огороженном бархатными шнурами и находящемся под постоянным бдительным наблюдением телекамеры, подключенной к следящему компьютеру.
Покончив с занозами, Карун почувствовал себя немного спокойнее. «Карандаш, – решил он, – карандаш вполне подойдет». Достав с полки над головой карандаш, он медленно продвинул его через первый портал. Карандаш исчезал постепенно, дюйм за дюймом, словно перед глазами Каруна совершался какой-то очень ловкий фокус. На одной из граней значилось: «ЭБЕРХАРД ФАБЕР № 2» – черные буквы, выдавленные на желтом фоне. Продвинув карандаш в портал и увидев, что от надписи осталось только «ЭБЕРХ», Карун обошел портал и взглянул на него с другой стороны.
Там он обнаружил аккуратный, словно обрубленный ножом срез карандаша. Карун пощупал пальцем то место, где должна была быть вторая половина карандаша, но там, разумеется, ничего не было. Он бросился ко второму порталу, расположенному в другом конце сарая, и там, на верхнем ящике из-под апельсинов, лежала эта вторая половина. Сердце его забилось так сильно, что казалось, его просто трясет что-то изнутри. Карун схватил за заточенный конец карандаш и вытянул его из портала.
Он поднял его поближе к глазам и внимательно разглядел, потом повернулся и написал на стене сарая «СРАБОТАЛО!», но так сильно надавил, что на восклицательном знаке грифель сломался. Карун пронзительно рассмеялся в пустом сарае. Рассмеялся так громко, что у самых стропил проснулись и заметались под крышей ласточки.
«Сработало! – закричал он, потом побежал к первому порталу, зажав в кулаке сломанный карандаш и размахивая руками. – Сработало! Сработало! Слышишь, Карсон, скотина?! Сработало, и ЭТО СДЕЛАЛ Я!»
– Марк, что ты такое говоришь при детях? – упрекнула его Мерилис.
Марк пожал плечами.
– Но он именно так и закричал.
– Ты мог бы его немного подредактировать.
Дети рассмеялись, и Марк обрадовался, заметив, что пронзительные нотки в смехе Патти исчезли. Мерилис не удержалась и рассмеялась тоже.
За карандашом последовали ключи: Карун просто швырнул их через портал. Он снова начал думать собранно, и ему пришло в голову, что необходимо проверить, воспроизводит ли процесс телепортации вещи такими же, какими они были раньше, или какие-то их свойства за время перехода изменяются.
На его глазах ключи исчезли в первом портале, и в тот же момент он услышал, как они звякнули, упав на ящик в другом конце сарая. Карун побежал туда, теперь уже медленнее, и по дороге отодвинул по направляющим в сторону свинцовый занавес. Ни занавес, ни ионная пушка уже не были нужны. Что оказалось очень кстати, поскольку ионная пушка разбилась и починить ее не представлялось возможным.
Он схватил ключи и пошел к замку, который заставили его врезать правительственные чиновники. Ключ работал отлично. Потом он проверил ключ от дома. Тот тоже исправно открывал замок. И так же хорошо работали ключи от картотечного шкафа и от машины.
Карун сунул их в карман и снял с запястья часы. Модель «Сейко-кварц LC» со встроенным под циферблатом микрокалькулятором позволяла ему с помощью двадцати четырех кнопок производить все простые вычисления – от сложения до извлечения корней. Сложная игрушка и, что важно, с секундомером. Карун положил часы у первого портала и, протолкнув их карандашом, бросился в другой конец сарая. Когда он запихивал часы, они показывали 11.31.07. Теперь же на циферблате стояло 11.31.49. Очень хорошо. Сходится. Хотя, конечно, неплохо было бы иметь у второго портала ассистента, который подтвердил бы раз и навсегда, что на переход не затрачивается времени. Однако это не важно. Скоро правительство завалит его ассистентами…
Он проверил калькулятор. Два плюс два по-прежнему давало четыре, восемь, деленное на четыре, давало два, квадратный корень из одиннадцати по-прежнему равнялся 3,3166247… и так далее.
После этого Карун решил, что пришло время мышей.
– Что случилось с мышкой, папа? – спросил Рикки.
Марк на мгновение задумался. Здесь нужно будет проявить осторожность, если он не хочет напугать детей (и жену) перед самым первым джонтом. Главное – убедить их, что сейчас все в порядке и основная проблема уже давно решена.
– Тут у него возникли небольшие затруднения…
«Да. Ужас, безумие, смерть… Ничего себе небольшие затруднения…»
Карун поставил коробку с надписью «Мы из зоомагазина “Стакполс”» на полку и взглянул на часы. Оказалось, он застегнул их вверх ногами. Он перевернул часы и увидел, что уже без четверти два. Компьютерного времени осталось всего час с четвертью. «Как быстро летит время, когда тебе не скучно», – подумал он и хихикнул.
Открыв коробку, он сунул туда руку и вытащил за хвост пищащую белую мышь. Посадил ее перед порталом и сказал: «Ну, вперед, мышь». Та шустро спустилась по стенке ящика из-под апельсинов, на котором стоял портал, и бросилась наутек. Ругаясь, Карун кинулся за ней и едва не накрыл ее ладонью, но в этот момент мышь шмыгнула в щель между досками и исчезла.
– ЗАРАЗА! – закричал Карун и побежал обратно к коробке. Успел как раз вовремя, чтобы столкнуть с края назад в коробку еще двух потенциальных беглянок. Затем он извлек вторую мышь, на этот раз ухватив ее за тельце (по профессии он был физиком и повадки мышей знал плохо), после чего захлопнул крышку коробки. Эту он просто бросил. Она вцепилась Каруну в ладонь, но не удержалась и полетела, кувыркаясь и болтая лапками, через портал. Тут же Карун услышал, как она приземлилась на ящике в другом конце сарая.
На этот раз, помня, с какой легкостью от него удрала первая мышь, он бросился туда бегом. Но оказалось, напрасно. Белая мышь сидела, поджав лапки; глаза ее помутнели; бока чуть заметно вздымались. Карун замедлил шаг и осторожно приблизился. Работать с белыми мышами ему почти не доводилось, но в данном случае, чтобы заметить, что с мышью что-то не так, многолетнего стажа не требовалось.
(«Мышка после перехода чувствовала себя не очень хорошо», – сказал Марк детям, широко улыбаясь, и только жена заметила, что улыбка его чуть-чуть натянута.)
Карун потрогал мышь пальцем. Если бы не вздымающиеся при дыхании бока, можно было бы подумать, что перед ним нечто неживое – набитое соломой или опилками, может быть. Мышь даже не взглянула на него: она смотрела только вперед. Он бросил через портал подвижного, очень шустрого и живого маленького зверька; теперь же перед ним лежало нечто похожее на восковую копию, в которой жизнь едва-едва теплилась.
Когда Карун щелкнул перед маленькими розовыми глазами мыши пальцами, она моргнула… и, повалившись на бок, умерла.
– Тогда Карун решил попробовать еще одну мышь, – сказал Марк.
– А что случилось с первой? – спросил Рикки.
Марк снова широко улыбнулся.
– Ее с почестями проводили на пенсию.
Карун отыскал бумажный пакет и положил туда мышь. Позже, вечером, он собирался взять ее к ветеринару Москони, чтобы тот произвел вскрытие и сказал ему, все ли у подопытного зверька в порядке внутри. Правительство, конечно, не одобрило бы, что он привлек частное лицо к исследованиям, на которые они, едва узнав о результатах, тут же навесили бы гриф строжайшей секретности. Но это уже их дело. Карун планировал держать Великого Белого Отца из Вашингтона в неведении как можно дольше. Не так уж сильно Великий Белый Отец ему помогал, поэтому он может и подождать. Ничего с ним не случится.
Затем Карун вспомнил, что Москони живет в другом конце Нью-Палтца, а бензина в машине не хватит и до центра города, не говоря уже об обратной дороге.
Часы показывали 2.03. Оставалось меньше часа компьютерного времени. О вскрытии можно будет подумать потом.
Карун соорудил небольшую горку, спускающуюся ко входу в первый портал. («Первая джонт-горка», – сказал Марк детям, и Патти, представив, видимо, себе горку для мышей, обрадованно засмеялась.) Он запустил туда новую мышь и закрыл выход книгой. Мышь потолкалась по углам, побродила немного, обнюхивая незнакомые предметы, потом двинулась к порталу и исчезла.
Карун побежал ко второму порталу.
На ящике лежала мертвая мышь.
Ни крови, ни распухших участков тела, что могло бы свидетельствовать о каких-то резких перепадах давления, от которых полопались бы внутренние органы, Карун не заметил. Возможно, кислородное голодание…
Опять же нет. Карун нетерпеливо покачал головой. Для перехода мыши требовалась всего лишь доля секунды: его собственные часы подтвердили, что времени на переход совсем не тратится или тратится, но чертовски мало.
Вторая белая мышь отправилась в тот же бумажный пакет, что и первая. Карун достал третью (четвертую, если считать счастливую беглянку, что уползла в щель) и отвлеченно подумал: «Что кончится раньше: компьютерное время или белые мыши?»
Эту, ухватив понадежнее пальцами за тельце, он сунул в портал хвостом вперед и увидел, что из второго портала появилась задняя половина мыши. Маленькие ножки лихорадочно скребли по грубой деревянной поверхности ящика.
Карун вытащил мышь из портала: никаких признаков кататонии. Она еще и укусила его до крови между большим и указательным пальцами. Карун торопливо бросил ее в коробку с надписью «Мы из зоомагазина “Стакполс”» и принялся дезинфицировать укус перекисью водорода из хранившейся в лаборатории аптечки первой помощи. Потом залепил укушенное место бактерицидным пластырем и, перерыв всю лабораторию, отыскал наконец толстые резиновые перчатки. Время убегало, убегало, убегало. Часы показывали 2.11.
Карун извлек из коробки еще одну мышь и сунул ее хвостом вперед в портал. Целиком. Затем поспешил ко второму порталу. Мышь прожила почти две минуты. Она даже пыталась бежать: шатаясь, сделала несколько шагов по ящику, упала на бок, с трудом поднялась, но так и осталась на месте. Карун щелкнул у нее над головой пальцами: мышь дернулась вперед, сделав еще, может быть, четыре шага, и опять повалилась на бок. Бока ее вздымались все медленнее, потом дыхание прекратилось, и мышь умерла. По спине у Каруна пробежали холодные мурашки.
Он достал еще одну мышь и сунул ее головой вперед, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Карун осторожно разжал пальцы, приготовясь тут же схватить зверька, если тот попытается улизнуть. Но мышь осталась на месте: половина ее – у одного портала, половина – у второго в другом конце сарая.
Карун перебежал ко второму порталу. Мышь еще была жива, но ее розовые глаза помутнели. Усы не шевелились. Обойдя портал, Карун увидел удивительное зрелище: перед ним оказался поперечный срез мыши (так случилось и с карандашом). Крохотный позвоночник животного оканчивался белыми концентрическими кружочками, кровь двигалась по сосудам, в маленьком пищеводе что-то перемещалось. «По крайней мере, – подумал он (и написал позже в статье для «Популярной механики»), – эта установка может служить великолепным диагностическим аппаратом».
Потом Карун заметил, как движение органов замедляется, и через несколько секунд мышь умерла. Он вытянул ее из портала за мордочку и опустил в бумажный пакет. «Достаточно белых мышей, – подумал он. – Мыши мрут. И если их пропускать через портал целиком, и если только наполовину, но головой вперед. Если же засунуть мышь наполовину, но хвостом вперед, она бегает как ни в чем не бывало. Что-то здесь кроется… Может быть, сенсорная перегрузка… – наугад предположил он. – Может быть, в процессе перехода они видят, или слышат, или чувствуют – Господи, возможно, даже обоняют – нечто такое, что буквально убивает их. Что бы это могло быть?»
Ответа он не знал, но собирался узнать.
У Каруна оставалось еще около сорока минут до того момента, когда его терминал будет отключен от компьютерной сети. Он открутил от стены у кухонной двери термометр, бросился обратно в сарай и сунул его через портал. На входе термометр показывал 83 градуса по Фаренгейту, на выходе – ту же самую цифру. Порывшись в пустой комнате, где хранились детские игрушки, которыми Карун развлекал, случалось, наезжавших в гости внуков, он отыскал пакет с воздушными шариками, надул один из них, завязал и запихнул через портал. Шарик выскочил из другого портала целый и невредимый – в каком-то смысле ответ на предположение Каруна о резких перепадах давления в процессе, который он уже начал называть про себя джонт-процессом.
Когда до конца компьютерного времени оставалось не больше пяти минут, он бросился в дом, схватил аквариум с золотыми рыбками (внутри тут же возбужденно заметались Перси и Патрик) и бегом потащил его в лабораторию. Запихнув аквариум в портал, он побежал в другой конец сарая. Патрик плавал кверху пузом. Перси медленно, словно оглушенный, кружился у самого дна аквариума, потом тоже всплыл пузом вверх. Карун уже хотел убрать аквариум, когда Перси вдруг судорожно дернул хвостом и вяло поплыл. Медленно, но, похоже, верно он справлялся с воздействием, которое оказал на него переход, и часам к девяти вечера, когда Карун вернулся из ветеринарной клиники Москони, Перси снова вел себя как обычно.
Однако Патрик умер.
Карун насыпал Перси двойную дозу рыбьего корма и с почестями похоронил Патрика в саду.
Когда компьютер все-таки отключился, Карун решил отправиться к Москони в надежде, что его кто-нибудь подбросит до места, и без четверти четыре в джинсах и спортивной куртке яркой расцветки он уже стоял на обочине дороги номер 26, вытянув руку с отставленным большим пальцем. В другой руке он держал бумажный пакет.
Спустя некоторое время рядом остановился «чеветт» размерами чуть побольше банки сардин, и Карун сел в машину.
– Что в пакете, старик? – спросил молодой водитель.
– Дохлые мыши, – честно ответил Карун.
В конце концов рядом с ним остановилась еще одна машина, и на этот раз, когда сидевший за рулем фермер спросил его о содержании пакета, Карун сказал, что там сандвичи.
Одну мышь Москони подверг вскрытию тут же, с остальными пообещал разобраться позже и позвонить. Предварительные результаты не обнадеживали: насколько Москони мог судить, мышь была абсолютно здорова, если не считать того факта, что она все-таки умерла.
Увы.
– Виктор Карун отличался эксцентричностью, но дураком он отнюдь не был, – сказал Марк.
Служащие с усыпляющим газом подходили все ближе, и он понял, что надо торопиться, иначе конец придется рассказывать, проснувшись уже в Уайтхед-Сити.
– Добираясь в тот вечер до дома – при этом, как уверяет история, половину дороги Карун прошел пешком, – он понял, что, возможно, одним махом решил чуть ли не треть экономических проблем человечества: все грузы, которые отправляются поездами, пароходами и автомашинами, когда-нибудь будут просто джонтироваться. Можно, например, написать письмо своему другу в Лондон, в Рио или в Сенегал, и оно попадет к нему уже на следующий день, причем на его доставку не будет затрачено ни грамма нефти. Мы к этому привыкли, но для Каруна, поверьте мне, это значило очень много. И вообще для всех людей.
– А что случилось с мышками, папа? – спросил Рикки.
– Такой же вопрос продолжал задавать себе Карун, – сказал Марк, – потому что он понял: если джонтом смогут пользоваться еще и люди, это решит почти все энергетические проблемы. И человечество сможет завоевать космос. В статье для «Популярной механики» он писал, что так можно достичь даже звезд. Как он выразился, «перебраться через ручей, не замочив ног». Можно взять большой камень и бросить его в ручей, затем взять еще один, встать на первый и бросить второй. Вернуться, взять третий камень и, встав на второй, бросить его еще дальше. И так далее, пока не получится дорожка через весь ручей… или, в нашем случае, через Солнечную систему, а может быть, и через всю галактику.
– Я ничего не поняла, – сказала Патти.
– Это потому, что у тебя в голове какашки, – тут же съязвил Рикки.
– А вот и нет! Папа, Рикки сказал…
– Дети, не ссорьтесь, – мягко осадила их Мерилис.
– Карун очень хорошо предвидел то, что случилось на самом деле, – продолжал Марк. – Автоматические корабли, запрограммированные для посадки, сели сначала на Луну, потом на Марс, потом на Венеру и на спутники Юпитера… Автоматические корабли, предназначенные только для одного…
– Установить джонт-станцию для астронавтов, – закончил за него Рикки.
Марк кивнул.
– И теперь во всей Солнечной системе работают научные станции, а когда-нибудь, в далеком будущем, у человечества появится, может быть, новая планета. Сейчас корабли с джонт-станциями направлены уже к четырем разным звездам, у каждой из которых есть своя планетарная система. Но они доберутся туда очень-очень не скоро.
– Я хочу знать, что случилось с мышками, – нетерпеливо сказала Патти.
– В конце концов вмешалось правительство, – продолжал Марк. – Карун держал их в неведении сколько мог, но они таки пронюхали о его открытии и без промедления взяли все в свои руки. Карун оставался номинальным руководителем проекта «Джонт» еще десять лет, до самой своей смерти, но на самом деле он ничем уже не руководил.
– Вот не повезло! – прокомментировал Рик.
– Зато он стал героем, – добавила Патриция. – Он теперь во всех учебниках истории, как президент Линкольн и президент Харт.
«Можно подумать, ему от этого легче», – съязвил про себя Марк и принялся рассказывать дальше, старательно обходя лишние для детей подробности.
Правительство, зажатое в тиски усиливающегося энергетического кризиса, действительно взялось за дело без промедления: джонт-процесс, пригодный для коммерческого использования, нужен был чем раньше, тем лучше. Как говорится, нужен был еще вчера. Перед лицом надвигающегося экономического хаоса и все более реальных картин социальной анархии и массового голода в девяностые годы только уговоры ученых убедили правительство отложить официальное сообщение об открытии джонта до завершения спектрографического анализа джонтированных объектов. Когда же последние проверки показали, что абсолютно никаких изменений в телепортированных предметах не обнаружено, о существовании джонт-процесса было наконец с помпой объявлено на весь мир.
Вот тут и началось творение мифов о Викторе Каруне, престарелом, несколько странном человеке, который появлялся в лабораториях, может быть, дважды в неделю и менял одежду, только когда об этом вспоминал. Представители правительства, занимавшиеся связями с общественностью, а вслед за ними и рекламные агентства превратили Каруна в комбинацию из Томаса Эдисона, Эли Уитни, Пекоса Билли и Флэша Гордона. Довольно забавная ситуация, хотя и несколько мрачноватая, поскольку Виктор Карун к тому времени, возможно, или выжил из ума, или умер. Как говорится, искусство имитирует жизнь, а Каруну наверняка был знаком роман Роберта Хайнлайна о двойниках, которые заменяют известных публике деятелей.[8]
Будучи пережитком «экологических» шестидесятых, когда много говорилось и мало делалось (когда еще можно было позволить себе подобную роскошь), Карун, конечно, представлял собой проблему для правительства. Бесконечную проблему, от которой никак не могли избавиться. Однако позже наступили другие времена, когда тучи сажи загадили небо, а огромный кусок калифорнийского побережья мог стать непригодным для жизни лет на шестьдесят из-за «просчетов» в ядерной энергетике. Виктор Карун оставался проблемой примерно до 1991 года, а затем он стал символом – улыбающимся, спокойным, почтенным. Нередко он стал появляться в сводках новостей, где приветливо махал рукой с трибуны. В 1993 году, за три года до официальной даты его смерти, он даже участвовал в торжественном параде, медленно проезжая по городу в открытой машине.
Объявление 19 октября 1988 года о существовании джонта, то есть надежного телепортационного процесса, мгновенно вызвало во всем мире бурю восторгов и экономический подъем. Американский доллар на потрепанном мировом рынке взвился до потолка. Люди, покупавшие золото по 806 долларов за унцию, вдруг обнаружили, что фунт золота можно обменять всего лишь на 1200 долларов. За год, прошедший от объявления о существовании джонта до первых действующих джонт-станций в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, уровень цен на фондовой бирже перебрался за тысячу пунктов. Цена на нефть снизилась всего на 70 центов за баррель, но к 1994 году, когда джонт-станции связали пересекающимися маршрутами уже 70 крупных городов США, в ОПЕК отпала необходимость, и цены на нефть покатились вниз. В 1998 году, когда станции появились почти во всех крупных городах мира и джонтирование грузов между Токио и Парижем, Парижем и Лондоном, Лондоном и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Берлином стало обычным делом, цена на нефть упала до 14 долларов за баррель. В 2006-м, когда люди начали наконец пользоваться джонтированием повсеместно, а уровень цен на бирже вырос по сравнению с 1987 годом на пять тысяч пунктов, нефть пошла по шесть долларов за баррель, и нефтяные компании стали менять названия. Компания «Тексако» стала «Тексако-Нефть/Вода», «Мобил» превратился в «Мобил-Гидро-2-Окс». К 2045 году наиболее прибыльной стала разведка и добыча воды, а нефть превратилась в то, чем она была в 1906 году, – в забаву.
– А мышки, папа? – нетерпеливо спросила Патти. – Что случилось с мышками?
Марк решил, что уже можно рассказывать, и показал им на сотрудников джонт-службы, обходящих пассажиров всего в трех рядах от места, где расположились Оутсы. Рик только кивнул. Патти с беспокойством посмотрела на даму с модно выбритой и раскрашенной головой, которая вдохнула через маску газ и мгновенно уснула.
– Когда не спишь, джонтироваться нельзя, да, папа? – спросил Рик.
Марк кивнул и обнадеживающе улыбнулся Патриции.
– Это Карун понял даже раньше, чем о его открытии узнало правительство, – сказал он.
– А как они, кстати, узнали, Марк? – спросила Мерилис.
– По использованию компьютерного времени и загрузке банков данных, – сказал Марк, улыбнувшись. – Единственное, чего Карун не мог ни украсть, ни выпросить, ни одолжить. Саму передачу элементарных частиц осуществлял компьютер – миллиарды единиц информации. Именно компьютер беспокоится о том, чтобы, когда ты материализуешься, голова у тебя росла из плеч, а не из живота.
Мерилис вздрогнула.
– Не пугайся, – сказал Марк. – Подобных накладок еще ни разу не было. Никогда.
– Всегда бывает первый раз, – пробормотала Мерилис.
Марк посмотрел на Рикки и спросил:
– Как Карун узнал, Рик? Как он догадался, что джонтироваться надо во сне?
– Когда он совал мышей хвостом вперед, – медленно произнес Рикки, – они чувствовали себя нормально. До тех пор, пока он не засовывал их целиком. Они… умирали, только когда Карун запихивал их в портал головой вперед. Правильно?
– Правильно, – сказал Марк.
Двое сотрудников джонт-службы приближались, двигая впереди себя свою колесницу забвения. Видимо, времени на рассказ все-таки не хватит. Может быть, оно и к лучшему.
– Конечно же, для того чтобы выяснить, что происходит, много экспериментов не потребовалось. Джонтирование почти целиком вытеснило грузовые автотранспортные операции, и у экспериментаторов появилась по крайней мере небольшая передышка…
Да. Появилось время, и проверки продолжались больше двадцати лет, хотя первые же опыты Каруна убедили его в том, что в бессознательном состоянии животные не подвержены воздействию, за которым впоследствии закрепилось название «органический эффект», или просто «джонт-эффект».
Вместе с Москони они усыпили несколько мышей, пропихнули их в первый портал, извлекли из второго и, снедаемые любопытством, стали ждать, когда подопытные зверьки проснутся… или умрут. Мыши проснулись и после короткого восстановительного периода, вызванного действием снотворного, занялись своими обычными мышиными делами, то есть принялись грызть еду, гадить, играть и размножаться без каких бы то ни было отрицательных последствий. Эти мыши стали первыми из нескольких поколений, которые изучались с особым интересом. Никаких отрицательных последствий так и не обнаружилось: умирали они не раньше других мышей, мышата рождались у них нормальные, без двух голов и зеленой окраски. Собственно говоря, у этих мышат не обнаружилось вообще никаких изменений.
– А когда они начали работать с людьми, папа? – спросил Рикки, хотя наверняка уже читал об этом в школьном учебнике. – Про это расскажи.
– Я хочу знать, что случилось с мышками, – снова заявила Патти.
Хотя столик с газом доехал уже до начала их ряда, Марк Оутс позволил себе на несколько секунд задуматься. Его дочь, которая знала, безусловно, меньше брата, прислушалась к своему сердцу и задала правильный вопрос. Поэтому он решил ответить на вопрос сына.
Первыми людьми, испытавшими джонт на себе, стали не астронавты или летчики; ими стали добровольцы из числа заключенных, при отборе которых никого даже не интересовала стабильность их психики. Более того, ученые, стоявшие во главе проекта (Каруна среди них не было; он стал, что называется, номинальным руководителем), считали, что чем они будут менее уравновешенны, тем лучше: если уж такие люди пройдут джонтирование и останутся в порядке – или по крайней мере будут не хуже, чем до того, – тогда процесс, возможно, безопасен для бизнесменов, политиков и манекенщиц.
Шестеро таких добровольцев были привезены в Провинс, штат Вермонт (место, прославившееся с тех пор так же широко, как прославился в свое время Китти-Хок в Северной Каролине), где их усыпили и по очереди телепортировали между порталами, расположенными в двух милях друг от друга.
Об этом Марк детям рассказал, потому что все шестеро, разумеется, проснулись в лучшем виде. Но он не стал рассказывать им о седьмом испытателе. У этой фигуры, то ли вымышленной, то ли реальной, а скорее всего скомбинированной из реальности и вымысла, даже имелось имя: Руди Фоггиа. Его якобы судили и приговорили в штате Флорида к смерти за убийство четверых стариков, на которых Фоггиа напал, когда те сидели дома и спокойно играли в бридж. Якобы ЦРУ и ФБР совместно сделали Фоггиа уникальное предложение: джонтироваться не засыпая. Если все пройдет нормально, получаешь полное освобождение, подписанное губернатором Тургудом, и идешь на все четыре стороны; хочешь, живи честно, а хочешь, можешь ухлопать еще несколько стариков в желтых брюках и белых ботинках, собравшихся поиграть в бридж. Если же умрешь или сойдешь с ума, значит, не повезло. Ну как?
Фоггиа, понимавший, что Флорида – это чуть ли не единственный штат, где смертный приговор означает действительно смертный приговор, дал согласие, узнав от своего адвоката, что он скорее всего будет следующим, кого посадят на Старый Добрый Электрический.
В тот Великий День летом 2007 года в зале испытаний присутствовали человек двенадцать ученых, но если даже история с Руди Фоггиа правдива – а Марк верил, что это действительно так, – он сомневался, что проговорились именно ученые. Скорее всего это сделал кто-нибудь из охранников, которые доставляли Фоггиа самолетом из Рейфорда в Монпелье, а затем на бронированной машине из Монпелье в Провинс.
– Если я останусь в живых, приготовьте мне жареную курицу, а уж потом я смоюсь. – Это, по слухам, Фоггиа сказал перед тем, как шагнуть в первый портал и через мгновение появиться из второго.
Он вышел живым, но отведать жареной курицы ему было уже не суждено. За время, потребовавшееся ему, чтобы перенестись на две мили (по замеру компьютера – 0,000000000067 секунды), его волосы стали совершенно седыми. Лицо Фоггиа не изменилось физически – на нем не появилось морщин и потеков, оно не исхудало, – но при взгляде на него возникало впечатление страшной, почти невероятной старости. Шаркая ногами, Фоггиа отошел от портала и, неуверенно вытянув вперед руки, поглядел на мир пустыми глазами. Губы его дергались и шевелились, потом изо рта потекла слюна. Ученые, собравшиеся вокруг него, отпрянули… Марк действительно не сомневался в том, что никто из них не проговорился: они уже видели крыс, морских свинок и хомяков, любых животных, у которых мозгов больше, чем у земляного червя, и чувствовали себя, должно быть, не лучше тех германских ученых, что пытались скрещивать еврейских женщин и немецких овчарок.
– Что произошло? – закричал один из них (по просочившимся слухам, он именно закричал), и это оказался единственный вопрос, на который Фоггиа смог ответить.
– Там вечность! – произнес он и упал замертво. Позже врачи определили инфаркт.
Собравшиеся ученые остались с трупом (о тайном захоронении которого впоследствии позаботились люди из ЦРУ и ФБР) и этим странным, пугающим предсмертным откровением: «Там вечность!»
– Папа, я хочу знать, что случилось с мышками, – повторила Патти. Возможность снова спросить об этом у нее возникла лишь потому, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных ботинках начал вдруг спорить с сотрудником джонт-службы. Он, похоже, не хотел, чтобы его усыпляли именно газом, упирался и чего-то требовал. Люди из джонт-службы старались как могли – уговаривали, стыдили, убеждали, – но это несколько замедлило их работу.
Марк вздохнул. Он сам завел этот разговор – да, чтобы отвлечь детей от переживаний перед джонтом, но все-таки завел, – и теперь придется его заканчивать настолько правдиво, насколько можно без того, чтобы встревожить детей или напугать.
Он не станет, конечно, рассказывать им, например, о книге С. К. Саммерса «Политика джонта», одна из глав которой – «Джонт под покровом тайны» – содержала подборку наиболее достоверных слухов о джонте. Описывалась там и история Руди Фоггиа, и еще около тридцати случаев с добровольцами или сумасшедшими, которые джонтировались не засыпая, за последние триста лет. Большинство из них умерли у выходного портала. Остальные безнадежно свихнулись. В некоторых случаях к смерти от шока приводил сам факт выхода из джонта.
Эта глава в книге Саммерса, посвященная слухам и домыслам, содержала немало других тревожных разоблачений: несколько раз, очевидно, джонт использовался в качестве орудия убийства. Наиболее известный (и единственный задокументированный) случай произошел всего тридцать лет назад, когда джонт-исследователь Лестер Майклсон связал свою жену и затолкал надрывающуюся от крика женщину в портал в Силвер-Сити, штат Невада. Но перед тем, как сделать это, он нажал кнопку обнуления на панели управления, тем самым стерев координаты сотен тысяч других порталов, через которые миссис Майклсон могла бы материализоваться: где-нибудь от соседнего города Рино до экспериментальной станции на Ио, спутнике Юпитера. Короче, миссис Майклсон джонтировалась куда-то в белый свет. После того как эксперты признали Лестера Майклсона полноценным и, следовательно, способным нести ответственность за свои действия (может быть, по закону он и не считался сумасшедшим, но с чисто человеческой точки зрения он, конечно, был полным психом), его адвокат предложил новый вариант защиты: Лестера Майклсона нельзя судить за убийство, так как никто не может с определенностью доказать, что миссис Майклсон мертва.
Что, в свою очередь, создало ужасный образ некоего призрака женщины, бестелесной, но все еще разумной, продолжающей истошно кричать где-то в чистилище целую вечность… Майклсона осудили и казнили.
Кроме того, Саммерс предполагал, что джонт-процесс использовался различными диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих и политических противников. Некоторые считали, что мафия также имеет свои нелегальные джонт-станции, подключенные к центральному компьютеру с помощью ЦРУ. В книге высказывалось предположение, что посредством обнуленных джонт-станций мафия избавлялась от своих жертв, в отличие от случая, происшедшего с миссис Майклсон, уже мертвых. В подобном свете джонт выглядел весьма удобным механизмом, гораздо более эффективным, чем, скажем, песчаные карьеры или заброшенные шахты.
Все это вело в конечном итоге к предлагаемым Саммерсом выводам и теориям относительно джонта, что опять-таки возвращало Марка к настойчивым вопросам Патти о судьбе мышей.
– Видишь ли, – произнес он медленно, заметив, как жена взглядом предупреждает его, чтобы он не сказал чего-нибудь лишнего, – даже сейчас никто точно этого не знает, Патти. Но все эксперименты с животными – включая и мышей – привели ученых к выводу о том, что, хотя джонт физически осуществляется почти мгновенно, в уме на телепортацию тратится долгое-долгое время.
– Я не понимаю, – обиженно сказала Патти. – Я так и знала, что не пойму.
Рикки, однако, смотрел на отца задумчиво.
– Они продолжали думать, – сказал он. – Все подопытные животные. И мы тоже будем, если нас не усыпят.
– Да, – согласился Марк. – Ученые считают именно так.
Что-то новое появилось во взгляде Рикки. Испуг? Возбуждение?
– Это не просто телепортация, да, папа? Это что-то вроде искривления времени?
«Там вечность!» – подумалось Марку.
– В каком-то смысле да, – сказал он. – Но эта фраза… как из комиксов: звучит неплохо, но ничего не объясняет, Рик. Тут дело, может быть, в том, что сознание не переносится элементарными частицами, оно каким-то образом остается единым и неделимым. А кроме того, сохраняет некое искаженное ощущение времени. Но, впрочем, мы не знаем, как измеряет время чистое сознание, не знаем даже, имеет ли эта концепция какой-нибудь смысл для чистого разума. Более того, мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум.
Марк умолк, встревоженно наблюдая за взглядом сына, который вдруг стал острым и пытливым. «Понимает, но в то же время не понимает», – подумал он. Разум может быть лучшим другом; может позабавить человека, когда, скажем, нечего читать и нечем заняться. Но когда он не получает новых данных слишком долго, он обращается против человека, то есть против себя, начинает рвать и мучить сам себя и, может быть, пожирает сам себя в непредставимом акте самоканнибализма. Как долго это тянется в годах? Для тела джонт занимает 0,000000000067 секунды, но как долго для неделимого сознания? Сто лет? Тысяча? Миллион? Миллиард? Сколько лет наедине со своими мыслями в бесконечном поле белизны? И вдруг, когда проходит миллиард вечностей, резкое возвращение к свету, форме, телу. Кто в состоянии выдержать такое?
– Рикки… – начал он, но в этот момент к нему приблизились сотрудники джонт-службы со своим столиком.
– Вы готовы? – спросил один из них.
Марк кивнул.
– Папа, я боюсь, – произнесла Патти тоненьким голосом. – Это больно?
– Нет, милая, конечно, нет, – ответил Марк вполне спокойным голосом, но сердце его забилось чуть быстрее: так случалось всегда, хотя джонтировался он уже раз двадцать пять. – Я буду первым, и вы увидите, как это легко и просто.
Человек в комбинезоне взглянул на него вопросительно. Марк кивнул и заставил себя улыбнуться. Затем на лицо его опустилась маска. Марк прижал ее руками и глубоко вдохнул в себя темноту.
Первое, что он увидел, очнувшись, – это черное марсианское небо над куполом, закрывающим Уайтхед-Сити. Была ночь, и звезды, высыпавшие на небе, сияли с удивительной яркостью, никогда не виданной на Земле.
Потом он услышал какие-то беспорядочные крики, бормотание и через секунду пронзительный визг. «О Боже, это Мерилис!» – пронеслось у него в голове, и, борясь с накатывающимися волнами головокружения, Марк поднялся с кушетки.
Снова закричали, и он увидел бегущих в их сторону сотрудников джонт-службы в красных трепыхающихся от быстрого бега комбинезонах. Мерилис, шатаясь и указывая куда-то рукой, двинулась к нему. Потом снова вскрикнула и без сознания упала на пол, толкнув при этом пустую кушетку, которая медленно покатилась по проходу.
Но Марк уже понял, куда она указывает. Он видел. В глазах Рикки он заметил тогда не испуг, а именно возбуждение. Ему следовало бы догадаться, ведь он знал Рикки. Рикки, который упал с самой высокой развилки на дереве у их загородного дома в Шенектади, когда ему исполнилось всего семь лет, и сломал руку (ему повезло, что только руку). Рикки, который носился на санках с гор дальше и быстрее, чем любой другой соседский мальчишка. Рикки, который первым брался сделать что-нибудь на спор. Рикки, который не знал страха.
До этого момента.
На соседней с Рикки кушетке лежала Патти и, к счастью, еще спала. То, что было его сыном, дергалось и извивалось рядом – двенадцатилетний мальчишка со снежно-белой головой и невероятно старыми глазами, приобретшими болезненно-желтый цвет. Существо старше, чем само время, рядящееся под двенадцатилетнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дергалось, словно в каком-то жутком, мерзком приступе веселья, потом засмеялось скрипучим, безумным смехом, после чего сотрудники джонт-службы в ужасе отпрянули. Двое или трое из них бросились в сторону, хотя их специально готовили и к такому вот немыслимому исходу.
Ноги старика-младенца судорожно сгибались и дрожали. Руки, похожие на высохшие хищные лапы, заламывались и плясали в воздухе, потом они вдруг опустились и вцепились в лицо этого существа, которое недавно еще звали Рикки.
– Дольше, чем ты думаешь, отец! – проскрежетало оно. – Дольше, чем ты думаешь! Я задержал дыхание, когда мне давали маску! Хотел увидеть! И увидел! Я увидел! Дольше, чем ты думаешь!
С визгами и хрипами оно неожиданно впилось пальцами себе в глаза. Потекла кровь, и зал превратился в испуганный, кричащий обезьянник.
– Дольше, чем ты думаешь, отец! Я видел! Видел! Долгий джонт. Дольше, чем ты думаешь…
Оно выкрикивало еще что-то, но джонт-служащие наконец опомнились и быстро повезли из зала кушетку с кричащим существом, пытающимся выцарапать себе глаза. Глаза, которые видели немыслимое на протяжении целой вечности. Существо говорило что-то еще, затем закричало, но Марк Оутс уже ничего не слышал, потому что закричал сам.
Свадебный джаз
[9]
В 1927 году мы играли в «тихом»[10] ресторанчике, находившемся к югу от Моргана, штат Иллинойс, в семидесяти милях от Чикаго. Можно сказать, в деревенской глуши: ни одного городка ближе двадцати миль, в какую сторону ни посмотри. Но и здесь находилось достаточно фермеров, которые после жаркого дня на поле предпочитали что-нибудь покрепче домашнего лимонада, и девчушек, жаждущих поплясать со своими дружками, будь они ковбоями или продавцами аптечных магазинов. Заглядывали к нам и женатики (этих мы отличали без труда, словно они ходили с табличкой на груди), чтобы вдали от любопытных глаз порезвиться со своими тайными милашками.
Уж мы играли джаз так джаз, брали мастерством, а не громкостью. Работали впятером: барабаны, корнет, тромбон, пианино, труба – и свое дело знали. Происходило все это за три года до записи нашей первой пластинки и за четыре до появления звукового кино.
Когда в зал вошел этот верзила в белом костюме и с трубкой размерами с валторну, мы играли «Бамбуковый залив». Мы, конечно, уже приняли на грудь, но публика накачалась куда сильнее и веселилась от души, так что стены ходили ходуном. Все пребывали в прекрасном настроении: в этот вечер обошлось без драк. Пот тек с нас ручьем, и спасало только ржаное виски, которое исправно посылал нам Томми Ингландер, хозяин этого заведения. Мне нравилось работать у Ингландера, а он по достоинству оценивал наше творчество. Понятное дело, я его за это уважал.
Парень в белом костюме пристроился у стойки, и я о нем и думать забыл. Мы отыграли «Блюз тетушки Хагар», страшно популярную в те времена мелодию, особенно в захолустье, как обычно, сорвали аплодисменты и отправились на перерыв. Сходя со сцены, Мэнни лыбился во все тридцать два зуба. Девушка в зеленом вечернем платье, которая весь вечер строила мне глазки, по-прежнему сидела одна. Рыженькая, каких я и люблю. По выражению ее глаз и легкому кивку я все понял и уже направился к ней полюбопытствовать, не хочет ли она чего-нибудь выпить.
Но на полпути этот мужчина в белом костюме заступил мне дорогу. Чувствовалось, что он из крутых. Остатки волос на затылке стояли дыбом, хотя он явно вылил на них целый флакон бриолина, а глаза холодно поблескивали, странные такие глаза, скорее не человека, а глубоководной рыбы.
– Выйдем, разговор есть, – процедил он.
Рыженькая отвернулась, надув губки.
– Разговор подождет, – ответил я. – Пропусти меня.
– Меня зовут Сколли. Майк Сколли.
Как же, слышал. Гангстер местного розлива из Шайтауна, который расплачивался за пиво и сласти, привозя из Канады выпивку. Ту самую крепкую выпивку, что производят в стране, где мужчины носят юбки и играют на волынках. Когда не разливают виски по бочкам и бутылкам. Его портрет изредка появлялся в газетах. Последний раз в связи с тем, что его хотел пристрелить другой завсегдатай злачных мест.
– Мы довольно-таки далеко от Чикаго, друг мой.
– Я приехал не один, можешь не волноваться. Пошли.
Рыженькая вновь стрельнула на меня глазками. Я указал на Сколли, пожал плечами. Она скорчила гримаску и отвернулась.
– Ну вот. Ты мне все обломал.
– Цыпочки вроде этой идут в Чикаго по центу за бушель.
– Не нужен мне бушель!
– Пошли!
Я последовал за ним. После прокуренной атмосферы ресторана воздух приятно холодил кожу. Пахло свежескошенным сеном. Небо усыпали мягко поблескивающие звезды. Местная шпана тоже высыпала, да только мягкостью она не отличалась, а поблескивали разве что кончики их сигарет.
– У меня есть для тебя работенка.
– И что?
– Плачу пару сотен. Раздели их на всех или оставь одну себе.
– Какая работенка?
– Сыграть, что же еще? Моя сеструха выходит замуж. Я хочу, чтобы вы сыграли на свадьбе. Ей нравится диксиленд[11]. Двое моих парней сказали, что вы в этом деле доки.
Я уже говорил вам, что полагал Ингландера хорошим работодателем. Он платил нам восемьдесят баксов в неделю. Этот парень предлагал вдвое больше за одно выступление.
– С пяти до восьми в следующую пятницу, – уточнил Сколли. – Зал «Сыновья Эрина» на Гроувер-стрит.
– Ты переплачиваешь. Почему?
– На то две причины, – ответил Сколли, попыхивая трубкой. Никак она не вязалась с его жлобской физиономией. Ему бы курить «Лаки страйк», может, «Свит кейпорэл». Сигареты бандитов. А вот с трубкой он не выглядел бандюгой. С трубкой он становился грустным и забавным.
– Две причины, – повторил он. – Может, ты слышал о Греке, который пытался меня пришить?
– Я видел твою фотографию в газете. Ты старался уползти на тротуар.
– Не умничай, – беззлобно проворчал он. – Я становлюсь ему не по зубам. Грек стареет. Мыслит узко. Ему пора на родину, пить оливковое масло, смотреть на Тихий океан.
– Я думал, там Эгейское море.
– Пусть даже озеро Харон, мне наплевать. Беда в другом: не желает он признавать, что стареет. По-прежнему хочет добраться до меня. Не понимает, что его время кончилось, смена пришла.
– То есть ты.
– Тут ты попал в самое яблочко.
– Другими словами, ты платишь две сотни, потому что последнюю мелодию нам придется исполнять под аккомпанемент ружейной пальбы.
Лицо его полыхнуло яростью, но на нем отразилось и какое-то другое чувство. Тогда я не понял, какое именно, но теперь думаю, что печаль.
– Приятель, безопасность будет обеспечена. За все уплачено. Если кто-то сунет нос в это дело, второй раз дыхнуть ему уже не дадут.
– Вторая причина?
– Моя сестра выходит замуж за итальянца, – вкрадчивым голосом ответил он.
– Такого же доброго католика, как и ты, – усмехнулся я.
Вот тут ярость полыхнула вновь, ослепительно белая, я даже испугался, что переборщил.
– Я ирландец! Чистейших кровей, и советую не забывать этого, сынок! – Тут он добавил, совсем тихо: – Даже если я потерял большую часть волос, они были рыжими.
Я уже собрался что-то сказать, но не успел, потому что он схватил меня за грудки и притянул к себе. Да так близко, что наши носы едва не соприкоснулись. Никогда я не видел на человеческом лице такой гаммы чувств: злость, унижение, ярость, решимость смешались воедино. В наши дни такого и подавно не увидишь. А тогда я видел все – и обиду, и боль, и любовь, и ненависть. И сразу понял, что лучше придержать язык, если, конечно, не хочу отправиться к праотцам.
– Она толстуха, – прошептал он. Пахло от него мятой. – Многие надо мной смеются, стоит мне повернуться к ним спиной. Когда я смотрю им в глаза, смеяться они не решаются, это я тебе точно говорю, мистер Корнетист. Вот и получается, что, кроме этого даго[12], ей, возможно, никого не сыскать. Но вы не должны смеяться надо мной, над ней или этим даго. И никто не должен смеяться. Потому что играть вы будете как можно громче. Никто не посмеет смеяться над моей сеструхой.
– Мы никогда не смеемся во время выступлений, – заверил я его. – Смех выбивает из ритма.
Напряжение спало. Он даже рассмеялся, скорее коротко хохотнул.
– Подъезжайте так, чтобы начать игру ровно в пять. Зал «Сыновья Эрина» на Гроувер-стрит. Я оплачу и дорожные расходы, в обе стороны.
В его голосе не слышалось вопросительных интонаций. В принципе я не возражал, но хотел кое-что уточнить. Он, однако, такой возможности мне не дал. Потому что уже уходил, а один из его головорезов уже открыл заднюю дверцу черного «паккарда».
Они уехали. Я еще постоял, выкурил сигарету. Очень уж приятным, тихим выдался вечер, и я все более склонялся к мысли, что Сколли мне просто привиделся. Так и хотелось вытащить сцену на автомобильную стоянку и поиграть прямо здесь, на свежем воздухе, но тут Бифф похлопал меня по плечу:
– Пора.
– Хорошо, – отозвался я.
Мы вернулись в ресторан. Рыженькая подцепила какого-то седовласого морячка, в два раза старше себя. Я не мог взять в толк, каким ветром парня из военно-морского флота Соединенных Штатов могло занести в Иллинойс, но задумываться над этим не стал. И не очень-то огорчился. Чего жалеть, если у дамочки такой плохой вкус. Ржаное виски ударило в голову, и Сколли обрел куда более реальные очертания в густом, хоть топор вешай, табачном дыму.
– Нам заказали «Скачки в Кэмптауне», – шепнул мне Чарли.
– Даже не думай, – отрезал я. – До полуночи мы ниггеровской туфты не играем.
Я увидел, как лицо Билли-Боя, сидящего за пианино, закаменело, потом вновь разгладилось. Мне хотелось дать себе пинка, но, черт побери, не может человек сменить лексикон за день, даже за год. Может, десяти лет ему и хватит, но точно сказать не могу. Уже тогда я ненавидел слово «ниггер», но оно то и дело слетало с языка.
Я подошел к нему.
– Извини, Билл… сегодня я что-то не в себе.
– Конечно, – ответил он, но смотрел куда-то за мое плечо, и я понял, что мои извинения не приняты. Скверно, конечно, но могло, доложу я вам, быть и хуже: если бы он разочаровался во мне.
О предложении Сколли я рассказал им во время следующего перерыва, назвал обещанную сумму, не скрыл и того, что Сколли – гангстер (правда, не упомянул о другом гангстере, который пытался свести с ним счеты). Сказал и о том, что сестра Сколли – толстуха, а Сколли из-за этого очень переживает. А потому шуточки насчет плывущей по реке баржи могли привести к появлению в голове еще одной дырки, повыше глаз.
Говоря все это, я не отрывал взгляда от лица Билли-Боя, но ничего не смог на нем прочесть. Легче прочитать мысли грецкого ореха по его скорлупе. Лучшего пианиста, чем Билли-Бой, мы найти не могли, и нас печалили те мелкие неприятности, что выпадали на его долю во время разъездов. Разумеется, по большей части на Юге, хотя и на Севере ему приходилось несладко. Но что я мог с этим поделать? А? Скажите мне, если знаете. В те дни приходилось мириться с тем, что к людям с разным цветом кожи относятся по-разному.
К залу «Сыновья Эрина» на Гроувер-стрит мы прибыли в пятницу в четыре часа дня, за час до начала выступления. Приехали на грузовичке «форде», который Бифф, я и Мэнни купили в складчину. Кузов обтянули брезентом, там у нас стояли две койки, привинченные к полу, и была даже электроплитка, работающая от аккумулятора. Снаружи на брезенте красовалось название нашей группы.
День выдался чудесный, теплый, солнечный, с плывущими по небу белыми облачками, отбрасывающими тень на поля. Но как только мы въехали в Чикаго, навалились жара и духота, от которых в таких городках, как Морган, отвыкаешь начисто. Так что, пока мы добрались до Гроувер-стрит, одежда уже прилипла к телу и у меня возникло желание облегчиться. Не отказался бы я и от стопки ржаного виски Томми Ингландера.
Зал «Сыновья Эрина» располагался в большом деревянном здании, примыкающем к церкви, где собиралась венчаться сестра Сколли. Знаете вы такие залы: по вторникам собрания молодых католиков, по средам – бинго, по субботам – молодежные вечера.
Мы столпились на тротуаре, каждый со своим инструментом в одной руке и частью ударной установки Биффа в другой. Тощая дама, плоская, как доска, распоряжалась внутри. Двое вспотевших мужчин вешали бумажные гирлянды. Эстрада находилась у дальнего торца, над ней висели транспарант и два больших свадебных колокольчика из розовой бумаги. Надпись на транспаранте гласила: ВЕЧНОГО СЧАСТЬЯ МУРИН И РИКО.
Мурин и Рико. Черт меня подери, если я теперь не понимал, чего так кипятился Сколли. Мурин и Рико. Та еще парочка.
Тощая дама устремилась к нам. Похоже, с намерением разразиться длинной речью, но я ее упредил.
– Мы – музыканты.
– Музыканты? – Она недоверчиво оглядела наши инструменты. – Однако. Я надеялась, что вы привезли угощение.
Я улыбнулся. Действительно, кто еще, кроме сотрудников фирмы, обеспечивающей жрачкой банкеты, может прийти с духовыми инструментами и барабанами.
– Вы можете… – начала она, но тут послышались быстрые шаги, и рядом с нами возник юноша лет девятнадцати. С сигаретой, прилепившейся к уголку рта. Крутизны она ему не добавляла, зато заставляла слезиться левый глаз.
– Открывайте ваше дерьмо, – бросил он.
Чарли и Бифф посмотрели на меня. Я пожал плечами. Мы открыли футляры, и он оглядел наши инструменты. Не узрев ничего заряжаемого и стреляющего, ретировался в угол и уселся на складной стул.
– Вы можете готовиться к выступлению, – продолжила худышка, словно ее и не перебивали. – Пианино в другой комнате. Я попрошу моих людей прикатить его, как только они украсят зал.
Бифф уже собирал ударную установку на маленькой сцене.
– А я-то подумала, что вы привезли угощение, – повторила женщина. – Мистер Сколли заказал свадебный торт, закуски, ростбиф и…
– Они обязательно подъедут, мэм, – перебил ее я. – Им же платят после доставки.
– …жареную свинину, индейку, и мистер Сколли будет в ярости, если… – Она увидела, что один из мужчин прикуривает сигарету прямо под свисающим концом гирлянды из крепа, и завопила: – ГЕНРИ!
Мужчина аж подпрыгнул, а я шмыгнул к эстраде.
В четверть пятого мы закончили подготовку. Чарли, тромбонист, втихую опробовал инструмент, Бифф разминал кисти. Угощение привезли в четыре двадцать, и мисс Джибсон (так звали худышку, она, похоже, зарабатывала на жизнь организацией подобных мероприятий) с ходу взяла их в оборот.
Тут же в зале поставили четыре длинных стола, накрыли их белыми скатертями. Четыре черные женщины в белых колпаках и фартуках принялись накрывать столы. Торт выкатили на середину зала, чтобы все могли им полюбоваться. Шесть толстенных слоев, с фигурками жениха и невесты наверху.
Я вышел на улицу покурить, несколько раз затянулся и услышал автомобильные гудки: едут. Подождал, пока первая машина появится из-за угла, за которым находилась церковь, затушил сигарету и вернулся в зал.
– Они прибыли, – сообщил я мисс Джибсон.
Она побледнела, даже покачнулась. С такой комплекцией ей следовало выбрать другую профессию, выучиться на дизайнера или на библиотекаря.
– Томатный сок! – взвизгнула она. – Принесите томатный сок!
Я поднялся на эстраду, оглядел свою команду. Нам уже приходилось играть на свадьбах (а какому джаз-банду нет?), поэтому, как только открылись двери, мы заиграли регтаймовскую вариацию «Свадебного марша» в моей аранжировке. Если вы скажете, что звучит это как коктейль из лимонада, я с вами соглашусь, но на всех свадьбах, где мы играли, она проходила на ура, а эта ничем не отличалась от любой другой. Все хлопали, кричали, свистели, затем бросились обниматься. А поскольку многие еще и приплясывали в такт мелодии, я могу точно сказать, что с нашей музыкой мы попали в струю. Мы продолжали играть, для того нас и приглашали, и я чувствовал, что свадьба пройдет как надо. Я знаю все, что вы можете сказать об ирландцах, и большая часть из этого – чистая правда, но, черт побери, если уж им представляется возможность повеселиться, они ее не упускают!
Однако, должен признать, я едва все не испортил, когда появились жених и зарумянившаяся невеста. Сколли, в визитке и полосатых брюках, одарил меня суровым взглядом, и не думайте, что я его не заметил. Но мое лицо осталось бесстрастным, остальные тоже сумели и ухом не повести, так что мы даже не сбились с ритма. К счастью для нас. Гости, в основном громилы Сколли и их подружки, уже знали, чего от них ждут. Должны были знать, потому что были в церкви. И все равно до меня донеслись отдельные смешки.
Вы слышали о Джеке Стрэте и его жене. Так вот, здесь дело обстояло в сотню раз хуже. Волосы у сестры Сколли были тоже рыжие, но длинные и кудрявые. И отнюдь не приятного золотистого оттенка, нет – огненно-рыжие, как у жителей графства Корк, яркие, словно морковка, и еще вились мелким бесом. А ее молочно-белую кожу покрывали мириады веснушек. И Сколли говорил, что она толстая? Господи, да с тем же успехом можно сказать, что универмаг «Мейсис»[13] – деревенская лавчонка. Она напоминала динозавра в человеческом облике с ее добрыми тремя с половиной сотнями фунтов. И все эти фунты пришлись на грудь, бедра и зад, как и случается у толстых девушек, отчего то, что должно выглядеть сексуальным, становится пугающим. Некоторых толстушек природа награждает симпатичными мордашками, но и тут сестра Сколли ничем не могла похвастаться: близко посаженные глаза, слишком большой рот, уши-лопухи. И везде веснушки. Будь она худой, и то от ее уродства часы бы останавливались. А тут немереная плоть, сплошь усеянная веснушками.
Но над ней одной смеяться никто бы не стал, разве что какие-нибудь придурки или последние сволочи. Да вот картину дополнял женишок. Тут уж поневоле разбирал смех. В высоком цилиндре он, пожалуй, достал бы ей до плеча. Тянул он максимум на девяносто фунтов, да и то после плотного обеда. Худой, как рельс, смуглый до черноты. А когда он нервно улыбался, зубы его торчали, как штакетины в заборе у заброшенного дома.
Мы играли и играли.
– Жених и невеста! – проревел Сколли. – Да пошлет вам Бог счастья!
А если Бог не пошлет, говорил его грозный вид, этим придется заняться вам… по крайней мере сегодня.
Гости одобрительно закричали, зааплодировали. Мы закончили одну мелодию и тут же заиграли другую. Сестра Сколли, Мурин, улыбнулась. Господи, ну и роток. Рико глупо лыбился.
Какое-то время все ходили кругами, жевали крекеры с сыром и ветчиной, пили лучшее шотландское Сколли, доставленное в страну без ведома властей. Я тоже сумел пропустить три стопки и признал, что ржаное пойло Томми Ингландера в подметки не годится настоящему виски.
Сколли чуть расслабился, даже повеселел, определенно повеселел.
Однажды он даже подошел к эстраде, чтобы сказать: «Хорошо играете, парни». В устах такого «меломана», как он, подобные слова прозвучали как высшая похвала.
Перед тем как все уселись за столы, к нам подплыла и Мурин. Вблизи она выглядела еще уродливее, в чем ей немало способствовало и белое атласное платье (пошедшей на него материи вполне хватило бы для того, чтобы сшить покрывала на три кровати). Она спросила, сможем ли мы сыграть «Розы Пикардии». Это, мол, ее любимая песня, и она обожает слушать ее в исполнении Реда Николса и его джаз-банда. Пусть она была толстой и некрасивой, но держалась очень скромно, не то что некоторые из гостей, тоже заказывавших нам музыку. Мы сыграли, пусть и не очень хорошо. Однако она тепло нам улыбнулась, отчего стала чуть ли не симпатичной, а потом долго аплодировала.
За столы они уселись в четверть седьмого, и помощники мисс Джибсон принесли жаркое. Гости набросились на него, словно стая голодных волков. Меня это не удивило, поскольку до этого все накачивались спиртным. Я не мог оторвать глаз от Мурин, не мог не смотреть, как она ест. Как ни пытался отвернуться, мой взгляд вновь и вновь возвращался к ней. Я словно хотел в очередной раз убедиться, что вижу все это наяву, а не в дурном сне. Тут мало кто отличался безупречными манерами, но в сравнении с Мурин остальные казались пожилыми интеллигентными дамами, собравшимися на чашку чая. Она уже не могла выделить время на теплые улыбки или просьбы сыграть «Розы Пикардии». Я мог бы поставить перед ней знак: НЕ ОТВЛЕКАТЬ! ЖЕНЩИНА РАБОТАЕТ! Мурин не требовались нож и вилка, зато прекрасно подошли бы лопата и ленточный транспортер. Печальное, доложу я вам, зрелище. А Рико (над столом едва виднелся его подбородок да пара карих глаз, грустных, как у оленя) подавал и подавал ей новые блюда, все с той же дурацкой ухмылкой.
Пока резали торт, мы взяли двадцатиминутный перерыв, и мисс Джибсон самолично накормила нас на кухне. От раскаленной плиты шел жар, да и есть никому из нас особо не хотелось. Вечеринка начиналась хорошо, а теперь все пошло наперекосяк. Я мог прочитать эти мысли на лицах моих музыкантов… да и мисс Джибсон тоже.
К тому времени, когда мы вернулись на сцену, гости с новой силой налегли на спиртное. Крутые парни бродили по залу, глупо улыбаясь, или стояли по углам, тиская своих подружек. Несколько пар пожелали станцевать чарльстон, поэтому мы отыграли «Блюз тетушки Хагар» (дуболомы это проглотили), «Я верну чарльстон Чарльстону» и еще несколько аналогичных мелодий. Стандартный набор. Народ веселился от души, блестели раскрасневшиеся физиономии, мелькали руки и ноги, воздух сотрясали крики во-до-ди-о-до, от которых меня всегда тошнило. Сгустились сумерки. С некоторых окон упали сетчатые экраны, и в зал налетели мотыльки, со всех сторон облепив люстру. Но, как поется в песне, джаз-банд играл. Жених и невеста жались у стены (никто из них вроде бы не торопился отбыть в опочивальню), всеми покинутые. Даже Сколли вроде бы забыл про них. Он тоже прилично поддал.
Около восьми вечера в зал проскользнул какой-то парень. Я сразу его заметил. Во-первых, трезвый, во-вторых, напуганный – близорукая кошка, забредшая в собачью конуру. Он подошел к Сколли, который разговаривал с каким-то бандюгой у самой эстрады, и похлопал его по плечу. Сколли резко обернулся, и я услышал каждое сказанное ими слово. Поверьте мне, я мог бы прекрасно без этого обойтись.
– Чего надо? – грубо спросил Сколли.
– Меня зовут Деметрис, – ответил парень. – Деметрис Казенос. Меня прислал Грек.
Танцы как отрезало. Распахнулись пиджаки, руки нырнули под полы. Я заметил, что Мэнни нервничает. Черт, мне тоже стало не по себе. Но мы продолжали играть, можете мне поверить.
– Стоило ли тебе приходить? – раздумчиво спросил Сколли.
– Я пришел не по своей воле, мистер Сколли! – Парень сорвался на крик. – Грек, у него в заложницах моя жена. Он говорит, что убьет ее, если я не передам вам его послание!
– Какое послание? – Грозовые тучи собрались на челе Сколли.
– Он просит… – Парень замолчал, не в силах продолжать. Но глотка, похоже, зажила собственной жизнью, выталкивая слова, которые он не решался произнести. – Он просит передать вам, что ваша сестра – жирная свинья. Он просит… он просит… – Глаза его выкатились из орбит. Я коротко глянул на Мурин. Ей словно влепили оплеуху. – Он говорит, что у нее чесотка. Он говорит, если у толстой женщины чешется спина, она покупает чесалку, а вот если начинает свербить в другом месте, она покупает мужчину.
Из груди Мурин вырвался вопль, она, рыдая, выбежала из зала. Пол дрогнул. Рико последовал за ней, оторопевший, заламывая руки.
Сколли побагровел. Я уж подумал, что сейчас мозги поползут у него из ушей, столько крови прилило к голове. А на его лице я видел ту же муку, что и в тот вечер у ресторана Ингландера. Пусть он был мелким гангстером, но я не мог не пожалеть его. Думаю, вы меня понимаете.
Но заговорил он на удивление ровным, спокойным голосом.
– Что-нибудь еще?
Маленький грек сжался в комок. Испуганно заверещал:
– Пожалуйста, не убивайте меня, мистер Сколли! Моя жена… Грек, она у него в заложницах! Я не хочу все это говорить! Но у него моя жена, моя женщина…
– Я не причиню тебе вреда. – Голос Сколли зазвучал еще мягче. – Выкладывай остальное.
– Он просил передать, что весь город смеется над вами.
Тут мы перестали играть, и в зале на секунду установилась мертвая тишина. Сколли уставился в потолок. Руки его дрожали. Потом он сжал пальцы в кулаки, так крепко, что побелели костяшки.
– ХОРОШО! – проорал он. – ХОРОШО!
И метнулся к двери. Двое громил попытались остановить его, попытались сказать, что он ищет смерти, что Грек именно этого и ждет, но Сколли обезумел. Отшвырнул их и выбежал в черную летнюю ночь.
В повисшей в зале тишине слышалось лишь тяжелое дыхание посланца, да откуда-то издалека доносились всхлипывания новобрачной.
Вот тут молокосос, который просил нас открыть футляры с инструментами, громко выругался и последовал за Сколли. Один.
Но прежде чем он добежал до двери, на улице заскрипели автомобильные шины и взревели двигатели… много двигателей. Словно на параде в День поминовения.
– Господи Иисусе! – прокричал парнишка в дверях. – Их же тут до черта! Ложись, босс! Ложись! Ло…
Ночь взорвалась выстрелами. Словно на минуту или две вернулась Первая мировая война. Пули влетали в раскрытую дверь, одна разбила лампу, что висела в фойе. Вспышки освещали улицу лучше фонарей. Потом автомобили уехали. Одна из женщин уже вытряхивала осколки из начеса.
Опасность миновала, и все громилы двинули на улицу. Дверь кухни распахнулась, оттуда выбежала Мурин, дрожа всем своим огромным телом. Лицо ее раздулось еще больше. За ней семенил Рико. Они тоже подались наружу.
Мисс Джибсон оглядела пустой зал, ее глаза напоминали чайные блюдца. Маленький грек, с появления которого и начался весь сыр-бор, уже успел сделать ноги.
– Стреляли, – пробормотала мисс Джибсон. – Что случилось?
– Я думаю, Грек замочил того, кто обещал нам заплатить, – ответил Бифф.
Она в недоумении посмотрела на меня, но, прежде чем задала вопрос, вмешался Билли-Бой:
– Он хочет сказать, что мистер Сколли только что покинул нас, миз Джибсон.
Теперь мисс Джибсон повернулась к нему, глаза ее округлились еще больше, а потом она лишилась чувств. Я тоже едва не грохнулся в обморок.
А с улицы донесся крик, полный невыносимой душевной муки. Такого я не слышал ни до, ни после. Он повторялся вновь и вновь, и не требовалось выглядывать за дверь, чтобы понять, кто так убивается, склонившись над телом брата, пока со всего города не съехались копы и газетчики.
– Сваливаем отсюда, – пробормотал я. – Быстро.
И пяти минут не прошло, как мы запаковали все манатки. Некоторые из громил вернулись в холл, слишком пьяные и испуганные, чтобы обращать на нас внимание.
Вышли мы через черный ход, каждый нес свой инструмент и часть ударной установки Биффа. Строем прошагали по улице. Я – с футляром под мышкой и с цимбалами в руках. Парни стояли на углу, пока я подгонял грузовичок. Копы еще не объявились. Толстуха все еще нависала над телом брата, лежащим посреди мостовой, и выла, как баньши, а ее миниатюрный супруг кружил вокруг, словно спутник большой планеты.
Я подъехал, парни побросали все в кузов. И мы дали деру. Добрались до Моргана со средней скоростью сорок пять миль в час. То ли никто из громил Сколли не сказал о нас копам, то ли те обошлись без наших показаний, но нас больше не дергали.
Естественно, не получили мы и двухсот баксов.
Через десять дней она пришла в ресторанчик Томми Ингландера, толстая девушка-ирландка в черном траурном платье. Черное красило ее не больше белого атласа.
Ингландер, должно быть, знал, кто она (ее фотография обошла все чикагские газеты, как и фотография Сколли), потому что сам отвел ее к столику и осадил двух забулдыг у стойки, которые начали над ней посмеиваться.
Я очень ее жалел, совсем как жалел иногда Билли-Боя. Трудно, знаете ли, быть человеком-отщепенцем. Каково это, пожалуй, не узнаешь, не побывав в его шкуре. Да и не надо, наверное, этого знать. Но я проникся к Мурин теплыми чувствами, хотя и говорил с ней совсем ничего.
Поэтому в перерыве подошел к ее столику.
– Мне очень жаль вашего брата. Я знаю, вы действительно очень его любили и…
– Я словно сама нажимала на спусковые крючки. – Она смотрела на свои руки, и тут я заметил, как они хороши: маленькие, изящные. – Все, что сказал этот грек, – чистая правда.
– Да перестаньте. – Что еще я мог сказать, кроме банальности. И уже жалел, что подошел. Как-то странно она себя вела. Словно у нее крыша поехала.
– Я не собираюсь с ним разводиться, – продолжила Мурин. – Скорее покончу с собой и обреку свою душу на вечные муки в аду.
– Не надо так говорить.
– У вас никогда не возникало желания наложить на себя руки? – спросила она, бросив на меня яростный взгляд. – Особенно когда вам казалось, что люди плохо к вам относятся и смеются над вами? И никто не хочет вас понять, посочувствовать вам? Вы можете представить себе, каково это – есть, есть, есть, ненавидеть себя за это и есть вновь? Вы знаете, что чувствуешь, когда твой старший брат гибнет только из-за того, что ты толстуха?
Люди начали оглядываться, забулдыги – хихикать.
– Извините, – прошептала она.
Я тоже хотел извиниться. Хотел сказать, что… сказать все, что угодно, лишь бы поднять ей настроение. Докричаться до нее через сковавший ее лед. Но ничего путного в голову не приходило.
– Я должен идти, – отделался я дежурной фразой. – Пора на сцену.
– Конечно, – кивнула она. – Конечно, пора… иначе они начнут смеяться над вами. Но я приехала, чтобы… вы сыграете для меня «Розы Пикардии»? На свадьбе вы так хорошо играли. Сможете?
– Безусловно, – ответил я. – С удовольствием.
И мы сыграли. Но она ушла, дослушав лишь до половины, и мы, поскольку в таких заведениях, как у Ингландера, это не редкость, тут же переключились на регтаймовскую вариацию «Студенческого флирта», которая всегда заводила публику. В тот вечер я выпил больше обычного и к закрытию совершенно о ней позабыл. Ну если не совершенно, то близко к этому.
А когда мы уходили из ресторана, меня осенило. Я понял, что следовало ей сказать. Жизнь продолжается, вот какие слова должна была она от меня услышать. Именно их говорят тем, у кого умирает близкий человек. Но, хорошенько поразмыслив, я пришел к выводу, что говорить их не следовало. Радоваться надо, что они не слетели с моего языка. Потому что, возможно, именно этого она и боялась.
Разумеется, теперь все знают историю Мурин Романо и ее мужа Рико, который пережил ее и теперь столуется за счет налогоплательщиков в тюрьме штата Иллинойс. О том, как она встала во главе банды Сколли и превратила ее в гангстерскую империю, соперничавшую с империей Капоне. Как она уничтожила главарей двух других банд Норт-Сайда и подмяла под себя контролируемые ими территории. О том, как Грека привезли к ней и она собственноручно убила его, вогнав ему в глаз рояльную струну, когда он стоял на коленях и молил о пощаде. Рико, этот карлик, стал ее правой рукой и самолично возглавлял с дюжину бандитских налетов.
По газетам я следил за операциями Мурин с Западного побережья, где мы записали несколько удачных пластинок. Уже без Билли-Боя. Он сформировал свой оркестр вскоре после того, как мы закончили выступать в ресторане Ингландера, только из черных, играющий диксиленд и регтайм. Они успешно работали на Юге, и я за них только рад. Тем более что и мы ничего не потеряли. Во многих клубах нам отказывали даже в прослушивании, узнав, что один из нас – негр.
Но я рассказываю вам о Мурин. Она стала любимицей газетчиков, и не только потому, что у нее, как и у Мамаши Баркер, хорошо варила голова. Она была ужасно толстой и ужасно плохой, а американцам такое сочетание почему-то очень нравилось. Когда она умерла от инфаркта в 1933 году, некоторые газеты написали, что весила она пятьсот фунтов. Лично я в этом, однако, сомневаюсь. Таких толстяков не бывает, верно?
Так или иначе, о ее похоронах сообщили на первых полосах. А вот ее братец, кстати, не продвинулся дальше четвертой страницы. Гроб Мурин несли десять человек. Один из бульварных еженедельников опубликовал их фотоснимок. Зрелище жуткое. Гроб – что рефрижератор для перевозки мяса. Если разница и была, то небольшая.
Рико не хватило ума держать все под контролем, и на следующий год он угодил за решетку за разбойное нападение с покушением на убийство.
Я так и не смог забыть ее, как и лицо Сколли в тот вечер, когда он впервые рассказал мне о ней. Но, оглядываясь назад, особой жалости к Мурин я не испытываю. Толстяки всегда могут прекратить есть. А вот такие, как Билли-Бой Уильямс, могут только перестать дышать. Я до сих пор не знаю, как помочь тем и другим, отчего на меня иной раз нападает черная тоска. Наверное, потому, что я стал старше и сплю не так хорошо, как в молодости. Дело ведь в этом, верно?
Или нет?
Заклятие параноика
[14]
Нет больше ни выхода и ни входа.
Дверь, что окрашена белым, хлопала – ветром било.
Все хлеще и хлеще.
Кто-то стоит на пороге –
в черном плаще, горло его согрето тонкою сигаретой.
Зря только время тратит:
его приметы –
в моем дневничке. В тетради.
Выстроились адресаты –
змеею. Криво.
Рыжею кровью красит их лица свет от ближнего бара.
Свет продолжает литься…
Нет больше ни выдоха и ни вдоха.
Если я сдохну, если я скроюсь из виду, если я больше не выйду, мой ангел – а может, черт –
отправит мой дневничок в Лэнгли, что в штате Виргиния.
Стены пропахли джином, свет пролился потоком, ветры его сотрясали…
Было – пятьсот адресатов по пятистам аптекам.
Были блики да блоки.
Было – пятьсот блокнотов…
В черном. Готов. Глуп.
И огонек – у губ.
Город – в огне…
Страх потечет реками.
Кто там стоит у рекламы, думает обо мне?
Долго. Мучительно долго.
В комнатах дальних – дольних? –
люди меня воспомнят.
Воспой мне о жарком дыханье смерти в звонках телефона, о телефонной сумятице, о проводной смуте…
Видишь, как просто?
Там – одинокий кабак на перекрестке.
Там, чередою столетий, в мужском туалете хрипит запоротый рок, и в руки – из рук –
в круг –
ползет вороненая пушка, и каждая пуля-пешка носит мое имя.
Ты говорил с ними?
Их накололи.
Им не сыскать мое имя в чреде некрологов.
В их головах – муть, им не найти мою мать, она скончалась.
Стены от крика качались.
Кто собирал пробы, точно с чешуйчатых гадов, с моих петляющих взглядов, со снов моих перекосных, со слез моих перекрестных?
Свет невозможно убрать…
А среди них – мой брат.
Может, я говорил?
Что-то не помню…
Брат мой все просит заполнить бумаги его жены.
Она – издалека, начало ее дороги –
где-то в России…
Вы еще живы?
Вас ни о чем не просили!
Слушай меня, это важно, прошу, услышь…
Ливень падает свыше, с высоких крыш.
Капли – колючее крошево, серое кружево.
Черные вороны сжали ручки зонтов черных.
Болтают… слушай, о чем они?
Пялятся на часы.
В воде дороги чисты.
Долго лило – острые струи мелькали.
Когда завершится ливень, останутся лишь глаза – как монетки мелкие.
Останется ложь.
Подумай – стоит стараться?
Вороны – черные.
Вороны эти ученые –
у ФБР на службе.
Вороны – иностранцы, все это очень сложно.
Лица манили, но я обманул их –
я из автобуса выпрыгнул.
Один. На ходу. Без денег.
Там, среди дымных выхлопов, таксист-бездельник поверх газеты измятой прошил меня взглядом, глянул – словно сглодал.
Я – ошалевший, измотанный.
Кану, как камень.
Сверху – соседка.
Ушлая старая стерва, седина – на пробор…
Ее электроприбор жрет свет моей лампы, мне уже трудно писать.
Мне подарили пса:
пятнистые лапы –
да радиопередатчик, вживленный в нос.
Мистика.
Прямо с моста я столкнул пса вниз –
на двадцать шесть пролетов…
Вот, написал про это.
(Ну-ка, назад, проклятый!
Живо – назад!
Я видел высоких людей –
гляди, больше не будет проколов.)
В закусочной пол пел старые блюзы-хиты.
Официантка – хитра:
твердит, что бифштекс солили.
Да мне ли не знать стрихнина!
Горький тропический запах не заглушить горчицей, но – притуши-ка запал, стоит ли горячиться?
От горизонта, от гор ночью пришел огонь.
Видишь, как дым – нимбом –
сереет в небе?
Ночью все мысли смяты, то ли это!
Кто-то безликий – смутный –
по трубам отстойника столько плыл к моему туалету…
Слушал мои разговоры сквозь тонкие стены –
стены вращали ушами, стены дышали, стены давили стоны.
Видишь – следы рук фаянс испачкали белый?
Время стянулось в круг, все это вправду было…
День переходит в вечер, красным горит по сгибу.
Мне позвонят –
я уже не отвечу.
Не телефон – гибель!
Бог посылал грозы –
люди швыряли грязью.
Грязью залили землю, больше – ни солнца, ни зелени, лишь крики боли.
Они научились врываться, у них – винтовки да рации.
У них – ни заминки в речи, им объясняют врачи, как будет эффектнее трахаться.
Прикинь, как сладко:
в лекарствах у них – кислотка, в лечебных свечках – «снежок».
Кто там, с ножом, рвется – прогнать солнце?
Пусть только сунется!
Дорога моя – все уже, дела – не в лад.
Я облекаюсь в лед, не помню – я говорил уже?
Лед ослепляет подлые инфраскопы, слежка выходит за скобки…
Вот – наклонилось к закату индейское лето.
Произношу заклятья, ношу амулеты.
Золою засыпаны залы.
Вы полагаете – взяли?
К черту!
Я ж вас прикончу в секунду.
Я ж вас пошлю за черту –
четко!
Любовь моя, будешь кофе?
…Небо – как кафель, моя усмешка – как грим…
Нет у меня в ходу ни имени, ни выхода и ни входа.
Кто-то стоит, согретый горечью сигареты.
Не помню – я говорил?
Плот
[15]
От Хорликовского университета в Питтсбурге до озера Каскейд – сорок миль, и хотя в октябре в этих местах темнеет рано, а они сумели выехать только в шесть, небо, когда они добрались туда, было еще светлым. Приехали они в «камаро» Дийка. Дийк, когда бывал трезв, не тратил времени зря. А когда выпивал пару пива, «камаро» у него только что не разговаривал.
Не успел он затормозить машину у штакетника между автостоянкой и пляжем, как уже выскочил наружу, стягивая рубашку. Его взгляд шарил по воде, высматривая плот. Рэнди выбрался с переднего сиденья – не очень охотно. Конечно, идея принадлежала ему, но он никак не ожидал, что Дийк отнесется к ней серьезно. На заднем сиденье зашевелились девушки, готовясь вылезти.
Взгляд Дийка беспокойно шарил по воде, его глаза двигались справа налево, слева направо («Глаза снайпера», – тревожно подумал Рэнди) и вдруг сфокусировались.
– Вот он! – крикнул Дийк, хлопая ладонью по капоту «камаро». – Как ты и сказал, Рэнди! Черт! Кто последний, тот тухлятина!
– Дийк, – начал Рэнди, поправляя очки, но этим он и ограничился, так как Дийк уже перемахнул через штакетник и бежал по пляжу, ни разу не оглянувшись на Рэнди, или Рейчел, или Лаверн, но смотря только на плот, стоявший на якоре ярдах в пятидесяти от берега.
Рэнди оглянулся, словно собираясь извиниться перед девушками, что втянул их в это, но они глядели только на Дийка. Ну, пусть Рейчел, Рейчел же девушка Дийка, но на него смотрела и Лаверн – вот почему в Рэнди вспыхнула ревность, заставившая его действовать. Он стащил с себя рубашку, швырнул ее рядом с рубашкой Дийка и перепрыгнул через штакетник.
– Рэнди! – позвала Лаверн, а он только махнул рукой вперед в серых октябрьских сумерках, приглашая взять с него пример и злясь на себя за это: она ведь заколебалась и, возможно, предпочла бы не продолжать. План искупаться в октябре среди полного безлюдья перестал быть просто хохмой, родившейся среди приятной болтовни в ярко освещенных комнатах, которые он делил с Дийком. Лаверн ему нравилась, но Дийк был притягательнее. И черт его побери, если она не готова лечь под Дийка, и черт его возьми, тут можно озлиться.
Дийк на ходу расстегнул ремень и стянул джинсы с худощавых бедер. А потом умудрился и вовсе их сбросить, не замедляя шага – достижение, которого Рэнди не повторить и за тысячу лет. Дийк продолжал бежать в одних плавках, мышцы его спины и ягодиц работали на загляденье. Рэнди мучительно сознавал, какими тощими выглядят его собственные ноги, когда расстегнул свои ливайсы и неуклюже выпутался из них – у Дийка это был балет, у него – клоунада.
Дийк кинулся в воду и завопил:
– Холодище! Матерь Божья!
Рэнди заколебался, но только в мыслях, где все замедлялось. «Температура воды градусов пять, от силы семь, – шепнуло его сознание. – У тебя может остановиться сердце». Он учился на медицинских курсах и знал, что это факт… но в мире физических действий он не колебался ни доли секунды. Прыжок… и на миг сердце у него действительно остановилось – во всяком случае, ощущение было такое; дыхание перехватило, и он с усилием глотнул воздуха, а вся его соприкасающаяся с водой кожа онемела. «Это безумие, – подумал он, и тут же: – Но идея-то твоя, Панчо». И он поплыл за Дийком.
Девушки переглянулись. Лаверн пожала плечами и усмехнулась.
– Если могут они, то можем и мы, – сказала она, стаскивая блузку и открывая практически прозрачный бюстгальтер. – Ведь у девушек вроде бы имеется дополнительный подкожный слой жира?
В следующую минуту она была уже за штакетником и бежала к воде, расстегивая вельветовые брючки. Секунду спустя Рейчел последовала за ней, примерно так же, как Рэнди последовал за Дийком.
Девушки пришли к ним днем – во вторник к часу занятия у всех них кончались. Дийк получил свою ежемесячную стипендию – один из помешанных на футболе давних выпускников (футболисты прозвали их «ангелами») позаботился, чтобы он каждый месяц получал двести наличными, – так что в холодильнике стояла картонка с пивными банками, а на видавшем виды стерео Рэнди – диск Найта Рейнджера. Все четверо занялись ловлей кайфа. Ну и разговор зашел о конце долгого «индейского лета», которое порадовало их в этом году. Радио предсказывало снегопад в среду, и Лаверн высказала мнение, что метеорологов, предсказывающих снегопады в октябре, следует перестрелять, и никто не возразил.
Рейчел заметила, что каждое лето, пока она была девочкой, казалось, длилось целую вечность, а вот теперь, когда она стала взрослой («дряхлой девятнадцатилетней маразматичкой», – сострил Дийк, и она пнула его в лодыжку), год из года они все короче.
– Тогда казалось, что я всю жизнь провожу на озере Каскейд, – сказала она, направляясь по истертому кухонному линолеуму к холодильнику. Заглянула внутрь и нашла банку «Айрон сити лайтс» за голубыми пластмассовыми коробками для хранения пищи (в средней остатки допотопного маринада давно превратились в сплошную плесень: Рэнди был хорошим студентом, Дийк – хорошим футболистом, но когда дело доходило до домашнего хозяйства, не стоили и плевочка). Банку она экспроприировала и продолжала: – Никогда не забуду, как я в первый раз доплыла до плота и проторчала там чуть не два чертовых часа. Боялась плыть обратно.
Она села рядом с Дийком, и он обнял ее за плечи. А она улыбнулась своим воспоминаниям, а Рэнди внезапно подумал, что она похожа на какую-то знаменитость или полузнаменитость. Только вот на кого? Ему предстояло вспомнить это позднее при менее приятных обстоятельствах.
– В конце концов брату пришлось сплавать туда и отбуксировать меня к берегу на надутой камере. Черт, ну и злился же он! А я обгорела – не поверите!
– А плот все еще там, – сказал Рэнди, просто чтобы сказать что-нибудь. Он видел, как Лаверн снова поглядывает на Дийка; последнее время она все время смотрела на Дийка.
Но теперь она посмотрела на него:
– Рэнди, так ведь ноябрь на носу – День всех святых, а пляж Каскейд закрывают после первого сентября!
– Но плот все равно на месте, – сказал Рэнди. – Недели три назад мы были там на геологической практике. Напротив пляжа, и я заметил плот. Он выглядел как… – Рэнди пожал плечами, – как маленький кусочек лета, который кто-то забыл забрать и отправить на склад до будущего лета.
Он думал, они начнут смеяться над ним. Но никто не засмеялся, даже Дийк.
– Но это еще не доказывает, что он и сейчас там, – сказала Лаверн.
– Я упомянул про него одному из ребят, – сказал Рэнди, допивая свое пиво. – Билли Делойсу. Ты его помнишь, Дийк?
Дийк кивнул:
– Играл во втором составе до травмы.
– Ну да. Вроде бы. Так он из тех мест и сказал, что владельцы пляжа не отгоняют плот к берегу, пока озеро не начнет замерзать. Ленятся – во всяком случае, так он сказал. И сказал, что бывали случаи, когда они так затягивали, что он вмерзал в лед.
Он умолк, вспоминая, как выглядел плот на якоре посреди озера – квадрат сияющих белизной досок, а вокруг – сияющая голубая осенняя вода. Он вспомнил, как до них донесся перестук поплавков под ним, это «кланк-кланк», тихое-тихое. Но звуки далеко разносились в неподвижном воздухе вокруг озера. Этот звук и перебранка ворон над чьим-то огородом, урожай с которого был уже убран.
– Завтра снегопад, – сказала Рейчел, вставая, когда ладонь Дийка словно бы рассеянно соскользнула на выпуклость ее груди. Она отошла к окну и посмотрела наружу. – Паршиво.
– Знаете что, – сказал Рэнди, – поехали на Каскейд! Доплывем до плота, попрощаемся с летом и вернемся на берег.
Не будь он полупьян, так никогда бы такого не предложил, и, уж конечно, он никак не ждал, что кто-нибудь отнесется к его словам серьезно. Но Дийк тут же загорелся.
– Идет! Потрясающе, Панчо! Потрясающе до хреновости! – Лаверн подпрыгнула и расплескала пиво. Но она улыбнулась – и от этой улыбки Рэнди стало не по себе. – Сгоняем туда!
– Дийк, ты свихнулся, – сказала Рейчел тоже с улыбкой, но немножко вымученной, немножко тревожной.
– Нет, я еду, – сказал Дийк, кидаясь за своей курткой, и Рэнди с растерянностью, но и с возбуждением увидел ухмылку Дийка – бесшабашную и чуть сумасшедшую. Они жили вместе уже три года – Футболист и Мозгач, Сеско и Панчо, Бэтмен и Робин, – и Рэнди хорошо знал эту ухмылку. Дийк не валял дурака, он намеревался сделать это и мысленно был уже на полпути туда.
На языке у него вертелось «брось, Сеско, только не я», но он не успел произнести эти слова, как Лаверн вскочила с тем же сумасшедшим, хмельным выражением в глазах (или это было пиво?):
– Я – за!
– Так едем! – Дийк оглянулся на Рэнди. – Как ты, Панчо?
Тут Рэнди взглянул на Рейчел и уловил в ее глазах отчаяние. Что до него, то Дийк и Лаверн могли смотаться вместе на озеро Каскейд, а потом вязнуть в снегу всю ночь на скорости сорока миль; нет, его не обрадует, если он узнает, что они вытрахивали друг другу мозги… – и не удивит. Но выражение в глазах Рейчел, эта тоска…
– А-а-ах, СЕСКО! – крикнул Рэнди.
– А-а-ах, ПАНЧО! – радостно крикнул в ответ Дийк.
Они хлопнули ладонью о ладонь.
Рэнди был на полдороге к плоту, когда заметил темное пятно в воде. Оно было за плотом, левее него и ближе к середине озера. Еще пять минут, и он не отличил бы его от теней сгущающихся сумерек… если бы вообще заметил. «Мазутное пятно?» – подумал он, все еще с силой рассекая воду, смутно осознавая всплески рук и ног девушек за спиной. Но откуда в октябре на пустынном озере могло появиться мазутное пятно? И оно такое странно круглое и маленькое – никак не больше пяти футов в диаметре…
– У-у-ух! – снова закричал Дийк, и Рэнди посмотрел в его сторону. Дийк поднимался по лесенке сбоку плота, встряхиваясь точно собака. – Как делишки, Панчо?
– Отлично! – крикнул он в ответ, поднажав. Вообще-то все оказалось значительно лучше, чем ему показалось сначала: просто надо было двигаться. По его телу разливалась теплота, а мотор работал вовсю. Он чувствовал, как его сердце гонит кровь на повышенных оборотах, прогревая его изнутри. У его родителей был дом на мысе Код, и там водичка бывала похолоднее этой в середине июля.
– Панчо, ты думаешь, что сейчас тебе скверно, погоди, пока не выберешься сюда! – злорадно завопил Дийк. Он подпрыгивал так, что плот раскачивался, и растирал тело обеими руками.
Рэнди забыл про мазутное пятно, пока его пальцы не уцепились за грубые выкрашенные белой краской ступеньки лестницы со стороны берега. И тут увидел его вновь. Оно немного приблизилось. Круглая темная блямба на воде вроде большой родинки, колышущаяся на пологих волнах. Прежде оно было ярдах в сорока от плота. А теперь расстояние сократилось вдвое.
Как это может быть? Как…
Тут он вылез из воды, и холодный воздух обжег ему кожу, обжег даже сильнее, чем вода, когда он в нее окунулся.
– У-у-ух, хреновина! – взвыл он со смехом, весь дрожа и ежась в мокрых трусах.
– Панчо, ты есть ля большая жопа, – упоенно заявил Дийк. – Порядком прохладился? И уже трезвый? – добавил он, втаскивая Рэнди на плот.
– Я трезвый! Я трезвый! – Он принялся прыгать, как раньше Дийк, хлопая скрещенными руками по груди и животу. Они повернулись и посмотрели на девушек.
Рейчел обогнала Лаверн, которая плыла по-собачьи, и к тому же, как собака с притупившимися инстинктами.
– Вы, дамочки, в порядке? – заорал Дийк.
– Иди к черту, индюк! – откликнулась Лаверн, и Дийк опять захохотал.
Рэнди посмотрел вбок и увидел, что странное круглое пятно еще приблизилось – на десять ярдов – и продолжает приближаться. Оно плыло, круглое, симметричное, точно верх стального барабана, но оно колыхалось с волнами и, значит, не могло быть верхней частью твердого предмета. Внезапно его охватил страх – безотчетный, но очень сильный.
– Плывите! – закричал он девушкам и нагнулся, чтобы схватить Рейчел за руку, когда она достигла лесенки; втащил ее на плот – она сильно стукнулась коленом, – он услышал звук удара.
– Ай! Э-эй! Что ты…
Лаверн оставалось одолеть футов десять. Рэнди снова поглядел вбок и увидел, что круглое нечто касается стороны плота, обращенной от берега. Оно было темным, как мазут, но он не сомневался, что мазут тут ни при чем – слишком уж оно темное, слишком плотное, слишком… ровное.
– Рэнди, ты мне чуть ногу не сломал! Это, по-твоему, шутка…
– Лаверн! ПЛЫВИ! – Теперь это был не просто страх, теперь это был ужас.
Лаверн откинула голову, возможно, не различив ужаса, но хотя бы уловив требование поторопиться. Ее лицо выразило недоумение, но она сильнее заработала руками, сокращая расстояние до лесенки.
– Рэнди, да что с тобой? – спросил Дийк.
Рэнди снова посмотрел вбок и увидел, что нечто изогнулось, огибая угол плота. На мгновение оно обрело сходство с Пэкменом, фигурой видеоигры, разинувшей рот, чтобы глотать электронные пирожки. Затем угол остался позади, и оно заскользило вдоль плота, причем дуга впереди вытянулась в прямую линию.
– Помоги мне втащить ее! – буркнул Рэнди Дийку и потянулся за рукой Лаверн. – Быстрее!
Дийк добродушно пожал плечами и ухватил другую руку Лаверн. Они вытащили ее из воды на плот буквально за секунду до того, как черное нечто скользнуло мимо лесенки и его края сморщились, огибая стойки.
– Рэнди, ты спятил? – Лаверн запыхалась, и в ее голосе слышался испуг. Сквозь бюстгальтер четко проглядывали соски, вытянутые в холодные твердые острия.
– Вон то, – сказал Рэнди, указывая. – Дийк? Что это?
Дийк увидел. Оно достигло левого угла плота, чуть отплыло, вновь обретя круглую форму, и теперь просто лежало на воде. Все четверо уставились на него.
– Мазутное пятно, наверное, – сказал Дийк.
– Ты мне колено ободрал, – сказала Рейчел, поглядев на темное нечто в воде, а потом на Рэнди. – Ты…
– Это не мазут, – сказал Рэнди. – Ты когда-нибудь видел совершенно круглое мазутное пятно? Эта штука смахивает на днище бочки.
– Я вообще в жизни ни одного мазутного пятна не видел, – ответил Дийк. Говорил он с Рэнди, но смотрел на Лаверн. Трусики Лаверн были почти такими же прозрачными, как бюстгальтер. Мокрый шелк подчеркивал треугольничек между ногами, плотненькие полумесяцы ягодиц. – Я вообще в них не верю. Я же из Миссури.
– Я буду вся в синяках, – сказала Рейчел, но гнев исчез из ее голоса: она видела, как Дийк смотрел на Лаверн.
– Господи, ну и замерзла же я! – сказала Лаверн и изящно задрожала.
– Оно подбиралось к девушкам, – сказал Рэнди.
– Да ладно тебе, Панчо! Мне казалось, ты сказал, что протрезвел.
– Оно подбиралось к девушкам, – повторил Рэнди упрямо и подумал: «Никто не знает, что мы здесь. Никто!»
– А ты-то мазутные пятна видел, Панчо? – Дийк обнял голые плечи Лаверн с той же рассеянностью, с какой раньше погладил грудь Рейчел. К грудям Лаверн он не прикасался – по крайней мере пока, – но его ладонь была совсем рядом. Рэнди обнаружил, что ему, в сущности, все равно, а не все равно – это черное круглое пятно на воде.
– Видел четыре года назад у мыса Код, – сказал он. – Мы вытаскивали птиц из прибоя, пытались очистить их…
– Экологично, Панчо, – одобрительно сказал Дийк. – Очинно экологично, моя так понимает.
Рэнди сказал:
– Вонючая липкая грязь по всей поверхности. Полосы, языки. Выглядело совсем иначе. Понимаешь, не было компактности.
«То выглядело несчастной случайностью, – хотелось ему сказать. – А это на случайность не похоже; оно тут словно бы с какой-то целью».
– Я хочу вернуться, – сказала Рейчел. Все еще глядя на Дийка и Лаверн. Рэнди заметил в ее лице глухую боль. Наверное, она не знает, что это заметно, решил он.
– Так возвращайся, – сказала Лаверн. Выражение на ее лице… «ясность абсолютного торжества», – подумал Рэнди, и если в мысли и было велеречие, оно выражало именно то, что следовало. Выражение это не было адресовано именно Рейчел… но Лаверн даже не пыталась скрыть его.
Она сделала шаг к Дийку – только шаг и разделял их. Ее бедро чуть коснулось его бедра. На мгновение внимание Рэнди отвлеклось от того, что плавало на воде, и сосредоточилось на Лаверн с почти упоительной ненавистью. Он ни разу не ударил ни одну девушку, но в эту минуту мог бы ударить ее с подлинным наслаждением. Не потому что любил ее (слегка увлекся ею – да, отнюдь не слегка хотел ее – да, и сильно взревновал, когда она начала наезжать на Дийка – о да, но девушку, которую он любил бы по-настоящему, он никогда бы на пятнадцать миль к Дийку не подпустил, если на то пошло), а потому что знал это выражение на лице Рейчел, знал, как это выражение ощущается внутри.
– Я боюсь, – сказала Рейчел.
– Мазутного пятна? – недоверчиво спросила Лаверн и расхохоталась. И вновь Рэнди неудержимо захотелось ударить ее – размахнуться и влепить пощечину открытой ладонью, чтобы стереть эту подленькую надменность с ее лица и оставить на щеке след – синяк в форме ладони с растопыренными пальцами.
– Давай поглядим, как назад поплывешь ты, – сказал Рэнди. Лаверн снисходительно ему улыбнулась.
– Я еще не готова вернуться, – сказала она, словно объясняя ребенку, потом поглядела на небо и на Дийка. – Я хочу поглядеть, как загорятся звезды.
Рейчел была невысокой, хорошенькой, словно бы шаловливой, но в ней сквозила какая-то неуверенность, напомнившая Рэнди нью-йоркских девушек: утром они торопятся на работу в щегольских юбочках с разрезом спереди или сбоку, и выражение у них такое же – чуть невротичное. Глаза Рейчел всегда блестели, но задор ли придавал им эту живость или просто невнятная тревога?
Дийк обычно предпочитал высоких девушек с темными волосами, с сонными, томными глазами, и Рэнди понял, что между Дийком и Рейчел теперь все кончено – что бы то ни было: что-то простое и, может быть, чуть скучноватое для него, что-то глубокое и сложное и, вероятно, мучительное для нее. Это кончилось так бесповоротно и внезапно, что Рэнди почти услышал треск – с каким ломают о колена сухую ветку.
Он был застенчив, но теперь он подошел к Рейчел и обнял ее за плечи. Она на секунду подняла глаза, несчастные, но благодарные ему за эту поддержку, и он обрадовался, что сумел чуть-чуть помочь ей. И вновь он заметил сходство с кем-то. Что-то в ее лице, в ее выражении…
Какая-то телевизионная игра? Реклама крекеров, вафель или еще какой-то чертовой дряни? И тут он понял – она была похожа на Сэнди Данкен, актрису, которая играла в новой постановке «Питера Пэна» на Бродвее.
– Что это? – спросила она. – Рэнди? Что это?
– Не знаю.
Он посмотрел на Дийка и увидел, что Дийк смотрит на него с этой знакомой улыбкой, в которой было больше дружеской фамильярности, чем пренебрежения… но пренебрежение в ней было. Возможно, Дийк даже не подозревал об этом, но оно было. Выражение говорило: «Ну вот, старина Рэнди с его мнительностью обмочил свои пеленочки». Рэнди полагалось подать реплику: «Это, ну, черное, пустяки. Не беспокойся. Оно уплывет». Ну что-нибудь в таком роде. Но он промолчал. Пусть Дийк улыбается. Черное пятно на воде пугало его. По-настоящему.
Рейчел отошла от Рэнди и грациозно опустилась на колени в том углу плота, который был ближе всего к пятну, и на миг сходство стало еще более четким: девушка на этикетках «Уайт-Рок». Сэнди Данкен на этикетках «Уайт-Рок», поправило его сознание. Ее волосы, белокурые, жестковатые, коротко остриженные, влажно облепили красивый череп. На ее лопатках над белой полоской бюстгальтера кожа пошла пупырышками от холода.
– Не свались в воду, Рейч, – сказала Лаверн, сияя злорадством.
– Прекрати, Лаверн, – сказал Дийк, все еще улыбаясь.
Рэнди поглядел, как они стоят на середине плота, небрежно обнимая друг друга за талию, чуть соприкасаясь бедрами, и перевел взгляд назад на Рейчел. По его спинному мозгу степным пожаром пронеслась тревога – и дальше по всем нервам. Черное пятно вдвое сократило расстояние между собой и углом плота, где Рейчел на коленях глядела на него. Раньше от плота его отделяли футов семь. Теперь – не больше трех. И он увидел странное выражение в ее глазах – какую-то круглую пустоту, которая пугающе напоминала круглую черноту того, что плавало на воде.
«А теперь это Сэнди Данкен сидит на этикетке «Уайт-Рок» и делает вид, будто ее завораживает восхитительный, богатый оттенками вкус медовой коврижки фирмы «Набиско», – пришла ему в голову нелепая мысль, и, чувствуя, что его сердце начинает работать бешено, как тогда в воде, он крикнул:
– Отойди от края, Рейчел!
И тут все начало происходить стремительно – с быстротой рвущихся шутих. И все-таки он видел и слышал все по отдельности с абсолютной адской четкостью. Словно каждый момент был заключен в собственную капсулу.
Лаверн засмеялась – в ясный день во дворе колледжа так могла бы засмеяться любая студентка, но здесь, в сгущающихся сумерках, смех этот прозвучал как злорадное хихиканье ведьмы, помешивающей в котле колдовское зелье.
– Рейчел, может, тебе лучше ото… – сказал Дийк, но она перебила его почти наверное в первый раз в жизни и, безусловно, в последний.
– Оно цветное! – воскликнула она с бесконечным трепетным изумлением. Ее глаза были устремлены на черное пятно в воде с невыразимым восторгом, и на миг Рэнди показалось, что он видит то, о чем она говорила, – цвета, да, цвета, заворачивающиеся вовнутрь яркими спиралями. Затем краски исчезли, и вновь – ничего, кроме тусклой матовой черноты. – Такие изумительные краски!
– Рейчел!
Она потянулась к пятну, наклоняясь вперед, ее белая рука в узорах пупырышек от плеча, ее пальцы опустились к пятну, чтобы прикоснуться к нему, и Рэнди заметил, что она обгрызла ногти почти до мяса.
– РЕЙ…
Он почувствовал, как накренился плот, когда Дийк шагнул к ним, и в тот же момент нагнулся к ней, смутно сознавая, что не хочет, чтобы от воды ее оттащил Дийк.
И тут Рейчел коснулась воды – только указательным пальцем, и от него побежали крохотные кольца ряби. А пятно уже достигло его. Рэнди услышал ее вскрик, и внезапно восторг исчез из ее глаз, сменившись смертной мукой.
Черное вязкое вещество устремилось вверх по ее руке, точно ил… и Рэнди увидел, как под чернотой ее кожа растворяется. Рейчел открыла рот и закричала. И начала крениться к воде. Слепо она протянула другую руку к Рэнди, он попытался схватить ее. Их пальцы соприкоснулись. Она посмотрела ему в глаза, все еще жутко похожая на Сэнди Данкен. А потом с всплеском упала в воду.
Черное пятно заколыхалось над местом ее падения.
– ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? – кричала у них за спиной Лаверн. – ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ОНА УПАЛА В ВОДУ? ЧТО С НЕЙ СЛУЧИЛОСЬ?
Рэнди шагнул вперед, собираясь прыгнуть за ней, и Дийк с небрежной силой оттащил его от края.
– Нет! – сказал он со страхом в голосе, что было совсем на него не похоже.
Все трое увидели, как она поднялась к поверхности отчаянным усилием. Ее руки поднялись из воды, замахали… нет, не руки. Одна рука. Другую покрывали фестоны черной пленки на чем-то багровом, пронизанном сухожилиями, на чем-то похожем на пласт мяса, свернутый в рулет.
– Помогите! – вскрикнула Рейчел. Ее глаза вспыхивали, сверкали на них, куда-то в сторону, на них, в сторону – глаза, ее глаза были точно два фонаря, которыми бессмысленно сигналят во тьме. Она взбила воду в пену. – Помогите больно пожалуйста помогите больно БОЛЬНО БООООЛЬНООО…
Рэнди упал, когда Дийк оттащил его, но теперь он поднялся с досок и, спотыкаясь, кинулся туда, не в силах игнорировать этот вопль. Он хотел прыгнуть в воду, но Дийк сграбастал его, обхватил могучими ручищами его узкую грудь.
– Нет, она же мертва, – хрипло зашептал он. – Черт, неужели ты не видишь? Она МЕРТВА, Панчо.
Внезапно густая чернота заскользила по лицу Рейчел, точно занавеска, и ее вопль был заглушен, а затем оборвался. Теперь черное, казалось, заматывало ее перекрещивающимися веревками. Рэнди видел, как оно въедалось в нее, будто кислота, и тут ее сонная артерия начала выбрасывать темную струю, а оно выбросило ложноножку, перехватывая бьющую кровь. Он не верил тому, что видел, не мог понять… но сомнений не было: ни ощущения, что он теряет рассудок, ни тайной надежды, что это сон или галлюцинация.
Лаверн кричала. Рэнди оглянулся на нее как раз вовремя, чтобы увидеть ладонь, прижатую к ее глазам в мелодраматичном жесте героини немого фильма. Он думал, что засмеется, скажет ей об этом, но обнаружил, что не в силах произнести ни звука.
Он посмотрел на Рейчел. От Рейчел уже почти ничего не осталось. Ее безумные попытки вырваться перешли просто в судорожные подергивания. Чернота обволакивала ее («И стала больше, – подумал Рэнди, – конечно, больше!») – с тупой необоримой мощью. Он увидел, как рука Рейчел ударила по черноте и прилипла к ней, будто к клею на мушиной бумаге, увидел, как рука была поглощена. Теперь остался только абрис ее фигуры, но не в воде, а внутри черноты, и она не переворачивалась, ее переворачивали, и это уже утрачивало сходство с ее фигурой. Мелькнуло что-то белое. «Кость!» – с омерзением подумал Рэнди, беспомощно отвернулся, и его вытошнило за край плота. Лаверн все еще кричала. Потом раздался глухой шлепок, крики оборвались, сменились хныканьем.
«Он ее ударил, – подумал Рэнди. – Я и сам хотел, помнишь?»
Он попятился, утирая рот, испытывая слабость и тошноту. И страх. Такой страх, что был способен думать лишь крохотным уголком мозга. Еще немного, и он сам закричит. И тогда Дийку придется дать ему пощечину. Дийк панике не поддастся, о нет! Дийк – материал, из которого делают героев. «На футбольном поле надо быть героем, чтобы нравиться красоткам», – зазвучала в его сознании забористая песенка. И тут он услышал, что Дийк говорит с ним, и поглядел на небо, стараясь, чтобы в голове прояснилось, чтобы отогнать видение того, как фигура Рейчел утрачивает человечность, превращается в комья, а чернота пожирает их. Он не хотел, чтобы Дийк отвесил ему пощечину, как Лаверн.
Он поглядел на небо и обнаружил, что там уже загорелись первые звезды – угасли на западе последние отблески дня, и ковш Большой Медведицы обозначился полностью.
– Ах, Сееееско, – выдавил он из себя. – Моя думай, мы на этот раз сильно вляпались.
– Что оно такое? – Его рука опустилась на плечо Рэнди, стискивая и проминая его до боли. – Оно ее съело, ты видел? Оно СЪЕЛО ее, СЪЕЛО ЦЕЛИКОМ, хреновина. Так что оно такое?
– Не знаю. Ты что – не слышал? Я же уже говорил.
– Ты обязан знать, хреновый ты комок мозгов, ты же все научные программы проходишь! – Теперь и Дийк вопил, и это помогло Рэнди взять себя немного в руки.
– Ни в одной научной книге я ни о чем подобном не читал, – ответил Рэнди. – В последний раз я видел что-то подобное в «Жутком зрелище» в День всех святых, когда мне было двенадцать.
…А оно уже вновь обрело свою круглую форму. И лежало на воде в десяти футах от плота.
– Оно стало больше! – охнула Лаверн.
Когда Рэнди увидел пятно в первый раз, он определил его диаметр примерно в пять футов. Теперь оно было не менее восьми футов в поперечнике.
– ОНО СТАЛО БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО СЪЕЛО РЕЙЧЕЛ! – взвизгнула Лаверн и снова принялась кричать.
– Прекрати, не то я тебе челюсть сломаю, – сказал Дийк, и она прекратила, но не сразу, а замирая, как музыка на пластинке, если вдруг выключить ток, не сняв иглу. Глаза у нее стали громадными.
Дийк оглянулся на Рэнди.
– Ты в порядке, Панчо?
– Не знаю. Наверное.
– Молодец! – Дийк попытался улыбнуться, и Рэнди с тревогой заметил, что его попытка увенчивается успехом. Неужели что-то в Дийке наслаждается происходящим? – Так тебе неизвестно, что это может быть такое?
Рэнди покачал головой. Может, это все-таки мазутное пятно… или было им, пока что-то его не изменило? Может, космические лучи пронизали его под определенным углом? А может, Артур Годфри[16] пописал на него атомной закваской, кто знает? Кто МОЖЕТ знать?
– Как по-твоему, мы сумеем проплыть мимо него? – не отступал Дийк, тряся Рэнди за плечо.
– Не-е-т! – взвизгнула Лаверн.
– Прекрати, не то я тебя прикончу, – сказал Дийк, снова повышая голос. – Я не шучу.
– Ты видел, как быстро оно захватило Рейчел, – сказал Рэнди.
– Может, оно тогда было голодным, – возразил Дийк. – А теперь насытилось.
Рэнди вспомнилось, как Рейчел стояла на коленях в углу плота, такая неподвижная и такая хорошенькая в бюстгальтере и трусиках. В горле у него вновь поднялся тошнотный комок.
– Возьми и попробуй, – сказал он Дийку.
Дийк ухмыльнулся, совсем невесело.
– Эх, Панчо.
– Эх, Сеско.
– Я хочу вернуться домой, – сказала Лаверн боязливым шепотом. – А?
Они не ответили.
– Значит, ждем, пока оно уплывет. Оно приплыло, значит, и уплывет, – сказал Дийк.
– Может быть, – сказал Рэнди.
Дийк взглянул на него. В полумраке лицо Дийка выражало свирепую сосредоточенность…
– Может быть? Что это за хреновина – может быть?
– Мы приплыли, и оно приплыло. Я видел. Будто учуяло нас. Если оно насытилось, как ты сказал, то уплывет. Скорее всего. А если еще хочет жратвы… – Он пожал плечами.
Дийк задумался, наклонив голову. С его коротких волос все еще падали капли.
– Подождем, – сказал он. – Пусть жрет рыбу.
Прошло четверть часа. Они молчали. Похолодало. Температура понизилась градусов до десяти, а они все трое были в нижнем белье. Через десять минут Рэнди услышал отрывистую дробь, которую выбивали его зубы. Лаверн попыталась прижаться к Дийку, и он ее оттолкнул – мягко, но достаточно решительно.
– Оставь меня пока в покое, – сказал он.
Тогда она села, скрестив руки на груди, сжав пальцами локти и дрожа мелкой дрожью. Она поглядела на Рэнди, и ее глаза сказали, что он может подойти к ней снова: обнять рукой ее плечи – теперь можно.
А он отвел взгляд – снова на черный круг на воде. Оно просто плавало там, не приближаясь, но и не удаляясь. Он поглядел в сторону берега. Призрачно-белесый полумесяц пляжа, который, казалось, плыл куда-то. Деревья дальше слагались в темную бугристую линию горизонта. Ему показалось, что он различает «камаро» Дийка, но полной уверенности у него не было.
– Мы просто сорвались с места и поехали, – сказал Дийк.
– Вот именно, – сказал Рэнди.
– Никого не предупредили.
– Да.
– Так что никто не знает, что мы здесь.
– Да.
– Перестаньте! – крикнула Лаверн. – Перестаньте, вы меня пугаете!
– Закупори дырку для пирожков, – рассеянно сказал Дийк, и Рэнди невольно засмеялся – сколько бы Дийк ни повторял эту фразу, она его смешила. – Если нам придется провести ночь тут, проведем. Завтра кто-нибудь услышит, как мы зовем. Мы ведь не в австралийской пустыне, а, Рэнди?
Рэнди промолчал.
– Верно?
– Ты знаешь, где мы, – сказал Рэнди. – Знаешь не хуже меня. Мы свернули с сорок первого шоссе, проехали восемь миль по боковой дороге…
– С коттеджами через каждые пятьдесят футов.
– С ЛЕТНИМИ коттеджами. Сейчас октябрь. В них никто не живет, ни в единой хреновине. Мы добрались сюда, и тебе пришлось объехать чертовы ворота с предупреждениями «ЧАСТНЫЕ ВЛАДЕНИЯ» на каждом шагу…
– И что? Сторож… – Дийк теперь словно бы злился, терял контроль над собой. Испугался? В первый раз за этот вечер, в первый раз за этот месяц, за этот год, а может, в первый раз за всю жизнь? До чего же грозная мысль! Дийк лишается девственной плевы бесстрашия. Рэнди не был полностью в этом уверен, но и не исключал такой ситуации, и она доставляла ему извращенное удовольствие.
– Тут нечего украсть, нечего переломать или изгадить, – сказал он. – Если сторож и имеется, так он, вероятно, заглядывает сюда раза два в месяц.
– Охотники…
– Да, конечно. В следующем месяце, – сказал Рэнди и закрыл рот так, что зубы щелкнули. Ему удалось напугать и себя.
– Может, оно нас не тронет, – сказала Лаверн, и ее губы сложились в жалкое подобие улыбки. – Может, оно просто… ну, понимаете… не тронет нас.
– Может, и медведи летают, – сказал Дийк.
– Оно задвигалось, – сказал Рэнди.
Лаверн вскочила на ноги. Дийк подошел к Рэнди, на мгновение плот накренился, так что сердце Рэнди от испуга перешло на галоп, а Лаверн снова пронзительно взвизгнула. Тут Дийк попятился, плот выровнялся, хотя левый угол (если смотреть на берег) остался погруженным чуть-чуть больше.
Оно приблизилось с маслянистой пугающей скоростью, и в этот момент Рэнди увидел цвета, которые видела Рейчел, – фантастические алые, желтые и голубые краски закручивались в спирали и скользили по эбеновой поверхности, напоминавшей размягчившийся пластилин или полузастывший вар. Оно поднималось и опускалось с волнами, и это меняло краски, заставляло их закручиваться и смешиваться. Рэнди осознал, что вот-вот упадет, упадет прямо в него, он почувствовал, что клонится…
Из последних сил он ударил себя правым кулаком по носу – жестом, каким человек старается унять кашель, но чуть повыше и куда сильнее. Нос пронизала раскаленная боль, он почувствовал побежавшие по лицу теплые струйки крови и тогда сумел отступить на шаг с криком:
– Не смотри на него, Дийк! Не смотри прямо на него, его цвета гипнотизируют!
– Оно пытается подлезть под плот, – угрюмо сказал Дийк. – Что это за дерьмо, Панчо?
Рэнди посмотрел, посмотрел очень внимательно. Он увидел, что оно трется о край плота, сплющившись в подобие половины пиццы. На секунду могло показаться, что оно громоздится там, утолщается, и Рэнди вдруг представилось, что оно поднимется настолько, чтобы перелиться на плот.
И тут оно протиснулось под плот. Ему почудилось, что он слышит шорох, грубый шорох, будто рулон брезента протаскивали сквозь узкое окно… но возможно, у него просто сдали нервы.
– Оно пролезло под плот? – спросила Лаверн, и в ее тоне послышалась странная беззаботность, словно она просто изо всех сил старалась поддержать разговор, но она не говорила, а кричала: – Оно пролезло под плот? Оно под нами?
– Да, – сказал Дийк и посмотрел на Рэнди. – Я попробую доплыть до берега, – сказал он. – Если оно там, у меня есть все шансы.
– Нет! – взвизгнула Лаверн. – Нет, не оставляй нас здесь… не…
– Я плаваю быстро, – сказал Дийк, глядя на Рэнди и полностью игнорируя Лаверн. – Но плыть надо, пока оно под плотом.
Сознание Рэнди словно мчалось со скоростью реактивного самолета – по-своему, по сально-тошнотворному это было упоительно. Как те последние несколько секунд перед тем, как ты сблюешь в воздушную струю дешевой ярмарочной карусели. Это был момент, чтобы услышать, как позвякивают друг о друга пустые бочки под плотом, как сухо шелестят листья на деревьях за пляжем под легким порывом ветра, чтобы задуматься, почему оно забралось под плот.
– Да, – сказал он. – Но не думаю, что ты доплывешь.
– Доплыву, – сказал Дийк и направился к краю плота.
Сделал два шага и остановился.
Его дыхание уже участилось, мозг готовил сердце и легкие к тому, чтобы проплыть пятьдесят ярдов с неимоверной быстротой, но теперь дыхание остановилось, как остановился он сам. Просто остановилось на половине вдоха. Он повернул голову, и Рэнди увидел, как вздулись сухожилия его шеи.
– Панч… – сказал Дийк изумленным, придушенным голосом и начал кричать.
Он кричал с поражающей силой, оглушающий баритональный рев поднимался до высоты пронзительного сопрано. Вопли были такими громкими, что от берега доносилось призрачное эхо. Сперва Рэнди показалось, что Дийк просто кричит, но затем он уловил слово… нет, два слова, одни и те же слова опять, опять и опять.
– МОЯ НОГА! – вопил Дийк. – МОЯ НОГА! МОЯ НОГА! МОЯ НОГА!
Рэнди поглядел вниз. Ступня Дийка как-то странно уходила в плот. Причина была очевидной, но сознание Рэнди сначала отказывалось ее принять – слишком уж невероятно, слишком бредово-гротескно. На его глазах ступня затаскивалась между двумя досками настила.
Затем он увидел черное поблескивание перед пальцами и за пяткой, черное сияние, кишащее зловещими красками.
Оно ухватило Дийка за ногу. («МОЯ НОГА! – кричал Дийк, словно подтверждая этот элементарный вывод. – МОЯ НОГА, ОЙ, МОЯ НОГА, МОЯ НОГААААА!») Он наступил на щель между досками (по щели пройдешь, свою мать убьешь, заколотился в мозгу Рэнди дурацкий детский стишок), а оно подстерегало внизу. Оно…
– ТЯНИ! – внезапно закричал он. – Тяни, Дийк, чертебядери! ТЯНИ!!!
– Что случилось? – завопила Лаверн, и Рэнди смутно осознал, что она не просто трясет его за плечо, а вонзила в него лопаточки своих ногтей, будто когти. Нет, от нее помощи не дождаться! И он ударил ее локтем в живот, она издала хриплый лающий звук и села на задницу. Он прыгнул к Дийку и ухватил его за руку выше локтя.
Она была твердой, как каррарский мрамор, каждая мышца бугрилась, точно ребра муляжа динозаврского скелета. Тянуть Дийка было словно выдирать из земли дерево с корнями. Глаза Дийка были заведены кверху, к лиловому послезакатному небу, остекленевшие, не верящие, и он кричал, кричал, кричал.
Рэнди поглядел вниз и увидел, что ступня Дийка уже провалилась в щель по щиколотку. Щель была в ширину около четверти дюйма, от силы полдюйма, но его ступня провалилась в нее. По белым доскам растекалась кровь густыми темными ветвящимися струйками. Черная масса вроде нагретого пластика пульсировала в щели вверх-вниз, вверх-вниз, словно билось сердце.
Надо вытащить его. Надо вытащить его побыстрее, или нам уже не суметь его вытащить… держись, Сеско, пожалуйста, держись…
Лаверн встала на ноги и попятилась от искривленного, вопящего Дийка-дерева в центре плота, который плавал на якоре под октябрьскими звездами на озере Каскейд. Она тупо трясла головой, скрестив руки на животе там, где в него вонзился локоть Рэнди.
Дийк всей тяжестью навалился на него, бестолково взмахивая руками. Рэнди поглядел вниз и увидел, что кровь льет из голени Дийка, а голень сужается книзу, как хорошо наточенный карандаш сужается к острию – но только острие тут не было черным, графитным, а белым, – острие было костью, еле видимой.
Черная масса вновь вздулась, высасывая, пожирая.
Дийк мучительно застонал.
Больше ему никогда не бить по мячу этой ногой, КАКОЙ ногой, ха-ха. Вновь он изо всей мочи потянул Дийка, и вновь точно потянул дерево с могучими корнями.
Дийк опять дернулся и теперь испустил долгий сверлящий визг, так что Рэнди отпрянул и сам завизжал, зажимая уши ладонями. Из пор икры и голени Дийка брызнула кровь; коленная чашечка побагровела, вздулась, сопротивляясь безумному давлению, а черное все втаскивало и втаскивало ногу Дийка в узкую щель. Дюйм за дюймом.
Не могу помочь ему. До чего же оно сильно! Не могу помочь ему теперь, мне жаль, Дийк, мне так жаль…
– Обними меня, Рэнди, – закричала Лаверн, вцепляясь в него повсюду, вбуравливая лицо ему в грудь. Такое горячее лицо, что оно, казалось, шипело, соприкасаясь с влагой. – Обними меня, пожалуйста, почему ты не обнимешь меня…
И он обнял ее.
Только позднее Рэнди с ужасом сообразил, что они почти наверное успели бы доплыть до берега, пока черное расправлялось с Дийком… А если бы Лаверн отказалась, он доплыл бы один. Ключи от «камаро» лежали в кармане джинсов Дийка там, на пляже. Он смог бы, но понял он, что смог бы, когда было уже поздно.
Дийк умер, когда в узкой щели между досками начало исчезать его бедро. Он уже несколько минут как перестал кричать. У него вырывалось только густое сиропное бульканье. Потом оборвалось и оно. Когда он потерял сознание и упал ничком, Рэнди услышал, как остатки бедренной кости его правой ноги переломились, будто хрустнула сырая ветка.
Секунду спустя Дийк поднял голову, смутно посмотрел вокруг и открыл рот. Рэнди думал, что он снова закричит. Но он изверг струю крови, такой густой, что она казалась затвердевшей. Теплые брызги оросили Рэнди и Лаверн, которая опять завопила, уже совсем хрипло.
– ОООХ! – кричала она, а ее лицо искажала гримаса полубезумной гадливости. – ОООХ! Кровь. Оооох, кровь! КРОВЬ! – Она пыталась стереть брызги, но только размазывала их по своему телу.
Кровь текла из глаз Дийка, вырываясь наружу с такой силой, что они выпучились почти комично. Рэнди подумал: «Еще говорят о живучести! Черт! Только поглядите на это. Он же прямо насос в человеческом облике! Господи! Господи! Господи!»
Кровь струилась из обоих ушей Дийка. Его лицо превратилось в жуткую багровую репу, раздулось до бесформенности под воздействием немыслимого гидростатического давления, направленного изнутри наружу; это было лицо человека, которого сдавила в медвежьих объятиях чудовищная и непознаваемая сила.
И тут все милосердно кончилось.
Дийк снова рухнул ничком, его волосы свисали с окровавленных досок плота, и Рэнди увидел с тошнотворным изумлением, что кровоточил даже его скальп.
Звуки из-под плота. Звуки всасывания.
И вот тут-то в его перегруженном, почти меркнувшем сознании и мелькнуло, что он мог бы поплыть к берегу, имея все шансы добраться до него. Но Лаверн тяжело обвисла у него на руках, зловеще тяжело; он поглядел на ее почти идиотичное лицо, приподнял веко, увидел только белок и понял, что она не в обмороке, а в глубочайшем шоке.
Рэнди оглядел плот. Конечно, можно было бы ее положить, но доски были лишь в фут шириной. Летом на плоту крепилась вышка для ныряния, но вот ее демонтировали и убрали до следующего сезона. И остался только настил плота – четырнадцать досок, каждая в фут шириной и в двадцать футов длиной. И положить ее значило бы накрыть ее бесчувственным телом несколько щелей между ними.
По щели пройдешь, свою мать убьешь.
Заткнись.
И тут среди адских теней его сознание шепнуло: Все равно сделай. Положи ее и плыви.
Но он не сделал. Не мог. Жуткое чувство вины нахлынуло на него при этой мысли. И он держал ее, ощущая мягкое неумолимое давление на его руки и спину. Она была высокой девушкой.
Дийк опускался все ниже.
Рэнди держал Лаверн на ноющих руках и смотрел, как это происходит. Он не хотел и на долгие секунды, которые могли быть и минутами, отворачивал лицо, но его взгляд всякий раз возвращался и возвращался.
Едва Дийк умер, как происходящее вроде бы убыстрилось.
Его правая нога исчезла совсем, а левая вытягивалась все дальше и дальше, так что он смахивал на гимнаста, делающего немыслимый шпагат. Хрустнул его таз, будто разламываемая куриная дужка, и тут, когда живот Дийка начал зловеще вздуваться от давления изнутри, Рэнди отвел глаза надолго, стараясь не слышать влажного чмоканья, стараясь сосредоточиться на боли в ноющих плечах и руках. Может быть, ему удалось бы привести ее в чувство, подумалось ему, но пока лучше эта боль. Она отвлекает.
Сзади донесся звук, будто крепкие зубы захрустели горстью леденцов. Когда он оглянулся, в щель протискивались ребра Дийка. Его руки вскинулись, раздвинулись – он выглядел точно омерзительная пародия на Ричарда Никсона, когда тот поднимал руки в победоносном V, которое приводило в исступление демонстрантов в шестидесятых и семидесятых годах.
Глаза у него были открыты. Он высунул язык, будто дразня Рэнди.
Рэнди опять посмотрел в сторону. Через озеро. «Высматривай огоньки, – велел он себе. Он знал, что там нет ни единого огонька, но все равно велел. – Высматривай огоньки, кто-то же проводит неделю в своем коттедже, деревья в осеннем наряде, нельзя упустить, захвати «Никон», родители будут от таких слайдов в восторге».
Когда он снова поглядел, руки Дийка были вытянуты прямо вверх. Он уже не был Никсоном, теперь он был судьей на поле, сигналящим, что очко засчитано.
Голова Дийка словно покоилась на досках.
Глаза его все еще были открыты.
Язык его все еще торчал наружу.
– А-а-ах, Сеско, – пробормотал Рэнди и снова отвел взгляд. Его руки и плечи теперь просто вопили от боли, но он продолжал держать ее. И смотрел на дальний берег озера. Дальний берег озера окутывала темнота. На черном небе россыпи звезд, разлитое холодное молоко, каким-то образом повисшее в вышине.
Минуты шли. Наверное, его уже нет. Можешь поглядеть. Ладно, ага, хорошо. Но не смотри. Просто на всякий случай. Договорились? Договорились. Абсолютно. Так говорим мы все, и так говорим все мы.
А потому он посмотрел – как раз чтобы увидеть исчезающие пальцы Дийка. Они шевелились – вероятно, движение воды под плотом передавалось неведомому нечто, которое поймало Дийка, а от него – пальцам Дийка. Вероятно. Вероятно. Но Рэнди чудилось, что Дийк машет ему на прощание. Сеско Кид машет свое adiоs[17]. В первый раз его сознание тошнотворно качнулось – оно, казалось, накренялось, как накренился плот, когда они все четверо встали у одного края. Оно уравновесилось, но Рэнди понял, что безумие, настоящее сумасшествие, быть может, совсем рядом.
Футбольное кольцо Дийка – «Конференция 1981» – медленно заскользило вверх по среднему пальцу правой руки. Звездный свет обрамил золото, замерцал в крохотных бороздках между выгравированными числами: 19 по одну сторону красноватого камня, 81 по другую. Кольцо соскользнуло с пальца. Кольцо было слишком широким для щели и, естественно, протиснуться сквозь нее не могло.
Оно лежало на доске. Единственное, что осталось от Дийка. Дийк исчез. Больше не будет темноволосых девушек с томными глазами, и он не хлестнет Рэнди мокрым полотенцем по голой заднице, выходя из душа, не прорвется через поле с мячом под вопли повскакавших на ноги болельщиков, пока энтузиасты ходят колесом у боковой линии. Не будет больше бешеной езды в «камаро» по ночам под «Ребята все вернулись в город», оглушительно рвущееся из магнитофона. Больше не будет Сеско Кида.
И опять это слабое шуршание – сквозь узенькое окно протаскивают сверток брезента.
Рэнди посмотрел вниз на свои босые ступни. И увидел, что щели справа и слева от них внезапно заполнились лоснящейся чернотой. Глаза у него выпучились. Он вспомнил, как кровь вырывалась изо рта Дийка струей, будто скрученный жгут, как глаза Дийка вылезали из орбит, будто на пружинах, пока кровоизлияния, вызванные гидростатическим давлением, превращали его мозг в кашу.
Оно чует меня. Оно знает, что я тут. Может оно вылезти наверх? Может оно подняться сквозь щели? Может? Может?
Он смотрел вниз, забыв про тяжесть бесчувственного тела Лаверн, завороженный грозностью этого вопроса, стараясь представить себе, какое ощущение возникнет, когда оно перельется через его ступни, когда вопьется в него.
Лоснящаяся чернота выпятилась почти до верхнего края щелей (Рэнди, сам того не замечая, поднялся на цыпочки), а затем опала. Шелест брезента возобновился. И внезапно Рэнди снова увидел его на открытой воде, огромную черную родинку, теперь около пятнадцати футов в поперечнике. Оно колыхалось на легкой ряби, приподнималось и опускалось, приподнималось и опускалось, и когда Рэнди увидел пульсирующие в нем краски, он с трудом, но отвел глаза.
Он опустил Лаверн на доски, и едва его мышцы расслабились, как у него затряслись руки. Не обращая на это внимания, он встал на колени рядом с ней – ее волосы черным веером раскинулись по белым доскам. Он стоял на коленях и следил за черной родинкой на воде, готовый сразу же поднять Лаверн, если пятно сдвинется с места.
И начал легонько бить ее по щекам, по правой, по левой, по правой, по левой, точно секундант, приводящий в чувство боксера. Лаверн не хотела прийти в себя, не хотела выиграть тест и получить двести долларов или экскурсионную поездку. Лаверн достаточно насмотрелась. Но Рэнди не мог оберегать ее всю ночь, поднимая на руки, будто тяжелый куль, всякий раз, когда оно начинало бы двигаться (и ведь долго на него смотреть нельзя, в том-то и дело). Но он знал прием. Научился ему не в колледже. Он научился от приятеля своего старшего брата. Приятель был фельдшером во Вьетнаме и знал множество всяких приемов: как наловить головных вшей и устраивать их гонки в спичечном коробке; как разбавлять кокаин слабительным для младенцев; как зашивать глубокие раны швейной иглой и швейными нитками. Как-то они заговорили о способах привести в себя мертвецки пьяных людей, чтобы эти мертвецки пьяные люди не захлебнулись бы собственной рвотой, как случилось с Боном Скоттом, ведущим певцом «Эй-Си/Ди-Си».
«Хочешь кого-то привести в чувство без задержки? – спросил приятель старшего брата, делясь огромным запасом полезных приемов. – Попробуй вот это». И он объяснил Рэнди прием, который Рэнди теперь и применил.
Он нагнулся и изо всех сил укусил Лаверн за ушную мочку.
В рот ему брызнула горячая горькая кровь. Веки Лаверн взлетели вверх, будто шторы. Она взвизгнула с каким-то сиплым рычанием и ударила его. Рэнди поднял глаза и увидел только дальний край пятна, остальное было уже под плотом. Оно переместилось с жуткой, омерзительной беззвучной быстротой.
Он снова подхватил Лаверн на руки, его мышцы запротестовали, взбугрились судорогами. Она била его по лицу. Ладонь задела его чувствительный нос, и он увидел багряные звезды.
– Прекрати! – крикнул он, отодвигая ступни подальше от щелей. – Прекрати, стерва, оно опять под нами, прекрати, не то я тебя, хрен, брошу, Богом клянусь, брошу!
Ее руки тут же утихомирились и сомкнулись у него на шее, как руки утопающей. Ее глаза в мерцании звезд казались совсем белыми.
– Прекрати! – Она продолжала сжимать руки. – Прекрати, Лаверн, ты меня задушишь!
Удавка стянулась еще туже. Его охватила паника. Глухое позвякивание бочек под плотом стало глуше – из-за того, что оно там, решил он.
– Мне нечем дышать!
Удавка чуть расслабилась.
– Теперь слушай: сейчас я тебя опущу. Это безопасно, если ты…
Но она услышала только «я тебя опущу». И вновь ее руки превратились в удавку. Его правая ладонь поддерживала ее спину. Он согнул пальцы клешнёй и оцарапал ее. Она взбрыкнула ногами с хриплым мяуканьем, и он чуть не потерял равновесие. Она это почувствовала и перестала сопротивляться. Больше из-за страха, чем из-за боли.
– Нет! – Ее дыхание ударило ему в щеку, как самум.
– Оно до тебя не доберется, если ты будешь стоять на досках.
– Нет, не опускай меня, оно до меня доберется, я знаю, что доберется, я знаю…
Он снова расцарапал ей спину. Она завизжала от ярости, боли и страха.
– Ты встанешь сама, или я тебя уроню, Лаверн!
Он опустил ее медленно, осторожно. Они дышали коротко, с каким-то пронзительным присвистом: гобой и флейта. Ее ступни коснулись досок. Она вздернула ноги, будто доски были раскалены добела.
– Вставай! – прошипел он. – Я не Дийк, я не могу продержать тебя на руках всю ночь.
– Дийк…
– Мертв.
Ее ступни коснулись досок. Мало-помалу он отпустил ее. Они стояли друг против друга, точно партнеры в танце. Он видел, что она ждет, что оно вот-вот ее коснется. Рот у нее был открыт, точно у аквариумной рыбки.
– Рэнди, – прошептала она. – Где оно?
– Под плотом. Посмотри вниз.
Она посмотрела. Посмотрел и он. Они увидели, что чернота заполнила щели, заполнила их почти поперек всего плота. Рэнди ощутил его жадное нетерпение и подумал, что Лаверн чувствует то же.
– Рэнди, прошу тебя…
– Ш-ш-ш.
Они продолжали стоять лицом друг к другу.
Рэнди, кинувшись к воде, забыл снять часы и теперь засек пятнадцать минут. В четверть девятого чернота вновь выплыла из-под плота. Она отплыла футов на пятнадцать и вновь заколыхалась там.
– Я сяду.
– Нет!
– Я устал, – сказал он. – Я сяду, а ты следи за ним. Только не забывай иногда отводить глаза. Потом я встану, а ты сядешь. Так вот и будем. Возьми. – Он отдал ей часы. – Будем сменяться каждые пятнадцать минут.
– Оно съело Дийка, – прошептала она.
– Да.
– Но что оно такое?
– Не знаю.
– Мне холодно.
– Мне тоже.
– Так обними меня.
– Я уже наобнимался.
Она затихла.
Сидеть было небесным блаженством; не следить за ним – райским наслаждением. Вместо этого он смотрел на Лаверн, удостоверяясь, что она часто отводит взгляд от черноты на воде.
– Что нам делать, Рэнди?
Он подумал.
– Ждать.
Пятнадцать минут истекли, он встал и позволил ей сначала посидеть, а потом полежать полчаса. Потом поднял ее, и она простояла пятнадцать минут. Так они сменяли друг друга. Без четверти десять взошел холодный лунный серп и по воде зазмеилась серебряная дорожка. В половине одиннадцатого раздался пронзительный тоскливый крик, эхом проносясь над водой, и Лаверн испустила вопль.
– Заткнись, – сказал он. – Это просто гагара.
– Я замерзаю, Рэнди. У меня все тело онемело.
– Ничем не могу помочь.
– Обними меня, – сказала она. – Ну, пожалуйста. Мы согреем друг друга. Мы же можем вместе сидеть и следить за ним.
Он заколебался, но он и сам промерз до мозга костей, и это заставило его согласиться.
– Ну ладно.
Они сидели, обнявшись, прижимаясь друг к другу, и что-то случилось – естественно или противоестественно, но случилось. Он испытал прилив желания. Его ладонь нашла ее грудь, обхватила сырой нейлон, сжала. У нее вырвался вздох, и ее рука скользнула по его трусам.
Вторую ладонь он опустил ниже и нашел место, еще сохранившее тепло. Он опрокинул Лаверн на спину.
– Нет, – сказала она, но рука в его трусах задвигалась быстрее.
– Я его вижу, – сказал он. Сердце у него снова колотилось, гоня кровь быстрее, подталкивая теплоту к поверхности его холодной нагой кожи. – Я могу следить за ним.
Она что-то пробормотала, и он почувствовал, как резинка соскользнула с его бедер к коленям. Он следил за ним. Скользнул вверх, вперед, в нее. Господи, тепло! Хотя бы там она была теплой. Она испустила гортанный звук, и ее пальцы впились в его холодные поджатые ягодицы.
Он следил за ним. Оно не двигалось. Он следил за ним. Следил за ним пристально. Осязательные ощущения были невероятными, фантастичными. У него не было большого опыта, но девственником он не был. Любовью он занимался с тремя девушками, но ни с одной не испытал ничего подобного. Она застонала и приподняла бедра. Плот мягко покачивался, будто самый жесткий из всех водяных матрасов в мире. Бочки под плотом глухо рокотали.
Он следил за ним. Краски начали завихряться – на этот раз медлительно, чувственно, ничем не угрожая; он следил за ним и следил за красками. Его глаза были широко открыты. Краски проникали в глаза. Теперь ему не было холодно, ему было жарко, так жарко, как бывает, когда в первый раз в начале июня лежишь на пляже и загораешь, чувствуя, как солнце натягивает твою зимне-белую кожу, заставляя ее покраснеть, придавая ей
(краски)
краску, оттенок. Первый день на пляже, первый день лета, вытаскивай старичков Бич-Бойз, Пляжных Мальчиков, вытаскивай Рамонесов. Рамонесы говорили тебе, что Шина – панк-рокер, Рамонесы говорили тебе, что можно проголосовать, чтоб тебя подбросили на пляж Рокэуей, песок, пляж, краски.
(задвигалось оно начинает двигаться)
и ощущения лета, текстура; кончен, кончен школьный год, я могу болеть за «Янки», э-э-э-й, и даже девушки в бикини на пляже, пляж, пляж, пляж, о ты любишь ты любишь
(любишь)
пляж ты любишь
(люблю я люблю)
твердые грудки, благоухающие лосьоном «Коппертоун», и если бикини внизу достаточно узки, можно увидеть
(волосы, ее волосы ЕЕ ВОЛОСЫ В О ГОСПОДИ В ВОДЕ ЕЕ ВОЛОСЫ)
Он внезапно откинулся, пытаясь поднять ее, но оно двигалось с маслянистой быстротой и припуталось к ее волосам, точно полосы густого черного клея, и когда он ее потянул на себя, она уже кричала и стала очень тяжелой из-за него, а оно поднялось из воды извивающейся гнусной пленкой, по которой прокатывались вспышки ядерных красок – багряно-алых, слепяще изумрудных, зловеще охристых тонов.
Оно затекло на лицо Лаверн приливной волной, утопив его.
Ее ноги брыкались, пятки барабанили по плоту. Оно извивалось и двигалось там, где прежде было ее лицо. По ее шее струилась кровь, потоки крови. Крича, не слыша своих криков, Рэнди подбежал к ней, уперся ступней в ее бедро и толкнул. Взмахивая руками, переворачиваясь, она свалилась с края плота – ее ноги в лунном свете точно алебастровые. Несколько нескончаемых секунд вода у края плота пенилась, взметывалась фонтанами брызг, словно кто-то подцепил на крючок самого огромного окуня в мире, и окунь боролся с леской как черт.
Рэнди закричал. Он кричал. А потом разнообразия ради закричал еще раз.
Примерно полчаса спустя, когда отчаянные всплески и борьба давно оборвались, гагары принялись кричать в ответ.
Эта ночь была вечной.
Примерно без четверти пять небо на востоке начало светлеть, и он ощутил медленный прилив надежды. Она оказалась мимолетной, такой же ложной, как заря. Он стоял на настиле, полузакрыв глаза, уронив подбородок на грудь. Еще час назад он сидел на досках и внезапно был разбужен – только тогда осознав, что заснул: это-то и было самым страшным – этим жутчайшим шуршанием бредового брезента. Он вскочил на ноги за секунду до того, как чернота начала жадно присасываться к нему между досками. Он со свистом втягивал воздух и выдыхал его; и прикусил губу так, что потекла кровь.
Заснул, ты заснул, жопа!
Оно вытекло из-под плота полчаса спустя, но Рэнди больше не садился. Он боялся сесть, боялся, что заснет и на этот раз инстинкт не разбудит его вовремя.
Его ступни все еще твердо стояли на досках, когда на востоке запылала уже настоящая заря и зазвучали утренние песни птиц. Взошло солнце, и к шести часам он уже ясно видел берег. «Камаро» Дийка, яично-желтый, стоял там, где Дийк припарковал его впритык к штакетнику. На пляже пестрели рубашки и свитера, а четыре пары джинсов торчали между ними сиротливыми кучками. Увидев их, он испытал новый приступ ужаса, хотя полагал, что уже исчерпал свою способность чувствовать ужас. Он же видел СВОИ джинсы, одна штанина вывернута наизнанку, в глаза бросается карман. Его джинсы выглядели такими БЕЗОПАСНЫМИ там, на песке; просто ждали, что он придет, вывернет штанину на лицевую сторону, зажав карман, чтобы не высыпалась мелочь. Он почти ощущал, как они прошелестят, натягиваемые на его ноги, ощущал, как застегивает латунные пуговицы над ширинкой…
(ты любишь да я люблю)
Он взглянул налево: да, вот оно, черное, круглое, как днище бочки, чуть-чуть покачивающееся. По его оболочке завихрились краски, и он быстро отвел глаза.
– Отправляйся к себе домой, – просипел он. – Отправляйся к себе домой или отправляйся в Калифорнию и попробуйся на какой-нибудь фильм Роджера Кормана.
Откуда-то издалека донеслось жужжание самолета, и Рэнди начал сонно фантазировать: «Нас хватились, нас четверых. И поиски ведутся все дальше от Хорлика. Фермер вспоминает, как его обогнал желтый «камаро» – «несся, будто за ним черти гнались». Поиски сосредотачиваются на окрестностях озера Каскейд. Владельцы частных самолетов предлагают начать быструю воздушную разведку, и один, облетая озеро на своем «бичкрафте», видит голого парня, стоящего на плоту, одного парня, одного уцелевшего, одного…
Он почувствовал, что вот-вот свалится, снова ударил себя кулаком по носу и закричал от боли.
Чернота тут же устремилась к плоту, протиснулась под доски – оно, наверное, слышит, или чувствует… или КАК-ТО ЕЩЕ.
Рэнди ждал. На этот раз оно выплыло наружу через сорок пять минут.
Его сознание медленно вращалось в разгорающемся свете
(ты любишь ты я люблю болеть за «Янки» и зубаток ты любишь зубаток да я люблю зу
(шоссе шестьдесят шесть помнишь «корветт» Джордж Махарис в «корветте» Мартин Милнер в «корветте» ты любишь «корветт»
(да я люблю «корветт»
(я люблю ты любишь
(так жарко солнце будто зажигательное стекло оно было в ее волосах и лучше всего я помню свет летний свет
(летний свет)
дня.
Рэнди плакал.
Он плакал потому, что теперь добавилось что-то новое – всякий раз, когда он пытался сесть, оно забиралось под плот. Значит, оно не так уж безмозгло; оно либо почувствовало, либо сообразило, что сможет добраться до него, пока он сидит.
– Уйди, – плакал Рэнди, обращаясь к огромной черной блямбе, плавающей на воде. В пятидесяти ярдах от него так издевательски близко по капоту «камаро» Дийка прыгала белка. – Уйди, ну, пожалуйста, уйди куда хочешь, а меня оставь в покое. Я тебя не люблю.
Оно не шелохнулось. По его видимой поверхности завихрились краски.
(нет ты нет ты любишь меня)
Рэнди с усилием отвел взгляд и посмотрел на пляж, посмотрел, ища спасения, но там никого не было. Никого-никого. Там все еще лежали его джинсы: одна штанина вывернута наизнанку, белеет подкладка кармана. И уже не казалось, что их вот-вот кто-нибудь поднимет и наденет. Они выглядели как останки.
Он подумал: «Будь у меня пистолет, я бы сейчас убил себя».
Он стоял на плоту.
Солнце зашло.
Три часа спустя взошла луна.
И вскоре начали кричать гагары.
А вскоре после этого Рэнди повернулся к черному пятну на воде. Убить себя он не может, но вдруг оно способно устроить так, чтобы боли не было, вдруг краски как раз для этого.
(ты ты ты любишь)
Он поискал его взглядом: и вот оно, плавает, покачиваясь на волнах.
– Пой со мной, – просипел Рэнди. – «Я с трибун могу болеть за «Янки», э-э-эй… и начхать мне на учителей… Позади теперь учебный год, так от радости кто громче запоет?»
Краски возникали, закручивались. Но на этот раз Рэнди не отвел глаз.
Он прошептал:
– Ты любишь?
Где-то вдали по ту сторону пустынного озера закричала гагара.
Всемогущий текст-процессор
[18]
На первый взгляд компьютер напоминал текст-процессор «Ванг»: по крайней мере клавиатура и корпус были от «Ванга». Присмотревшись же внимательнее, Ричард Хагстром заметил, что корпус расколот надвое (и при этом не очень аккуратно – похоже, его пилили ножовкой), чтобы впихнуть чуть большую размером лучевую трубку от «Ай-Би-Эм». А вместо гибких архивных дисков этот беспородный уродец комплектовался пластинками, твердыми, как «сорокапятки», которые Ричард слушал в детстве.
– Боже, что это такое? – спросила Лина, увидев, как он и мистер Нордхоф по частям перетаскивают машину в кабинет Ричарда. Мистер Нордхоф жил рядом с семьей брата Ричарда: Роджером, Белиндой и их сыном Джонатаном.
– Это Джон сделал, – сказал Ричард. – Мистер Нордхоф говорит, что для меня. Похоже, это текст-процессор.
– Он самый, – сказал Нордхоф. Ему перевалило за шестьдесят, и дышал Нордхоф с трудом. – Джон его именно так и называл, бедный парень… Может, мы поставим эту штуку на минутку, мистер Хагстром? Я совсем выдохся.
– Конечно, – сказал Ричард и позвал сына, терзавшего электрогитару в комнате на первом этаже, о чем свидетельствовали весьма немелодичные аккорды. Отделывая эту комнату, Ричард планировал ее как гостиную, но сын вскоре устроил там зал для репетиций.
– Сет! – крикнул он. – Иди помоги мне!
Сет продолжал бренчать. Ричард взглянул на мистера Нордхофа и пожал плечами, испытывая стыд за сына и не в силах этого скрыть. Нордхоф пожал плечами в ответ, как будто хотел сказать: «Дети… Разве можно в наш век ждать от них чего-то хорошего?», хотя оба они знали, что от Джона, бедного Джона Хагстрома, погибшего сына его ненормального брата, можно было ждать только хорошее.
– Спасибо за помощь, – сказал Ричард.
– А куда еще девать время старому человеку? – пожал плечами Нордхоф. – Хоть это я могу сделать для Джонни. Знаете, он иногда бесплатно косил мою лужайку. Я пробовал давать ему денег, но он отказывался. Замечательный парень. – Нордхоф все еще не мог отдышаться. – Можно мне стакан воды, мистер Хагстром?
– Конечно. – Он сам налил воды, когда увидел, что жена даже не поднялась из-за кухонного стола, где она читала что-то кровожадное в мягкой обложке и ела пирожные.
– Сет! – закричал он снова. – Иди сюда и помоги нам.
Не обращая внимания на отца, Сет продолжал извлекать режущие слух аккорды из гитары, за которую Ричард до сих пор выплачивал деньги.
Он предложил Нордхофу остаться на ужин, но тот вежливо отказался. Ричард кивнул, снова смутившись, но на этот раз скрывая свое смущение, быть может, немного лучше. «Ты неплохой парень, Ричард, но семейка тебе досталась, не дай Бог!» – сказал как-то его друг Берни Эпштейн, и Ричард тогда только покачал головой, испытывая такое же смущение, как сейчас. Он действительно был «неплохим парнем». И тем не менее вот что ему досталось: толстая сварливая жена, уверенная, что все хорошее в жизни прошло мимо нее и что она «поставила не на ту лошадь» (этого, впрочем, она никогда не признавала вслух), и необщительный пятнадцатилетний сын, делающий весьма посредственные успехи в той же школе, где преподавал Ричард. Сын, который утром, днем и ночью (в основном ночью) извлекает из гитары какие-то дикие звуки и считает, что в жизни ему этого как-нибудь хватит.
– Как насчет пива? – спросил Ричард. Ему не хотелось отпускать Нордхофа сразу – он надеялся услышать что-нибудь еще о Джоне.
– Пиво будет в самый раз, – ответил Нордхоф, и Ричард благодарно кивнул.
– Отлично, – сказал он и направился на кухню прихватить пару бутылок «Будвайзера».
Кабинетом ему служило маленькое, похожее на сарай строение, стоявшее отдельно от дома. Как и гостиную, Ричард отделал его сам. Но в отличие от гостиной это место он считал действительно своим. Место, где мог скрыться от женщины, ставшей ему совершенно чужой, и такого же чужого рожденного ею сына.
Лина, разумеется, неодобрительно отнеслась к тому, что у него появился свой угол, но помешать ему никак не могла, и это стало одной из немногочисленных побед Ричарда. Он сознавал, что в некотором смысле Лина действительно «поставила не на ту лошадь»: поженившись шестнадцать лет назад, они даже не сомневались, что он вот-вот начнет писать блестящие романы, которые принесут много денег, и скоро они станут разъезжать в «мерседесах». Но единственный его опубликованный роман денег не принес, а критики не замедлили отметить, что к «блестящим» его тоже отнести нельзя. Лина встала на сторону критиков, и с этого началось их отдаление.
Работа в школе, которую они когда-то считали лишь ступенькой на пути к славе, известности и богатству, уже в течение пятнадцати лет служила основным источником дохода – чертовски длинная ступенька, как Ричард порой думал. Но он все же не оставлял свою мечту. Он писал рассказы, иногда статьи и вообще был на хорошем счету в Писательской гильдии. Своей пишущей машинкой Ричард зарабатывал до 5000 долларов в год, и, как бы Лина ни ворчала, он заслуживал собственного кабинета, тем более что сама она работать отказывалась.
– Уютное местечко, – сказал Нордхоф, окидывая взглядом маленькую комнатку с набором разнообразных старомодных снимков на стенах.
Дисплей беспородного текст-процессора разместился на столе поверх самого процессорного блока. Старенькую электрическую машинку «Оливетти» Ричард временно поставил на один из картотечных шкафов.
– Оно себя оправдывает, – сказал Ричард, потом кивнул в сторону текст-процессора. – Вы полагаете, эта штука будет работать? Джону было всего четырнадцать.
– Видок у нее, конечно, неважный, а?
– Да уж, – согласился Ричард.
Нордхоф рассмеялся.
– Вы еще и половины не знаете, – сказал он. – Я заглянул сзади в дисплейный блок. На одних проводах там маркировка «Ай-Би-Эм», на других – «Рэйдио шэк». Внутри почти целиком стоит телефонный аппарат «Вестерн электрик». И хотите верьте, хотите нет, микромоторчик из детского электроконструктора. – Он отхлебнул пива и добавил, только что вспомнив: – Пятнадцать. Ему совсем недавно исполнилось пятнадцать. За два дня до катастрофы. – Он замолчал, потом тихо повторил, глядя на свою бутылку пива: – Пятнадцать.
– Из детского конструктора? – удивленно спросил Ричард, взглянув на старика.
– Да. У Джона был такой набор лет… э-э-э… наверно, с шести. Я сам подарил его на Рождество. Он уже тогда сходил с ума по всяким приборчикам. Все равно каким, а уж этот набор моторчиков, я думаю, ему понравился. Думаю, да. Он берег его почти десять лет. Редко у кого из детей это получается, мистер Хагстром.
– Пожалуй, – сказал Ричард, вспоминая ящики игрушек Сета, выброшенных им за все эти годы, игрушек ненужных, забытых или бездумно сломанных, потом взглянул на текст-процессор. – Значит, он не работает?
– Наверно, стоит сначала попробовать, – сказал Нордхоф. – Мальчишка был почти гением во всяких электрических делах.
– Думаю, вы преувеличиваете. Я знаю, что он разбирался в электронике и что он получил приз на технической выставке штата, когда учился только в шестом классе…
– Соревнуясь с ребятами гораздо старше его, причем некоторые из них уже заканчивали школу, – добавил Нордхоф. – Так по крайней мере говорила его мать.
– Так оно и было. Мы все очень гордились им. – Здесь Ричард немного покривил душой: гордился он, гордилась мать Джона, но отцу Джона было абсолютно на все наплевать. – Однако проекты для технической выставки и самодельный гибрид текст-процессора… – Он пожал плечами.
Нордхоф поставил свою бутылку на стол и сказал:
– В пятидесятых годах один парнишка из двух консервных банок из-под супа и электрического барахла, стоившего не больше пяти долларов, смастерил ядерный ускоритель. Мне об этом Джон рассказывал. И еще он говорил, что в каком-то захолустном городишке в Нью-Мексико один парень открыл тахионы – отрицательные частицы, которые, предположительно, движутся во времени в обратном направлении, – еще в 1954 году. А в Уотербери, что в Коннектикуте, одиннадцатилетний мальчишка сделал бомбу из целлулоида, который он соскреб с колоды игральных карт, и взорвал пустую собачью будку. Детишки, особенно те, которые посообразительнее, иногда такое могут выкинуть, что только диву даешься.
– Может быть. Может быть.
– В любом случае это был прекрасный мальчуган.
– Вы ведь любили его немного, да?
– Мистер Хагстром, – сказал Нордхоф. – Я очень его любил. Он был по-настоящему хорошим ребенком.
И Ричард задумался о том, как это странно, что его брата (страшная дрянь начиная с шести лет) судьба наградила такой хорошей женой и отличным умным сыном. Он же, который всегда старался быть мягким и порядочным (что значит «порядочный» в нашем сумасшедшем мире?), женился на Лине, превратившейся в молчаливую неопрятную бабу, и получил от нее Сета. Глядя в честное усталое лицо Нордхофа, он поймал себя на том, что пытается понять, почему так получилось на самом деле и какова здесь доля его вины, в какой степени случившееся – результат его собственного бессилия перед судьбой?
– Да, – сказал Ричард. – Хорошим.
– Меня не удивит, если эта штука заработает, – сказал Нордхоф. – Совсем не удивит.
Когда Нордхоф ушел, Ричард Хагстром воткнул вилку в розетку и включил текст-процессор. Послышалось гудение, и он подумал, что вот сейчас на экране появятся буквы «Ай-Би-Эм». Буквы не появились. Вместо них, словно голос из могилы, выплыли из темноты экрана призрачные зеленые слова:
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЯДЯ РИЧАРД! ДЖОН.
– Боже, – прошептал Ричард и как подкошенный опустился на стул.
Его брат, жена брата и их сын две недели назад возвращались из однодневной поездки за город. Машину вел пьяный Роджер. Пил он практически каждый день, но на этот раз удача ему изменила, и он, не справившись со своим старым пыльным фургоном, сорвался с почти стофутового обрыва. Машина загорелась. Джону было четырнадцать, нет – пятнадцать. Старик же сказал, ему исполнилось пятнадцать за два дня до катастрофы. Еще три года – и он освободился бы из-под власти этого неуклюжего глупого медведя. «Его день рождения… И скоро наступит мой».
Через неделю. Джон приготовил ему в подарок текст-процессор. От этого Ричарду почему-то стало не по себе, и он даже не мог сказать, почему именно. Он протянул было руку, чтобы выключить машину, но остановился.
«Какой-то парнишка смастерил ядерный ускоритель из двух консервных банок и автомобильного электрооборудования стоимостью в пять долларов.
Ну-ну. А еще в нью-йоркской канализации полно крокодилов, и ВВС США прячут где-то в Небраске замороженное тело пришельца. Чушь! Хотя, если честно, то, может быть, я не хочу быть уверенным в этом на все сто процентов».
Он встал, обошел машину и заглянул внутрь через прорези на задней стенке дисплейного блока. Все, как Нордхоф и говорил: провода «Рэйдио шэк. Изготовлено на Тайване», провода «Вестерн электрик», «Вестрекс» и «Эректор сет»[19] с маленькой буковкой R, обведенной кружочком. Потом он заметил еще кое-что, что Нордхоф или не разглядел, или не захотел упоминать: трансформатор «Лайонел трэйн»[20], облепленный проводами будто невеста Франкенштейна.
– Боже, – сказал он, рассмеявшись, и почувствовал, что на самом деле близок к слезам. – Боже, Джонни, что ты такое создал?
Но ответ он знал сам. Он уже давно мечтал о текст-процессоре, говорил об этом постоянно и, когда саркастические насмешки Лины стали совсем невыносимы, поделился своей мечтой с Джоном.
– Я мог бы писать быстрее, мигом править и выдавать больше материала, – сказал он Джону однажды прошлым летом, и мальчишка посмотрел на него своими серьезными голубыми глазами, умными, но из-за увеличивающих стекол очков всегда настороженными и внимательными. – Это было бы замечательно… Просто замечательно.
– А почему ты тогда не возьмешь себе такой процессор, дядя Рич?
– Видишь ли, их, так сказать, не раздают даром, – улыбнулся Ричард. – Самая простая модель «Рэйдио шэк» стоит около трех тысяч. Есть и еще дороже. До восемнадцати тысяч долларов.
– Может быть, я сам сделаю тебе текст-процессор, – заявил Джон.
– Может быть, – сказал тогда Ричард, похлопав его по спине, и до звонка Нордхофа он больше об этом разговоре не вспоминал.
Провода от детского электроконструктора.
Трансформатор «Лайонел трэйн».
Боже!
Он вернулся к экрану дисплея, собравшись выключить текст-процессор, словно попытка написать что-нибудь в случае неудачи могла как-то очернить серьезность замысла его хрупкого, обреченного на смерть племянника.
Вместо этого Ричард нажал на клавиатуре клавишу «EXECUTE», и по спине у него пробежали маленькие холодные мурашки. «EXECUTE»[21] – если подумать, странное слово. Он не отождествлял его с писанием, слово ассоциировалось скорее с газовыми камерами, электрическим стулом и, быть может, пыльными старыми фургонами, слетающими с дороги в пропасть.
«EXECUTE».
Процессорный блок гудел громче, чем любой другой, который ему доводилось слышать, когда он приценивался к текст-процессорам в магазинах. Пожалуй, он даже ревел. «Что там в блоке памяти, Джон? – подумал Ричард. – Диванные пружины? Трансформаторы от детской железной дороги? Консервные банки из-под супа?» Снова вспомнились глаза Джона, его спокойное, с тонкими чертами лицо. Наверное, это неправильно, может быть, даже ненормально – так ревновать чужого сына к его отцу.
«Но он должен был быть моим. Я всегда знал это, и, думаю, он тоже знал». Белинда, жена Роджера… Белинда, которая слишком часто носила темные очки в хмурые дни. Большие очки, потому что синяки под глазами имели отвратительное свойство расплываться. Но, бывая у них, он иногда смотрел на нее, тихий и внимательный, подавленный громким хохотом Роджера, и думал почти то же самое: «Она должна была быть моей».
Эта мысль пугала, потому что они с братом оба знали Белинду в старших классах и оба назначали ей свидания. У них с Роджером было два года разницы, а Белинда как раз между ними: на год старше Ричарда и на год моложе Роджера. Ричард первый начал встречаться с девушкой, которая впоследствии стала матерью Джона, но вскоре вмешался Роджер, который был старше и больше, Роджер, который всегда получал то, что хотел, Роджер, который мог избить, если попытаешься встать на его пути.
«Я испугался. Испугался и упустил ее. Неужели это было так? Боже, ведь действительно так. Я хотел, чтобы все было по-другому, но лучше не лгать самому себе в таких вещах, как трусость. И стыд».
А если бы все оказалось наоборот? Если бы Лина и Сет были семьей его никчемного брата, а Белинда и Джон – его собственной, что тогда? И как должен реагировать думающий человек на такое абсурдно сбалансированное превращение? Рассмеяться? Закричать? Застрелиться?
Меня не удивит, если он заработает. Совсем не удивит.
«EXECUTE».
Пальцы его забегали по клавишам. Он поднял взгляд: на экране плыли зеленые буквы:
МОЙ БРАТ БЫЛ НИКЧЕМНЫМ ПЬЯНИЦЕЙ.
Буквы плыли перед глазами, и неожиданно он вспомнил об игрушке, которую ему купили в детстве. Она называлась «Волшебный шар». Ты задавал ему какой-нибудь вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», затем переворачивал его и смотрел, что он посоветует. Расплывчатые, но тем не менее завораживающие и таинственные ответы состояли из таких фраз, как «Почти наверняка», «Я бы на это не рассчитывал», «Задай этот вопрос позже».
Однажды Роджер из ревности или зависти отобрал у Ричарда игрушку и изо всех сил бросил ее об асфальт. Игрушка разбилась, и Роджер засмеялся. Сидя в своем кабинете, прислушиваясь к странному прерывистому гудению процессора, собранного Джоном, Ричард вспомнил, что он упал тогда на тротуар, плача и все еще не веря в то, что брат с ним так поступил.
– Плакса! Плакса! Ах, какая плакса! – дразнил его Роджер. – Это всего лишь дрянная дешевая игрушка, Риччи. Вот посмотри, там только вода и маленькие карточки.
– Я скажу про тебя! – закричал Ричард что было сил. Лоб его горел, он задыхался от слез возмущения. – Я скажу про тебя, Роджер! Я все расскажу маме!
– Если ты скажешь, я сломаю тебе руку, – пригрозил Роджер. По его леденящей сердце улыбке Ричард понял, что это не пустая угроза. И ничего не сказал.
МОЙ БРАТ БЫЛ НИКЧЕМНЫМ ПЬЯНИЦЕЙ.
Из чего бы ни состоял этот текст-процессор, но он выводил слова на экран. Оставалось еще посмотреть, будет ли он хранить информацию в памяти, но все же созданный Джоном гибрид из клавиатуры «Ванга» и дисплея «Ай-Би-Эм» работал. Совершенно случайно он вызывал у него довольно неприятные воспоминания, но в этом Джон уже не виноват.
Ричард оглядел кабинет и остановил взгляд на одной фотографии, которую он не выбирал для кабинета сам и не любил. Большой студийный фотопортрет Лины, ее подарок на Рождество два года назад. «Я хочу, чтобы ты повесил его у себя в кабинете», – сказала она, и, разумеется, он так и сделал. С помощью этого приема она, очевидно, собиралась держать его в поле зрения даже в свое отсутствие. «Не забывай, Ричард. Я здесь. Может быть, я и «поставила не на ту лошадь», но я здесь. Советую тебе помнить об этом».
Портрет с его неестественными тонами никак не уживался с любимыми репродукциями Уистлера, Хоумера и Уайета. Глаза Лины были полуприкрыты, а тяжелый изгиб пухлых губ застыл в неком подобии улыбки. «Я еще здесь, Ричард, – словно говорила она. – И никогда об этом не забывай».
Ричард напечатал:
ФОТОГРАФИЯ МОЕЙ ЖЕНЫ ВИСИТ НА ЗАПАДНОЙ СТЕНЕ КАБИНЕТА.
Он взглянул на появившийся на экране текст. Слова нравились ему не больше, чем сам фотопортрет, и он нажал клавишу «ВЫЧЕРКНУТЬ». Слова исчезли, и на экране не осталось ничего, кроме ровно пульсирующего курсора.
Ричард взглянул на стену и увидел, что портрет жены тоже исчез.
Очень долго он сидел не двигаясь – во всяком случае, ему показалось, что долго – и смотрел на то место на стене, где только что висел портрет. Из оцепенения, вызванного приступом шокового недоумения, его вывел запах процессорного блока. Запах, который он помнил с детства так же отчетливо, как то, что Роджер разбил «Волшебный шар», потому что игрушка принадлежала ему, Ричарду. Запах трансформатора от игрушечной железной дороги. Когда появляется такой запах, нужно выключить трансформатор, чтобы он остыл.
Он выключит его.
Через минуту.
Ричард поднялся, чувствуя, что ноги его стали словно ватные, и подошел к стене. Потрогал пальцами обивку. Портрет висел здесь, прямо здесь. Но теперь его не было, как не было и крюка, на котором он держался. Не было даже дырки в стене, которую он просверлил под крюк.
Исчезло все.
Мир внезапно потемнел, и он двинулся назад, чувствуя, что сейчас потеряет сознание, но удержался, и окружающее вновь обрело ясные очертания.
Ричард оторвал взгляд от того места на стене, где недавно висел портрет Лины, и посмотрел на собранный его племянником текст-процессор.
«Вы удивитесь, – услышал он голос Нордхофа, – вы удивитесь, вы удивитесь… Уж если какой-то мальчишка в пятидесятых годах открыл частицы, которые движутся назад во времени, то вы наверняка удивитесь, осознав, что мог сделать из кучи бракованных элементов от текст-процессора, проводов и электродеталей ваш гениальный племянник. Вы так удивитесь, тут даже с ума можно сойти…»
Запах трансформатора стал гуще, сильнее, и из решетки на задней стенке дисплея поплыл дымок. Гудение процессора тоже усилилось. Следовало выключить машину, потому что, как бы Джон ни был умен, у него, очевидно, просто не хватило времени отладить установку до конца.
Знал ли он, что делал?
Чувствуя себя так, словно он продукт собственного воображения, Ричард сел перед экраном и напечатал:
ПОРТРЕТ МОЕЙ ЖЕНЫ ВИСИТ НА СТЕНЕ.
Секунду он смотрел на предложение, затем перевел взгляд обратно на клавиатуру и нажал клавишу «EXECUTE».
Посмотрел на стену.
Портрет Лины висел там же, где и всегда.
– Боже, – прошептал он. – Боже мой…
Ричард потер рукой щеку, взглянул на экран (на котором опять не осталось ничего, кроме курсора) и напечатал:
НА ПОЛУ НИЧЕГО НЕТ.
Затем нажал клавишу «ВСТАВКА» и добавил:
КРОМЕ ДЮЖИНЫ ДВАДЦАТИДОЛЛАРОВЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ В МАЛЕНЬКОМ ПОЛОТНЯНОМ МЕШОЧКЕ.
И нажал «EXECUTE».
На полу лежал маленький, затянутый веревочкой мешочек из белого полотна. Надпись, выведенная выцветшими чернилами на мешочке, гласила: «Уэллс Фарго»[22].
– Боже мой, – произнес Ричард не своим голосом. – Боже мой, Боже мой…
Наверно, он часами взывал бы к Спасителю, не начни текст-процессор издавать периодические «бип» и не вспыхни в верхней части экрана пульсирующая надпись:
ПЕРЕГРУЗКА.
Ричард быстро все выключил и выскочил из кабинета, словно за ним гнались черти.
Но на бегу он подхватил с пола маленький завязанный мешочек и сунул его в карман брюк.
Набирая в тот вечер номер Нордхофа, Ричард слышал, как в ветвях деревьев за окнами играет на волынке свою протяжную заунывную музыку холодный ноябрьский ветер. Внизу репетирующая группа Сета старательно убивала мелодию Боба Сигета. Лина отправилась в «Деву Марию» играть в бинго.
– Машина работает? – спросил Нордхоф.
– Работает, – ответил Ричард. Он сунул руку в карман и достал тяжелую, тяжелее часов «Ролекс», монету. На одной стороне красовался суровый профиль орла. И дата: 1871. – Работает так, что вы не поверите.
– Ну почему же, – ровно произнес Нордхоф. – Джон был талантливым парнем и очень вас любил, мистер Хагстром. Однако будьте осторожны. Ребенок, даже самый умный, остается ребенком. Он не может правильно оценивать свои чувства. Вы понимаете, о чем я говорю?
Ричард ничего не понимал. Его лихорадило и обдавало жаром. Цена на золото, судя по газете за тот день, составляла 514 долларов за унцию. Взвесив монеты на своих почтовых весах, он определил, что каждая из них весит около четырех с половиной унций и при нынешних ценах они стоят 27 756 долларов. Впрочем, если продать коллекционерам, можно получить раза в четыре больше.
– Мистер Нордхоф, вы не могли бы ко мне зайти? Сегодня? Сейчас?
– Нет, – ответил Нордхоф. – Я не уверен, что мне этого хочется, мистер Хагстром. Думаю, это должно остаться между вами и Джоном.
– Но…
– Помните только, что я вам сказал. Ради Бога, будьте осторожны. – Раздался щелчок. Нордхоф положил трубку.
Через полчаса Ричард вновь очутился в кабинете перед текст-процессором. Он потрогал пальцем клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ», но не решился включить машину. Когда Нордхоф сказал во второй раз, он наконец услышал. «Ради Бога, будьте осторожны». Да уж. С машиной, которая способна на такое, осторожность не повредит…
Как машина это делает?
Он и представить себе не мог. Может быть, поэтому ему легче было принять на веру столь невероятную сумасшедшую ситуацию. Он преподавал английский и немного писал, к технике же не имел никакого отношения, и вся его жизнь представляла собой историю непонимания того, как работает фонограф, двигатель внутреннего сгорания, телефон или механизм для слива воды в туалете. Он всегда понимал, как пользоваться, но не как действует. Впрочем, есть ли тут какая-нибудь разница, за исключением глубины понимания?
Ричард включил машину, и на экране, как и в первый раз, возникли слова:
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЯДЯ РИЧАРД! ДЖОН.
Он нажал «EXECUTE», и поздравление исчезло.
«Машина долго не протянет», – неожиданно осознал он. Наверняка ко дню гибели Джон не закончил работу, считая, что время еще есть, поскольку до дядиного дня рождения целых три недели…
Но время ускользнуло от Джона, и теперь этот невероятный текст-процессор, способный вставлять в реальный мир новые вещи и стирать старые, пахнет, как горящий трансформатор, и начинает дымить через минуту после включения. Джон не успел отладить. Он…
…был уверен, что время еще есть?
Нет. Ричард знал, что это не так. Спокойное внимательное лицо Джона, серьезные глаза за толстыми стеклами очков… В его взгляде не чувствовалось уверенности в будущем, веры в надежность времени. Какое слово пришло ему сегодня в голову? Обреченный. Оно действительно подходило Джону, именно это слово. Ореол обреченности, нависший над ним, казался таким ощутимым, что Ричарду иногда неудержимо хотелось обнять его, прижать к себе, развеселить, сказать, что не все в жизни кончается плохо и не все хорошие люди умирают молодыми.
Затем он вспомнил, как Роджер изо всей силы швырнул его «Волшебный шар» об асфальт, вспомнил, снова услышав треск разбившегося пластика и увидев, как вытекшая из шара «волшебная» жидкость – всего лишь вода – сбегает ручейком по тротуару. И тут же на эту картину наложилось изображение собранного по частям фургона Роджера с надписью на боку «Хагстром. Доставка грузов». Фургон срывался с осыпающейся пыльной скалы и падал, с негромким отвратительным скрежетом ударяясь капотом о камни. Сам того не желая, Ричард увидел, как лицо жены его брата превращается в месиво из крови и костей. Увидел, как Джон горит в обломках, кричит, начинает чернеть…
Ни уверенности, ни надежды. От Джона всегда исходило ощущение ускользающего времени. И в конце концов время действительно от него ускользнуло.
– Что все это может означать? – пробормотал Ричард, глядя на пустой экран.
Как бы на этот вопрос ответил «Волшебный шар»? «Спросите позже»? «Результат неясен»? Или «Наверняка»?
Процессор снова загудел громче и теперь раньше, чем в первый раз, когда Ричард включил машину после полудня. Уже чувствовался горячий запах трансформатора, который Джон запихал в дисплейный блок.
Волшебная машина желаний.
Текст-процессор богов.
Может, Джон именно это и хотел подарить ему на день рождения? Достойный космического века эквивалент волшебной лампы или колодца желаний?
Он услышал, как открылась от удара дверь, ведущая из дома во двор, и тут же до него донеслись голоса Сета и остальных членов группы. Слишком громкие, хриплые голоса. Видимо, они выпили или накурились.
– А где твой старик, Сет? – спросил один из них.
– Наверное, как всегда, корпит в своей конуре, – ответил Сет. – Я думаю, он… – Свежий порыв ветра унес конец фразы, но не справился со взрывом общего издевательского хохота.
Прислушиваясь к их голосам, Ричард сидел, чуть склонив голову набок, потом неожиданно принялся печатать:
МОЙ СЫН СЕТ РОБЕРТ ХАГСТРОМ.
Палец замер над клавишей «ВЫЧЕРКНУТЬ». «Что ты делаешь?! – кричал его мозг. – Это всерьез? Ты хочешь убить своего собственного сына?»
– Но что-то же он там делает? – спросил кто-то из приятелей Сета.
– Недоумок хренов! – ответил Сет. – Можешь спросить у моей матери, она тебе скажет. Он…
«Я не хочу убивать его. Я хочу его ВЫЧЕРКНУТЬ».
– …никогда не сделал ничего толкового, кроме…
Слова МОЙ СЫН СЕТ РОБЕРТ ХАГСТРОМ исчезли с экрана. Ни звука не доносилось теперь оттуда, кроме шума холодного ноябрьского ветра, продолжавшего мрачно рекламировать приближение зимы.
Ричард выключил текст-процессор и вышел на улицу. У въезда на участок было пусто. Лидер-гитарист группы Норм (фамилию Ричард не помнил) разъезжал в старом зловещего вида фургоне, в котором во время своих редких выступлений группа перевозила аппаратуру. Теперь фургон исчез. Сейчас он мог быть в каком угодно месте, мог ползти где-нибудь по шоссе или стоять на стоянке у какой-нибудь грязной забегаловки, где продают гамбургеры, и Норм мог быть где угодно, и басист Дэви с пугающими пустыми глазами и болтающейся в мочке уха булавкой, и ударник с выбитыми передними зубами… Они могли быть где угодно, но только не здесь, потому что здесь нет Сета и никогда не было.
Сет ВЫЧЕРКНУТ.
– У меня нет сына, – пробормотал Ричард. Сколько раз он видел эту мелодраматичную фразу в плохих романах? Сто? Двести? Она никогда не казалась ему правдивой. Но сейчас он сказал чистую правду.
Ветер дунул с новой силой, и Ричарда неожиданно скрутил, согнул вдвое, лишил дыхания резкий приступ колик.
Когда его отпустило, он двинулся к дому.
Прежде всего он заметил, что в холле не валяются затасканные кроссовки – их у Сета было четыре пары, и он ни в какую не соглашался выбросить хотя бы одну. Ричард прошел к лестнице и провел рукой по перилам. В возрасте десяти лет Сет вырезал на перилах свои инициалы. В десять лет уже положено понимать, что можно делать и чего нельзя, но Лина, несмотря на это, не разрешила Ричарду его наказывать. Эти перила Ричард делал сам почти целое лето. Он спиливал, шкурил, полировал изуродованное место заново, но призраки букв все равно оставались.
Теперь же они исчезли.
Наверх. Комната Сета. Все чисто, аккуратно и необжито, сухо и обезличено. Вполне можно повесить на дверной ручке табличку «Комната для гостей».
Вниз. Здесь Ричард задержался дольше. Змеиное сплетение проводов исчезло, усилители и микрофоны исчезли, ворох деталей от магнитофона, который Сет постоянно собирался «наладить» (ни усидчивостью, ни умением, присущими Джону, он не обладал), тоже исчез. Вместо этого в комнате заметно ощущалось глубокое (и не особенно приятное) влияние личности Лины: тяжелая вычурная мебель, плюшевые гобелены на стенах (на одном была сцена «Тайной вечери», где Христос больше походил на Уэйна Ньютона; на другом – олень на фоне аляскинского пейзажа) и вызывающе яркий, как артериальная кровь, ковер на полу. Следов того, что когда-то в этой комнате обитал подросток по имени Сет Хагстром, не осталось никаких. Ни в этой комнате, ни в какой другой.
Ричард все еще стоял у лестницы и оглядывался вокруг, когда до него донесся шум подъезжающей машины.
«Лина, – подумал он, испытав лихорадочный приступ чувства вины. – Лина вернулась с игры… Что она скажет, когда увидит, что Сет исчез? Что?..»
«Убийца! – представился ему ее крик. – Ты убил моего мальчика!»
Но ведь он не убивал…
– Я его ВЫЧЕРКНУЛ, – пробормотал он и направился на кухню встречать жену.
Лина стала толще.
Играть в бинго уезжала женщина, весившая около ста восьмидесяти фунтов. Вернулась же бабища весом по крайней мере в триста, а может, и больше. Чтобы пройти в дверь, ей пришлось даже чуть повернуться. Под синтетическими брюками цвета перезревших оливок колыхались складками слоновьи бедра. Кожа ее, три часа назад болезненно-желтая, приобрела теперь совершенно нездоровый бледный оттенок. Даже не будучи врачом, Ричард понимал, что это свидетельствует о серьезном расстройстве печени и грядущих сердечных приступах. Глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, глядели на него ровно и презрительно.
В одной пухлой и дряблой руке она держала полиэтиленовый пакет с огромной индейкой, которая скользила и переворачивалась там, словно обезображенное тело самоубийцы.
– На что ты так уставился, Ричард? – спросила она.
«На тебя, Лина. Я уставился на тебя. Потому что ты стала вот такой в этом мире, где мы не завели детей. Такой ты стала в мире, где тебе некого любить, какой бы отравленной ни была твоя любовь. Вот как Лина выглядит в мире, где в нее вошло все и не вышло ничего. На тебя, Лина, я уставился, на тебя».
– Эта птица, Лина… – выдавил он наконец. – В жизни не видел такой огромной индейки.
– Ну и что ты стоишь, смотришь на нее, как идиот? Лучше бы помог!
Он взял у Лины индейку и положил на кухонный стол, ощущая исходящие от нее волны безрадостного холода. Замороженная птица перекатилась на бок с таким звуком, словно в пакете лежал кусок дерева.
– Не сюда! – прикрикнула Лина раздраженно и указала на дверь кладовой. – Сюда она не влезет! Засунь ее в морозильник!
– Извини, – пробормотал Ричард. Раньше у них никогда не было отдельного морозильника. В том мире, в котором они жили с Сетом.
Он взял пакет и отнес в кладовую, где в холодном белом свете флуоресцентной лампы стоял похожий на белый гриб морозильник «Амана». Положив индейку внутрь рядом с замороженными тушками других птиц и зверей, он вернулся на кухню. Лина достала из буфета банку шоколадных конфет с начинкой и принялась методично уничтожать их одну за другой.
– Сегодня игра была в честь Дня благодарения, – сказала она. – Мы устроили ее на семь дней раньше, потому что на следующей неделе отцу Филлипсу нужно ложиться в больницу вырезать желчный пузырь. Я выиграла главный приз.
Она улыбнулась, показав зубы, перепачканные шоколадом и ореховым маслом.
– Лина, ты когда-нибудь жалеешь, что у нас нет детей? – спросил Ричард.
Она посмотрела на него так, словно он сошел с ума.
– На кой черт мне такая обуза? – ответила она вопросом на вопрос и поставила оставшиеся полбанки конфет обратно в буфет. – Я ложусь спать. Ты идешь или опять будешь сидеть над пишущей машинкой?
– Пожалуй, еще посижу, – сказал он на удивление спокойным голосом. – Я недолго.
– Этот хлам работает?
– Что?.. – Он тут же понял, о чем она, и ощутил новую вспышку вины. Она знала о текст-процессоре, конечно же, знала. То, что он ВЫЧЕРКНУЛ Сета, никак не повлияло на Роджера и судьбу его семьи. – Э-э-э… Нет. Не работает.
Она удовлетворенно кивнула.
– Этот твой племянник… Вечно голова в облаках. Весь в тебя, Ричард. Если бы ты не был таким тихоней, я бы, может быть, подумала, что это твоя работа пятнадцатилетней давности. – Она рассмеялась грубо и неожиданно громко – типичный смех стареющей циничной опошлившейся бабы, – и он едва сдержался, чтобы не ударить ее. Затем на его губах возникла улыбка, тонкая и такая же белая и холодная, как морозильник, появившийся в этом мире вместо Сета.
– Я недолго, – повторил он. – Нужно кое-что записать.
– Почему бы тебе не написать рассказ, за который дадут Нобелевскую премию или еще что-нибудь в этом духе? – безразлично спросила она. Доски пола скрипели и прогибались под ней, когда она, колыхаясь, шла к лестнице. – Мы все еще должны за мои очки для чтения. И кроме того, просрочен платеж за «Бетамакс»[23]. Когда ты наконец сделаешь хоть немного денег, черт побери?
– Я не знаю, Лина, – сказал Ричард. – Но сегодня у меня есть хорошая идея. Действительно хорошая.
Лина обернулась и посмотрела на него, собираясь сказать что-то саркастическое, что-нибудь вроде того, что, хотя ни от одной его хорошей идеи еще никогда не было толка, она, мол, до сих пор его не бросила. Не сказала. Может быть, что-то в улыбке Ричарда остановило ее, и она молча пошла наверх. Ричард остался стоять, прислушиваясь к ее тяжелым шагам. По лбу катился пот. Он чувствовал одновременно и слабость, и какое-то возбуждение.
Потом Ричард повернулся и, выйдя из дома, двинулся к своему кабинету.
На этот раз процессор, как только он включил его, не стал гудеть или реветь, а хрипло прерывисто завыл. И почти сразу из корпуса дисплейного блока запахло горящей обмоткой трансформатора, а когда он нажал клавишу «EXECUTE», убирая с экрана поздравление, блок задымился.
Времени осталось мало, пронеслось у него в голове. Нет… Времени просто не осталось. Джон знал это, и теперь я тоже знаю.
Нужно было что-то выбирать: либо вернуть Сета, нажав клавишу «ВСТАВИТЬ» (он не сомневался, что это можно сделать с такой же легкостью, как он сделал золотые монеты), либо завершить начатое.
Запах становился все сильнее, все тревожнее. Еще немного, и загорится мигающее слово ПЕРЕГРУЗКА.
Он напечатал:
МОЯ ЖЕНА АДЕЛИНА МЭЙБЛ УОРРЕН ХАГСТРОМ.
Нажал клавишу «ВЫЧЕРКНУТЬ».
Напечатал:
У МЕНЯ НИКОГО НЕТ.
И в верхнем правом углу экрана замигали слова:
ПЕРЕГРУЗКА ПЕРЕГРУЗКА ПЕРЕГРУЗКА
Я прошу тебя. Пожалуйста, дай мне закончить. Пожалуйста, пожалуйста…
Дым, вьющийся из решетки видеоблока, стал совсем густым и серым. Ричард взглянул на ревущий процессор и увидел, что оттуда тоже валит дым, а за дымовой пеленой, где-то внутри, разгорается зловещее красное пятнышко огня.
«Волшебный шар», скажи, я буду здоров, богат и умен? Или я буду жить один и, может быть, покончу с собой от тоски? Есть ли у меня еще время?
Сейчас не знаю, задай этот вопрос позже. Но «позже» уже не будет. Ричард нажал «ВСТАВИТЬ», и весь экран, за исключением лихорадочно, отрывисто мелькающего теперь слова ПЕРЕГРУЗКА, погас.
Он продолжал печатать:
КРОМЕ МОЕЙ ЖЕНЫ БЕЛИНДЫ И МОЕГО СЫНА ДЖОНАТАНА.
Пожалуйста. Я прошу. Он нажал «EXECUTE», и экран снова погас. Казалось, целую вечность на экране светилось только слово ПЕРЕГРУЗКА, мигавшее теперь так часто, что почти не пропадало, словно компьютер зациклился на одной этой команде. Внутри процессора что-то щелкало и шкворчало. Ричард застонал, но в этот момент из темноты экрана таинственно выплыли зеленые буквы:
У МЕНЯ НИКОГО НЕТ, КРОМЕ МОЕЙ ЖЕНЫ БЕЛИНДЫ И МОЕГО СЫНА ДЖОНАТАНА.
Ричард нажал «EXECUTE» дважды.
«Теперь, – подумал он, – я напечатаю: ВСЕ НЕПОЛАДКИ В ЭТОМ ТЕКСТ-ПРОЦЕССОРЕ БЫЛИ УСТРАНЕНЫ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК МИСТЕР НОРДХОФ ПРИВЕЗ ЕГО СЮДА. Или: У МЕНЯ ЕСТЬ ИДЕИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА ДВА ДЕСЯТКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ. Или: МОЯ СЕМЬЯ ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО. Или…»
Он ничего не напечатал. Пальцы беспомощно повисли над клавиатурой, когда он почувствовал, в буквальном смысле почувствовал, как все его мысли застыли неподвижно, словно автомашины, затертые в самом худшем за всю историю существования двигателей внутреннего сгорания манхэттенском автомобильном заторе.
Неожиданно экран заполнился словами: ГРУЗКА-
ПЕРЕГРУУЗКАПЕРЕГРУЗКАПЕРЕГРУЗКАПЕРЕГРУЗКА-ПЕРЕГРУЗКАПЕРЕГРУЗКАПЕРЕГРУЗКАПЕРЕГРУУУЗКАПЕРЕГРУЗКАПЕРЕГРУУЗКАПЕРЕГРУЗ-
Что-то громко щелкнуло, и процессор взорвался. Из блока метнулось и тут же опало пламя. Ричард откинулся на стуле, закрыв лицо руками на случай, если взорвется дисплей, но экран просто погас.
Он продолжал сидеть, глядя в темную пустоту экрана.
Сейчас не уверен, задай этот вопрос позже.
– Папа?
Он повернулся на стуле. Сердце стучало так сильно, что, казалось, вот-вот вырвется из груди.
На пороге кабинета стоял Джон. Джон Хагстром. Лицо его осталось почти таким же, хотя какое-то чуть заметное отличие все же было. Может быть, подумал Ричард, разница в отцовстве. А может, в глазах Джона просто нет теперь этого настороженного выражения, усиливаемого очками с толстыми стеклами. (Ричард заметил, что вместо уродливых очков в штампованной пластиковой оправе, которые Роджер всегда покупал ему, потому что они стоили на пятнадцать долларов дешевле, Джон носил теперь другие – с изящными тонкими дужками.)
А может, дело еще проще: он перестал выглядеть обреченно.
– Джон? – хрипло спросил он, успев подумать: неужели ему нужно было что-то еще? Было? Глупо, но он хотел тогда чего-то еще. Видимо, людям всегда что-то нужно. – Джон? Это ты?
– А кто же еще? – Сын мотнул головой в сторону текст-процессора. – Тебя не поранило, когда эта штука отправилась в свой компьютерный рай, нет?
– Нет. Все в порядке.
Джон кивнул.
– Жаль, что он так и не заработал. Не знаю, что на меня нашло, когда я монтировал его из этого хлама. – Он покачал головой. – Честное слово, не знаю. Словно меня что-то заставило. Ерунда какая-то.
– Может быть, – сказал Ричард, встав и обняв сына за плечи, – в следующий раз у тебя получится лучше.
– Может. А может, я попробую что-нибудь другое.
– Тоже неплохо.
– Мама сказала, что приготовила тебе какао, если хочешь.
– Хочу, – сказал Ричард, и они вдвоем направились к дому, в который никто никогда не приносил замороженную индейку, выигранную в бинго. – Чашечка какао будет сейчас в самый раз.
– Завтра я разберу его, вытащу оттуда все, что может пригодиться, а остальное отвезу на свалку, – сказал Джон.
Ричард кивнул.
– Мы вычеркнем его из нашей жизни, – сказал он, и, дружно рассмеявшись, они вошли в дом, где уже пахло горячим какао.
Человек, который не пожимал рук
[24]
Зимним холодным вечером в начале девятого Стивенс подал напитки, и мы, захватив с собой бокалы, перешли в библиотеку. Довольно долго ни один из нас не произносил ни слова; единственными звуками были потрескивание поленьев в камине, доносившийся издалека приглушенный стук бильярдных шаров да завывание ветра за окном. Но здесь, в доме номер 249-Би по Восточной Тридцать пятой, было тепло и уютно.
Помню, в тот вечер по правую руку от меня сидел Дэвид Олдли, а Эмлин Маккаррон, однажды поведавший нам совершенно леденящую душу историю о некоей женщине, рожавшей в необычных обстоятельствах, разместился по левую. Рядом с ним сидел Йохансен с неизменным журналом «Уолл-стрит» на коленях.
Вошел Стивенс и протянул Джорджу Грегсону маленький белый конверт. Как лакей Стивенс почти само совершенство, и это невзирая на еле слышный бруклинский акцент (а возможно, даже именно благодаря ему), но, по моему мнению, главное его достоинство заключается в том, что он всегда безошибочно определяет, кому передать то или иное послание, даже тогда, когда о письме никто не спрашивает и не ждет его.
Джордж безо всяких возражений взял конверт и некоторое время просто сидел в кресле с высокой спинкой и подлокотниками, глядя в огромный камин, в котором можно было бы изжарить приличных размеров быка. И еще я заметил, как сверкнули его глаза при виде надписи, выбитой в камне под доской: ВАЖНА САМА ИСТОРИЯ, А НЕ ТОТ, КТО ЕЕ РАССКАЗЫВАЕТ.
Затем он дряхлыми дрожащими пальцами вскрыл конверт и швырнул находившиеся в нем листки в огонь. Пламя вспыхнуло еще ярче, язычки его затанцевали и заиграли радугой, и кто-то тихо хмыкнул. Я обернулся и увидел Стивенса. Он стоял в тени, возле двери, ведущей в вестибюль, заложив руки за спину, с деланно-безразличным выражением лица.
Кажется, все присутствующие вздрогнули, когда тишину нарушил скрипучий старческий голос. Я, во всяком случае, точно вздрогнул.
– Однажды я видел, как прямо в этой комнате убили человека! – произнес Джордж Грегсон. – Однако убийца так и не был осужден. Правда, в конце концов этот человек сам приговорил себя к смерти… и сам стал себе палачом!
Настала пауза – он раскуривал трубку. Вот вокруг морщинистого лица синей струйкой завился дымок, и он нарочито медленным театральным жестом загасил деревянную спичку, а затем швырнул ее в огонь, где она упала на кучку пепла, оставшегося от содержимого конверта. Цепкие голубые глазки Грегсона мрачно глядели из-под кустистых поседевших бровей. Нос крупный, ястребиный, губы тонкие, плотно сжаты, шея короткая, отчего кажется, что голова у него почти целиком ушла в плечи.
– Ну не томи же нас, Джордж! – взмолился Питер Эндрюс. – Давай выкладывай!
– Спокойно. Терпение, друзья мои… – И все мы, набравшись терпения, ждали, пока он не раскурит как следует свою большую вересковую трубку. Затем Джордж сложил на коленях крупные, слегка дрожащие руки и сказал: – Что ж, так и быть. Мне уже стукнуло восемьдесят пять, а то, о чем я собираюсь вам рассказать, случилось, когда мне было всего двадцать или около того… Шел 1919 год, и я только что вернулся с войны, а за пять месяцев до этого от инфлюэнцы скончалась моя невеста. Бедняжке было всего девятнадцать, и я от отчаяния пустился в загул и начал злоупотреблять спиртным и игрой в карты. Она прождала меня целых два года, и все это время раз в неделю я получал от нее по письму. Надеюсь, вы понимаете, почему я воспринял ее смерть так болезненно и пустился во все тяжкие. Я никогда не был большим приверженцем какой-либо религии; особенно смешными казались все эти постулаты и теории христианства, когда сидишь и мерзнешь в окопах; к тому же и семьи, которая бы могла поддержать, у меня не было. Справедливости ради должен добавить, что во время этих тяжких испытаний старые добрые друзья не покинули меня. А было этих друзей ровно пятьдесят три (куда как больше, чем может похвастаться иной человек!): пятьдесят две карты да бутылочка виски «Катти Сарк». Я поселился там, где живу и по сей день, – на Бреннан-стрит. Правда, тогда жилье было куда как дешевле, а на полках и в шкафчиках стояло куда как меньше пузырьков и коробочек с лекарствами и всякими там патентованными средствами. И однако же большую часть времени я проводил здесь, в доме номер 249-Би. Потому как тут всегда шла игра в покер.
Тут его перебил Дэвид Олдли, и, хотя на лице его сияла улыбка, я догадался, что он вовсе не шутит.
– И Стивенс уже был тогда здесь, да, Джордж?
Джордж взглянул на лакея:
– Это был ты, Стивенс, или твой отец?
Стивенс позволил себе улыбнуться – еле заметно, скромно, уголками губ.
– Поскольку с 1919 года прошло вот уже шестьдесят пять лет, сэр, скорее всего то был мой дедушка.
– Таким образом, эта должность передается у вас по наследству? – предположил Олдли.
– Можно сказать и так, сэр, – вежливо ответил Стивенс.
– Теперь, когда я вспомнил об этом, – сказал Джордж, – мне начинает казаться, что между тобой и твоим… – ты, кажется, сказал дедом, Стивенс?.. – существовало большое внешнее сходство.
– Да, сэр, именно.
– И если бы тебя можно было поставить рядом с ним, Стивенс, я вряд ли мог бы отличить тебя… э-э… от дедушки, кажется, именно так ты назвал его, Стивенс?
– Совершенно верно, сэр, так.
– Итак, если б вас можно было поставить рядом, я бы затруднился определить, кто есть кто… Но ведь это невозможно, не так ли, Стивенс?
– Именно так, сэр.
– Я сидел в игровой комнате, она находилась там же, вот за той маленькой дверцей, и раскладывал пасьянс. И именно тогда, в первый и единственный раз, видел Генри Броуера. Нас было четверо, мы собирались сесть играть в покер и ждали только пятого игрока. И тут вдруг Джейсон Дэвидсон заявил, что Джордж Оксли, который обычно был нашим пятым, сломал ногу и лежит в постели, закованный в гипс и с ногой на этой дурацкой подвеске. Я подумал, что этим вечером игры уже не будет. Мне претила сама мысль о том, что предстоит провести долгий пустой вечер, что мне будет просто нечем отвлечься от горьких мыслей и воспоминаний, кроме как раскладыванием пасьянса и поглощением виски в количестве, способном затуманить мозг, как вдруг мужчина, сидевший в дальнем конце комнаты, произнес приятным и тихим голосом: «Если вы, джентльмены, имеете в виду покер, то буду просто счастлив присоединиться к вам. Если вы, разумеется, не имеете ничего против».
Все это время лицо его загораживала газета «Нью-Йорк уорлд», а потому только теперь я мог разглядеть его как следует. Это был молодой человек с лицом старика, если вам, конечно, понятно, что я имею в виду. Я увидел на его лице те же неумолимые отметины, что появились и на моем… после смерти Розали. Впрочем, не совсем. Судя по волосам, рукам и походке, джентльмену этому никак не могло быть больше двадцати восьми, но горький опыт оставил свой след и на лице, и в выражении глаз. Они, эти глаза, смотрели очень грустно – не просто грустно, даже как-то загнанно. Но в целом это был довольно привлекательный молодой человек с коротко подстриженными усиками и темно-русыми волосами. На нем был весьма симпатичный коричневый костюм, верхняя пуговка на рубашке расстегнута.
«Позвольте представиться, Генри Броуер», – сказал он.
Тут Дэвидсон кинулся через всю комнату пожать ему руку. Руку, которую мистер Броуер и не думал протягивать ему, она лежала у него на коленях. И тут случилась довольно странная вещь: Броуер уронил газету, вскинул обе руки вверх и даже развел их немного в стороны, избегая рукопожатия. А лицо его исказил неподдельный страх.
Дэвидсон замер с протянутой рукой. Бедняга, он был в полном смятении и растерянности. Ведь ему едва исполнилось двадцать два – Господи, как же молоды мы были тогда! – и вид, и повадки у него были какие-то щенячьи.
«Извините, – самым серьезным тоном заметил Броуер, – но я никогда не пожимаю рук!»
Дэвидсон растерянно заморгал.
«Никогда? – спросил он. – Как, однако же, странно… Но почему нет? – Я, кажется, уже говорил вам, было в нем что-то щенячье. Надо сказать, что Броуер с достоинством вышел из положения. Не просто с достоинством, но и с открытой (хотя и немного настороженной) улыбкой».
«Видите ли, я только что прибыл из Бомбея, – ответил он. – Очень своеобразный, густо населенный и грязный город, где полным-полно всяких заразных болезней, эпидемий и прочее. Тысячи стервятников сидят на городских стенах и ждут своей добычи. Я прожил там два года с торговой миссией и напрочь отвык от западной традиции пожимать людям руки. Знаю, здесь это может показаться глупым, странным, даже невежливым, и тем не менее никак не могу заставить себя сделать это. Буду страшно признателен, если вы извините меня и не станете держать обиды…»
«При одном условии», – перебил его Дэвидсон.
«Каком же?»
«Если вы немедленно усядетесь за стол и разопьете с нашим Джорджем по стаканчику виски, а я тем временем сбегаю за Бейкером, Френчем и Джеком Уилденом».
Броуер улыбнулся, кивнул и отложил газету. Дэвидсон, сложив колечком два пальца, показал мне, что все о’кей, и поспешил за остальными игроками. Мы с Броуером уселись за обтянутый зеленым сукном стол, но, когда я собрался налить ему виски, он поблагодарил, отказался и заказал себе отдельную бутылку. Я приписал это все той же странной суеверной боязни и промолчал. Я знал немало людей, до смерти боявшихся микробов и разной заразы, знал, что мнительность эта порой принимает весьма странные формы… думаю, что и вам известны подобные случаи.
Все дружно закивали в знак согласия.
«Славно все же оказаться здесь… – заметил Броуер. – Видите ли, там, в Индии, я избегал общения, да и вернувшись, тоже долго был довольно одинок. А человеку, знаете ли, негоже все время быть в одиночестве. Мне кажется, даже самые эгоцентричные и самодостаточные люди должны испытывать немалые страдания, будучи лишенными простого человеческого общения». Произнес он это с изрядной долей пафоса, и я согласно кивнул. Я и сам испытал, что такое одиночество, темными ночами в окопах. И изведал еще более мучительное чувство, узнав о смерти Розали.
На душе у меня потеплело, и я даже начал испытывать к нему нечто вроде симпатии, несмотря на всю его эгоистичную эксцентричность.
«Должно быть, Бомбей – совершенно потрясающий город», – заметил я.
«О да, потрясающий и… ужасный! Там бытуют понятия и традиции, на наш взгляд, совершенно немыслимые. А их реакция на автомобили просто смешна, особенно у ребятишек. Они шарахаются от них в полном ужасе, а затем бегут следом целые кварталы. И еще они страшно боятся аэропланов и абсолютно не способны понять, как эта штука может подняться в воздух и летать. Разумеется, мы, американцы, глядим на все эти хитроумные изобретения с полной невозмутимостью, я бы даже сказал… с излишним благодушием… Но уверен: вы точно бы так же реагировали на их чудеса. Ну, к примеру, я чуть не сошел с ума, впервые увидев следующий фокус: сидит себе на углу попрошайка, потом вдруг заглатывает целый пакетик стальных иголок, а после этого преспокойненько извлекает их из открытых ран на кончиках пальцев! И для всех дикарей, населяющих те края, в том нет ничего особенного! Они принимают это как должное… – Затем, после паузы, он добавил мрачно: – Думаю, две наши великие культуры никогда не сольются воедино. Просто каждый будет наслаждаться своими чудесами. Ведь проглотить пакетик стальных иголок для любого американца, ну, как вы или я, означает одно: медленную мучительную смерть. А что касается автомобилей…» – Тут он умолк, и лицо его помрачнело.
Я уже собрался поддержать беседу сам, но в этот момент в дверях появился Стивенс-старший с заказанной Броуером бутылкой виски, а следом за ним ввалились Дэвидсон и остальные наши.
Дэвидсон предварил церемонию представления следующими словами:
«Я рассказал друзьям о вашей… маленькой причуде, Генри, так что можете не волноваться. Знакомьтесь, это Даррел Бейкер… Вот этот грозного вида мужчина с бородой – Эндрю Френч. И наконец, прошу любить и жаловать, Джек Уилден! А с Джорджем Грегсоном вы уже знакомы».
Броуер улыбался и кивал каждому – вместо рукопожатия. Достали покерные фишки и три нераспечатанные колоды карт, деньги были обменены на жетоны, и игра началась.
Играли мы часов шесть, и я выиграл где-то около двухсот долларов. Даррел Бейкер, игрок не особенно сильный, проиграл около восьмисот (и при этом и глазом не моргнул: еще бы, ведь отец его владел тремя крупными обувными фабриками в Новой Англии!); на остальных пришлось примерно поровну, за вычетом моего выигрыша. У Дэвидсона оказалось на несколько долларов больше, у Броуера – меньше. Впрочем, винить последнего в том было бы несправедливо – весь вечер карта ему шла из рук вон плохая. Причем несколько раз мне показалось, что он выигрывал блефуя – так хладнокровно и дерзко, как мне самому и не снилось.
И еще я заметил одну любопытную вещь: несмотря на то что к концу игры он в одиночестве прикончил целую бутылку виски, ни малейших признаков опьянения не наблюдалось. Речь оставалась членораздельной, умение играть в покер ни разу не подводило, да и идефикс по-прежнему при нем. Выиграв очередную партию, он не прикасался ни к разменным деньгам, ни к жетонам и, оставив все на кону, лишь просил записать на его счет. А когда Дэвидсон случайно поставил свой бокал рядом с его локтем, Броуер резко отпрянул, едва не разлив при этом свое собственное виски. Бейкер вытаращил глаза от удивления, Дэвидсон сделал вид, что ничего особенного не произошло.
Примерно за несколько минут до этого Джек Уилден заявил, что завтра утром, вернее уже сегодня, ему предстоит ехать в Олбани, а потому еще одна партия – и он выходит из игры. Сдавать вместо него сел Френч и объявил партию из семи карт.
Боже, как отчетливо и ясно помню я эту партию, хотя затруднился бы, к примеру, сказать, что ел вчера на завтрак или с кем завтракал. Свойство преклонного возраста, полагаю, и, однако же, уверен: будь тогда любой из вас там, с нами, он бы тоже очень хорошо запомнил эту партию.
Мне достались две червы рубашками вверх и одна – открытая. За Уилдена или Френча не скажу, но в том, что у молодого Дэвидсона имелся туз червей, а у Броуера – десятка пик, был уверен. Дэвидсон поставил два доллара – пять долларов в разовой ставке был наш предел, – и карты пошли по кругу. Я вытянул еще одну черву, таким образом, на руках у меня оказались уже четыре карты одной масти. Броуер взял валета пик, в пару к своей десятке. Дэвидсону досталась тройка, что не улучшило его положения. Однако он тут же поставил на кон три доллара.
«Последняя партия! – весело сказал он при этом. – Давайте же, ребята, шевелитесь! Есть одна прелестная юная леди, которая ждет не дождется поездки в Олбани».
Не думаю, что поверил бы в тот момент предсказателю судеб, который заявил бы, как часто будут преследовать меня эти его слова в некоторые моменты жизни… Вплоть до самого сегодняшнего дня.
Френч раздал карты по кругу в третий раз. Я от этой раздачи ничем не разжился и нужной масти не прибавил. Но Бейкеру, который сегодня отчаянно проигрывал, похоже, досталась карта в пару, кажется, король. Броуер получил двойку бубен, от которой проку было немного. Бейкер поставил на свою пару максимум, Дэвидсон тут же поддержал его пятеркой. Все оставались в игре, и вот началась раздача последней открытой карты. Мне достался король червей, угодил в мою масть. Бейкеру – тройка, к уже имевшейся у него паре, а Дэвидсон получил второго туза, отчего глаза его тут же радостно засияли. Броуеру досталась дама треф, и я, хоть убей, не мог понять, отчего это он до сих пор остается в игре. Карта ему опять пришла – хуже некуда.
Ставки начали понемногу повышаться. Бейкер поставил пятерку, Дэвидсон тоже поднял до пяти. Броуер принял вызов. Джек Уилден сказал:
«Не думаю, что моя пара так уж хороша…» – однако тоже добавил.
Я выкрикнул:
«Десять!» – и добавил еще пятерку. Бейкер поддержал.
Впрочем, не буду более утомлять вас подробным описанием всех этих игорных перипетий. Могу лишь добавить, что ставки возросли втрое на каждого, Бейкер, Дэвидсон и я по очереди добавили еще по пять долларов. Броуер отвечал тем же и бросал деньги на стол, лишь дождавшись, когда мы уберем с него свои руки, чтоб ненароком не задеть. Короче, на кону стояла по тем временам изрядная сумма денег – чуть больше двухсот долларов, – когда Френч раздал каждому по последней карте рубашкой вверх.
Настала пауза. Все мы разглядывали свои карты, хотя лично я, судя по тому, какие карты были на столе, считал, что расклад для меня благоприятный. Бейкер подбросил еще пятерку, Дэвидсон ответил тем же, и все мы сидели и ждали, что же предпримет теперь Броуер. Лицо его раскраснелось от виски, он слегка ослабил узел галстука и расстегнул вторую пуговку на рубашке. Но выглядел при этом спокойным и собранным.
«Я тоже… добавляю пять», – сказал он.
Услышав это, я растерянно заморгал – еще бы, ведь, насколько можно было судить, положение у него сложилось просто катастрофическое. У меня же карты подобрались очень неплохие, все шансы на победу имелись, а потому я тоже накинул пятерку. Число ставок в ходе игры не ограничивалось, любой игрок имел право прибавить и после получения последней карты, а потому сумма на кону значительно возросла. Я остановился первым – чутье подсказывало, что у кого-то из игроков должен быть на руках полный подбор одной масти. Бейкер остановился следующим, переводя растерянный и усталый взгляд с Дэвидсона с его парой тузов на Броуера, у которого, по нашим понятиям, собралась сплошная дрянь. Бейкер был не лучшим на свете игроком в покер, но и он учуял что-то неладное.
Дэвидсон с Броуером каждый подняли ставки еще раз по десять, если не больше. Мы с Бейкером посиживали себе тихонечко, не желая рисковать такой огромной суммой денег. У четверых из нас кончились жетоны, и теперь на сукне лежали «зеленые».
«Что ж, – сказал Дэвидсон после того, как Броуер последний раз поднял ставку, – полагаю, настал момент открыть карты. И если вы блефуете, Генри, то делаете это просто потрясающе! Но я все равно побью вас. И на том закончим, тем более что Джеку предстоит завтра долгий путь. – И с этими словами он бросил на кучу денег еще пятерку и сказал: – Открываю».
Не знаю, как другие, но я почему-то почувствовал облегчение. И это несмотря на то что на кону находилась огромная сумма. Игра обострилась до крайности, и если мы с Бейкером еще могли позволить себе проиграть, то Дэвидсон никак не мог. С деньгами у него было очень туго, он жил на средства трастового фонда, весьма скромного, который оставила ему в наследство тетушка. А Броуер?.. Интересно, что будет означать для него этот проигрыш? Помните, джентльмены, ведь на кону тогда стояло свыше тысячи долларов.
Джордж сделал паузу, трубка у него погасла.
– Ну и что же дальше? – подавшись вперед, спросил Олдли. – Ну не мучьте же нас, Джордж! Мы просто так и горим желанием узнать, чем все это кончилось! Давайте же, не томите!..
– Терпение, друзья мои, терпение! – произнес Джордж.
Достал спичку, чиркнул ею о подошву туфли и начал раскуривать трубку. Мы молча ждали. На улице завывал и стонал ветер.
Когда трубка наконец раскурилась и из нее потянулся сизый дымок, Джордж продолжил:
– Насколько вам, надеюсь, известно, правила игры в покер предполагают, что игрок, остановившийся первым, должен первым открыть свои карты. Но Бейкера так и сжигало нетерпение, и он выбросил на стол свои карты. У него оказались четыре короля.
«Вы меня просто убиваете!.. – протянул я. – Масть!»
«Сейчас я вас окончательно добью! – сказал Дэвидсон Бейкеру и открыл две карты, лежавшие рубашками вверх. Два туза. Итого у него оказалось четыре туза. – Прекрасная игра! – И он принялся сгребать деньги со стола».
«Погодите! – сказал Броуер. Он не протянул при этом руки удержать Дэвидсона, как сделал бы на его месте любой из нас, но тона, которым произнес эти слова, было достаточно. Дэвидсон так и замер, потом взглянул на Броуера, и челюсть у него отвисла – в буквальном смысле отвисла, словно все мышцы вдруг превратились в воду. Броуер нарочито медленно перевернул все свои три, лежавшие рубашками вверх, карты. У него оказался «стрейт» по масти – от восьмерки до королевы. – Полагаю, против этого вашим тузам не устоять?» – вежливо осведомился он.
Дэвидсон покраснел, потом побледнел как полотно.
«Да, – произнес он глухим невыразительным голосом, словно до сих пор не веря в то, что произошло. – Полагаю, что нет…»
Я бы многое отдал, чтобы узнать, какие именно мотивы двигали далее Дэвидсоном. Ведь он знал о крайнем отвращении Броуера к прикосновениям чужих рук – за вечер тот успел продемонстрировать это, наверное, сотню раз самыми различными способами. Возможно, в те минуты Дэвидсон попросту забыл об этом в стремлении доказать Броуеру (да и всем остальным тоже), что способен принять самый тяжкий удар достойно, как и подобает истинному спортсмену и джентльмену. Я, кажется, уже говорил, было нечто щенячье в его манерах и поведении, и подобный жест был вполне в его характере. Но ведь щенок порой способен и укусить, если его спровоцировать. О нет, собаки не убийцы, никакой щенок не станет вцепляться вам в горло, однако немало людей на свете поплатились укушенным пальцем за то, что слишком долго дразнили маленькую собачонку шлепанцем или резиновой костью. И это тоже было в характере Дэвидсона, если мне не изменяет память.
Короче, как я уже говорил, я бы дорого отдал за то, чтобы предвидеть последующий его шаг… Впрочем, что случилось, того уже не избежать.
Дэвидсон отвел руку от кучи денег на столе, а Броуер, взяв специальные грабельки, уже потянулся к выигрышу, но в эту секунду лицо Дэвидсона озарила добродушная дружеская улыбка и он, схватив руку Броуера, крепко пожал ее.
«Блистательная игра, Генри, просто великолепная! Глазам бы своим не поверил…»
Броуер резко вырвал руку, вскрикнув пронзительным и высоким, каким-то даже женским голосом, прозвучавшим пугающе в наступившей в комнате мертвой тишине, и отпрянул. Карты, жетоны, деньги так и разлетелись по столу.
Подобный поворот событий заставил всех нас просто оцепенеть. Броуер нетвердой походкой отошел от стола, держа перед собой руку и взирая на нее с диким ужасом – словно леди Макбет в мужском обличье. Лицо его побелело, даже позеленело, точно у трупа, и его искажал ужас, не поддающийся никакому описанию. Я и сам, глядя на него, ощутил, как меня объял ужас. Ничего подобного прежде не испытывал, даже тогда, когда пришла телеграмма, извещавшая о смерти Розали.
Затем он застонал. Это был страшный и глухой низкий стон, от которого мурашки пробежали по коже. Помню, я еще подумал: «Нет, этот человек явно не в себе. Он сумасшедший!» А затем вдруг услышал его голос. Он произнес нечто совершенно неожиданное:
«Мотор… Господи, я же оставил мотор включенным! Простите, ради Бога!..» – и с этими словами бросился вон из комнаты.
Первым пришел в себя я. Вскочил и бросился следом за ним, оставив Бейкера, Уилдена и Дэвидсона сидеть за столом, где на зеленом сукне громоздилась целая куча денег. Броуер выиграл, и вся троица напоминала статуи племени инков, охраняющие родовое сокровище.
Входная дверь была распахнута, ее раскачивал ветер. Я выбежал на улицу и тут же увидел Броуера – он стоял у края тротуара и искал глазами такси. А заметив меня, скорчил такую несчастную гримасу, что я помимо воли испытал к нему жалость.
«Послушайте, – сказал я, – погодите! Мне страшно неловко за Дэвидсона и все, что произошло. Но уверяю, он сделал это без всякого злого умысла!.. Конечно, если вы хотите уехать, и немедленно, это ваше право, но вы оставили там целую кучу денег. Они принадлежат вам по праву, и вы должны забрать их».
«Мне вовсе не следовало приходить! – горестно воскликнул он. – Но я… я так стосковался по человеческому общению, что… я… – Чисто автоматически я потянулся к нему, чтобы утешить, – с таким несчастным видом он бормотал эти слова, но Броуер тут же отпрянул и воскликнул: – Не смейте ко мне прикасаться, слышите? Ну неужели одного раза не достаточно? О Господи, почему я только не умер!..»
Тут вдруг глаза его сверкнули. Он увидел бездомного пса. Тощий, со свалявшейся грязной шерстью, тот трусил по противоположной стороне безлюдной в этот час улицы. Трусил с вывалившимся из пасти языком и на трех лапах, но тем не менее вполне целенаправленно. Полагаю, он заметил перевернутый кем-то мусорный бак и хотел в нем порыться.
«Вот что я такое… – задумчиво, словно разговаривая сам с собой, заметил Броуер. – Отвергнутый всеми, вынужденный влачить одинокое существование, знать, что для тебя отрезаны все пути и закрыты все двери. Изгой, пария, бездомный пес!»
«Ну, будет вам, – не слишком уверенно произнес я, сочтя, что разговор принял слишком уж мелодраматичный оборот. – Очевидно, вам довелось пережить нечто страшное, и это повлияло на нервы, но уверяю, во время войны мне доводилось видеть вещи и…»
«Так вы мне не верите? – с жаром перебил он. – Считаете, что все это – лишь расшатанные нервы, приступ истерии, не более того, да?»
«Послушайте, старина, ничего такого я не считаю. Знаю твердо лишь одно: если мы и дальше будем стоять здесь, на холоде и в сырости, то дело наверняка кончится простудой или гриппом. А потому прошу оказать любезность и проследовать за мной… нет, нет, я не настаиваю, только до вестибюля, если уж вам так противно, и я попрошу Стивенса принести…»
Глаза его дико расширились, и я вновь испытал приступ страха. В них, в этих глазах, не осталось, похоже, и искорки здравого смысла, он напомнил мне впавших в безумие солдат, которых я видел на фронте. Их везли в телегах с передовой – пустые оболочки, а не люди, бормочущие нечто нечленораздельное, с ужасными, пустыми, словно заглянувшими в самый ад глазами.
«А хотите посмотреть, как один отверженный реагирует на другого? – вдруг спросил он, не обратив на мое предложение ни малейшего внимания. – Глядите! Узнаете, чему я там научился».
И он громко и властно крикнул:
«Эй, пес!»
Пес поднял голову, покосился на него усталыми круглыми глазами (в одном посверкивал диковатый огонек, другой был затянут катарактой) и вдруг, изменив направление, нехотя захромал прямо к нам, через улицу.
Ему явно не хотелось подходить, я читал это в каждом движении. Он нервно повизгивал и скалил зубы, трусливо поджал хвост между ног, но тем не менее приближался. Подполз к ногам Броуера и улегся на живот, повизгивая и нервно вздрагивая всем телом. Впалые бока раздувались, точно кузнечные мехи, единственный зрячий глаз сверкал и перекатывался в глазнице.
Броуер издал короткий, какой-то совершенно жуткий смешок – до сих пор иногда слышу его во сне и пугаюсь.
«Ну вот, пожалуйста, – сказал он. – Убедились? Он признал меня за своего… что и требовалось доказать». И он наклонился погладить собаку. Пес ощерил зубы и издал низкое угрожающее рычание.
«Не надо! – воскликнул я. – Он может цапнуть!»
Броуер не обратил внимания. В свете уличного фонаря лицо его приобрело голубоватый оттенок, глаза напоминали две черные дыры.
«Ерунда… – пробормотал он. – Ерунда… Я только хочу пожать ему лапу… как ваши друзья стремились пожать мою!» И тут вдруг он ухватил пса за лапу и затряс ее. Собака пронзительно взвыла, но укусить его не пыталась.
Внезапно Броуер выпрямился, глаза его прояснились, и, несмотря на мертвенную бледность, он снова стал походить на нормального человека.
«Знаете, я, пожалуй, пойду, – тихо сказал он. – Пожалуйста, извинитесь за меня перед своими друзьями. Передайте, мне страшно неловко. Я вел себя как последний дурак. Возможно, мне еще представится случай… искупить свою вину».
«Нет, это мы должны просить у вас прощения, – заметил я. – Ну а как же деньги? Ведь вы оставили деньги, а там больше тысячи».
«Ах да, деньги!..» – И рот его искривился в горчайшей усмешке.
«Ладно, можете даже в вестибюль не заходить, – сказал я. – Обещайте, что будете ждать здесь, а я мигом. Сбегаю и принесу. Обещаете?»
«Да, – кивнул он. – Если уж вы так настаиваете… – И он перевел взгляд на пса, скулившего у его ног. – Кажется, он не прочь пойти ко мне домой и хоть раз в жизни поесть досыта». И на губах его снова возникла печальная улыбка.
Я оставил его на улице и поспешил в клуб. Спустился вниз по лестнице. Кто-то – возможно, Джек Уилден, он у нас всегда любил порядок во всем – поменял жетоны на деньги и сложил их аккуратной стопкой посреди зеленого стола. Ни один из нас не произнес ни слова, пока я брал эти деньги. Бейкер и Джек Уилден курили, Джейсон Дэвидсон стоял, опустив голову и разглядывая свои ботинки. На лице его застыла маска стыда и скорби. Выходя, я дружески похлопал его по плечу. Он поднял голову – во взгляде читалась благодарность.
Выйдя на улицу, я увидел, что она абсолютно пуста. Броуер ушел. Я стоял на тротуаре, сжимая в каждой руке по пачке банкнот и озираясь по сторонам, но никого видно не было. Я даже окликнул его по имени – на тот случай, если он прятался где-то в тени, – но ответа не получил. Затем взор мой упал на тротуар. Бродячий пес все еще находился здесь, но дни, проводимые в охоте за содержимым мусорных бачков, были окончены для него раз и навсегда. Пес умер. Блохи и клещи, маршируя стройными рядами, поспешно покидали холодеющее тело. Я так и отпрянул, испытывая крайнее отвращение и одновременно ужас. И еще у меня возникло предчувствие, что дела мои с Броуером не закончились. Оно не подвело, хотя больше мы с ним никогда не виделись.
Огонь в камине постепенно угасал, из дальних темных углов комнаты потянуло холодом. Джордж снова раскуривал трубку, и ни один из нас не осмеливался нарушить молчание. Наконец он вздохнул, положил ногу на ногу, отчего его старые ревматические суставы скрипнули, и продолжил:
– Полагаю, нет нужды говорить, что и все остальные наши, принимавшие участие в той злополучной игре, были единодушны во мнении: надо найти Броуера и отдать ему деньги. Возможно, кто-то сочтет, что мы просто с ума посходили, но то были совсем другие времена, и понятия о чести и долге не были пустым звуком, не то что сейчас… Дэвидсон пребывал в самом угнетенном состоянии духа, я пытался отозвать его в сторону и утешить, но он лишь удрученно покачал головой и вышел из комнаты. И я не пошел за ним. Он выспится, и наутро жизнь не покажется ему столь уж мрачной. И мы с ним отправимся искать Броуера. Уилден должен был уехать из города. У Бейкера были назначены какие-то неотложные «светские мероприятия». Так что придется нам с Дэвидсоном заняться Броуером вдвоем, и я от души надеялся, что это поможет вернуть ему хоть часть самоуважения и уверенности в себе.
Однако утром, явившись к Дэвидсону на квартиру, я обнаружил, что он все еще спит. Я мог бы, конечно, разбудить его, но затем решил: пусть себе выспится как следует. А первые шаги можно предпринять и самому.
Прежде всего я позвонил сюда, в клуб, и переговорил со Стивенсом… – Он обернулся к Стивенсу и приподнял бровь.
– С дедушкой, сэр, – сказал Стивенс.
– Благодарю.
– Всегда к вашим услугам, сэр.
– Итак, я переговорил со Стивенсом… кстати, стоял он тогда на том самом месте, где теперь стоит наш Стивенс. Он сказал, что за Броуера поручился Реймонд Грир, человек, с которым я был едва знаком.
Грир работал в муниципальной оценочной комиссии, и я немедленно отправился к нему в офис, находившийся на Флейтирон. Он принял меня незамедлительно.
А когда я рассказал, что произошло накануне ночью, на лице его отразилась целая гамма чувств – стыд, смущение, сострадание и испуг.
«Бедный старина Генри! – воскликнул он. – Я знал, что рано или поздно это случится, но не предполагал, что так скоро».
«Что именно?» – спросил я.
«Нервный срыв, – ответил Грир. – Все это – результат лет, проведенных в Бомбее. Полагаю, ни одному человеку на свете, кроме самого Генри, не известны подробности, но расскажу вам все, что знаю».
И далее он поведал мне историю, вызвавшую глубокое сочувствие и понимание с моей стороны. Как выяснилось, Генри Броуер против собственной воли стал участником и даже отчасти виновником настоящей трагедии. И как во всех классических трагедиях, причиной тому стала мелкая фатальная оплошность, в данном случае – забывчивость Генри.
Будучи представителем торговой фирмы в Бомбее, он пользовался автомобилем – большой для тех мест редкостью. По словам Грира, Броуер с каким-то детским восторгом относился к машине и просто упивался ездой по узеньким улочкам города, распугивая при этом целые стаи кур, с квохтаньем разбегавшихся в разные стороны, заставляя мужчин и женщин падать на колени при виде этого рычащего чудовища и возносить молитвы своим богам. Он буквально повсюду разъезжал в своей машине, привлекая всеобщее внимание, а также целые толпы ребятишек – сущих оборванцев, – которые бежали следом, но всякий раз в испуге разбегались, когда он предлагал им прокатиться в этом удивительном экипаже, что случалось довольно часто. Это был «форд-А» с открытым верхом, одна из первых моделей, которую можно было заводить не только с помощью специальной рукоятки, но и нажатием кнопки стартера. Прошу обратить особое внимание на это последнее обстоятельство.
Однажды Броуер отправился в своем авто через весь город – на фабрику, где производили джутовые канаты, с целью обговорить возможность закупки этого товара. «Форд», рычащий и выстреливающий выхлопными газами, словно автоматными очередями, как всегда, привлекал всеобщее внимание. И как всегда, за ним бежали ребятишки.
Броуеру пришлось отобедать с производителем джутовых канатов. Обед был долгий, со всеми положенными в таких случаях церемониями. Они сидели на открытой террасе на свежем воздухе и как раз приступили ко второй смене блюд, когда снизу, с улицы, донесся такой знакомый кашляющий рокот мотора, сопровождаемый дикими криками и визгом.
Самый храбрый из мальчиков – позднее выяснилось, что он был сыном местного священника, или дервиша, – влез в открытый кузов авто, твердо уверенный в том, что «дракон», спрятанный под железным капотом, не проснется, пока белого человека за рулем нет. А Броуер, целиком поглощенный мыслями о предстоящих переговорах, оставил двигатель автомобиля работающим.
Очевидно, мальчик все более смелел, красуясь перед своими сверстниками, и начал трогать то зеркало, то рулевое колесо, подражая при этом звукам клаксона. И всякий раз, когда заглядывал под крышку капота, где, по его понятиям, должен был сидеть «дракон», на лицах ребятишек появлялось восторженное и благоговейное выражение.
Должно быть, он, нажав на кнопку стартера, случайно опустил затем ногу на педаль сцепления. Мотор был разогрет и тут же заработал. Испугавшемуся до полусмерти мальчику надо было бы тут же убрать ступню с педали и выскочить из машины. К тому же, будь авто старым или в худшем состоянии, мотор наверняка бы заглох. Но Броуер очень заботился о своем любимом «форде», и машина с ревом двинулась вперед. Броуер успел увидеть это, выбежав из дома торговца джутом.
Роковая ошибка мальчика привела к непоправимому несчастью. Возможно, при попытке выбраться он случайно надавил локтем на дроссель. А может, сделал это специально, в надежде, что именно так поступает белый человек, желая усыпить «дракона». Как бы там ни было, но случилось самое страшное… Автомобиль, набрав убийственную скорость, помчался по извилистой людной улице, перескакивая через тюки и кипы хлопка, давя корзины и клетки с животными, вдребезги разбив тележку с цветами. Он с ревом мчался вниз, под откос, к уличному перекрестку, затем съехал с дороги, перескочил через обочину и врезался в каменную стену. И тут же взорвался, превратившись в сплошной огненный шар.
Джордж сдвинул вересковую трубку из одного уголка рта в другой.
– Вот, собственно, и все, что поведал мне Грир, потому как к этому и сводилось описание Броуером того, что произошло в реальности. А дальше, по словам Грира, началась какая-то фантасмагория, дикая смесь из домыслов и верований, могущих возникнуть только на стыке двух таких разных культур, как наши. По всей видимости, отец погибшего мальчика успел встретиться с Броуером до того, как последнего отозвали в Америку, и швырнул ему в лицо обезглавленную курицу. В Индии это считалось проклятием. Тут, кстати, Грир иронически усмехнулся, давая понять, что оба мы с ним совсем другие люди и не верим в эту ерунду, закурил сигарету и добавил: «Когда случается нечто подобное, за этим всегда следует проклятие. Так принято у несчастных варваров. Они должны соблюдать свои приличия и традиции любой ценой. Без этого им жизнь не в жизнь».
«Но в чем же заключалось это проклятие?» – спросил я.
«Думаю, вы уже догадались, – ответил Грир. – Слуга-индус объяснил Броуеру, что человек, заколдовавший и тем самым погубивший малого ребенка, должен стать парией, отверженным. А затем добавил, что любое живое существо, к которому он прикоснется рукой, обречено на смерть. Вот так, ни больше ни меньше. Аминь!» – И Грир усмехнулся.
«И Броуер поверил?..»
«Броуер считает, что поверил. Не забывайте, ведь ему довелось пережить нешуточную психическую травму. А теперь, судя по тому, что вы мне рассказали, его болезнь лишь усугубилась».
«Вы не могли бы дать мне его адрес?»
Грир порылся в бумагах и нашел какой-то листок.
«Не гарантирую, что вы застанете его там, – сказал он. – Люди не слишком охотно сдают жилье подобным субъектам, к тому же, насколько мне известно, он стеснен в средствах».
При этих словах я почувствовал себя страшно виноватым, однако промолчал. Грир показался мне несколько самоуверенным и одновременно ограниченным, чтобы делиться с ним последними новостями о Генри Броуере. Однако, уже поднявшись, я все же не преодолел искушения и выпалил:
«А знаете, не далее как вчера вечером я видел, как Броуер пожал лапу бродячей собаке. И ровно через пятнадцать минут после этого собака сдохла».
«Вот как? Любопытно…» – Он иронично приподнял бровь, словно замечание не имело ни малейшего отношения к нашей беседе.
Я уже поднялся и собирался распрощаться с Гриром, как вдруг дверь распахнулась и в кабинет заглянула секретарша.
«Прошу прощения, вы мистер Грегсон?»
Я подтвердил, что это я.
«Только что звонил человек по имени Бейкер и просил вас немедленно приехать к дому номер двадцать три по Девятнадцатой улице».
Меня удивило и одновременно испугало это сообщение. Потому что не далее как сегодня утром я уже побывал по этому адресу, на квартире у Джейсона Дэвидсона. Уже выходя из кабинета, я увидел, как Грир опустился в кресло с трубкой в зубах и журналом «Уолл-стрит». С тех пор мы с ним ни разу не встречались, и лично я не считаю это такой уж большой потерей. А в те секунды мною овладел необъяснимый страх, вернее дурное предчувствие, которому никак не удавалось выкристаллизоваться в настоящий страх. Слишком уж невероятным казалось ужасное предположение, промелькнувшее у меня в голове.
Тут я прервал повествование мистера Грегсона:
– Бог мой, Джордж! Ведь не хотите же вы сказать, что мистер Дэвидсон умер?!
– Именно. Умер, – кивнул Джордж. – Я приехал туда почти одновременно со следователем. Согласно официальному заключению, смерть наступила от тромбоза коронарных сосудов. Он не дожил до своего двадцатитрехлетия шестнадцати дней.
В последующие за этим печальным событием дни я всячески пытался убедить себя, что все случившееся – не более чем ужасное совпадение, о котором чем скорее забудешь, тем лучше. Но забыть не удавалось. Я почти перестал спать, даже мой старый испытанный друг – бутылочка «Катти Сарк» – не помогала. Я твердил себе, что выигрыш следует разделить между нами троими и забыть о Генри Броуере, вторгшемся в нашу жизнь. Но не получалось. Вместо этого я обратил наличность в чек и отправился в Гарлем, по тому адресу, что дал мне Грир.
Броуера там не оказалось. Он переехал в Ист-Сайд, более или менее приличный район, застроенный многоквартирными кирпичными домами. Но и по второму адресу я его не нашел – он съехал примерно за месяц до той печально памятной игры в покер. И избрал новым местом обитания Ист-Виллидж, район убогих полуразвалившихся лачуг.
Смотритель дома, костлявый мужчина с огромным черным мастифом, рычащим у его ног, сообщил, что Броуер съехал третьего апреля – на следующий день после нашей игры. Я спросил, не оставил ли он адреса. Мужчина, откинув голову, издал какой-то булькающий лай, по всей видимости, заменявший ему смех.
«Да когда они съезжают отсюда, сэр, то отправляются по одному адресу, прямиком в ад. Правда, по пути могут иногда задержаться и сделать остановку в Бауэри».
Вы не поверите, но тогдашний Бауэри был совсем не тот, что сейчас. Он служил приютом для бездомных, последним прибежищем для разного рода… нет, даже не людей, неких безликих существ, единственной целью и смыслом жизни которых было раздобыть бутылочку дешевого вина или щепоть белого порошка, позволяющего впасть в долгое забытье. Я отправился туда. В те дни район был застроен десятками ночлежек, милосердно принимавших пьянчужек по ночам, и состоял из сотен закоулков и подвалов, где бездомный мог пристроиться на ночь на рваном, насквозь прогнившем матрасе. Я видел массу людей – все они походили на пустые оболочки, изъеденные алкоголем и наркотиками. Здесь у них не было имен. Когда человек опускается до подобного уровня, когда ниже пасть уже нельзя, когда печень его разрушена древесным спиртом, нос являет собой открытую гноящуюся рану от непрестанного употребления кокаина и поташа, пальцы искусаны морозом, зубы сгнили и превратились в черные пеньки, человеку уже не нужно имя. Несмотря на это, я описывал Генри Броуера каждому встречному. Безрезультатно. Бродяги лишь качали головами и пожимали плечами. Другие просто смотрели в землю и проходили мимо, не останавливаясь.
Ни в тот день, ни на следующий, ни на третий я его не нашел. Прошло две недели, и как-то я разговорился с человеком, который сообщил, что видел похожего мужчину дня три тому назад в меблированных комнатах Диварни.
Я пошел туда – дом находился всего в двух кварталах. Внизу за столом сидел скабрезного вида старик с голым шелушащимся черепом и красными ревматическими глазками. Комната с засиженным мухами окошком, выходившим на улицу, сдавалась по цене двадцать центов за ночь. Я перешел к описанию Генри Броуера, старик слушал и все время кивал. А когда я закончил, сказал:
«Знаю его, мистер. Очень даже хорошо знакомая личность. Но только что-то никак не припомню… Мне, знаете ли, лучше думается, когда вижу перед собой доллар».
Я достал доллар и не успел глазом моргнуть, как купюра исчезла. И это несмотря на артрит.
«Он был здесь, мистер, а потом съехал».
«А вы не знаете куда?»
«Что-то не припоминаю… – пробормотал старик. – Но кто его знает, может, и вспомнил бы, лежи передо мной доллар».
Я достал еще одну бумажку, которая исчезла столь же быстро, как и первая. Тут старик отчего-то вдруг страшно развеселился и засмеялся лающим туберкулезным смехом. Смеялся он долго, а потом вдруг жутко закашлялся.
«Ну ладно, повеселились, и будет, – заметил я. – К тому же вам хорошо заплатили. Так где теперь, по-вашему, этот человек?»
Старик снова расхохотался сквозь кашель.
«Да… уехал… отправился, что называется, в вечное… путешествие, и соседом по комнате у него теперь сам дьявол… Как это вам нравится, а, мистер?.. Помер он, помер… кажись, вчера утром, потому как я зашел к нему в полдень, он был еще тепленький, не закоченел еще, да… Сидел себе прямехонько, точно жердь проглотил, возле окошка. Вообще-то я зашел сказать, что, ежели он не заплатит еще двадцать центов, я его на улицу вышвырну, но не получилось. Так что теперь городским властям платить – за шесть футов земли на кладбище». – И при этой мысли он снова развеселился.
«А вы… не заметили ничего необычного? – спросил я, не осмеливаясь уточнить. – Ну… что-нибудь такое… из ряда вон выходящее, а?»
«Что-то вроде бы припоминаю… Погодите-ка…»
Я достал третий доллар – освежить его память. И эта бумажка, подобно предыдущим, исчезла с невиданной быстротой, однако на сей раз старик уже не смеялся.
«Да, было странное, – кивнул он. – Одна такая довольно любопытная штука. А потому я тут же послал за властями, и их тут поналетело, что мух летом. Я, знаете ли, себе не враг, нет!.. Я всякое видел. Находил тут людей, повесившихся на дверной ручке, умерших в постели, замерзших на пожарной лестнице в январе с бутылкой между коленями и синих от холода, что твой Атлантический океан! Как-то раз даже нашел парня, утонувшего в ванне, правда, то было давно, лет эдак тридцать назад. Но этот парень… Сидел себе, прямой, как палка, в коричневом костюме, при галстуке, эдакий пижон из центра, и волосы еще так аккуратно причесаны. И держал себя левой рукой за правое запястье, да… Всякое видел, но такого еще не доводилось! Чтоб человек помер, пожимая собственную руку, да…»
Я вышел и прошел пешком до набережной и доков, а в ушах все еще звучали последние слова старика. Они звенели в голове, точно заевшая пластинка граммофона: Всякое видел, но такого еще не доводилось! Чтоб человек помер, пожимая собственную руку…
Я дошел до конца пирса и смотрел, как грязная серая вода лижет облепленные ракушками и водорослями сваи. А затем порвал чек на тысячу мельчайших кусочков и бросил в реку.
Джордж Грегсон откашлялся и заерзал в кресле. Огонь в камине уже почти совсем угас – лишь тлели синевато-красные угольки, и в просторную комнату вползал холод. Столы и кресла выглядели как-то нереально, словно увиденные во сне, но уже на грани пробуждения, в тот момент, когда смешиваются видения и реальность. Тлеющие угольки отбрасывали слабый оранжевый отсвет на выбитое в камне изречение под каминной доской: ВАЖНА САМА ИСТОРИЯ, А НЕ ТОТ, КТО ЕЕ РАССКАЗЫВАЕТ.
– Мы виделись лишь однажды, но и этого было достаточно. Я уже никогда не забуду его. И знаете, этот случай помог мне справиться с собственными отчаянием и тоской. Потому как человек, который может общаться с людьми, пусть даже изредка, уже не один на свете… И если ты, Стивенс, будешь столь любезен подать мне пальто, то я, пожалуй, отправлюсь домой. И так уже совсем засиделся.
Стивенс принес пальто. Джордж улыбнулся ему, затем указал на маленькую родинку над левым уголком рта лакея и сказал:
– Нет, сходство все же потрясающее! Вот и у твоего дедушки была в точности такая же родинка, в точности на том же месте…
Стивенс улыбнулся и промолчал. Джордж вышел, а вскоре и все остальные тоже разошлись по домам.
Пляж
[25]
Космический корабль Федерации «Эй-Эс-Эн/29»[26] упал с небес и разбился. Спустя какое-то время из треснувшего пополам корпуса, словно мозги из черепа, выползли два человека. Сделали несколько шагов, а затем остановились, держа шлемы в руках и оглядывая то место, где закончился их полет.
Это был пляж, но без океана. Он сам был как океан – застывшее море песка, черно-белый негатив поверхности навеки замерзшего моря в гребнях и впадинах, гребнях и впадинах…
Дюны…
Пологие, крутые, высокие, низкие, гладкие, ребристые. Дюны с гребнем острым, точно лезвие ножа, и гребнем размытым, почти плоским, извилистые, наползающие одна на другую – дюна на дюне, вдоль и поперек.
Дюны. Но никакого океана.
Прогалины, или впадины, между этими дюнами были сплошь испещрены извилистыми мелкими следочками каких-то грызунов. Если смотреть на эти кривые прерывистые линии достаточно долго, начинало казаться, что читаешь некие таинственные письмена – черные слова на белом фоне дюн.
– Проклятие… – выругался Шапиро.
– Ты погляди, – сказал Рэнд.
Шапиро хотел было сплюнуть, затем передумал. Вид этого песка заставил его передумать. Незачем тратить влагу, тут ею, похоже, не пахнет. Завязший в песке «Эй-Эс-Эн/29» уже не походил на умирающую птицу, он напоминал лопнувшую тыкву, чрево которой зияло чернотой. Произошло возгорание, находившиеся с правого борта грузовые отсеки с горючим взорвались и выгорели дотла.
– Да, не повезло Граймсу… – сказал Шапиро.
– Ага. – Глаза Рэнда все еще обшаривали бескрайнее море песка, тянувшееся до самого горизонта.
Граймсу действительно не повезло. Граймс был мертв. Граймс являл собой сейчас не что иное, как большие и маленькие куски мяса, разбросанные по всему багажному отсеку. Шапиро заглянул туда и подумал: Словно сам Господь Бог захотел съесть Граймса, пожевал, попробовал, решил, что не очень вкусно, и выплюнул. Шапиро почувствовал, что и его собственный желудок выворачивает наизнанку. От одной этой мысли, а также при виде зубов Граймса, разлетевшихся по полу багажного отсека.
Теперь Шапиро ждал, что Рэнд скажет что-нибудь умное и подобающее случаю, но тот молчал. Глаза Рэнда продолжали обшаривать дюны, изгибы темных впадин между ними.
– Эй! – окликнул его Шапиро. – Что будем делать, а? Граймс погиб, теперь ты командир. Что делать?..
– Делать? – Глаза Рэнда продолжали впиваться в мертвое пространство, изрезанное дюнами. Сухой напористый ветер шевелил прорезиненные воротники специальных защитных костюмов. – Если у тебя нет волейбольного мяча, тогда не знаю.
– О чем это ты?
– А что еще делать на пляже, как не играть в волейбол? – ответил Рэнд. – Играть в волейбол, именно…
Шапиро неоднократно испытывал чувство страха во время полета, был близок к панике, когда на корабле начался пожар, но теперь, глядя на Рэнда, почувствовал, что его объял пронзительный невыразимый ужас.
– Большой… – мечтательно произнес Рэнд, и на секунду Шапиро показалось, что товарищ имеет в виду обуявший его, Шапиро, ужас. – Просто чертовски огромный пляж. Похоже, конца ему нет. Можно пройти сотню миль с серфинговой доской под мышкой и так никуда и не прийти. И все, что увидишь, это шесть-семь собственных следов за спиной. А стоит постоять минут пять, так и их не увидишь, все песком засыплет.
– А ты успел захватить топографический план местности перед тем… как мы упали? – Рэнд просто в шоке, решил Шапиро. В шоке, но не сумасшедший. И если понадобится, он сумеет привести его в чувство. А если Рэнд и дальше будет нести всякую чушь, он, Шапиро, вкатит ему укол, вот и все. – Ты видел на нем…
Рэнд покосился на него и тут же отвернулся.
– Что?
Зеленый пояс. Вот что собирался сказать Шапиро, но почему-то не смог. Ветер отдавал звоном во рту.
– Что? – повторил Рэнд.
– План! План! – заорал Шапиро. – Ты когда-нибудь слыхал о такой штуке, придурок? Что это за место? Где океан? Где кончается этот гребаный пляж? Где озера? Где ближайшие зеленые насаждения? В каком направлении? Где кончаются эти пески?
– Кончаются?.. О, хочу тебя поздравить. Они нигде не кончаются. И никаких зеленых насаждений, никаких ледяных шапок, никаких океанов! Ничего этого нет. Это один бесконечный пляж без всякого океана. Только дюны, дюны и дюны, и они нигде и никогда не кончаются!
– Но где нам найти воду?
– Нигде.
– А корабль? Его нельзя как-нибудь починить?
– Ни хрена, Шерлок.
Шапиро умолк. Да и какой, собственно, у него был выбор? Или замолчать, или продолжить истерику. А у него возникло предчувствие, что, если он продолжит истерику, Рэнд продолжит разглядывать дюны – до тех пор, пока он, Шапиро, не выдохнется окончательно.
Как называют пляж, который никогда нигде не кончается? Пустыней, как же еще! Самой большой во Вселенной долбаной пустыней, разве не так?
И он представил себе, что бы ответил на это Рэнд: Ни хрена, Шерлок.
Шапиро еще немного постоял возле Рэнда, надеясь, что парень наконец очнется, предпримет хоть что-нибудь. Но в конце концов терпение его иссякло. Он отошел в сторону и начал спускаться с гребня дюны, на который они поднялись обозреть окрестности. Он шел и чувствовал, как в ботинки просачивается песок. Хочу засосать тебя, Билли, прозвучал в его ушах голос песка. Сухой, скрипучий, напоминавший голос женщины, старой, но все еще сильной. Хочу засосать тебя прямо здесь, а потом… крепко-крепко… обнять тебя.
Тут вдруг он вспомнил, как еще мальчиком, играя на пляже, позволял другим ребятишкам закапывать себя в песок по самое горло. Как же они тогда веселились!.. А теперь это его просто пугает… Но он тут же отключил этот внутренний голос, нашептывающий воспоминания, – Господи, до них ли сейчас! – и продолжал шагать, резкими рывками выдергивая ступни из песка, подсознательно пытаясь испортить безукоризненно ровную и гладкую его поверхность.
– Куда это ты? – Впервые за все это время в голосе Рэнда прорезалась какая-то заинтересованность и тревога.
– Радиомаяк, – ответил Шапиро. – Хочу попробовать починить радиомаяк. Мы же были на радарах, верно? И если удастся его починить, нас обязательно засекут. Это лишь вопрос времени. Знаю, положение серьезное, но, возможно, они успеют добраться сюда до того, как…
– Да разбился он ко всем чертям, этот твой радиомаяк! – сказал Рэнд. – Разбился, когда мы грохнулись.
– Может, его можно починить, – бросил Шапиро через плечо. И, нырнув в люк, почувствовал себя лучше, даже несмотря на запахи – вонь обгорелой проводки, горьковатый запах вытекшего фреона. Вернее, он старался внушить себе, что ему стало лучше, – подняла настроение мысль о спасительном радиомаяке. Пусть даже он и сломан. Раз Рэнд сказал, значит, скорее всего сломан. Но он просто был не в силах видеть эти дюны, этот огромный, бесконечный, сплошной пляж.
Вот почему ему сразу стало лучше.
* * *
В висках стучало, щеки обдавало сухим жаром. Когда он снова, пыхтя и задыхаясь, поднялся на гребень первой дюны, Рэнд все еще стоял там. Стоял и смотрел, смотрел… Прошел уже, наверное, целый час. Солнце висело прямо над головой. Лицо у Рэнда блестело от пота, отдельные капельки угнездились в бровях. Другие капли, покрупнее, сползали по щекам, точно слезы. И по шее тоже сползали, затекая за воротник защитного костюма. Словно бесцветное смазочное масло, которым накачивают робота.
Придурок он, вот кто, подумал Шапиро и вздрогнул. Вот на кого он похож! Не робот, а самый настоящий тупица, придурок, наркоман, которому только что вкололи в шею огромный шприц, полный дури.
И потом, Рэнд ему наврал.
– Рэнд?
Молчание.
– А радиомаяк-то вовсе и не сломан…
В глазах Рэнда блеснул какой-то странный огонек. Затем они снова стали пустыми и неподвижными и уставились на холмы и горы песка. Застывшие горы, подумал Шапиро, а потом вспомнил, что пески двигаются. Ветер дул не ослабевая. Медленно-медленно, на протяжении столетий… они ползут. Да, кажется, именно так называли они дюны на пляже. Ползучие… Он запомнил это слово с самого детства. Или со школы?.. Или откуда-то еще?.. Впрочем, разве это, черт побери, так уж важно?..
И он заметил, как с одного из гребней осыпался тоненький ручеек песка. Словно он слышал…
(слышал, что подумал он, Шапиро)
Шея у него вспотела. Да, видно, он тоже маленько тронулся. Да и кто бы не тронулся, если уж на то пошло? Ведь они попали в очень скверное место… очень скверное. И положение у них – хуже некуда. А Рэнд, похоже, этого не осознает. Или же ему просто плевать.
– Туда попал песок, и подающее сигналы звуковое устройство треснуло, но у Граймса полным-полно запасных частей, и мне удалось… – Да слышит он меня или нет?! – Не знаю, как мог попасть туда песок. Ведь маяк находился там, где ему и положено быть, в герметичном отсеке, однако…
– О, песок умеет распространяться… Попадает в такие места, что просто диву даешься. Или ты забыл, как мальчишкой бегал на пляж, а, Билли? Возвращался домой, и мать начинала ругаться. Потому что песок был везде. На диване, на кухне, на столе, даже под кроватью… Этот пляжный песок, он… – тут Рэнд взмахнул рукой, и лицо его осветила мечтательная, несколько неуверенная улыбка, – он вездесущий, вот что.
– И однако же маяк он не повредил, – продолжил Шапиро. – Резервная энергосистема тоже работает, и я подключил к ней маяк. Потом надел наушники, всего на минуту, и установил дальность сигнала в пятьдесят парсеков. И послышались такие звуки, словно кто-то что-то пилит. Значит, работает. И наши дела не так уж плохи, как могло показаться.
– Все равно никто не появится. Даже «Пляжные мальчики». Да «Пляжные мальчики» вымерли лет эдак восемь тысяч назад. Так что добро пожаловать в Серфинг-Сити, Билл! Серфинг-Сити sans[27] серфинга.
Шапиро уставился на дюны. Интересно, как долго находится здесь весь этот песок? Триллион лет? Квинтильон?.. Была ли тут хоть когда-нибудь жизнь? Существовал ли разум? Реки? Зеленые насаждения? Океаны, наличие которых превратило бы эти пески в настоящий пляж, а не пустыню?..
Стоя рядом с Рэндом, Шапиро размышлял об этом. Ровный и сильный ветер трепал волосы. А потом вдруг он почему-то подумал, что все эти вещи были, были, и отчетливо представил, как и почему все кончилось именно так.
Медленное отступление городов по мере того, как их водные запасы иссякали, а реки и озера вокруг сначала загрязнялись, потом затягивались и, наконец, были совсем удушены песком.
Он живо представил себе коричневые озерца грязи, засыпаемые наносными песками, – сначала гладкие и блестящие, словно тюленьи шкуры, но становившиеся все более тусклыми и серыми по мере того, как они отдалялись от устьев рек и увеличивались, расползались, пока не сливались друг с другом. Он видел, как эта лоснящаяся, точно тюленья шкура, гладь зарастала камышами, превращаясь в болото, затем в нечто серое, глиноподобное, и наконец затягивалась белым песком.
Он видел, как горные вершины становились все ниже и короче, словно постепенно стачиваемые карандаши; снег, покрывавший их, таял, поскольку наступающий песок нес с собой жаркое дыхание пустыни; он ясно представил, как торчали из-под песка последние несколько утесов, словно пальцы заживо похороненного человека; он видел, как и они постепенно затягиваются песком и исчезают под этими проклятыми дюнами.
Как это Рэнд сказал про них?
Вездесущие, да.
И если это всего лишь сон, Билли, мой мальчик, то должен тебе сказать – чертовски страшный сон.
Но, увы, это не было сном. И ничего страшного в этом пейзаже в общем-то не было. Напротив, вполне мирный пейзаж. Тихий и спокойный, как если бы он, Шапиро, решил вздремнуть в воскресенье днем. Да и есть ли на свете более умиротворяющая картина, чем залитый солнечными лучами песчаный пляж?..
Он решил отогнать от себя все эти мысли. Взглянул на корабль – сразу помогло.
– Так что никакая кавалерия на помощь не примчится, – заметил Рэнд. – Песок поглотит нас, и вскоре мы сами станем песком. И в Серфинг-Сити нет никакого серфинга. Как тебе эта волна, а, Билли? Можешь ее оседлать?
И Шапиро вдруг со страхом понял, что да, сможет. Разве увидишь иначе все дюны, не взлетев на гребень самой высокой волны?..
– Придурок долбаный, задница ослиная… – проворчал он в ответ. И зашагал к кораблю.
И спрятался в нем от дюн.
Солнце клонилось к закату. Близилось то время, когда на пляже – настоящем пляже – пора отложить волейбольный мяч, надеть легкий свитер и пойти выпить вина или пива. Нет, время обжиматься с девушками еще не пришло, но скоро наступит. Так что пора подумать и об этом.
Вино и пиво – эти продукты не входили в НЗ «Эй-Эс-Эн/29».
Всю оставшуюся часть дня Шапиро провел, собирая имевшуюся на корабле воду. Использовал он при этом портативный пылесос, чтобы высосать ее остатки из разорванных вен системы охлаждения, из лужиц на полу. Он не обошел вниманием даже маленький цилиндр среди шлангов и проводов системы для очистки воздуха.
И наконец зашел в каюту Граймса.
В круглой емкости, специально предназначенной для условий невесомости, Граймс держал золотых рыбок. Аквариум был сделан из противоударного прозрачного полимерного пластика и нормально перенес катастрофу. Чего нельзя было сказать о рыбках – они, как и их владелец, оказались не противоударными. Превратились в оранжево-серую кашицу, плавающую на поверхности воды в пластиковом шаре. Сам же шар закатился под койку Граймса. Шапиро обнаружил его там вместе с парой страшно грязного нижнего белья и дюжиной голографических кубиков с порнографическими картинками.
Секунду-другую он держал прозрачный шар в руке.
– Бедный Йорик! Я знал его!.. – произнес он неожиданно для самого себя и расхохотался визгливым лающим смехом. Затем достал сетку с ручкой, которую Граймс держал в шкафчике, и выудил то, что осталось от рыбок. Он никак не мог решить, что же теперь делать. Затем отнес останки к постели Граймса и приподнял подушку.
Под подушкой был песок.
Он сунул туда останки рыбок, накрыл подушкой, затем осторожно перелил воду в канистру, куда сливал и другие остатки воды. Воду следовало очистить. И даже если система очистки не работает, с горечью подумал он, то через пару дней он не побрезгует пить и эту, неочищенную аквариумную воду, несмотря на то что в ней плавают чешуйки и кал золотых рыбок.
Очистив воду, он разделил ее на две равные части, вышел из корабля и понес долю Рэнда к дюнам. Рэнд стоял все в той же позе и на том же самом месте.
– Вот, Рэнд, принес тебе твою долю воды. – Он расстегнул молнию на защитном костюме Рэнда и сунул ему во внутренний карман плоскую пластиковую флягу. И уже собрался было задернуть молнию, но тут Рэнд вдруг оттолкнул его руку и выдернул из кармана фляжку. На пластиковом боку была выведена надпись: НЗ КОСМ. КОРАБЛЯ КЛАССА «ЭЙ-ЭС-ЭН» ФЛЯГА № 23196755 СОХРАНЯЕТ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДО СНЯТИЯ ПЛОМБЫ. Пломба, разумеется, была сорвана, ведь Шапиро надо было наполнить флягу.
– Я очистил…
Рэнд разжал пальцы. Фляга с легким стуком упала на песок.
– Не хочу.
– Не хочешь?.. Господи, Рэнд, да что же это с тобой творится, а? Когда наконец ты прекратишь?
Рэнд не ответил.
Шапиро наклонился и поднял флягу № 23196755. Стряхнул с боков прилипшие песчинки.
– Что это с тобой творится? – повторил Шапиро. – Это шок, да? Ты уверен?.. Потому как если это шок, я… могу дать тебе таблетку или сделать укол… Знаешь, если честно, ты меня уже достал! Это надо же, стоять все время вот так и пялиться в никуда! На сорок миль вперед и в ничего! Это песок!.. Всего лишь песок! Неужто не ясно?
– Это пляж… – мечтательно произнес Рэнд. – Хочешь, построим из песка замок?
– О’кей, все ясно, – кивнул Шапиро. – Иду за шприцем и ампулой «Желтого Джека». Если решил вести себя как полный дебил, то и я буду обращаться с тобой соответственно.
– Только попробуй сделать мне укол. Тебе придется подкрадываться сзади и очень тихо, – миролюбиво заметил Рэнд. – Иначе я тебе руку сломаю.
Что ж, похоже, он вполне способен на это. Астронавт Шапиро весил сто сорок фунтов и был на две головы ниже Рэнда. Схватка врукопашную – не по его части. Он глухо чертыхнулся и повернул назад, к кораблю, все еще держа в руке флягу Рэнда.
– Мне кажется, он живой, – сказал Рэнд. – Вернее, даже не кажется. Я уверен.
Шапиро обернулся, взглянул на него, потом – на дюны. Заходящее солнце бросало золотистые отблески на извилистую поверхность песчаных гребней, отблески, которые постепенно тускнели и переходили в темный, цвета черного дерева, оттенок в ложбинах и впадинах. А рядом, на следующей дюне, наоборот – черное дерево превращалось в золото. Черное в золото, золото в черное и черное в золото…
Шапиро заморгал и протер глаза.
– Я несколько раз чувствовал, как вот эта дюна шевелилась у меня под ногами, – сказал ему Рэнд. – Очень тихо, еле заметно, словно наступающий прилив. И знаешь, даже воздух стал пахнуть совсем по-другому. Пахнуть солью…
– Да ты совсем спятил, – сказал Шапиро. Слова Рэнда страшно напугали его, казалось, мозги остекленели от ужаса.
Рэнд не ответил. Глаза его продолжали всматриваться в дюны, которые превращались из золота в черное, из черного – в золото…
Шапиро зашагал к кораблю.
Рэнд пробыл на дюне всю ночь и весь следующий день.
Шапиро выглянул и увидел его. Рэнд снял свой защитный костюм и бросил под ноги. Песок уже почти целиком засыпал его. Одиноко и молитвенно вздымался к небу один лишь рукав, все остальное было погребено под песком. Песок походил на пару губ, с невиданной жадностью всасывающих в беззубую пасть добычу. Шапиро охватило безудержное и безумное желание кинуться на помощь и спасти костюм Рэнда.
Но он не стал этого делать.
Он сидел у себя в каюте и ждал прибытия спасателей. Запах фреона почти исчез. Его сменил другой, куда менее приятный – запах разложения останков Граймса.
Ни на второй день, ни ночью, ни на третий корабль спасателей не прилетел.
Каким-то непонятным образом в каюте Шапиро появился песок – и это несмотря на то что все люки были задраены и система запоров держала надежно. Он отсасывал его портативным пылесосом – тем самым, которым в первый день собирал разлитую по полу воду.
Все время страшно хотелось пить. Его фляга уже почти совсем опустела.
Ему тоже начало казаться, что он чувствует в воздухе привкус соли. А во сне… во сне он отчетливо слышал, как кричат чайки.
И еще он слышал песок.
Ровный и неукротимый ветер придвигал первую дюну все ближе к кораблю. В его каюте все еще было в относительном порядке – благодаря пылесосу, – но во всех остальных помещениях и отсеках корабля уже властвовал песок. Мини-дюны проникали через отверстия и сорванные люки и полностью завладели «Эй-Эс-Эн/29». Они просачивались сквозь крошечные щелочки, мембраны и вентиляторы, во взорванные камеры и отсеки.
Лицо у Шапиро осунулось, на щеках пробивалась колючая щетина.
К вечеру третьего дня он поднялся на дюну проведать Рэнда. Хотел было прихватить с собой шприц, затем отказался от этой мысли. Теперь он точно знал: это не шок. Рэнд сошел с ума. И самое лучшее для него – побыстрее умереть. Похоже, это скоро должно случиться.
Если Шапиро просто осунулся, то Рэнд выглядел истощенным сверх всякой меры. Сплошные кожа да кости. Ноги, прежде крепкие и плотные, с прекрасно развитыми стальными мускулами, стали тощими и дряблыми. Кожа свисала с них гармошкой, точно спущенный носок. Из одежды на нем остались лишь трусы из ярко-красного нейлона, выглядевшие совершенно нелепо на иссохшем под солнцем морщинистом теле. На впалых щеках и подбородке отрастала светлая щетина. Щетина цвета пляжного песка. Волосы, прежде тускло-каштановые, выгорели под солнцем и стали почти белыми. Они беспорядочными прядями свисали на лоб. На этом иссушенном ветром мертвом лице жили, казалось, одни лишь глаза – пронзительно-голубые, они с пугающей сосредоточенностью глядели из-под неровной бахромы волос. Глядели на пляж.
(дюны, черт бы их побрал, ДЮНЫ)
Глядели неотступно, немигающе.
И только тут Шапиро заметил самое скверное. Самое страшное, что только могло случиться. Он увидел, что лицо Рэнда превращается в дюну. Светлые борода и волосы – они затянули уже почти все лицо…
– Ты, – сказал Шапиро, – скоро умрешь. Если не укроешься в корабле и не напьешься, то скоро умрешь, понял?
Рэнд не ответил.
– Что ты торчишь тут? Чего тебе надо?
В ответ – ни звука. Лишь слабый шелест ветра и тишина. Шапиро заметил, что складки кожи на шее Рэнда забиты песком.
– Я одного хочу, – произнес вдруг Рэнд еле слышным, точно шелест ветра, шепотом. – Мне нужна моя запись концерта «Пляжных мальчиков». Она у меня в каюте…
– Чтоб тебя!.. – взорвался Шапиро. – У меня совсем другие заботы на уме! Я жду и надеюсь, что прежде, чем ты окочуришься, за нами прилетит корабль. Хочу увидеть, как ты будешь орать и отбиваться, когда они поволокут тебя с этого твоего драгоценного гребаного пляжа! Хочу увидеть, что будет дальше!
– А пляж, я смотрю, и тебя достал, – заметил Рэнд. Голос казался каким-то пустым и отдавал слабым звоном – так в октябре звенит ветер в расколотой, оставшейся на поле после сбора урожая тыкве. – Ты послушай, Билл. Послушай волну…
Рэнд слегка склонил голову набок и прислушался. В полуоткрытом рту виднелся язык. Он походил на сморщенную, высохшую губку.
Шапиро тоже прислушался. И действительно что-то услышал.
Он услышал дюны. Они пели. Пели полуденную песню воскресного пляжа – колыбельную, призывавшую вздремнуть. Заснуть и не видеть снов, спать долго-долго… Ни о чем не думать. И еще – крик чаек. Еле слышный шорох песчинок. Движение дюн. Да, он их услышал, дюны. Услышал и почувствовал – они так и тянут к себе.
– Ну вот, ты тоже слышишь… – сказал Рэнд.
Шапиро засунул в ноздрю сразу два пальца и начал ковырять – до тех пор, пока из носа не потекла кровь. Затем закрыл глаза. Сознание постепенно возвращалось. Сердце колотилось как бешеное.
Я почти как Рэнд… Господи… они почти достали меня!
Он открыл глаза и увидел, что Рэнд превратился в коническую раковину. Такую одинокую на длинном пустом пляже, впитывающую в себя все звуки – шепот погребенного под песками моря, шелест дюн, дюн и дюн…
О нет, не надо, простонал про себя Шапиро.
Надо, надо… Слушай волну… шепнули в ответ дюны.
И вопреки собственной воле Шапиро снова прислушался.
Затем всякая воля просто перестала существовать.
Он подумал: будет лучше слышно, если я присяду.
И сел рядом с Рэндом, скрестив ноги, точно индийский йог, и вслушался.
И услышал, как поют «Пляжные мальчики». Они пели о том, что им весело, весело, весело! Пели о том, что девчонки на пляже всегда под рукой. И еще он услышал…
…гулкое посвистывание ветра – не в ухе, а где-то во впадине между правым и левым полушариями мозга, – услышал, как он поет в темноте, соединяющей, точно узенький хрупкий мостик, то, что осталось от его сознания, с вечностью. Он уже не чувствовал больше ни голода, ни жажды, ни жары, ни страха. Он слышал лишь этот голос, поющий в бесконечной пустоте.
И тут появился корабль.
Он устремился вниз, дугой прочертив небо слева направо и оставив за собой длинный клубящийся оранжевый след. Гром сотряс все вокруг, несколько дюн обрушились, словно пробитые пулей мозги. От этого грохота у Билли Шапиро едва не лопнула голова, его затрясло и резко швырнуло на песок.
Но он почти тотчас же вскочил на ноги.
– Корабль! – заорал он. – Провалиться мне на этом месте… Господи ты Боже!.. Корабль! КОРАБЛЬ!
Это был грузовой орбитальный корабль, грязный и изрядно поизносившийся за пять сотен – или пять тысяч – лет непрерывной эксплуатации. Он скользнул по небу, выпрямился, принял вертикальное положение и начал снижаться. Капитан продул сопла ракетных двигателей, и песок под ними оплавился и превратился в черное стекло. Шапиро восторженно приветствовал этот первый раунд, проигранный песком.
Рэнд дико озирался, словно человек, которого пробудили от глубокого сна.
– Скажи им, пусть убираются, Билли…
– Ты ничего не понимаешь! – Шапиро прыгал вокруг, радостно потрясая кулаками. – Теперь ты у меня снова будешь в порядке и…
И он бросился бежать к кораблю длинными скачками, словно удирающий от пожара кенгуру. Песок цеплялся за ступни, не хотел отпускать. Шапиро бешено пнул его носком ботинка. Вот тебе! Имел я тебя в гробу, песок! Меня в Хэнсонвилле ждет милая. А у тебя никогда не будет милой, песок. У твоего пляжа просто не стоит, да!
Стальные двери на корпусе раздвинулись, в проем, словно язык изо рта, вывалился трап. По нему спустились три робота. За ними – мужчина, и самым последним – парень с гусеницами вместо ног. Должно быть, капитан. Во всяком случае, на голове у него красовался берет с символом клана.
Один из роботов сунул к носу Шапиро палочку-анализатор. Тот отмахнулся, рухнул на колени перед капитаном и обнял гусеницы, которые заменяли капитану ноги.
– Дюны… Рэнд… без воды… пока жив… пески его загипнотизировали… безумный мир… Господи, какое счастье! Слава Богу!..
Вокруг Шапиро обвилось стальное щупальце и резко, со страшной силой, отбросило его от капитана. Сухой песок запел под ним скрипучим насмешливым голосом.
– О’кей, – сказал капитан. – Бей ат ши! Мне, мне! Госди!..
Робот отпустил Шапиро и отошел, что-то сердито стрекоча под нос.
– Надо же! Проделать такой путь ради каких-то гребаных федов! – с горечью и раздражением воскликнул капитан.
Шапиро разрыдался. Ему было больно. Боль отдавалась не только в голове, но и в печени.
– Дад! Авай! Госди! Воды ему, Госди!
Мужчина, закованный в свинцовый костюм, швырнул Шапиро бутыль с ниппелем, предназначенную для условий низкой гравитации. Шапиро приник к пластиковой соломинке и начал жадно сосать, проливая прохладную кристально чистую воду на подбородок и грудь, на выгоревший под солнцем китель, по которому тут же начали расплываться темные пятна. Пил, задыхаясь, захлебываясь, потом его вырвало, потом он снова приник к бутылке.
Дад с капитаном не сводили с него глаз. Роботы стрекотали.
Наконец Шапиро отер губы и сел. Он чувствовал слабость и одновременно – полное счастье.
– Ты Шапиро? – спросил капитан.
Шапиро кивнул.
– Член клана?
– Нет.
– Номер «Эй-Эс-Эн»?
– Двадцать девять.
– Команда?
– Трое. Один погиб. Другой, Рэнд… вон там. – Он, избегая смотреть, махнул рукой в ту сторону, где стоял Рэнд.
Лицо у капитана оставалось бесстрастным. У Дада – напротив.
– Этот пляж его доконал, – сказал Шапиро, отвечая на безмолвный вопрос в глазах мужчин. – Может… шок. Словно загипнотизировали его. Все время талдычит о «Пляжных мальчиках», это ансамбль такой, но не важно… вы все равно не знаете. Не ест, не пьет. Одно слово – совсем плохой.
– Дад, возьми с собой кого-нибудь из роботов и приведи его сюда. – Капитан покачал головой. – Господи, это ж надо! Корабль федов! Нашли кого спасать!..
Дад кивнул. И пару секунд спустя начал карабкаться вверх по склону дюны в сопровождении одного из роботов. Тот походил на какого-нибудь двадцатилетнего любителя серфинга, живущего обслуживанием скучающих вдов и параллельно приторговывающего наркотиками. Но походка выдавала его еще сильнее, чем состоящие из сегментов щупальца, растущие откуда-то из-под мышек. Характерная для всех роботов медленная, даже какая-то болезненная походка, как у пожилого лакея, страдающего геморроем.
В рации, закрепленной на груди капитана, запищало.
– Да! Я! – ответил он.
– Это Гомес, шеф. Тут у нас ситуация… Радары и телеметрия зафиксировали большую нестабильность поверхности. Полное отсутствие коренной породы, за которую можно было бы зацепиться. Опираемся лишь на продукты сгорания, образовавшиеся при посадке, и это становится все труднее. Хуже не придумаешь. Оплавленный песок начал оседать и…
– Рекомендации?
– Надо сматываться отсюда.
– Как скоро?
– Пять минут назад, шеф.
– А ты, я смотрю, у нас шутник, Гомес.
Капитан надавил на кнопку и отключился.
Шапиро в страхе вытаращил глаза.
– Послушайте, Бог с ним, с Рэндом! Он все равно…
– Нет уж, я забираю вас обоих, – сказал капитан. – У нас не спасательный отряд, но Федерация хоть что-то за вас двоих заплатит. Правда, как я погляжу, не больно-то стоящий вы товар. Тот – псих, а ты дрожишь, как какое-то дерьмо цыплячье.
– Нет, вы не поняли! Вы…
Желтые глаза капитана злобно блеснули.
– У вас возражения? – спросил он.
– Послушайте, капитан, прошу вас…
– А если уж вы хоть что-то стоите, нет смысла оставлять вас здесь. Только скажите, сколько и где можно за вас получить. Считаю, что по семьдесят за человека будет в самый раз. Стандартная плата спасателя. Или вы можете предложить что-то другое, а? Вы…
Тут вдруг оплавившийся песок дрогнул у них под ногами… Нет, не показалось, он действительно заметно сдвинулся. Где-то внутри корабля включилась и завыла сирена. Лампочка в передатчике капитана мигнула и погасла.
– Вот! – взвизгнул Шапиро. – Вот видите, что происходит? А вы еще тут толкуете о каких-то ценах! НАМ НАДО СМАТЫВАТЬСЯ ОТСЮДА, И БЫСТРО!
– Заткнись, красавчик, или я прикажу моим ребятишкам тебя усыпить, – огрызнулся капитан. Голос звучал сурово, но выражение глаз переменилось. Он постучал по передатчику кончиком пальца.
– Капитан, у нас крен в десять градусов, и это еще не предел. Подъемник пока работает, но долго ему не продержаться. У нас еще есть время, правда, совсем мало. Давайте же, иначе корабль перевернется!
– Стойки его удержат.
– Нет, сэр, прошу прощения, капитан… не удержат.
– Тогда начинай подготовку к взлету, Гомес.
– Есть, сэр! Спасибо, сэр! – В голосе Гомеса отчетливо читалось облегчение.
Дад с роботом спускались к ним по склону дюны. Рэнда с ними не было. Робот отставал все больше и больше, а затем случилось нечто очень странное. Робот покачнулся и упал. Плюхнулся лицом вниз. Капитан нахмурился. Роботы так не падают. Так свойственно падать только людям. Или же манекену, которого кто-то нечаянно толкнул в универмаге. Да, именно так он и упал, с глухим стуком, физиономией вниз, подняв прозрачное облачко желтоватого песка.
Дад вернулся и склонился над ним. Ноги робота все еще двигались – заторможенно, словно во сне. Словно полтора миллиона микроцепей, охлаждаемых фреоном, из которых состоял его мозг, все еще отдавали им приказ двигаться. Но постепенно движения замедлились и наконец стихли. Из отверстий и пор повалил дымок, щупальца задергались. Мрачное зрелище – все это очень напоминало агонию человека. Изнутри, из тела робота, донесся странный скрежещущий звук: «Гр-р-р-э-э-э-эг!»
– В него песок попал, – прошептал Шапиро.
Капитан метнул в его сторону раздраженный взгляд.
– Не болтай ерунды, приятель. Эта штука способна функционировать во время песчаной бури, и ни одна песчинка в нее не попадет.
– Только не здесь…
Почва под ногами снова дрогнула. Теперь уже и невооруженным глазом было видно, как накренился корабль. Подпорки издали жалобный скрип.
– Оставь его! – крикнул капитан Даду. – Оставь его, слышишь? Райся! Идиуда, Госди!
Дад подошел, оставив робота лежать на песке лицом вниз.
– Что за хренота… – пробормотал капитан.
И они с Дадом заговорили на быстром диалекте, из которого Шапиро улавливал и понимал лишь отдельные слова. Но общий смысл был ясен. Дад сообщил капитану, что Рэнд пойти с ними отказался. Робот пытался заставить его силой, но ничего не вышло. И тут-то с ним все это началось. Внутри у него забулькало, затем послышались какие-то странные скрежещущие звуки. К тому же робот вдруг начал цитировать цифровые комбинации галактических систем координат, а также каталог записей капитана с фольклорной музыкой. Тогда Дад решил сам заняться Рэндом. Между ними произошла короткая стычка. Капитан скептически заметил, что, если Дад не смог одолеть человека, три дня простоявшего под палящим солнцем без воды и пищи, стало быть, он, Дад, не слишком старался.
Лицо Дада потемнело от стыда, глаза глядели мрачно. Затем он медленно повернул голову. На щеке красовались четыре глубокие царапины. Они уже начали распухать.
– Он еет большие когти, – сказал Дад. – Сильный, Гос Бо, здоров как черт. Он есть амби.
– Госди, амби! Не вре? – Капитан не сводил с Дада сурового взгляда.
Дад кивнул.
– Амби о не леть. Амби, Гос Бо! Слен, не леть.
Шапиро судорожно пытался вспомнить, что означает это слово. И вспомнил. Ну конечно, амби! Это же сумасшедший! Господи Боже, он страшно силен. Силен, потому что сумасшедший. Его не одолеть, слишком силен.
Силен… или ему послышалось? Может, Дад сказал «волны»? Шапиро не был уверен. Впрочем, общий смысл сводился к тому же.
Амби.
Земля под ногами снова качнулась. Ботинки Шапиро захлестнула волна песка.
Капитан погрузился в глубокие размышления. Причудливого облика кентавр, с той разницей, что нижняя часть туловища оканчивалась не ногами и копытами, а гусеницами из металлических пластин. Затем поднял голову и нажал на кнопку радиопередатчика.
– Гомес, пришли-ка сюда Монтойю Великолепного с его ружьем-транквилизатором.
– Понял.
Капитан взглянул на Шапиро:
– Вдобавок ко всему прочему я из-за вас потерял тут робота. А он стоит столько, сколько тебе и за десять лет не заработать. Лопнуло мое терпение! Я собираюсь утихомирить твоего дружка раз и навсегда, да!
– Капитан… – Шапиро хотел было облизать пересохшие губы, но не сделал этого. Он знал, что это произведет дурное впечатление. Ему не хотелось показаться капитану трусливым, истеричным или сумасшедшим. Ведь именно такие люди склонны нервно облизывать губы. Нет, ему никак нельзя производить на капитана подобное впечатление. – Капитан, я ни в коей мере не могу, не имею права давить на вас, но надо убираться с этой проклятой планеты, и чем скорее мы это…
– Да заткнись ты, придурок! – с некоторой долей добродушия огрызнулся капитан.
С гребня ближайшей к ним дюны донесся тонкий высокий вскрик:
– Не смей меня трогать! Не подходи! Оставь, оставьте меня, все оставьте!
– Большой индикт достать амби, – мрачно заметил Дад.
– Чать его, да, монтой! – кивнул капитан и обернулся к Шапиро: – А он совсем свихнулся, верно?
Шапиро пожал плечами:
– Не вам о том судить. Вы просто…
Почва снова дрогнула. Подпорки заскрипели еще сильнее. Радиопередатчик запищал. Из него донесся дрожащий, испуганный голос Гомеса:
– Пора убираться отсюда, шеф!
– Ладно. Знаю.
На трапе появился коричневый человек. Рука в перчатке сжимала пистолет с необычайно длинным стволом. Капитан ткнул пальцем в дюну, где находился Рэнд:
– Ма, его, Госди! Можешь?
Монтойя Великолепный не обращал ни малейшего внимания ни на ходившую ходуном почву, вернее не почву, а остекленевший песок (кстати, только тут Шапиро заметил, что по оплавленной поверхности веером разбегаются глубокие трещины), ни на скрип и стенание подпорок, ни на распростертого на песке робота, который теперь мелко сучил ногами, словно копая себе могилу. Секунду он изучал видневшуюся на гребне дюны фигуру.
– Могу, – ответил он.
– Бей! Достань его, рад Бо! – Капитан сплюнул. – И если отстрелишь ему клюв, а заодно и черепушку, я не возражаю. Нам лишь бы успеть взлететь.
Монтойя Великолепный поднял руку с пистолетом. Жест на две трети рассчитанно-небрежный, на треть чисто автоматический. Однако даже пребывавший в состоянии, близком к истерике, Шапиро заметил, как Монтойя слегка склонил голову набок и прищурился. Как и у многих членов клана, оружие стало частью его самого, превратилось в некое естественное продолжение руки.
Затем послышался негромкий хлопок – «пуф!» – и из ствола вылетела стрела, начиненная транквилизатором.
Из-за дюны взметнулась рука и перехватила стрелу.
Крупная, костистая коричневая ладонь – казалось, она сама была сделана из песка. Она взметнулась в воздух вместе с облачком песчинок, затмевая блеск стрелы. Затем песок с легким шорохом опал. И руки уже видно не было. Невозможно было даже представить, что она была. Но все они видели.
– Ма ашу, вот эа а! – заметил капитан безразличным тоном.
Монтойя Великолепный повалился на колени и запричитал:
– Го сусе, ми иио ушу! Да коит он иром…
Шапиро с изумлением осознал, что Монтойя читает отходную молитву на своем тарабарском наречии.
А вверху, на гребне дюны, подпрыгивал и содрогался Рэнд, издавая пронзительные торжествующие взвизги. И грозил небесам кулаками, вздымая вверх руки.
Рука. Так это его РУКА. С ним все нормально… он жив! Жив, жив!
– Индик! – рявкнул капитан, обернувшись к Монтойе. – Нмог! Кнись!
Монтойя умолк. Какое-то время он смотрел на Рэнда, затем отвернулся. На лице его отражался почти благоговейный ужас.
– Ладно, – буркнул капитан. – С меня хватит! Пора!
Он надавил на две кнопки на приборной доске, находившейся у него на груди рядом с передатчиком. Механизм, должный развернуть его гусеницами к трапу, не работал – лишь слабо попискивал и скрипел. Капитан чертыхнулся. Земля под ногами снова задрожала.
– Капитан! – Голос Гомеса звучал совершенно панически.
Капитан ткнул пальцем в другую кнопку. Гусеницы нехотя, со скрипом, развернулись. И двинулись к трапу.
– Проводи меня! – крикнул капитан Шапиро. – У меня нет этого гребаного зеркала заднего вида! Там что, правда была рука?
– Да.
– К чертовой матери отсюда, и побыстрее! – воскликнул капитан. – Вот уже лет пятнадцать как потерял член, но ощущение такое, что того гляди описаюсь от страха.
Трах! Под трапом внезапно осела дюна. Только то была вовсе не дюна. Рука…
– Проклятие! – пробормотал капитан.
А Рэнд подпрыгивал и верещал на своей дюне.
Теперь уже жалобный скрежет издавали гусеницы под капитаном. Металлический корпус, в который были закованы голова и плечи, начал запрокидываться назад.
– Что…
Гусеницы заблокировало. Из-под них ручейками сыпался песок.
– Поднять меня! – завопил капитан, обращаясь к двум оставшимся роботам. – Давайте же! ЖИВО!
Щупальца послушно обвились вокруг его гусениц и приподняли капитана – в эти секунды он выглядел крайне нелепо и неуклюже и походил на студента, которому товарищи по комнате решили устроить темную. Он нашаривал пальцем кнопку радиопередатчика.
– Гомес! Последний отсчет перед стартом! Живо! Давай!
Дюна у подножия трапа сдвинулась. Превратилась в руку. Огромную коричневую руку, которая вцепилась в ступеньку и начала карабкаться вверх.
Шапиро с криком отпрянул от руки.
Ругающегося на чем свет стоит капитана внесли в корабль.
Трап втянули наверх.
Рука свалилась и снова стала песком. Стальные двери задвинулись. Двигатели взревели. Грунт уже больше не держал. Времени не осталось. Шапиро, вцепившегося из последних сил в корпус корабля, отбросило в сторону и тут же расплющило в лепешку. Перед тем как провалиться во тьму небытия, он краешком угасающего сознания отметил, как песок цепляется за корабль мускулистыми коричневыми руками, как старается удержать его, не пустить…
А в следующую секунду корабль взлетел…
Рэнд провожал его взглядом. Теперь он сидел на песке. И когда наконец в небе растаял клубящийся след, опустил голову и умиротворенно оглядел уходящую в бесконечность вереницу дюн.
– А у нас дощечка есть по волнам носиться, – хрипло пропел он, не отрывая взгляда от двигающегося песка. – Хоть и старая совсем, но еще сгодится…
Медленно, механическим жестом зачерпнул он пригоршню песка и сунул в рот. И начал глотать… глотать… глотать. Вскоре живот у него раздулся, точно бочка. А песок стал потихоньку засыпать ноги.
Отражение
[28]
– Переносили его в прошлом году. И то, доложу я вам, была целая операция, – говорил мистер Карлин, поднимаясь по ступенькам. – Действовать, разумеется, пришлось вручную, иначе никак не получалось. Ну, естественно, перед тем как вынуть из рамы в гостиной, застраховали его у «Ллойда»[29]. Это единственная на свете компания, способная обеспечить страховку на сумму, которая подразумевалась в данном случае…
Шпренглер не ответил. Этот мистер Карлин был дурак дураком. А Джонсон Шпренглер давным-давно усвоил правило: единственный способ поддерживать беседу с дураком – это игнорировать его.
– Застраховали на четверть миллиона долларов, – снова принялся за свое Карлин, добравшись до площадки второго этажа. Рот его кривился в полугорестной-полунасмешливой гримасе. – И, доложу я вам, это влетело нам в копеечку!..
Мистер Карлин был низенький человек, не слишком толстый, но плотный, в очках без оправы и с загорелой лысиной, сверкавшей, словно покрытый лаком волейбольный мяч. Из коридора на них отрешенно и бесстрастно взирал рыцарь в доспехах, охранявший полутемное помещение, наполненное красновато-коричневыми тенями.
Коридор был длинный, и, вышагивая по нему, Шпренглер изучал стены и развешанные на них предметы холодным и оценивающим взглядом знатока. Сэмюель Клэггерт приобретал картины, книги и статуэтки в неимоверных количествах, но далеко не всегда они представляли хоть какую-нибудь ценность. Подобно большинству быстро выбившихся в люди и разбогатевших промышленных магнатов конца девятнадцатого столетия, он мало отличался от мелкого ростовщика или владельца ломбарда, рядившегося в одежды коллекционера и истинного ценителя искусства. С упорством, достойным лучшего применения, он скупал чудовищные полотна, ерундовые романчики и стихотворные сборники в дорогих переплетах телячьей кожи, а также совершенно ужасающие скульптуры, искренне считая их произведениями искусства.
И здесь, наверху, все стены были сплошь завешаны – буквально как гирляндами, иначе не скажешь, – имитациями марокканских гобеленов; бесчисленными (неизвестно чьей кисти) мадоннами, державшими на руках бесчисленных же младенцев с нимбами вокруг головок, и бесчисленными ангелочками, порхающими на заднем плане; канделябрами в завитушках, среди которых выделялось одно совершенно чудовищное и непристойное изделие в виде похотливо улыбающейся бронзовой нимфетки.
Нет, разумеется, у старого разбойника имелись и довольно любопытные вещички, что подтверждает действие вероятностных законов. И если в целом собрание Мемориального частного музея Сэмюеля Клэггерта (Экскурсии с гидом в строго указанный час. Вход: для взрослых – 1 доллар, для детей – 50 центов) на девяносто восемь процентов состояло из самой откровенной ерунды, существовали и другие два процента, включавшие такие вещи, как, к примеру, длинноствольное ружье «кумбс», что висело над плитой в кухне, странного вида маленькая камера-обскура в прихожей, ну и, разумеется…
– Зеркало Делвера решили убрать из гостиной после одного… довольно прискорбного случая, – вдруг выпалил Карлин. Возможно, на него повлиял мрачно взирающий со стены портрет неизвестной персоны, висевший у следующего лестничного пролета. – Нет, происходили и другие инциденты, звучали грубые слова, дикие, совершенно абсурдные утверждения, но то была первая попытка уничтожить экспонат физически. Женщина, некая мисс Сандра Бейтс, явилась с камнем в кармане. К счастью, она промахнулась. Отбился лишь уголок рамы, само зеркало уцелело. У этой Бейтс имелся брат…
– Знаете, я вовсе не претендую на долларовую экскурсию, – тихо заметил Шпренглер. – Меня интересует история зеркала Делвера.
– О, она совершенно удивительна, не правда ли? – Мистер Карлин метнул в его сторону настороженный взгляд. – Сначала английская герцогиня в 1709 году… затем этот торговец коврами из Пенсильвании в 1746 году, уж не говоря о…
– Меня интересует история, – упрямо повторил Шпренглер, – самого создания зеркала, ясно вам? Ну и затем, разумеется, доказательства его подлинности…
– Подлинности? – Карлин рассмеялся скрипучим лающим смехом, напоминавшим бряцание костей скелета, спрятанного где-нибудь в буфете[30]. – О, но она подтверждена экспертами, мистер Шпренглер.
– Как «страдивари» Лемльера, да?..
– В ваших словах есть доля истины, – со вздохом заметил мистер Карлин. – Но никакой «страдивари» никогда не обладал… э-э… выводящим из равновесия… эффектом зеркала Делвера.
– Да, конечно, – кивнул Шпренглер, и в тоне его улавливался легкий оттенок презрения. Он уже понял, что остановить Карлина невозможно. Образ его мышления, глупость – все это возрастное… – Конечно.
Третий и четвертый лестничные пролеты они преодолели в полном молчании. По мере того как мужчины поднимались по шатким ступенькам все ближе к крыше, становилось все более жарко и душно. К этой удушливой атмосфере примешивался слабый, столь хорошо знакомый Шпренглеру запах. Всю сознательную часть жизни он провел среди этого запаха – запаха давным-давно сдохших мух в темных углах и между оконными рамами, плесени, гниения и древесного жучка, укрывшегося где-то под штукатуркой. Аромат древности. Он присущ только музеям и мавзолеям. Наверняка в точности такой же дух будет исходить от могилы юной девственницы, скончавшейся лет сорок назад.
Здесь, наверху, экспонаты были свалены как попало, вперемешку, точно в лавке старьевщика. Мистер Карлин провел Шпренглера через строй каких-то загадочных статуй, мимо портретов в разбитых рамах, помпезно позолоченных птичьих клеток, частично разобранного скелета старинного велосипеда типа «тандем». Он вел его к дальней стене, где в потолке виднелась квадратная дверца на чердак, а к ней была приставлена шаткая лесенка. С дверцы свисал покрытый пылью амбарный замок.
Слева на них безжалостными черными провалами зрачков взирала копия статуи Адониса. На его вытянутой руке висела табличка «ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН».
Мистер Карлин извлек из кармана пиджака связку ключей, нашел нужный и начал подниматься по лесенке. На третьей ступеньке остановился – в сумраке его лысина отливала слабым блеском.
– Не нравится мне это зеркало, – пробормотал он. – Никогда не нравилось. Боюсь в него заглядывать. Мне кажется, что как-нибудь загляну и увижу в нем… то, что видели остальные.
– Да что они, кроме самих себя, могли в нем увидеть?! – воскликнул Шпренглер.
Карлин собрался было что-то ответить, затем передумал, покачал головой и, изогнув шею, чтобы удобнее было вставлять ключ, начал возиться с замком.
– Надо бы заменить… – пробурчал он. – Черт!.. – Замок резко щелкнул и вывалился из петли. Мистер Карлин неловко взмахнул рукой, пытаясь поймать его на лету, и едва не упал с лестницы. Шпренглер ловко подхватил замок и поднял глаза. Карлин стоял, судорожно вцепившись в дверцу, лицо у него побелело.
– А вы, похоже, нервничаете… – заметил Шпренглер. В голосе его звучало сдержанное удивление.
Карлин не ответил. Его словно парализовало.
– Спускайтесь, – сказал Шпренглер. – Пожалуйста! А то еще свалитесь.
Карлин медленно спустился, цепляясь за каждую ступеньку, словно человек, балансирующий на краю бездонной пропасти. И, ощутив наконец пол под ногами, разразился целым потоком слов, точно в нем, в этом дощатом полу, была скрыта некая энергия, включившая его, как мы включаем в доме свет.
– Четверть миллиона! – воскликнул он. – Четверть миллиона долларов – вот страховая стоимость этого… этой чертовой вещи, которую надо было поднять сюда!.. Им пришлось соорудить специальный блок с канатами, чтоб втащить эту штуковину на чердак! И теперь она хранится там среди разного хлама!.. А когда ее поднимали, я надеялся, едва ли не молился о том, чтобы чья-нибудь рука в этот момент дрогнула… чтобы веревка лопнула… чтобы эта чертова штуковина сорвалась вниз и разбилась на миллион осколков!
– Факты, – сказал Шпренглер. – Факты, дорогой Карлин. Это вам не какие-нибудь дешевенькие романчики в бумажных обложках, не пустые россказни за кружкой пива и не идиотские фильмы ужасов! Факты!.. Номер один: Джон Делвер был английским мастером нормандского происхождения. Он занимался изготовлением зеркал в период истории, который мы называем Елизаветинским. Делвер жил, как все обычные люди, а потом умер вполне естественной смертью. Никаких таинственных знаков, начертанных на полу его комнаты, никаких воняющих серой бумаг или документов с пятнышком крови в тайнике обнаружено не было. Факт номер два: его зеркала стали коллекционировать, они прославились благодаря изумительному мастерству, с каким были сработаны, а также тому обстоятельству, что стекло слегка увеличивало отражение смотревшего в такое зеркало человека – весьма интересная отличительная черта. Далее, факт номер три: до наших дней, насколько нам известно, дошло всего пять зеркал Делвера, причем два из них находятся в Америке. Они поистине бесценны. И наконец, номер четыре: этот «делвер» и еще одно зеркало, разбитое при бомбежке Лондона, приобрели довольно скверную репутацию благодаря различного рода ложным слухам, преувеличениям и совпадениям…
– И факт номер пять, – перебил его Карлин. – Вы не кто иной, как надменный придурок, мистер Шпренглер!
Шпренглер с некоторым отвращением посмотрел в пустые глаза Адониса.
– Именно я проводил ту экскурсию, когда брат этой самой Сандры Бейтс заглянул в ваше драгоценное зеркало Делвера. Ему было лет шестнадцать, ученик старшего класса… Да, так вот… Я рассказывал им историю зеркала и как раз подходил к тому, каким безупречным мастерством отмечены работы Делвера, чем замечательно именно это зеркало, и далее в том же духе. Как вдруг этот мальчик поднимает руку и спрашивает: «А что это там за темное пятнышко в левом верхнем углу? Похоже на дефект». Тут один из его приятелей попросил объяснить, что это парень имеет в виду, и Бейтс начал было объяснять, но вдруг умолк. Вгляделся в зеркало повнимательнее, дотронулся до бархатного красного каната, на котором была подвешена рама, а затем вдруг… заглянул за зеркало, словно надеясь отыскать там того, чье отражение только что видел… Кого-то в черном, стоявшего рядом с ним. «Похож на человека, – сказал он, – вот только лица его не разглядел. Не успел. А теперь он исчез». Вот, собственно, и все.
– Нет, продолжайте, – возразил Шпренглер. – Ведь вам так и не терпится сообщить мне, что именно мальчик увидел там. Жнеца, верно?.. Разве не бытует мнение, что некоторые люди могут видеть в зеркале отражение Жнеца? Так вот, забудьте об этом, старина, выбросьте из головы! От такой истории пришел бы в восторг разве что «Нэшнл энквайер». Расскажите мне теперь о трагических последствиях и попробуйте доказать, что все это как-то связано с мелькнувшим в зеркале отражением. Что, этого Бейтса вскоре сбила машина? Или же он выбросился из окна? Что?..
Мистер Карлин печально усмехнулся:
– Кому, как не вам, знать, Шпренглер? Разве не вы уже дважды упомянули о том, что интересуетесь… э-э-э… историей зеркал Делвера? Нет, никаких трагических совпадений, ничего ужасного. Именно поэтому зеркало Делвера не является печальной притчей во языцех, как, к примеру, алмаз «Кохинор» или проклятие, лежащее на гробнице фараона Тутанхамона. Да все эти штучки – сущие пустяки по сравнению с зеркалом!.. Вы, очевидно, считаете меня глупцом?
– Да, – ответил Шпренглер. – Так мы можем туда подняться?
– Ну разумеется! – пылко воскликнул мистер Карлин, вскарабкался вверх по лесенке и толкнул дверцу. Она со стуком откинулась и открыла зияющий темнотой квадрат. И мистер Карлин тут же исчез, скрылся в этой темноте. Шпренглер последовал за ним.
Слепой Адонис проводил их ничего не выражающим взглядом.
На чердаке было страшно жарко. Единственным источником освещения служило затянутое паутиной многоугольное оконце, превращавшее яркие солнечные лучи в слабое мутно-серое мерцание. Зеркало стояло у стены, под углом к свету, вбирая большую его часть и отбрасывая жемчужный прямоугольник отражения на противоположную стенку. Оно было надежно прикреплено болтами к деревянной раме. Мистер Карлин старался не смотреть на него. Сознательно избегал смотреть.
– Хоть бы скатерть какую на него набросили… – проворчал Шпренглер. Впервые за все это время в голосе его прозвучали гневные нотки.
– Знаете, я отношусь к нему как к глазу, – заметил мистер Карлин каким-то грустным, отрешенным голосом. – Если держать глаз открытым, все время открытым, возможно, он и ослепнет…
Шпренглер не обратил на эти слова ни малейшего внимания. Снял пиджак, аккуратно подвернул манжеты рубашки и с необыкновенной осторожностью, даже какой-то нежностью стер пыль с чуть выпуклой поверхности зеркала. Затем отступил на шаг и посмотрел.
Настоящее… Теперь в этом не было никаких сомнений, да он, собственно, и раньше не сомневался. Превосходный образчик, истинное творение гениального Делвера. Забитая разным хламом комната, он сам, смотревший куда-то в сторону Карлин, – все это отражалось в зеркале ясно, отчетливо, казалось почти трехмерным. А эффект небольшого увеличения придавал каждой черточке и детали легкое, приятное глазу искажение. Наделял эдакой особой округлостью и выпуклостью, что делало отражение… уже почти четырехмерным. Это было…
Тут ход его мыслей прервался, а сознание затопила жаркая волна гнева.
– Карлин!
Карлин не ответил.
– Карлин, идиот вы эдакий! К чему это вам понадобилось говорить, что девушка не повредила зеркала?
Ответа не последовало.
Шпренглер злобно смотрел на его отражение в зеркале.
– Вот здесь, в верхнем левом углу, что-то заклеено липкой лентой. Выходит, там трещина? Она все-таки разбила его? Ради Бога, ну что же вы молчите? А, Карлин?..
– Это вы… Жнеца видите… – пробормотал Карлин каким-то замогильным, глухим и бесстрастным голосом. – Нет там никакой липкой ленты. Да вы пощупайте… сами убедитесь!..
Шпренглер спрятал руку в рукав, протянул ее и осторожно коснулся стекла.
– Ну, видите? Ничего сверхъестественного. Все исчезло. Я закрываю это место рукой и…
– Закрываете? А где же тогда ваша липкая лента? Почему бы вам ее не содрать?
Шпренглер так же осторожно отнял руку и заглянул в зеркало. Отражение показалось еще более искаженным; дальние углы комнаты зияли пустотами, словно ускользали в некое невидимое и бесконечное пространство. Ни черного пятна, ни трещинки… Безукоризненно гладкая чистая поверхность. Он почувствовал, как его вдруг обуял беспричинный ужас, и тут же ощутил презрение к себе за слабость.
– Правда, похож? – спросил мистер Карлин. Лицо его было мертвенно-бледным, и смотрел он в пол. На шее медленно дрожала и билась жилка. – Ну сознавайтесь же, Шпренглер! Ведь это было очень похоже на фигуру в черном плаще и капюшоне, стоявшую прямо у вас за спиной, да?
– Нет. Это было похоже на кусок липкой ленты, которой заклеили маленькую трещину, – твердо ответил Шпренглер. – Только на это и ни на что другое…
– А Бейтс был рослый и крепкий парнишка, – торопливо вставил мистер Карлин. Казалось, произносимые им слова падают в жаркий неподвижный воздух, точно камни в темную воду, и сразу же тонут в нем. – Похож на футболиста. На нем был свитер с какими-то буквами и темно-зеленые джинсы из тонкой ткани. Мы уже осмотрели больше половины экспонатов, когда…
– Вы знаете, тут так жарко и душно, что мне… как-то не по себе, – произнес Шпренглер дрожащим, неуверенным голосом. Достал платок и вытер шею. Глаза его так и обшаривали выпуклую поверхность зеркала.
– Когда он сказал, что хочет пить… хочет попить воды… Господи, Боже ты мой!..
Карлин повернулся и смотрел на Шпренглера дико расширенными глазами.
– Но откуда мне было знать? Откуда?
– Здесь есть туалет? Мне надо…
– Его свитер… Я только что видел его свитер. Он мелькнул там, на лестнице…
– Иначе мне будет совсем худо…
Карлин покачал головой, словно силясь отогнать видение. И снова уставился в пол.
– Да, конечно… Третья дверь налево по коридору, на втором этаже, если считать снизу… – И он снова с мольбой вскинул на него глаза. – Откуда мне было знать?!
Но Шпренглер не слышал этих последних слов. Он уже был на лестнице. Ступени шатались и скрипели под его тяжестью, и на какую-то долю секунды Карлину показалось, что вот сейчас он упадет. Но этого не произошло. Через квадратное отверстие в полу Карлин наблюдал, как Шпренглер уходит, спускается все ниже, прижимая ладони к уголку рта.
– Шпренглер?..
Но тот уже исчез.
Карлин прислушивался к замирающему вдали звуку шагов. Вскоре они стихли, и его охватила дрожь. Он хотел подойти к дверце, но ноги словно примерзли к полу. И еще мысль об этом промелькнувшем на лестнице свитере паренька… О Боже!..
Казалось, чьи-то огромные невидимые руки обхватили его голову и стали сжимать, заставляя поднять глаза и взглянуть… Карлин вовсе не хотел смотреть, однако против воли обернулся и заглянул в мерцающую глубину зеркала Делвера.
И ничего особенного там не увидел.
Зеркало исправно отражало комнату, пыльные углы, уплывающие куда-то в бесконечность. Почему-то вспомнился отрывок из полузабытого стихотворения Теннисона, и Карлин произнес вслух:
– «Я так устала от теней, – сказала леди Малот…»
И все же ему никак не удавалось отвернуться от этого зеркала. Оно держало, притягивало своей глубиной. Из верхнего угла пялилась на него побитая молью голова быка с плоскими глазками из черного вулканического стекла.
Мальчик захотел напиться, автомат с водой находился в вестибюле на первом этаже. Он пошел вниз и…
И больше не вернулся.
Никогда.
Никуда.
Как не вернулась герцогиня, которая сидела у этого зеркала, прихорашиваясь перед soirе́e[31], а потом вышла и вдруг решила вернуться в будуар за жемчужным колье… Как торговец коврами из Пенсильвании, отъехавший от дома в карете; и его тоже никто никогда уже больше не видел. Нашли лишь пустую карету и двух распряженных лошадей.
И еще зеркало Делвера находилось в Нью-Йорке с 1897 по 1920 год, как раз когда судья Крейтер…
Словно загипнотизированный, Карлин глядел в бездонную глубину зеркала. А внизу продолжал нести свою вахту Адонис с пустыми зрачками.
Карлин ждал Шпренглера, как, должно быть, дожидались родители Бейтса своего сына, как ждал герцог герцогиню, которая вот-вот должна была выйти из своего будуара. Смотрел в зеркало и ждал.
И ждал.
Ждал…
Нона
[32]
Ты любишь?
Я слышу, как ее голос спрашивает это – иногда я все еще слышу его. В моих снах.
Ты любишь?
Да, отвечаю я. Да – и истинная любовь не умирает.
Не знаю, как объяснить это, даже сейчас. Не могу сказать вам, почему я все это делал. И на суде не мог. И тут есть много людей, которые спрашивают, почему. Психиатр спрашивает. Но я молчу. Мои уста запечатаны. Только не здесь, в моей камере. Здесь я не молчу. Я просыпаюсь от собственного крика.
В снах я вижу, как она идет ко мне. На ней белое платье, почти прозрачное, а на лице – желание, смешанное с торжеством. Она идет ко мне через темную комнату с каменным полом, и я чувствую запах увядших октябрьских роз. Ее руки раскрыты для объятия, и я иду к ней, раскинув свои, чтобы обнять ее.
Я ощущаю ужас, отвращение, невыразимое томление. Ужас и отвращение потому, что знаю, что это за место, томление потому, что люблю ее. Я буду любить ее всегда. Бывают минуты, когда я жалею, что в этом штате отменена смертная казнь. Несколько шагов по тускло освещенному коридору, кресло с прямой спинкой, оснащенное стальной шапочкой, зажимами… потом один быстрый разряд… и я был бы с ней.
И когда в этих снах мы сходимся, мой страх возрастает, но я не могу отпрянуть от нее. Мои ладони прижимаются к ее стройной спине, и ее кожа под шелком так близка. Эти глубокие черные глаза улыбаются. Ее голова запрокидывается, губы раскрываются, готовые к поцелую.
И вот тут она изменяется, съеживается. Волосы становятся грубыми и спутанными, чернота воронова крыла переходит в безобразную бурость, расползающуюся по кремовой белизне ее щек. Глаза сжимаются в бусины. Белки исчезают, и она свирепо смотрит на меня крохотными глазками, точно два отшлифованных кусочка антрацита. Рот превращается в пасть, из которой торчат кривые желтые зубы.
Я пытаюсь закричать. Я пытаюсь проснуться.
И не могу. Я снова пойман. И всегда буду пойман. Я схвачен огромной гнусной кладбищенской крысой. Огни пляшут перед моими глазами. Октябрьские розы. Где-то лязгал мертвый колокол.
– Ты любишь? – шепчет эта тварь. – Ты любишь?
Запах роз – ее дыхание, когда она накидывается на меня. Мертвые цветы в склепе.
– Да, – говорю я крысиной твари. – Да – и истинная любовь не умирает. – И вот тогда я кричу и просыпаюсь.
Они думают, будто то, что мы делали вместе, свело меня с ума. Но мой рассудок все еще так или иначе работает, и я не перестаю искать ответы. Я все еще хочу узнать, как это было и что это было.
Они дали мне бумагу и перо с мягким кончиком. Я намерен все записать. Может, я отвечу на некоторые их вопросы и, может, отвечая им, найду ответы на некоторые мои вопросы. А когда я это сделаю, то мне останется еще кое-что. То, о чем они НЕ знают. То, что я взял без их ведома. Оно здесь, у меня под матрасом. Нож из тюремной столовой.
Для начала надо рассказать вам про Огесту.
Сейчас, когда я пишу это, наступила ночь, чудесная августовская ночь, усеянная сверкающими звездами. Я вижу их сквозь сетку на моем окне, которое выходит на прогулочный двор, и ломоть неба, который я могу закрыть двумя сложенными пальцами. Жарко, и я совсем голый, только в шортах. Я слышу нежные летние звуки – лягушек и цикад. Но я могу вернуть зиму – стоит лишь закрыть глаза. Лютый холод той ночи, унылость, злые, враждебные огни города, который не был моим городом. Четырнадцатое февраля.
Видите, я все помню.
И поглядите на мои руки – потные, они пошли пупырышками до плеч, будто от холода.
Огеста…
Когда я добрался до Огесты, то был ни жив ни мертв от холода. Я выбрал прекрасный день, чтобы распрощаться с колледжем и отправиться на запад, голосуя; смахивало на то, что я замерзну насмерть, так и не выбравшись из штата.
Полицейский согнал меня с эстакады магистрального шоссе и пригрозил отделать меня, если он еще раз поймает там, пока я сигналю машинам.
Я еле удержался от соблазна огрызнуться так, чтобы он это сделал. Плоский четырехполосный отрезок шоссе тут напоминал взлетную дорожку аэродрома; ветер налетал воющими порывами, гоня по бетону волны снежных кристалликов. А что до анонимных ИХ за ветровыми стеклами, то всякий, кто стоит темным вечером у полосы медленного движения, для них либо сексуальный маньяк, либо убийца, а уж если у него длинные волосы, можете добавить к списку растлителя малолетних и гомика.
Я попытал счастья у въезда на шоссе, но без толку. И примерно в четверть девятого осознал, что потеряю сознание, если без промедления не укроюсь где-нибудь в тепле.
Я прошел полторы мили, прежде чем нашел сочетание столовой и колонки дизельного топлива на двести втором у самой границы города. «У ДЖО. ОТЛИЧНАЯ КОРМЕЖКА» – гласили неоновые буквы. На мощенной щебнем автостоянке были припаркованы три больших рефрижератора и новенький седан. На дверях висел засохший рождественский венок, который никто не позаботился снять, а рядом с ним столбик ртути на термометре еле касался цифры «двадцать» ниже нуля. Укрыть уши я мог только волосами, а мои перчатки из сыромятной кожи расползались прямо на глазах. Кончики пальцев у меня совсем одеревенели.
Я открыл дверь и вошел.
Первым, что я осознал, было тепло – густое, упоительное. Вторым была песня в стиле кантри – из проигрывателя рвался неповторимый голос Мэрла Хэггерда. «Космы длинные не носим, мы не хиппи в Сан-Франциско».
Третьим я осознал Взгляды. Вы поймете, что такое Взгляды, если отрастите волосы по мочки ушей. Тогда люди сразу понимают, что вы не член какого-нибудь Клуба бизнесменов или Общества инвалидов. Вы поймете, что такое Взгляды, но не свыкнетесь с ними. Никогда.
В тот момент это были Взгляды четырех водителей за столиком в алькове, двух водителей – у стойки, парочки старушек в дешевых меховых манто и с подсиненными волосами, раздатчика по ту сторону стойки и долговязого парнишки в мыльной пене по локти. И еще у дальнего конца стойки сидела девушка, но она глядела на дно своей кофейной чашки.
Она была четвертым, что я осознал.
Я человек давно взрослый и знаю, что никакой любви с первого взгляда не существует. Ее в один прекрасный день попросту придумали Роджерс и Хаммерстайн, чтобы срифмовать июньские розы и чудные грезы. Она – для ребятишек, держащихся за руку под партой, верно?
Но, посмотрев на нее, я невольно почувствовал что-то. Смейтесь, смейтесь, но вы бы не засмеялись, если бы увидели ее. Она была нестерпимо, почти до боли красивой. Я твердо знал, что все остальные посетители «У Джо» знают это не хуже меня. Точно так же я знал, что Взгляды впивались в нее, пока не вошел я. Угольно-черные волосы – до того черные, что под плафонами дневного света их цвет казался почти синим. Они свободно ниспадали на плечи ее потертого коричневого пальто. Кожа кремово-белая, еле заметно подкрашенная кровью под ней. Темные мохнатые ресницы. Серьезные глаза, самую чуточку скошенные к вискам. Полные подвижные губы под прямым патрицианским носом. Как выглядит ее фигура, я не знал. Но мне было все равно. Как было бы и вам. Ей достаточно было этого лица, этих волос, этого выражения. Она была изумительна. Другого слова для нее нет.
Нона.
Я сел через два табурета от нее, раздатчик подошел и посмотрел на меня.
– Чего?
– Черный кофе, пожалуйста.
Он пошел налить. У меня за спиной кто-то сказал:
– Глядите-ка, Христос опять на землю сошел, как всегда предсказывала моя мамочка.
Долговязый посудомойщик захихикал: быстрые захлебывающиеся йик-йик. Водители у стойки присоединились к нему.
Раздатчик принес мне кофе, хлопнул его на стойку, плеснув на оттаивающее мясо моей руки. Я отдернул ее.
– Извиняюсь, – сказал он равнодушно.
– Чичас он себя исцелить, – крикнул водитель из алькова.
Подсиненные близняшки заплатили и поспешно ушли. Один из рыцарей шоссе подошел к проигрывателю и бросил в щель пятицентовик. Джонни Кэш запел «Мальчик по имени Сью». Я подул на мой кофе.
Кто-то дернул меня за рукав. Я повернул голову. Она! Пересела на свободный табурет. Это лицо вблизи почти ослепляло. Я расплескал кофе.
– Извините. – Голос у нее был низкий, почти атональный.
– Вина моя. Я еще не чувствую пальцев.
– Мне…
Она умолкла, видимо, не зная, что сказать. И вдруг я понял, что она чего-то отчаянно боится. И вновь на меня нахлынуло то же чувство, которое я испытал, едва увидел ее, – желание защищать ее, заботиться о ней, успокоить ее страх.
– Мне нужна попутная машина, – договорила она торопливо. – А попросить кого-нибудь из них я боюсь. – Она еле заметно кивнула в сторону алькова.
Как мне объяснить вам, что я отдал бы все на свете, лишь бы иметь возможность ответить: «Ну так допивайте кофе, моя машина у самой двери». Какое-то безумие утверждать, что я испытывал такое чувство, когда она мне и десяти слов не сказала, как и я ей, но было именно так. Глядеть на нее было, словно глядеть на Мону Лизу или Венеру Милосскую, которые вдруг ожили. И было еще одно ощущение: будто в темном хаосе моего сознания зажгли мощный прожектор. Было бы куда легче, если бы я мог сказать, что она была податливой девчонкой, а я – большой ходок по женской части, находчивый остряк и обаятельный говорун, но она не была такой, а я не был таким. Я знал только, что не могу дать ей то, в чем она нуждается, и у меня разрывалось сердце.
– Я голосую, – сказал я ей. – Полицейский прогнал меня с шоссе, а сюда я зашел, только чтобы согреться. Мне так жаль.
– Вы из университета?
– Был. Бросил сам, прежде чем меня выгнали.
– И едете домой?
– Дома у меня нет. Я вырос в приюте. В колледж поступил только потому, что получил стипендию. И все испортил. А теперь не знаю, куда еду.
История моей жизни в пяти фразах. И нагнала на меня уныние.
Она засмеялась – и меня обдало жаром и холодом.
– Выходит, кошки из одного мешка.
То есть мне показалось, что она сказала «кошки». Так мне показалось. Тогда. Но с тех пор у меня было время подумать, и все больше и больше я думаю, что сказала она «КРЫСЫ». КРЫСЫ из одного мешка. Да. А они ведь совсем не то же самое, ведь верно?
Я как раз собрался блеснуть своим талантом собеседника, сказать что-нибудь остроумное, вроде «Да неужели?», но тут на мое плечо опустилась чья-то рука.
Я оглянулся. Один из водителей, устроившихся в алькове. Его подбородок зарос белобрысой щетиной, а изо рта у него торчала деревянная кухонная спичка. От него несло машинным маслом, и смахивал он на персонажа комикса.
– Думается, кофе ты нахлебался, – сказал он. Его губы сложились вокруг спички в улыбочку. И у него оказалось множество очень белых зубов.
– Что?
– Ты тут все насквозь провонял, парень. Ты же парень, а? Сразу ведь и не разобрать.
– Вы и сами не роза, – сказал я. – Чем вы после бритья пользуетесь? Одемазут?
Он хлопнул меня по щеке ладонью. Передо мной заплясали черные точки.
– Без драк, – сказал раздатчик. – Если хочешь из него отбивную сделать – валяй, только за дверью.
– Пошли, коммунист чертов, – сказал водитель.
Именно тут девушке положено воскликнуть что-нибудь вроде «Отринься от него!» или «Скотина!». Она не раскрыла рта. Она следила за нами с лихорадочным напряжением. Пугающим. По-моему, именно тогда я заметил, какие огромные у нее глаза.
– Мне что – еще дать тебе раза?
– Нет. Пошли, дерьмо собачье.
Не знаю, как эти слова вырвались у меня. Я не люблю драться. И дерусь плохо. А ругаюсь, так и вовсе беспомощно. Но в ту минуту я рассердился. И внезапно мне стало ясно, что я хочу его убить.
Быть может, телепатическим нюхом он уловил это. На секунду на его лице появилась неуверенность, бессознательное сомнение, что себе в жертвы он избрал не того хиппи. Затем оно исчезло. Он не собирался пятиться от какого-то долгогривого, много о себе понимающего, женоподобного сноба, который флагом Родины подтирает задницу, – во всяком случае, на глазах своих приятелей. Чтобы он – водитель рефрижератора, который никому спуска не даст? Да никогда в жизни!
А меня снова разрывал гнев. Гомик? Гомик? Я почувствовал, что потерял контроль над собой, – удивительное чувство. Язык распух у меня во рту. Мой желудок налился свинцом.
Мы прошли через все помещение к двери, и приятели моего водителя чуть не повывихивали позвоночники, вскакивая из-за столика, чтобы насладиться зрелищем.
Нона? Я подумал о ней, но рассеянно, где-то в глубине сознания. Я знал, что Нона будет там. Нона позаботится обо мне. Я знал это точно так же, как знал, что на улице очень холодно. Странно – знать это о девушке, с которой я познакомился всего пять минут назад. Странно, но, однако, задумался я над этим лишь позднее. Мое сознание туманила, а вернее, почти поглотила черная туча ярости. Я хотел одного: убить.
Холод был таким кристальным, таким чистым, что казалось, будто наши тела разрезают его, как ножи. Заиндевелый щебень под его сапогами и моими ботинками жестко поскрипывал. Луна, полная, разбухшая, глядела на нас сверху, как глаз слабоумного. Ее окружал прозрачный нимб, пророча плохую погоду. И скоро. Небо было черным, как ночь в аду.
Позади нас скользили крохотные укороченные тени, отбрасываемые единственным натриевым фонарем на высоком столбе по ту сторону автостоянки. Наше дыхание пронизывало воздух пунктиром светлых облачков. Водитель обернулся ко мне, сжав в кулаки руки в перчатках.
– Ну ладно, подонок, – сказал он.
Я, казалось, раздувался – все мое тело словно раздувалось. Тупо я осознавал, что невидимое нечто сейчас отключит мой рассудок, нечто, о существовании которого в себе я даже не подозревал. Оно ужасало, и в то же время я приветствовал его, радовался ему, желал его. В этот последний миг способности мыслить мне показалось, что мое тело превратилось в каменную пирамиду или в торнадо, который сметет перед собой все, точно солому. Водитель казался маленьким, тщедушным, ничего не значащим. Я смеялся над ним. Я смеялся, и звук был таким же черным и заунывным, как небо над головой с пятном луны посередке.
Он кинулся на меня, размахивая кулаками. Я отбил правый, а левый задел меня по скуле, но я ничего не почувствовал и тут же ударил его ногой в живот. Дыхание вырвалось у него из легких белым облаком. Он попытался попятиться, кашляя и держась за живот.
Я забежал ему за спину, все еще хохоча – будто где-то деревенский пес лаял на луну, – и трижды его ударил, когда он еще и на четверть не обернулся. По шее, по плечу и в одно красное ухо.
Он взвыл, и одна из его машущих рук задела меня по носу. Владевшая мной ярость взорвалась атомным грибом, и я опять ударил его ногой как мог сильнее и выше. Он взвизгнул в окружающий мрак, и я услышал треск сломавшегося ребра. Он осел на щебень, и я прыгнул на него.
Один из водителей, давая показания в суде, сказал, что я был точно дикий зверь. Чистая правда. Я мало что помню об этой драке, но ясно помню, что рычал на него, как дикая собака.
Я уселся на нем верхом, обеими руками ухватил по пучку его сальных волос и принялся возить его лицом по щебню. В бесцветном свете натриевого фонаря его кровь казалась черной, точно у жука.
– Господи, хватит! – заорал кто-то.
В плечи мне вцепились руки и оттащили меня. Вокруг закружились лица, и я начал бить по ним.
Водитель пытался уползти. Лицо его превратилось в кровавую маску, из которой выглядывали остекленевшие глаза. Я бил по ним ногами, увертываясь от тех, кто пытался меня схватить. И удовлетворенно крякал всякий раз, когда пинок достигал цели.
Защищаться он уже не мог. И только стремился уползти. При каждом моем пинке его веки плотно смыкались, как у черепахи, и он замирал на месте. А потом вновь начинал отползать. Вид у него был дурацкий. Я решил, что убью его. Запинаю до смерти, а потом убью их всех… всех, кроме Ноны.
Я пнул его еще раз, он перевернулся на спину и посмотрел на меня помутившимися глазами.
– Сдаюсь! – прохрипел он. – Я сдаюсь. Не надо. Не надо…
Я встал рядом с ним на колени, и щебень впился мне в кожу сквозь тонкие джинсы.
– Ну вот, красавчик, – шепнул я. – Получай свою пощаду.
И обеими руками вцепился ему в горло.
Они прыгнули на меня втроем и сбросили с него. Я поднялся на ноги, все еще улыбаясь, и двинулся на них. И они попятились – трое здоровенных детин, позеленевших от страха.
И тут оно отключилось.
Просто отключилось, и теперь на автостоянке «У Джо» остался просто я, тяжело дыша, полный тошнотного ужаса.
Я повернулся и посмотрел на столовую. Девушка стояла там; красивые черты ее лица озаряло торжество. Она подняла сжатый кулак к плечу в приветственном жесте, точно чернокожие ребята на тех Олимпийских играх.
Я повернулся назад к распростертому на щебне человеку. Он все еще пытался отползти, а когда я подошел к нему, у него от ужаса закатились глаза.
– Попробуй тронь его! – крикнул кто-то из его друзей.
Я растерянно посмотрел на них.
– Очень сожалею… я не хотел… не хотел его так покалечить. Разрешите мне помочь…
– Катись отсюда, слыхал? – сказал раздатчик. Он стоял перед Ноной на нижней ступеньке, сжимая в правой руке жирную лопаточку. – Я звоню в полицию.
– Эй, послушайте, он же первый начал, он сам…
– Поговори еще у меня, извращенец чертов! – сказал он пятясь. – Я одно знаю: ты чуть этого парня не прикончил. Я звоню в полицию! – И он шмыгнул внутрь.
– Ладно, – сказал я, ни к кому не обращаясь. – Ладно. Очень хорошо. Ладно.
Свои сыромятные перчатки я оставил у стойки, но идти за ними было бы неумно. Я сунул руки в карманы и зашагал назад к шоссе. Шансов, что меня возьмет какая-нибудь машина, прежде чем меня заберут полицейские, было не больше, чем один на десять, решил я. Уши у меня уже немели от холода, меня тошнило. Милый вечерок, ничего не скажешь.
– Погоди! Э-эй, погоди!
Я обернулся – она бежала ко мне, волосы развевались у нее за спиной.
– Ты был удивителен! – сказала она. – Просто удивителен!
– Я его сильно покалечил, – сказал я угрюмо. – Никогда раньше со мной такого не было.
– Жалко, что ты его не убил.
Я заморгал, глядя на нее в белесом свете.
– А ты бы слышал, что они говорили обо мне до того, как ты вошел. Хохотали, смачно так и сально – ха-ха-ха, погля-дите-ка, давно стемнело, а девчоночка еще гуляет. Куда направляешься, золотце? Может, подвезти? Я тебя прокачу, если дашь прокатиться мне. Сволочи!
Она оглянулась через плечо, словно могла уничтожить их, метнув молнию из темных глаз. Но тут она обратила эти глаза на меня, и вновь будто у меня в мозгу включился прожектор.
– Меня зовут Нона. Я с тобой.
– Куда? В тюрьму? – Я обеими руками вцепился себе в волосы. После такого первая машина, которая нас возьмет, наверняка будет полицейской. Этот тип всерьез решил вызвать полицию.
– Голосовать буду я. А ты спрячься позади меня. Для меня они остановятся. Для девушки они остановятся, если она хорошенькая.
Спорить с ней не приходилось, да я и не хотел. Любовь с первого взгляда? Может, и нет. Но что-то было. Ловите эту волну?
– Вот, – сказала она, – ты их забыл. – И протянула мне мои перчатки.
Внутрь она больше не заходила и, значит, захватила их сразу же. Она заранее знала, что отправится дальше со мной. Мне стало как-то жутковато. Я надел перчатки, и мы зашагали вверх по въезду на эстакаду.
Она была права: нас взяла первая же машина, въехавшая на шоссе.
Мы не сказали ни слова, пока ждали, но ощущение было такое, будто мы разговариваем. Не стану пичкать вас всякой чушью насчет телепатии и прочего такого, вы понимаете, о чем я. Вы сами испытывали такое, пока были с кем-то по-настоящему вам близким или когда приняли один из тех наркотиков, название которых состоит из заглавных букв. Разговоры просто не нужны. Вы словно бы общаетесь в эмоциональном диапазоне высоких частот. Достаточно легкого движения руки. Мы были незнакомы. Я знал только ее имя и, вспоминая, прихожу к выводу, что своего ей так и не назвал. И все-таки между нами что-то нарождалось. Нет, не любовь. Мне неприятно то и дело повторять это, но я должен. Я не запачкаю это слово тем, что было между нами, – после того, что мы сделали, после Касл-Рока, после снов – нет!
Пронзительный прерывистый вой заполонил холодное безмолвие вечера, то повышаясь, то понижаясь.
– Думаю, это «скорая помощь», – сказал я.
– Да.
И снова молчание. Лунный свет слабел за сгущающейся пеленой облаков. Я подумал, что нимб не солгал: еще до утра повалит снег.
Из-за холма вырвались лучи фар.
Я в том же молчании встал позади нее. Она откинула волосы назад, подняла свое чудесное лицо. Глядя, как машина сворачивает на въезд, я вдруг утратил ощущение реальности – не может быть, что эта красавица решила отправиться со мной, не может быть, что я избил человека настолько, чтобы пришлось вызвать «скорую», не может быть, что я опасаюсь завтра очутиться в тюрьме. Не может быть! Я чувствовал, что запутался в паутине. Но кто паук?
Нона подняла большой палец. Машина «шевроле-седан» проехала мимо, и я подумал, что она не остановится. Но тут вспыхнули тормозные огни, и Нона ухватила меня за руку.
– Пошли, нас возьмут! – Она ухмыльнулась мне с детским восторгом, и я ухмыльнулся в ответ.
Тип за рулем с энтузиазмом перегнулся через сиденье, чтобы распахнуть перед ней дверцу. Когда вспыхнул плафончик, я разглядел его: крупный мужчина в дорогом верблюжьем пальто, седеющий по краям шляпы, преуспевающее лицо, располневшее за годы отличных обедов. Бизнесмен или коммивояжер. Один. Увидев меня, он отдернул руку, но на секунду-две опоздал включить скорость и унести задницу. Ну, да так ему будет легче. Попозже он сумеет внушить себе, будто с самого начала увидел нас обоих, что он действительно добрая душа – оказал помощь юной парочке.
– Холодный вечерок, – сказал он, когда Нона скользнула на сиденье рядом с ним, а я сел рядом с ней.
– Ужасный! – нежным голоском сказала Нона. – Огромное вам спасибо.
– Угу, – сказал я. – Спасибо.
– Не за что.
И мы укатили от воющих сирен, измордованных водителей и от «У Джо. Отличная кормежка».
От шоссе меня отогнали в семь тридцать. А теперь было всего восемь тридцать. Просто поразительно, сколько ты успеваешь сделать за такой короткий срок – или что успевают сделать с тобой.
Впереди замигали желтые огни. Пункт сбора дорожной пошлины на выезде из Огесты.
– А куда вам? – спросил тип за рулем.
Н-да, задачка! Собственно, я намеревался добраться до Киттери и вломиться к знакомому, который там учительствовал. Собственно, такой ответ годился не хуже всякого другого, и я уже открыл рот, но тут Нона сказала:
– Нам в Касл-Рок. Это городок к юго-западу от Льюис-Оберна.
Касл-Рок. Мне стало немножко не по себе. Когда-то Касл-Рок вполне меня устраивал. Но это было до того, как Ас Меррил меня отделал.
Тип остановил свою машину, заплатил пошлину, и мы отправились дальше.
– Я-то еду только до Гардинера, – соврал он не моргнув и глазом. – До следующего съезда. Но для вас это неплохой старт.
– Ну конечно, – сказала Нона все тем же нежным голоском. – Ужасно мило с вашей стороны вообще остановиться в такой холод! – И пока она говорила это, я воспринимал ее злость на высокой эмоциональной частоте – нагую, исполненную яда. Она меня напугала, как могло бы напугать тиканье внутри бандероли.
– Я Бланшетт, – сказал он. – Норман Бланшетт. – И он взмахнул рукой в нашу сторону для рукопожатия.
– Черил Крейг, – сказала Нона, изящно ее пожимая.
Я понял намек и назвался вымышленным именем.
– Очень рад, – промямлил я.
Рука у него была мягкой и дряблой, точно полуналитая грелка в форме человеческой кисти. От этой мысли мне стало тошно. Меня тошнило, что нам пришлось просить об одолжении этого мужчину, который смотрит на нас сверху вниз, а сам решил, что ему представился шанс подобрать хорошенькую девушку, голосующую у шоссе в полном одиночестве, – а вдруг она согласится провести часок в номере мотеля за сумму наличными, которой хватит, чтобы купить билет на автобус! Меня тошнило от сознания, что, будь я один, этот мужчина, только что подавший мне свою дряблую, горячую руку, пронесся бы мимо, даже не притормозив. Меня тошнило от сознания, что он высадит нас у поворота на Гардинер, развернется и промчится мимо нас к въезду на шоссе, даже не посмотрев, но поздравляя себя с тем, как ловко он выпутался из неприятной ситуации. Все в нем вызывало во мне тошноту. Круглые отвислые щеки, как у свиньи, зализанные назад волосы на висках, запах его одеколона.
Какое у него право? Нет, какое у него право?
Тошнота свернулась комом в желудке, и вновь начали распускаться цветы гнева. Фары его солидной «импалы» разрезали мрак с небрежной легкостью, а мой гнев рвался наружу, чтобы задушить все, что его обрамляло: ту музыку, какую, я знал, он будет слушать, откинувшись в своем раскладном кресле, держа в руках-грелках вечернюю газету. И шампунь для подкраски волос, которым пользуется его жена, и грацию, которую, я знал, она носит, детей, всегда отсылаемых в кино, или в школу, или в летний лагерь – лишь бы отослать, – и его снобистских друзей, и пьяные вечеринки с этими друзьями.
Но его одеколон – вот что было самым невыносимым. Машину заполнял сладкий тошнотворный запах, словно от ароматизированного дезинфицирующего средства, каким пользуются на бойнях после конца смены.
Машина мчалась сквозь тьму, и Норман Бланшетт держал руль пухлыми руками. Мягко поблескивали его наманикюренные ногти в свечении приборной доски. Мне хотелось разбить ветровик, избавиться от этого липкого запаха. Нет, больше! Мне хотелось спустить все стекло, высунуть голову в морозный воздух, погрузиться в свежесть холода – но я заледенел, заледенел в немой пасти моей бессловесной невыразимой ненависти.
И вот тут Нона вложила мне в руку пилочку для ногтей.
* * *
Когда мне было три, я заболел тяжелым гриппом, и меня пришлось положить в больницу. Пока я лежал там, мой папаша заснул с сигаретой в руке, и дом сгорел вместе с моими родителями и моим старшим братом Дрейком. У меня есть их фотографии. Они похожи на актеров в каком-нибудь старом, 1958 года, фильме ужасов «Америкен интернейшнл», чьи лица вы не узнаете, не то что лица звезд – скорее кто-нибудь вроде Элайши Кука Младшего, и Мары Кордей, и мальчика-актера, может быть, Брендена де Уайлда.
У меня не было родственников, которые меня взяли бы, а потому меня на пять лет отправили в приют в Портленде. После чего я стал опекаемым штата. Это значит, что вас берет какая-нибудь семья и штат выплачивает им тридцать долларов в месяц на ваше содержание. Не думаю, что когда-либо был опекаемый штата, который пристрастился бы к омарам. Обычно такая супружеская пара берет двух или трех опекаемых – не потому, что их сердца преисполняет доброта, но из деловых соображений. Они вас кормят. Берут тридцать долларов, которые дает им штат, и кормят вас. А раз мальчишку кормят, он может отрабатывать свой хлеб: в хозяйстве для него всегда найдутся занятия. Вот так тридцать превращаются в сорок, пятьдесят, а то и шестьдесят пять баксов. Капитализм в применении к бездомным. Величайшая страна в мире, верно?
Фамилия моих «родителей» была Холлис, и они жили в Харлоу, через реку от Касл-Рока. У них был трехэтажный фермерский дом с четырнадцатью комнатами. В кухне плита топилась углем, и тепло от нее поднималось наверх, как ему вздумается. В январе вы ложились спать под тремя стегаными одеялами и все-таки, просыпаясь утром, не сразу соображали, есть у вас ступни или нет. Только спустив их на пол и поглядев, вы убеждались, что они все-таки на месте. Миссис Холлис была толстой. Мистер Холлис был худосочен и редко прерывал молчание. Круглый год он носил красно-черную охотничью шапку. Дом представлял собой хаотичное скопление громоздкой мебели, вещей, купленных на дешевых распродажах, подплесневевших матрасов, собак, кошек и разложенных на газетах автомобильных запчастей. У меня было трое «братьев», все опекаемые. Знакомство между нами было самое шапочное – как между пассажирами междугородного автобуса в трехдневной поездке.
В школе я учился хорошо, а в старших классах весной играл в бейсбол. Холлисы тявкали, чтобы я бросал это дело, но я продолжал играть, пока наши с Асом Меррилом дорожки не сошлись. А после мне расхотелось играть – лицо у меня распухло, было все в ссадинах, ну и истории, которые Бетси Молифент рассказывала направо и налево. Ну, я и ушел из команды, а Холлис подыскал для меня работу – наливать газировку в местной аптеке.
В феврале выпускного года я сдал вступительные экзамены в университет, уплатив двенадцать долларов, которые припрятал в своем матрасе. Меня приняли с небольшой стипендией и прекрасной возможностью подрабатывать в библиотеке. Выражение на лицах Холлисов, когда я показал им утвержденное заявление о финансовой помощи, остается лучшим воспоминанием моей жизни.
Один из моих «братьев» – Курт – сбежал. Я бы не смог. Я был слишком пассивен, чтобы решиться на подобное. Я бы вернулся через два часа.
Последнее, что сказала мне миссис Холлис на прощание: «Присылай нам кое-что по мере возможности». Больше я ни ее, ни его не видел. Первый курс я окончил с хорошими оценками, лето проработал в библиотеке на полной ставке. В том году я послал им открытку на Рождество. Но она была первой и последней.
На втором курсе я влюбился. Это было самое чудесное из того, что когда-либо со мной случалось. Хорошенькая? Сногсшибательная. До сих пор я не могу понять, что она нашла во мне. Я даже не знаю, любила она меня или нет. Думаю, любила – вначале. А потом я превратился в привычку, от которой трудно избавиться. Например, перестать курить или высовывать локоть в окно, когда за рулем. Некоторое время она оставалась со мной, или все дело было в тщеславии? Умный песик, ну-ка, перевернись, сидеть, апорт, принеси газетку. Чмок-чмок, спокойной ночи. Но не важно. Какое-то время была любовь, потом подобие любви, а потом – конец.
Я спал с ней два раза – оба после того, как любовь заменилась другим. Некоторое время это подкармливало привычку. А потом она вернулась после коротких каникул на День благодарения и сказала, что влюбилась в «Дельта-Тау-Дельту» из одного с ней городка. Я попытался вернуть ее, и один раз это мне почти удалось, но она обрела что-то, чего у нее прежде не было, – перспективу.
Что бы я ни созидал все эти годы с тех пор, как пожар сожрал второсортных актеров второсортного фильма, которые когда-то были моей семьей, это все уничтожила булавка его братства.
После этого я то связывался, то развязывался с тремя-четырьмя девушками, готовыми переспать со мной. Я мог бы поставить это в вину моему детству, сказать, что никогда не имел достойных сексуальных образцов, но оно было тут ни при чем. С ней у меня никаких затруднений не было. Возникли они, только когда она ушла из моей жизни.
Я начал побаиваться девушек – чуть-чуть. И не столько тех, с кем оказывался импотентом, сколько тех, с кем у меня получалось. От них мне становилось не по себе. Я спрашивал себя, какие сюрпризы они прячут и когда преподнесут их мне. Покажите мне женатого мужчину или мужчину с постоянной любовницей, и я покажу вам мужчину, который спрашивает себя (возможно, только в предрассветные часы или днем в пятницу, когда она уходит покупать продукты): «Что она делает, когда меня нет рядом? Что она на самом деле думает обо мне?» И наверное, чаще всего: «Какую часть меня она забрала? Сколько еще осталось?» Стоило мне задуматься над этим, и я продолжал думать и думать все время.
Я запил, и мои оценки рухнули в пике. На каникулах между семестрами я получил письмо с предупреждением, что, если в ближайшие шесть недель они не улучшатся, стипендия в следующем семестре мне выплачиваться не будет. Я и какие-то ребята, в чьей компании я проводил время, напились вдрызг и оставались пьяными до конца каникул. В последний день мы отправились в бардак, и у меня все было тип-топ. Там было слишком темно, чтобы различать лица.
Оценки у меня остались примерно прежними. Один раз я позвонил ей и плакал в трубку. Она тоже поплакала, и я думаю, в определенном отношении ей было приятно. Я не ненавидел ее тогда. Как и теперь. Но она меня пугала. Как она меня пугала!
Девятого февраля я получил письмо от декана с напоминанием, что я манкирую двумя-тремя предметами, основными по моей специальности. Тринадцатого февраля я получил какое-то неуверенное письмо от нее. Она хотела, чтобы между нами все было хорошо. Она собирается выйти за парня из «Дельта-Тау-Дельты» в июле или в августе, так не хочу ли я получить приглашение на свадьбу? Это было почти смешно. Какой свадебный подарок мог я ей сделать? Мое сердце, обвязанное красной ленточкой? Мою голову? Мой член?
Четырнадцатого, в Валентинов день, я решил, что пора переменить обстановку. Затем – Нона, но об этом вы уже знаете.
Вы должны понять, чем она явилась для меня, не то зачем все это? Она была красивее той, но не в том суть. В богатой стране красота дешево стоит. Важно было то, что внутри. Она была сексуальна, но какой-то растительной сексуальностью – слепая сексуальность, льнущая, не знающая отказа сексуальность, которая не так уж важна, поскольку непроизвольна, как фотосинтез. Не как у животного, как у растения. Улавливаете? Я знал, что мы займемся любовью, и займемся как мужчины и женщины, но наше совокупление будет таким же конкретным, отчужденным и бессмысленным, как плющ, вьющийся по решетке под августовским солнцем.
Секс был важен, потому что он не был важен.
Я думаю… нет, я уверен, что подлинной мотивирующей силой было насилие. Насилие было подлинностью, а не сновидением. Такое же большое, такое же быстрое и такое же беспощадное, как «форд» 1952 года, «форд» Аса Меррила. Насилие «У Джо. Отличная кормежка», насилие Нормана Бланшетта. И даже в нем было нечто слепое, растительное. Может, в конечном счете она была просто цепляющейся за опору лозой, ведь венерина мухоловка сродни лозам, но это хищное растение, и, если положить ему в пасть муху или кусочек сырого мяса, его движения будут движениями животного. И все это – реально. Растение, выбрасывающее споры, возможно, лишь грезит, будто совокупляется, но я убежден, что венерина мухоловка ощущает вкус этой мухи, смакует ее тщетные замирающие попытки высвободиться, когда смыкает пасть вокруг своей жертвы.
И в заключение – моя пассивность. Я не мог заполнить провал в моей жизни. Не провал, который оставила та, когда простилась со мной – я не хочу сваливать вину на нее, – но провал, который существовал всегда, темное, хаотическое кружение где-то в центре меня, которое ни на секунду не останавливалось. Нона заполнила этот провал. Заставила меня двигаться, действовать.
Она облагородила меня.
Теперь, может быть, вы что-то поняли. Почему она мне снится. Почему завороженность остается вопреки раскаянию и омерзению. Почему я ненавижу ее. Почему я боюсь ее. И почему даже теперь я люблю ее.
От Огесты до Гардинера – восемь миль, и мы проделали этот путь за несколько коротких минут. Я окостенело держал пилку для ногтей возле бедра и смотрел на зеленую отражающую фары надпись: «ЗАЙМИТЕ ПРАВЫЙ РЯД ДЛЯ СЪЕЗДА № 14», которая замерцала впереди. Луна скрылась, начинал кружиться снег.
– Сожалею, что не еду дальше, – сказал Бланшетт.
– Ну что вы! – тепло сказала Нона, и я ощутил, как ее ярость жужжит и ввинчивается в мясо под моей черепной крышкой, точно наконечник дрели. – Просто высадите нас у съезда.
Он соблюдал ограничение скорости до тридцати миль на эстакаде. Я знал, что сделаю. Казалось, мои ноги превратились в горячий свинец.
Эстакаду освещал один фонарь сверху. Слева виднелись огни Гардинера на фоне сгущающихся туч. Справа ничего, кроме черноты. На съезде ни одной машины.
Я вылез. Нона скользнула по сиденью, одаряя Нормана Бланшетта заключительной улыбкой. Я был спокоен. Она подстраховывала игру.
Бланшетт улыбался нестерпимой свинячьей улыбкой, радуясь, что избавился от нас.
– Ну, доброй но…
– Ай, моя сумочка! Не увезите мою сумочку!
– Я возьму, – сказал я ей и сунулся в дверцу. Бланшетт увидел, что у меня в руке, и свинячья улыбка застыла у него на губах.
Впереди возникли лучи фар, но останавливаться было поздно. Ничто уже не могло меня остановить. Левой рукой я взял сумочку Ноны. Правой рукой я вонзил стальную пилку для ногтей в горло Бланшетта. Он сипло проблеял один раз.
Я вылез из «импалы». Нона махала приближающейся машине. В снежной мгле я не мог разглядеть ее марку и видел лишь два слепящих круга фар. Я пригнулся за машиной Бланшетта, поглядывая сквозь заднее стекло.
Голоса почти терялись в заполняющейся глотке ветра.
– …случилось, дамочка?
– …папочка… ветер… сердечный приступ! Вы не могли бы…
Я шмыгнул за багажником «импалы» Нормана Бланшетта и пригнулся еще ниже. Теперь я их видел. Тоненький силуэт Ноны и фигуру повыше. Стояли они словно бы возле пикапа. Но тут же повернулись и подошли к левой передней дверце «импалы», за которой Норман Бланшетт поникнул на баранке с пилкой Ноны в горле. Водитель пикапа, совсем молодой парень, одетый вроде бы в парку военного летчика. Он всунул голову в окошко. Я зашел ему за спину.
– Черт, дамочка! – сказал он. – Так он же весь в крови! Что…
Я обхватил правой рукой его шею, а левой вцепился в свое запястье. И дернул на себя. Его затылок ударился о верх дверцы с глухим «чок!». И он обмяк.
Я мог бы остановиться на этом. Ноны он толком не разглядел, меня и вовсе не видел. Я мог бы остановиться. Но он был любителем вмешиваться в чужие дела, еще одним препятствием у нас на пути, пытался причинить нам боль. Мне надоело, что мне причиняют боль. Я задушил его.
Потом поднял глаза и увидел Нону в скрещении лучей от фар «шевроле» и пикапа, ее лицо, сведенное судорогой ненависти, любви, торжества и радости. Она раскрыла руки мне навстречу, и мы обнялись. И поцеловались. Губы у нее были холодными, но ее язык был теплым. Я запустил обе руки в потаенные ложбинки ее волос, а ветер завыл вокруг нас.
– Теперь наведи порядок, – сказала она. – Пока еще кто-нибудь не появился.
Порядок я навел. Кое-как, но я знал, что большего не требуется. Еще капельку времени. А потом – пусть. Мы будем уже в безопасности.
Труп паренька был легким. Я подхватил его на руки, перенес через шоссе и сбросил в овраг за заграждением. Его труп несколько раз перекувырнулся в воздухе, точно чучело, которое мистер Холлис заставлял меня выставлять в кукурузе каждый июль. Я вернулся за Бланшеттом.
Он был тяжелее, и кровь из него текла, как из зарезанной свиньи. Я попробовал поднять его, попятился три шага, пошатываясь, и тут он выскользнул из моих рук и плюхнулся на шоссе. Я перевернул его на спину. Свежий снег прилип к его лицу, превратил его в лыжную маску.
Я нагнулся, ухватил его под мышки и поволок к оврагу. Его ноги оставляли две борозды в снегу. Я сбросил его вниз и смотрел, как он скользит на спине по насыпи с руками, вскинутыми над головой. Его широко открытые глаза неподвижно и зачарованно глядели на хлопья, прилипающие к ним. Если снег не перестанет, оба они к тому времени, когда тут появятся снегоочистители, превратятся в два небольших сугроба.
Я пошел назад через шоссе. Нона уже забралась в пикап, не дожидаясь, пока ей скажут, какой машиной мы воспользуемся. Я видел бледное пятно ее лица, черные провалы ее глаз – но и только. Я забрался в машину Бланшетта, сел в лужицы его крови, которая скопилась в ямках винилового чехла, и отогнал к съезду. Выключил фары, включил аварийный сигнал и вылез. Проезжающие мимо сочтут, что забарахлил мотор и водитель ушел искать гараж. Я был очень доволен этой своей внезапной выдумкой. Словно бы я убивал людей всю свою жизнь. Я зарысил к пикапу, урчащему мотором, сел за руль и повернул от обочины.
Она сидела рядом со мной, не прикасаясь, но совсем близко. Когда она делала движение, я порой ощущал, как прядь ее волос щекочет мне шею. Будто к коже прикасались крохотные электроды. Один раз я протянул руку и пощупал ее колено, чтобы убедиться, что она реальна. Она тихонько засмеялась. Все это было реально. Вокруг окон завывал ветер, гоня перед собой колышущуюся пелену снега.
Мы ехали на юг.
Сразу за мостом со стороны Харлоу, если ехать по шоссе 126 в сторону Касл-Хейтс, вы проезжаете мимо большого перестроенного фермерского дома, которому присвоено потешное название «Молодежная лига Касл-Рока». Там имеется двенадцатилотковый кегельбан с капризной автоматической установкой кеглей, которая обычно берет отгул на последние три дня недели, парочка-другая древних игровых автоматов, проигрыватель с репертуаром популярнейших хитов 1957 года, три бильярдных стола и буфет с кока-колой и чипсами, где можно взять напрокат обувь для кегельбана, которую как будто только что сняли с ног покойного пьяницы. Название потешно потому, что молодежь Касл-Рока в подавляющем большинстве по вечерам отправляется смотреть фильм из автомашины в Джей-Хилле или на автогонки в Оксфорд-Плейнс. А тут по большей части околачивается хулиганье из Гретны, Харлоу и самого Рока. В среднем – одна драка на автостоянке за вечер.
Я начал бывать там, когда учился в старших классах. Один мой приятель, Билл Кеннеди, работал там три вечера в неделю, и если бильярдный стол был свободен, он позволял мне погонять шары бесплатно. Не такая уж радость, но все-таки лучше, чем возвращаться в дом Холлисов.
Там я и познакомился с Асом Меррилом. Все считали его самым крутым парнем в трех городках. Он ездил на видавшем виды «форде» 1952 года и, по слухам, мог выжать из него все сто тридцать миль, если понадобится.
Он входил, как король, с волосами, зачесанными назад и напомаженными до блеска, сыгрывал на бильярде партию-другую по пять центов за шар (Хорошо играл? Сами сообразите), покупал Бетси кока-колу, когда она приходила, и они уходили вместе. Когда облупившаяся дверь с хрипом закрывалась за ними, казалось, можно было услышать невольный вздох облегчения всех, кто был там. Никто никогда не выходил на автостоянку с Асом Меррилом.
Бетси Молифент была его девушкой – наверное, самой красивой девушкой в Касл-Роке. Не думаю, что она была так уж умна, но это никакого значения не имело, когда вы смотрели на нее. Такого идеального цвета лица мне больше ни у кого видеть не приходилось, и обязана им она была не косметике. Волосы черные, как уголь, темные глаза, пухлые губы, тело, ну просто в самый раз, и она щедро его показывала. Кто попытался бы уединиться с ней в укромном уголке и подбросить угля в топку ее локомотива, когда Ас был поблизости? Никто в здравом уме, вот кто.
Я влюбился в нее по уши. Не так, как позже в ту или в Нону, хотя Бетси и выглядела ее более юной копией, но, по-своему, столь же отчаянно и столь же серьезно. Если вам доводилось заболеть телячьей любовью в очень тяжелой форме, то вы понимаете, что я чувствовал. Ей было семнадцать, на два года больше, чем мне.
Я начал ходить туда все чаще и чаще, даже в те вечера, когда Билли там не было, – просто чтобы увидеть ее. Я чувствовал себя как любитель наблюдать птиц в бинокль, но только для меня это была отчаянно рискованная игра. Я возвращался домой, врал Холлисам о том, где был, и поднимался к себе в комнату. Я писал ей длинные письма обо всем, что мне хотелось бы сделать с ней, а потом рвал их. В классе я мечтал о том, как попрошу ее выйти за меня замуж, чтобы мы могли вместе убежать в Мексику.
Должно быть, она догадалась, и это ей польстило, потому что она была очень мила со мной, когда Аса не оказывалось рядом. Она подходила, заговаривала, позволяла мне купить ей кока-колы, сидела на табурете и слегка терлась ногой о мою ногу. Я просто с ума сходил.
Однажды вечером в начале ноября я, чтобы как-то провести время, играл на бильярде с Билли в ожидании, чтобы она пришла. В зале было пусто – шел только восьмой час, и тоскливый ветер похрюкивал снаружи, грозя приближением зимы.
– Бросил бы ты, – сказал Билл, загоняя шар в лузу.
– Что бросил?
– Сам знаешь.
– Ничего я не знаю. – Я скиксовал, и он загнал шар в лузу. А потом положил еще шесть, а я тем временем пошел сунуть монету в проигрыватель.
– Клеиться к Бетси Молифент. – Он тщательно прицелился и послал шар вдоль бортика. – Чарли Хоген натрепал Асу, как ты ее обнюхиваешь. Чарли думал – обхохочешься, она ведь старше, но Ас не засмеялся.
– Нужна она мне, – сказал я побелевшими губами.
– Вот и хорошо, – сказал Билл, и тут вошли двое посетителей, так что он пошел к стойке за разбивочным шаром для них.
Ас явился около девяти – один. Прежде он меня вполную не видел, а я почти забыл о словах Билли. Когда ты невидим, то начинаешь считать себя неуязвимым. Я играл на механическом бильярде и так сосредоточился, что не заметил наступившей тишины – ни стука падающих кеглей, ни щелканья бильярдных шаров. Я сообразил, что происходит, только когда кто-то швырнул меня на автомат. Я сполз на пол. Ас наклонил автомат, сбросив мой выигрыш. Он стоял и смотрел на меня – ни один волосок не выбился из его кока, гарнизонная парка была наполовину расстегнута.
– Не отсвечивай, – сказал он негромко, – не то придется мне подправить твое личико.
Он вышел. Все смотрели на меня, и мне захотелось провалиться сквозь пол, но тут я заметил невольное восхищение во многих глазах. А потому я беззаботно отряхнулся и сунул еще монету в автомат. Сигнальная лампочка погасла. Двое-трое, уходя, молча похлопали меня по плечу.
В одиннадцать, после закрытия Билли предложил подвезти меня до дома.
– Сильно хлопнешься, если не поостережешься, – сказал он.
– За меня не беспокойся.
Он промолчал.
Вечера через два-три Бетси пришла одна часов около семи. В зале был еще только один парень, этот чокнутый очкарик Верн Тесьо, которого выгнали из школы за неуспеваемость года два назад. А я его и не заметил даже – он был невидимкой почище меня.
Она прошла прямо туда, где я бил по шару, встала так близко, что на меня пахнуло свежим чистым запахом ее кожи. И у меня голова пошла кругом.
– Я слышала про то, что Ас с тобой сделал, – сказала она. – Мне запрещено с тобой разговаривать, и я не собираюсь, но вот, чтобы все зажило. – И она меня поцеловала.
А потом ушла, прежде чем я отлепил язык от гортани. Я вернулся к игре в полном ошалении. Я даже не видел, как Тесьо ушел поделиться новостью. Я был не способен видеть что-нибудь, кроме ее темных-темных глаз.
Ну и позднее я завершил этот вечер на автостоянке с Асом Меррилом, и он сделал из меня фарш. Было холодно, люто холодно, и под конец я начал всхлипывать – мне было уже все равно, кто смотрит и слушает, а к тому времени смотрели и слушали все. Единственный натриевый фонарь лил сверху беспощадный свет. А мне не удалось хотя бы раз толком его ударить.
– Ну, ладно, – сказал он, присаживаясь на корточки рядом со мной. У него даже дыхание не участилось. Он вытащил из кармана пружинный нож и нажал хромированную кнопку. Воздух пронзили семь дюймов облитого лунным светом серебра.
– В следующий раз получишь вот это. Я распишусь на твоих яйцах.
Потом он выпрямился, дал мне прощальный пинок и ушел. А я продолжал лежать там минут, наверное, десять, трясясь в ознобе на утрамбованной земле. Никто не подошел помочь мне встать или похлопать меня по спине. Даже Билл. И Бетси не явилась сделать так, чтобы все зажило.
Наконец я кое-как встал сам и проголосовал, чтобы добраться до дома. Миссис Холлис я сказал, что подвозил меня пьяный, а он съехал в кювет. Больше я ни разу не был в кегельбане.
Насколько мне известно, Ас очень скоро бросил Бетси, и она со все большей скоростью покатилась под уклон – словно старый пикапчик, у которого отказали тормоза. По пути она подхватила триппер. Билли сказал, что как-то видел ее вечером в «Мэноре», на окраине Льюстона – подсаживалась к клиентам, клянча выпивку. Половины зубов недосчитывается, и нос ей кто-то успел перебить, сказал он. Он сказал, что я ни за что бы ее не узнал. Но к тому времени меня это совсем не интересовало. Так или эдак.
Покрышки на пикапе были без шипов, и перед тем как мы доехали до съезда в Льюистон, меня начало заносить на пороше. На двадцать две мили у нас ушло сорок пять минут.
Дежурный у съезда взял мою пошлинную карточку и шестьдесят центов.
– Скользковато, а?
Ни я, ни она не ответили ему. Мы уже приближались к тому месту, куда ехали. Даже если бы не этот наш безмолвный контакт, я все равно понял бы, просто видя, как она сидит на пыльном сиденье, судорожно скрестив руки на сумочке, устремив глаза прямо вперед с яростным напряжением. Меня пробрала дрожь.
Мы свернули на шоссе 136. Машин на нем почти не было; ветер усиливался, и снег уже не падал, а валил. За Харлоу-Виллидж мы проехали мимо большого «бьюика-ривьера», который занесло и выбросило на насыпь за обочиной. Его аварийные сигналы спереди и сзади деловито мигали, и я увидел, как на него наложился призрачный образ «импалы» Нормана Бланшетта. Ее, конечно, уже завалило снегом – призрачный сугроб во мраке.
Водитель «бьюика» замахал мне, но я проехал мимо, не затормозив, обдав его снежной слякотью. Мои дворники увязали в снегу. Я высунул руку и поддернул свой. Снежный валик распался, и я опять увидел шоссе впереди.
Харлоу был призрачным городом: все закрыто, все темно. Я просигналил правый поворот, чтобы спуститься по эстакаде, ведущей в Касл-Рок. Задние колеса начало заносить, но я справился. Впереди за рекой я различал темное пятно – Дом Молодежной лиги Касл-Рока. Он выглядел запертым, заброшенным. Внезапно меня охватило сожаление – сожаление, что было столько боли. И смертей. И вот тут Нона заговорила в первый раз после того, что произошло у съезда в Гардинер.
– Позади тебя полицейский.
– Он?..
– Нет. Маячок он не включил.
Но я занервничал, и, возможно, потому-то это и произошло. Шоссе 136 на том берегу реки, где Харлоу поворачивает на девяносто градусов, а дальше ведет прямо через мост в Касл-Рок. В поворот я вписался, но за мостом оно обледенело.
– ЧЕРТ…
Задние колеса занесло, и прежде чем я успел выровнять пикап, он ударился задним крылом о стальной столб ограждения моста. Нас завертело, и первое, что я увидел потом, были яркие фары полицейской машины позади нас. Он нажал на тормоза (я увидел отблески красного света тормозных фонарей на падающих снежных хлопьях), но лед взял верх. Он врезался прямо в нас. Лязгающий сотрясающий удар, когда нас снова швырнуло на стальное ограждение. Меня отбросило на колени Ноны, и даже в эту хаотичную секунду я успел насладиться мягкой упругостью ее бедра. Затем все замерло. Вот теперь он включил маячок, и по капоту пикапа заскользили, гоняясь друг за другом, голубые тени, и такие же тени скользили по заснеженному переплету стальных балок моста Харлоу – Касл-Рок. Полицейский вылез, и внутри патрульной машины вспыхнул плафончик.
Не сиди он у нас на хвосте, этого не произошло бы. Эта мысль кружила и кружила у меня в мозгу, словно игла звукоснимателя в одной и той же бороздке бракованной пластинки. Я ухмылялся в темноту напряженной окостенелой ухмылкой, а сам шарил по полу кабины в поисках, чем бы его ударить.
Открытый ящик с инструментами. Я вытащил большой гаечный ключ и положил на сиденье между мной и Ноной. Полицейский сунул голову в окно, под бегущими голубыми отсветами его маячка лицо у него менялось, как у дьявола.
– Гнал чуточку быстровато для погодных условий, а, парень?
– Держали слишком короткий интервал для погодных условий? – спросил я.
Возможно, он побагровел – в таком свете определить это было трудно.
– Ты что – решил спорить со мной, сынок?
– И буду, если вы хотите повесить вмятины своей машины на меня.
– Ну-ка посмотрим твои права и регистрационную карточку.
Я достал бумажник и протянул ему мои права.
– Карточку!
– Это пикап моего брата. Карточку он держит в своем бумажнике.
– Вот, значит, как? – Он сверлил меня взглядом, добиваясь, чтобы я опустил глаза. А когда убедился, что этого ждать долго, посмотрел мимо меня на Нону. – Как тебя зовут?
– Черил Крейг, сэр.
– И почему тебе понадобилось кататься в пикапе его брата в такой буран?
– Мы едем к моему дяде.
– В Рок?
– Да-да.
– Никакого Крейга в Касл-Роке я не знаю.
– Его фамилия Эдмондс. Он живет на Бауен-Хилл.
– Так, значит? – Он зашел за багажник и посмотрел на номер. Я открыл дверцу и высунулся. Он записывал номер. Он пошел назад, а я все еще высовывался, по пояс залитый светом фар его машины. – Я думаю… В чем это ты вымазался, малый?
Мне не требовалось посмотреть на себя: я знал, в чем вымазался. Прежде мне казалось, что высунулся я так просто, по забывчивости, но пока я писал это, то пришел к другому мнению. Нет, я не думаю, что дело было в забывчивости. Я думаю, мне хотелось, чтобы он увидел. В руке у меня был зажат гаечный ключ.
– О чем вы?
Он приблизился еще на два шага.
– Ты вроде бы порезался от толчка. Тебе надо…
Я размахнулся. У него от толчка слетела фуражка, и голова не была ничем покрыта. Я ударил его с маху чуть выше лба. Никогда не забуду этого звука: будто фунт сливочного масла шлепнулся на каменный пол.
– Поторопись, – сказала Нона и успокаивающе положила ладонь мне на шею. Она была очень прохладной, точно воздух в овощном погребе. У моей приемной матери был овощной погреб.
Странно, что мне это вспомнилось. Она посылала меня в погреб зимой за овощами. Сама их консервировала. Конечно, не в жестянках, а в этих банках из толстого стекла с резиновыми уплотнителями под крышками.
Как-то я спустился туда за банкой фасоли. Банки хранились в ящиках, аккуратно надписанных почерком миссис Холлис. Помню, она всегда «крыжовник» писала с ошибкой, и это преисполняло меня тайным чувством превосходства.
В тот день я прошел мимо ящиков, надписанных «кружовник», в угол. Там было прохладно и сумрачно. Просто глубокая яма с земляными стенами, и в сырую погоду они слезились каплями, промывавшими петляющие бороздки. Запах был таинственными испарениями живых существ, и земли, и хранившихся там овощей – запах, поразительно напоминающий запах женских половых органов. В одном углу там стоял старый, разбитый печатный станок – стоял там, когда я спустился туда в первый раз, – и порой я играл с ним, притворялся, будто могу пустить его в ход. Я любил овощной погреб. В те дни (мне было девять или десять) овощной погреб был самым любимым моим местом. Миссис Холлис отказывалась ступить туда хоть ногой, а спускаться туда за овощами было ниже достоинства ее мужа. И потому спускался туда я, вдыхал этот особый потаенный землистый запах и наслаждался уединением его почти утробной тесноты. Освещался погреб заросшей пылью лампочкой без абажура, которую мистер Холлис водворил туда, вероятно, еще до англо-бурской войны. Иногда я складывал ладоши, шевелил пальцами и сотворял на стенах вытянутых ушастых кроликов.
Я взял банку с фасолью и уже собрался вылезти, когда услышал шорох под старым пустым ящиком. Я подошел и поднял его.
Под ним на боку лежала бурая крыса. Она задрала голову и посмотрела на меня. Бока у нее бурно вздымались, она оскалила на меня зубы. Такой огромной крысы мне еще видеть не доводилось, и я нагнулся пониже. Она рожала. Два безволосых слепых детеныша уже припали к соскам у нее на животе. А третий наполовину появился на свет.
Мать беспомощно уставилась на меня, готовая укусить. А мне хотелось убить их, убить их всех, расплющить в кровавые лепешки. Но я не мог. Ничего отвратительнее я в жизни не видел. И пока я смотрел, по полу быстро пробежал коричневый паучок – по-моему, это был сенокосец. Крыса-мать лязгнула зубами и проглотила его.
Я убежал, споткнулся на лестнице, упал и разбил банку с фасолью. Миссис Холлис меня выдрала, и с этих пор я спускался в погреб, только если мне не удавалось отвертеться.
Я стоял, смотрел на полицейского и вспоминал.
– Поторопись, – снова сказала Нона.
Он оказался куда легче Бланшетта, а может быть, мне в кровь поступило больше адреналина. Я схватил его в охапку и отнес к краю моста. Я с трудом различал водопад ниже по течению, а выше по течению опора железнодорожного моста была лишь неясной тенью, смахивающей на плаху. Ночной ветер выл и визжал, снег бил мне в лицо. Секунду-другую я прижимал полицейского к груди, точно уснувшего младенца, но затем вспомнил, кем он был, и бросил через перила вниз, в темноту.
Мы вернулись к пикапу, забрались внутрь, но он не завелся. Я пытался и пытался завести мотор, пока не почувствовал сладковатый запах бензина, затопившего карбюратор. Тогда я сказал:
– Идем.
Мы пошли к полицейской машине. Переднее сиденье было погребено под грудой предупреждений о нарушении, штрафных квитанций и двумя блокнотами с зажимами. Коротковолновый приемник под приборной доской трещал помехами и бормотал:
– Номер четвертый, ответьте, четвертый. Вы меня слышите?
Я подсунул руку под приборную доску и выключил его, оцарапав костяшки пальцев обо что-то, пока нащупывал нужную кнопку. О помповое ружье. Наверное, его личную собственность. Я достал его и протянул Ноне. Она положила его поперек колен. Я поставил задний ход. Машина была помята, но мотор и ходовая часть не пострадали. На ней были покрышки с шипами, и они отлично впились в наледь, которая была причиной всего, что тут произошло.
И вот мы в Касл-Роке. Дома, если не считать нескольких домиков-прицепов в стороне от шоссе, исчезли. Само шоссе еще не было очищено от снега, и на нем не виднелось ни единого следа, кроме тянущихся за нами. Вокруг высились могучие ели, облепленные снегом, и, глядя на них, я ощутил себя крохотным, ничего не значащим – крошка, застрявшая в глотке этой ночи. Время теперь шло к одиннадцати.
На первом курсе мне было не до вольной студенческой жизни. Я усердно занимался и работал в библиотеке – расставлял книги по полкам, подклеивал переплеты, учился каталогизированию, а весной был еще бейсбол.
В конце академического года перед самыми экзаменами в гимнастическом зале были устроены танцы. К первым двум я подготовился и, не зная, куда себя девать, забрел туда.
Темно, полным-полно, потно и перенапряженно, как бывает только на студенческих сборищах перед тем, как упадет топор экзаменационной гильотины. Воздух пропитан сексом. И обонять его не требовалось – только протяни руки и зажмешь его в ладонях, будто тяжелую мокрую тряпку. И знаешь, что попозже начнется оргия любви. Или того, что сходит за любовь. Ею будут заниматься на трибунах у задней стены, и в парничках автостоянки, и в отдельных комнатах, и в общих спальнях. Ею будут заниматься мужчины-мальчики, с нависающей над ними военной повесткой, и хорошенькие студенточки, которые в этом году бросят учиться, вернутся домой и заведут семью. Ею будут заниматься со слезами и со смехом, спьяну и трезво, стесняясь и отбросив все запреты. Но главное – торопливо и коротко.
Конечно, были и одиночки, но единицы. В такой вечер куда больше шансов не остаться в одиночестве. Я побрел мимо эстрады. Когда я приблизился к кратеру звуков, музыка, ритм обрели осязаемость. Позади группы полукольцом стояли пятифутовые усилители, и вы чувствовали, как ваши барабанные перепонки прогибаются от басовых нот то внутрь, то наружу.
Я прислонился к стене и стал наблюдать. Танцующие двигались в принятом стиле (будто были не парами, но троицами; третий, невидимый, держался между ними, и они его трахали спереди и сзади), загребая ногами опилки, которыми был усыпан отлакированный пол. Никого знакомого я не увидел и ощутил себя одиноким – но с приятностью. Я находился на той стадии, когда вы фантазируете, что все уголками глаз поглядывают на вас, романтичного таинственного незнакомца.
Примерно через полчаса я вышел и в вестибюле взял банку кока-колы. Когда я вернулся, кто-то затеял хоровод, меня в него втянули, и мои руки легли на плечи двух девушек, которых я видел впервые. Мы шли и шли по кругу. В кольце было человек двести, и оно занимало половину зала. Затем оно распалось, и человек двадцать – тридцать образовали кольцо внутри первого и начали двигаться в противоположную сторону. От этого у меня закружилась голова. Я увидел девушку, похожую на Бетси Молифент, но знал, что просто фантазирую. Когда я посмотрел снова, то не увидел ни ее, ни кого-нибудь хоть слегка на нее похожего.
Когда кольцо наконец распалось, мной овладела слабость, и я почувствовал себя скверно. Пробрался к трибуне у задней стены и сел. Музыка была чересчур громкой, воздух – чересчур жирным. Мое сознание взметывалось и проваливалось. Я слышал, как удары сердца отдаются у меня в голове – как бывает после самого немыслимого выпивона в вашей жизни.
Прежде я думал, что дальнейшее произошло, потому что я устал и меня слегка подташнивало после этого кружения, но, как я уже говорил, пока я пишу, все обретает новую четкость. И я уже не могу верить этому.
Я снова поглядел на них, на всех красивых, торопливых людей в полумраке. Мне почудилось, что все мужчины выглядят испуганными, их лица удлинялись в гротескные маски, почти неподвижные. И понятно почему. Женщины – студенточки в свитерках, коротких юбочках, расклешенных брючках, все превращались в крыс. Сначала меня это не испугало, я даже засмеялся. Я знал, что просто галлюцинирую, и некоторое время следил за происходящим почти клиническим взглядом.
Потом какая-то девушка встала на цыпочки, чтобы поцеловать своего партнера, и это стало последней соломинкой. Покрытая шерстью длинная морда с черными дробинами глаз потянулась вверх, рот растянулся, обнажая зубы…
Я ушел.
Несколько секунд я простоял в вестибюле почти в полубезумии. Дальше по коридору был туалет, но я прошел мимо и поднялся по лестнице.
Раздевалка помещалась на третьем этаже, и последний марш лестницы я одолел бегом. Распахнул дверь и ринулся в одну из кабинок. Меня вывернуло наизнанку среди смешанных запахов мазей, пропотевших маек, намасленной кожи. Музыка была далеко-далеко внизу там; тишина наверху здесь была непорочной. Мне стало легче.
У Саутвест-Бенд нам пришлось остановиться перед знаком «стоп». Воспоминание о том вечере возбудило меня по непонятной причине. Я весь затрясся.
Она поглядела на меня с улыбкой в темных глазах.
– Сейчас?
Я не мог ответить: слишком уж сильно меня трясло. Она медленно кивнула. За меня.
Я свернул на боковую дорогу, которая летом, видимо, служила для вывоза бревен. Отъехал я не очень далеко, так как опасался застрять. Выключил фары, и на ветровое стекло начали бесшумно ложиться хлопья.
– Ты любишь? – спросила она почти с добротой.
У меня вырывался какой-то звук, словно его из меня извлекали. По-моему, то было что-то очень похожее на звуковое воспроизведение мыслей кролика, попавшего в силки.
– Здесь, – сказала она. – Прямо здесь.
Это был экстаз.
Мы чуть было не сумели выбраться назад на шоссе. По нему как раз проехал снегоочиститель, мигая желтыми огнями в ночном мраке, громоздя поперек нашей дороги высокий снежный вал.
В багажнике полицейской машины была лопата. Чтобы прорыть выезд на шоссе, мне пришлось копать полчаса, и к тому времени дело шло к полуночи. Пока я разгребал снег, она включила полицейский приемник, и мы узнали, что нам нужно было узнать. Трупы Бланшетта и паренька из пикапа были найдены. Полиция подозревала, что мы захватили патрульную машину. Фамилия полицейского была Эссенджан, редкая такая фамилия.
В высшей лиге был игрок по фамилии Эссенджан (по-моему, он играл за «Доджерсов»). Может, я убил его родственника. То, что я узнал фамилию полицейского, на меня никак не подействовало. Он держал слишком маленький интервал, и он встал у нас на дороге.
Мы выехали на шоссе.
Я чувствовал ее волнение – бурное, и жаркое, и обжигающее. Я остановился, чтобы смахнуть рукавом снег с ветрового стекла, и мы поехали дальше.
Миновали западную окраину Касл-Рока, и мне не надо было говорить, где свернуть. Залепленный снегом указатель сообщал, что это – Стэкполское шоссе.
Снегоочиститель тут не побывал, но кто-то проехал по шоссе раньше нас. Отпечатки протекторов были еще четко видны на сметаемом закручиваемом снегу.
Миля, потом – меньше мили. Ее яростное нетерпение, ее невыносимая потребность передавались мне, и в меня вновь вселилась тревога. Поворот, а за ним – техпомощь, ярко-оранжевый кузов, мигалки, словно пульсирующие кровью. Машина перегораживала шоссе.
Вы не можете себе представить ее бешенство – то есть наше бешенство, потому что теперь, когда это произошло, мы стали единым целым. Вы не можете вообразить эту сокрушающую волну паранойи, это убеждение, что на нас теперь ополчились все.
Их было двое. Один – скорчившаяся тень среди мрака впереди. Другой держал электрофонарик. Он пошел к нам, и фонарик подпрыгивал, будто жуткий глаз. Ненависть теперь была не просто ненавистью. К ней примешивался страх – страх, что мы лишимся всего в последний момент.
Он кричал, и я опустил стекло моей дверцы.
– Тут вы не проедете! Давайте в объезд по Боуенскому шоссе. У нас обрыв провода под током. Вы не…
Я вышел из машины, поднял ружье и выдал ему из обоих стволов. Его отшвырнуло на оранжевый кузов, а меня прижало к дверце. Он начал соскальзывать, глядя на меня непонимающими глазами, а потом рухнул в снег.
– Еще патроны есть? – спросил я Нону.
– Да. – Она протянула их мне. Я переломил ствол, выбросил стреляные гильзы и вложил новые патроны.
Его напарник выпрямился и недоуменно смотрел на меня. Он что-то крикнул, но ветер унес его слова. Как будто задал вопрос. Но это было не важно: я собирался его убить. Я пошел к нему, а он стоял и глядел на меня. Думается, он не осознавал, что происходит. По-моему, он подумал, что все это ему снится.
Я выстрелил из одного ствола. Слишком низко. Взметнулся вихрь снега и осыпал его хлопьями. Тут он завопил в ужасе и побежал, гигантским прыжком перемахнув через упавший на дорогу провод. Я выстрелил из второго ствола и опять промахнулся. Он исчез в темноте, и о нем можно было забыть. Он больше не преграждал нам путь. Я вернулся к полицейской машине.
– Придется идти пешком, – сказал я.
Мы прошли мимо трупа, перешагнули через шипящий провод линии высоковольтного напряжения и пошли дальше по шоссе, следуя далеко отстоящим друг от друга отпечаткам подошв бегущего человека. Кое-где сугробы были ей почти по колено, но она все время шла чуть впереди. Мы оба тяжело дышали.
Мы поднялись на холм и спустились в узкий проход. С одной стороны стоял накренившийся заброшенный сарай с выбитыми окнами. Она остановилась и стиснула мой локоть.
– Вон, – сказала она и указала на противоположную сторону. Даже сквозь рукав пальто ее пальцы впивались в мою руку до боли. Ее лицо застыло в свирепой торжествующей усмешке. – Вон там. Там.
Там было кладбище.
Скользя и спотыкаясь, мы вскарабкались по откосу и перебрались через занесенную снегом каменную ограду. Конечно, я бывал тут и прежде. Моя настоящая мать родилась в Касл-Роке, и хотя она и мой отец никогда там не жили, семейные могилы находились тут. Наследство ее родителей, которые жили и умерли в Касл-Роке. Пока я был влюблен в Бетси, то часто приходил сюда, чтобы читать стихи Джона Китса и Перси Шелли. Полагаю, вы считаете, что это была подростковая глупость, но я так не думаю. Даже сейчас. Я чувствовал себя близким им, утешенным. После того как Ас Меррил меня избил, я больше там не бывал. Пока меня туда не привела Нона.
Я поскользнулся и упал в рыхлый снег, вывихнув лодыжку. Встал и пошел дальше, опираясь на ружье, как на костыль. Тишина была бесконечной и невероятной. Снег падал мягко, вертикально, вырастая шапками на наклонных плитах и крестах, погребая все, кроме кончиков проржавевших скоб для флагов, которые вставлялись в них только в День поминовения и в День ветеранов. Тишина была кощунственной в своей необъятности, и в первый раз я ощутил ужас.
Она повела меня к каменному строению, примыкающему к склону холма в задней части кладбища. Склеп. Занесенная снегом гробница. У нее был ключ. Я знал, что ключ у нее будет. И он у нее был.
Она сдула снег с дверной панели и нашла скважину. Пощелкивание поворачивающихся цилиндров словно царапало мрак. Она уперлась в дверь, и та распахнулась внутрь.
Запах, обволокший нас, был прохладным, как осень, прохладным, как воздух в овощном погребе Холлисов. Мрак внутри скрывал от меня почти все. На каменном полу валялись сухие листья. Она вошла, остановилась, посмотрела через плечо на меня.
– Нет, – сказал я.
– Ты ЛЮБИШЬ? – сказала она и засмеялась надо мной.
Я стоял во мраке и чувствовал, что все начинает сливаться воедино – прошлое, настоящее, будущее. Мне хотелось убежать. Убежать, крича, убежать так быстро, чтобы взять назад все, что я сделал.
Нона стояла там и смотрела на меня, самая красивая девушка в мире, единственное, что когда-либо было моим. Она сделала жест рукой на своем теле. Я не скажу вам какой. Вы его узнаете, если увидите.
Я вошел. Она закрыла дверь.
Было темно, но я все прекрасно видел. Внутренность освещалась медленно текущим зеленым огнем. Он растекался по стенам, языками змеился по полу, усыпанному листьями. В центре склепа стоял гроб, но он был пуст. Его усыпали увядшие розовые лепестки, будто после старинного свадебного обряда. Она поманила меня, а потом указала на дверцу в глубине. Маленькую дверцу, ничем не помеченную. Она внушила мне ужас. По-моему, тогда я понял. Она использовала меня и смеялась надо мной. А теперь уничтожит.
Но я не мог остановиться. Я пошел к этой дверце, потому что не мог иначе. Внутренний телеграф все еще отстукивал то, в чем я распознал злорадство, жуткое безумное злорадство, торжество. Моя рука, дрожа, потянулась к дверце. Она была залита зеленым огнем.
Я открыл дверцу и увидел, что было за ней.
Это была та девушка, моя девушка. Мертвая. Ее глаза пустым взглядом озирали этот октябрьский склеп, смотрели в мои глаза. От нее пахло украденными поцелуями. Она была нагой и располосована от горла до паха; все ее тело было превращено в матку-инкубатор. И что-то жило там. Крысы. Я не мог их видеть, но мог слышать их, слышать, как они шуршат внутри ее. Я знал, что вот-вот ее высохшие губы раскроются и спросят, люблю ли я. И я попятился, все мое тело онемело, а мозг обволакивала черная туча.
Я повернулся к Ноне. Она смеялась, протягивая ко мне руки. И во внезапном взрыве озарения я понял, я понял, я понял. Последнее испытание. Последний экзамен. Я его сдал, и Я БЫЛ СВОБОДЕН!
Я повернулся назад к двери, и, разумеется, это было всего лишь пустое каменное помещение с сухими листьями на полу.
Я пошел к Ноне, я пошел к моей жизни.
Ее руки обвили мою шею, я притянул ее к себе. И вот тут-то она начала изменяться, словно пошла рябью, оплывая, как воск. Огромные темные глаза стали маленькими бусинами, волосы грубыми, побурели. Нос укоротился, ноздри расширились. Тело стало бугристым и навалилось на мое.
Меня обнимала крыса.
– Ты любишь? – пропищала она. – Ты любишь, ты любишь?
Ее беззубый рот растягивался, приближаясь к моему.
Я не закричал. Криков не осталось. Не думаю, что я когда-нибудь смогу закричать.
Здесь так жарко.
Я против жары ничего не имею, нет, правда. Люблю пропотеть, если потом можно принять душ. Я всегда считал пот чем-то хорошим, по-настоящему мужским, но иногда жара что-то прячет, насекомых, которые жалят… или пауков. А вы знаете, что паучихи кусают и съедают своих самцов? Да-да, и сразу после совокупления.
И еще я слышу возню в стене. Это мне не нравится.
У меня руку свело от писания, а мягкий кончик пера совсем размяк. Но я кончил. И все теперь выглядит по-иному. Совершенно не так, как прежде.
Вы отдаете себе отчет, что на некоторое время они почти меня убедили, что все эти гнусности творил я сам? Эти водители из столовой, тип с техпомощи, который спасся. Они показали, что я был один. Я был один, когда меня нашли совсем заледеневшего на этом кладбище возле плит над моим отцом, моей матерью, моим братом Дрейком. Но это означает только, что она скрылась, вы ведь поняли. Любой дурак поймет. Но я рад, что она спаслась. Нет, правда. Но вы должны понять, что все то время она была со мной – на всем пути от начала и до конца.
А теперь я себя убью. Так будет гораздо лучше. Я устал от этого чувства вины, мук и тяжелых снов, а кроме того, мне не нравятся шорохи в стене. Там может прятаться кто угодно. Или что угодно.
Я не сумасшедший. Я это знаю, и, надеюсь, вы тоже знаете. Если ты говоришь, что не сумасшедший, считается, что ты сумасшедший и есть, но я выше этих мелких игр. Она была со мной. Она была реальна. Истинная любовь не умирает. Вот как я подписывал все мои письма к Бетси. Те, которые рвал.
Но Нона была единственной, кого я любил по-настоя-щему.
Здесь так жарко. И мне не нравятся звуки в стенах.
ТЫ ЛЮБИШЬ?
Да, я люблю.
А истинная любовь не умирает.
Оуэну
[33]
Итак, мы тащимся в школу.
Зевотою сводит скулы.
Ты спросишь – какие уроки?
Мы – два урода-отрока, руки как крюки.
Вот она, Улица Фруктов, –
ты смотришь мимо, губы упрямо сжаты…
Деревья стоят желтые, листву разносит на мили.
Листва гниет под стеной.
Рюкзак – у тебя за спиной.
У солнца – фруктовая кожица.
Прохожие хмурятся.
И тень твоих ног – ножницы –
не режет улицу.
Ты говоришь: школьники – фрукты.
Круто!
Взрываемся смехом.
Все наезжают на ягоды –
уж больно мелкие.
Бананы по коридорам стоят патрулями.
Вот к школе мы подрулили.
(Опавшей листвы запах.)
И у тебя в глазах я увидел внезапно персики – у доски, яблоки – на тусовках…
Школьники брызжут соком в припадках тоски.
У груш – торчащие уши, арбузы – такие копуши, сплошь толстяки да мямли, для всех обузы.
Ты – говоришь – ты арбуз, я говорю – да мало ли…
Слова приносят беду.
Я тоже порассказал бы, да вот – не буду.
А мог бы ведь и про то, как парни-арбузы пугаются:
трудно застегивать пуговицы на собственных же пальто;
сливы приходят на помощь…
Я бы сказал – а помнишь, как здесь, вот на этой улице, украл я твое лицо?
Ношу на своей роже, оно изрядно поношено –
в ухмылке растянуто.
Знаешь – мы скоро расстанемся, такой вот мрак.
На улице пусто.
Знаешь, а умирать –
непростое искусство.
Но я-то учусь быстро, конец – близко.
А ты на белом листе напишешь свое имя.
Минуты летят – черт с ними.
Несутся туда, где – между Теперь и Тогда –
смываемся мы с уроков, плетемся по Улице Фруктов –
джинсы в заплатах, где ветер нас оплетает сетью осеннего злата, что, в общем, ужасно банально –
сказал, и сам же не верю.
И чуть подальше сурово ведут бананы последний арбуз опоздавший в высокие школьные двери…
Тот, кто хочет выжить
[34]
Рано или поздно перед каждым студентом-медиком встает вопрос: какую степень шока способен выдержать пациент? Разные преподаватели отвечают на этот вопрос по-разному, но по сути все ответы сводятся к новому вопросу: «Как сильно хочет пациент выжить?»
26 января
Два дня, как буря выбросила меня сюда. А сегодня утром я измерил остров шагами. Да уж, остров! Шириной в 190 шагов в самом широком месте и длиной в 267 шагов от кончика до кончика.
Насколько я могу судить, ничего съедобного.
Меня зовут Ричард Пайн. А это – мой дневник. Если меня найдут (когда!), я смогу легко его уничтожить. В спичках недостатка нет. В спичках и в героине. Того и другого тут с избытком. И оба тут не стоят и ломаного цента, ха-ха. Так что я буду писать. Все-таки занятие.
Если рассказать всю правду (а почему бы и нет? Чего-чего, а времени у меня хоть отбавляй!), так родился я Ричардом Пинцетти в нью-йоркской Малой Италии. Мой отец был итальяшкой старой выделки. Я хотел стать хирургом. Мой отец хохотал, называл меня свихнутым и говорил, чтобы я налил ему еще стаканчик вина. Умер он от рака в сорок шесть лет. Я был рад.
В старших классах я играл в футбол и был, черт дери, лучшим футболистом за всю историю школы. Защитник! Последние два года я играл в городской команде. Футбол я ненавидел. Но если ты чумазый итальяшка из бедного квартала, а хочешь поступить в колледж, то спорт – одна твоя надежда. Вот я и играл – и я получил искомую спортивную стипендию.
В колледже я продолжал гонять мяч только до тех пор, пока мои оценки не дали мне права на полную академическую стипендию. Сначала курсы. Мой отец умер за полтора месяца до вручения дипломов. Подумаешь! Или вы считаете, что мне так уж хотелось пройти через эстраду, чтобы получить диплом, и посмотреть в зал, и увидеть там эту итальянскую морду? Спросите чего-нибудь поинтереснее. И меня приняли в братство. Не в самое элитарное – где уж с такой фамилией, как Пинцетти! Но братство – всегда братство.
Зачем я пишу это? Почти смешно. Нет, беру «почти» обратно. Смешно, смешно, смешно. Знаменитый доктор Пайн сидит на камне в пижамных штанах и рубашке с открытым воротом, сидит на острове таком маленьком, что его почти переплюнуть можно, – сидит и пишет историю своей жизни. А я есть хочу! Не важно. Вот и буду писать историю моей чертовой жизни, если мне так хочется. Во всяком случае, она позволит мне отвлечься от требований моего желудка. Более или менее.
Я изменил мою фамилию на Пайн перед тем, как поступить на медицинский факультет. Мать сказала, что я разбил ей сердце. Какое сердце? Отец еще не успел в могиле остыть, как она уже вешалась на еврея-бакалейщика в соседнем квартале. Если она так уж обожала свою фамилию, так зачем бы спешить сменить ее на Штейнбруннер?
Хирургия – вот что меня влекло. Еще со школы. Даже тогда я бинтовал руки перед каждой игрой, а после держал их в теплой воде. Если хочешь быть хирургом, так береги руки. Ребята надо мной потешались, обзывали цыплячьим дерьмом. Но я никогда ни с кем не дрался. Мне хватало риска на поле. Но есть и другие способы. Больше всего меня изводил Хоуи Плоцки, верзила-полячишка без капли мозга в голове, и вся морда в фурункулах. Я тогда разносил газеты и подторговывал цифрами. Ну и еще подрабатывал по мелочам. Узнаешь людей, слушаешь, заводишь связи. Когда работаешь на улицах, иначе нельзя. Как сдохнуть, всякий дурак знает. Ну и я заплатил первому силачу школы, Рики Браззи, десять баксов. Чтобы он изуродовал пасть Хоуи Плоцки. Изуродуй ему пасть, сказал я, и получишь по доллару за каждый зуб, который ты мне принесешь. Рико принес мне три зуба, завернутые в бумажное полотенце. Отрабатывая свои доллары, он вывихнул два пальца, так что видите, во что я мог бы вляпаться.
В колледже, пока идиотики ломали хребты (нечаянная острота, ха-ха!), обслуживая столики, или продавая галстуки, или натирая полы, я занимался кое-чем другим. Футбольные тотализаторы, баскетбольные тотализаторы, то да се. И все годы учебы прошли у меня гладко.
С распространением я соприкоснулся во время стажировки. Стажировался я в одной из самых больших больниц Нью-Йорка. Сначала – только бланки рецептов. Я продавал пачку из ста бланков одному типу по соседству, а он подделывал подписи сорока – пятидесяти врачей по образчикам, которые я ему продавал. А потом он продавал их на улице от десяти до двадцати долларов за бланк. Любителей стимуляторов и транквилизаторов это устраивало как нельзя лучше. Ну а потом я выяснил, какой хаос творился в больничной аптеке. Никто не знал, что поступает и что выдается. Некоторые выносили добро горстями. Только не я. Я всегда соблюдал осторожность. И у меня никогда никаких неприятностей не было, пока не проявил беззаботности… ну и вдобавок мне не повезло. Но все равно я выйду сухим из воды. Так ведь всегда было.
Больше пока писать не могу. Кисть заныла, и карандаш затупился. И вообще не знаю, к чему я это затеял. Наверняка меня кто-нибудь скоро найдет тут.
27 января
Шлюпку вчера ночью унесло, и она затонула на глубине примерно десяти футов у северного берега островка. Да плевать. Днище все равно смахивало на швейцарский сыр, после того как ее протащило по рифу. И я забрал из нее все, что стоило забрать. Четыре галлона воды. Швейный набор. Аптечку. А пишу я это в так называемом инспекционном журнале этой шлюпки. Просто смех. Кто когда слышал о спасательной шлюпке без запаса ПРОВИЗИИ? Последняя в ней запись от 8 августа 1970 года. Ах да! Два ножа, причем один вполне острый, одна складная ложка-вилка. Они мне пригодятся, когда я буду сегодня ужинать. Жареной галькой. Ха-ха. Ну, во всяком случае, карандаш я наточил.
Когда я выберусь с этой заляпанной гуано скалы, то вытрясу из «Парадацз-Лайнз инкорпорейтед» столько, что черти ахнут. Ради одного этого стоит жить. А жить я намерен долго. Я выберусь. И не думайте. Я выберусь.
(ПОЗДНЕЕ)
Составляя список, я кое-что пропустил. Два кило чистейшего героина, стоимостью триста пятьдесят тысяч долларов по ценам нью-йоркских улиц. Здесь он стоит ноль в квадрате. Забавно, а? Ха-ха!
28 января
Что же, я поел, если это можно назвать едой. На кучу камней в центре островка опустилась чайка. Камни эти нагромождены в подобие мини-пирамиды и все испещрены птичьим дерьмом. Я взял камень, который пришелся мне по руке, взобрался как мог ближе к ней, а она сидит себе и смотрит на меня блестящими черными глазами. До сих пор удивляюсь, как урчание у меня в животе ее не вспугнуло.
Я метнул камень изо всей силы и угодил ей точно в бок. Она громко квакнула и попыталась улететь. Но камень сломал ей правое крыло. Я начал карабкаться к ней, и она запрыгала прочь. Стервоза заставила погоняться за ней, хотя я видел, как по ее белым перьям расползалась кровь. По ту сторону пирамиды я угодил ступней в щель между двумя камнями и чуть не сломал лодыжку.
Наконец она подустала, и на восточном берегу островка я ее схватил. До воды хотела добраться. Я ухватил ее за хвост, она обернулась и клюнула меня. Тогда одной рукой я сжал ноги чертовке, а другой свернул ей шею. Хруст позвонков доставил мне большое удовольствие. Кушать подано, знаете ли. Ха! Ха!
Я отнес ее в мой «лагерь», но прежде чем ощипать ее и выпотрошить, смазал йодом ранку, оставленную ее клювом. Птицы таскают на себе кучу микроорганизмов, а заболеть мне сейчас совсем ни к чему.
Операция с чайкой прошла гладко. Сварить ее или поджарить я, увы, не мог. На островке ни былинки, море не удосужилось набросать на берега плавник, а шлюпка ушла на дно. Так что я съел ее сырьем. Мой желудок возжелал немедленно ее срыгнуть, но при всем сочувствии к нему допустить этого я не мог и принялся считать от сотни к единице, пока тошнота не улеглась. Не срабатывает это средство редко.
Нет, вы можете вообразить, что птица почти сломала мне лодыжку, а вдобавок еще и клюнула? Если я завтра поймаю еще одну, то буду ее пытать. Эта отделалась слишком легко. Вот я пишу, и мне видна на песке ее оторванная голова. Даже и остекленев в смерти, ее черные глаза словно бы смеются надо мной.
А есть ли у чаек мозга в достатке?
И съедобен ли он?
29 января
Ням-ням сегодня не пришлось. Одна чайка опустилась было на вершину пирамиды, но улетела прежде, чем я подобрался к ней настолько быстро, чтобы послать мяч в ее ворота, ха-ха! Начал отпускать бороду. Чешется чертовски. Если чайка вернется и я ее изловлю, то сначала вырежу у нее глаза, а уж потом прикончу.
Я черт знает какой хирург, как кажется, я успел упомянуть. Они меня вышибли под барабанный бой. В сущности, смешно; сами же этим занимаются, а когда кого-нибудь застукают, уж такое елейное возмущение! Клал я на тебя, Джек, свое я получил. Вторая Клятва Гиппократа и Ханжей.
Я достаточно отложил за время моих приключений как стажера и больничного врача (согласно Клятве Ханжей это равносильно «офицеру и джентльмену», но не вздумайте поверить), чтобы открыть приемную на Парк-авеню. Немалое для меня достижение. У меня ведь не было богатого папочки или ворожащего мне патрона, как у многих моих «коллег». К тому времени, когда я повесил на дверях свою табличку, мой отец уже девять лет провел в своей нищей могиле. Моя мать умерла за год до того, как у меня отобрали разрешение практиковать медицину.
Общество взаимных услуг. Я договорился с полдесятком провизоров в Ист-Сайде, с двумя фармацевтическими фирмами и минимум с двадцатью другими докторами. Пациентов направляли ко мне, и я направлял пациентов к другим. Я делал операции и прописывал надлежащие постоперационные медикаменты. Не все операции были необходимы, но я ни разу не оперировал без согласия пациента. И ни разу ни один пациент не посмотрел на заполненный рецепт и не сказал: «Этого я принимать не хочу». Послушайте! В 1956 году им удалили матку или часть щитовидной железы, но они принимают болеутоляющее и через пять, и через десять лет, если им позволить. И я иногда позволял, и не я один, знаете ли. Им эта привычка была по карману. А иногда пациент после небольшого хирургического вмешательства начинал страдать бессонницей. Или у него возникали проблемы, как приобрести диетические таблетки или транквилизатор. Все это можно устроить. Ха! Да! Не получи они их от меня, так получили бы от кого-нибудь другого.
Затем людишки из налогового управления добрались до Ловенталя. До этого барана. Они помахали у него под носом пятилетним сроком, и он выложил полдесятка фамилий. Среди них была моя. Некоторое время за мной вели слежку, и к тому времени, когда вышли в открытую, я тянул куда больше, чем на пять лет. Имелись кое-какие другие сделки, включая бланки рецептов, с которыми я окончательно не покончил. Странно: я в этом больше вовсе не нуждался, но привычка остается привычкой. Трудно отказаться от лишней «зелени».
Ну, я кое с кем знаком. Подергал за кое-какие ниточки. И бросил парочку людей волкам на съедение. Впрочем, не из тех, кто мне нравился. Каждый, кого я выдал федеральным властям, был отпетым сукиным сыном.
Черт, как есть хочется!
30 января
Сегодня чаек нет. Напоминает мне о плакатиках, которые иногда вывешивают уличные торговцы на своих тележках в моем старом квартале. «СЕГОДНЯ ПОМИДОРОВ НЕТ». Я вошел в воду по пояс, держа в руке острый нож. И простоял в полной неподвижности на этом месте под палящим солнцем битых четыре часа. Дважды мне казалось, что я лишаюсь сознания, но я считал от сотни назад, пока ощущение это не миновало. Но я не увидел ни одной рыбы. Ни единой.
31 января
Убил еще одну чайку, совсем так же, как первую. Но я был так голоден, что не стал ее пытать, хотя и обещал себе это. Выпотрошил и съел ее. Выжал потроха и съел их тоже. Странно, как ощущаешь возвращение своей жизненной энергии. А я уже начал поддаваться испугу. Лежал в тени центральной кучи камней, и мне начинало чудиться, что я слышу голоса. Отца. Матери. Моей бывшей жены. И хуже всего – великана-китаезы, который продал мне героин в Сайгоне. Он пришепетывал, возможно, из-за частично расщепленного нёба.
– Давай! – донесся его голос из ниоткуда. – Давай понюхай сюточку. Не будес замесать голода. Так хоросо… – Но я никогда к наркотическим средствам не прибегал. Даже к снотворным.
Ловенталь покончил с собой, я вам не сказал? Этот баран. Повесился в своей бывшей приемной. И оказал услугу миру, я так на это гляжу.
Я хотел вернуть свою табличку. Кое-кто, с кем я говорил, сказал, что устроить это можно – но деньги потребуются большие. Такая смазочка, какой я и вообразить не мог. У меня в банковском сейфе хранилось сорок тысяч долларов. Я решил, что надо рискнуть и попытаться их прокрутить. Удвоить или утроить.
Ну, я пошел к Ронни Ханелли. Я играл с Ронни в футбол, когда мы были студентами, а когда его младший брат решил стать терапевтом, я помог ему получить место в больнице. Ронни сам был на юридическом – смешно, нет? В квартале, когда мы были мальчишками, мы прозвали его Ронни Принуждала, потому что он был судьей во всех играх. Если тебе не нравились его решения, то выбор был невелик: либо держи рот на замке, либо получай в зубы. Пуэрториканцы называли его Роннитальяшка. В одно слово – Роннитальяшка. Его это только забавляло. Так вот, этот тип поступил в колледж, а потом и на юридический факультет и сдал выпускные экзамены с первого же захода, а потом открыл лавочку в нашем старом квартале, прямо над баром «Аквариум». Закрываю глаза и вижу, как он катит по улице в этом своем белом «форд-континентале». Самый крупный хреновый ростовщик в городе.
Я знал, что у Ронни что-нибудь для меня найдется.
– Дело опасное, – сказал он. – Но ты всегда умел о себе позаботиться. А если сумеешь провезти это зелье, я тебя познакомлю с парочкой нужных людей. Один из них депутат Законодательного собрания штата.
И тут же назвал мне два имени. Один был великан-китаеза Генри Ли-Чжу. А второй – вьетнамец Солом Нго. Химик. За гонорар он проверит товар китаезы. Известно было, что тот время от времени не брезгует «шуточками». «Шуточки» – это пластиковые пакеты с тальком, с порошком для чистки ванн, с крахмалом. Ронни сказал, что из-за его шуточек Ли-Чжу рано или поздно убьют.
1 февраля
Пролетел самолет. Прямо над островком. Я попытался влезть на пирамиду и посигналить. Моя ступня провалилась в щель. В ту самую чертову щель, в которой она застряла в тот день, когда я убил первую чайку. Конечно, в ту же самую. И я сломал лодыжку. Словно пистолет выстрелил. Боль была немыслимая. Я закричал, потерял равновесие, размахивая руками как сумасшедший, и все-таки упал, стукнулся головой, и все почернело. В себя я пришел уже в сумерках. Из разбитой головы натекло порядком крови. Нога ниже колена раздулась, как автомобильная камера, и я заработал скверный солнечный ожог. Думаю, если бы солнце зашло на час позднее, моя кожа пошла бы пузырями.
Кое-как добрался сюда, всю ночь дрожал в ознобе и плакал от бессилия. Обработал рану на голове – чуть выше височной доли – и забинтовал ее как мог. Практически ссадина плюс легкое сотрясение мозга, кажется мне, но вот нога… тяжелый перелом, двойной, если не тройной.
Как мне теперь охотиться на птиц?
Самолет наверняка искал спасшихся с «Калласа». За ночь в бурю шлюпку могло унести на много миль от места, где судно пошло ко дну. Спасатели могут сюда и не вернуться.
2 февраля
Я выложил сигнал по пляжику из белой гальки на южной стороне островка, куда вынесло шлюпку. На это у меня ушел весь день с перерывами на отдых в тени. И все равно я дважды терял сознание. По-моему, я потерял в весе 25 фунтов, в основном за счет обезвоживания. Но теперь с того места, где я сижу, я вижу буквы, на которые у меня ушел день: темные камни на белом фоне кричат: «ПОМОГИТЕ», и в каждой букве четыре фута. Следующий самолет меня заметит.
Если будет следующий самолет.
В ноге непрерывная пульсирующая боль. Отек не спал, а над двойным переломом появилась зловещая синюшность, и она словно бы увеличивается. Я крепко перебинтовал ногу рубашкой, и это несколько утишило боль, но все равно она так сильна, что я не столько сплю, сколько впадаю в забытье.
Начинаю подумывать, не придется ли ампутировать ногу.
3 февраля
Отек и синюшность ухудшаются. Подожду до завтра. Если операция станет неизбежной, думаю, я смогу ее сделать. Для стерилизации у меня есть спички, острый нож; у меня есть игла и нитки, чтобы зашивать, из швейного набора. И рубашка на бинты.
У меня есть даже два кило «болеутоляющего», хотя не того типа, который я прописывал своим пациентам. Но они еще как его принимали бы, если бы могли раздобыть! Можете не сомневаться. Эти старушенции с подсиненными волосами нанюхались бы хоть освежителем воздуха, если бы думали, что он их взбодрит. Можете мне поверить!
4 февраля
Решил ампутировать ступню. Четыре дня без пищи. Если еще тянуть, то я рискую в процессе операции потерять сознание от шока и голода вместе, а тогда я истеку кровью. Но я все равно хочу жить, как мне ни скверно. У меня вертится в памяти то, что Мокридж имел обыкновение повторять на лекции по основам анатомии. Старый Моки, называли мы его. Рано или поздно перед каждым студентом-медиком встает вопрос: какую степень шока способен выдержать пациент? Тут он стучал указкой по диаграмме человеческого тела, тыча в печень, почки, сердце, селезенку, кишечник. По сути, господа, говорил он, ответ сводится к новому вопросу: «Как сильно пациент хочет выжить?»
Думаю, я выдержу.
Нет, правда.
Наверное, я пишу это, чтобы оттянуть неизбежное, но мне действительно пришло в голову, что я не дорассказал, как очутился здесь. Возможно, мне следует это сделать и подвязать все концы на случай, если операция окажется неудачной. Займет это несколько минут, и не сомневаюсь, что будет еще достаточно света, чтобы оперировать. Ведь если верить моему «Пульсару», сейчас только десять минут десятого утра. Ха!
Я отправился в Сайгон как турист. Тысячи людей летают туда каждый год, несмотря на никсоновскую войну. Есть же люди, которые сворачивают с дороги, чтобы поглазеть на место автокатастрофы, и посещают петушиные бои.
Товар у моего китайского друга был. Я отвез его к Нго, и тот гарантировал его высококачественность. Он рассказал мне, что Ли-Чжу сыграл свою шуточку четыре месяца назад, так что его жену разорвало взрывом, когда она повернула ключ зажигания своего «опеля». С тех пор шуточки прекратились.
Я пробыл в Сайгоне три недели; в Сан-Франциско я решил вернуться на туристическом теплоходе «Каллас». Каюта первого класса. Подняться на борт с товаром затруднений не составило – за соответствующий гонорар. Нго устроил так, что два таможенника, бегло осмотрев мои чемоданы, махнули, чтобы я проходил. Товар был в авиасумке, на которую они даже не взглянули.
– Пройти таможенный досмотр в США будет потруднее, – сказал мне Нго. – Но это уже ваша забота.
Я не собирался проносить товар через американскую таможню. Ронни нашел аквалангиста, готового выполнить некую довольно рискованную работу за 3000 долларов. Я должен был встретиться с ним (два дня назад, как я сейчас сообразил) в сан-францисской ночлежке, называющейся отель «Св. Ремигий». По плану товар я должен был уложить в герметизированный контейнер с таймером и пакетиком красной краски, прикрепленными к нему. Перед тем как мы подойдем к причалу, контейнер будет выброшен за борт, но сделаю это, естественно, не я.
Я все еще присматривал кока или стюарда, который не отказался бы подзаработать и был бы достаточно умен (или глуп), чтобы потом держать язык за зубами, когда «Каллас» затонул.
Как и почему, я не знаю. Штормило, но теплоход словно бы этого даже не замечал. Около восьми часов вечера двадцать третьего где-то под палубами раздался взрыв. Я в тот момент был в салоне, и «Каллас» почти сразу же начал крениться. Вправо… или это называется «на правый борт»?
Люди кричали, метались. Бутылки падали со стойки и разбивались. По трапу снизу поднялся мужчина, рубашка на нем сгорела, кожа обуглилась. Динамик начал отсылать людей к шлюпкам, по которым они были распределены во время учебной тревоги в начале плавания. Пассажиры тут же начали еще больше метаться. Мало кто из них потрудился принять участие в учебной тревоге. Я же не просто принял, но пришел пораньше – понимаете, я хотел стоять в первом ряду, чтобы видеть все. Я всегда очень внимателен, когда дело касается моей шкуры.
Теперь я спустился в свою каюту, взял пакеты с героином и рассовал их по нагрудным карманам. Затем я направился к спасательной шлюпке № 8. Пока я поднимался по трапу, раздались еще два взрыва, и теплоход накренился еще круче.
На верхней палубе царило полное смятение. Мимо меня, вопя, пробежала женщина с младенцем на руках – бежала все быстрее и быстрее по скользкой перекошенной палубе, ударилась бедром о планширь и перелетела через него. Я увидел, как она дважды перевернулась в воздухе, а на третьем перевороте исчезла из поля моего зрения. В центре площадки шаффлборда сидел пожилой мужчина и рвал на себе волосы. Еще один мужчина в белом поварском халате с жутко обожженными лицом и кистями бесцельно бродил по кругу, спотыкался и кричал: «ПОМОГИТЕ МНЕ! Я ОСЛЕП! ПОМОГИТЕ МНЕ! Я ОСЛЕП!»
Паника была почти всеобщей, от пассажиров она перекинулась на команду, точно моровая язва. Не забывайте, что между первым взрывом и моментом, когда «Каллас» погрузился в волны, прошло лишь около двадцати минут. Одни шлюпки осаждали толпы вопящих пассажиров, возле других была абсолютная пустота. Как и возле моей на кренящемся борту теплохода. Кроме меня, там оказался только матрос с прыщавым побелевшим лицом.
– Давайте спустим эту старую шлюху на воду, – сказал он, а его глаза безумно метались в глазницах. – Чертово корыто идет ко дну!
Спускать шлюпку несложно, но в нервной спешке он умудрился запутать тали на своей стороне. Шлюпка опустилась на шесть футов и заболталась в воздухе. Ее нос был на два фута ниже, чем корма.
Я пошел помочь ему, и тут он закричал. Тали он распутал, но при этом не успел вовремя высвободить кисть – скользящий вниз трос с шипением ожег его ладонь, ободрал кожу, и его швырнуло за борт. Я сбросил вниз веревочный трап, торопливо спустился по нему и отцепил тали от лодки. Потом я схватил весла и начал грести – иногда я катался на лодках для удовольствия, когда летом навещал друзей в их загородных домах. Но теперь я греб, спасая свою жизнь. Я знал, что если не успею отплыть на приличное расстояние от тонущего «Калласа», то водоворот, когда он пойдет ко дну, засосет и шлюпку вместе со мной.
Ровно через пять минут «Каллас» скрылся в волнах. И шлюпку захватил внешний край водоворота – мне пришлось грести совершенно бешено, только чтобы удерживаться на месте. Ушел он под воду очень быстро. За планшири все еще цеплялись люди и кричали. Они были похожи на кривляющихся обезьян.
Шторм разбушевался еще больше. Одно весло я потерял, но второе умудрился удержать. Ночь я провел словно во сне – то вычерпывал воду, то хватался за весло, чтобы повернуть нос шлюпки навстречу очередному пенистому валу.
Перед рассветом двадцать четвертого волны у меня за спиной начали вздыматься выше. Шлюпка помчалась вперед. Это было страшно, но и опьяняюще. Внезапно большая часть досок была вырвана у меня из-под ног, но шлюпка еще не успела затонуть, как ее вышвырнуло на эту забытую богом кучу камней. Я даже не знаю, где я. Просто понятия не имею. Штурманское дело никогда не было моим коньком, ха-ха.
Но я знаю, что должен сделать. Возможно, это последняя запись, но почему-то я думаю, что все обойдется. Так ведь со мной всегда бывало, верно? А современное протезирование творит настоящие чудеса. И я вполне обойдусь одной ступней.
Ну, пора убедиться, такой ли я хороший хирург, как считаю. Удачи!
5 февраля
Сделано.
Больше всего меня тревожила боль. Выдерживать боль я вполне способен, но я подумал, что в моем ослабленном состоянии сплав голода и невероятной боли может вызвать обморок, прежде чем я закончу.
Но героин отлично разрешил эту проблему.
Я вскрыл один пакет и с плоского камня втянул порядочную дозу в каждую ноздрю – сначала в правую, потом в левую. Ощущение было, точно вдыхаешь чудесно замораживающий лед, и он пронизывает твой мозг снизу вверх. Вдохнул героин я сразу, как кончил вчера писать в дневнике – это было в 9.45. Когда я в следующий раз взглянул на часы, тени сдвинулись, и я оказался частично на солнце, и время было 12.41. Я задремал. Мне и в голову не приходило, как это прекрасно; я не мог понять, почему был таким пренебрежительным в прошлом. Боль, ужас, тоска… все это исчезло, и осталась только безмятежная эйфория.
В таком состоянии я сделал операцию.
Боль, правда, была сильная, особенно в начале операции. Но боль словно отъединялась от меня. Она мне досаждала, но тем не менее была очень интересной. Вы способны это понять? Если вам приходилось принимать лекарство, в котором морфий – основной ингредиент, может быть, и поймете. И он не только снимает боль. Он создает определенный настрой сознания. Тихую безмятежность. Я могу понять, почему люди садятся на иглу, хотя выражение это представляется мне утрированным, и чаще его употребляют, конечно, те, кто и не пробовал наркотиков.
Примерно на половине операции боль стала более личной. На меня накатывались волны слабости. Я жаждуще смотрел на пакет с белым порошком, но заставил себя отвести глаза. Если меня опять сморит дремота, я истеку кровью точно так же, как если бы потерял сознание. Вместо этого я отсчитал назад от сотни.
Наиболее критическим моментом была потеря крови. Как хирург, я прекрасно это понимал. Ни капли, пролитой напрасно. Если во время операции в больнице у пациента начинается кровотечение, ему можно перелить кровь. Но у меня не было крови в запасе. Пролитая – а к концу песок вокруг потемнел от нее – пропадала безвозвратно, и надо было ждать, пока мое внутреннее производство не восполнит потерю. У меня не было ни зажимов, ни других кровоостанавливающих средств, ни шовного материала.
Операцию я начал ровно в 12.25. Кончил в 1.50 и тут же оглушил себя героином, увеличив дозу. Я погрузился в серый, лишенный боли мир и оставался там почти до пяти часов. Когда я вырвался из дурмана, солнце клонилось к закату, протягивая золотую дорожку через голубой Тихий океан прямо ко мне. Ничего более прекрасного я еще никогда не видел… это одно мгновение полностью оплатило всю боль. Час спустя я еще немного отдохнул, чтобы полностью насладиться закатом и воздать ему должное.
Вскоре после того, как стемнело, я…
Я…
Погодите. Разве я не сказал вам, что не ел ЧЕТЫРЕ ДНЯ? И что только мое собственное тело было у меня в распоряжении, чтобы пополнять слабеющие жизненные силы? А главное, разве я не повторял вам опять и опять, что выживание зависит от сознания? Могучего сознания? Не стану оправдывать себя, ссылаясь, что вы бы сделали то же самое. Начать с того, что вы вряд ли хирург. Даже знай вы примерно, как ампутируют ступни, вы бы такого натворили, что истекли бы кровью. И даже если выдержали бы операцию и послеоперационный шок, в вашу полную предрассудков голову эта мысль даже не закралась бы. А, не важно! Знать об этом никому не обязательно. Последнее, что я сделаю перед тем, как покину островок, будет уничтожение дневника.
Я был очень осторожен.
Я хорошенько промыл ее, прежде чем съесть.
7 февраля
Культя отчаянно болела – временами невыносимо. Но, по-моему, глубинный зуд, возникший, когда начался процесс заживления, был еще хуже. Сегодня днем мне вспоминались все пациенты, которые без конца жаловались мне, что не могут вынести этот жуткий зуд заживления – ведь до него даже нельзя добраться, чтобы почесать. А я улыбался и говорил им, что завтра они будут чувствовать себя гораздо лучше, а про себя думал, какие же они нытики, какие безвольные трусы, какие неблагодарные деточки. Но теперь я понял. Несколько раз я уже готов был сорвать с культи полоски рубашки и чесать ее, чесать, царапать ногтями мягкие обнаженные мышцы, вырывая грубые швы – и пусть кровь хлынет в песок. Все, все что угодно, лишь бы избавиться от этого жуткого, доводящего до исступления зуда.
В такие моменты я считаю назад от сотни и нюхаю героин.
Понятия не имею, сколько его я ввел в свой организм, но знаю, что был в дурмане почти непрерывно после операции. Он ведь подавляет голод, знаете ли. Я практически не сознаю, что голоден. Легкое сосущее чувство в животе, и все. А его легко игнорировать. Но нельзя. Героин по калорийности равен нулю. Я проверял себя, переползал с места на место, измеряя мою энергию. Она убывает.
Господи, Господи! Надеюсь, что нет, но… может понадобиться еще одна операция.
(позднее)
Пролетел еще один самолет. Так высоко, что мне пользы быть не могло никакой; и видел-то я только тянущийся за ним по небу расширяющийся белый след. Все равно я махал руками. Махал и вопил на него. Когда он скрылся из виду, я заплакал.
Темнеет, плохо видно. Пища. О какой только пище я не думал. Домашние колбаски моей матери. Хлеб с чесноком. Улитки. Омар. Жареное мясо на ребрышках. Мороженое с фруктами и взбитыми сливками. Лондонский бифштекс. Огромные треугольные куски торта с ванильным мороженым домашнего приготовления, которые подают у «Матушки Кранч» на Первой авеню. Горячие крендельки запеченная лососина мороженое запеченное в безе запеченная ветчина с кружочками ананаса. Кружочки лука. Жареный лук с картофельными чипсами холодный чай со льдом большими глотками картофель по-французски пальчики оближешь.
100, 99, 98, 97, 96, 95, 94
Господи Господи Господи
8 февраля
Утром сегодня еще одна чайка села на вершину пирамиды. Огромная, жирная. Я сидел в тени под моим валуном, который мысленно окрестил своим лагерем, положив забинтованную культю повыше. Едва чайка появилась, как у меня началось слюноотделение. Прямо как у павловских собак. Слюни текли, как у младенца. Как у младенца.
Я подобрал камень по руке и пополз к ней. Пинцетти, готовься отпасовать (Пайн, хочу я сказать. ПАЙН). Я не сомневался, что она улетит. Но не мог не попытаться. Если бы я добыл ее, такую откормленную и наглую птицу, вторую операцию можно было бы отложить на неопределенное время. Я полз к ней, культя время от времени ударялась о камни, и по всему телу у меня вспыхивал фейерверк боли, и я ждал, что она улетит.
Но она не улетала, а просто чванно прохаживалась, выпятив мясистую грудь, точно какой-нибудь птичий генерал, инспектирующий войска. Иногда она поглядывала на меня маленькими мерзкими черными глазками, и я замирал и начинал отсчитывать назад от сотни, пока она не начинала снова расхаживать. Всякий раз, когда она разворачивала крылья, мой живот наполнялся льдом. И я продолжал пускать слюни. Ничего не мог с собой поделать. Я пускал слюни, как младенец.
Не знаю, сколько времени я к ней подкрадывался. Час? Два? И чем ближе я подбирался, тем отчаяннее колотилось мое сердце, тем аппетитнее выглядела чайка. А она словно нарочно меня дразнила, и я не сомневался, что она улетит, едва я доберусь до расстояния броска. Руки и ноги у меня начали дрожать. Во рту пересохло. Культя отчаянно ныла.
Я думаю теперь, что у меня начиналась ломка. Но так скоро? Я же принимал его меньше недели!
Не важно. Он мне необходим. Остается еще много. Очень много. Если позднее, по возвращении в Штаты, мне придется пройти курс реабилитации, я выберу лучшую клинику в Калифорнии и войду туда с улыбкой. Во всяком случае, пока это не проблема, верно?
Когда я оказался на расстоянии броска, у меня не хватило духа метнуть камень. Мной овладела безумная уверенность, что я промахнусь. И не на дюймы, а на футы. Нет, необходимо подобраться поближе. И я продолжал всползать на каменную груду, откинув голову, а пот градом катился по моему измученному телу огородного пугала. Зубы у меня начали гнить, я вам не говорил? Будь я суеверным, так решил бы, что это потому, что я съел…
Ха! Мы-то знаем, что это чушь, верно?
Я снова замер. Я был к ней гораздо ближе, чем к первым двум чайкам. И все-таки я не решался. Камень я стискивал так, что у меня разболелись пальцы, и все-таки я не мог его метнуть. Потому что совершенно точно знал, что произойдет, если я промахнусь.
Плевать, если я изведу весь товар! Я у них полжопы отсужу! До конца жизни не буду знать забот. МОЕЙ ДОЛГОЙ, ДОЛГОЙ ЖИЗНИ!
Думаю, я бы подполз прямо к ней, так и не метнув камня, если бы она наконец не взлетела. Я бы подполз к ней и свернул ей шею. Но она развернула крылья и взлетела. Я завизжал на нее, рывком поднялся на колени и метнул мой камень со всей мочи. И попал в нее!
Птица придушенно квакнула и упала по ту сторону пирамиды. Бормоча и хохоча, не думая о том, что культя бьется по камням и рана вот-вот откроется, я переполз через вершину и двинулся вниз. Стукнулся головой, но даже не заметил этого – то есть тогда, – хотя и набил порядочную шишку. Я был способен думать только о чайке и о том, как я попал в нее – фантастическая удача! – уже в полете! Попал в воздухе!
Она ковыляла вниз к берегу, волоча крыло, а брюшко у нее покраснело от крови. Я полз как мог быстрее, но она ковыляла еще быстрее. Состязание калек! Ха! Ха! Я мог бы ее схватить – расстояние между нами начало все-таки сокращаться, – если бы не мои руки. Я должен очень беречь мои руки – они могут мне понадобиться в будущем. Но как я их ни берег, ладони были все в царапинах к тому времени, когда мы достигли галечного пляжа и я разбил циферблат моего «Пульсара» об острый камень.
Чайка плюхнулась в воду, отвратительно квакая, и я схватил ее. За хвост. В кулаке у меня остался пучок перьев. Тут я упал лицом в воду, наглотался ее. Отфыркивался, отплевывался.
И пополз дальше. Даже попытался поплыть за ней. Повязка сползла с культи. Я начал тонуть. И еле сумел вернуться на берег, содрогаясь от утомления, раздираемый болью, плача, визжа, проклиная чайку. А она долго плавала там, все удаляясь и удаляясь. По-моему, был момент, когда я умолял ее вернуться. Но когда ее перенесло через риф, по-моему, она уже была мертвой.
Нечестно.
Мне потребовался почти час, чтобы доползти до лагеря. Втянул носом большую дозу героина, но все равно я ненавижу эту чайку. Если мне не суждено было заполучить ее, так зачем ей понадобилось дразнить меня? Почему она не улетела сразу?
9 февраля
Ампутировал левую стопу и забинтовал ее штанами. Странно. Во время операции я непрерывно пускал слюни. Пускал слюни. Как пока смотрел на чайку. Пускал и пускал. Но я заставил себя дождаться темноты. Просто считал от сотни назад… двадцать, а может, и тридцать раз! Ха! Ха!
А тогда…
Я твержу себе. Холодная говядина. Холодная говядина. Холодная говядина.
11(?) февраля
Последние два дня льет дождь. И ветер разбушевался. Я сумел вытащить из пирамиды столько камней, что получилась пещерка, и я заполз в нее. Нашел паучка. Зажал в пальцах, прежде чем он успел уползти, и съел. Очень вкусно. Сочно. Подумал, что камни надо мной могут обрушиться и погрести меня заживо. Плевать.
Переждал шторм в полном кайфе. Может, дождь лил три дня, а не два. Или один. Но, по-моему, темнело дважды. Мне нравится кайф. Ни боли тогда, ни зуда. Я знаю, что выживу. Не может быть, чтобы человек перенес подобное зря.
Когда я был мальчишкой, сопливым малышом, в церкви Святого Семейства священник любил распространяться про ад и смертные грехи. Это был его конек. Смертный грех неискупим – такой точки зрения он держался. Вчера ночью он мне приснился. Отец Хейлли в черном своем банном халате, с багровым носом пьяницы грозил мне пальцем и говорил: «Позор тебе, Ричард Пинцетти… смертный грех… повинен аду, малый… повинен аду»…
Я засмеялся ему в лицо. Если это не ад, так что такое это место?
Половину времени я брежу, а все остальное мои культи зудят, а от сырости вдобавок нестерпимо ноют.
Но я не сдамся. Клянусь. Не зря же. Не зря же все это.
12 февраля
Снова светит солнце. Чудесный день. Надеюсь, по соседству они отмораживают задницы.
День для меня выдался удачный – насколько дни бывают удачными на этом островке. Температура, которая, видимо, была у меня во время шторма, как будто стала нормальной. Когда я выполз из моей норы, то изнемогал от слабости и озноба, но, пролежав часа два-три на горячем песке, я почувствовал себя снова почти человеком.
Дополз до южного берега и нашел кое-какой плавник, выброшенный на камни вчерашним штормом – в том числе и доски от моей шлюпки. На некоторых досках были водоросли. Я их съел. Вкус жуткий. Словно жуешь виниловую душевую занавеску. Но сегодня днем я чувствую себя окрепшим.
Вытащил все дерево как мог выше, чтобы оно подсохло. У меня все еще есть полный водонепроницаемый футлярчик спичек. Деревяшки пойдут на сигнальный костер, если скоро кто-нибудь появится. А нет, так на кухонный костер. А теперь повтягиваю.
13 февраля
Нашел краба. Убил и изжарил на маленьком костерке. В этот вечер я почти готов вновь уверовать в Бога.
14 фев
Только сегодня утром заметил, что шторм смыл большую часть камней в моей сигнальной надписи «ПОМОГИТЕ». Но шторм кончился… трое суток тому назад? Неужели я так нанюхался? Надо будет последить, уменьшить дозы. Что, если мимо проплыло какое-нибудь судно, пока я кайфовал?
Снова выложил буквы, но на это у меня ушел почти весь день, и сейчас совсем измучен. Поискал крабов там, где поймал того, но ничего. Порезал руки о камни, из которых выкладывал буквы, но тут же, несмотря на слабость, смазал их йодом во избежание инфекции. Должен беречь руки. Несмотря ни на что.
15 фев
Сегодня на вершину пирамиды опустилась чайка. Улетела прежде, чем я подполз на расстояние броска. Чтоб ей гореть в аду, где она всю вечность сможет выклевывать налитые кровью глазки отца Хейлли.
Ха! Ха!
Ха! Ха!
Ха
17 фев (?)
Ампутировал правую ногу по колено, но потерял много крови. Боль мучительнейшая, несмотря на героин. Человека помельче шок убил бы. Разрешите мне ответить вопросом: Как сильно хочет пациент выжить? КАК СИЛЬНО ХОЧЕТ ПАЦИЕНТ ЖИТЬ?
Руки трясутся. Если они предадут меня, со мной кончено. У них нет права меня предать. Ни малейшего. Всю их жизнь заботился о них, берег. Баловал. Пусть поберегутся. А не то пожалеют.
Хотя бы я не голоден.
Одна из досок от шлюпки треснула пополам. Один конец получился острый. Я этим воспользовался. У меня текла слюна, но я заставил себя выждать. И тут я начал думать о… ну… о пикниках с жарким на вертеле. О выложенной кирпичом яме при доме Уилла Хэммерсмита на Лонг-Айленде, в которой можно было зажарить целиком свиную тушу. Мы сидели в сумерках на веранде с бокалами в руках и беседовали о хирургических методиках, или о гольфе, или еще о чем-нибудь. А легкий бриз веял на нас ароматом жарящейся свинины. Иуда Искариот! Аромат жарящейся свинины.
Фев?
Ампутировал по колено другую ногу. Сонливость весь день. «Доктор, а эта операция была обязательна?» Ха-ха. Трясущиеся руки, как у старика. Ненавижу их. Кровь под ногтями. Струпья. Помнишь муляж в анатомическом кабинете? Тот, со стеклянным животом? Ощущаю себя таким муляжом. Но смотреть не желаю. Этот номер не пройдет. Помню, как Дом говорил это. Стоишь на углу, а он подойдет к тебе вразвалочку в этой своей куртке Клуба разбойников с большой дороги. Скажешь: Дом, а как у тебя с ней? А Дом отвечает: этот номер не пройдет. Иих! Старина Дом. Остаться бы мне в нашем квартале. Хрен, хрен и хрен, как сказал бы Дом. Хаха.
Но я знаю, понимаете, что после лечения и протезирования я стану как новенький. Смогу приезжать сюда и говорить людям: «Вот тут. Где это. Произошло».
Хахаха!
23 февраля (?)
Нашел дохлую рыбину. Протухшую, воняющую. Все равно съел. Чуть не вытошнило. Но я не допустил. Я ВЫЖИВУ. Такой прелестный кайф, закаты.
Февраль
Не осмеливаюсь, но должен. Но как перетянуть бедренную артерию так высоко? Она там шириной с хреновые ворота.
Но как-нибудь придется. Я отметил вверху бедра еще мясистую часть. Вот этим карандашом обвел.
Хоть бы слюна перестала течь.
Фе
Ты… заслуживаешь… отдохнуть сегодня… нууу… вставай и отправляйся… в «Макдоналдс»… два говяжьих гамбургера… особый соус… салат… корнишончики… лук… на тминной булочке…
Дии… диидии… дандадии…
ФЕВВА
Сегодня посмотрел на отражение своего лица в луже. Один обтянутый кожей череп. Я уже сошел с ума? Наверное. Я теперь чудовище, ярмарочный урод. Под пахом не осталось ничего. Урод. Голова, скрепленная с туловищем, которое ползает по песку, опираясь на локти. Краб. Нанюхавшийся краб. Ведь теперь они так себя называют. Эй, парень, я бедный нанюхавшийся краб, пяти центов не уделишь?
Хахахаха
Согласно присловью ты то, что ты ешь, и, значит, я НИЧУТОЧКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ! Господи послеоперационный шок, шок, НИКАКОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ШОКА НЕТ
ХА
ФЕ/40?
Приснился отец. Напиваясь, он забывал английский. Хотя ничего ценного он все равно бы не сказал. Хреновый алкоголик. Я был так рад выбраться из твоего дома папочка ты хреновый итальяшка алкоголик ничто ноль нолик нолишко. Я знал что добьюсь. Я ушел от тебя, верно? На руках ушел.
Но им теперь нечего отрезать. Вчера я ампутировал ушные раковины рука руку моет да не ведает левая рука что творит правая раз картошка два картошка три картошка где моя большая ложка хахаха
Плевать та рука или эта здесь добрая еда доброе мясо добрый Бог так будем есть
дамские пальчики у них вкус дамских пальчиков
Грузовик дяди Отто
[35]
Какое же облегчение – наконец записать все это! Я почти не спал с тех самых пор, как обнаружил тело дядюшки Отто. Порой казалось, что я схожу с ума – или уже сошел. Было бы куда легче, если б этот предмет не лежал у меня в кабинете. Там, где я всегда вижу его, могу потрогать и даже взвесить на ладони, стоит только захотеть. Нет, поймите меня правильно, я этого вовсе не хотел. Я не желал прикасаться к этой вещи. Но иногда… все же делал это.
Если б я не унес его с собой тогда, убегая из маленького домика с одним окошком, то, возможно, постарался бы убедить себя, что все это не более чем галлюцинация, результат работы воспаленного мозга. Но предмет здесь, у меня. У него есть вес и форма. И этот вес можно прикинуть, взяв вещицу в руки.
Дело в том, что это действительно было.
Большинство из тех, кто прочтет эти мемуары, ни за что не поверит, что такое возможно. До тех пор, пока с ними самими не произойдет нечто подобное. И знаете, какое открытие я сделал? Что какая-либо связь вашей веры с облегчением моей души полностью исключена. Но я все равно расскажу вам эту историю. А уж это вам решать – верить или нет.
Любое автобиографическое повествование всегда связано с историей происхождения или с тайной. В моем есть и то и другое. Позвольте же мне в таком случае начать с происхождения. И рассказать, каким образом получилось, что дядя Отто, по принятым в округе Касл меркам, человек очень богатый, провел последние двадцать лет жизни вдали от людей, в маленьком домике, единственное окошко которого выходило в поле.
Отто родился в 1905 году и был старшим из пяти детей. Мой отец, появившийся на свет в 1920-м, был самым младшим в семье. Я же – самый младший из детей отца, родился в 1955-м, а потому дядя Отто всегда казался мне стариком.
Подобно многим трудолюбивым немцам, мои дед с бабкой приехали в Америку с деньгами. И осели в Дерри, потому что там была развита деревообрабатывающая промышленность, а дед знал в этом деле толк. Работал он на совесть, и дети его родились и выросли уже в приличных условиях.
Дед умер в 1925 году. Дяде Отто было тогда двадцать. Как самый старший из детей он унаследовал семейный бизнес. Переехал в Касл-Рок и занялся недвижимостью. И за пять лет, торгуя лесом и землей, сколотил изрядное состояние. Купил в Касл-Хилле большой дом, имел слуг и наслаждался всем тем, что давало ему положение молодого, относительно красивого («относительно» – из-за того, что он носил очки) и весьма перспективного холостяка. В ту пору никто не считал его странным. Это произошло позднее.
Во время кризиса, разразившегося в 1929 году, дядя пострадал не так сильно, как другие. Ему удалось сохранить огромный дом в Касл-Хилле, Отто продал его лишь в 1933-м, поскольку на рынке в ту пору появился прекрасный участок леса по совершенно смешной цене, и он отчаянно захотел приобрести его. Земля принадлежала бумажной компании «Новая Англия».
Компания «Новая Англия» существует и по сей день, и если вы подумываете о том, чтобы приобрести ее акции, я скажу вам: валяйте. Но в 1933-м она распродавала огромные земельные участки по смехотворным ценам – с тем чтобы хоть как-то удержаться на плаву.
Сколько же именно земли захотел тогда купить мой дядюшка? Оригиналы платежных документов теперь утеряны, цифры и подсчеты, сохранившиеся в других бумагах, варьируются, но… согласно приблизительным оценкам, общая площадь составляла свыше четырех тысяч акров. Большая часть этих земель находилась в Касл-Роке, но кое-что заползало и в Уотерфолд, и в Харлоу. «Новая Англия» выставила землю на продажу по цене два доллара пятьдесят центов за акр… при условии, что покупатель возьмет все.
Таким образом, дядюшке Отто следовало выложить примерно десять тысяч долларов. У него не было таких денег, а потому он пригласил компаньона – янки по имени Джордж Маккатчеон. Если вы живете в Новой Англии, вам наверняка известны имена Шенк и Маккатчеон. Компанию их перекупили давным-давно, но в сорока городках Новой Англии до сих пор полно скобяных лавок «Шенк и Маккатчеон», а лесопилки «Шенк и Маккатчеон» можно встретить на всем пути от Сентрал-Фоллз до Дерри.
Маккатчеон был плотный, крепкий мужчина с окладистой черной бородой. Как и дядя Отто, он носил очки. Как и дядя Отто, унаследовал некоторую сумму денег. Должно быть, сумма была вполне приличная, потому что, объединившись с дядей Отто, они провернули сделку с землей без хлопот. Оба в глубине души были разбойниками, но прекрасно ладили друг с другом. Партнерство их продлилось двадцать два года – до моего рождения, – и, следует отметить, они процветали.
Но все началось с покупки этих четырех тысяч акров. Партнеры обследовали свои новые владения, разъезжая в грузовике Маккатчеона, кружили по ухабистым лесным дорогам и просекам – по большей части на первой передаче, – тряслись по кочкам, с плеском врезались в огромные лужи. За рулем сидели по очереди – то Маккатчеон, то мой дядюшка Отто – тогда еще молодые, полные сил и надежд. Еще бы! Им удалось стать земельными баронами Новой Англии в самые глухие и трудные времена Великой американской депрессии.
Мне неизвестно, где Маккатчеон приобрел этот грузовик марки «крессвелл», – кажется, сейчас уже таких не выпускают. То была огромная машина ярко-красного цвета, с дребезжащими бортами и электрическим стартером. Когда стартер подводил, машину заводили вручную, с помощью рукоятки, но рукоятка могла запросто сорваться и сломать вам ключицу, если, конечно, не соблюдать особой осторожности. У грузовика имелся кузов двадцати футов в длину с откидными бортами, но лучше всего мне почему-то запомнился капот. Такой же кроваво-красный, как и вся машина. Чтобы добраться до мотора, следовало приподнять и откинуть две панели по бокам. Радиатор располагался высоко – на уровне груди взрослого мужчины. Словом, не машина, а самый настоящий монстр, эдакое совершенно безобразное отродье.
Грузовик Маккатчеона ломался и ремонтировался, снова ломался и ремонтировался. И когда «крессвеллу» все же пришел конец, расставание с ним произошло очень эффектно. Оно было не менее эффектным, чем гибель старинного фаэтона в поэме Холмса[36].
Произошло это в 1953 году. Как-то к вечеру Маккатчеон и дядя Отто возвращались домой по дороге «Черный Генри», и, по собственному признанию дяди, оба были «в задницу пьяные». Въезжая на холм Тринити, дядя Отто переключился на первую передачу. И все было бы ничего, но, пребывая в состоянии сильнейшего опьянения, он, уже съезжая с холма, забыл переключиться на другую передачу.
Старый, изношенный мотор «крессвелла» перегрелся. Ни Отто, ни Маккатчеон не заметили, как стрелка в правой стороне диска перевалила за красную отметину под буквой «H». И вот внизу, у подножия холма, грянул взрыв. Металлические створки капота оторвались и разлетелись в разные стороны, словно красные крылья дракона. Крышка радиатора взвилась в голубое летнее небо. Пар вырвался из него, точно джинн из бутылки. Масло выплеснулось на лобовое стекло. Дядя Отто ударил по тормозам, но у «крессвелла» за последний год развилась отвратительная привычка избавляться от тормозной жидкости при каждом удобном случае, и педаль просто ушла под коврик. Дядя не видел, куда едет грузовик. Машина, вильнув, съехала с дороги, угодила в канаву, затем вырвалась из нее и понеслась по полю. Если бы «крессвелл» удалось остановить, все могло бы кончиться благополучно. Но мотор продолжал работать и выбросил сначала один поршень, затем – еще два. Они взвились в воздух, точно ракеты в День независимости 4 июля. Один из них, по утверждению дядюшки Отто, пробил дверцу, отчего она тут же распахнулась. Через дыру можно было свободно просунуть кулак. Остальные поршни навеки остались лежать в поле, поросшем золотарником. Кстати, на это поле и Белые горы за ним из кабины открывался бы великолепный вид, не будь стекло забрызгано машинным маслом и соляркой фирмы «Даймонд джем».
Так бесславно закончил свой долгий путь грузовик Маккатчеона, с этого поля ему уже не суждено было вернуться. Никаких жалоб от землевладельца не последовало. Что вполне естественно – ведь это поле, равно как и другие земли вокруг, принадлежало владельцу грузовика и моему дяде. Сразу протрезвевшие после встряски, мужчины выбрались из машины – оценить ущерб. Ни один из них не был механиком, но обоим с первого взгляда стало ясно, что раны у грузовика смертельные.
Дядя Отто был потрясен – так, во всяком случае, утверждал отец. И вызвался уплатить за грузовик. На что Джордж Маккатчеон сказал, чтоб он не валял дурака. Вообще Маккатчеон находился в тот момент в неком экстатическом состоянии. Он оглядел поле, горы и вдруг решил: вот самое подходящее место, чтобы выстроить дом, удалиться на покой и жить здесь до глубокой старости. И тут же сообщил об этом дяде Отто в самых возвышенных тонах, какие обычно приберегают для религиозных проповедей. Они вернулись к дороге, остановили проезжавший мимо фирменный грузовик пекарни Кушмана и на нем благополучно добрались до Касл-Рока. Маккатчеон не преминул также заметить Отто, что увидел во всем этом знак небес. Что он уже давно подыскивал подходящее для дома местечко, что по три-четыре раза на неделе проезжал через это поле и ни разу не удосужился взглянуть на него именно под этим углом. «Рука Господня направила меня», – продолжал твердить он, тогда еще и не зная, что два года спустя погибнет на этом самом поле, раздавленный передком своего собственного грузовика. Грузовика, который после его смерти перешел к дядюшке Отто.
Маккатчеон заставил Билли Додда взять разбитый «крессвелл» на буксир и подтащить его поближе к дороге. С тем чтобы, по его словам, он мог видеть машину всякий раз, когда проезжает мимо. С тем чтобы позднее тот же Додд снова взял его на буксир и оттащил от дороги – на этот раз уже навсегда, поскольку Маккатчеон собирался вызвать дорожных рабочих и попросить их вырыть для грузовика нечто вроде могилы. Маккатчеон был по природе своей сентиментален, однако не настолько, чтобы позволять сантиментам возобладать над стремлением сколотить лишний доллар. А потому, когда год спустя к нему явился владелец бумажной фабрики по имени Бейкер и вызвался купить у него колеса, шины и еще кое-какие детали от «крессвелла», поскольку по размерам они якобы очень подходили к какому-то там его оборудованию, Маккатчеон не моргнув глазом тут же взял у него двадцать долларов. А ведь состояние Маккатчеона в ту пору достигло чуть ли не миллиона. Он также попросил Бейкера закрепить «обезноженный» грузовик на блоках и подпорках. Сказал, что ему не хочется, проезжая мимо, видеть свой любимый грузовик по брюхо увязшим в грязи, сене, клевере и том же золотарнике, словно это какая-то старая развалина. Бейкер выполнил его просьбу, а год спустя «крессвелл» сорвался с подпорок и блоков и насмерть раздавил Маккатчеона. Старожилы, рассказывавшие затем эту историю с изрядной долей сладострастия, всегда заканчивали ее одними и теми же словами: выражали искреннюю надежду, что Джордж Маккатчеон успел словить кайф от вырученных за колеса и шины двадцати долларов.
Я вырос в Касл-Роке. Ко времени моего появления на свет отец проработал на «Шенк и Маккатчеон» лет десять, а грузовик, перешедший в собственность дяди Отто вместе со всем остальным имуществом Маккатчеона, стал для меня своеобразным символом детства.
Мама ездила за покупками в магазин Уоррена в Бридгтоне, и попасть туда можно было только по дороге «Черный Генри». Всякий раз, проезжая по ней, мы видели торчащий в поле грузовик, а за ним – силуэты Белых гор. На блоки и подпорки машину больше не ставили – дядя Отто решил, что и одного несчастного случая более чем достаточно, – но сама мысль о том, что успело натворить это ржавое чудовище, заставляла меня, маленького мальчика в коротких штанишках, содрогаться от страха.
Он был там всегда. Летом; осенью, когда кроны дубов и вязов, окаймлявших поле с трех сторон, пылали жаркой листвой, точно факелы; зимой, когда, заваленный снегом почти до самых выпуклых, точно глаза гигантского жука, фар, он походил на мастодонта, увязшего в белых песках пустыни; весной, когда все вокруг превращалось в сплошное болото из раскисшей грязи и оставалось лишь удивляться тому, что грузовик еще не затонул в нем. Все эти годы в любую погоду грузовик неизменно находился на своем месте.
Мне даже довелось побывать внутри. Как-то раз отец подкатил к обочине – мы ехали с ним на ярмарку во Фрайбург, – взял меня за руку и вывел в поле. Было это, если я не ошибаюсь, году в 1960-м или в 1961-м. Я страшно боялся грузовика. Я наслушался разных ужасных историй о том, как он вдруг соскользнул вперед и раздавил компаньона моего дяди. Я слушал эти истории в парикмахерской, сидя тихо как мышка с журналом «Лайф» на коленях, хотя еще не умел читать. Слушал мужчин, повествующих об этом несчастном случае и выражавших надежду, что старина Джордж Маккатчеон успел всласть попользоваться двадцатью долларами, вырученными от продажи колес. Один из них – кажется, то был Билли Додд, сумасшедший папаша Фрэнка, – с особым сладострастием живописал, что Маккатчеон походил на «тыкву, раздавленную колесами трактора». Эта картина преследовала меня в течение долгих месяцев… но откуда о том было знать отцу.
Просто отец подумал, что мне доставит радость посидеть в кабине старого грузовика; он замечал, как я поглядываю на него всякий раз, проезжая мимо, и ошибочно принял мой страх за восхищение.
Я отчетливо помню цветы золотарника – их желтые лепестки, немного поблекшие от осенних заморозков. Я помню терпкий, какой-то сероватый привкус воздуха – немного горький, немного резкий. Помню, как серебрилась под ногами высохшая трава. Помню ее шорох под нашими ногами – «хс-с, хс-с-с…». Но лучше всего запомнился грузовик. Как он рос, становился все больше при нашем приближении, помню озлобленный оскал радиатора, кроваво-красный его окрас, мутно поблескивающее лобовое стекло. Помню, как ужас окатил меня ледяной волной, и привкус воздуха на языке показался еще более серым, когда отец, взяв меня под мышки, приподнял и понес к кабине со словами: «Ну давай, Квентин, полезай! Веди его в Портленд!» Я помню, как воздух туго ударял в лицо по мере того, как я поднимался все выше и выше, и к горьковатому и чистому его привкусу теперь примешивался запах солярки «Даймонд джем», старой рассохшейся кожи, мышиного помета и – готов поклясться! – крови. Помню, что изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать, а отец стоял подняв голову и улыбался, уверенный, что доставил мне море радости. И вдруг мне показалось, что он сейчас уйдет или повернется спиной и тогда грузовик сожрет меня – сожрет заживо. А потом выплюнет в траву нечто изжеванное, с переломанными костями и… раздавленное. Как тыква, угодившая под колеса трактора.
И тут я заплакал. Отец, который был самым лучшим и добрым из людей, тут же подхватил меня на руки, снял с сиденья, стал утешать, а потом понес к машине.
Он нес меня на руках, прижав к плечу, и я смотрел, как удаляется, уменьшается грузовик, одиноко стоявший в поле с огромным, разверстым, точно пасть, радиатором, темной круглой дырой в том месте, куда полагалось вставлять заводную рукоятку, – дыра напоминала пустую глазницу. И мне захотелось рассказать отцу, что там я почувствовал запах крови и именно потому заплакал. Но я почему-то не смог. И еще, думаю, он бы мне просто не поверил.
Будучи пятилетним ребенком, все еще верившим в Санта-Клауса, Прекрасную Фею, Волшебника Аладдина, я столь же свято уверовал в то, что чувство жути, овладевшее мной как только я оказался в кабине, передалось мне от самого грузовика. И мне понадобилось целых двадцать два года, чтобы разувериться в этом. Чтобы понять, что вовсе не «крессвелл» убил Джорджа Маккатчеона, а мой дядюшка Отто.
Итак, «крессвелл» стал своеобразным символом, навязчивой идеей моего детства. Однако справедливости ради следует отметить, что он будоражил умы и остальных обитателей нашей округи. Если вы начинали объяснять кому-либо, как добраться от Бридгтона до Касл-Рока, то непременно упоминали о том, что после поворота с шоссе № 11, примерно через три мили, слева от дороги в поле будет стоять большой и старый красный грузовик. Частенько на обочине возле него останавливались туристы (порой застревая в придорожной грязи, что давало дополнительный повод для шуток и смеха), фотографировали Белые горы с грузовиком дяди Отто на первом плане, чтобы лучше показать перспективу, а потому отец называл «крессвелл» мемориальным грузовиком для туристов Тринити-Хилла. А потом перестал. Потому как помешательство дяди Отто на этой машине все усиливалось и уже перестало казаться смешным.
Впрочем, довольно о происхождении этой машины. Расскажем теперь о тайне.
В том, что именно грузовик убил Маккатчеона, я был совершенно уверен. «Раздавил, как тыкву» – так уверяли болтуны в парикмахерской. А один из них непременно добавлял: «Готов побиться об заклад: он стоял на коленях перед этим своим грузовиком и молился на него, как какой-нибудь грязный араб молится своему Аллаху. Прямо так и вижу, как он стоит на коленях! Они же оба чокнутые, все знают. Да вы только вспомните, как кончил тот же Отто Шенк, если не верите! Торчит один-одинешенек в маленьком домишке у грязной дороги и думает, что весь город должен на него молиться. Совсем рехнулся, старая сортирная крыса!»
Эти высказывания приветствовались кивками и многозначительными взглядами, поскольку тогда все действительно считали, что дядя Отто – человек со странностями (о, если бы!). И образ, обрисованный одним из сочинителей этих саг, – Маккатчеон стоит на коленях перед своим грузовиком и молится на него, как «какой-нибудь грязный араб своему Аллаху», – вовсе не казался им эксцентричным или неправдоподобным.
Маленький городок всегда живет самыми невероятными слухами и домыслами; людей клеймят, обзывают ворами, развратниками, браконьерами и лгунами по любому самому ничтожному поводу, который затем дополняется самыми невероятными цветистыми домыслами. Порой мне кажется, что такие разговоры начинают исключительно от скуки – именно так романисты описывают жизнь всех маленьких городков, от Натаниеля до Грейс-Мегаполиса. К тому же все эти сплетни, возникающие на вечеринках, в бакалейных лавках и парикмахерских, до странности наивны. Кажется, люди склонны видеть глупость и подлость буквально во всем, а если не видеть, то изобретать. При этом настоящее зло может оставаться незамеченным ими, даже если парит буквально у них перед глазами, подобно волшебному ковру-самолету в одной из сказок о «грязном арабе».
Вы спросите: с чего я взял, что дядя Отто убил его? Просто потому, что он был в тот день с Маккатчеоном? Нет. Из-за грузовика, того самого «крессвелла»! Когда навязчивая идея стала одолевать его, он переехал в тот маленький домик на отшибе, откуда был виден грузовик. И это несмотря на то что вплоть до самых последних дней смертельно боялся злополучного грузовика.
Думаю, в тот день дядя Отто заманил Маккатчеона в поле, где стоял грузовик, под предлогом разговора о новом доме. Джордж Маккатчеон был всегда рад побеседовать о доме и о том, как славно заживет в нем, удалившись на покой. Компаньонам сделала очень выгодное предложение одна крупная фирма – называть ее не буду, но уверяю: она вам прекрасно знакома, – и Маккатчеон склонялся к мысли, что им следует принять предложение. А дядя Отто – нет. С самой весны между ними шла из-за этого скрытая глухая борьба. Думаю, что именно по этой причине дядя решил избавиться от компаньона.
И еще, мне кажется, дядя подготовился заранее и сделал две вещи: во-первых, привел в негодность блоки, удерживающие грузовик, и, во-вторых, положил что-то на землю перед передними колесами грузовика. Некий предмет, нечто такое, что могло броситься Маккатчеону в глаза.
Но что же это было? Не знаю. Что-нибудь яркое и блестящее. Алмаз? Кусок битого стекла, похожий на алмаз?.. Не важно. Но он сверкает и переливается на солнце, и Маккатчеон наверняка заметит его. А если нет, дядя Отто сам обратит его внимание. «Что это?» – воскликнет он и ткнет пальцем. «Не знаю», – ответит Маккатчеон и кинется посмотреть.
Итак, Маккатчеон падает на колени перед грузовиком – точь-в-точь как грязный араб, молящийся своему Аллаху, – и пытается выудить этот предмет из земли. А дядя Отто обходит тем временем грузовик. Одного сильного толчка достаточно, чтобы машина, сорвавшись с блоков, превратила Маккатчеона в лепешку. Раздавила, как тыкву.
Полагаю, в нем был слишком силен разбойничий дух, чтобы скончаться смиренно и тихо. Так и вижу, как он лежит, придавленный к земле оскаленным рылом «крессвелла», кровь потоком хлещет из носа, рта и ушей, лицо белое, словно бумага, глаза темные и расширенные и умоляют о помощи. Скорее, скорее, помоги же мне!.. Сначала молят, затем заклинают… а потом проклинают моего дядю. Обещают расправиться с ним, прикончить, убить… Дядя же стоит, сунув руки в карманы, смотрит и ждет, когда все это кончится.
А вскоре после гибели Маккатчеона дядя Отто стал совершать поступки, которые завсегдатаи парикмахерской поначалу называли необычными, затем чудными, а потом «чертовски странными». Поступки, в конечном счете способствовавшие появлению уж совсем оскорбительного выражения в его адрес – «сбесился, точно сортирная крыса». Впрочем, невзирая на все разнообразие оценок его поведения, люди сходились в одном: все эти странности возникли у дяди сразу же после смерти Джорджа Маккатчеона.
* * *
В 1965 году дядя Отто выстроил себе маленький домик с окном, смотревшим на поле и грузовик. По городу ходило немало слухов о том, что за чушь затеял старый Отто Шенк, поселившийся у самой дороги возле Тринити-Хилла. Но всеобщее изумление вызвало известие о том, что к концу строительства дядя Отто попросил Чаки Барджера выкрасить дом густой ярко-красной краской и объявил, что это его дар городу – новая школа. И что она должна носить имя его погибшего компаньона.
Члены городской управы Касл-Рока были потрясены до глубины души. И все остальные тоже. Ведь почти каждый житель Касл-Рока некогда ходил в такую же маленькую школу (или утверждал, что ходил, не вижу принципиальной разницы). Но к 1965 году таких маленьких однокомнатных школ в городке уже не осталось. Последняя, под названием «Касл-Ридж», закрылась год назад. Теперь она перешла в частное владение и претенциозно именовалась «Виллой Стива», о чем свидетельствовала надпись на фанерном щите у поворота на шоссе № 117. К тому времени в городке построили две новые школы. Одну – из шлакоблоков и стекла – для начальных классов. Располагалась она на дальнем конце пустыря. Вторая – высокое прекрасное здание на Карлин-стрит – предназначалась для старших и средних классов. В результате сделавший столь странное заявление дядя Отто в мгновение ока превратился из человека со странностями в «чертовски странного» парня.
Члены городской управы послали ему письмо (ни один из них не осмелился явиться лично), в котором выражали самую искреннюю благодарность, а также надежду, что дядюшка Отто и впредь не забудет о нуждах городка. Однако от домика отказались – на том основании, что в плане образования нужды детишек местными властями обеспечены полностью. Дядя Отто впал в неизбывную ярость.
– «Не забудет о городе и впредь» – как же, как же, дожидайтесь! – кричал он моему отцу. Уж он-то их не забудет, можете быть спокойны! Но только в совершенно обратном смысле. Он не вчера со стога сена свалился. Он способен отличить ястреба от кукушки! И если они хотят проверить, кто кого переплюнет, будьте уверены: он, дядюшка Отто, выдаст им такую струю, что и самому вонючему хорьку не снилось. Хорьку, который только что выхлестал целый бочонок пива.
– Ну и что теперь? – спросил отец.
Они сидели у нас на кухне. Мать забрала шитье и поднялась наверх. Она недолюбливала дядюшку Отто, говорила, что от него дурно пахнет, как от человека, который моется не чаще раза в месяц. «А еще богач», – добавляла она, презрительно морща носик. Думаю, насчет запаха мать была права, но еще, мне кажется, она просто его боялась. Ведь к 1965 году дядя Отто не только выглядел, но и вел себя чертовски странно. Расхаживал по городу в зеленых рабочих штанах на подтяжках, байковой рубашке и огромных желтых калошах. И как-то очень странно выпучивал глаза, когда говорил.
– Что? – переспросил он отца.
– Что будешь делать теперь с этим домишкой?
– Жить в нем, сучьем отродье, что ж еще! – рявкнул в ответ дядя Отто.
Именно так он и поступил.
Последние прожитые им годы не были отмечены сколько-нибудь значительными событиями. Он страдал того рода безумием, о котором пишут в дешевых бульварных газетенках: «Миллионер умирает от недоедания в своем роскошном особняке», «Старуха-нищенка оказалась богачкой, о чем свидетельствуют ее банковские счета», «Забытый всеми финансовый магнат умирает в полном одиночестве».
Он переехал в свой маленький красный домик – за годы краска поблекла и выгорела и превратилась в грязно-розовую – на следующей же неделе. Никто, по словам отца, не мог отговорить дядю Отто от этого шага. Год спустя он продал свою компанию. А я-то думал, что он убил человека с целью сохранить ее. Странности его множились, однако деловое чутье никогда не подводило, и сделку при продаже он заключил очень выгодную. Потрясающе выгодную, так, пожалуй, будет точнее.
И вот мой дядя Отто, состояние которого оценивалось минимум в семь миллионов долларов, зажил в крошечном домике возле дороги. При том, что в городе у него остался прекрасный большой дом – запертый, с заколоченными окнами. К тому времени он перешел из разряда людей «чертовски странных» в разряд «окончательно сбесившихся сортирных крыс». Следующий этап характеризовался куда более скучным, бесцветным, но тем не менее зловещим выражением «возможно, опасен». Выражением, за которым частенько следуют похороны.
Постепенно дядя Отто превратился в такую же достопримечательность, что и грузовик, стоявший по другую сторону дороги, хотя лично я сомневаюсь, чтобы туристы стремились фотографироваться с ним. Он отрастил бороду, ставшую со временем не белой, а желтой, словно она впитывала весь никотин его бесчисленных сигарет. Он страшно растолстел. Отвислые щеки и подбородок были вечно выпачканы чем-то жирным. Люди часто видели, как он стоит в дверях своего дурацкого маленького домика. Просто совершенно неподвижно стоит и смотрит на поле.
Смотрит на свой грузовик…
Когда дядя Отто перестал приходить в город за продуктами, отец вызвался проследить за тем, чтобы он не умер голодной смертью. Раз в неделю отец покупал ему все необходимое, расплачиваясь деньгами из собственного кармана. Дядя Отто никогда не возвращал ему затраченного – думаю, ему это просто в голову не приходило. Отец умер за два года до кончины дяди Отто. Все деньги дяди Отто, согласно завещанию, отправились в университет штата Мэн, на факультет лесной и деревообрабатывающей промышленности. То-то была радость! Особенно с учетом того, как огромна была перепавшая этому заведению сумма.
В 1972 году я получил водительские права и сам стал привозить ему раз в неделю продукты. Сперва дядя Отто поглядывал на меня косо и с некоторым недоверием, затем немного оттаял. А года через три, в 1975-м, я впервые услышал от него о том, что грузовик приближается к дому.
К тому времени я уже учился в университете в Мэне, но каждое лето приезжал домой на каникулы, где снова еженедельно доставлял дяде Отто продукты. Он сидел за столом, курил, поглядывая поверх пакетов и банок, и слушал мою болтовню. Иногда мне казалось, он просто забывал, кто я такой… или притворялся, что забывал. А как-то раз перепугал чуть ли не до полусмерти, окликнув из окна, когда я проходил к дому: «Это ты, Джордж?»
Кажется, именно тем самым июльским днем 1975-го он вдруг оборвал мою беспечную болтовню, спросив резко и грубо:
– А что ты думаешь о том грузовике, Квентин?
Вопрос раздался настолько неожиданно, что я поневоле ответил честно и прямо.
– Когда мне было пять, я описался в нем от страха, – сказал я. – Думаю, что опять промочу брюки, если поднимусь в кабину.
Дядя Отто смеялся долго и громко.
Я обернулся и с удивлением уставился на него. Прежде я вообще не слышал, чтобы он смеялся. Смех прервался долгим приступом кашля, от которого у него побагровели щеки и шея. Потом он поднял на меня глаза. Они странно блестели.
– Приближается, Квентин, – сказал он.
– Что, дядя Отто? – спросил я. Мне уже была знакома его манера при разговоре перескакивать с предмета на предмет – возможно, он имел в виду приближение Рождества, Судного дня, второго Пришествия, кто его знает…
– Да этот гребаный грузовик, – ответил он, не спуская с меня пристального и неподвижного взгляда сощуренных глаз, взгляда, от которого мне стало не по себе. – С каждым годом все ближе и ближе.
– Правда? – осторожно заметил я, полагая, что им овладела некая новая навязчивая идея, и невольно бросил взгляд на «крессвелл», стоявший по ту сторону дороги, среди стогов сена на фоне Белых гор. И на какую-то безумную долю секунды мне вдруг показалось, что он действительно стал ближе.
Я отчаянно заморгал, и видение исчезло. Грузовик, разумеется, находился на своем обычном месте, там же, где всегда.
– О да, – пробормотал дядя. – С каждым годом ближе.
– Может, вам очки нужны, а, дядя Отто? Лично я не вижу никакой разницы.
– Ну, ясное дело, не видишь! – злобно огрызнулся он. – Разве ты видишь, как движется по циферблату часовая стрелка, а? Эта чертова штуковина перемещается слишком медленно, чтоб замечать… если, конечно, не наблюдать за ней долго-долго. Все время, как я смотрю на этот грузовик… – Тут он подмигнул мне.
Я содрогнулся.
– Но зачем ему двигаться, дядя? – спросил я после паузы.
– Ему нужен я, вот зачем, – ответил дядя. – Я у него всю дорогу на примете. В один прекрасный день он ворвется сюда, и мне крышка. Раздавит меня, как тогда Мака, и мне придет конец.
Он страшно напугал меня – не столько его слова, сколько тон. А молодые люди обычно реагируют на испуг двумя способами: или бросаются отбивать атаку, или делают вид, что ничего особенного не произошло.
– В таком случае вам лучше переехать в город, дядя Отто. Если уж вы так нервничаете, – сказал я, и по моему тону вы бы никогда не догадались, что по спине у меня бегают мурашки.
Он взглянул на меня… потом – на грузовик по ту сторону дороги.
– Не могу, Квентин, – сказал он. – Иногда мужчина должен оставаться на месте и ждать.
– Ждать чего, дядя Отто? – спросил я, хотя и догадывался, что он имеет в виду грузовик.
– Судьбы, – ответил он и снова подмигнул, но как-то невесело, и в глазах его читался страх.
В 1979 году отец тяжело заболел – отказали почки. Потом ему вдруг полегчало, но в конце концов болезнь одержала верх. Во время одного из моих визитов в больницу, осенью, мы с ним вдруг разговорились о дядюшке Отто. Кажется, у отца тоже имелись кое-какие догадки относительно того несчастного случая в 1955-м – куда более осторожные, чем мои, однако они послужили основанием для моих вполне серьезных подозрений. Однако отец и понятия не имел, насколько глубоко зашел дядя в своем умопомешательстве на этом грузовике. Я же имел. Я знал, что почти весь день дядя стоит в дверях, глядя на этот грузовик. Уставившись на него, как смотрит человек на часовую стрелку циферблата, ожидая, что она сдвинется с мертвой точки.
К 1981 году дядя Отто окончательно съехал с катушек. Какого-нибудь бедняка на его месте уже давно упрятали бы в психушку, но миллионы на счету даже очень странного человека позволяют смотреть на разные чудачества более снисходительно. Особенно в маленьком городке, где многие уверены, что безумец в своем завещании непременно отпишет хоть часть своего состояния в пользу городских нужд. Но даже несмотря на эти (как выяснилось позднее, несбыточные) надежды, к 1981-му все стали всерьез поговаривать о том, что дядю Отто следует наконец «определить», для его же блага. Ибо скучное и бесцветное выражение «возможно, опасен» уже давно превалировало над «окончательно сбесившейся сортирной крысой». Было замечено, что он бегает мочиться прямо на обочину, вместо того чтобы заниматься этим в лесу, где стоял дощатый туалет. Иногда, справляя нужду, он грозил «крессвеллу» кулаком. Кое-кто из проезжавших мимо в машинах людей думал, что дядя Отто грозит им.
Грузовик на фоне картинно белеющих вдали гор – это одно, а писающий возле дороги с расстегнутой ширинкой и спущенными до колен подтяжками дядя Отто – совсем другое. Такая достопримечательность туристов не привлекала.
Я к тому времени уже успел сменить джинсы, в которых ходил в колледж, на строгий деловой костюм, однако по-прежнему привозил продукты дяде Отто. Я также пытался убедить его перестать справлять нужду возле дороги – хотя бы в летнее время, когда любой проезжающий из Мичигана, Миссури или Флориды может застать его за столь неблаговидным занятием. Но ничего так и не добился. На его взгляд, все это были мелочи, пустяки по сравнению с грузовиком. Он окончательно свихнулся на «крессвелле». Дядя утверждал, что грузовик уже успел переползти на его сторону дороги, что он находится во дворе, прямо перед домом.
– Прошлой ночью просыпаюсь где-то около трех и вижу: стоит там, прямо под окошком, Квентин, – говорил он. – Нет, молчи! Я хорошо видел, как отсвечивал лунный свет на ветровом стекле, а сам он находился ну буквально в шести футах от моей кровати! Прямо сердце чуть не остановилось, чуть не остановилось, Квентин…
Я вывел его из дома и показал, что «крессвелл» находится там же, где всегда, чуть наискосок через дорогу. В том же поле, где Маккатчеон некогда собирался построить дом. Не помогло.
– Это ты так видишь, мальчик, – заметил дядя. В голосе его звучало бесконечное презрение, сигарета тряслась в руке, глаза вылезали из орбит. – Это ты так видишь…
– Но, дядя Отто… – тут я позволил себе пофилософствовать, – каждый видит то, что хочет увидеть.
Он словно не слышал.
– Проклятая тачка, почти достала меня… – прошептал он.
Я почувствовал, как по спине побежал холодок. Дядя Отто вовсе не походил на сумасшедшего. Был угнетен? Да. Напуган? Безусловно… Но сумасшедшим назвать его было нельзя. И тут перед глазами предстала картинка из прошлого: отец подсаживает меня в кабину. Я вспомнил, как там пахло: соляркой, кожей и еще… кровью.
– Почти достала меня, – повторил дядя Отто.
И через три недели это случилось.
Первым тело обнаружил я. Была среда, солнце уже клонилось к закату, на заднем сиденье «понтиака» стояли два пакета с продуктами. Вечер выдался на удивление жаркий и душный. Время от времени где-то вдалеке погромыхивал гром. Помню, я почему-то занервничал, свернул на дорогу «Черный Генри», словно был уверен: что-то непременно случится. Однако тут же попытался убедить себя, что все это вызвано перепадами в атмосферном давлении.
Свернул еще раз – и взору открылся маленький красный домик. И тут же возникла галлюцинация – на секунду показалось, что грузовик стоит во дворе, у самой двери, нависает над домиком, огромный и грозный, с потрескавшейся красной краской на прогнивших бортах. Нога уже опустилась к тормозной педали, но не успела надавить на нее – я моргнул, и видение исчезло. Но я уже знал, что дядя Отто мертв. Нет, ни звуков труб, ни световых сигналов – просто появилась абсолютная уверенность в том, что он лежит там сейчас бездыханный и неподвижный. Так же четко иногда представляешь, как в знакомой комнате расставлена мебель.
Я быстро въехал во двор и, выскочив из машины и оставив пакеты на заднем сиденье, направился к двери.
Дверь была распахнута, он никогда не запирал ее. Как-то я спросил дядю об этом, и он терпеливо начал объяснять, как объясняют какому-нибудь недоумку совершенно очевидные вещи: он не запирает дверь по той простой причине, что «крессвелл» этим все равно не удержать.
Он лежал на кровати в левом углу комнаты, кухня была отгорожена справа. Лежал одетый – неизменные зеленые штаны, белая нижняя рубашка. Глаза открытые, остекленевшие. Думаю, что смерть наступила часа два назад, не раньше. Ни мух, ни запаха в комнате не было, хотя жара стояла страшная.
– Дядя Отто? – тихо окликнул я его, не ожидая ответа. Разве будет живой человек лежать вот так на кровати, с открытыми остекленевшими глазами? И если я и чувствовал что-то в этот момент, так только облегчение. Все было кончено. – Дядя Отто! – Я двинулся к нему. – Дядя…
И, едва сделав шаг, остановился, только теперь заметив, как необычно выглядит нижняя часть его лица – распухшая, искаженная. Только тут увидел я, что глаза у него не просто открыты, а жутко выпучены, буквально вылезают из орбит. И смотрят вовсе не на дверь или потолок, а глядят в раскрытое окно у него над головой.
Проснулся прошлой ночью где-то около трех, и он был там, прямо у окна, Квентин… Почти достал меня…
Раздавил, как тыкву…
В ушах у меня снова звучали эти слова, а сам я сидел в парикмахерской, делая вид, что читаю «Лайф», и вдыхая запах бальзама для волос и лосьона для бритья.
Едва не достал меня, Квентин…
Нет, все-таки здесь чем-то определенно пахло, но не парикмахерской и не старческим душным запахом давно не мытого тела. Пахло, как в гараже…
– Дядя Отто?.. – прошептал я и снова двинулся к постели. И, пока шел, казалось, что с каждым шагом я сжимаюсь, уменьшаюсь, нет, не только ростом, но и возрастом… Вот мне опять двадцать, пятнадцать, десять, восемь, шесть… и, наконец, пять. И я увидел, как к его безобразно распухшему лицу тянется моя ладошка, совсем маленькая. И как только ее пальцы коснулись щеки, сжали ее, я поднял глаза и увидел лобовое стекло «крессвелла». Оно заполняло собой весь оконный проем. Хотя длилось это всего секунду, готов поклясться на Библии: это вовсе не было галлюцинацией. «Крессвелл» находился там, у окна, и разделяло нас не более шести футов.
Я коснулся пальцами щеки дяди Отто, стараясь понять, откуда взялась эта страшная опухоль. А когда в окне мелькнул грузовик, пальцы непроизвольно сжались в кулак.
В считанные доли секунды грузовик исчез, испарился как дым или как призрак, которым, подозреваю, он и являлся. И в ту же секунду я услышал жуткий булькающий звук. Ладонь обожгла горячая жидкость. Я перевел взгляд вниз, чувствуя под рукой не только податливую плоть и липкую влагу, но и нечто твердое, угловатое. Глянул вниз и… закричал! Изо рта и ушей дяди Отто потоком лилась темная жидкость. Солярка!.. Солярка текла и из уголков глаз, точно слезы. Солярка производства фирмы «Даймонд джем» – плохо очищенное топливо, которое продается в пятигаллонных пластиковых канистрах, топливо, которым Маккатчеон заправлял свой грузовик.
Нет, тут была не только солярка… что-то торчало у него изо рта.
Некоторое время я просто стоял, не в силах сдвинуться с места, не в силах снять скользкую руку с его лица, не в силах отвести взора от этого непонятного грязного и промасленного предмета, торчавшего у него изо рта. Предмета, который так страшно исказил его лицо.
Наконец паралич отпустил, и я опрометью бросился вон из дома, все еще продолжая кричать. Пробежал через двор, распахнул дверцу «понтиака», плюхнулся на сиденье, завел мотор. И рванул со двора на дорогу. Пакеты с продуктами для дядюшки запрыгали на заднем сиденье, потом свалились на пол. Яйца разбились.
Просто удивительно, что, проехав первые две мили, я не угробил себя и машину. Взглянул на спидометр, увидел, что стрелка зашкаливает за «70». Я сбросил скорость, затем затормозил и принялся дышать медленно и глубоко, стараясь взять себя в руки. А затем, уже немного успокоившись, вдруг понял, что просто не имею права оставить дядю Отто вот так, в том виде, в котором его нашел. Слишком много может возникнуть вопросов. Мне придется вернуться.
К тому же мной овладело какое-то дьявольское любопытство. Теперь я об этом жалею. Мне не следовало поддаваться ему, не следовало возвращаться. В конечном счете ну что тут такого?.. Ну нашли бы они его, ну стали бы задавать вопросы… Однако я вернулся. Минут, наверное, пять стоял у двери, примерно в том самом месте и той же позе, в которой и он вот так же часто стоял на пороге и долго-долго смотрел на грузовик. Постояв, я пришел к выводу: да, грузовик по ту сторону дороги действительно немного сдвинулся с места. Так, самую малость…
А потом я зашел в дом.
Первые несколько мух уже вились и жужжали возле лица дяди Отто. На щеке виднелись маслянистые отпечатки пальцев: большого – слева, еще трех – справа. Я нервно покосился на окно, в котором видел грузовик… потом подошел к постели вплотную и наклонился… Достал из кармана носовой платок, стер отпечатки, затем открыл дяде Отто рот.
Изо рта выпала свеча зажигания. Фирмы «Чемпион», старого образца, огромная, величиной чуть ли не с кулак циркового атлета.
Я унес ее с собой. Теперь понимаю, делать этого не следовало, но тогда я пребывал в совершенно невменяемом состоянии. Было бы куда лучше и спокойнее, если б эта штуковина не лежала теперь у меня в кабинете, где я постоянно могу ее видеть. И не только видеть, но дотрагиваться или даже брать ее в руки и взвешивать на ладони. Старая свеча зажигания образца 1920 года, выпавшая изо рта дяди Отто.
Не будь ее здесь, в кабинете, не возьми я ее из маленького домика, куда вернулся неизвестно зачем, тогда, возможно, мне удалось бы убедить себя, что все, представшее там перед моими глазами – начиная с того момента, когда, выехав из-за поворота, я вдруг заметил налезающий на стенку дома огромный красный грузовик, и не только это, но и все остальное, – не более чем галлюцинация. Но эта вещь здесь, передо мной. Она работает. Она настоящая. Она имеет вес и форму. С каждым годом грузовик подбирается все ближе, говорил дядя Отто. И, как оказалось, был прав… Но даже дядя Отто не имел понятия, насколько близко может подобраться грузовик.
Официальное заключение гласило, что дядя Отто покончил жизнь самоубийством, наглотавшись солярки. Известие это стало для жителей Касл-Рока настоящей сенсацией.
Карл Дуркин, хозяин похоронного бюро, у которого язык был, что называется, без костей, даже проболтался, будто врачи, вскрывавшие дядю Отто, обнаружили у него внутри свыше трех кварт солярки… причем, что самое интересное, не только в желудке. Весь его организм был словно накачан этой соляркой. Правда, больше всего жителей городка волновал другой вопрос: куда же он дел потом пластиковую канистру? Ведь ее так и не нашли. Вопрос этот остался без ответа.
Я уже, кажется, говорил: вряд ли кто из вас, читая мои записки, поверит, что такое могло случиться… ну разве только при том условии, что и с ним самим когда-то случалось нечто подобное. А грузовик, между прочим, так до сих пор торчит в поле. И хотите верьте, хотите нет – но это было, было!..
Утренняя доставка (Молочник № 1)
[37]
Рассвет медленно крался по Калвер-стрит. Обитателю любого дома, не спавшему в этот час, могло показаться, что за окном еще хозяйничает глухая темная ночь, но это было не так. Рассвет потихоньку вступал в свои права вот уже в течение получаса. Сидевшая на большом клене на углу Калвер-стрит и Бэлфор-авеню рыжая белка встряхнулась и устремила взор своих круглых бессонных глазок на погруженные в сон дома. В полуквартале от нее воробей, взбодренный купанием в специальной ванночке для птиц, сидел, отряхиваясь и разбрасывая вокруг жемчужные капельки. Муравью, петляющему вдоль канавы, посчастливилось отыскать крошку шоколада в пустой измятой обертке плитки.
Ночной бриз, шевеливший листву деревьев и раздувавший занавески, утих, клен на углу последний раз прошумел ветвями и замер. Застыл в ожидании увертюры, которая последует за этими робкими звуками.
Небо на востоке тронула тонкая полоска света. Дежурство ночной птицы козодоя окончилось – на посту ее сменили вновь ожившие цикады. Они запели – сначала совсем тихо и неуверенно, словно опасаясь приветствовать наступление дня в одиночестве.
Белка нырнула в теплое гнездо на морщинистой развилке клена.
Воробей, трепеща крылышками, сидел на краю ванночки, все еще не решаясь взлететь.
Муравей так и замер над своим сокровищем и напоминал в этот миг библиотекаря, любующегося старым фолиантом.
Калвер-стрит балансировала на грани между светом и тьмой.
Внезапно где-то вдалеке возник звук. Он неуклонно нарастал, заполняя собой все пространство, пока наконец не начало казаться, что он всегда присутствовал здесь и заглушался лишь ночными шумами. Он рос, набирал силу и отчетливость, и в конце концов стало ясно, что издает его мотор грузовичка, развозящего молоко.
Грузовичок свернул с Бэлфор на Калвер. Это был очень симпатичный и аккуратный бежевый грузовичок с красными буквами на борту. Белка высунулась из морщинистого рта в развилке дерева, словно язычок, посмотрела на машину и тут вдруг углядела очень соблазнительный с виду кусочек пуха, как нельзя более подходящий для выстилки гнезда. Он свисал с ветки прямо у нее над головой. Воробей взлетел. Муравей ухватил столько шоколада, сколько мог унести, и потащил свою добычу в муравейник.
Цикады запели громче и увереннее.
Где-то в квартале от перекрестка залаяла собака.
Буквы на борту грузовика гласили: «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕЙМЕРА». Рядом была нарисована бутылка молока, чуть ниже красовалась надпись уже более мелкими буквами: «УТРЕННЯЯ ДОСТАВКА – НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!»
На молочнике была серо-синяя униформа и пилотка. На нагрудном кармашке золотыми нитками было вышито имя «СПАЙК». Он тихонько насвистывал в такт еле слышному позвякиванию бутылок в холодильной камере.
Грузовичок съехал на обочину возле дома Макензи и затормозил. Молочник подхватил картонную коробку, стоявшую у его ног, и выпрыгнул из кабины. На секунду остановился, вдохнул всей грудью пахнущий свежестью и новизной воздух, затем решительно зашагал к дому.
К почтовому ящику с помощью магнита в виде маленького красного помидорчика был прикреплен квадратик плотной белой бумаги. Спайк вгляделся в него попристальнее, медленно и внимательно, даже с каким-то трепетом прочитал, что там было написано. Так читают послание, найденное в старой, облепленной солью и грязью бутылке:
1 кв. молока
1 уп. сливок
1 сок (апельсин)
Спасибо.
Нелла М.Какое-то время молочник задумчиво взирал на картонную коробку, которую держал в руках, затем поставил ее на землю и извлек молоко и сливки. Снова взглянул на записку, слегка сдвинул край «помидорчика» – убедиться, что не пропустил какой-нибудь точки, черточки или запятой, которые могли изменить смысл послания, – кивнул, вернул магнит на место, подхватил коробку и вернулся к машине.
В грузовике было темно, прохладно и пахло сыростью. К ней примешивался кисловатый запах брожения. Апельсиновый сок стоял за банками с белладонной. Он вытащил коробку изо льда, еще раз удовлетворенно кивнул и снова пошел к дому. Поставил коробку с соком рядом с молоком и сливками, а затем вернулся к машине.
Невдалеке раздался гудок. Он донесся с фабрики-прачеч-ной, где работал старый приятель Спайка – Роки. Пять часов утра. Он представил, как приступил к работе Роки – среди всех этих вращающихся барабанов, липкой удушающей жары, – и улыбнулся. Возможно, он увидится с Роки позже. Возможно, даже сегодня вечером… когда с доставкой будет покончено.
Спайк включил мотор и двинулся дальше. С запачканного кровью крюка для мясных туш, вделанного в потолок кабины, свисал на тоненьком ремешке из кожзаменителя маленький транзисторный приемник. Он включил его, и тихая музыка заполнила кабину, сливаясь с рокотом мотора, пока он катил себе к дому Маккарти.
Записка от миссис Маккарти находилась на обычном месте – из щели почтового ящика торчал белый уголок. Содержание было лаконичным до предела:
Шоколад.
Спайк достал авторучку, нацарапал на белом квадратике «доставлено» и затолкал бумажку обратно в щель. Затем вернулся к грузовику. Шоколадным молоком были забиты два холодильника, находившихся в задней части грузовика, у самой двери. Это объяснялось тем, что в июне продукт пользовался особенно большим спросом. Спайк покосился на холодильник, потом протянул руку и нащупал в дальнем углу за ним пустую картонку из-под шоколадного молока. Ну разумеется, она была коричневой, и на картинке красовался счастливый до бесконечности юнец, а над ним полукругом размещалась надпись, уведомляющая потребителя о том, что этот продукт фирмы Креймера сделан из самого качественного цельного молока. «Можно употреблять горячим и холодным. Дети его просто обожают!»
Спайк поставил пустую картонку на ящик с упаковками. Открыл холодильник и достал из него майонезную баночку. Смахнул ледяную крошку и заглянул внутрь через стекло. Тарантул шевелился, но еле-еле. Холод одурманил его.
Спайк снял крышку с баночки и перевернул ее над пустой картонкой. Тарантул предпринял робкую попытку удержаться на стекле, но не преуспел и с глухим стуком шлепнулся вниз, на дно пустой картонки из-под шоколадного молока. Молочник аккуратно сложил края картонки, отрезав тем самым пауку путь к бегству. Затем понес ее к дому миссис Маккарти и поставил на дорожке, у самого входа. Пауки были его любимчиками. Вообще самым лучшим из того, что у него было в арсенале. День, когда удавалось доставить паука, был, по мнению Спайка, прожит не зря.
По мере того как он неспешно продолжал свое продвижение по Калвер-стрит, симфония утра все крепла и звучала уже почти в полную силу. Жемчужно-серая полоска на горизонте сменилась всплеском розового света, вначале робкого и едва различимого, пока не превратилась в алый клин, а потом почти сразу же начала бледнеть – по мере того как небо наливалось летней голубизной. Первые лучи солнца, нарядные и прямые, словно с какого-нибудь детского рисунка в тетради для занятий в воскресной школе, уже готовы были засиять над горизонтом.
У дома Уэбберов Спайк оставил пузырек с этикеткой от крема универсального применения, наполненный концентрированным раствором соляной кислоты. Перед домом Дженнерсов – пять кварт молока. У них росли ребятишки. Сам он никогда не видел их, но на заднем дворе стоял шалаш, а на газоне перед домом иногда валялись забытые велосипеды и мячи. Коллинзам достались две кварты молока и коробка йогурта. У дома миссис Ордсвей осталась упаковка яичного напитка с сахаром и сливками, сдобренного настойкой белладонны.
Где-то впереди, примерно в квартале от дома миссис Ордсвей, хлопнула дверь. Мистер Уэббер, которому надо было ехать на работу через весь город, приподнял гофрированную дверь гаража и вошел внутрь, размахивая портфелем. Молочник выждал, пока не раздастся жужжание заводимого мотора малолитражки «сааб», а услышав его, улыбнулся. «Разнообразие – вот что придает жизни пикантность и остроту, – так говорила матушка Спайка, Господи, да упокой ее душу. – Но мы – ирландцы, а ирландцы любят порядок во всем. Придерживайся во всем порядка, Спайк, и будешь счастлив». Золотые слова, ничего не скажешь. Истинность матушкиных слов подтверждалась самой жизнью. Жизнью, которую он проводил, раскатывая по городу в своем аккуратном бежевом грузовичке.
Правда, оставалось ему ездить всего три часа.
У дома Кинкейдов он обнаружил записку, гласившую: Спасибо, сегодня ничего, и оставил возле двери запечатанную бутылку из-под молока, которая лишь с виду казалась пустой, а на деле была заполнена смертоносным газом цианидом. У дома Уолкеров были оставлены две кварты молока и пинта взбитых сливок.
Когда он добрался до дома Мертонов в самом конце квартала, солнечные лучи уже золотили кроны деревьев и испещряли мелкими бегущими пятнышками гравий на дорожке, огибавшей дом.
Спайк наклонился, поднял один камешек, очень симпатичный, плоский с одного бока, как и подобает гравию, размахнулся и бросил. Камешек угодил точно в край тротуара. Спайк покачал головой, усмехнулся и, насвистывая, продолжил свой путь.
Слабый порыв ветра донес до него запах мыла, которым пользовались на фабрике-прачечной, и снова ему вспомнился Роки. Нет, он был уверен: они с Роки точно увидятся. Сегодня же.
К подставке для газет была пришпилена записка:
Доставка отменяется.
Спайк отворил дверь и вошел.
В доме было страшно холодно и пусто. Никакой мебели. Абсолютно пустые комнаты с голыми стенами. Даже плиты на кухне не было – место, где она раньше стояла, отмечал более яркий по цвету прямоугольник линолеума.
В гостиной со всех стен содраны обои. Абажур в виде шара исчез. Осталась лишь голая почерневшая лампочка под потолком. На одной из стен виднелось огромное пятно засохшей крови. Если приглядеться, можно было различить прилипший к нему клок волос и несколько мелких осколков костей.
Молочник кивнул, вышел и какое-то время стоял на крылечке. День обещал быть просто чудесным. Небо приобрело невинный голубой, словно глаза младенца, оттенок и было местами испещрено такими же невинными легкими перистыми облачками, которые игроки в бейсбол называют «ангелочками».
Спайк сорвал записку с подставки для газет, скатал в шарик и сунул его в левый карман серых форменных брюк.
Вернулся к машине, смахнул по дороге камешек с края тротуара в канаву. Грузовик свернул за угол и скрылся из виду.
День расцветал.
Дверь с грохотом распахнулась. Из дома выбежал мальчик. Поднял глаза к небу, улыбнулся, подхватил пакет молока и понес в дом.
Большие колеса: забавы парней из прачечной (Молочник № 2)
[38]
Роки и Лео, напившиеся до положения риз, медленно ехали по Калвер-стрит. Затем свернули на Бэлфор-авеню и двинулись по направлению к Кресченту. Ехали они в «крайслере» Роки 1957 года выпуска, на сиденье между ними стоял, покачиваясь при каждом толчке, ящик пива «Айрон-Сити». Это был их второй ящик за сегодняшний вечер – вечер, начавшийся, если говорить точнее, в четыре дня, в час, когда заканчивалась работа на фабрике-прачечной.
– Какашка в бумажке! – выругался Роки, останавливаясь на красный свет на пересечении Бэлфор-авеню с шоссе № 99. При переключении на вторую скорость коробка передач издала громкий скрежещущий звук. Первая скорость у «крайслера» не работала уже месяца два.
– Дай мне бумажку, и я тут же наложу в нее! – с готовностью отозвался Лео.
– Сколько сейчас?
Лео поднес руку с часами чуть не к самому носу. Когда часы почти коснулись кончика сигареты, выдохнул дым и всмотрелся в циферблат.
– Уже почти восемь.
– Какашка в бумажке! – Они миновали дорожный указатель с надписью ПИТТСБУРГ 44.
– Отсюда до самого Детройта ни одного патруля, – заметил Лео. – Да сюда ни одна собака не сунется, ни один человек в здравом уме и твердой памяти!
Роки включил третью скорость. Коробка передач издала тихий стон, а весь «крайслер» так и заколотило, словно в petit mal[39] припадке эпилепсии… Впрочем, вскоре судороги прошли, и стрелка спидометра медленно и устало начала подползать к отметке «40». Достигнув этой цифры, она так и застряла на ней.
Доехав до пересечения шоссе № 99 с дорогой под названием Девон-Стрим (на протяжении восьми миль последняя служила естественной границей между двумя поселками – Кресчент и Девон), Роки свернул на нее почти неосознанно, хотя в глубинах того, что с натяжкой можно было назвать его подсознанием, возможно, и ворочалось некое смутное воспоминание о старом Вонючем Носке.
С момента окончания работы они с Лео ехали куда глаза глядят. Был последний день июня, и срок, обозначенный в прикрепленной к ветровому стеклу «крайслера» карточке техосмотра, истекал ночью, ровно в 00.01. То есть примерно через четыре часа, нет, уже меньше чем через четыре. Неизбежность этого события воспринималась Роки как-то слишком болезненно. Лео же было наплевать. Все равно не его машина. К тому же выпитого им пива «Айрон-Сити» было достаточно, чтобы привести не только его, а вообще любого человека в состояние глубокого алкогольного ступора.
Дорога Девон петляла и вилась среди густого леса. С обеих сторон вплотную к ней подступали огромные дубы и вязы с пышными раскидистыми кронами. Казалось, они жили какой-то своей жизнью и, по мере того как на юго-запад Пенсильвании надвигалась ночь, все более наполнялись шелестом и движением тени. Место это было известно под названием Леса Девона. Прославилось оно после того, как здесь в 1968-м зверски замучили и убили молоденькую девушку и ее дружка. Парочка имела глупость остановиться в лесу, именно здесь затем и обнаружили «меркурий» 1959 года выпуска, принадлежавший молодому человеку. В машине были сиденья из натуральной кожи, на капоте – блестящая хромированная эмблема. Останки парня и его несчастной подружки обнаружили на заднем сиденье. А также на переднем, в бардачке и багажнике. Убийцу так и не нашли.
– Да фараоны сюда и носа не кажут, – заметил Роки. – На девяносто миль в округе ни одной живой души.
– Хренушки, – сказал Лео. Последнее время это милое словечко все увереннее лидировало в списке его наиболее употребительных выражений – и это при том, что общий словарный запас Лео составлял не более сорока слов. – Ты что, ослеп? Вон там город.
Роки вздохнул и отпил пива из банки. Огоньки, мерцавшие вдали, вовсе не означали, что там находится город. Но что толку спорить с пьяным в стельку парнишкой? То был новый торговый центр. Надо сказать, эти новые натриевые лампы действительно светили ярко. Не отрывая глаз от их молочно-белого сияния, Роки подогнал машину к обочине, к левому краю дороги, резко подал назад, отчего едва не угодил в канаву, и, наконец развернувшись, снова выехал на дорогу.
– Опля! – сказал он.
Лео рыгнул и хихикнул.
Они работали вместе в прачечной «Нью-Адамс» с сентября – именно тогда Лео был нанят Роки в помощники. Молодой, двадцатидвухлетний, с мелкими, как у грызуна, чертами лица, Лео походил на человека, которому в скором будущем светит изрядный срок. Он утверждал, что каждую неделю откладывает из зарплаты по двадцать долларов на покупку подержанного мотоцикла «кавасаки». Говорил, что собирается поехать на нем куда-то на запад, как только наступят холода. Он уже успел сменить мест двенадцать, не меньше, с того времени, когда шестнадцатилетним пареньком навеки распрощался с миром науки. В прачечной ему нравилось. Роки знакомил его с различными приемами стирки, и Лео искренне верил в то, что наконец учится Делу. Делу, которое непременно пригодится ему где-нибудь во Флэгстаффе[40].
Роки, по сравнению с ним чуть ли не старик, работал в «Нью-Адамс» вот уже четырнадцать лет. Об этом красноречиво свидетельствовали руки – бледные, как у призрака, изъеденные щелочью и отбеливателями. В 1970 году он четыре месяца отсидел за хранение незарегистрированного оружия. Жена его, ходившая в ту пору с огромным, безобразно распухшим животом, беременная третьим ребенком, вдруг заявила, что: 1) это не его, Роки, ребенок, а молочника; и 2) она желает с ним развестись по причине жестокого с ней обращения.
Два момента в этой ситуации заставили Роки носить при себе незарегистрированное оружие, а именно: 1) ему наставили рога; и 2) рога эти наставил не кто иной, как гребаный молочник с рыбьими глазками и длинными космами. Этот кретин по имени Спайк Миллиган. Спайк работал в молочной Креймера, в отделе доставки.
Молочник, Господи Боже ты мой!.. Молочник, а как насчет того, чтобы сдохнуть, а? Как насчет того, чтобы брякнуться в вонючую канаву и там отдать концы? Даже самому Роки, не продвинувшемуся в чтении дальше надписей на обертках жвачек, которые он непрестанно и трудолюбиво жевал на работе, ситуация казалась удручающе банальной.
В результате он, в свою очередь, уведомил жену о том, что: 1) никакого развода не будет; и 2) он собирается научить Спайка Миллигана уму-разуму. Лет десять назад он приобрел пистолет 32-го калибра, из которого время от времени постреливал по пустым бутылкам, жестянкам и мелким собачкам. И вот в то утро он вышел из своего дома на Оук-стрит и направился к молочной, где надеялся застать Спайка, закончившего с утренней доставкой.
Но по пути туда Роки заскочил в пивную «Четыре угла» и пропустил пивка – бутылок шесть, восемь, а то и все двадцать. Разве теперь упомнишь?.. Пока он сидел там и пил, жена его позвонила легавым. И они поджидали его на углу Оук-стрит и Бэлфор-авеню. Его обыскали, один из копов вытащил у него из-за пояса брюк пистолет 32-го калибра.
– Думаю, тебе придется сменить обстановку, приятель, – сказал ему легавый, обнаруживший пистолет. Именно это и сделал Роки. Следующие четыре месяца он провел в тюрьме, бесплатно стирая простыни и наволочки на штат Пенсильвания. За это время жена умудрилась получить в Неваде развод и, когда Роки вышел из кутузки, уже жила себе поживала со Спайком Миллиганом на Дейкин-стрит в многоквартирном доме с лужайкой у входа, посреди которой стоял розовый фламинго. Вдобавок к двум старшим ребятишкам (Роки был более или менее уверен, что они от него) парочка обзавелась младенцем с точно такими же, как у папаши, рыбьими глазками. К тому же они получали на него алименты – по пятнадцать долларов в неделю.
– Эй, Роки, что-то мне муторно… – сказал Лео. – Надо бы остановиться и глотнуть водички.
– Сперва талончик на колеса надо получить, – отозвался Роки. – Это самое важное. Какой же это мужчина без нормальных колес?!
– Да ни один нормальный человек не полезет осматривать твою тачку, я же уже сказал!.. А знаешь, у нее и поворотники не работают.
– Мигают, если нажать на тормоза. Любой человек притормаживает на повороте, иначе можно перевернуться.
– И стекло в боковом окошке треснуло.
– Я его опущу.
– А что, если инспектор попросит поднять, перед тем как осматривать машину?
– Я уже сжег за собой мосты, – мрачно и со значением произнес Роки. Он выбросил пустую банку из окна и достал новую. На ней красовался портрет Франко Гарриса. Нет, этим летом компания «Айрон-Сити» явно сделала ставку на поклонников звезд баскетбольной команды «Стилерс». Роки дернул за колечко на крышке. Раздался щелчок, и из отверстия полезла пена.
– Все же жаль, что у меня нет женщины, – произнес вдруг Лео, глядя в темноту и как-то странно улыбаясь.
– Была бы у тебя женщина, и путь на запад, считай, заказан. Главная цель женщины – удержать мужчину от поездки. Так уж они устроены, эти женщины. Это их цель, их миссия. Разве ты сам не говорил мне, что хочешь поехать на запад?
– Да, говорил. И поеду.
– Никогда не поедешь, если заведешь себе бабу, – сказал Роки. – А потом она обязательно тебя бросит. А потом – алименты. Стоит только связаться с бабой, и дело непременно кончится алиментами. Машины куда как лучше… Так что советую держаться машин.
– Только хренушки ее трахнешь, эту твою машину.
– Ну, это как посмотреть… Ничегошеньки ты еще не знаешь, парень! – сказал Роки и усмехнулся.
Леса понемногу отступили. Слева замерцали огоньки, и Роки внезапно ударил по тормозам. Поворотные и габаритные огни загорелись одновременно, что и требовалось доказать. Лео завертелся на сиденье, проливая себе на колени пиво.
– Что? Что такое?
– Вон, гляди, – сказал Роки, – вроде бы я знаю этого парня…
Слева от дороги виднелся ветхий, полуразвалившийся гараж. Рядом – автозаправочная станция «Ситго»[41]. Надпись на фанерном щите гласила:
БОБ. ЗАПРАВКА И РЕМОНТ.
«БОБ ДРИСКОЛЛ». ЧАСТ. СОБСТ.
СХОД-РАЗВАЛ КОЛЕС –
НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.
МЫ ЗАЩИТИМ
ВАШИ ДАННЫЕ БОГОМ ПРАВА
ОТ ПАТРУЛЬНЫХ!
И ниже, уже в самом углу:
СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ № 72
– Но никто в здравом уме… – начал было Лео.
– Это же Бобби Дрисколл! – радостно воскликнул Роки. – Да мы с Бобби Дрисколлом вместе ходили в школу! Дело в шляпе, парень! Можешь считать, нам крупно повезло!..
И он несколько неуверенно съехал с дороги, освещая фарами раскрытую настежь дверь гаража. Выжал сцепление и с ревом подкатил к двери. На пороге возник сутулый мужчина в зеленом комбинезоне. Он отчаянно размахивал руками, делая знак остановиться.
– Эй, Боб! – восторженно взвыл Роки. – Привет, старый алкаш, Вонючий Носок!
И он затормозил у входа в гараж. «Крайслером» овладел очередной приступ эпилепсии, на сей раз уже grand mal[42]. Выхлопная труба выплюнула язычок желтого пламени, затем – облачко вонючего синего дыма. Машина содрогнулась последний раз и благодарно стихла. Лео бросило вперед, и он опять разлил пиво. Роки выключил мотор.
К ним, изрыгая цветистую нецензурную брань и все еще размахивая руками, подбежал Боб Дрисколл.
– …дьявола себе позволяете, сучьи выродки!..
– Бобби! – взвыл Роки. Восторг, испытываемый им в эти секунды, был сравним разве что с оргазмом. – Привет, калоша старая, Вонючий Носок! Чего это ты там лопочешь, дружище?
Боб, близоруко щурясь, пялился в окошко, пытаясь рассмотреть Роки. У него было усталое, изнуренное лицо, большую часть которого прикрывала тень от козырька.
– Да кто ты такой, чтобы обзывать меня Вонючим Носком, а?
– Я! – радостно взвизгнул Роки. – Я это я, онанист ты эдакий! Твой давнишний приятель!
– Кто, черт возьми…
– Да Джонни Рокуэлл, кто же еще! Ты что, ослеп, старый придурок?
– Роки?.. – неуверенно спросил Дрисколл.
– Он самый, сукин ты сын!
– Господи Иисусе… – По лицу Боба медленно и неохотно начала расползаться улыбка. – Мы же с тобой не виделись… э-э-э… почитай с той самой игры в Кэтамаунтсе…
– Точно! А классный был матч, доложу я тебе! – Роки восторженно хлопнул себя по бедру, отчего на пол автомобиля и его брюки снова выплеснулось пиво. Лео икнул.
– Да уж, еще бы… Первый и последний раз, когда наш класс выиграл. Но чемпионат бы так или иначе продули бы, да… Отъезжай от моего гаража, слыхал, Роки? Ты…
– Да-а, все тот же старый Вонючий Носок! Такой же дурачина, ни хрена не изменился.
Роки с некоторым опозданием заглянул под козырек бейсбольной кепки, низко надвинутой на лоб Бобби, – убедиться, что сказанное им правда. Однако оказалось, что Боб Дрисколл, он же Вонючий Носок, облысел, то ли частично, то ли полностью.
– Господи! Ну скажи, правда, здорово, что мы с тобой вот так встретились, а?.. Послушай, а ты все-таки женился на Марси Дью или нет?
– Черт, да, конечно. Еще в семидесятых. Ну а ты где ошивался все это время?
– В тюряге, где же еще! Послушай, старик, можешь посмотреть мою малышку?
Голос Боба снова зазвучал настороженно:
– Ты имеешь в виду твою машину?
Роки хихикнул:
– Нет, мою старую задницу! Ну ясное дело, машину, чего ж еще! Так можешь?
Боб уже приоткрыл рот, собираясь сказать «нет».
– Да, кстати, познакомься. Это мой друг, Лео Эдвардс. Лео, позволь представить, это Боб. Самый классный игрок в бейсбол из школьной команды в Кресченте. За четыре года ни разу не менял носки.
– Очень приятно… – пробормотал Лео, как учила его матушка в те редкие моменты, когда не была пьяна.
Роки снова хихикнул:
– Хочешь пива, старик?
Боб снова открыл было рот, собираясь сказать «нет».
– Вот, гляди-ка, тут такой прикол! – воскликнул Роки и дернул за колечко. Пиво, нагревшееся за время долгого путешествия до гаража Боба Дрисколла, полезло из банки и пролилось Роки на запястье. Роки сунул банку Бобу. Тот, оттопырив локоть, торопливо стал пить, стараясь, чтобы пиво не попало на рукав.
– Роки, мы закрываемся в…
– Да дело-то пустяковое! Всего на секунду, одну секунду! Сейчас покажу. Тут какая-то хренота происходит…
Роки поставил переключатель скоростей на реверс, повернул ключ, надавил на педаль газа и медленно и неуверенно ввел «крайслер» в гараж. А уже через секунду выскочил из машины и стал трясти свободную руку Боба, как какой-нибудь политический деятель. Боб, похоже, оцепенел. Лео сидел в машине и открывал новую банку. И еще – пукал. Он всегда пукал, выпив много пива.
– Эй! – сказал Роки, пробираясь между проржавевшими канистрами. – А Дайану Ракельхаус помнишь?
– Ну ясное дело, еще бы не помнить… – ответил Боб, и на лице его против воли возникла дурацкая улыбка. – С такими большими… – И он, сложив чашечками ладони, приставил их к груди.
– Точно! – взвыл Роки. – Ты меня понял, дружище! Так и живет в городе, да?
– Да нет, вроде бы переехала в…
– Вот так всегда, – удрученно помотал головой Роки. – Те, кто не остается, всегда переезжают. Так ты налепишь карточку к моей маленькой свинке, да?
– Ну-у… это… тут моя жена сказала, что будет ждать меня к ужину… И потом мы закрываемся в…
– Ты б меня здорово выручил, старик! А уж я в долгу не останусь! Хочешь, постираю для твоей половины? Все тряпье в доме, честно. Все ее кружавчики и финтифлюшки. Это ведь моя профессия – стирка. Работаю в прачечной «Нью-Адамс».
– А я у него учусь, – вставил Лео и опять пукнул.
– Перестираю все ее финтифлюшки, все, что только ни пожелает. Ну так как, Бобби?
– Что ж… поглядеть, конечно, можно.
– Ясное дело, – кивнул Роки. Шлепнул Бобби по спине, подмигнул Лео. – А ты, гляжу, все тот же, старина. Что за человек! Чистое золото!
– Ага, – вздохнул Боб, продолжая потягивать пиво из банки. Грязные его пальцы в масляных пятнах целиком закрывали физиономию Джона Грина, красовавшуюся на этикетке. – А ты здорово помял бампер, Роки…
– Вот тебе шанс показать свой класс, Бобби! Эта проклятая машина нуждается в классном мастере. А вообще-то она не что иное, как куча разных там долбаных колесиков и винтиков. Если тебе, конечно, понятно, о чем я.
– Да, думаю, понятно…
– Ну вот, а я что говорю? Эй, а я познакомил тебя с Лео? С парнем, с которым работаю, а?.. Знакомься, Лео, это единственный игрок в бейсбол из…
– Ты уже нас знакомил, – заметил Боб с еле заметной улыбкой отчаяния.
– Как поживаете… – пробурчал Лео. И потянулся за очередной банкой «Айрон-Сити». Перед глазами у него завертелись тонкие серебристые полоски – подобные тем, что вдруг появляются в жаркий полдень на совершенно ясном голубом небе.
– …школы в Кресченте, который четыре года не…
– Фары не покажешь, Роки? – перебил его Бобби.
– Конечно! Просто замечательные фары. То ли с галогенными, то ли нитрогенными, хрен его знает с какими там лампочками! Просто куколки, а не фары! А ну-ка включи эти гребаные метелки, Лео.
Лео включил щетки на ветровом стекле.
– Тут вроде бы все нормально, – добродушно заметил Боб. И отпил большой глоток пива. – Ну а что с фарами?
Лео включил фары.
– Луч повыше можно?
Лео пытался нащупать переключатель левой ступней. Он был уверен, что переключатель находится где-то там, внизу, и в конце концов наткнулся на него. Сноп лучей резко высветил силуэты Роки и Боба, как это порой делают полицейские, освещая место происшествия.
– Ну, что я тебе говорил? Звери, а не фары! – завопил Роки и вдруг захихикал: – Черт побери, Бобби! До чего же я рад повидаться с тобой! Это даже приятнее, чем получить чек по почте!
– А поворотники? – спросил Боб.
Лео таинственно улыбнулся Роки и ничего делать не стал.
– Дай-ка я сам, – сказал Роки. И, пребольно стукнувшись головой о раму, уселся за руль. – Парнишка неважно себя чувствует… – Он надавил на тормоз. Поворотники тут же включились.
– О’кей, – кивнул Боб. – Ну а без тормозов-то они работают?
– А в каком это уставе или законе сказано, что они должны работать сами по себе? – хитро щурясь, спросил Роки.
Боб вздохнул. Жена ждала его к ужину. У нее были большие плоские груди и выбеленные пергидролем волосы с черной полоской у корней. Она питала слабость к сладким пончикам фирмы «Дазн», продукту, которым торговали в местном филиале универсама «Джаент игл». Вечером по четвергам, когда в гараже играли в бинго[43], жена являлась к нему за выигрышем; на голове у нее красовались огромные зеленые бигуди, прикрытые зеленым шифоновым шарфиком. От этого голова напоминала некий футуристический транзисторный приемник. Как-то часа в три ночи Боб проснулся и долго смотрел на пустое бледное лицо, освещенное мертвенным светом, падавшим в окно спальни от уличного фонаря. И подумал: как же все это просто! Надо лишь навалиться на нее сверху, надавить коленом на живот, чтоб из этой жирной туши вышел весь воздух, чтоб она не смогла закричать, выдавить из нее кишки, плотно обхватить руками толстую белую шею и давить, давить… А потом отнести ее в ванную, разрезать на мелкие кусочки и разослать по почте в разные концы света. Ну, к примеру: «Роберту Дрисколлу, до востребования». Или же куда-нибудь еще. В Лиму, Индиану, на Северный полюс, в Нью-Хэмпшир, Пенсильванию, Айову. В любое место… Это так просто! Одному Богу ведомо, как часто это уже происходило.
– Нет, – сказал он Роки. – Сдается мне, нигде не сказано, что они должны работать сами по себе. Это точно… – Он запрокинул банку, и остатки пива вылились ему в рот. В гараже было жарко, он еще не ужинал и почувствовал, как пиво ударило в голову.
– Эй, глядите-ка, а наш мистер Вонючий Носок уже прикончил баночку! – заметил Роки. – А ну, дай ему еще, Лео!
– Нет, Роки, мне, пожалуй…
Лео пошарил в темноте и нашел непочатую банку. Протянул ее Роки. Роки, в свою очередь, сунул ее Бобу, который, ощутив приятно холодящую ладони поверхность, тут же перестал возражать. На банке красовалась ухмыляющаяся физиономия Линна Свэнка. Он открыл банку. Лео отметил это событие радостным пуканьем.
Какое-то время все они дружно сосали пиво из жестянок с изображением знаменитого футболиста.
– А клаксон работает? – осведомился Боб извиняющимся тоном, словно опасался нарушить благоговейную тишину.
– Конечно! – Роки нажал локтем на кружок в центре руля. Клаксон слабо пискнул. – Батарейка немного подсела.
Они снова пили в полном молчании.
– Эта чертова крыса была величиной с кокер-спаниеля! – воскликнул вдруг Лео.
– Он у нас очень внимательный парень, – заметил Роки.
Боб призадумался.
– Да-а… – протянул он наконец.
Почему-то это показалось Роки страшно смешным, и он расхохотался, захлебываясь пивом. Даже из носа потекло пиво, и тут уже настал черед Боба смеяться. Роки очень обрадовался, услышав этот смех, потому как вначале Боб показался каким-то уж очень угнетенным и грустным, словно его огрели пыльным мешком по голове.
Еще какое-то время они пили молча.
– Дайана Ракельхаус… – вдруг мечтательно произнес Боб.
Роки фыркнул.
Боб ухмыльнулся и приложил сложенные чашечкой ладони к груди.
Роки расхохотался и приложил свои – только побольше оттопырив.
Боб так и покатился со смеху.
– А помнишь снимок Урсулы Андресс? Ну, который Тинкер Джонсон приколол к доске объявлений старухи Фримэнтл?
Роки так и взвыл от смеха.
– И еще пририсовал к каждой сиське по такому здоровенному воздушному шару…
– А ее чуть инфаркт не хватил…
– Вам, конечно, смешно… – печально заметил Лео и пукнул.
Боб моргал, уставившись на него.
– Чего?
– Вам-то смешно, – сказал Лео. – Вам двоим есть над чем посмеяться. Еще бы! Ведь дырки в спине у вас нет.
– Да не слушай ты его! – сказал Роки. Голос звучал немного нервно. – Малость зациклился парень, вот и все.
– Так у тебя что, правда дырка в спине? – спросил у Лео Боб.
– Это все прачечная, – улыбнулся тот. – У нас там такие здоровущие барабаны, смекаешь? Только мы называем их колесами. Они крутят белье. Вот почему мы называем их колесами. Я их загружаю, потом разгружаю, потом заряжаю по новой. Сую в них всякое грязное дерьмо, а вынимаю чистое. Вот что я делаю, и делаю это классно. – Он взглянул на Боба, в глазах его мерцал огонек безумия. – И от этого у меня дырка в спине образовалась.
– Да-а?.. – протянул Боб, глядя на Лео, точно завороженный.
Роки беспокойно переступил с ноги на ногу.
– Там в крыше дырка, – сказал Лео. – Аккурат над третьим колесом. Они круглые и крутятся, вот почему мы называем их колесами. И когда идет дождь, в дыру попадает вода. Кап-кап-кап… И каждая капелька лупит меня по спине – пах-пах-пах! И от этого в спине тоже получилась дырка. Вот примерно такая. – Он сложил ладонь лодочкой. – Хочешь глянуть?
– К чему это ему глазеть на разные там уродства! – рявкнул Роки. – Мы вспоминали старые добрые времена, и нечего его расстраивать! И потом, никакой дырки у тебя в спине все равно нет!
– Нет, я хочу посмотреть, – сказал Боб.
– Они круглые, поэтому мы их так называем, – пробормотал Лео.
Роки улыбнулся и похлопал его по плечу:
– Хватит об этом, дружище! Иначе отправишься домой пешком! А теперь почему бы тебе не достать моего тезку, вон оттуда, слева от тебя?
Лео заглянул в коробку, потом передал Роки банку с портретом Роки Блайера.
– Вот это другое дело! – К Роки вновь вернулось хорошее настроение.
Коробку пива прикончили примерно через час, и Роки стал уговаривать пьяного в дым Лео сбегать в супермаркет «Паулин» за добавкой. К этому времени глаза у Лео стали красными, как у хорька, рубашка на груди была расстегнута. Сосредоточенно и близоруко щурясь, он безрезультатно пытался достать пачку сигарет «Кэмел» из закатанного рукава рубашки. Боб пошел под душ – пописать – и распевал там школьный гимн.
– А я… не хочу туда идти… – заплетающимся языком пробормотал Лео.
– Да, но ведь и на машине ты тоже не сможешь поехать! Ты ж в задницу пьяный!
Лео описывал вокруг него круги, все еще пытаясь достать сигареты.
– И потом… темно. И холодно…
– Так ты хочешь получить талончик на эту машину или нет? – злобно прошипел Роки. Ему уже начали мерещиться какие-то странные вещи. Наиболее часто посещало видение огромного жука – запутавшись в паутине, он сидел в дальнем углу гаража.
Лео поднял на него кроваво-красные глаза.
– А это не моя машина, – заметил он неожиданно рассудительно и трезво и выдавил смешок.
– Ну раз так, стало быть, тебе больше в ней не ездить! Если, конечно, не пойдешь за пивом… – сказал Роки. И со страхом покосился на мертвого жука в углу. – Только попробуй мне не пойти! Увидишь, я не шучу!
– Ладно, ладно, – пропищал Лео. – Пойду, и нечего тут заводиться!
Не успев дойти до угла, он дважды угодил в канаву и еще один раз – на обратном пути. И когда наконец вернулся в теплый и ярко освещенный гараж, обнаружил, что оба его собутыльника распевают школьный гимн. С помощью какого-то крюка со шкивом Боб умудрился приподнять «крайслер». И теперь расхаживал под ним, задрав голову и разглядывая пропыленные и проржавевшие внутренности машины.
– А знаешь, у тебя в выхлопной трубе дырка, – заметил он.
– Да откуда там взяться выхлопной трубе? – удивился Роки.
Обоим это почему-то показалось страшно смешным, и они заржали.
– Пиво! – объявил Лео, с грохотом поставил коробку на пол, присел на обод колеса и тут же впал в полузабытье. На обратном пути он выпил три банки пива, чтобы идти было веселее.
Роки протянул Бобу пиво, себе тоже взял.
– Ну что, наперегонки? Как в старые добрые времена, а?
– Само собой, – кивнул Боб и улыбнулся. В воображении он видел себя втиснутым в кабину низко стелющейся над землей гоночной машины. Одна рука уверенно лежит на руле, и сам он, классный гонщик, ждет взмаха флажком. Пальцы другой руки касаются талисмана – металлической эмблемы, снятой с капота «меркурия» 1959 года выпуска. Он напрочь позабыл о Роки, о своей распухшей от обжорства жене с транзисторными кудряшками и вообще обо всем.
Они открыли банки и, пыхтя и отдуваясь, стали пить. Одновременно оба бросили пустые банки на растрескавшийся бетонный пол. Оба в одну и ту же секунду подняли средние пальцы. В животах заурчало – так громко, что казалось, эхо отлетает от стен, напоминая звуки автоматной очереди.
– Прямо как в старые добрые времена, – сказал Боб, и голос его звучал печально. – Ничто не может сравниться со старыми добрыми временами…
– Знаю, – кивнул Роки, пытаясь подыскать какие-нибудь особенные, приличествующие случаю слова, и нашел их: – Мы с каждым днем стареем, приятель.
Боб вздохнул и рыгнул. Сидевший в уголке Лео проснулся и в который уже раз пукнул. И принялся напевать «Сойди с моего облака».
– Ну что, еще по одной? – спросил Роки и протянул Бобу очередную банку пива.
– Что ж, можно, – ответил Боб. – Можно, Роки, дружище, отчего нет…
Коробку, которую принес Лео, прикончили к полуночи. А за ветровым стеклом слева от Роки появилась новенькая карточка техосмотра, расположившаяся под каким-то пьяным углом. Роки заполнил ее сам, медленно и аккуратно переписывая цифры с потрепанной и засаленной регистрационной карточки, которую долго искал и наконец нашел в бардачке. Дело двигалось медленно, потому что в глазах троилось. Боб сидел на полу, скрестив ноги, словно йог, и поставив между ступнями наполовину пустую банку «Айрон-Сити». Сидел, напряженно и пристально устремив взор в никуда.
– Знаешь, ты мне просто жизнь спас, Боб, – сказал Роки и пнул Лео в ребра, чтобы тот проснулся.
Лео застонал и повалился набок. Веки его дрогнули, приоткрылись, закрылись, потом снова открылись – уже широко, когда Роки пнул его ногой второй раз.
– Мы чего, уже дома, Роки? Мы…
– Не буди мою крошку, Бобби! – радостно пропел Роки. Впился пальцами в рукав Лео и рывком поднял его на ноги. Лео взвыл. Роки поволок его к «крайслеру», запихнул на заднее сиденье. – Ладно, как-нибудь еще заедем, посмотришь ее…
– Славные были денечки… – пробормотал Боб. В глазах его стояли слезы. – С тех пор с каждым днем все становится только хуже и хуже. Ты замечал?
– Еще бы! – кивнул Роки. – Все переделывается, перестраивается. Все перегадили, сукины дети! Но ничего… Держи хвост пистолетом, дружище. И не позволяй никому…
– Да мне жена не дает вот уже года полтора, – пожаловался Боб. Но слова его тут же заглушил кашель мотора. Боб поднялся и смотрел, как «крайслер» выезжает из гаража, цепляя сложенные слева от двери поленья и прутья.
Лео высунулся из окна, на лице его сияла блаженная улыбка идиота.
– Заезжай как-нибудь в прачечную, водило! Покажу тебе дырку в спине! Покажу колеса! Покажу… – Тут внезапно в окошке, словно в каком-то фарсе, мелькнула рука Роки, схватила Лео за шкирку и втянула в салон.
– Пока, приятель! – крикнул Роки.
«Крайслер» пьяно покрутился по двору, объезжая колонки для подачи бензина, затем унесся в ночь. Боб провожал его взглядом до тех пор, пока хвостовые огни не уменьшились и не превратились в две крохотные точки, затем побрел обратно в гараж. На заваленном разным хламом верстаке лежала хромированная эмблема от какой-то старой машины. Он взял ее, начал вертеть в руках, играть с ней, и на глазах снова выступили слезы. Старые добрые времена! Позднее, той же ночью, где-то в четвертом часу, он удавил жену и спалил дом, чтоб все выглядело как несчастный случай.
– Господи! – пробормотал Роки, покосившись в боковое зеркальце. Гараж Боба съежился, уменьшился, превратился в пятнышко белого света, мерцающего в ночи. – Ну как это тебе нравится? Старина Вонючий Носок, да… – Роки достиг той степени опьянения, когда человек уже не ощущает себя. От него ничего не осталось – лишь маленькая искорка, еле тлеющий в замутненном сознании уголек здравого смысла.
Лео не ответил. В тусклом бледно-зеленом свете, отбрасываемом приборной доской, он походил на мышонка-соню, приглашенного Алисой на чай из Зазеркалья.
– Здорово его жизнь потрепала, – продолжал Роки. Какое-то время он ехал по встречной полосе, затем «крайслер» стало заносить в сторону. – Старик вырубился. Для тебя это хорошо. Наверняка завтра не вспомнит, что ты ему наболтал. А то все могло бы сложиться иначе… Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не смел заикаться об этой дурацкой дыре в спине?
– Но ведь ты знаешь, что она у меня есть.
– Ну и что с того?
– Так это моя дыра, вот что. А стало быть, я могу говорить о ней сколько… – Внезапно он умолк и обернулся. – Послушай, там позади грузовик. Только что отъехал от обочины. Фары выключены.
Роки посмотрел в зеркало заднего вида. Да, действительно, грузовик… Очертания просматривались довольно четко. Ему не понадобилось даже читать надпись на борту – «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕЙМЕРА». Он уже понял, кто это.
– Это Спайк!.. – в ужасе прошептал Роки. – Спайк Миллиган! Господи, а я-то, дурак, думал, он занимается только утренней доставкой!
– Кто?
Роки не ответил. Губы расплылись в злобной пьяной ухмылке. Но глаза не улыбались. Расширенные, красные, они неотрывно смотрели на дорогу.
Внезапно он утопил педаль газа, и «крайслер», изрыгнув облачко синего дыма, нехотя стал набирать скорость. Стрелка спидометра подползла к отметке «60».
– Эй! Ты слишком пьяный, чтоб так гнать! Ты… – Тут Лео умолк, словно потерял нить мысли.
Мимо пролетали дома и деревья. На перекрестке они промчались на красный свет. На большой скорости преодолели подъем. Слетели с него – глушитель на низкой подвеске выбил из асфальта сноп искр. Сзади, в багажнике, звякали и тарахтели пустые банки. Физиономии игроков «Питтсбург стилерс» катались по салону, то попадая на свет, то снова проваливаясь в темноту.
– Я пошутил! – испуганно взвизгнул Лео. – Не было там никакого грузовика!
– Это он! И он убивает людей! – крикнул Роки. – Я видел в гараже жука! Черт!..
Машина с ревом поднималась на Южный холм по встречной полосе. Какой-то пикап, мчавшийся прямо навстречу, в последнюю секунду вильнул и угодил в канаву, чтобы избежать столкновения. Лео обернулся. Дорога была пуста.
– Роки…
– А ну-ка, Спайк, попробуй догони меня! – завопил Роки. – Попробуй достань!..
«Крайслер» мчался со скоростью восемьдесят миль в час – в более трезвом состоянии Роки не поверил бы, что такое возможно. У Джонсон-Флэт был крутой поворот, и машина преодолела его – из-под колес с лысой резиной показался дымок. «Крайслер» пронзал ночь, словно призрак, прыгающий свет фар высвечивал пустую дорогу впереди.
Внезапно откуда-то из темноты с ревом вынырнул «меркурий» 1959 года выпуска. Он мчался по разделительной полосе. Роки вскрикнул и закрыл лицо руками. А Лео успел заметить лишь одно: на капоте «меркурия» не хватает металлической эмблемы…
Позади, в полумиле от места аварии, на перекрестке мигал желтый огонек. Грузовик с надписью «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕЙМЕРА» послушно сбросил скорость. Затем снова начал набирать ее, приближаясь к тому месту, где посреди дороги к небу вздымался столб пламени и чернела искореженная груда металла. Ехал он не спеша. С запачканного засохшей кровью крюка для мясных туш, вделанного в потолок кабины, свисал на ремешке из кожзаменителя маленький транзисторный приемник. Из него лились звуки блюза.
– Ну вот, – сказал Спайк. – А теперь поедем к дому Боба Дрисколла. Он думает, что в гараже у него остался бензин, но я вовсе не уверен. Очень долгий был день, верно? Ты согласен? – Но, обернувшись, он заметил, что в грузовике совсем пусто. Даже жук исчез.
Бабуля
[44]
Мама Джорджа подошла к двери, помедлила секунду, потом вернулась и взъерошила сыну волосы.
– Мне бы не хотелось… чтоб ты волновался, – сказала она. – Ничего страшного с тобой не случится. С бабулей – тоже.
– Конечно. Все о’кей. Передай Бадди, чтоб лежал смирно.
– Прости, не поняла?..
Джордж улыбнулся:
– Чтоб лежал смирно. Не дергался.
– О… очень смешно… – Она ответила ему улыбкой, отвлеченной и рассеянной, обращенной как бы ко всем сразу и ни к кому в отдельности. – А ты уверен, Джордж…
– Я буду в порядке.
Уверен в чем? В том, что не боится остаться с бабулей? Именно об этом хотела она спросить?
Если да, то ответ был отрицательный. В конце концов ему сейчас уже не шесть лет, как тогда, когда они только приехали в Майн ухаживать за бабулей и он всякий раз плакал от страха, когда она протягивала к нему свои толстенные ручищи. Бабуля сидела в белом, обтянутом винилом кресле, от него вечно пахло яйцами всмятку, которые она поедала, и сладковатой белой присыпкой, которую мама втирала в ее дряблую, морщинистую кожу. Итак, она протягивала свои белые слоновьи руки, прося, чтоб он подошел к ней, чтоб она могла прижать внука к огромному и распухшему слоноподобному телу. Бадди как-то подошел к ней. Бабуля заключила его в слепые объятия, и Бадди, как ни странно, остался жив… Но ведь Бадди был на два года старше.
Теперь же брат сломал ногу и находился в травматологическом отделении городской больницы Льюистона.
– У тебя есть телефон врача. На всякий непредвиденный случай. Но ничего такого не произойдет. Ведь так?
– Конечно, – ответил он и сглотнул сухой ком в горле. И выдавил улыбку. Интересно, получилась она или нет? Ну конечно же, получилась! И вообще все нормально, все о’кей. Он уже не боится бабули. Да и потом, ведь он уже вышел из шестилетнего возраста, верно? И мама может спокойно ехать в больницу в Льюистон навестить Бадди, а он спокойно останется дома и побудет с бабулей. Без проблем.
Мама снова подошла к двери, помедлила и снова вернулась, улыбаясь отрешенной, обращенной ко всем вообще и ни к кому в частности улыбкой.
– Если она вдруг проснется и попросит чаю…
– Знаю, – кивнул Джордж. Он прекрасно видел, как взволнована и напугана мать, сколько бы она там ни притворялась, маскируясь своей улыбкой. Она беспокоилась о Бадди. Ох уж этот Бадди и его идиотская «Лига любителей пони»! Позвонил тренер и сказал, что Бадди получил травму во время командных соревнований на призовой кубок. Джордж узнал об этом (он только что вернулся из школы и сидел за столом на кухне, поедая печенье и запивая его шоколадным напитком «Несквик»), когда мать, прижимая трубку к уху, вдруг тихо ахнула и сказала: «Бадди? Травму? Серьезную?..» – Да знаю я, мам, знаю. Все усек. Вызубрил до седьмого пота. Давай езжай.
– Умница, хороший мальчик, Джордж. И ничего не бойся. Ты ведь больше не боишься бабули, верно?
– Не-а… – протянул Джордж. И улыбнулся. Прекрасная улыбка, улыбка человека, который все усек, вызубрил до седьмого пота, улыбка парня, который уже давно вышел из шестилетнего возраста. Он сглотнул слюну. Просто потрясающая улыбка. Но за ней – пересохший от волнения рот и ком в горле. Словно это самое горло выстлали жесткой колючей шерстью. – И передай Бадди: мне очень жаль, что он сломал ногу.
– Обязательно, – сказала она и снова направилась к двери. Через окно пробивался солнечный свет. Начало пятого. – Слава Богу, что у нас есть спортивная страховка, Джордж. Не знаю, что бы мы без нее делали…
– И еще передай, что в следующий раз он обязательно выбьет этих сосунков из седла.
Мама опять улыбнулась отрешенной улыбкой. Улыбкой женщины за пятьдесят, которая в одиночестве растила двоих поздних сыновей – старшему тринадцать, младшему одиннадцать. Но на этот раз она наконец распахнула дверь, и в комнату ворвался шепот прохладного октябрьского ветра.
– И помни, телефон доктора Арлиндера…
– Помню, мама, – ответил он. – Тебе давно пора, иначе его ногу…
– Она наверняка будет все время спать, – сказала мама. – Я люблю тебя, Джордж. Ты хороший, славный мальчик… – И с этими словами она затворила за собой дверь.
Джордж подошел к окну и смотрел, как она, вынимая ключи из сумочки, торопливо идет к старенькому «доджу» 1969 года выпуска, пожиравшему несметное количество бензина и масла. Теперь, когда она уже вышла из дома, не зная, что Джордж наблюдает за ней, отрешенная улыбка покинула лицо и мама выглядела совсем несчастной и потерянной. Потерянной и еще сходившей с ума от волнения за Бадди. Джорджу было жалко мать, но ее чувств к Бадди он не разделял. К Бадди, который любил, сбив брата с ног, усесться на него верхом, придавить коленями плечи и колотить Джорджа ложкой по лбу до тех пор, пока несчастный буквально не начинал сходить с ума (Бадди называл это «варварской китайской пыткой ложкой», страшно хохотал во время всего действа и доводил Джорджа до слез). Бадди применял к нему и «индейскую пытку веревкой», затягивая узел на руке брата до тех пор, пока не проступали крохотные капельки крови – словно роса на травинках под утро. К Бадди, который с таким сочувствием и пониманием внимал Джорджу, когда однажды ночью в спальне тот поделился с ним страшной тайной, признался, что неравнодушен к Хитер Макардл. На следующее же утро Бадди бегал по школьному двору и пронзительным, словно пожарная сирена, голосом выкрикивал: «ДЖОРДЖ И ХИТЕР НА ДЕРЕВЕ СИДЕЛИ! СИДЕЛИ И ПЕЛИ, СИДЕЛИ И ПЕЛИ! ТАМ, ГДЕ ЛЮБОВЬ, ПОРА ПОД ВЕНЕЦ! А ТАМ И НАШ ДЖОРДЖИ – СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ!» И никакие сломанные ноги не способны надолго вывести из строя старших братьев, подобных Бадди. Правда, на небольшую передышку Джордж все же мог рассчитывать. Посмотрим, как это у тебя получится, устроить мне китайскую пытку ложкой со сломанной ногой, Бадди! Валяй, малыш, действуй, я к твоим услугам!
«Додж» выехал со двора и остановился. Мать поглядела сначала в одну, потом – в другую сторону. Хотя проверять, не едет ли кто, совершенно бесполезно – здесь никогда никто не проезжал. Мили две матери предстояло проехать по совершенно разбитой, ухабистой дороге, а затем – еще девятнадцать миль уже по шоссе, до Льюистона.
Наконец машина тронулась с места и скрылась из виду. С минуту в воздухе висело облачко пыли, затем оно стало рассеиваться.
Он остался в доме один.
С бабулей.
Джордж нервно сглотнул слюну.
Все усек. Вызубрил до седьмого пота. Пусть себе лежит смирно. Верно?..
– Верно, – сказал Джордж вслух низким осипшим голосом и прошелся по тесной залитой солнечными лучами кухне. Светловолосый симпатичный мальчик с россыпью веснушек на носу и щеках и темно-серыми умными и добрыми глазами.
Несчастный случай с Бадди произошел во время командных соревнований в «Лиге любителей пони» 5 октября, а двумя неделями раньше команда молокососов Джорджа под названием «Тигры» потерпела сокрушительное поражение и в первый же день выбыла из соревнований (Джордж со слезами на глазах шел с поля, а брат, вышагивая рядом, восклицал: «Что за команда! Сопливый детский сад! Шайка СЛЮНТЯЕВ!»). И вот теперь Бадди сломал ногу. И если бы не волнение и испуг мамы, Джордж был бы почти счастлив.
На стене висел телефон, рядом с ним – специальная дощечка для записей с болтающимся на шнурке жирным карандашом. В верхнем углу дощечки красовалась веселая и добродушная деревенская бабуля с розовыми щечками и белыми волосами, собранными в пучок. Картонная бабуля указывала пальцем на доску. Из весело улыбающегося рта вылетал продолговатый шар, а внутри его было написано: ЗАПОМНИ, СЫНОК! И ниже на доске размашистым почерком матери было выведено имя доктора Арлиндера и его номер телефона: 681-4330. Мать записала его не сегодня и не потому, что ей срочно понадобилось ехать к Бадди; номер висел здесь вот уже недели три, потому что у бабули снова начались «приступы».
Джордж снял трубку и прислушался.
– …ну, я и говорю ей: «Послушай, Мейбл, если он обращается с тобой, как с какой-то…»
Он повесил трубку. Генриетта Додд. Генриетта вечно висела на телефоне, и если дело происходило днем, то фоном для ее болтовни были бесконечные диалоги из мыльных опер. Как-то вечером она выпила с бабулей по стакану вина (кстати, именно с тех пор и начались «приступы», и доктор Арлиндер сказал, что бабуле ни в коем случае нельзя давать вина на ночь, да и маме его пить тоже не следует, – Джордж тогда очень расстроился, потому что, выпив вина, мать становилась веселой, все время хихикала и рассказывала разные занятные истории из своего детства), так вот, после этого мама сказала, что стоит Генриетте Додд еще раз раскрыть рот, и она выпустит ей кишки. Бадди и Джордж дико хохотали, а мать, спохватившись, тут же прикрыла ладошкой рот, а потом сказала: «Только никогда никому не рассказывайте, ЯСНО?», а потом вдруг тоже начала смеяться. И они втроем сидели за кухонным столом и хохотали; этот шум разбудил бабулю, и она вдруг начала кричать: «Рут! Рут! Р-У-У-У-Т!» своим пронзительным, визгливым голосом, и мама тут же перестала смеяться и побежала к ней в комнату.
Сегодня Генриетта Додд могла болтать по телефону что угодно и сколько заблагорассудится, Джорджу было плевать. Он просто хотел убедиться, что телефон работает. Две недели назад была страшная гроза, и с тех пор он время от времени отключался.
Он поймал себя на том, что внимательно разглядывает картонную бабушку. Интересно, на что это похоже – иметь вот такую, румяную и улыбчивую бабулю?.. Его бабуля была огромной, толстой и слепой, к тому же она в последнее время сильно одряхлела от гипертонии. Порой, когда у нее случались «приступы», она, по выражению матери, превращалась в сущую мегеру. Кричала, звала людей, которых не могло быть рядом, вела бесконечные беседы сама с собой, бормотала какие-то бессвязные, бессмысленные слова. Однажды, во время последнего, совсем недавнего приступа, мама слушала все это, потом вдруг побелела как полотно, ворвалась к ней в комнату и стала кричать, чтоб она заткнулась, заткнулась, заткнулась! Джордж очень хорошо запомнил этот случай. Не только потому, что впервые услышал, как мать кричит на бабушку, но потому, что на следующий день вдруг выяснилось, что кладбище «Березки» на Мапл-Шугар-роуд подверглось акту вандализма – многие могильные плиты были вывернуты, старинные, девятнадцатого века, ворота повалены, и то ли одна, то ли две могилы вскрыты. Осквернение – вот как выразился по этому поводу мистер Бердон, директор школы, собрав на следующий день учеников всех восьми классов. И прочел им лекцию на тему, что есть «злостное хулиганство», объяснив, что многие выходки «вовсе нельзя считать смешными». Возвратившись в тот вечер домой, Джордж спросил брата, что означает это слово – осквернение. И Бадди объяснил, что так говорят, когда кто-нибудь раскапывает могилу, а потом писает на крышку гроба, но Джордж ему почему-то не поверил. До тех пор, пока не настала ночь. И комната не погрузилась в полную тьму…
Во время «приступов» бабуля сильно шумела, но большую часть времени просто лежала в постели (вот уже три года как она не вставала с нее) – толстая, неподвижная, похожая на ожиревшую улитку, в специальных подгузниках под фланелевой ночной рубашкой, лицо изрыто трещинками и морщинами, глаза пустые, невидящие, мутно-синие зрачки плавают на пожелтевшей роговой оболочке.
Нет, сначала бабуля еще что-то видела. Но слепота прогрессировала, и ее приходилось подхватывать с двух сторон под локотки, чтоб помочь подняться из белого винилового, пахнущего яйцом и детской присыпкой кресла, и препровождать в туалет или к постели. Уже тогда, пять лет назад, бабуля весила свыше двухсот фунтов.
Она протягивала руки, и Бадди, тогда восьмилетний, подбегал к ней. А Джордж всякий раз отскакивал в сторону и начинал плакать.
Но теперь я ее не боюсь, твердил он про себя, расхаживая по кухне. Ни капельки не боюсь. Она просто старуха, у которой иногда бывают «приступы».
Он наполнил чайник водой и поставил на слабый огонь. Достал чашку, опустил в нее пакетик с травяным чаем. На тот случай, если бабуля вдруг проснется и захочет пить. Он от души надеялся, что этого не произойдет, иначе придется подойти к ее высокой специальной больничной кровати, присесть рядом и поить ее чаем по глоточку, следя за тем, как раскрывается беззубый рот, как смыкаются дряблые губы на ободке чашки, слушать противный булькающий звук, с которым она проталкивала чай в свои влажные отмирающие кишки. Иногда она скатывалась к самому краю кровати, приходилось отодвигать ее обратно, и плоть ее казалась такой мягкой на ощупь, даже какой-то жидкой, словно тело было наполнено теплой водой, а слепые глаза так и сверлили тебя…
Джордж облизал губы и снова подошел к кухонному столу. На тарелке лежало последнее печенье, рядом – недопитый стакан «Несквика», но ему уже не хотелось ни есть, ни пить. И на учебники в пестрых пластиковых обложках он тоже смотрел безо всякого энтузиазма.
Он должен пойти и проверить, как она там.
Ему не хотелось.
Он сглотнул слюну и снова почувствовал – горло словно выстлано жесткой колючей шерстью.
Я не боюсь бабулю, подумал он. И если даже она протянет руки, возьму и подойду, вот так. И позволю ей обнять себя. Пусть. Жалко, что ли? Ведь бабуля – всего лишь старуха. Старая больная женщина, и от этого у нее «приступы». Вот и все. Пусть себе обнимает. Ни за что не заплачу. Как Бадди.
Он пересек короткий коридорчик, из которого открывалась дверь в комнату бабули. Губы плотно сжаты, так плотно, что даже побелели. Заглянул и увидел: вон она лежит, его бабуля. Желто-белые волосы разбросаны по подушке и напоминают корону. Спит… Беззубый рот открыт, челюсть отвисла, грудь под покрывалом поднимается так тихо и медленно, что почти незаметно. Надо очень долго смотреть на нее, чтобы понять, что она не умерла.
О Господи! А что, если она умрет, пока мама в больнице?..
Нет, не умрет. Она не умрет.
Но все-таки, если?..
Ни за что не умрет, и довольно этого слюнтяйства!
Внезапно одна из бабулиных желтых, словно подтаявших, рук шевельнулась. Медленно поползла по покрывалу, длинные ногти издавали еле слышный скребущий звук. Джордж отпрянул, сердце его колотилось.
Спокойно, малыш, ничего страшного… Ведь она лежит, больше не встает.
Он вернулся на кухню посмотреть, сколько уже отсутствует мать. Час… а может, даже и все полтора. Если последнее, то есть все основания ожидать скорого ее возвращения. Джордж взглянул на часы и с изумлением увидел, что со времени ее отъезда едва прошло двадцать минут. Мама еще и до города не доехала, не говоря уже об обратном пути! Он стоял неподвижно, прислушиваясь к царившей в доме тишине, затем начал различать совсем слабые, еле слышные звуки: урчание холодильника, тиканье настенных электрических часов, шелест легкого бриза, огибавшего углы дома. А затем – уже совсем едва различимый звук, с которым ногти скребли по ткани. Это морщинистые и толстые бабулины руки ползли по одеялу…
Единым духом он выпалил про себя короткую молитву:
ПожалуйстаГосподисделайтакчтобыонанепроснуласьраньшемаминоговозвращения. ПрошуТебяГосподиАминь.
Затем сел к столу, доел печенье и допил шоколадный напиток «Несквик». Подумал, может, включить телевизор и посмотреть что-нибудь, но затем решил, что звук может разбудить бабулю и она начнет кричать. Кричать высоким, дребезжащим, пронзительным, требовательным голосом: «Р-У-У-У-Т! ЧА-Ю! Ч-А-А-АЮ! РУ-У-У-УТ!»
Джордж облизал шершавым языком пересохшие губы и мысленно приказал себе не быть слюнтяем. Она всего лишь больная, прикованная к постели старуха. Она просто не в состоянии встать и причинить ему вред. Да ей уже целых восемьдесят три, и она не умрет сегодня, нет, не умрет.
Джордж снова подошел к телефону и снял трубку.
– …в тот же день! А она и понятия не имела, что он женится, представляешь, Корри? Просто ненавижу этих дешевых интриганов, которые воображают, что всех на свете перехитрили! Вот я и говорю ей…
Джордж понял: Генриетта беседует со своей подругой Корой Симард. Генриетта висела на телефоне большую часть дня, примерно с часу до шести, и фоном для ее трескотни служили теледиалоги из бесконечных сериалов: сначала «Надежда Райана», затем «Жизнь дается одна», потом «Все мои дети», после него «А Земля продолжает вертеться», «В поисках завтра» и далее, в том же духе и без перерыва. А Кора Симард была одной из наиболее постоянных и преданных ее телефонных собеседниц. И говорили они буквально обо всем: 1) когда, где и кем устраивается очередная тапперуэровская вечеринка[45] и чем на ней будут угощать; 2) как много развелось нынче разных дешевых интриганов; 3) кто, что и кому сказал: 3а) в грейндже[46], 3б) на ежемесячной благотворительной церковной распродаже и 3в) в танцевальном зале «Бино».
– …что если я еще раз застану ее в таком виде, то, будьте уверены, выполню свой гражданский долг и позвоню в…
Джордж опустил трубку на рычаг. Проходя мимо дома, где жила Кора, они вечно посмеивались над ней, как и другие ребятишки, – Кора была толстуха, неряха и страшная сплетница. И дразнили ее, распевая: Кора-Кора из Бора-Бора, ела собачье дерьмо у забора! Съела, дурашка, собачью какашку и завернула добавку в бумажку! Да мама бы просто убила их, узнай об этом! Но теперь Джордж был даже рад тому обстоятельству, что они с Генриеттой висят на телефоне. Да пусть хоть весь день треплются, ему-то что! Лично он ничего не имел против Коры. Как-то раз, пробегая мимо ее дома, он упал и сильно разбил коленку. Бадди тут же принялся дразнить его, а Кора вышла из дома, залепила рану пластырем и угостила их с братом печеньем, правда, при этом болтая без умолку. И Джордж всякий раз испытывал чувство неловкости, даже стыда, распевая песенку о собачьем дерьме и всем таком прочем.
Джордж подошел к буфету и взял с него книжку для домашнего чтения. Подержал секунду, затем положил обратно. Он уже прочел в ней все рассказы, хотя занятия в школе начались месяц назад. Он читал куда больше и лучше брата, хотя Бадди, несомненно, был сильнее в спорте. Ну, на время со спортом ему придется расстаться, почти весело и не без злорадства подумал Джордж. Уж какой там спорт, со сломанной-то ногой…
Он взял учебник по истории, уселся за кухонный стол и начал читать о том, как корнуольцы проиграли сражение при Йорке[47]. Но мысли его были далеко. Он встал и снова подошел к двери в коридоре. Желтая рука была неподвижна. Бабуля спала, лицо серым грязным пятном выделялось на подушке, заходящее солнце золотило корону желто-седых волос. На взгляд Джорджа, она вовсе не походила в этот момент на состарившегося и готового умереть человека. Нет. Она не выглядела умиротворенной, как закат. Она выглядела безумной и…
(и опасной)
…да, и еще опасной – как опасна спящая в берлоге старая медведица, всегда готовая нанести удар когтистой лапой.
Джордж хорошо помнил, как они переехали в Касл-Рок ухаживать за бабулей, когда умер дедушка. До того мать работала в прачечной, а жили они в Стрэтфорде, штат Коннектикут. Дедушка был года на три-четыре моложе бабули, занимался плотницким делом и проработал до самого дня своей смерти. Умер он от сердечного приступа.
Уже тогда бабуля выглядела совсем дряхлой и у нее начались «приступы». Для всей семьи бабуля всегда была настоящим испытанием. Женщина вулканического темперамента, она лет пятнадцать преподавала в школе, а в перерывах рожала детей и воевала с кальвинистской церковью, куда ходили они с дедулей и их девятеро детей. Мама говорила, что в конце концов дедуля с бабулей вышли из этой религиозной общины и переехали в Скарборо – случилось это примерно в то же время, когда бабуля решила покончить с преподавательской деятельностью. Но однажды, с год назад, к ним приехала погостить из Солт-Лейк-Сити тетушка Фло. И Джордж с Бадди через печную заслонку подслушали их разговор. Засиделись женщины допоздна, и по некоторым их фразам стало ясно нечто совершенно иное. Оказывается, дедушку с бабушкой изгнали из церкви, а бабулю вдобавок уволили с работы за какую-то провинность. За какую-то историю, связанную с книгами. Джордж не понимал, как и почему человека могут уволить с работы и даже изгнать из церкви из-за книг, и, когда братья тихонько улеглись в свои кроватки, спросил об этом Бадди.
«Книги бывают разные, сеньор El Stupido[48]», – шепнул Бадди.
«Да, но какие?»
«Откуда мне знать? Давай спи!»
Тишина. Джордж обдумывал услышанное.
«Бадди?»
«Что?» – Голос брата звучал раздраженно.
«А почему тогда мама сказала, что бабушка сама ушла с работы и из церкви?»
«Из-за скелета в шкафу[49], вот почему! Будешь ты спать наконец или нет?»
Но Джордж долго не мог уснуть. Он лежал в кровати, а его взгляд что-то так и притягивало к дверце стенного шкафа, смутно белеющей в темноте, и решал, что будет делать, если дверца вдруг распахнется и там, внутри, окажется скелет с ухмылкой-оскалом из длинных желтых зубов, темными провалами глазниц и ребрами, напоминающими клетку для попугая. А блеклый лунный свет будет скользить по этим костям, придавая им голубоватый оттенок. Что имел в виду Бадди, говоря о скелете в шкафу? И при чем тут книги? Наконец он незаметно для себя провалился в сон, а во сне привиделось, что ему снова шесть и что бабуля тянет к нему белые руки, ищет его слепым взглядом. Приснился и ее пронзительный вибрирующий голос. Она вопрошала: «А где наш малыш, Рут? Почему это он плачет, а? Я всего-навсего хотела затолкать его в шкаф… со скелетом».
Джорджа довольно долго мучили эти вопросы, и вот в конце концов, примерно через месяц после отъезда тети Фло, он подошел к матери и сознался, что подслушал их разговор. К тому времени со скелетом в шкафу он уже разобрался, спросил учительницу миссис Рейденбейчер. Она объяснила, что это идиома, означающая семейный скандал или тайну, и что обычно люди страшно любят обсуждать чужие семейные скандалы и сплетничать. «Как Кора Симард, которая много болтает?» – спросил ее Джордж, и миссис Рейденбейчер как-то странно изменилась в лице, губы ее дрогнули, а потом ответила: «Нехорошо так говорить, Джордж… Но… да, примерно в этом роде».
А когда он задал вопрос маме, лицо ее вдруг окаменело, а руки так и замерли над картами, из которых она раскладывала пасьянс.
«Ты считаешь, что так хорошо поступать, Джордж? Подслушивать с братом чужие разговоры через печную заслонку?»
Джордж, которому было тогда всего девять, потупил глаза.
«Просто мы очень любим тетю Фло, мам. Вот и хотели послушать, о чем она будет говорить».
И это была чистая правда.
«Но кто это придумал? Чья идея? Наверное, Бадди?»
Так оно и было, но Джордж не хотел выдавать брата. Потому что боялся. Боялся того, что может сделать с ним Бадди, узнай, что он проболтался.
«Нет. Моя».
Мама довольно долго молчала, затем снова начала раскладывать карты по столу.
«Пора бы тебе уже, наверное, знать, – заметила она, – что ложь – еще более тяжкий грех, чем подслушивание. И что все мы лгали своим детям, когда речь заходила о бабуле. И боюсь, что и сами себе тоже лгали. Почти все время лгали…» А затем она вдруг заговорила, нервно, страстно, с горечью выплевывая слова, словно они жгли ее. Джорджу даже показалось, что они сейчас сожгут и его, если он не отодвинется. «Только я – совсем другое дело! Мне выпало жить с ней, и я больше не могу позволить себе такую роскошь – лгать!»
И дальше мама рассказала Джорджу, что вскоре после того, как дедушка с бабушкой поженились, у них родился мертвый ребенок, а год спустя – еще один, и тоже мертвый, и врач сказал бабушке, что она никогда не сможет выносить до срока, а единственное, что ей остается, это рожать или уже мертвых детей, или детей, которые умирают, едва глотнув воздуха. И происходить это будет, по его словам, до тех пор, пока один из младенцев не умрет в ее теле задолго до родов, прежде, чем тело успеет вытолкнуть его наружу. Умрет, сгниет там и убьет тем самым и ее.
Так сказал врач.
И вскоре после этого возникли книги.
«Книги о том, как иметь детей».
Нет, мать не знала или просто не хотела говорить, что это были за книги, где бабуля раздобыла их и как вообще узнала об их существовании. Короче, бабуля снова забеременела, и на сей раз ребенок родился живым и не умер, глотнув воздуха. На сей раз родился прекрасный живой и здоровый младенец, и это был дядюшка Джорджа Ларсон. А потом бабуля только и делала, что беременела и рожала детишек. Однажды, по словам мамы, дедушка пытался уговорить ее выбросить книги, избавиться от них, чтоб посмотреть, смогут ли они обойтись без этих книг (а если даже и не смогут, то, по мнению деда, ртов у них было и без того предостаточно), но бабуля его не послушалась. Джордж спросил маму почему, и она ответила:
– Думаю, что к тому времени иметь эти книги для нее стало так же важно, как иметь детей.
– Что-то я не понимаю… – сказал Джордж.
– Да, – вздохнула мама, – я и сама не очень-то понимаю. К тому же учти, ведь тогда я была еще совсем малышка… И твердо знала лишь одно: эти книги для нее – все! И она сказала дедушке, что говорить об этом больше не желает и никогда со своими книгами не расстанется. На том все и закончилось. Ведь бабуля всегда была в нашей семье главной.
Джордж с шумом захлопнул учебник по истории. Взглянул на часы и увидел, что уже почти пять. В желудке тихонько урчало. И тут он внезапно со страхом осознал, что, если мама не вернется домой к шести или около того, бабуля непременно проснется и потребует ужин. А мама забыла проинструктировать его на тему того, что давать бабуле на ужин, наверное, потому забыла, что очень расстроилась из-за Бадди. Однако он все же сумеет разогреть для бабули одно из специальных замороженных блюд. Специальных, поскольку она находилась на бессолевой диете. К тому же бабуля принимала тысячу разных таблеток.
Что же касается его самого, то он вполне в состоянии разогреть себе остатки вчерашних макарон с сыром. Если полить их кетчупом, получится очень даже ничего.
Джордж достал из холодильника макароны с сыром, вывалил их на сковороду, затем поставил на плиту рядом с чайником, который по-прежнему держал наготове, на тот случай, если бабуля вдруг проснется и потребует «чаечку ая» – именно так она выговаривала эти слова. Он уже решил было налить себе стакан молока, но передумал и снова снял телефонную трубку.
– …просто глазам своим не поверила, когда… – Тут голос Генриетты Додд оборвался, а затем зазвучал снова, визгливо и раздраженно: – Да кто это все время подслушивает, хотела бы я знать?..
Джордж торопливо опустил трубку на рычаг, щеки его пылали.
Да откуда ей знать, что это ты, глупый! Ведь к линии подключено целых шесть абонентов!..
И все же подслушивать нехорошо, даже в том случае, если просто хочется услышать человеческий голос, находясь в доме в полном одиночестве, не считая, разумеется, бабули. Не человека – жирного обрубка, спящего сейчас на больничной кровати в соседней комнате. Даже если ты просто умрешь, не услышав человеческого голоса в трубке, потому что мама до сих пор в Льюистоне, и скоро совсем стемнеет, и бабуля в соседней комнате похожа на…
(о да, да, похожа!)
на старую медведицу, у которой еще остались силы нанести когтистой лапой смертельный удар.
Джордж подошел к холодильнику и достал молоко.
Мама родилась в 1930-м, за ней, в 1932-м, тетя Фло, а потом, в 1934-м, дядя Франклин. Дядя Франклин умер в 1948-м от гнойного аппендицита, и мама страшно горевала о нем и всегда носила с собой его карточку. Из всех братьев и сестер она больше всего любила Фрэнки и часто говорила о том, как это несправедливо – умереть в столь юном возрасте от перитонита. И еще говорила, что Господь Бог сыграл злую шутку, отобрав у них Фрэнки.
Джордж поднял голову от раковины и взглянул в окно. Солнце налилось еще более густым золотистым оттенком и низко нависало над холмом, отбрасывая на лужайку перед домом длинные тени. Если б этот Бадди не сломал свою дурацкую ногу, мама была бы здесь, на кухне, готовила бы что-нибудь вкусненькое, к примеру, чили (не считая, разумеется, бессолевого кушанья для бабули), и они бы болтали и смеялись, а после ужина, возможно, даже сыграли бы в подкидного дурака.
Джордж включил свет, хотя на кухне вовсе не было так уж темно. Затем включил конфорку под сковородой с макаронами. Но мысли его непрестанно возвращались к бабуле, сидевшей в белом виниловом кресле, точно огромный жирный червяк в платье, с космами серо-желтых волос, беспорядочно свисающих на плечи, обтянутые розовым нейлоновым халатом. К бабуле, тянущей к нему слоновьи ручищи. Она хочет, чтоб он подошел к ней, а Джордж отступает и упирается спиной маме в живот.
Пусть он подойдет ко мне, Рут. Хочу обнять его.
Он немного напуган, мама. Привыкнет и сам подойдет. Но он видел, мама сама боится.
Мама? Боится?
Джордж замер – так поразила его эта мысль. Неужели это правда? Бадди говорил, что память всегда готова сыграть с человеком злую шутку. Неужели она действительно боялась?..
Да. Она боялась.
Властный, не допускающий возражений голос бабули:
Ты совсем распустила ребенка, Рут! Пусть подойдет немедленно! Я хочу его обнять!
Нет, не надо. Он плачет.
И тогда бабуля опускала тяжелые руки, с которых, словно тесто, свисала серая морщинистая плоть, на лице ее расплывалась хитрая улыбка, и она говорила уже более миролюбивым тоном:
А правда, он похож на Франклина, Рут? Сама помню, как ты говорила: ну просто копия нашего Фрэнки!
Джордж медленно помешивал стоявшие на огне макароны с сыром. Как-то раньше он совсем не вспоминал об этом случае. Возможно, царившая в доме тишина заставила его вспомнить?.. Тишина… и еще осознание того, что он остался один с бабулей…
Итак, бабуля рожала детей и преподавала в школе, и врачи были посрамлены, и дедушка плотничал и получал все больше и больше денег, умудряясь найти работу даже во времена глубочайшей Депрессии, и в конце концов люди, как выразилась мама, «стали говорить».
«А что они говорили?» – спросил Джордж.
«Да ничего такого особенного или важного, – ответила мама и вдруг смешала все карты на столе в кучу. – Они говорили, что твоим дедушке с бабушкой почему-то везет больше, чем другим, вот и все…» А вскоре после этого нашли книги. На эту тему мама особенно не распространялась, сказала лишь, что школьный совет обнаружил несколько книг в классе, а потом специально нанятый человек нашел еще. И был страшный скандал. И бабушке с дедушкой пришлось переехать в Бакстон. Вот, собственно, и все.
Дети росли и обзаводились своими детьми, делая друг друга дядями и тетями; мама вышла замуж и уехала в Нью-Йорк с папой (которого Джордж совершенно не помнил). Родился Бадди, и после этого они переехали в Стрэтфорд, где в 1969 году родился Джордж. А в 1971-м отец погиб – его сбил пьяный водитель. Водитель, который за это угодил потом в тюрьму.
Когда у дедушки случился сердечный приступ и он умер, дяди и тети обменивались многочисленными письмами и телеграммами. Они не хотели отправлять мамочку в дом для престарелых. И она тоже туда не хотела. И все они знали – уж если бабуля упрется и чего-то не захочет, с места ее не свернуть. Бабуля хотела переехать к кому-то из своих детей и прожить там остаток своих дней. Но у всех у них были свои семьи, и никому не хотелось жить в одном доме с одряхлевшей и довольно капризной и противной старухой. У всех у них были семьи, у всех, кроме Рут.
Письма так и порхали из города в город и из штата в штат, и в конце концов мать Джорджа сдалась. Бросила работу и переехала в Мэн ухаживать за бабулей. Тем временем остальные дети скинулись и купили для бабули маленький домик на окраине Касл-Рока – цены на недвижимость там были низкие. К тому же они каждый месяц посылали маме чек, с тем чтобы «хватало» на содержание бабули и мальчиков.
«Иными словами, братья и сестры превратили меня в издольщицу…» Джордж помнил эти слова матери, но не совсем понимал, что они означают. Однако произносила их мать с горечью, словно они застревали в горле, точно кость. Джордж знал (Бадди сказал ему), что мать сдалась только потому, что все члены большой и разветвленной семьи были уверены – бабуле долго не протянуть. Слишком уж скверно обстояли у нее дела со здоровьем – и высокое давление, и никуда не годные анализы мочи, и ожирение, и какие-то шумы в сердце. И оставалось ей всего каких-нибудь месяцев восемь, в голос твердили тетя Фло, тетя Стефани и дядя Джордж (в честь которого назвали Джорджа), ну, от силы год. Однако прошло вот уже более пяти лет, и Джордж считал, что ожидание затянулось.
Да, бабуля оказалась куда как крепче и вовсе не спешила расставаться с жизнью. Словно медведица, впавшая в спячку и ожидающая… чего?
(ты лучше других умеешь обращаться с ней, Рут, знаешь, как заставить ее заткнуться)
Джордж направился к холодильнику проверить, где лежит специальная бессолевая еда для бабули, и вдруг остановился. Похолодел и замер. Что это? Откуда этот звук? Откуда доносится этот голос?
По спине и груди пробежали мурашки. Сунув руку под рубашку, он дотронулся до одного из сосков. Сосок затвердел и напоминал крохотный камешек, и он тут же убрал руку.
Дядя Джордж. Его крестный и тезка. Он работал в Нью-Йорке, в «Сперри-рэнд»[50]. Это был его голос. Как-то раз он приехал к ним в гости со всем семейством на Рождество. Два… нет, три года назад. И сказал:
«Чем старше она будет становиться, тем опаснее».
«Тише ты, Джордж! Мальчики где-то рядом».
Джордж стоял у холодильника, опустив ладонь на прохладную хромированную ручку, и вспоминал, вглядываясь в сгущающуюся тьму. Ведь Бадди тогда рядом не было. Бадди был на улице, потому что… Потому что побежал кататься с горки с ребятами, вот почему. Итак, Бадди был на улице, а он, Джордж, судорожно рылся в картонной коробке в поисках подходящих толстых носков, потому что тоже хотел пойти кататься с горки. И разве это его, Джорджа, вина, что в это время мама разговаривала с дядей Джорджем на кухне? Нет, он так не считал. Разве это его, Джорджа, вина, что Бог не сделал его глухим или – не стоит брать столь уж экстремальный случай – просто не надоумил этих двоих поговорить где-нибудь в другом месте? И этого Джордж тоже не думал. К тому же, как время от времени любила повторять мама (обычно она делала это, выпив стакан или два вина), порой Господь Бог вытворяет очень скверные шутки.
«Ну, ты поняла, что я имею в виду», – сказал дядя Джордж.
Его жена с тремя дочерьми в последний момент отправилась в Гейтс-Фоллз за рождественскими покупками, а потому дядя Джордж хватил, что называется, лишку (наверное, как тот пьяница, который угодил в тюрьму). Джордж пришел к такому выводу потому, что дядя выговаривал слова не слишком отчетливо.
«Ты же помнишь, что случилось с Франклином, когда он ее разозлил…»
«Замолчи, Джордж, иначе вылью оставшееся пиво в раковину!»
«Ладно, я понимаю, она не нарочно. Просто нервы сдали. А этот так называемый перитонит…»
«Молчи, Джордж!»
Наверное, подумал тогда Джордж, не один Господь Бог способен вытворять очень скверные шутки.
Пытаясь избавиться от этих неприятных воспоминаний, он заглянул в холодильник и нашел пакет с замороженной бабулиной едой. Телятина. С гарниром из фасоли. Предварительно разогреть духовку, сунуть туда пакет и нагревать в течение сорока минут при температуре 300 градусов. Все очень просто. Он вполне справится. А чай уже ждет на плите, на тот случай, если бабуля вдруг захочет пить. И он вполне может быстро приготовить и подать ей или чай, или телятину, если бабуля вдруг проснется и начнет орать и требовать. Чай, телятина, чего желаете? К вашим услугам! К тому же на доске записан телефон доктора Арлиндера – это уже на случай крайней необходимости. Так что полный порядок, все под контролем. Чего ему беспокоиться?
Просто раньше его никогда не оставляли одного с бабулей. Отсюда и беспокойство.
Пусть мальчик подойдет ко мне, Рут. Скажи, чтоб подошел.
Нет. Он плачет.
Сейчас она куда опаснее… ну, ты меня понимаешь.
И мы все лгали своим детям, когда говорили про бабулю.
Ни его, ни Бадди. Никого из них никогда не оставляли одного с бабулей. Вплоть до сегодняшнего дня.
Во рту у Джорджа вдруг пересохло. Он подошел к раковине и попил воды. Как-то все же… странно он себя чувствует. Все эти мысли. Воспоминания… Почему именно сейчас понадобилось забивать себе голову этими вещами?..
Казалось, кто-то разложил перед ним фрагменты головоломки, а ему никак не удается сложить из них цельную картину. А может, это и хорошо, что не удается сложить, потому что цельная, законченная картина может оказаться… э-э-э… ну, скажем, неприятной. Может…
И вдруг из комнаты, где все эти дни и ночи лежала бабуля, донесся какой-то странный, глуховатый, булькающий и тарахтящий звук.
Джордж со свистом втянул воздух и замер. Повернулся было к бабулиной комнате, но обнаружил, что ноги словно примерзли к покрытому линолеумом полу. Сердце покалывало. Глаза буквально вылезали из орбит. Ну же, идите, приказал ногам мозг. А ноги отдали честь и сказали: Нет уж, сэр, ни за что!
Прежде бабуля никогда так не шумела.
Никогда прежде бабуля так не шумела.
Вот он, снова, тот же глухой захлебывающийся звук. Страшный и низкий, он становился все тише и наконец, перед тем как совсем оборваться, перешел в еле слышное жужжание, похожее на то, что издают насекомые. В конце концов Джорджу все же удалось сдвинуться с места. Он подошел к коридорчику, отделяющему кухню от комнаты бабули. Приблизился к двери и заглянул… Сердце бешено колотилось, во рту пересохло, горло снова щипала жесткая колючая шерсть – глотка невозможно было сделать.
Бабуля спала. Все в порядке – то была первая его мысль. А странный звук наверняка послышался, а может, она и раньше издавала его, когда они с Бадди были в школе. Просто храпела себе… Нет, с бабулей все о’кей. Спит…
Это была его первая мысль. Затем он заметил, что желтая рука, лежавшая прежде поверх покрывала, теперь безжизненно свисает с постели, а длинные ногти почти касаются пола. А рот открыт и зияет морщинистым беззубым провалом.
Робко, нерешительно Джордж приблизился к ней.
Долго стоял у постели, разглядывая бабулю, но не решаясь прикоснуться к ней. Еле заметного прежде колыхания покрывала, которым была прикрыта ее грудь, теперь вроде бы не наблюдалось.
Вроде бы.
Вот оно, ключевое слово. Вроде бы…
Да это наверняка только кажется. Кажется со страху, Джордж. Потому что ты не кто иной, как сеньор El Stupido, так называет тебя Бадди. И все это кажется. Это всего лишь привиделось тебе, а на самом деле она прекрасно себе дышит, она…
– Бабуля? – окликнул Джордж, но вышел еле слышный шепот. Он откашлялся, а потом отступил на шаг, так, на всякий случай, и произнес уже громче: – Бабуль? Хочешь чаю, а, бабуля?
Нет ответа.
Глаза закрыты.
Рот открыт.
Рука свисает.
За окном заходящее солнце отбрасывало последние красно-золотые лучи сквозь пожухшую листву деревьев.
И вдруг он увидел бабулю – увидел отчетливо и ясно, как может видеть только не испорченный и не замутненный наслоениями прошлого детский глаз. Увидел не здесь, не в постели, но сидящей в белом виниловом кресле. Она тянет к нему руки, а выражение лица одновременно идиотское и торжествующее. Ему вспомнился один из «приступов», когда бабуля вдруг начала выкрикивать какие-то непонятные, словно на иностранном языке, слова: Джиагин! Джиагин! Хастур дегрион! Йос-сот-то!.. И мама тут же отослала их с Бадди на улицу, крикнув: «Пошли отсюда, ЖИВО!» – когда увидела, что брат задержался у коробки в прихожей достать перчатки. Бадди обернулся через плечо, взглянул на мать, и на лице его застыло испуганно-изумленное выражение. Потому что он никогда не слышал, чтоб она так кричала. И оба они выбежали на улицу и стояли во дворе, сунув замерзающие руки в карманы, чтоб согрелись, и думали: что же там сейчас происходит?..
Позднее мама как ни в чем не бывало позвала их к ужину.
(ты лучше других умеешь обращаться с ней, ты знаешь, как заставить ее заткнуться)
Вплоть до сегодняшнего дня Джордж как-то не задумывался всерьез об этих «приступах». Но сейчас, глядя на спящую в столь странной позе бабулю, он вдруг с нарастающей тревогой вспомнил: на следующий день после того «приступа» они узнали, что их соседка, миссис Хархем, умерла ночью во сне.
«Приступы» бабули…
Приступы…
Ведьмы, впав в определенное состояние, способны околдовать людей. Напустить на них порчу. Именно поэтому их и называют ведьмами, верно?.. Ядовитые яблоки. Принцессы, превратившиеся в лягушек. Пряничные домики. Абракадабра. Колдовство…
И тут беспорядочно разбросанные фрагменты головоломки, словно по волшебству, соединились, сложились в голове Джорджа в цельную картину.
Колдовство, подумал он и тихонько застонал.
Так какая же получалась картина? Да, все правильно. Была бабуля. Бабуля и ее книжки; бабуля, которая почему-то не могла иметь детей, а потом вдруг заимела; бабуля, которую изгнали из церкви, а потом и из города. На картине красовалась его бабуля – желтая, толстая и морщинистая, похожая на жирного слизняка, с беззубым ртом, растянутым в зловещей ухмылке; с потухшими слепыми глазами, которые смотрели так хитро и злобно; а на голове у нее была черная остроконечная шапочка, расшитая серебряными звездами и сверкающими полумесяцами; а у ног вились черные кошки с желтыми, как моча, глазами; и пахло свининой и слепотой, паленой свиной щетиной, тусклыми звездами и оплывшими свечами, свет которых был темен, словно земля, в которую опускают гроб; он слышал слова из старинных книг, и каждое слово падало тяжело, точно камень на крышку гроба, и каждая фраза была точно склеп, воздвигнутый на воняющей горелой кожей бойне, и каждый отрывок из этой книги напоминал некий кошмарный нескончаемый караван из погибших от чумы людей, тела которых везут к месту сожжения… Широко раскрытыми глазами невинного ребенка смотрел он в эту бездну, эту тьму, внезапно разверзшуюся перед ним…
Его бабуля была ведьмой. Как Злая Ведьма из «Волшебника из страны Оз». И вот теперь она умерла. И тот странный захлебывающийся звук, думал Джордж со все нарастающим ужасом… тот захлебывающийся хрипящий звук был… был… агонией.
– Бабуля? – прошептал он, а в голове радостно звенело: Дин-дон, вот ты и сдохла наконец, проклятая ведьма!
Нет ответа. Сложив ладонь лодочкой, он поднес ее ко рту бабули. Дыхания не ощущалось. Ни бриза, ни ветерка, мертвый штиль, паруса опали, под килем ни ряби, ни волны… Постепенно страх его начал проходить. Джордж пытался рассуждать логически. Он вспомнил, как дядя Фред учил его распознавать, есть ли ветер. Надо послюнить палец и поднять его. Он старательно облизал всю ладошку и поднес ее ко рту бабули.
Ничего.
Он уже направился было к телефону звонить доктору Арлиндеру, но вдруг остановился. А что, если он позвонит врачу, а потом выяснится, что бабуля вовсе и не умерла? Нет, надо убедиться окончательно…
Пощупать пульс.
Остановившись в дверях, он с опаской и сомнением взирал на свисающую с кровати руку. Рукав бабулиной ночной рубашки завернулся, и запястье было обнажено. Но что толку? Как-то раз, после визита к врачу, где сестра проверяла его пульс, приложив палец к запястью, Джордж попробовал сделать то же самое дома. Тоже приложил палец, но почему-то ничего не прощупывалось, сколько он ни старался. Судя по тогдашним показателям пальца, его можно было записать в покойники.
Кроме того, ему не слишком хотелось… э-э… прикасаться к бабуле. Пусть даже она и мертвая. Именно потому, что она мертвая!..
Стоя в дверном проеме, Джордж в нерешительности переводил взгляд с неподвижной груди, прикрытой одеялом, на телефонный аппарат на стене с записанным рядом номером доктора Арлиндера. Нет, все же, наверное, надо позвонить. Он позвонит и…
Зеркало!
Ну конечно же, зеркало! Если дохнуть на зеркало, поверхность его замутняется. Как-то раз в кино он видел такое. Врач с помощью зеркала проверял, жив ли лежавший без сознания человек. Рядом с бабулиной комнатой находилась ванная. Джордж бросился туда и схватил лежавшее на полке ручное зеркальце. Оно было двусторонним. С одной стороны отражало нормально, с обратной – с увеличением. Ну, чтоб можно было выдернуть какой-нибудь выросший не на месте волосок и все такое прочее.
Джордж подошел к кровати и поднес зеркальце одной стороной к лицу бабули. Совсем близко, оно почти касалось ее широко разинутого рта. И, держа так, досчитал до шестидесяти, не сводя с бабули настороженного взгляда. Бабуля не шевельнулась, была все так же неподвижна. Он окончательно убедился, что она мертва, даже еще не отняв от рта зеркальца. А когда отнял и взглянул на поверхность, увидел, что она совершенно чиста и ничуть не замутилась.
Бабуля умерла.
И тут Джордж с облегчением и даже некоторым удивлением отметил, что ему жаль бабулю. Может, она и была ведьмой, а может – и нет. Может, только воображала, что была ведьмой. Однако теперь это не важно. Джордж со свойственной лишь взрослым ясностью и отчетливостью вдруг понял, что, когда смотришь в пустое безмолвное лицо смерти, реальность не то чтобы совсем уж не важна, но как-то менее значима. Понял с характерной для взрослых ясностью и принял как данность, что тоже свойственно взрослым. Жизнь прошла и оставила след. И след этот не более значим, чем простой отпечаток ботинка в пыли. Так мыслят и рассуждают взрослые; ребенку же нужно много лет, чтобы понять, осознать, что он сделан, создан, сформирован; что происхождение его – не более чем чистая случайность; что все остальное на свете, кроме этого следа, не более чем прах и тлен. Прах с дымным привкусом пороховой гари, оставшимся от сгоревших в секундной вспышке прожитых лет.
* * *
Он отнес зеркальце обратно в ванную, затем снова прошел через комнату бабули, мельком покосившись на лежавшее на кровати тело. Заходящее солнце окрасило мертвое лицо в какие-то варварские оранжево-желтые оттенки, и Джордж тут же отвернулся.
Войдя в кухню, он прямиком направился к телефону. Он твердо вознамерился сделать все как положено и наилучшим в подобной ситуации образом. Мысленно он уже ощущал некое свое превосходство над Бадди. Пусть только тот попробует начать дразнить его слабаком или слюнтяем, он тут же скажет: «Между прочим, я был в доме один, когда умерла бабуля. И все сделал правильно».
Так, первое – это позвонить доктору Арлиндеру. Позвонить и сказать: «Моя бабушка умерла». Нет. «Моя бабушка только что умерла. Скажите, что я теперь должен делать? Прикрыть ее чем-нибудь или что?!»
Нет, не годится.
Кажется, моя бабушка только что умерла…
Да, вот так уже лучше. Потому что никто все равно не поверит, что маленький мальчик может знать что-то наверняка. Куда лучше.
Или же так:
Я почти уверен, что бабушка только что умерла…
Вот оно! Конечно. Так лучше всего!
А потом рассказать про зеркальце и про «агонию», и все прочее. И мистер Арлиндер тут же примчится и, когда будет осматривать бабулю, скажет: «Объявляю тебя мертвой, бабуля!» А потом скажет уже Джорджу: «Ты действовал необыкновенно хладнокровно в этой экстремальной ситуации, сынок. Позволь тебя поздравить». И Джордж ответит ему… нечто подобающее случаю и со всей подобающей мальчику скромностью.
Джордж взглянул на записанный на дощечке телефон и, прежде чем снять трубку, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Сердце билось быстро, но болезненный ком в горле рассосался. Бабуля умерла. Худшее, что могло случиться, случилось, и в конечном счете – это куда лучше, чем слышать, как она завывает, требуя, чтоб мама принесла ей чаю.
В трубке была тишина.
Он вслушался в эту тишину, рот уже приготовился произнести: «Извините, миссис Додд, но это Джордж Брукнер, и я должен срочно позвонить врачу по поводу моей бабушки…» Но никаких голосов или других звуков в трубке слышно не было. Мертвая тишина. Такая же мертвая, как тело… там, в постели…
Бабуля…
…она…
(о да, она)
Бабуля лежит смирно.
По коже снова пробежали мурашки, в горле защипало. Он не сводил глаз с чайника на плите и чашки на буфете, в которой лежал пакетик травяного чая. Не пить больше чая его бабуле. Никогда.
(лежит себе так тихо)
Джордж содрогнулся.
Он нажал на рычаг. Выждал секунду, но телефон по-прежнему молчал. Мертвая тишина, мертвая, как…
Он с грохотом бросил трубку на рычаг, и в аппарате что-то слабо звякнуло, затем торопливо схватил ее и поднес к уху – проверить, не свершилось ли чудо, не заработал ли он. Ничего. Все та же тишина, и он снова, на сей раз медленно, опустил трубку.
Сердце колотилось как бешеное.
Я в доме один. Один с мертвым телом.
Он не спеша прошелся по кухне, с минуту постоял у стола, затем включил свет. В доме стало темно. Скоро солнце совсем зайдет и наступит ночь.
Погоди. Не дергайся. Ничего тебе делать не надо. Надо только дождаться маму. Она уже скоро приедет. Да, просто ждать, это самое лучшее! И ничего, что телефон отключился. В таком случае даже лучше, что она умерла, потому что иначе бы у нее начался «приступ»! Пошла бы пена изо рта, она свалилась бы с постели, и тогда…
Вот это было бы по-настоящему страшно. Слава Богу, он избавлен от этого кошмара.
Как, к примеру, сидеть в темноте, знать, что ты совершенно один, и думать о том, что она еще жива… Видеть причудливую пляску теней на стене и думать о смерти, думать о мертвых, обо всех этих вещах, о том, как они будут вонять и как станут приближаться к тебе в темноте… Только подумай, подумай, подумай о червях, которые станут шевелиться в плоти, зарываться в нее все глубже; о глазах, которые вдруг заворочаются во мраке… Да! Одного этого достаточно! Глаза, которые ворочаются и двигаются во мраке… и еще – скрип половицы. Это когда кто-то (или что-то) будет приближаться к тебе по комнате, переступая через зигзагообразные полоски тени и света, падающего из окна. Да…
В темноте мысли всегда ходят по замкнутому кругу, и не важно, о чем ты будешь стараться думать – цветах, Иисусе Христе, бейсболе, победе на Олимпийских играх. Не важно… Все равно мысли неизбежно вернутся к этому мраку и теням, которые его населяют. Теням, у которых когти и немигающие глаза.
– Черт, хватит! – прошипел он и хлопнул себя по щеке. Очень сильно. Цель этой взбучки – привести себя в чувство, прекратить паниковать наконец. Ведь ему уже больше не шесть. И она умерла, ты понял? Она умерла! И жизни и мысли в ней теперь не больше, чем в каком-нибудь камушке, деревянной половице, дверной ручке, радиоприемнике или…
И внезапно громкий незнакомый беспощадный и неуемный внутренний голос, продиктованный примитивной жаждой выживания, ничем более, воскликнул: Заткнись, Джордж! И займись же наконец делом!
Да, да, конечно. Хорошо, но…
Он вернулся к двери в спальню еще раз убедиться.
Бабуля по-прежнему лежала на кровати – одна рука свисает и почти касается пола, рот широко разверст. Теперь бабуля была как бы частью обстановки. Можно положить ее руку на постель, дернуть за волосы, влить в раскрытый рот стакан воды, надеть ей на голову наушники и включить самую крутую запись в исполнении Чака Берри, а ей будет все равно. Бабуле, как иногда говорил Бадди, давно все до фени. Так оно и есть.
Внезапно он услышал глухой и ритмичный хлопающий звук, где-то совсем невдалеке, и тихо ахнул от неожиданности и испуга. Да это же ставня, которую на прошлой неделе прикрепил к оконной раме Бадди! Всего лишь ставня. Крючок сорвался, и вот теперь она хлопала, потому как на улице поднялся ветер.
Джордж отворил дверь, вышел, поймал хлопающую ставню и просунул крючок в петлю. Ветер – то был уже не бриз, а самый настоящий сильный ветер – встрепал его волосы. Он плотно притворил за собой дверь и удивился: откуда это он вдруг взялся, такой сильный ветер? Ведь когда мама уезжала, никакого ветра не было. Но когда мама уезжала, был день, светило солнце, а сейчас уже вечер и почти совсем стемнело…
Джордж еще раз взглянул на бабулю, потом пошел на кухню и снял телефонную трубку. Мертвая тишина. Он сел, затем встал и начал расхаживать взад-вперед по комнате.
Час спустя на улице уже стояла полная тьма.
Телефон по-прежнему не работал. Наверное, из-за ветра, подумал Джордж. Разыгрался вовсю и сорвал какой-нибудь провод. Возможно, свалил на линию дерево у Биверс-Бог, где вокруг болота полным-полно мертвых деревьев. Время от времени аппарат издавал тихие дребезжащие звонки, отдаленные и глуховатые, но линия была явно повреждена. А на улице вокруг маленького домика бушевал и завывал ветер, и Джордж решил, что ему будет о чем рассказать ребятам из летнего бойскаутского лагеря… О том, как он сидел в доме один-одинешенек, рядом с телом умершей бабули, а за окном бушевал ветер и гнал по низкому небу тучи. Тучи, черные наверху и с мертвенно-желтоватым исподом – точь-в-точь того же цвета, что и когтистые руки бабули…
Да, как любил говорить Бадди, это будет высокий класс.
Хорошо бы начать рассказывать эту историю прямо сейчас, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Джордж сидел за кухонным столом, перед ним лежал раскрытый учебник по истории, и вздрагивал при каждом звуке… А теперь, когда ветер разбушевался вовсю, звуками этими полнился весь дом – скрипел, стонал, постукивал всеми своими несмазанными и разболтанными сочленениями.
Она вернется совсем уже скоро. Вернется домой, и все будет о’кей. Все.
(а ты ее так ничем и не закрыл)
Все будет о’…
(даже лица не закрыл)
Джордж вздрогнул – показалось, что эти слова произносит чей-то незнакомый голос, – и расширенными глазами уставился на бесполезный телефон. Лицо мертвеца полагается накрыть какой-нибудь тканью. Ну, простыней, к примеру. Он видел это в кино.
Да черт с ней! Не пойду я туда!
Нет! Ни за что! И почему это именно я? Вот мама вернется и накроет. Или доктор Арлиндер, когда приедет! Или похоронщик!
Кто угодно, только не он.
Он не обязан.
Ему плевать, да и бабуле тоже до фени.
Тут в ушах прозвучал голос Бадди:
Да ты просто трусишь! Иначе бы давно подошел и накрыл. Тебе просто слабо!
Мне все равно.
Трус паршивый!
И бабуле все равно.
Трус, ДЕРЬМО ЦЫПЛЯЧЬЕ!
И Джордж, сидя за столом перед раскрытой книгой, вдруг начал понимать, что если не прикроет лицо бабули, то вряд ли сможет претендовать на то, что «все сделал правильно», а стало быть, Бадди опять получает фору.
Он уже представлял, как сидит у костра в бойскаутском лагере перед отбоем и рассказывает ребятам страшную историю о смерти бабули. И ему даже начало казаться, что окно осветили фары маминого автомобиля – появление взрослых, пусть даже не ко времени и порой нежелательное, все же вселяет чувство уверенности и надежду на восстановление справедливости и порядка, – как вдруг откуда-то из темноты, где смутно маячили фигуры, донесся голос, его сопровождал треск лопнувшей в костре сосновой ветки. То был голос Бадди. Брат прятался в тени и говорил: Ну, если ты такой храбрый, дерьмо цыплячье, чего ж тогда не закрыл ЕЙ ЛИЦО?
Джордж встал и напомнил себе, что бабуле все равно до фени, что бабуле конец, крышка, что она лежит себе как бревно. Он может поднять и положить на постель ее руку, может вставить ей в ноздрю пакетик чая, надеть ей на голову наушники и врубить на полную катушку Чака Берри и т. д. и т. п., но все это не оживит бабулю, потому как именно в этом и заключается смерть – никто и ничто не может оживить мертвеца. Мертвец, он так и будет себе лежать, холодный и тихий, а все прочее, что говорят об этом, – лишь пустые выдумки, досужие глупые домыслы. Все это сказки о распахнувшейся вдруг двери в чулан или шкаф, о лунном свете, от которого будто бы начинают мерцать голубым кости восставшего из могилы скелета, все это…
Он прошептал еле слышно:
– Прекрати, слышишь? Перестань сию же…
(ужас)
Он весь подобрался, словно готовясь к прыжку. Он пойдет туда, накроет покрывалом ее лицо и выбьет тем самым последнюю опору из-под ног Бадди. Он вполне в состоянии проделать несколько несложных ритуальных действий, должных сопутствовать смерти. Он закроет ее лицо, а затем – его собственное лицо так и озарилось при мысли о символичности следующего шага, – затем выбросит неиспользованный пакетик чая и уберет ее чашку. Да. Именно! Вот так!
Он двинулся к двери, усилием воли заставляя себя делать каждый следующий шаг. Комната бабули была погружена во тьму, тело смутным холмом вырисовывалось на постели, и он начал судорожно шарить по стене в поисках выключателя. Казалось, на то, чтобы найти его, понадобилась вечность. Он щелкнул выключателем, и комнату затопил желтоватый свет, падающий из стеклянного светильника под потолком.
Бабуля была на месте. Рука свисает, рот открыт. Джордж разглядывал ее, уголком сознания отметив, что на лбу у него выступили крохотные капельки пота. Смотрел и пытался сообразить, не возьмет ли он на себя слишком большую ответственность, если поднимет сейчас холодную руку бабули и вернет туда, на постель, где лежит все остальное. И наконец решил, что да, пожалуй. Пожалуй, все же не стоит. Это будет слишком. Дотронуться до нее он все равно не сможет. Что угодно, только не это!
Медленно, словно плывя в некой густой жидкости, наполнившей вместо воздуха комнату, Джордж приблизился к бабуле. Стоял над ней и смотрел. Бабуля была совсем желтая. Частично из-за света, падающего с потолка, но не только из-за него…
Громко, со свистом втягивая воздух, Джордж ухватился за край покрывала и натянул его бабуле на лицо. Затем отпустил, и покрывало немного сползло, обнажив то место, откуда на желтоватом морщинистом лбу начинали расти волосы. Собравшись с духом, он снова схватился за покрывало, стараясь держать при этом руки как можно дальше от головы бабули, чтоб ненароком не прикоснуться к ней, пусть даже через ткань, и снова натянул покрывало. На этот раз оно осталось на месте. Слава Богу… Страх немного отпустил Джорджа. Он практически похоронил ее. Да, именно похоронил. Потому что мертвецов всегда полагается прикрывать, а это все равно что хоронить. И поступил он правильно. Как положено.
Затем он посмотрел вниз, на свисающую с кровати и непохороненную руку, и с удивлением понял, что теперь вполне способен дотронуться до нее. Поднять, сунуть под покрывало и похоронить со всем остальным, что осталось от бабули.
Он наклонился, схватил холодную руку и приподнял ее.
Рука дернулась и крепко впилась ему в запястье.
Джордж взвизгнул. И отпрянул, сотрясая дом страшными криками – звуки его голоса сливались с воем ветра, треском и поскрипыванием старого дома. Он отпрянул, тело бабули съехало набок, рука снова свалилась, задергалась, изогнулась, стала цепляться за воздух и… наконец снова безжизненно повисла.
Все в порядке. Ничего страшного. Это был всего лишь рефлекс.
Джордж кивнул, словно в подтверждение правоты своих слов. Затем вспомнил, как изогнулась рука бабули, как вцепилась в его запястье, и снова вскрикнул. Глаза его вылезали из орбит. Волосы встали дыбом от страха. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот разорвет грудную клетку.
Мир перекосился, качнулся, завертелся, словно безумный, потом снова вернулся в исходное положение. Снова качнулся… Крен происходил всякий раз, как только он пытался мыслить логически. И им овладевал панический, до мелкой дрожи, ужас. Он заметался, желая лишь одного: выбраться из этой комнаты, бежать куда глаза глядят – в другую комнату, вон из дома и дальше три-четыре мили по дороге, туда, где можно будет наконец успокоиться, взять себя в руки. Но в те секунды он метался, точно слепой и обезумевший, и врезался в стену – промахнулся мимо двери фута на два, не меньше.
Он ударился и отлетел на пол. Голова гудела от сильной резкой боли. Такой сильной, что она отчасти даже перекрывала страх. Дотронулся до носа и поднес ладонь к глазам. Ладонь была красной от крови. Капли крови виднелись и на зеленой рубашке. Он вскочил на ноги, дико озираясь по сторонам.
Рука свисала и почти касалась пола, как тогда, в самом начале. Но тело бабули выпрямилось и лежало теперь уже не косо, а аккуратно и ровно посередине кровати. Как тогда, в самом начале…
Наверное, все это ему просто померещилось. Просто он вошел в комнату, а остальное, то, что случилось дальше, – не более чем игра воображения.
Нет.
Боль немного отрезвила его. Мертвецы не станут хватать тебя за руку. Мертвец – он и есть мертвец. Когда человек стал мертвецом, на него хоть шляпы вешай, как на вешалку, хоть под гусеницы трактора кидай и т. д. и т. п., ему, мертвецу, все равно. Когда ты мертвец, живые могут делать с тобой все, что только заблагорассудится (к примеру, маленькие мальчики могут попробовать вернуть на кровать мертвую свисающую руку), но для них самих… время действовать, можно считать, закончилось.
В том случае, конечно, если ты не ведьма. Если ты не выбрала время умереть, когда в доме никого, ни души, кроме ребенка. Потому как в этом, последнем, случае это самый удобный момент для того… для того, чтобы…
Чтобы что?
Да ничего! Все это глупости! Ему померещилось, просто потому, что он был напуган. Да, именно, напуган, этим все и объясняется. Он вытер нос рукавом и поморщился от боли. На руке, возле запястья, осталось смазанное пятно крови.
Нет, просто не надо к ней больше подходить, вот и все. Приснилось это или было реальностью, но с бабулей он больше не связывается, все! Приступ истерической паники прошел, но Джордж все еще был напуган, сильно напуган, почти до слез, до дрожи, особенно при виде собственной крови. И страстно хотел лишь одного – чтоб мама скорее вернулась и занялась всем сама.
Джордж, пятясь, вышел из комнаты на кухню. Постоял, глубоко и медленно дыша. Надо бы намочить какую-нибудь тряпку холодной водой и приложить к носу. При мысли об этом его затошнило. Он подошел к раковине и пустил холодную воду. Наклонился, пошарил в ведре под раковиной и достал какую-то тряпицу – кусок использованной бабулиной прокладки. Сунул ее под струю, слизывая с губы кровь. Стоял и держал прокладку под холодной водой до тех пор, пока пальцы не начали неметь, затем завернул кран.
И уже поднес было тряпицу к носу, как вдруг из соседней комнаты послышался голос:
– Иди сюда, мальчик. – Голос бабули, мертвенный, глуховатый. – Иди сюда… бабуля хочет тебя обнять.
Джордж хотел закричать, но не получилось. Изо рта не выходило ни звука. Зато из той, другой комнаты доносились звуки. Те самые звуки, которые он слышал, когда мать заходила к бабуле, умывала ее, переворачивала ее грузное тело, опускала, снова переворачивала.
Только теперь звуки эти имели несколько иной оттенок, вернее – совершенно другой подспудный смысл. Похоже, бабуля пыталась… встать с постели.
– Мальчик! Иди сюда, мальчик! Сейчас! СЕЙЧАС ЖЕ! А ну, сюда!..
И тут Джордж с ужасом обнаружил, что ноги его сами повинуются этой команде. Он приказал им остановиться, но они продолжали шагать: левая, правая, затем снова левая, топ-топ по покрытому линолеумом полу… Словно обезумевший от страха мозг стал пленником тела, сидел в нем, покорный и беспомощный, замкнутый в башне.
Нет, все же она ведьма. Самая настоящая ведьма, и как раз сейчас у нее один из тех «приступов»… О да, да, именно «приступов», и это плохо, очень плохо. Это просто УЖАСНО!.. О Господи Иисусе, Боже мой, помоги же мне, помоги…
Джордж прошел через кухню, коридорчик, дверь и вошел в комнату.
И оказалось, что да, бабуля не просто пыталась встать с постели, она уже встала и сидит в своем белом виниловом кресле, в которое не садилась вот уже года четыре. С тех самых пор, как совсем отяжелела и одряхлела, и перестала ходить, и перестала понимать что-либо…
Но только сейчас бабуля вовсе не выглядела такой уж старой и дряхлой.
Да, лицо по-прежнему морщинистое и серое, словно тесто, но дряхлость и беспомощность как рукой сняло! Словно и не было, словно она лишь носила маску с целью усыпить бдительность маленьких мальчиков и усталых безмужних женщин. Теперь лицо ее светилось разумом, мерцавшим, словно старая восковая свеча. Запавшие в глазницах глаза смотрят бесстрастно и мертво. Грудь неподвижна. Рубашка задралась, обнажив бледные слоновьи ляжки. Покрывало свесилось с постели на пол.
Бабуля протянула к нему свои огромные руки.
– Хочу обнять тебя, Джордж… – произнес плоский и ровный мертвый голос. – Не бойся, не будь плаксой. Ну же, подойди. Бабуля тебя обнимет.
Джордж вцепился в дверной косяк, изо всех сил противясь ее неукротимой воле. За окном ревел и стонал ветер. Лицо мальчика вытянулось, исказилось от напряжения, от этой неравной схватки и напоминало в этот миг лицо с какой-нибудь гравюры из старинной книги.
И вот Джордж против воли стал подходить к ней. Он ничего не мог с собой поделать. Медленно, шаг за шагом, навстречу этим протянутым рукам. Должен же он показать Бадди, что ничуть не боится бабулю. Подойдет к ней и позволит себя обнять, потому что он не какой-нибудь там плаксивый слюнтяй. Нет. Вот прямо сейчас подойдет к бабуле, и все тут.
Он уже почти находился в кольце ее рук, как вдруг слева от него с грохотом распахнулась оконная створка, и сорванная ветром ветка пробила стекло и влетела в комнату вместе с прилипшими к ней осенними листьями. Холодный поток ветра затопил комнату, срывая со стены картинки и снимки бабули, вздувая ее ночную рубашку и волосы.
И тут вдруг Джордж обнаружил, что может кричать. Увернулся от рук бабули, и она так и зашипела от злости, втягивая губы и щеки в беззубый рот. А толстые морщинистые руки взметнулись вверх и беспомощно отмахивались от потока холодного воздуха.
Джордж споткнулся и упал. Бабуля начала подниматься из белого винилового кресла – трясущаяся гора дряблой плоти; попыталась рвануться к нему. Джордж понял, что не в состоянии подняться, сила покинула его ноги. И тогда, тихонько подвывая от страха, он пополз к двери. Бабуля приближалась, медленно, но неумолимо, мертвая и в то же время живая, и внезапно Джордж догадался, что значило это ее слово «обнять». Картина из отдельных фрагментов сложилась полностью, и тут, сам не понимая, как это ему удалось, он вскочил на ноги – как раз в тот момент, когда когтистая рука бабули впилась в его рубашку. Вцепилась в ткань и вырвала из нее клок – на секунду он ощутил на коже леденящее прикосновение ее пальцев, а затем опрометью бросился из комнаты в кухню.
Нет, лучше уж на улицу, в ночь. Куда угодно, что угодно, лишь бы не дать этой ведьме «обнять» себя. Потому что если бабуля сделает это, то мама… мама, вернувшись, найдет бабулю мертвой, о да, безусловно, а его, Джорджа, живым. Но только у него, Джорджа, вдруг появится вкус к травяному чаю…
Он обернулся через плечо и увидел, как в дверном проеме вырастает гротескная бесформенная огромная тень…
И в этот самый миг вдруг зазвонил телефон – пронзительные настойчивые долгие гудки.
Джордж, не раздумывая ни секунды, схватил трубку и закричал в нее, прося, умоляя кого-нибудь, хоть кого-то прийти и спасти его. Ему казалось, что он кричал, но на деле лишь беззвучно разевал рот – горло перехватило, и из него не выходило ни звука.
Бабуля в розовой ночной рубашке с топотом ворвалась в кухню. Желто-серые волосы развевались, облепляя лицо, сорвавшийся с них роговой гребень свисал над морщинистой шеей, зацепившись за прядь.
Бабуля улыбалась…
– Рут? – Голос тети Фло, отдаленный, еле различимый среди треска и завывания в трубке. – Рут, это ты? – Тетя Фло звонила из Миннесоты, за две тысячи миль отсюда.
– Помогите! – крикнул Джордж в трубку, но вышел лишь какой-то жалкий тихий писк. Словно он дул в губную гармонику, забитую сухой травой.
Бабуля, протягивая к нему руки, шагала по линолеумному полу. Вот она хлопнула в ладоши, потом снова развела руки. Она хотела его обнять. Она ждала этого пять лет.
– Рут, ты меня слышишь? У нас тут гроза только что началась, и я… я почему-то испугалась за тебя, Рут… Я тебя совсем не слышу…
– Бабуля… – простонал Джордж в телефонную трубку. Бабуля уже почти настигла его.
– Джордж? – Голос тети Фло внезапно пробился сквозь шум и треск на линии и звучал встревоженно и громко. – Это ты, Джордж?
Он начал отступать от бабули и вдруг с запоздалым ужасом понял, что в буквальном смысле слова загнан в угол между кухонным буфетом и раковиной и что путь к двери отрезан. Ужас был беспределен и сковал все его члены. Тень бабули уже нависала над ним, и он, наконец обретя дар речи, завопил в трубку, отчаянно и громко повторяя одно и то же слово:
– Бабуля! Бабуля! Бабуля!..
Ледяные руки бабули коснулись его горла. Грязно-серые тусклые глаза впивались в его лицо, лишая всякой воли к сопротивлению.
И тут до него донесся совсем слабый, еле слышный голос тети Фло:
– Скажи ей, пусть ляжет, Джордж. Скажи ей: лежать, и лежать смирно! Скажи, что она должна сделать это твоим именем и именем ее отца. Имя ее приемного отца Хастур! Это имя очень много для нее значит, оно – сила, Джордж! Скажи ей: лежать именем Хастура! Скажи…
Старая морщинистая рука вырвала телефонную трубку из его судорожно сжатых пальцев. Раздался треск – это из телефона выдернули провод. Джордж пошатнулся и медленно сполз по стене, а бабуля наклонилась над ним – громадная грозная туша, заслоняющая собой свет.
И Джордж завопил что было силы:
– Лежи! Лежать смирно! Именем Хастура! Хастур! Лежать! Лежать!
Холодные пальцы сомкнулись на его горле…
– Ты должна! Тетя Фло так сказала! Моим именем! Именем твоего отца! Ляг! Ле…
…и крепко сжали…
Когда час спустя двор наконец осветили фары автомобиля, Джордж сидел за кухонным столом, на котором по-прежнему лежал раскрытый учебник истории. Он поднялся, подошел к задней двери и отпер ее. Слева от него висел на стене телефон с оборванным шнуром.
Мать вошла в кухню – к воротнику ее пальто прилип сухой листик.
– Ну и ветер! – сказала она. – Все в поряд… Джордж?.. Джордж, что случилось?
Кровь отхлынула от ее лица, оно исказилось от страха и напоминало клоунскую маску.
– Бабуля… – прошептал он. – Бабуля умерла. Бабуля умерла, мама… – И заплакал.
Она подхватила его, крепко прижала к себе и прислонилась к стене, словно это движение лишило ее последних сил.
– Но… Что-то еще случилось? – спросила она. – Говори, Джордж, что-то еще случилось, да?
– Ветер сорвал ветку с дерева, и она разбила окно, – ответил Джордж.
Мать оттолкнула его, секунду-другую всматривалась в побелевшее, осунувшееся лицо сына. Затем пошла в комнату к бабуле. Пробыла она там минуты четыре, а когда вернулась, в руке у нее был клочок зеленой ткани. Клок, вырванный из рубашки Джорджа.
– Вот это… я вынула у нее из руки… – прошептала мама.
– Я не хочу об этом говорить, – сказал Джордж. – Если хочешь, позвони тете Фло. Я что-то очень устал… Пойду спать.
Она сделала было движение остановить его, но передумала. Джордж пошел в комнату, которую делил с Бадди, и выдвинул печную заслонку – послушать, что будет делать дальше мать. Похоже, она не собиралась говорить с тетей Фло, во всяком случае, сегодня, поскольку у телефона был вырван шнур. Да и завтра тоже вряд ли… у нее получится. Поскольку незадолго до ее приезда Джордж произнес несколько слов на искаженной латыни, нечто вроде жреческого заклинания, и в двух тысячах миль от их дома тетя Фло скончалась от обширного кровоизлияния в мозг. Просто удивительно, как они выходили из него, эти слова. Как удалось вспомнить их. Как к нему вдруг все это вернулось…
Джордж разделся и улегся в постель голым. Заложил руки за голову и стал смотреть в темноту. И по лицу его медленно начала расползаться довольная и одновременно мрачная и злобная улыбка.
Нет, с этого дня все пойдет по-другому…
Совсем по-другому.
Ну, к примеру, Бадди. Теперь Джордж прямо дождаться не мог, когда Бадди вернется домой из больницы и начнет эти свои игры в «китайскую пытку ложкой» и «индейскую веревку»… Днем, на людях, это еще сойдет ему с рук, размышлял Джордж, но вот ночью… Ночью, когда они останутся вдвоем в темноте и дверь будет закрыта…
И Джордж так и затрясся от беззвучного смеха.
Как любил говорить Бадди, это будет высокий класс.
Баллада о гибкой пуле
[51]
Вечеринка подходила к концу. Угощение удалось на славу: и спиртное, и мясо на ребрышках, поджаренное на углях, и зеленый салат, и особый соус, который приготовила Мег. Начали они в пять. Теперь часы показывали полдевятого и уже темнело – при большом количестве гостей в это время настоящее веселье обычно только начинается. Но их было всего пятеро: литературный агент с женой, молодой, недавно прославившийся писатель, тоже с женой, и журнальный редактор, выглядевший гораздо старше своих шестидесяти с небольшим. Редактор пил только минеральную: в прошлом он лечился от алкоголизма, о чем рассказал писателю агент. Однако все это осталось в прошлом, как, впрочем, и жена редактора, почему их, собственно говоря, и было пятеро.
Когда на выходивший к озеру участок позади дома писателя опустилась темнота, вместо веселья их охватило какое-то серьезное интроспективное настроение. Первый роман молодого писателя получил хорошие отзывы в прессе и разошелся большим числом экземпляров. Ему повезло, и, к чести его надо сказать, он это понимал.
С раннего успеха молодого писателя разговор, приобретя странную, игриво-мрачную окраску, перешел на других писателей, которые заявляли о себе рано, но потом вдруг кончали с собой. Вспомнили Росса Локриджа, затем Тома Хагена. Жена литературного агента упомянула Сильвию Платт и Анну Секстон, после чего молодой писатель заметил, что не считает Платт успешным автором: она покончила с собой не из-за успеха, а скорее наоборот – приобрела известность после самоубийства. Агент улыбнулся.
– Давайте поговорим о чем-нибудь другом, – попросила жена молодого писателя, немного нервничая.
Игнорируя ее, агент сказал:
– А что вы думаете о безумии? Бывали среди писателей и такие, что сходили от успеха с ума. – Голосом и манерами он немного напоминал актера, продолжающего гладко играть свою роль вне сцены.
Жена писателя снова собралась выразить протест: она знала, что ее мужа интересуют разговоры на подобные темы – и отнюдь не только потому, что ему доставляло удовольствие говорить об этом в шутливом тоне. Напротив, он слишком много думал о таких вещах и от этого, может быть, пытался шутить. Но тут заговорил редактор, и сказанное им показалось таким странным, что она забыла про свой невыраженный протест.
– Безумие – это гибкая пуля.
Жена агента взглянула на редактора удивленно. Молодой писатель в задумчивости наклонился чуть вперед.
– Что-то знакомое… – произнес он.
– Конечно, – сказал редактор. – Эта фраза, вернее, образ «гибкой пули» взят у Марианны Мур. Она воспользовалась им, описывая какую-то машину. Но мне всегда казалось, что он очень хорошо описывает как раз состояние безумия. Это нечто вроде интеллектуального самоубийства. По-моему, и врачи теперь утверждают, что единственное истинное определение смерти – это смерть разума. А безумие – это гибкая пуля, попадающая в мозг.
Жена писателя вскочила на ноги.
– Кто-нибудь хочет выпить?
Желающих не нашлось.
– Ну, тогда я хочу, раз уж мы собираемся говорить на подобную тему, – сказала она и отправилась смешивать себе новую порцию.
– Как-то, когда я работал в «Логансе», – сказал редактор, – я получил рассказ. Сейчас, конечно, «Логанс» там же, где «Кольерс» и «Сатедэй ивнинг пост», но мы протянули дольше обоих. – Это он произнес с ноткой гордости в голосе. – Каждый год мы публиковали тридцать шесть рассказов, иногда больше, и каждый год четыре-пять из них попадали в чью-нибудь антологию лучших рассказов года. Люди читали их. Короче, рассказ назывался «Баллада о гибкой пуле». Написал его человек по имени Рег Торп. Молодой человек возраста примерно такого же, как наш хозяин, и примерно такой же степени известности.
– Это он написал «Персонажи преступного мира», да? – спросила жена литературного агента.
– Да. Удивительная история для первого романа. Отличные отзывы, коммерческий успех при издании романа и в твердой обложке, и в мягкой, издание Писательской гильдии и все такое. Даже фильм оказался неплох, хотя, конечно, с книгой не сравнишь. До книги он просто не дотянул.
– Мне она понравилась, – сказала жена писателя, втягиваясь в разговор против своей воли. Выглядела она удивленно и обрадованно, как человек, только что вспомнивший о чем-то, что давно уже не вспоминалось. – Он что-нибудь с тех пор писал? Я читала «Персонажи» еще в колледже, а это было… в общем, было слишком давно.
– Ты с тех пор не состарилась ни на день, – тепло заметила жена агента, хотя про себя она думала, что жена писателя носит слишком маленький бюстгальтер и слишком тесные шорты.
– Нет, он ничего больше не написал, – сказал редактор. – Кроме того рассказа, о котором я упомянул. Он покончил с собой. Сошел с ума и покончил с собой.
– О-о-о… – устало протянула жена писателя. – Опять это.
– Рассказ публиковался? – спросил молодой писатель.
– Нет, но не потому, что автор сошел с ума и покончил с собой. Он так и не попал в печать потому, что сошел с ума и чуть не покончил с собой редактор.
Агент вдруг встал, чтобы налить себе еще, хотя его стакан был почти полон. Он знал, что летом 1969 года, незадолго до того как «Логанс» прекратил свое существование, редактор перенес тяжелое нервное расстройство.
– Этим редактором был я, – проинформировал слушателей редактор. – В определенном смысле мы с Регом Торпом сошли с ума вместе, хотя я жил в Нью-Йорке, а он в Омахе, и мы никогда не встречались. Книга его вышла за шесть месяцев до этого, и он перебрался в Омаху, чтобы, как говорится, собраться с мыслями. Его сторону истории я знаю, потому что иногда вижусь с бывшей женой Рега, когда она заезжает в Нью-Йорк. Она художница, и довольно неплохая. Ей повезло. В том смысле, что он чуть не взял ее с собой.
Агент вернулся и сел на место.
– Теперь я начинаю кое-что припоминать, – сказал он. – Там была замешана не только его жена. Он пытался застрелить еще двоих: один из них совсем мальчишка.
– Верно, – сказал редактор. – Именно этот мальчишка его в конце концов и свел с ума.
– Мальчишка? – переспросила жена агента. – В каком смысле?
По выражению лица редактора было понятно: он не хочет, чтобы его торопили. Он расскажет все сам, но не будет отвечать на вопросы.
– Свою же сторону этой истории я знаю, – сказал он, – потому что я ее прожил. Мне тоже повезло. Чертовски повезло. Интересное явление… Эти люди, которые пытаются покончить с собой, приставив к виску пистолет и нажав курок… Казалось бы, самый надежный способ, гораздо надежнее, чем снотворное или перерезанные вены, однако это не так. Когда человек стреляет себе в голову, часто просто нельзя предсказать, что произойдет. Пуля может рикошетировать от черепа и убить кого-то другого. Она может обогнуть череп по внутренней поверхности и выйти с другой стороны. Может застрять в мозгу, сделать вас слепым, но оставить в живых. Можно выстрелить себе в голову из «тридцать восьмого» и очнуться в больнице. А можно выстрелить из «двадцать второго» и очнуться в аду… Если такое место вообще есть. Я лично думаю, что это как раз здесь, на Земле, возможно, в Нью-Джерси.
Жена писателя рассмеялась – звонко и, пожалуй, чуть-чуть неестественно.
– Единственный надежный способ самоубийства – это прыжок с очень высокого здания, но таким методом пользуются лишь крайне целеустремленные личности. Слишком уж потом все безобразно. Я это вот к чему говорю: когда вы стреляете в себя, так сказать, гибкой пулей, вы не можете знать заранее, каков будет исход. В моем случае произошло то же самое: я махнул с моста и очнулся на замусоренном берегу. Какой-то водитель лупил меня по спине и так двигал мои руки вверх и вниз, словно ему приказали в двадцать четыре часа привести себя в атлетическую форму и он принял меня за тренажер. Для Рега пуля оказалась смертельной. Он… Однако я начал рассказывать вам свою историю, хотя у меня нет уверенности, что вы захотите ее выслушать.
Он посмотрел на них вопросительно в сгущающейся темноте. Литературный агент и его жена неуверенно переглянулись. Жена писателя собралась было сказать, что на сегодня мрачных тем уже достаточно, но в этот момент заговорил ее муж:
– Я бы хотел послушать. Если ты не возражаешь по каким-то личным мотивам, разумеется.
– Я никогда никому об этом не рассказывал, – ответил редактор, – но совсем не по причинам личного характера. Может быть, у меня никогда не было подходящей аудитории.
– Тогда расскажи, – сказал писатель.
– Поль… – Жена писателя положила руку ему на плечо. – Тебе не кажется…
– Не сейчас, Мег.
Редактор начал:
– Рассказ пришел, что называется, «самотеком», но в то время в «Логансе» уже не читали незаказанные рукописи. Когда они все же приходили, секретарша просто клала их в конверт с обратным адресом и прикладывала записку с таким вот примерно текстом: «Из-за возрастающих затрат и возрастающего отсутствия возможности у редакторского состава справляться с постоянно возрастающим числом предложений «Логанс» рассматривает теперь только заказанные рукописи. Искренне желаем успеха и надеемся, что вам еще удастся заинтересовать своим произведением кого-то еще». Надо же такую белиберду придумать! Не так это просто, три раза впихнуть в одно предложение слово «возрастающий», но они сумели.
– А если конверта с обратным адресом вместе с присланной рукописью не оказывалось? Рассказ летел в мусорную корзину? – спросил писатель. – Так?
– Безусловно. Не до них уже было.
Лицо молодого писателя приобрело какое-то странное выражение. Словно лицо человека, который попал в яму, куда запускают тигров, уже разорвавших в клочья несколько десятков более достойных людей. Пока еще человек не видит тигров. Но он чувствует, что они где-то рядом, и понимает, что когти их еще остры.
– Короче, – продолжил редактор, доставая портсигар, – рассказ пришел. Девушка, занимавшаяся почтой, достала его, подколола к первой странице бланк с отказом и уже собралась сунуть в конверт с обратным адресом, когда взгляд ее упал на фамилию автора. «Персонажей» она читала. В ту осень все читали эту книгу, либо уже, либо прямо сейчас, либо ждали очереди в библиотеке, либо рылись по книжным полкам в аптеках, ожидая, когда она выйдет в мягкой обложке.
Жена писателя, заметив мимолетное беспокойство на лице мужа, взяла его за руку. Тот ответил ей улыбкой. Редактор щелкнул под сигаретой золотым «Ронсоном», и при вспышке пламени в сгущающейся темноте все они заметили, какое старое у него лицо: висящие, словно из крокодиловой кожи, мешки под глазами, испещренные морщинами щеки, по-старчески торчащий подбородок, похожий на нос корабля. «И этот корабль, – подумалось писателю, – называется «Старость». Никто особенно не торопится в плавание на нем, но каюты всегда полны. И палубы, если уж на то пошло».
Огонек зажигалки погас, и редактор в задумчивости затянулся сигаретой.
– Девушка, которая прочла рассказ, вместо того чтобы отправить его обратно, теперь редактор в «Пантамс санз». Как ее зовут, сейчас не важно. Важно то, что на большой координатной сетке жизни вектор этой девушки пересекся с вектором Рега Торпа в отделе корреспонденции журнала «Логанс». Ее вектор шел вверх, его – вниз. Она отправила рассказ своему боссу, тот передал его мне. Я прочитал, и мне понравилось. Чуть длиннее, чем нам нужно, но я уже видел, где можно без ущерба сократить пять сотен слов, и этого вполне хватило бы.
– О чем рассказ? – спросил писатель.
– Об этом можно было бы и не спрашивать, – ответил редактор. – Его содержание отлично вписывается в мою историю.
– О том, как сходят с ума?
– Вот именно. Чему первым делом учат в колледжах обучающихся писательскому мастерству? Пишите о том, что знаете. Рег Торп писал об этом, потому что сходил с ума. И мне, возможно, рассказ понравился, потому что я двигался туда же. Вы можете, конечно, сказать – если бы кто-то из вас был редактором, – что меньше всего читающей публике нужен рассказ на тему: «В Америке мы сходим с ума со вкусом», подраздел А: «Никто больше не разговаривает друг с другом». Популярная тема в литературе двадцатого века. Все великие писали на эту тему, и все писаки заносили над ней топор. Но рассказ был смешной. Я хочу сказать, просто уморительный.
Никогда раньше я не читал ничего похожего, и позже – тоже. Ближе всего, может быть, стоят некоторые рассказы Скотта Фицджеральда… И «Гэтсби». В рассказе Торпа его герой сходит с ума, но сходит очень забавным образом. Вас не оставляет улыбка, и есть парочка мест – самое лучшее из них, где герой выливает белила на голову одной толстой девице, – когда вы просто смеетесь в голос. Но, знаете, смех такой… нервный. Смеетесь, а сами поглядываете через плечо, не подслушивает ли кто. Строки, создающие это напряжение, исключительно хороши: чем больше вы смеетесь, тем больше нервничаете. И чем больше нервничаете, тем больше смеетесь… до того самого момента, когда герой возвращается домой с приема, устроенного в его честь, и убивает жену и дочь.
– А каков сюжет? – спросил агент.
– Это не имеет значения, – ответил редактор. – Просто рассказ о молодом человеке, который постепенно проигрывает сражение с успехом. Лучше пусть у вас будет общее впечатление. Детальный пересказ сюжета просто скучен. Это всегда так.
Короче, я написал ему: «Дорогой Рег Торп, я только что прочел «Балладу о гибкой пуле» и думаю, что рассказ великолепен. Хотел бы опубликовать его в «Логансе» в начале будущего года, если Вас это устроит. Что Вы скажете о 800 долларах? Оплата сразу по соглашению. Почти сразу». Новый абзац…
Редактор снова проткнул вечерний воздух своей сигаретой.
– «Рассказ немного великоват, и я хотел бы, чтобы Вы сократили его примерно на пятьсот слов, если это возможно. Я даже соглашусь на две сотни: мы всегда можем выкинуть какую-нибудь карикатуру». Абзац. «Позвоните, если захотите». Подпись. И письмо пошло в Омаху.
– Вы все помните слово в слово? – спросила жена писателя.
– Всю нашу переписку я держал в специальной папке, – сказал редактор. – Его письма, копии моих. К концу их набралось довольно много, включая и три или четыре письма от Джейн Торп, жены Рега. Я часто их перечитывал. Безрезультатно, конечно. Пытаться понять гибкую пулю – это все равно что пытаться понять, почему у ленты Мебиуса только одна сторона. Просто так уж устроен этот лучший из миров… Да, я действительно помню все слово в слово. Почти все. Есть люди, которые помнят наизусть Декларацию независимости.
– Готов спорить, он позвонил на следующий же день, – сказал агент, ухмыляясь. – С оплатой разговора за счет редакции.
– Нет, не позвонил. Вскоре после выхода «Персонажей преступного мира» Торп вообще перестал пользоваться телефоном. Это сказала мне его жена. Когда они переехали из Нью-Йорка в Омаху, Торпы даже не устанавливали в новом доме аппарат. Он, понимаете ли, решил, что телефонная сеть на самом деле работает не на электричестве, а на радии. Считал, что это один из нескольких наиболее строго охраняемых секретов в истории современного человечества. Он уверял, жену в том числе, что именно радий ответственен за растущее число раковых заболеваний, а вовсе не сигареты, выхлопные газы и промышленные отходы. Мол, каждый телефон содержит в трубке маленький кристалл радия, и каждый раз, когда вы пользуетесь телефоном, вам всю голову наполняет радиацией.
– Пожалуй, он действительно свихнулся, – сказал писатель, и все рассмеялись.
– Он ответил письмом, – продолжил редактор, отшвыривая окурок в сторону озера. – В нем говорилось: «Дорогой Генри Уилсон (просто Генри, если не возражаете), Ваше письмо меня взволновало и обрадовало. А жена, пожалуй, была рада даже больше меня. Деньги меня устраивают, хотя, признаться, публикация на страницах «Логанса» – уже вполне адекватное вознаграждение (но деньги я, разумеется, приму). Я просмотрел Ваши сокращения и согласен с ними. Думаю, они и рассказ сделают лучше, и сохранят место для тех карикатур. С наилучшими пожеланиями, Рег Торп».
После его подписи стоял маленький рисунок, скорее даже что-то просто начириканное: глаз в центре пирамиды, как на обратной стороне долларового банкнота. Только вместо «Novus Ordo Seclorum» внизу ютились слова «Fornit Some Fornus».
– Или латынь, или какая-то шутка, – сказала жена агента.
– Просто свидетельство растущей эксцентричности Рега Торпа, – сказал редактор. – Его жена поведала мне, что Рег уверовал в каких-то маленьких человечков, что-то вроде эльфов или гномов. В форнитов. Для него это были эльфы удачи, и он считал, что один из них живет в его пишущей машинке.
– О Господи, – вырвалось у жены писателя.
– По Торпу, у каждого форнита был маленький приборчик наподобие пистолета-распылителя, заполненный… Видимо, можно сказать, порошком удачи. И этот порошок удачи…
– …называется «Форнус», – закончил за него писатель, широко улыбаясь.
– Да, его жена тоже думала, что это забавно. Вначале. Форнитов Торп придумал двумя годами раньше, когда планировал «Персонажей преступного мира», и поначалу она думала, что Рег просто над ней подшучивает. Может быть, когда-то так оно и было. Но потом выдумка развилась в суеверие, потом в непоколебимую веру. Я бы назвал это… гибкой выдумкой. Которая стала в конце концов твердой. Очень твердой.
Все молчали. Улыбки погасли.
– В этом деле с форнитами имелись и забавные стороны, – сказал редактор. – В конце пребывания Торпов в Нью-Йорке пишущую машинку Рега очень часто приходилось отдавать в ремонт, и еще чаще она оказывалась в мастерской после их переезда в Омаху. Один раз, когда его собственная машинка была в ремонте, Рег в той же мастерской взял машинку напрокат, а через несколько дней после того, как он забрал свою домой, ему позвонил менеджер и сказал, что вместе со счетом за ремонт и чистку его машинки Рег получит еще и счет за чистку той, которую он брал на время.
– А в чем было дело? – спросила жена агента.
– Кажется, я догадываюсь, – сказала жена писателя.
– Там оказалось полно всяческой еды, – сказал редактор. – Маленькие кусочки тортов и пирожных. На валике и на клавишах было намазано ореховое масло. Рег кормил форнита, живущего в пишущей машинке. И на тот случай, если форнит успел перебраться, он кормил и машинку, взятую напрокат.
– О Боже, – произнес писатель.
– Как вы понимаете, ничего этого я тогда еще не знал. Поэтому я ответил ему и написал, что очень рад его согласию. Моя секретарша отпечатала письмо, принесла его мне на подпись, а потом ей понадобилось зачем-то выйти. Я подписал – она все не возвращалась. И вдруг – я даже не могу сказать зачем – я поставил под своей фамилией тот же самый рисунок. Пирамиду. Глаз. И «Fornit Some Fornus». Идиотизм. Секретарша заметила и спросила, действительно ли я хочу, чтобы она отправила письмо в таком виде. Я пожал плечами и сказал, чтобы отправляла.
Через два дня мне позвонила Джейн Торп. Сказала, что мое письмо привело Рега в сильное возбуждение. Рег решил, что нашел родственную душу. Кого-то еще, кто знает про форнитов. Видите, какая сумасшедшая получилась ситуация? Насколько я тогда знал, форнит мог быть вообще чем угодно: от гаечного ключа до ножа для разделки мяса. То же самое касается и форнуса. Я объяснил Джейн, что просто скопировал рисунок Рега. Она захотела узнать почему. Я как мог уходил от ответа: не мог же я ей сказать, что, подписывая письмо, был здорово пьян.
Он остановился, и над лужайкой повисло неуютное молчание. Присутствующие принялись разглядывать небо, озеро, деревья, хотя ничего интересного там за последнюю минуту-две не прибавилось.
– Я пил всю свою взрослую жизнь и едва ли смогу сказать, когда начал терять контроль над этой страстью. В профессиональном смысле я удерживался над бутылкой почти до самого конца. Я начинал пить во время ланча и возвращался в редакцию «на бровях», однако там я функционировал безупречно. А вот выпивка после работы – сначала в поезде, потом дома, – именно это столкнуло меня за точку нормального функционирования.
У нас с женой и так хватало проблем, не связанных с пьянством, но пьянство эти проблемы только усложняло. Жена довольно долго собиралась уйти от меня, и за неделю до того, как я получил рассказ Торпа, она все-таки ушла.
Когда пришел рассказ, я как раз пытался как-то справиться с этим ударом. Пил слишком много. И вдобавок у меня наступило то, что сейчас, я думаю, стало модно называть «кризисом середины жизни». Тогда, однако, я знал только, что угнетен состоянием моей профессиональной жизни так же, как состоянием личной. Я с трудом справлялся… пытался справиться с растущим ощущением, что редактирование рассказов для массового потребителя, которые будут прочитаны лишь нервными пациентами в стоматологических клиниках, домохозяйками да изредка скучающими студентами, – занятие отнюдь не благородное. Я пытался сжиться с мыслью – все мы в «Логансе» пытались, – что еще через шесть, или десять, или четырнадцать месяцев «Логанса», возможно, уже не будет.
И вот посреди этого серого осеннего ландшафта средневозрастной озабоченности появляется, словно яркий солнечный луч, очень хороший рассказ очень хорошего писателя, забавный, энергичный взгляд на механику схождения с ума. Я знаю, это звучит странно, когда говоришь про рассказ, в котором главный герой убивает жену и маленького ребенка, но вы спросите любого редактора, что такое настоящая радость, и он скажет вам, что это неожиданно появляющийся блестящий роман или рассказ, который приземляется на вашем столе, словно большой рождественский подарок. Вы все, наверно, знаете рассказ Ширли Джексон «Лотерея». Он кончается так плохо, что хуже и представить себе трудно. Я имею в виду, что там до смерти забивают камнями одну добрую леди. И в убийстве участвуют ее сын и дочь, можете себе представить! Но это великолепный рассказ. Готов спорить, редактор «Нью-Йоркера», который первым его прочел, в тот день ушел домой насвистывая. Я все это говорю к тому, что рассказ Торпа стал для меня лучшим, что случилось тогда в моей жизни. Единственным хорошим событием. И из того, что его жена сказала мне в тот день по телефону, я понял, что для Рега мое согласие на публикацию рассказа было единственным хорошим событием за последнее время. Отношения автора и редактора – это всегда взаимный паразитизм, но в нашем с Регом случае этот паразитизм достиг неестественной степени.
– Давайте вернемся к Джейн Торп, – предложила жена писателя.
– Да. Я в каком-то смысле отвлекся. Она была очень рассержена из-за форнитов. Сначала. Я сказал ей, что просто начирикал символ с пирамидой и глазом под своей подписью, не имея понятия, что это такое, и извинился, если сделал что-то не так.
Джейн преодолела свое раздражение и рассказала мне о том, что происходило. Она, видимо, тревожилась все больше и больше, потому что поговорить ей было не с кем. Родители умерли, а все друзья остались в Нью-Йорке. Рег не пускал в дом никого. Они все, говорил он, или из налогового управления, или из ФБР, или из ЦРУ. Вскоре после того, как они переехали в Омаху, в их двери постучала маленькая девочка-скаут, продававшая скаутские пирожные для сбора средств. Рег наорал на нее, велел убираться к черту, поскольку он, мол, знает, зачем она здесь, и все такое. Джейн пыталась спорить с ним, заметив, что девочке всего десять лет. На что Рег сказал, что у людей из налогового управления нет ни души, ни совести. И кроме того, эта маленькая девочка, мол, вполне могла быть андроидом. Андроиды якобы не подлежат защите по законам о детском труде. Люди из налогового управления запросто могут подослать к нему андроида – девочку-скаута, набитую кристаллами радия, чтобы вызнать, не прячет ли он каких-нибудь секретов, а заодно и напулять в него канцерогенных лучей.
– Боже правый, – произнесла жена агента.
– Она ждала дружеского голоса, и мой оказался первым. Я услышал историю про девочку-скаута, узнал о том, как ухаживать за форнитами и чем их надо кормить, услышал про форнус и про то, что Рег отказывается пользоваться телефоном. Со мной она говорила по платному телефону из аптеки, что в пяти кварталах от их дома. Джейн сказала мне, что на самом деле Рег боялся не чиновников из налогового управления и не людей из ЦРУ или ФБР. Больше всего его беспокоило, что они – некая анонимная группа лиц, которые ненавидят Рега, завидуют ему и не остановятся ни перед чем, чтобы с ним разделаться, – узнают про форнита и захотят его убить. А если форнит умрет, не будет больше ни романов, ни рассказов, ничего не будет. Чувствуете? Квинтэссенция безумия. Они собираются его прикончить. В конце концов главным пугалом стало даже не налоговое управление, которое, должно быть, устроило ему адскую жизнь из-за доходов от «Персонажей преступного мира», а они. Типичная параноидальная фантазия. Они хотели убить его форнита.
– Боже, и что ты ей сказал? – спросил агент.
– Попытался успокоить ее, – ответил редактор. – Можете себе представить, я, только что после ланча с пятью мартини, разговариваю с перепуганной женщиной, стоящей в телефонной будке в аптеке в Омахе, и пытаюсь убедить ее, что все в порядке и она не должна волноваться из-за того, что ее муж верит, будто в телефонах полно кристаллов радия или будто какая-то анонимная группа подсылает к нему андроидов в обличье девочек-скаутов собирать о нем информацию. Уговариваю не беспокоиться из-за того, что ее муж до такой степени отделил свой талант от собственных способностей, что в конце концов поверил, будто в его пишущей машинке живет эльф.
Я не думаю, что в чем-то ее убедил.
Она просила меня – нет, умоляла, – чтобы я поработал с Регом над его рассказом, чтобы он был опубликован. Она едва-едва не признала, что «Гибкая пуля» – это, может быть, последний контакт Рега с тем, что мы, смеясь, называем реальностью.
Я спросил ее, что мне делать, если Рег снова упомянет форнитов. «Подыграйте ему», – ответила она. Именно так. «Подыграйте ему». Потом она повесила трубку.
На следующий день я нашел в почте письмо от Рега. Пять страниц, отпечатанных через один интервал. В первом параграфе говорилось о рассказе. Он сообщал, что второй вариант продвигается успешно. Предполагал, что сможет убрать семьсот слов из первоначальных десяти тысяч пятисот, доведя объем рассказа до плотных девяти тысяч восьмисот.
Все остальное было про форнитов и форнус. Его собственные наблюдения и вопросы… десятки вопросов.
– Наблюдения? – Писатель наклонился вперед. – Он действительно видел их?
– Нет, – сказал редактор. – На самом деле он их не видел, но в определенном смысле… все-таки видел. Астрономы, например, знали про Плутон задолго до того, как появились телескопы достаточно мощные, чтобы увидеть планету. Они узнали все, наблюдая за орбитой Нептуна. И таким же образом Рег вел наблюдения за форнитами. Замечал ли я, что они любят есть ночью? Он кормил их и в дневные часы, но потом заметил, что почти вся пища исчезает только после восьми вечера.
– Галлюцинация? – спросил писатель.
– Нет, – ответил редактор. – Его жена вычищала из машинки сколько могла, когда Рег уходил на вечернюю прогулку. А он уходил каждый вечер часов около девяти.
– И как у нее хватило духа обвинять тебя? – осуждающе пробормотал агент, усаживаясь в скрипнувшем под его тяжестью садовом кресле поудобнее. – Она сама подкармливала его фантазии.
– Ты не понимаешь, почему она позвонила и почему она была расстроена, – спокойно сказал редактор, потом посмотрел на жену писателя. – Но, я думаю, ты, Мег, догадываешься?
– Может быть, – сказала она и искоса бросила на мужа виноватый взгляд. – Она разозлилась не потому, что ты давал дополнительную почву его фантазиям. Она боялась, что ты их разрушишь.
– Браво. – Редактор зажег новую сигарету. – И по той же причине она убирала корм для форнитов. Если бы пища продолжала накапливаться в машинке, Рег, следуя прямо от своего первого иррационального постулата, сделал бы совершенно рациональный вывод, а именно, что его форнит либо умер, либо ушел. Следовательно, конец форнусу. Следовательно, конец писательству. Следовательно… – Он замолчал, позволив последнему слову улететь вместе с табачным дымом, потом продолжил: – Он думал, что форниты, по всей вероятности, ведут ночной образ жизни. Они не любили громких звуков: он заметил, что не может работать наутро после больших шумных вечеринок. Они ненавидели телевидение, ненавидели статическое электричество, ненавидели радий. Рег писал, что продал свой телевизор за двадцать долларов и давно уже избавился от наручных часов со светящимся циферблатом. Дальше шли вопросы. Как я узнал про форнитов? Может быть, у меня тоже живет один? Если так, то что я думаю об этом и о том? Видимо, нет смысла пересказывать его письмо в подробностях. Если у вас когда-нибудь была собака какой-то определенной породы и вы припомните, какие вопросы задавали владельцам таких же собак насчет ухода за ней и кормления, вы легко представите себе вопросы, которыми засыпал меня Рег. Одной маленькой закорючки под моей подписью оказалось достаточно, чтобы открыть ящик Пандоры.
– Что ты написал в ответ? – спросил агент.
– Здесь-то и начались неприятности, – медленно произнес редактор. – Для нас обоих. Джейн попросила подыграть ему, что я и сделал. К счастью, слишком хорошо. Ответ на его письмо я писал дома, будучи сильно пьяным. Квартира казалась совсем опустевшей. Пахло чем-то застойным: сигаретный дым, недостаточное проветривание. Когда Сандра ушла, все развалилось. Мятое покрывало на диване. Грязные тарелки в раковине. И все такое. Мужчина средних лет, не приспособленный к ведению домашнего хозяйства…
Я сидел перед машинкой с заправленным в нее бланком и думал: «Мне нужен форнит. Пожалуй даже, мне нужна целая дюжина форнитов, чтобы они посыпали форнусом весь этот проклятый одинокий дом». В тот момент я был достаточно пьян, чтобы позавидовать помешательству Рега Торпа.
Я написал ему, что у меня, конечно же, тоже есть форнит и что он удивительно походит повадками на форнита Рега. Ведет ночной образ жизни. Ненавидит шум, но, кажется, любит Баха и Брамса… Мне часто работается лучше всего после того, как я вечером послушаю их музыку – так я ему и написал. Написал также, что мой форнит определенно питает слабость к киршнерской колбасе. Пробовал ли Рег кормить своего этим блюдом? Я просто оставляю кусочки около синего редакторского карандаша, который всегда беру домой, и наутро они почти всегда исчезают. Разумеется, если предыдущим вечером не было шумно, как Рег и сам заметил. Я написал ему, что благодарен за информацию о радии, хотя у меня и нет часов со светящимся циферблатом. Рассказал, что мой форнит живет у меня еще с колледжа. Мое собственное сочинительство так захватило меня, что я отпечатал почти шесть страниц. Только в самом конце я добавил абзац о рассказе, чисто для проформы, и подписался.
– А под подписью?.. – спросила жена литературного агента.
– Разумеется, Fornit Some Fornus. – Он умолк на секунду. – Вы в темноте не видите, конечно, но я покраснел. Я был тогда жутко пьян и жутко доволен собой… Утром я, возможно, опомнился бы, но к тому времени было уже поздно.
– Ты отправил письмо в тот же вечер? – пробормотал писатель.
– Да, именно. А потом полторы недели ждал затаив дыхание. Наконец получил рукопись, адресованную в редакцию на мое имя, но без сопроводительного письма. Он сократил все, о чем мы договаривались, и я решил, что теперь рассказ просто безукоризнен, но сама рукопись… Я положил ее в свой кейс, отнес домой и перепечатал. Все листы были в странных желтых пятнах, и я подумал…
– Моча? – спросила жена агента.
– Да, я сначала тоже так подумал. Но оказалось, нет. Вернувшись домой, я обнаружил в почтовом ящике письмо от Рега. На этот раз десять страниц. И из содержания его становилось ясно, откуда взялись желтые пятна, – он не нашел киршнерской колбасы и попробовал кормить форнита джорданской.
Писал, что форниту понравилось. Особенно с горчицей.
В тот день я был более или менее трезв. Но его письмо в сочетании с этими жалкими горчичными пятнами, отпечатавшимися на листах рукописи, заставили меня двинуться прямиком к бару. Как говорится: «Круг не прошел – двести долларов не получаешь. Двигайся прямо в бар»[52].
– А что еще он писал? – спросила жена агента. Рассказ все больше и больше завораживал ее. Она наклонилась вперед, перегнувшись через собственный немалых размеров живот в позе, напомнившей жене писателя щенка Снупи[53], влезшего на свою будку и изображающего горного орла.
– На этот раз всего две строчки про рассказ. Мол, вся заслуга принадлежит форниту… и мне. Идея с колбасой, мол, просто великолепна. Ракне от нее в полном восторге, и как следствие…
– Ракне? – переспросил писатель.
– Это имя форнита, – ответил редактор. – Ракне. И как следствие, Ракне серьезно помог ему с доработкой рассказа. А все остальное в письме – настоящий параноидальный бред. Вы такого в жизни никогда не видели.
– Рег и Ракне – союз, заключенный на небесах, – произнесла жена писателя, нервно хихикнув.
– Вовсе нет, – сказал редактор. – У них сложились чисто рабочие отношения. Ракне был мужского пола.
– Ладно, расскажи нам, что было дальше в письме.
– Это письмо я наизусть не помню. Для вас же, может быть, лучше. Даже ненормальность начинает через некоторое время утомлять. Рег писал, что их молочник из ЦРУ. Почтальон – из ФБР: Рег видел у него в сумке с газетами револьвер с глушителем. Люди в соседнем доме просто какие-то шпионы: у них фургон с аппаратурой для слежки. В угловой магазин за продуктами он больше ходить не осмеливается, потому что его хозяин – андроид. Он, мол, и раньше это подозревал, но теперь совсем уверен. Рег заметил перекрещивающиеся провода у него на черепе под кожей в том месте, где хозяин начал лысеть. А засоренность дома радием в последнее время значительно повысилась: по ночам он замечал в комнатах слабое зеленоватое свечение.
Письмо его заканчивалось следующими строками: «Я надеюсь, Генри, Вы напишете мне и расскажете о Вашем (и Вашего форнита) положении относительно врагов. Уверен, что контакт с Вами – это явление весьма не случайное. Я бы сказал, что это спасательный круг, посланный (Богом? провидением? судьбой? любое слово на Ваш выбор) в самый последний момент. Человек не может в одиночку долго сопротивляться тысяче врагов. И обнаружить наконец, что ты не один… Видимо, я не сильно преувеличу, если скажу, что общность происходящего с нами – это единственное, что спасает меня от полного краха. Думаю, не сильно. Мне нужно знать, преследуют ли враги Вашего форнита так же, как моего? Если да, то как Вы с ними боретесь? Если нет – то, как Вы думаете, почему? Повторяю, мне очень нужно это знать».
Письмо было подписано закорючкой с девизом «Fornit Some Fornus», потом следовал постскриптум в одно предложение. Одно, но совершенно убийственное. «Иногда я сомневаюсь в своей жене».
Я прочел письмо три раза подряд и по ходу дела уговорил целую бутылку «Блэк велвет»[54]. Потом начал раздумывать, что ему ответить. Я не сомневался, что передо мной «крик тонущего о помощи». Какое-то время работа над рассказом держала его на поверхности, но теперь она завершилась. Теперь целостность его рассудка зависела от меня. Что было совершенно логично, поскольку я сам навлек на себя эту заботу.
Я ходил туда-сюда по пустым комнатам. Потом начал выключать все из сети. Я был пьян, вы понимаете, а обильное принятие спиртного открывает совершенно неожиданные перспективы внушаемости. Почему, собственно, редакторы и юристы всегда готовы оплатить три круга подряд перед заключением контрактов во время ланча.
Литературный агент расхохотался, но атмосфера общей неуютной напряженности сохранилась.
– И пожалуйста, помните, Рег Торп был исключительным писателем. Он демонстрировал абсолютную убежденность в том, о чем писал. ФБР, ЦРУ, налоговое управление – они враги. Некоторые писатели обладают очень редким даром писать тем серьезнее и спокойнее, чем больше их беспокоит тема. Стейнбек умел это, и Хемингуэй… И Рег Торп обладал тем же талантом. Когда вы входили в его мир, все начинало казаться очень логичным. И, приняв саму идею форнитов, вполне можно было поверить в то, что почтальон действительно держит в своей сумке пистолет тридцать восьмого калибра с глушителем. Или что соседи-студенты на самом деле агенты КГБ с упрятанными в восковых зубах капсулами с ядом, агенты, посланные убить или поймать Ракне любой ценой.
Конечно же, я не поверил в базовую идею. Но мне было тяжело думать. И я стал выключать из сети все подряд. Сначала цветной телевизор, потому как всем известно, что они действительно что-то излучают. В свое время мы опубликовали в «Логансе» статью вполне респектабельного ученого, предположившего, что излучение, испускаемое домашними телевизионными приемниками, нарушает ритмы активности человеческого мозга, может быть, и в незначительной степени, но всегда. Он также предположил, что в этом заключается причина падения успеваемости студентов, ухудшения результатов проверок грамотности и ослабления арифметических способностей у школьников младших классов. Кто, в конце концов, сидит всегда ближе всех к телевизору?
Короче, я отключил телевизор, и мне показалось, что мои мысли действительно прояснились. Мне стало настолько лучше, что я отключил радио, тостер, стиральную машину и сушилку. Потом я вспомнил про микроволновую печь и отключил ее тоже. Меня охватило настоящее чувство облегчения, когда я вырвал у проклятой твари зубы: у нас стояла печь одного из первых выпусков, огромная, как дом, и, возможно, действительно опасная. Сейчас их экранируют гораздо лучше.
Раньше я просто не представлял, сколько в обычном зажиточном доме вещей, которые втыкаются в стену. Мне привиделся образ этакого зловредного электрического осьминога со змеящимися в стенах электропроводами вместо щупалец, которые соединены с проводами снаружи, которые все идут к энергостанции, принадлежащей правительству.
Редактор замолчал, отхлебнул минеральной и продолжил:
– И пока я все это делал, мое мышление как бы раздвоилось. В основном я действовал, подчиняясь суеверному импульсу. На свете множество людей, которые ни за что не пройдут под лестницей и не станут открывать зонтик в доме. Есть баскетболисты, которые меняют носки, когда игра не клеится. Я думаю, в таких случаях рациональный разум просто играет в стереодисбалансе с иррациональным подсознанием. Если бы меня попросили определить «иррациональное подсознание», я бы сказал, что это расположенная в мозгу у каждого из нас маленькая, обитая изнутри мягким материалом комната, где стоит только один карточный столик, на котором нет ничего, кроме револьвера, заряженного гибкими пулями.
Когда вы, идя по улице, сворачиваете, чтобы не проходить под лестницей, или выходите из дома под проливной дождь со сложенным зонтиком, часть вашей цельной личности отделяется, заходит в эту комнату и берет со стола револьвер. Может быть, вы даже держите в голове одновременно сразу две мысли: «Ходить под лестницей безопасно» и «Не ходить под лестницей тоже безопасно». Но как только лестница оказывается позади – или когда зонтик открывается, – вы снова воссоединяетесь.
– Очень интересная мысль, – сказал писатель. – Я надеюсь, ты не откажешься развить ее чуть дальше. Когда, по-твоему, иррациональная часть личности прекращает баловаться с оружием и приставляет пистолет себе к виску?
– Когда человек начинает писать в газеты, требуя, чтобы лестницы запретили, потому что ходить под ними опасно.
Все рассмеялись.
– Раз уж я развил эту мысль, ее следует закончить. Иррациональная часть личности стреляет в мозг гибкой пулей, когда человек начинает крушить все вокруг, сшибая лестницы и, возможно, нанося увечья тем, кто на них работает. Когда человек обходит лестницу, вместо того чтобы пройти под ней, это еще ничего не значит. Даже когда он начинает писать в газеты, заявляя, что Нью-Йорк приходит в упадок, потому что люди бездумно ходят под лестницами, на которых кто-то работает, это тоже ничего не значит. Но когда он принимается сшибать лестницы, тогда он уже ненормален.
– Потому что это не скрывается, – пробормотал писатель.
– А ты знаешь, Генри, – сказал агент, – в этом что-то есть. Я вот, например, всегда говорю, что нельзя прикуривать втроем от одной спички. Не знаю, откуда у меня взялся этот пунктик, но как-то раз я услышал, что примета появилась еще в Первую мировую войну. Оказывается, германские снайперы всегда выжидали, пока томми[55] начнут прикуривать друг у друга. По первому наводишься, по второму прицеливаешься, а третьему разносишь башку. Впрочем, то, что я узнал все это, ничего не меняет: я до сих пор не даю прикуривать троим от одной спички. Одна моя половина говорит, что совершенно не имеет значения, сколько сигарет прикуривать – хоть дюжину. Зато другая вещает зловещим голосом, как скверное подражание Борису Карлоффу[56]: «О-о-о, если ты-ы-ы сде-е-елаешь э-э-это…»
– Но не всякое безумие связано с суеверием, правильно? – робко спросила жена писателя.
– Ой ли? – ответил редактор. – Жанна д’Арк слышала голоса с небес. Люди, случается, думают, что в них вселились демоны. Другие видят наяву гремлинов, или дьяволов… или форнитов. Даже термины, которые мы используем, чтобы обозначить безумие, обязательно предполагают суеверие в той или иной форме. Мания… ненормальность… иррациональность… лунатизм… сумасшествие. Для сумасшедшего реальность искажается, и тогда в ту маленькую комнату, где лежит пистолет, перетекает вся личность целиком.
Моя же рациональная половина все еще оставалась на месте. Окровавленная, избитая до синяков, негодующая и довольно напуганная, но пока еще на месте. Она говорила мне: «Ладно, все в порядке. Завтра, когда протрезвеешь, воткнешь все обратно, слава Богу. А пока можешь поиграть в свои игры, если уж тебе это так нужно, но не более того. Не более».
Рациональный голос имел полное право быть испуганным. В каждом из нас есть что-то, что просто тянется к безумию. Всякий, кто смотрел вниз с крыши очень высокого здания, наверняка чувствовал хотя бы слабый, но отвратительный позыв прыгнуть. А каждый, кто подносил к виску заряженный пистолет…
– Не надо, – сказала жена писателя. – Пожалуйста.
– Хорошо, не буду, – сказал редактор. – Я к чему все это говорил: даже люди с самой крепкой психикой удерживают свое здравомыслие, цепляясь за скользкую веревку. Я действительно в это верю. Цепи рациональности смонтированы в человеке очень небрежно.
Короче, уже не сдерживаемый ничем, я пошел в свой кабинет, напечатал письмо Регу Торпу, вложил его в конверт, наклеил марку и отправил в тот же вечер. На самом деле я ничего этого не помню: слишком был пьян. Но, видимо, я все это действительно сделал, потому что, проснувшись на следующее утро, я обнаружил рядом с пишущей машинкой копию письма, марки и коробку с конвертами. Содержание письма вполне соответствовало тому, что можно ожидать от пьяного. Общий смысл был таков: врагов привлекают не только форниты, но еще и электричество, поэтому, когда ты избавишься от электричества, ты избавишься от врагов. В конце я приписал: «Электричество влияет на то, что ты думаешь об этих вещах, Рег. Интерферирует с ритмами мозга. Кстати, у твоей жены есть кухонный смеситель?»
– Фактически ты начал «писать письма в газету», – сказал писатель.
– Да. Это письмо я написал в пятницу вечером. В субботу утром я проснулся около одиннадцати с жутким похмельем и очень смутными воспоминаниями о том, что это на меня вчера нашло. Втыкая электроприборы в розетки, я ощущал мощные приливы стыда. И еще более мощные приливы, когда я увидел, что написал Регу. Я перерыл весь дом, разыскивая оригинал письма в надежде, что все-таки не отправил его. Но оказалось, отправил. Остаток того дня я как-то пережил, приняв решение справляться с ударами судьбы как мужчина и завязать пить. Я был уверен, что сумею.
В следующую среду пришло письмо от Рега. Одна страница от руки, почти целиком изрисованная закорючками со словами «Fornit Some Fornus». А в центре всего несколько предложений: «Ты был прав. Спасибо, спасибо, спасибо. Рег. Ты был прав. Теперь все в порядке. Рег. Огромное спасибо. Рег. Форнит чувствует себя отлично. Рег. Спасибо. Рег».
– О Боже, – прошептала жена писателя.
– Готов спорить, жена Рега была вне себя, – сказала жена агента.
– Напротив. Потому что это сработало.
– Сработало? – переспросил агент.
– Он получил мое письмо с утренней почтой в понедельник. В полдень он отправился в местную контору энергокомпании и сказал, чтобы они отключили подачу электричества к его дому. Джейн Торп, конечно, закатила истерику. Ее плита работала на электричестве, а кроме нее, еще смеситель, швейная машинка, посудомоечно-сушильный агрегат… ну, сами понимаете. К вечеру понедельника, я уверен, она была готова меня убить.
Только поведение Рега убедило ее в том, что я не псих, а чудотворец. Он спокойно усадил ее в гостиной и вполне рационально объяснился с ней. Сказал, будто понимает, что последнее время вел себя несколько странно, и знает, что она беспокоится. Сказал, что с отключением электричества чувствует себя гораздо лучше и будет счастлив помогать ей по хозяйству, чтобы облегчить хлопоты, которые это вызвало. Потом предложил заглянуть поболтать к соседям.
– К агентам КГБ с фургоном, набитым радием? – спросил писатель.
– Да, к ним. Джейн это просто ошеломило. Она согласилась пойти, но призналась мне позже, что готовилась к какой-нибудь действительно некрасивой сцене: обвинения, угрозы, истерика. Она даже собиралась уйти от Рега, если он не согласится на профессиональную помощь. В ту среду утром Джейн сказала мне по телефону, что дала себе обещание: электричество – это последняя капля. Еще хоть что-нибудь, и она уезжает в Нью-Йорк. Джейн, понятно, начинала бояться. Все менялось так постепенно, почти неуловимо, и она любила его, но даже ее терпению приходил конец. Джейн решила, что, если Рег скажет этим соседям-студентам хоть одно резкое слово, она уйдет. Гораздо позже я узнал, что она окольными путями пыталась получить информацию о том, как оформляется в Небраске отправка на принудительное лечение.
– Бедная женщина, – пробормотала жена писателя.
– Но вечер, однако, прошел блестяще, – сказал редактор. – Рег был обаятелен в лучших своих традициях, а если верить Джейн, это значит – очень обаятелен. Она уже года три не видела его таким веселым. Замкнутость, скрытность – все исчезло. Нервный тик. Невольные прыжки и взгляды через плечо, когда где-то открывается дверь. Он выпил пива и охотно разговаривал на любые темы, что волновали людей в те сумеречные мертвые дни: война, перспектива добровольной воинской службы, беспорядки в городах, законы против марихуаны.
Потом всплыло, что Рег написал «Персонажей преступного мира», и они все, как выразилась Джейн, «авторопели». Трое из четверых книгу уже читали, и, можете быть уверены, четвертый потом пулей понесся в библиотеку.
Писатель рассмеялся и кивнул. Знакомая ситуация.
– Итак, – сказал редактор, – мы оставим на какое-то время Рега Торпа и его жену – без электричества, но гораздо более счастливыми, чем прежде…
– Хорошо еще, что он печатал не на электрической машинке, – сказал агент.
– …и вернемся к вашему редактору. Прошло две недели. Кончалось лето. Ваш редактор, конечно, не удержался и несколько раз «развязывал», хотя в целом ему удавалось сохранять респектабельность. Дни шли своим чередом. На мысе Кеннеди готовились отправить человека на Луну. Вышел свежий номер «Логанса» с Джоном Линдсеем на обложке и, как всегда, разошелся плохо. Я сдал на оформление заказ на рассказ «Баллада о гибкой пуле»: автор – Рег Торп, право первой публикации, предполагаемая дата публикации – январь 1970 года, предполагаемый гонорар – 800 долларов, что в те времена было стандартом для основного произведения в номерах «Логанса».
Потом позвонил мой начальник, Джим Доуган. Не могу ли я заглянуть к нему? Я поднялся в кабинет к десяти утра, чувствуя себя в лучшем виде и всем своим видом это демонстрируя. Только позже до меня дошло, что Дженни Моррисон, его секретарша, выглядела в то утро так, словно еще не проснулась.
Я сел и спросил, чем могу быть ему полезен. Не буду говорить, что имя Рега Торпа не приходило мне в голову: то, что мы заполучили его рассказ, было для «Логанса» огромной удачей, и кое-кому полагались поздравления. Поэтому можете себе представить, как я был ошарашен, когда он продвинул мне через стол два бланка заказов на приобретение произведений. Рассказ Торпа и повесть Апдайка, которую мы планировали на февраль 1970-го. На обоих стоял штамп «ВОЗВРАТ».
Я взглянул на возвращенные заказы, потом на Джимми. Я ничего не понимал. В полном смысле слова не мог собраться с мыслями и сообразить, в чем тут дело. Что-то мешало. Я оглянулся и увидел маленькую электроплитку. Дженни приносила ее каждое утро и включала в сеть, чтобы Джим всегда, когда захочет, мог пить свежий кофе. Эта процедура вошла в правило уже года три или четыре назад. Но в то утро у меня в голове вертелась только одна мысль: «Если эту штуку выключить, я смогу думать. Я знаю, что, если выключить эту штуку, я во всем разберусь».
– Что это, Джим? – спросил я.
– Мне чертовски жаль, Генри, что именно мне приходится тебе об этом сообщать, – сказал он, – но с января 1970 года «Логанс» больше не печатает беллетристику.
Редактор умолк, ища сигарету, но его портсигар оказался пуст.
– У кого-нибудь есть курить?
Жена писателя протянула ему пачку «Салема».
– Спасибо, Мег.
Он закурил, погасил спичку взмахом руки и глубоко затянулся. В темноте засветился кончик сигареты.
– Короче, – продолжил он, – я уверен, что Джимми решил, будто я рехнулся. Я спросил его: «Не возражаешь?», потом, не дожидаясь ответа, протянул руку и выдернул из розетки шнур электроплитки.
У Джима отвисла челюсть.
– Какого черта, Генри?
– Мне трудно думать, когда эта штука работает. Интерференция, – объяснил я, и мне показалось, что это действительно так, поскольку с выключенной плиткой я смог вникнуть в ситуацию гораздо лучше. – Означает ли это, что меня вышибут?
– Я не знаю, – сказал он. – Это будут решать Сэм и совет директоров. Я просто не знаю, Генри.
Я мог бы много чего сказать. Джим, наверно, ожидал, что я буду умолять оставить меня. Знаете, есть поговорка: «С голым задом на ветру…»? Смысл ее трудно понять до тех пор, пока вы не испытаете на себе, что значит быть руководителем внезапно прекратившего свое существование отдела.
Но я не стал просить ни за себя, ни за судьбу беллетристики в «Логансе». Я просил за рассказ Рега Торпа. Сначала я сказал, что мы можем ускорить это дело и втиснуть его в декабрьский номер.
– Но, Генри, – сказал Джимми, – декабрьский уже полностью подготовлен. Ты сам знаешь. И потом, разговор идет о десяти тысячах слов.
– Девять восемьсот, – сказал я.
– И иллюстрация на страницу, – сказал он. – Забудь.
– Ну давай выбросим картинку, – предложил я. – Послушай, Джимми, это блестящий рассказ, может быть, самый лучший из того, что мы печатали за последние пять лет.
– Я читал его, Генри, – сказал Джимми. – И я знаю, что это отличный рассказ. Но мы просто не можем этого сделать. Рождество, а ты, черт побери, хочешь подбросить под рождественские елки Америки рассказ о человеке, который убивает жену и ребенка! Ты, должно быть, совсем… – Тут он умолк, и я перехватил его взгляд в сторону электроплитки. С таким же успехом он мог бы сказать то, что собирался, вслух.
Писатель медленно кивнул, не отрывая глаз от темного овала лица редактора.
– У меня началась головная боль. Сначала совсем несильная, и я вспомнил, что у Дженни Моррисон на столе стоит электрическая точилка для карандашей. Потом все эти флуоресцентные лампы в кабинете Джима… Обогреватели. Торговые автоматы в конце коридора. Если вдуматься, все здание целиком работало на электричестве. Я с удивлением задался вопросом, как тут вообще что-то удавалось сделать… И, наверно, в этот момент мне в голову заползла новая мысль. О том, что «Логанс» идет ко дну, потому что никто здесь не может думать в полную силу. А причина этого в том, что редакция размещается в высотном здании, которое работает на электричестве. Все наши мыслительные процессы совершенно искажены. Я еще, помню, подумал, что, если сюда пригласить медика с машиной для снятия электроэнцефалограмм, она бы выдала совершенно дикие кривые, сплошь состоящие из этих больших пиковых альфа-ритмов, характерных для злокачественных опухолей в мозгу.
От таких мыслей голова у меня совсем разболелась. Но я сделал еще одну попытку. Я попросил его по крайней мере поговорить с Сэмом Вадаром, главным редактором журнала, чтобы тот разрешил оставить рассказ в январском номере. Хотя бы как символ прощания с беллетристикой в «Логансе». Последний рассказ журнала.
Джимми поигрывал карандашом и кивал. Потом сказал:
– Я попробую, но, знаешь, я не думаю, что из этого что-то получится. У нас есть рассказ автора всего одного романа и рассказ Джона Апдайка, который ничуть не хуже. Может быть, даже лучше, и…
– Рассказ Апдайка не лучше! – не выдержал я.
– Бога ради, Генри, вовсе не обязательно кричать.
– А Я И НЕ КРИЧУ! – заорал я.
Он долго не сводил с меня взгляда. Голова у меня уже просто раскалывалась. Я слышал жужжание флуоресцентных ламп, похожее на звук, который получится, если посадить десяток мух в бутылку. И мне казалось, что я слышу, как Дженни включила точилку. «Они это специально делают, – подумал я. – Они хотят совсем меня с ума свести. Они знают, что я не смогу найти правильный ответ, пока эти штуки работают, и…»
Джим продолжал говорить что-то о целесообразности поднять на следующем редакционном совещании вопрос о том, что, может быть, стоит опубликовать те рассказы, относительно которых у меня есть с авторами по крайней мере устная договоренность, вместо того чтобы обрубать все публикации с определенного числа, хотя…
Я встал, прошел через комнату и выключил свет.
– Зачем ты это сделал? – спросил Джим.
– Ты знаешь зачем, – сказал я. – Тебе тоже следует смываться отсюда, Джимми, пока у тебя в голове еще хоть что-то осталось.
Он встал и подошел ко мне.
– Я думаю, тебе надо пойти отдохнуть, Генри, – сказал он. – Иди домой. Полежи. Я знаю, что последнее время тебе пришлось нелегко. Можешь быть уверен, я сделаю все, что в моих силах. По поводу рассказа я придерживаюсь такого же мнения, что и ты… Почти такого же. Но сейчас тебе следует пойти домой, закинуть ноги на столик и просто посмотреть телевизор.
– Телевизор, – сказал я и рассмеялся. Смешнее этого я, казалось, ничего никогда не слышал. – Джимми. Передай от меня кое-что Сэму Вадару, ладно?
– Что?
– Скажи, что ему нужен форнит. Впрочем, даже не один. И не одному ему. Целая дюжина форнитов.
– Форнит, – сказал он, кивнув. – О’кей, Генри. Я передам.
Голова у меня болела так, что я едва видел комнату перед собой. Но откуда-то из подсознания уже выплыли вопросы: «Как я скажу об этом Регу? Как он это воспримет?»
– Я оформлю заказ сам, если смогу узнать, куда обратиться, – сказал я. – Рег, наверно, поможет мне. Дюжина форнитов. Чтобы обсыпали редакцию форнусом сверху донизу. И надо выключить все электричество, все! – Я мерил шагами кабинет, а Джим смотрел на меня с открытым ртом. – Надо выключить все электричество, Джимми. Ты им скажи об этом. Сэму скажи. А то никто ничего уже не соображает из-за воздействия электричества, согласен?
– Согласен, Генри. На все сто процентов. Но ты иди домой и отдохни. Поспи или еще что…
– И форниты… Они не любят этого воздействия. Радий, электричество – все один черт. А кормить их нужно будет колбасой. Пирожными, ореховым маслом. Это все можно заказать? – В голове у меня словно завис черный шар боли. Я видел перед собой пару Джимов, и вообще все двоилось. Внезапно мне захотелось выпить. Если форнуса нет, как уверяла меня моя рациональная половина, тогда выпивка – единственное средство, которое поможет мне прийти в себя.
– Разумеется, мы все закажем, – сказал он.
– Ты мне не веришь, Джим? – спросил я.
– Конечно, верю. Все в порядке. Иди домой и немного отдохни.
– Ты не веришь мне, – сказал я, – но, может быть, поверишь, когда эта лавочка обанкротится. Да и как ты можешь думать, что принимаешь рациональные решения, когда ты сидишь меньше чем в пятнадцати ярдах от целого скопища автоматов, продающих кока-колу, пирожные и сандвичи? – Тут меня посетила действительно ужасная мысль, и я закричал: – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ! ТАМ В АВТОМАТАХ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ РАЗОГРЕВА БУТЕРБРОДОВ!
Он начал говорить что-то, но я, не обращая на него внимания, выбежал из кабинета. Микроволновые духовки объясняли все. Нужно было скорее убираться оттуда, потому что именно они вызывали у меня такую головную боль. Я успел заметить в приемной Дженни, Кейт Янгер из отдела рекламы и Мерта Стронга из бюро информации. Все они удивленно уставились на меня, потому что, должно быть, слышали, как я кричал.
Мой кабинет находился этажом ниже. Я сбежал по лестнице, влетел к себе и, выключив свет, схватил кейс. Вниз добрался лифтом, но при этом я зажал кейс между ног и заткнул пальцами уши. Помню, три или четыре человека, что ехали со мной в лифте, посмотрели на меня довольно странно. – Редактор сухо, коротко хохотнул. – Они испугались. Посади вас в маленький движущийся ящик с явным психом, вы тоже испугаетесь.
– Что-то не очень правдоподобно, – сказала жена агента.
– Отнюдь. Безумие должно начинаться с чего-то. И если мой рассказ вообще о чем-то – при условии, что про человеческую жизнь можно сказать, будто она о чем-то, – тогда это история генезиса безумия. Безумие должно где-то начинаться и куда-то идти. Как дорога. Или траектория пули из ствола пистолета. Я, конечно, отставал от Рега Торпа, но на самом деле уже шагал по этой дороге. Бесспорно.
Куда-то нужно было идти, и я пошел к «Четырем отцам», к бару на Сорок девятой. Помню еще, что этот бар я выбрал потому, что там не было ни обильного освещения, ни музыкального автомата, ни телевизора. Помню, как заказывал первую рюмку. После этого не помню уже ничего до тех пор, пока я не очнулся на следующий день у себя дома в постели. На полу высыхала лужа блевотины, а на простыне, которой я накрывался, зияла огромная прожженная окурком дыра. Видимо, я чудом избежал сразу двух ужасных смертей – не захлебнулся и не сгорел. Хотя вряд ли я что-нибудь почувствовал бы.
– Боже, – произнес агент почти уважительно.
– Отключка, – сказал редактор, – первая в моей жизни настоящая отключка. Это всегда предвестие конца: редко кто испытывает подобное много раз. Так или иначе это вскоре кончается. Любой алкоголик скажет вам, что «отключка» – это совсем не то же самое, что «отруб». Жизнь стала бы гораздо проще, если бы это было так. Но дело в том, что, отключаясь, алкаш продолжает что-то делать. Алкаш в отключке ведет себя словно неугомонный бес. Что-то вроде зловредного форнита. Он может позвонить своей бывшей жене и оскорбить ее по телефону, а может, выехав на встречную полосу, разнести машину, полную детей. Может бросить работу, украсть что-нибудь в магазине или отдать кому-нибудь свое обручальное кольцо. Одно слово, неугомонный бес.
Я, однако, как потом выяснилось, придя домой, написал письмо. Только не Регу, а себе. И судя по этому письму, написал его как бы не я.
– А кто? – спросила жена писателя.
– Беллис.
– Кто такой Беллис?
– Его форнит, – произнес писатель в оцепенении. Тусклый взгляд его, казалось, сосредоточился на чем-то очень далеком.
– Да. Именно, – сказал редактор немного удивленно, потом прочел им по памяти письмо, в нужных местах отчеркивая пальцем в неподвижном воздухе. – «Привет от Беллиса. Твои проблемы вызывают у меня искреннее сочувствие, мой друг, но я хотел бы сразу заметить, что ты не единственный, кому трудно. Мне тоже досталась не самая легкая работа. Я могу посыпать пишущую машинку форнусом до конца твоих дней, но нажимать на клавиши придется тебе. Именно для этого Бог создал людей. Так что я сочувствую, но не более того.
Понимаю твое беспокойство по поводу Рега Торпа. Однако гораздо больше меня волнует положение моего брата Ракне. Торп беспокоится о том, что с ним станет, если Ракне его покинет, но лишь потому, что он эгоистичен. С писателями всегда такая беда: они все эгоистичны. Его совсем не волнует, что будет с Ракне, если ТОРП покинет его. Или станет el bonzo seco[57]. Это никогда, видимо, не трогало его ах какую чувствительную душу. Но, к счастью, все наши тягостные проблемы имеют одно и то же промежуточное решение, поэтому я напрягаю свои крошечные руки и тело, чтобы предложить его тебе, мой пьяный друг. Ты можешь пожелать узнать окончательное решение, но, уверяю тебя, его нет. Все раны смертельны. Принимай то, что есть. Веревка иногда бывает слабо натянута, но у нее всегда есть конец. Так что благодари судьбу за лишние секунды и не трать время, проклиная последний рывок. Благодарное сердце знает, что в конце концов всем нам висеть.
Ты должен заплатить ему за рассказ сам. Но не своим чеком. Торп, может быть, и страдает серьезным и опасным расстройством ума, но это ни в коем случае не означает глуппость».
Редактор произнес это слово по буквам: «Г-л-у-п-п-о-с-ть», потом продолжил:
– «Если ты пошлешь ему чек от своего имени, он раскусит тебя в пять секунд. Сними со своего счета восемьсот долларов с мелочью, и пусть твой банк откроет для тебя новый счет на имя «Арвин паблишинг инкорпорейтед». Дай им понять, что тебе нужны чеки, выглядящие серьезно, по-деловому. Никаких там картинок с пейзажами и прочего. Выбери друга, которому ты доверяешь, и оформи его сотрассантом[58]. Когда все будет готово, выпиши чек на восемьсот долларов, и пусть этот друг его тоже подпишет. Потом отправь чек Регу Торпу. На какое-то время это его выручит». Все. Дальше стояла подпись: «Беллис». Но не от руки, а на машинке.
Писатель присвистнул.
– Первое, что я заметил, проснувшись, была машинка. Выглядела она так, словно кто-то сделал из нее пишущую машинку для привидения, – для какого-нибудь дешевого кинофильма. Днем раньше у меня стоял черный конторский «Ундервуд». Когда же я проснулся – с головой размерами с Северную Дакоту, – машинка приобрела странный грязно-серый оттенок. Последние несколько предложений в письме выглядели сжато и бледно. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что моему старому доброму «Ундервуду», по всей видимости, пришел конец. Я попробовал порошок на вкус и двинулся на кухню. На столе стоял вскрытый пакет сахарной пудры с воткнутой в него ложкой. А по дороге от кухни до закутка, где я в те дни работал, сахарная пудра была рассыпана буквально везде.
– Ты кормил своего форнита, – сказал писатель. – Беллис оказался сладкоежкой. По крайней мере ты так думал.
– Да. Но даже с такого жуткого похмелья я знал совершенно точно, кто этот форнит.
Он начал загибать пальцы.
– Во-первых, Беллис – это девичья фамилия моей матери. Во-вторых, слова el bonzo seco. Этими словами мы с братом в детстве обозначали психов. В-третьих – и это самое главное, – написание слова «глупость». Это как раз одно из тех слов, в которых я обычно делаю опечатки. Я как-то работал с одним в высшей степени грамотным человеком, который писал «рефрижератор» через «д» – «рефриджератор» – независимо от того, сколько раз корректор это слово исправлял. Был еще один доктор наук из Принстона, который неизменно писал «женьщина» вместо «женщина».
Жена писателя неожиданно рассмеялась, смущенно и обрадованно одновременно.
– Я тоже так пишу.
– Я, собственно, хотел сказать, что опечатки или описки человека – это нечто вроде его письменных отпечатков пальцев. Можете спросить любого корректора, который занимался произведениями одного и того же автора несколько раз.
Короче, мы с Беллисом были одним лицом. Однако совет он мне дал хороший. Я решил, что он просто великолепен. Но тут есть кое-что еще: подсознание, конечно, оставляет свои следы, но в нем живет и совершенно незнакомый человек. Очень странный тип, который знает чертовски много. Я, например, никогда в жизни, как мне казалось, не встречал до этого выражения «сотрассант», однако оно присутствовало в письме, казалось уместным, и позже я узнал, что банки действительно таким термином пользуются.
Я снял телефонную трубку, собираясь позвонить своему другу, и тут голова у меня буквально взорвалась приступом боли, дикой, невероятной боли. Я вспомнил о Реге Торпе, о его теории насчет радия и торопливо положил трубку на место. Приняв душ, побрившись и десять раз осмотрев себя в зеркало, чтобы удостовериться, что я выгляжу приблизительно так, как должен выглядеть нормальный человек, я отправился к другу лично. Тем не менее он задал мне множество вопросов и довольно пристально разглядывал во время беседы. Видимо, какие-то несоответствия, которые не могли скрыть душ, бритье и щедрая доза листерина, остались. Работал он совсем в другой области, и это оказалось очень кстати. Новости, как известно, имеют обыкновение распространяться среди, так сказать, своих. Кроме того, был бы он связан с журналистикой, он бы знал, что «Логанс» принадлежит «Арвин паблишинг инкорпорейтед», и, разумеется, задумался бы, не затеял ли я что-нибудь нечистое. Но он не был, не знал, не задумался, и я смог убедить его, что проделываю все это для финансирования своего собственного издательского проекта, поскольку «Логанс» решил упразднить раздел беллетристики.
– Он тебя не спросил, почему ты назвал его «Арвин паблишинг»? – поинтересовался писатель.
– Спросил.
– И что ты ему сказал?
– Я ему сказал, – ответил редактор с холодной улыбкой на губах, – что Арвин – девичья фамилия моей матери.
Наступила небольшая пауза, потом редактор продолжил рассказ, и его не прерывали почти до самого конца.
– В ожидании, пока будут готовы чеки, из которых мне нужен был только один, я, чтобы заполнить время, занимал себя «упражнениями». Знаете?.. Поднять стакан, согнуть руку в локте, осушить стакан, разогнуть руку в локте… И так до тех пор, пока подобное упражнение не утомит вас настолько, что вы падаете головой на стол. Что-то происходило еще, но мысли мои занимали только «упражнения» и ожидание. Насколько я помню. Я должен это подчеркнуть, потому что по большей части я был пьян, и на каждую вещь, которую я помню, приходится, может быть, пятьдесят или шестьдесят, которых не помню.
Работу я оставил, и, уверен, там все вздохнули с облегчением, потому что им не пришлось выполнять насущную задачу увольнения меня из несуществующего более отдела по причине сумасшествия. Я тоже почувствовал себя лучше, потому что, думаю, войти в то здание со всеми его лифтами, флуоресцентными лампами, телефонами и подстерегающим меня электричеством было бы мне просто не под силу.
За этот трехнедельный период я написал Регу Торпу и его жене по паре писем. Помню, как писал ей, но не ему. Как и письмо от Беллиса, я написал их в периоды отключки. Но, даже впадая в полную невменяемость, я сохранял свои рабочие навыки так же, как и привычные опечатки. Я ни разу не забыл сделать второй экземпляр под копирку и, очухиваясь утром, всегда находил копию где-нибудь рядом с машинкой. Потом читал написанное, словно письмо от другого человека.
Не то чтобы они выглядели письмами сумасшедшего. Нет. То, которое я закончил постскриптумом насчет смесителя, было гораздо хуже. Эти казались… почти здравыми.
Он замолчал и медленно, устало покачал головой.
– Бедная Джейн Торп. Возможно, ей казалось, что у них там все не так уж плохо. Она, возможно, думала, что редактор рассказа ее мужа проделывает очень искусную и гуманную работу, пытаясь таким подыгрыванием вызволить ее мужа из усугубляющейся депрессии. Вопрос о том, действительно ли это хорошая идея – подыгрывать человеку, оказавшемуся в плену своих параноидальных фантазий, которые один раз уже привели к тому, что он чуть не бросился с кулаками на маленькую девочку-скаута, – этот вопрос, возможно, приходил ей в голову. Если так, то она, видимо, предпочла не замечать отрицательные стороны происходящего, потому что тоже ему подыгрывала. И я никогда ее за это не осуждал: он не был для нее просто источником дохода, который можно доить и ублажать, ублажать и доить до тех пор, пока не исчерпается его полезность. Она его любила. И в некотором смысле Джейн Торп замечательная женщина. Прожив с Регом от Ранних Времен через Великие Времена и до Времен Безумных, она, я думаю, согласилась бы с Беллисом насчет того, что следует благословлять секунды, пока веревка еще не натянулась, и не тратить время, проклиная рывок. Конечно, чем сильнее веревка провисает, тем сильнее будет рывок, когда она натянется… Но, видимо, даже этот быстрый рывок может быть благословением: кому хочется долго и мучительно задыхаться?
В этот короткий период я получал ответные письма, удивительно светлые… Хотя этот солнечный свет казался мне каким-то странным, финальным. Словно… Впрочем, не обращайте внимания. Дешевая философия… Когда у меня оформится то, что я хотел сказать, я скажу. После.
Рег каждый вечер играл в карты со студентами, жившими по соседству, и к тому времени, когда начали опадать листья, они считали его чуть ли не богом, спустившимся с небес. Если они не играли в карты или во фризби, то разговаривали о литературе, и Рег ненавязчиво помогал им осваивать этот мир. Он взял щенка в местном отделении общества защиты животных и прогуливался с ним каждое утро и каждый вечер, встречаясь с другими соседями. Люди, решившие было, что Торпы очень странная семья, начали менять свое мнение о них. Когда Джейн предложила нанять прислугу, поскольку справляться с домашним хозяйством без электричества ей оказалось не под силу, Рег сразу же согласился. Его беззаботное отношение к этой идее крайне удивило Джейн. Дело было не в деньгах: после «Персонажей преступного мира» денег им хватало.
Дело, по мнению Джейн, было в них. Они, как заявил ранее Рег, скрывались везде, а что может быть лучше для их агента, чем приходящая прислуга, женщина, которая может ходить по всему дому, заглядывать под кровати, в шкафы и, возможно, даже в ящики письменного стола, если они не заперты или не заколочены накрепко.
Однако он дал ей добро, сказав, что чувствует себя бессовестным эгоистом, потому что не додумался до этого сам раньше, хотя он – Джейн специально об этом упомянула – выполнял всю тяжелую домашнюю работу вроде стирки и тому подобного. Рег поставил только одно условие: чтобы эта женщина не смела заходить в кабинет.
Лучше всего и, с точки зрения Джейн, наиболее обнадеживающе было то, что Рег вернулся к работе, на этот раз над новым романом. Она прочла первые три главы и решила, что они просто великолепны. Все это, сказала она, началось, когда я взял «Балладу о гибкой пуле» для «Логанса»: до того момента он практически ничего не писал. Джейн меня буквально благословляла.
Я уверен, это она делала искренне, но в ее благословениях не чувствовалось тепла, и свет в письмах все-таки что-то омрачало. Вот я как раз и вернулся к тому, что хотел сказать: словно яркое солнце в тот день, когда на небе появляются первые облака, похожие на рыбьи чешуйки, и вы понимаете, что скоро начнется жуткий ливень.
Сплошь хорошие новости: общение, щенок, прислуга, новый роман, и все же она была достаточно проницательна, чтобы не поверить, что он действительно поправляется. По крайней мере это я понимал, даже будучи в весьма затуманенном состоянии. Рег демонстрировал вполне определенные симптомы психоза. А психическое расстройство в одном отношении очень походит на рак легких: ни та, ни другая болезнь не проходит сама по себе, хотя и у шизофреников, и у больных раком бывают светлые дни. Можно мне еще одну сигарету, дорогая?
Жена писателя подала ему сигарету.
– В конце концов, – продолжил редактор, доставая «Ронсон», – все признаки его идефикс никуда не исчезли. Дом без телефона и электричества. Все настенные розетки Рег закрыл фольгой. Он по-прежнему клал еду в пишущую машинку так же регулярно, как и в миску для щенка. Их соседи-студенты считали его отличным парнем, но они не видели, как он из страха перед радиацией надевает по утрам резиновые перчатки, чтобы взять с крыльца газету. Они не слышали, как Рег стонет во сне, и им не приходилось успокаивать его, когда он просыпается посреди ночи от кошмарных видений, тут же исчезающих из памяти.
– Ты, моя дорогая, – произнес редактор, поворачиваясь к жене писателя, – наверное, задаешься вопросом, почему она не ушла от него? Хотя ты не высказывалась, такой вопрос все-таки у тебя возник. Я прав?
Она кивнула.
– Я не стану читать вам длинный доклад о ее мотивациях. У правдивых историй есть очень удобное свойство: достаточно рассказать, что случилось, а решать вопрос почему можно предоставить самим слушателям. Как правило, вообще никто не знает, почему что-то случается, особенно те, кто утверждает, что знают.
Но в селективном восприятии Джейн Торп все действительно выглядело гораздо лучше. Она договорилась с темнокожей среднего возраста женщиной насчет работы по дому, потом решилась на более или менее откровенный разговор о странностях своего мужа. Женщина, которую звали Гертруда Рулин, рассмеялась и сказала, что ей приходилось работать у людей и гораздо более странного поведения. Первую неделю после того, как Рулин приступила к своим обязанностям, Джейн провела примерно так же, как и первый визит к живущим по соседству молодым людям, – в ожидании какого-нибудь дикого взрыва. Но Рег очаровал прислугу с такой же легкостью, с какой расположил к себе соседей-студентов. Разговаривал с ней о ее работе для церкви, о муже и о младшем сыне Джимми, по сравнению с которым, по словам Гертруды, Грозный Деннис[59] выглядел несравненно скучно. Всего у нее было одиннадцать детей, но между Джимми и предыдущим ребенком прошло девять лет. Справлялась она с ним с трудом.
Рег, казалось, поправлялся. По крайней мере если смотреть на вещи с его стороны. Но на самом деле он оставался таким же сумасшедшим, как и всегда. И я, конечно, тоже. Безумие можно сравнить с гибкой пулей, но любой стоящий хотя бы чего-то специалист по баллистике скажет вам, что двух одинаковых пуль не бывает. В одном из писем ко мне Рег рассказал немного о новом романе, потом сразу перешел к форнитам. К форнитам вообще и к Ракне в частности. Рассуждал о том, действительно ли они хотят убить форнитов или – это предположение он считал более вероятным – они хотят захватить их и подвергнуть исследованиям. Письмо заканчивалось словами: «С тех пор как мы начали переписываться, мое отношение к жизни заметно улучшилось. Возрос и мой интерес к ней. Я очень это ценю, Генри. Очень признателен тебе. Рег». А ниже постскриптум с неназойливым вопросом: определили ли мы уже художника-иллюстратора для работы над его рассказом? Вопрос вызвал у меня очередной приступ вины и острую необходимость оказаться рядом с домашним баром.
Рег помешался на форнитах, я – на электричестве.
В моем ответном письме форниты упоминались только мельком: к тому времени я действительно подыгрывал Регу, по крайней мере в этом вопросе. Эльф с девичьей фамилией моей матери и мои собственные опечатки волновали меня мало.
Но с течением времени я все больше и больше начинал интересоваться электричеством, микроволнами, радиочастотами, воздействием радиоволн, излучаемых бытовыми электроприборами, микродозами радиационного излучения и бог знает чем еще. Я пошел в библиотеку и набрал книг на эти темы. Еще несколько книг купил. Обнаружил там массу пугающей информации… и, конечно, именно эту информацию я искал.
Я распорядился, чтобы у меня сняли телефон и отключили электричество. Но однажды ночью, когда я, шатаясь, пьяный ввалился в дверь с бутылкой «Блэк велвет» в руках и другой в кармане пальто, я увидел маленький красный глаз, уставившийся на меня с потолка. Боже, наверно, целую минуту я думал, что у меня вот-вот начнется сердечный приступ. Сначала мне показалось, что это жук… огромный черный жук с одним светящимся глазом. Незадолго до этого я купил себе газовую лампу, и когда зажег ее, то сразу понял, что это такое. Но облегчения я не испытал. Только взглянул на красный глаз и тут же почувствовал бьющиеся в голове вспышки боли. Словно через меня проходили радиоволны. На какое-то мгновение у меня создалось впечатление, что мои глаза повернулись внутрь, к мозгу, и я могу видеть, как дымятся, чернеют и умирают клетки серого вещества. Над моей головой висел детектор дыма, прибор еще более новый в 1969 году, чем микроволновые духовки.
Я выскочил из квартиры, бегом спустился по лестнице – жил я на пятом этаже, но к тому времени лифтом пользоваться перестал – и принялся колотить в дверь управляющего. Я потребовал, чтобы он немедленно убрал эту штуку, убрал ее прямо сегодня, убрал в течение часа. Он смотрел на меня так, словно я совсем, простите за выражение, bonzo seco, и сейчас я могу его понять: детектор дыма предположительно давал людям возможность чувствовать себя спокойно и в безопасности. Сейчас, конечно, их установка требуется законом, но тогда это был Большой Шаг Вперед, оплачиваемый жильцами совместно. Он убрал детектор – это не заняло много времени, – но взгляды, которые он бросал в мою сторону, не остались мною незамеченными, и в каком-то смысле я его понимал: небритый, провонявший виски жилец, волосы торчат во все стороны, пальто в грязи. Наверняка он знал, что я не хожу на работу, что я продал телевизор, что велел отключить у себя телефон и электричество. Одним словом, он думал, что я сошел с ума.
Возможно, я рехнулся, но, как и Рег, отнюдь не поглупел и потому тут же включил все свое обаяние на полную катушку. Как вы понимаете, редакторам просто положено иметь немного обаяния. Подмазал отношения десятидолларовой бумажкой, и в конце концов мне удалось этот инцидент загладить, но по взглядам, которые люди бросали на меня в последующие две недели – как потом оказалось, мои последние две недели в этом доме, – я понял, что слухи уже поползли. А тот факт, что никто из жильцов не пытался поговорить со мной о моей «неблагодарности и невнимательности к общим нуждам», я счел более всего показательным. Видимо, они боялись, что я могу броситься на них с кухонным ножом.
Однако все это занимало в тот вечер последнее место в моих мыслях. Я сидел при свете газовой лампы – единственный свет в трех комнатах, если не считать электрического освещения Манхэттена, что вливалось в квартиру через окна… Я сидел с бутылкой в одной руке и сигаретой в другой, глядя на то место на потолке, где совсем недавно висел детектор дыма – глаз, настолько незаметный в дневное время, что я никогда не обращал на него внимания. Меня не оставляли мысли о том, что, хотя я и отключил в квартире все электричество, здесь тем не менее оказался один необесточенный прибор. А где один, там может быть и больше.
Даже если и нет, все равно здание насквозь было пронизано расползающимися проводами, словно умирающий от рака человек злокачественными клетками и гниющими органами. Закрывая глаза, я легко представлял себе все эти провода, проложенные в темных изоляционных трубках, забетонированных в стенах. Провода, светящиеся адским зеленым светом. А там дальше весь город. Один проводок, почти безвредный сам по себе, бежит к розетке… Провод, выходящий оттуда, уже толще, он идет через изоляционную трубку вниз в подвал, где вливается в еще более толстый… А тот проходит под улицей и встречается с целым пучком проводов, уже таких толстых, что они называются кабелями.
Когда я получил письмо от Джейн Торп, где она писала про фольгу, одна часть моего разума распознала сообщение как еще один признак безумия Рега, и эта часть знала, что я должен отнестись к новому факту так, словно я целиком понимал правоту Джейн. Другая же часть – к тому времени гораздо большая – подумала: «Замечательная идея!», и на следующий день я закрыл свои розетки фольгой. Это я-то, который, как вы понимаете, предположительно помогал Регу Торпу. В некотором смысле это даже забавно.
В ту ночь я решил уехать из Манхэттена. Я мог поехать в старый семейный дом в Адирондаксе, и эта мысль показалась мне удачной. Единственное, что удерживало меня в городе, – это рассказ Рега Торпа. Если «Баллада о гибкой пуле» служила Регу своего рода спасательным кругом в водах безумия, то тем же самым она стала и для меня: я хотел поместить ее в хороший журнал. Сделав это, я уже мог бы уехать.
Таково было состояние бесславной переписки Уилсона и Торпа к тому моменту, когда все действительно пошло вразнос. Мы с ним напоминали двух умирающих наркоманов, обсуждающих сравнительные достоинства героина и транквилизаторов. У Рега завелись форниты в пишущей машинке, у меня – в стенах, и у обоих у нас форниты завелись в голове.
Да, и были еще они. Не забывайте о них. Я относительно недолго таскался с рассказом по редакциям, прежде чем понял, что они включают в себя всех журнальных редакторов беллетристики в Нью-Йорке. Кстати, к осени 1969 года их осталось не так уж много. Если собрать их всех вместе, можно было бы убить всю банду одним выстрелом крупной дробью из охотничьего ружья, и достаточно скоро мне начало казаться, что это чертовски хорошая идея.
Лет пять мне потребовалось для того, чтобы увидеть наконец все происходившее с их точки зрения. Я напугал даже управляющего, простого парня, который видел меня, еще когда я себя контролировал. Эти же… Ирония заключалась в том, что многие из них действительно были моими друзьями. Джерид Бейкер работал помощником литературного редактора в «Эсквайре». Мы с Джеридом, например, служили во время Второй мировой войны в одной стрелковой роте. Эти парни чувствовали себя не просто неудобно, пообщавшись с новой, «улучшенной» копией Генри Уилсона. Они были в ужасе. Если бы я послал рассказ почтой с хорошим сопроводительным письмом, объясняющим ситуацию – по крайней мере мою версию ситуации, – я, возможно, пристроил бы рассказ Торпа сразу. Так нет же! Этого мне казалось недостаточно. Рассказу Торпа мне хотелось обеспечить персональное внимание. И я ходил с ним от двери к двери, вонючий, небритый экс-редактор с трясущимися руками, красными глазами и огромным выцветающим синяком на левой скуле, который я заработал двумя сутками раньше, ударившись в темноте о дверь в ванную по дороге к туалету. С таким же успехом я мог бы повесить на грудь табличку с надписью «Направляется в сумасшедший дом».
Опять же я не хотел разговаривать с ними в кабинетах. Просто не мог. Прошло уже то время, когда я спокойно входил в лифт и поднимался на сорок этажей вверх. Приходилось встречаться, как наркоманы со своими поставщиками: в скверах, на лестницах или, в случае с Джеридом Бейкером, в закусочной на Сорок девятой улице. Джерид по крайней мере с удовольствием угостил бы меня приличным обедом, но, как вы догадываетесь, к тому времени уважающие себя метрдотели перестали уже пускать меня в рестораны, где обслуживают бизнесменов.
Агент вздрогнул.
– Мне давали чисто формальные обещания прочесть рассказ, потом озабоченно спрашивали, как мои дела и не слишком ли я много пью. Смутно припоминаю, как пару раз я пытался убедить их, что электричество и утечки излучения влияют на способность людей думать, а когда Энди Риверс предложил мне обратиться за врачебной помощью, я сказал, что помощь нужна не мне, а ему.
«Ты видишь всех этих людей на улице? – спросил я, когда мы стояли в сквере у площади Вашингтона. – Половина из них, а может быть, и три четверти ходят с мозговыми опухолями. Я не продам тебе рассказ Торпа, Энди. Ты не сможешь оценить его в этом городе. Твой мозг словно на электрическом стуле, а ты даже не понимаешь этого».
В руке я держал свернутый в трубку экземпляр рассказа. Я ударил его наотмашь по носу, как бьют собак, если они напустят в углу лужу, и ушел. Помню, он кричал мне, чтобы я вернулся, предлагал посидеть спокойно за чашкой кофе и обсудить все снова, но я в этот момент проходил мимо магазина, где продавали по сниженным ценам грампластинки. Динамики выплескивали на улицу волны «тяжелого металла», внутри магазина горели целые батареи флуоресцентных ламп снежно-белого цвета, и голос Энди просто затерялся в возникшем в моей голове низком жужжании. У меня остались только две мысли: «Нужно скорее, как можно скорее убраться из города, пока у меня самого не возникла опухоль мозга» и «Нужно срочно выпить».
В тот вечер, вернувшись домой, я обнаружил под дверью записку. «Убирайся вон, псих», – прочел я и, не вдумываясь в содержание, выкинул листок. У нас, психов со стажем, всегда есть дела поважнее, чем анонимные записки от соседей.
Я думал о том, что сказал Энди Риверсу о рассказе Торпа, и чем больше я думал – соответственно, чем больше пил, – тем справедливее мне это казалось. «Гибкая пуля» – забавный рассказ и на первый взгляд довольно простой, но чуть глубже под поверхностью он был удивительно сложен. Так неужели я всерьез думал, что какой-то другой редактор сможет понять рассказ на всех уровнях? Раньше, может быть, но теперь-то, когда у меня открылись глаза? Неужели я думал, что в этом городе, опутанном проводами, словно изготовленная террористами бомба, осталось место для понимания и способности оценить что-то? Боже, кругом сплошные вольты!
Стараясь прогнать из памяти все эти беспокойные заботы, я решил почитать газету, пока еще хватало дневного света, и на первой же странице «Таймс» оказалась статья о том, что на атомных электростанциях продолжают исчезать радиоактивные материалы. Помимо всего прочего, в статье содержались рассуждения о том, что при наличии достаточного количества этих материалов в умелых руках сделать очень «грязное» ядерное устройство будет довольно просто.
Я сидел за кухонным столом, пока не зашло солнце, и моему внутреннему взору представлялось, как они выискивают плутоний, словно старатели, моющие золото году в 1894-м. Только они делали это не для того, чтобы поднять на воздух город, нет. Они хотели просто рассыпать плутоний повсюду и тем самым загадить всем мозги. Они – это плохие форниты, и радиоактивная пыль – форнус несчастья. Самый худший во все времена форнус несчастья.
В конце концов я решил, что не хочу продавать рассказ Рега, по крайней мере в Нью-Йорке. Надо выбираться, как только прибудут заказанные чеки. Оказавшись на севере штата, я попробую послать рукопись в какой-нибудь провинциальный литературный журнал. Можно будет начать с «Сюанн ревю» или с «Айова ревю». Регу я объясню позже. Рег поймет. Мне казалось, что такой шаг решит все мои проблемы, и в ознаменование этого я выпил еще… И отключился. Как потом оказалось, у меня в запасе оставалась еще одна отключка.
На следующий день пришли чеки «Арвин компани». Я заполнил один из них на машинке и отправился к своему другу сотрассанту. Снова последовал утомительный допрос, но на этот раз я попридержал свой характер: мне нужна была его подпись. И в конце концов я ее получил. Потом отправился в магазин канцелярских принадлежностей, где мне, пока я ждал, изготовили штамп «Арвин компани». Я проштамповал на конверте обратный адрес, напечатал адрес Рега (сахарную пудру из машинки я вычистил, но буквы иногда заедали) и вложил короткую сопроводительную записку, написав, что ни один из чеков, отправляемых авторам, никогда не доставлял мне такого удовольствия, как этот. Прошел, наверное, целый час, прежде чем я все-таки отправил письмо: я никак не мог нарадоваться по поводу того, как официально оно выглядит. Вы бы никогда не поверили, что провонявший алкаш, не менявший нижнее белье уже десять дней, способен на такое.
Он замолк, погасил сигарету и взглянул на часы. Затем, словно проводник, объявляющий о прибытии поезда в ка-кой-то значительный город, сказал:
– А теперь – необъяснимое.
Именно эта часть рассказа больше всего интересовала двух психиатров и других сотрудников клиники, с которыми я общался в течение последующих тридцати месяцев своей жизни. Собственно говоря, они добивались отречения только от этой части, что доказало бы им мое выздоровление. Как сказал один из них: «Это единственный эпизод истории, который не может быть объяснен. После, разумеется, восстановления вашей способности здраво рассуждать». В конце концов я отрекся, потому что знал – они тогда этого еще не знали, – что действительно выздоравливаю, и мне с невероятной силой хотелось поскорее вырваться из клиники. Мне казалось, что если я не выберусь оттуда вовремя, то снова свихнусь. И я отрекся – Галилей тоже так поступил, когда его подержали ногами над огнем, – но я никогда не отрекался внутренне. Я не стану говорить, что события, о которых хочу сейчас рассказать, действительно произошли. Скажу только, что я до сих пор в это верю.
Итак, друзья мои, необъяснимое!
Последние два дня я провел в сборах. Кстати, мысль о том, что придется вести машину, не волновала меня нисколько. Будучи еще ребенком, я вычитал где-то, что машина – самое безопасное место во время грозы, потому что резиновые шины являются почти идеальным изолятором. Я с предвкушением ждал, когда наконец заберусь в свой старенький «шевроле», закрою все окна и покину этот город, который начал казаться мне сплошным заревом ядовитых огней. Однако, готовясь к отъезду, я вывинтил лампочку под крышей салона, залепил гнездо изолентой и вывернул регулятор мощности фар до упора влево, чтобы перестала светиться приборная панель.
Когда я вернулся домой в последний раз, решив провести эту ночь в квартире, там не осталось уже ничего, кроме кухонного стола, кровати и пишущей машинки. Машинка стояла на полу. Я не собирался брать ее с собой: слишком много недобрых воспоминаний она у меня вызывала, и, кроме того, у нее постоянно заедали буквы, от чего мне, видимо, не было суждено избавиться никогда. «Пусть она достанется следующему жильцу, – подумал я. – Она – и Беллис тоже».
Солнце садилось, и всю квартиру заливало удивительным светом. Я уже довольно сильно набрался, а в кармане пальто лежала еще одна бутылка. На ночь. Я вышел из своего закутка, направляясь, кажется, в спальню. Там я, наверное, сел бы на кровать и думал бы о проводах, электричестве и радиации, напиваясь все сильнее, пока не напился бы до такого состояния, когда смог наконец уснуть.
То, что я называю «закутком», на самом деле было самой лучшей во всей квартире жилой комнатой с видом на запад до самого горизонта, а это для квартиры на пятом этаже в Манхэттене – почти чудо. Почему я, собственно, и выбрал эту комнату для своего кабинета. Не удивляясь чуду, я просто наслаждался им. Комнату даже в дождливые дни наполнял чистый радостный свет.
Но в тот вечер свет казался мне каким-то странным. От лучей заходящего солнца стены окрасились в красный цвет. Цвет пламени в топке. Пустая комната казалась слишком большой. Звук шагов по деревянному полу отдавался коротким эхом.
Машинка стояла посреди комнаты на полу, и, обходя ее, я вдруг заметил в каретке неровно оторванный кусок бумаги. Я вздрогнул от испуга: когда я последний раз выходил за новой бутылкой, бумаги в машинке не было.
Я начал озираться, решив, что в квартире есть кто-то еще.
Взломщик, например. Хотя, признаться, на самом деле я испугался тогда не взломщиков, грабителей или одуревших наркоманов… Я подумал о призраках.
Потом я заметил ободранный участок на стене слева от спальни, и по крайней мере стало понятно, откуда взялась бумага: кто-то просто оторвал кусок старых обоев.
Я все еще смотрел на стену, когда за моей спиной раздалось: «Клац!» Подпрыгнув, я обернулся и почувствовал, что сердце у меня колотится почти под самым горлом. Испугался я ужасно, но знал, что это за звук. Никаких сомнений. Когда работаешь со словами всю свою жизнь, звук удара пишущей машинки по бумаге узнается мгновенно, даже в пустой комнате в сумерках, когда некому нажимать на клавиши.
С белыми размытыми пятнами лиц они смотрели на редактора из темноты, молча, чуть сдвинувшись друг к другу. Жена писателя крепко держала своего мужа за руку.
– Я чувствовал, как реальность ускользает от меня. Может быть, это и положено чувствовать, когда подходишь наконец к грани необъяснимого. Я медленно приблизился к машинке. Сердце продолжало бешено биться у самого горла, но сам я сохранял спокойствие. Ледяное спокойствие.
«Клац!» – мелькнул еще один рычажок. На этот раз я даже заметил, от какой клавиши.
Очень медленно я опустился на колени, но потом мышцы ног у меня как бы обмякли, и я полусел-полуупал перед машинкой. Мое грязное пальто расстелилось вокруг по полу, словно юбка девушки, присевшей в очень глубоком книксене. Машинка быстро клацнула еще два раза, замолчала, потом еще раз. Каждый удар отдавался в квартире таким же коротким эхом, как мои шаги.
Обои были заправлены в машинку стороной с высохшим клеем наружу, и от этого буквы получались морщинистые и бугристые, но я сумел разобрать напечатанное слово – «РАКНЕ».
– Тогда… – Редактор прочистил горло и сдержанно улыбнулся. – Даже по прошествии стольких лет мне трудно об этом говорить… Трудно вот так сразу… Однако ладно. Все дело вот в чем: я увидел, как из машинки высунулась рука. Невероятно маленькая рука. Она пролезла между двумя клавишами в нижнем ряду, сжалась в кулачок и ударила по клавише пробела. Каретка сдвинулась на один шаг, издав короткий икающий звук, и рука снова исчезла.
Жена агента пронзительно захихикала.
– Угомонись, Марша, – сказал агент мягко, и она замолчала.
– Удары посыпались чаще, – продолжал редактор, – и через какое-то время мне начало казаться, что я слышу, как это маленькое существо, двигающее рычаги клавишей, пыхтит, словно человек, который выполняет тяжелую работу уже на пределе своих сил. Потом машинка перестала печатать. На большинство литер налип старый обойный клей, но прочесть выдавленные на бумаге буквы мне удалось. Машинка остановилась на «ракне умира», когда следующая литера прилипла к клеевой стороне обоев. Я просто смотрел на нее какое-то время, потом протянул руку и высвободил клавишу. Не уверен, смог ли бы справиться с этой задачей Беллис. Думаю, нет. Но я не хотел быть свидетелем… его жалких попыток. Одного вида его кулачка мне оказалось вполне достаточно. Наверное, если бы я увидел эльфа, так сказать, целиком, я бы свихнулся тут же. А подняться и убежать я не мог: ноги меня просто не слушались.
Клац-клац-клац. Крошечные всхлипы и вздохи, кулачок, высовывающийся после каждого слова, чтобы нажать пробел. Я не помню, сколько это продолжалось. Минут семь, может быть. Может, десять. Или вечность.
Но в конце концов клацанье прекратилось, и я понял, что уже не слышу его дыхания. Может быть, он потерял сознание, или просто бросил все и ушел, или умер. От сердечного приступа или еще от чего. Послание его осталось незаконченным. Весь текст состоял из прописных букв: «РАКНЕ УМИРАЕТ ЭТО ВСЕ МАЛЬЧИШКА ДЖИММИ ТОРП НЕ ЗНАЕТ ПЕРЕДАЙ ТОРПУ ЧТО РАКНЕ УМИРАЕТ МАЛЬЧИШКА ДЖИММИ УБИВАЕТ РАКНЕ БЕЛЛ».
Я нашел в себе силы подняться на ноги и пошел из комнаты, двигаясь большими шагами на цыпочках, как будто Беллис уснул и я боялся, что он проснется, если в комнате опять раздастся отдающийся эхом звук шагов по голому полу. Проснется и снова примется печатать. Мне казалось, что я не выдержу и закричу, если услышу хотя бы еще один «клац». И не остановлюсь до тех пор, пока у меня не разорвется сердце или голова.
Мой «шевроле» ждал на стоянке неподалеку от дома, заправленный, загруженный и готовый в путь. Я сел за руль и вспомнил о бутылке в кармане пальто. Руки у меня тряслись так сильно, что я выронил ее, но она упала на сиденье и не разбилась.
Я вспомнил про отключки, друзья мои, но отключка тогда была как раз то, чего я хотел и что в конце концов получил. Помню, как сделал первый глоток, второй, как повернул ключ зажигания и поймал песню Фрэнка Синатры «Древняя черная магия», которая, как мне тогда показалось, очень соответствовала обстоятельствам. Помню, как пел вместе с ним и прикладывался к бутылке. Машина моя стояла в последнем ряду автостоянки, и оттуда я видел равномерно переключающиеся огни светофора на перекрестке. Я продолжал размышлять о коротких клацающих звуках, раздавшихся в пустой квартире, и тускнеющем красноватом свете, льющемся через окно кабинета. О пыхтении, при воспоминании о котором мне представился эльф-культурист, выполняющий упражнения внутри моей старой пишущей машинки. И снова и снова я видел перед собой шершавую поверхность оторванного куска обоев с налипшими песчинками. Мне невольно представлялось, что происходило в квартире до моего прихода… Мысли сами возвращались к воображаемой сцене, показывая, как он, Беллис, подпрыгивает, хватается за оторванный уголок обоев у двери в спальню, потому что в квартире не осталось ничего более похожего на бумагу, повисает на нем, отрывает в конце концов и несет к машинке на голове, как огромный лист пальмы. Я попытался понять, как ему удалось заправить лист в каретку. Мысли крутились, но отключка не наступала, и я продолжал пить. Фрэнк Синатра кончил петь, пошла реклама, потом Сара Вон запела «Я сяду и напишу тебе письмо», и это опять же относилось ко мне, потому что совсем недавно я сделал то же самое или по крайней мере я думал, что сделал это, до сегодняшнего вечера, когда случилось нечто, заставившее меня изменить свое мнение по этому поводу, так сказать, и я снова пел вместе со старой доброй Сарой Соул, и, видимо, как раз тогда я достиг «скорости отрыва», потому что в середине второго припева без всякого перерыва меня вдруг начало рвать, потом кто-то двинул ладонью мне по спине, поднял мои руки за локти и снова опустил, хлопнул ладонью, поднял руки и опустил… Это был шофер грузовика. Каждый раз, когда он бил меня по спине, я чувствовал, как у меня в горле поднимается и тут же собирается упасть обратно огромный глоток жидкости, но в этот момент шофер задирал мои локти вверх, и каждый раз, когда он это делал, меня снова рвало, и вовсе не виски, а обычной речной водой. Когда я наконец пришел в себя настолько, что смог поднять голову и оглядеться, было уже шесть часов вечера тремя днями позже, и я лежал на берегу реки Джексон в западной Пенсильвании, примерно в шестидесяти милях от Питтсбурга. Мой «шевроле» торчал багажником из воды, и со своего места я даже мог разглядеть стикер с фамилией Маккарти на заднем бампере… У тебя еще есть минеральная, дорогая? Совсем в горле пересохло.
Жена писателя молча принесла ему стакан воды, и, подавая, она неожиданно для себя наклонилась и поцеловала его в сморщенную, как шкура аллигатора, щеку. Он улыбнулся, и в темноте заблестели его глаза. Это, однако, не обмануло ее: от веселья глаза никогда не блестят именно так.
– Спасибо, Мег.
Он сделал несколько крупных глотков, закашлялся и жестом отказался от предложенной сигареты.
– На сегодняшний вечер мне хватит. Собираюсь совсем бросить. В моем, так сказать, следующем воплощении.
Конец этой истории я в общем-то мог бы не рассказывать. Если и бывает за подобными историями какой грех, так это предсказуемость развязки… В моей машине нашли около сорока бутылок с «Блэк велвет», большинство из них пустые. Я нес что-то про эльфов, электричество, форнитов, плутониевые рудники, форнус и, видимо, казался им совершенно чокнутым. Собственно говоря, я и был совершенно чокнутым.
А вот что произошло в Омахе, пока я колесил, судя по найденным в отделении для перчаток корешкам чеков за бензин, по пяти северо-восточным штатам. Все это, как вы понимаете, я узнал от Джейн Торп в ходе долгого и болезненного периода переписки, закончившегося нашей встречей в Нью-Хейвене, где она теперь живет. Мы встретились после того, как меня в награду за отречение выпустили из клиники. В конце этой встречи мы буквально плакали друг у друга на плече, и именно тогда я поверил в то, что у меня еще будут, возможно, настоящая жизнь и даже счастье.
В тот день около трех пополудни в дверь дома Торпов постучали. Посыльный с телеграфа принес телеграмму от меня – последний образчик нашей злополучной переписки. Там говорилось: «РЕГ РАСПОЛАГАЮ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЧТО РАКНЕ УМИРАЕТ ПО СЛОВАМ БЕЛЛИСА ВО ВСЕМ ВИНОВАТ МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИШКА БЕЛЛИС СООБЩИЛ ЧТО ЕГО ЗОВУТ ДЖИММИ FORNIT SOME FORNUS ГЕНРИ».
Если вам в голову пришел классический вопрос: «Как много он знал и когда он это узнал?», сразу скажу: я знал, что Джейн наняла прислугу, но узнать о ее маленьком чертенке-сыне по имени Джимми я (кроме как через Беллиса) никак не мог. Видимо, вам придется поверить мне на слово, хотя справедливости ради должен добавить, что психоаналитики, работавшие надо мной в течение двух с половиной лет, так мне и не поверили.
Когда принесли телеграмму, Джейн была в бакалейной лавке. Бланк она нашла уже после смерти Рега в заднем кармане его брюк. На нем, кроме времени передачи и доставки, стояла также приписка: «Вручить лично. По телефону не передавать». Джейн сказала, что, хотя прошел всего один день, телеграмма выглядела такой затрепанной, словно она пробыла у Рега целый месяц.
В определенном смысле эти двадцать пять слов и стали той «гибкой пулей», которой я выстрелил прямо в голову Торпа аж из самого Патерсона, штат Нью-Джерси, будучи настолько пьяным, что даже не помнил этого.
Последние две недели своей жизни Рег прожил так, что казалось, будто он сама нормальность. Он вставал в шесть, готовил завтрак себе и жене, потом час писал. Около восьми запирал кабинет, уходил из дома и неторопливо прогуливался с собакой по окрестностям. Вел он себя во время этих прогулок очень общительно, останавливаясь поболтать с каждым желающим; заходил, привязав собаку снаружи, в кафе неподалеку, где выпивал чашечку кофе, потом отправлялся бродить дальше. Раньше полудня он возвращался домой редко, чаще в двенадцать тридцать, а то и в час. Джейн полагала, что отчасти это делалось, чтобы избежать встреч с шумной Гертрудой Рулин: такой распорядок установился у Рега через пару дней после того, как она начала работать в их доме.
Возвратившись домой, он съедал легкий ланч, отдыхал около часа, потом поднимался и писал еще два-три часа. Вечерами иногда отправлялся навестить молодых людей, живущих по соседству, с Джейн или один. А иногда они с Джейн ходили в кино или просто сидели в гостиной и читали. Спать ложились рано. Рег обычно раньше Джейн. Она писала, что интимная сторона их жизни не отличалась особым богатством, а то редкое, что между ними случалось, как правило, было неудовлетворительно для обоих. «Но секс для большинства женщин не так важен, – писала она, – а Рег снова работал в полную силу, и для него работа служила вполне приемлемой заменой. Я бы сказала, что даже при всех прочих обстоятельствах эти две недели были для нас самыми счастливыми за последние пять лет». Я чуть не плакал, когда читал это письмо.
Я ничего не знал о Джимми. Но Рег знал. Он знал все, кроме самого главного – что мать Джимми, приходя работать, стала брать мальчишку с собой. В какую, должно быть, Рег впал ярость, когда получил мою телеграмму и начал понимать! Опять они! И его собственная жена определенно одна из них, потому что только она бывала дома, когда там находились Гертруда и Джимми, но ничего ему не сказала. Еще раньше он писал мне в одном из писем: «Иногда я сомневаюсь в своей жене».
Вернувшись домой в тот день, когда пришла телеграмма, Джейн не застала Рега, но на кухонном столе лежала записка от него: «Дорогая, я в книжном магазине. Буду к ужину». Записка совершенно не встревожила Джейн. Хотя, знай она о телеграмме, именно ее нормальность, я думаю, испугала бы Джейн до смерти. Она бы поняла, что Рег решил, будто она перекинулась на их сторону.
Рег, однако, и не думал ходить за книгами. Он направился прямиком в оружейный салон «Литлджонс» на окраине города и купил автоматический пистолет сорок пятого калибра и две тысячи патронов. Наверное, он купил бы себе «АК-70», если бы их разрешали продавать в «Литлджонсе». Рег собрался защищать своего форнита. От Джимми, от Гертруды, от Джейн. От них.
На следующее утро все происходило в соответствии с установившимся распорядком. Джейн, правда, показалось, что он надел слишком толстый свитер для такого теплого дня, но она ничего ему не сказала. Свитер Рег надел, разумеется, чтобы скрыть пистолет, который он, отправляясь гулять с собакой, сунул за пояс брюк.
Все происходило по прежнему распорядку, за исключением того, что Рег дошел только до кафе, где он обычно пил кофе, причем на этот раз он двинулся туда прямиком, не сворачивая и не останавливаясь поболтать. Он отвел щенка к загрузочной двери, привязал поводок к перилам и задами вернулся к своему дому.
Хорошо представляя себе распорядок дня своих молодых соседей, он заранее знал, что их не будет дома. Кроме того, он знал, где они держат запасной ключ. Открыв дверь и поднявшись наверх, Рег принялся наблюдать за своим домом.
В восемь сорок он увидел, как прибыла Гертруда Рулин. Не одна. С ней действительно был маленький мальчишка. Совершенно неукротимое поведение Джимми Рулина в первом классе почти мгновенно убедило учителя и школьного воспитателя, что для всех будет лучше (кроме, может быть, матери Джимми, которая тоже не отказалась бы отдохнуть от него), если он подождет еще год. Джимми повторно оказался в детском саду, и на первую половину следующего года его записали в послеполуденную смену. Два детских сада в том районе, где жила Гертруда, были переполнены, а договориться с Торпами работать у них после полудня она тоже уже не могла, так как с двух до четырех работала еще в одном доме на другом конце города.
Джейн без особой охоты, но все же разрешила Гертруде приводить Джимми с собой до тех пор, пока она не сумеет его куда-нибудь пристроить или пока об этом не узнает Рег, что рано или поздно наверняка случилось бы.
Она думала, что Рег, может быть, не станет возражать, он так мило все в последнее время принимал. С другой стороны, с ним мог случиться приступ, и, если это произойдет, Гертруде придется куда-то пристраивать Джимми. Гертруда сказала, что все понимает. «И ради Бога, – добавила Джейн, – пусть он ни в коем случае не трогает никакие вещи Рега». Гертруда сказала, что все будет в порядке: кабинет хозяина заперт и останется запертым.
Торп, должно быть, пересек два двора, как снайпер, пробирающийся по ничейной земле. Он видел, что Гертруда и Джейн стирают постельное белье на кухне, но не видел мальчишку. Подобравшись к дому, он двинулся вдоль боковой стены. В гостиной никого… В спальне никого… Джимми оказался в кабинете, где Рег с мрачной уверенностью и ожидал его увидеть. Лицо мальчишки горело от возбуждения, и Рег, видимо, впрямь решил, что перед ним наконец-то настоящий их агент.
Мальчишка держал в руке игрушечный лучемет, направляя его в сторону стола, и Рег слышал, как внутри машинки кричит Ракне.
Вы можете подумать, что я приписываю умершему свои субъективные домыслы, другими словами, выдумываю. Но это не так. С кухни и Гертруда, и Джейн отчетливо слышали завывание пластмассового космического бластера Джимми… Он носился с ним по дому, стреляя во все подряд, с самого первого дня, и Джейн с надеждой ожидала, что у него вот-вот сядут батарейки. Звук они узнали безошибочно. И безошибочно определили, откуда он доносится – из кабинета Рега.
Мальчишка был настоящим сорванцом. Знаете такой тип? Если в доме есть комната, куда ему нельзя заходить, то он или попадет туда, или умрет от любопытства. Чтобы узнать, что Джейн держит ключ от кабинета Рега на каминной полке в гостиной, у него не ушло много времени. Бывал ли он там раньше? Думаю, да. Джейн припомнила, как тремя или четырьмя днями раньше она дала Джимми апельсин, а потом, когда уезжала из дома, обнаружила апельсиновую кожуру под маленьким диванчиком в кабинете. Сам Рег апельсины не ел, уверяя, что они вызывают у него аллергию.
Джейн бросила обратно в раковину простыню, которую в тот момент полоскала, и кинулась в кабинет. Она слышала «вау-вау-вау» космического бластера и крик Джимми: «Попался! Теперь не убежишь! Я вижу тебя через стекло!» И она говорила… Она говорила, что слышала еще какой-то крик. Тонкий, отчаянный, столь наполненный болью, что он был почти непереносим.
«Когда я услышала это, – сказала она, – я поняла, что мне придется уйти от Рега независимо от того, что случилось в действительности, потому что все эти старушечьи сказки оказались верными… и безумие – заразная болезнь. Потому что я сама слышала Ракне. Каким-то образом этот паршивец расстреливал Ракне, убивая его из двухдолларового игрушечного лучемета.
Дверь в кабинет была открыта, в замке торчал ключ. Позже в тот день я обратила внимание, что один из стульев в гостиной стоит у каминной полки и все сиденье выпачкано следами кроссовок Джимми. Сам он стоял, склонившись, у стола Рега. Рег пользовался старой конторской моделью пишущей машинки со стеклянными окошечками по бокам корпуса. Джимми прижал дуло своего бластера к одному из окошек и палил внутрь пишущей машинки. «Вау-вау-вау», фиолетовые отсветы пламени из машинки – все это внезапно заставило меня понять то, что Рег говорил об электричестве, потому что, хотя эта штука работала на самых обычных безобидных батарейках, я действительно вдруг почувствовала себя так, словно из лучемета вылетают волны губительного излучения, проникают мне в голову и выжигают мозг.
– Я вижу тебя! – кричал Джимми. Лицо его светилось самозабвенным мальчишеским ликованием – зрелище одновременно красивое, но и в чем-то страшное. – Ты не скроешься от капитана Фьючера[60]! Ты умрешь, пришелец!
– Джимми, немедленно прекрати! – взвизгнула я.
Он подскочил от неожиданности. Потом повернулся, взглянул на меня, высунул язык и, прижав бластер к стеклянному окошку, снова начал стрелять. Снова «вау-вау-вау» и этот мерзкий фиолетовый свет.
По коридору бежала Гертруда: она кричала, чтобы Джимми прекратил и немедленно убирался, и обещала ему трепку, какой он еще в жизни не получал… Но в этот момент входная дверь отлетела в сторону, и в прихожую с ревом ворвался Рег. Я взглянула на него всего один раз и тут же поняла, что он сошел с ума. В руке он держал пистолет.
– Не стреляйте в моего мальчика! – завизжала Гертруда и попыталась остановить его, но Рег одним ударом руки отбросил ее в сторону.
А Джимми, казалось, даже не замечал, что происходит. Он просто продолжал стрелять в пишущую машинку. Я видела, как пульсирует в темноте между клавишами машинки фиолетовый свет, и это напомнило мне электрическую дугу, на которую, говорят, нельзя смотреть без специальных очков, потому что можно сжечь сетчатку глаз и ослепнуть. Рег вбежал в кабинет, сбив меня с ног.
– РАКНЕ! – закричал он. – ТЫ УБИВАЕШЬ РАКНЕ!
И когда он бросился через комнату, намереваясь, видимо, убить мальчишку, я еще успела подумать: «Сколько же раз он побывал здесь, стреляя из своего бластера, пока мы с его матерью меняли постели на втором этаже или развешивали белье во дворе, где не могли слышать ни звука, издаваемого его игрушкой, ни крика этого существа… этого форнита…»
Джимми не остановился, даже когда Рег ворвался в кабинет. Просто продолжал стрелять в пишущую машинку, словно знал, что это его последний шанс, и с тех пор я иногда думаю: может быть, Рег был прав насчет них тоже? Только они вроде как плавают вокруг и время от времени ныряют кому-нибудь в голову и заставляют этого человека делать всякую грязную работу, а потом выскакивают, и тот человек, в котором они жили, удивленно говорит: «Я? Что я сделал?»
За секунду до того, как Рег добрался до Джимми, крик, доносившийся из пишущей машинки, превратился в короткий пронзительный вопль, и я увидела на внутренней стороне стекла разбрызганную кровь, словно то, что находилось там внутри, наконец взорвалось, как, люди говорят, должен взорваться живой зверек, если посадить его в микроволновую печь. Я знаю, как это дико звучит, но я видела кровь: она ударила сгустком в стекло и начала стекать вниз.
– Готов, – удовлетворенно произнес Джимми. – Я его…
В этот момент Рег отшвырнул его через всю комнату, и он ударился об стену. Бластер выпал у мальчишки из рук, грохнулся об пол и раскололся. Внутри, конечно, ничего, кроме пластика и батареек, не оказалось.
Рег заглянул в машинку и закричал. Не от боли или ярости, хотя ярости в этом крике тоже хватало. Сильнее всего в крике звучало отчаяние. Потом он повернулся к мальчишке. Джимми упал на пол, и, что бы там в него ни вселялось, если в него действительно что-то вселялось, теперь он был всего лишь испуганным шестилетним мальчишкой. Рег направил на него пистолет, и это последнее, что я помню…»
Редактор допил содовую и осторожно поставил стакан в сторону.
– Гертруда Рулин и Джимми помнили, однако, достаточно, чтобы восстановить картину происшедшего, – сказал он. – Джейн закричала: «Рег, НЕТ!» Когда он обернулся, Джейн поднялась на ноги и бросилась к нему. Он выстрелил, раздробив ей левый локоть, но она так и не отпустила Рега, а пока она пыталась удержать мужа, Гертруда Рулин позвала сына, и тот бросился к ней.
Рег оттолкнул Джейн и снова выстрелил. Пуля царапнула по левой стороне черепа, и, пройди она на долю дюйма правее, Джейн была бы убита. Впрочем, если бы она не вмешалась, Рег, без сомнения, убил бы Джимми Рулина и, возможно, его мать.
Он выстрелил в мальчишку, когда тот бросился на руки матери в дверях кабинета. Пуля прошла через левую ягодицу вниз, вышла из бедра, не задев кости, и зацепила лодыжку Гертруды Рулин. Было много крови, но никто серьезно не пострадал. Гертруда захлопнула дверь и потащила своего кричащего, истекающего кровью сына через коридор на улицу.
Редактор снова замолчал, задумавшись.
– Джейн или потеряла сознание к тому времени, или просто заставила себя забыть, что произошло дальше. Рег сел в кресло, приставил пистолет к середине лба и спустил курок. Пуля не прошла сквозь мозг, оставив его на всю жизнь «растением», и не скользнула по внутренней поверхности черепа, вылетев без вреда с другой стороны. Несмотря на гибкость фантазии, последняя пуля оказалась твердой, как ей и положено быть. Мертвый, Рег упал на свою пишущую машинку.
Когда ворвалась полиция, они его так и нашли. Джейн сидела в дальнем углу в полубессознательном состоянии. Всю пишущую машинку залило кровью, внутри, видимо, тоже была кровь: при попадании в голову всегда много крови.
Но вся кровь, как оказалось, группы 0.
Группы Рега Торпа.
И это, леди и джентльмены, конец моего рассказа. Я уже не могу говорить. – Действительно, голос редактора превратился в хриплый шепот.
Вечер закончился без обычной легкой болтовни напоследок и даже без неестественно веселых разговоров, которыми люди, бывает, пытаются прикрыть чрезмерную откровенность, возникшую за коктейлями, или по крайней мере замаскировать тот факт, что в определенный момент разговор стал более серьезным, чем допускает обстановка вечеринки.
Однако, провожая редактора до машины, писатель не смог удержаться от последнего вопроса:
– А сам рассказ? Что случилось с рассказом?
– Ты имеешь в виду рассказ Рега?..
– Да. «Балладу о гибкой пуле». Рассказ, из-за которого все это произошло. Он, собственно, и явился той «гибкой пулей», по крайней мере если не для него, то для тебя. Что же, черт побери, случилось с этим великим рассказом?
Редактор открыл дверцу своего маленького голубого «чеветта» с наклейкой на заднем бампере: «Настоящие друзья не позволят пьяному гостю сесть за руль».
– Он не был опубликован. Если Рег держал копии, он, видимо, уничтожил их, получив мое согласие на публикацию. Что, приняв во внимание его параноидальные фантазии про них, вполне вписывается в характер.
Когда я свалился в Джексон-Ривер, у меня оставался оригинал рассказа и три фотокопии. Все в картонной коробке. Если бы я положил ее в багажник, рассказ бы сохранился, потому что багажник машины даже не ушел под воду. Впрочем, если бы это случилось, листки бы потом высохли. Но я хотел, чтобы рассказ лежал рядом со мной, и положил коробку на соседнее с водительским сиденье. Когда я свалился в реку, окна машины были открыты, и листки… Я полагаю, они просто уплыли и их унесло в море. Мне гораздо легче и спокойнее верить в это, чем в то, что они сгнили вместе со всей остальной дрянью на дне реки, или что их сожрала рыба, или еще что-нибудь столь же эстетически непривлекательное. Верить, что их унесло в море, более романтично, хотя это и менее вероятный исход. Но выбирая, во что верить, я все-таки сохраняю гибкость. Так сказать.
Редактор сел в машину и уехал. Писатель стоял, глядя ему вслед, пока огни машины не скрылись вдали, потом обернулся. Мег стояла у начала садовой дорожки, крепко обхватив себя руками, хотя в ночном воздухе все еще держалось тепло.
– Мы последние, – сказала она, нерешительно улыбаясь ему. – Пойдем в дом?
– Конечно.
На полпути к дому она остановилась и спросила:
– В твоей пишущей машинке нет форнита, Поль?
И писатель, который порой, хотя, впрочем, не так уж и редко, задумывался о том, откуда же все-таки к нему приходят нужные слова, храбро ответил:
– Решительно нет.
Рука об руку они прошли в дом и закрыли за собой дверь, оставив ночь снаружи.
Протока
[61]
– В те дни Протока была шире, – сообщила Стелла Фландерс правнукам в последнее лето своей жизни, то самое лето, по прошествии которого ей стали являться призраки. Дети слушали, широко открыв глаза, и даже ее сын, Олден, что-то строгавший на крыльце, повернулся к ней. Случилось это в воскресенье, а по воскресеньям Олден не выходил в море, сколь бы высоко ни поднималась цена на выловленных им омаров.
– О чем ты, баб? – спросил Томми, но она не ответила. Она тихо сидела в кресле-качалке у холодной плиты, ее шлепанцы размеренно постукивали по полу.
– О чем она? – спросил Томми у матери.
Лоис только покачала головой, улыбнулась и отправила детей собирать ягоды.
Она забыла, подумала Стелла. Или даже не знала?
Протока была шире в те дни. Если кто и знал об этом, так только Стелла Фландерс. Она родилась в 1884 году, старше ее на Козьем острове никого не было. И за всю жизнь она так и не побывала на материке.
Любишь ли ты? Вопрос этот вновь и вновь возникал у нее в голове, а она даже не знала, что он означает.
Наступила осень, холодная осень, без привычных дождей, окрашивающих листву в удивительные цвета, как на Козьем острове, так и в Голове Енота, деревеньке на другой стороне Протоки. Порывы ледяного ветра обрушивались на остров, и каждый отдавался в ее сердце.
Девятнадцатого ноября, когда первые снежинки упали на землю с неба цвета белого хрома, Стелла праздновала день рождения. Почти все соседи пришли поздравить ее. Хэтти Стоддард: ее мать умерла от воспаления легких в 1954 году, а отец пропал вместе с «Танцовщицей» в 1941-м. Ричард и Мэри Додж. Ричард едва ковылял, тяжело опираясь на палку: его совсем замучил артрит. Сара Хейвлок: ее мать, Аннабелль, была ближайшей подругой Стеллы. Они вместе проучились в островной школе восемь лет, а потом Аннабелль вышла замуж за Томми Фрейна, который в пятом классе дергал ее за косички, доводя до слез. А мужем Стеллы стал Билл Фландерс, который однажды вышиб у нее из рук все учебники (они попадали в грязь, но Стелла не заплакала). Аннабелль и Томми давно уже покинули их, а из семерых детей Фрейнов на острове осталась одна Сара. Ее муж, Джордж Хейвлок, которого все звали Большим Джорджем, погиб на материке в 1967 году, том самом, когда не ловилась рыба. Топор провернулся в его руке, перерубил артерию, кровь вытекла, и три дня спустя его похоронили на острове. И когда Сара пришла на вечеринку и воскликнула: «С днем рождения, бабуля!» – Стелла тепло обняла ее, закрыла глаза,
(любишь ли ты любишь ли ты?)
но не заплакала.
Наступил черед и гигантского праздничного пирога. Испекла его Хэтти со своей лучшей подругой, Верой Спрюс. Все гости прокричали: «С днем рождения!» – и их голоса заглушили ветер… пусть и на какие-то мгновения. Даже Олден присоединился к общему хору, хотя обычно раскрывал рот лишь при исполнении гимнов в церкви, да так старался, что от натуги у него даже краснели уши. На пироге горели девяносто пять свечей, но даже громкие поздравления не помешали Стелле расслышать завывание ветра, хотя с годами слух ее потерял былую остроту.
Ей подумалось, что ветер зовет ее по имени.
«Я вовсе не одна такая, – хотелось ей сказать детям Лоис. – В мое время многие жили и умирали на острове. Тогда не было почтового катера. Бык Саймс отвозил почту, когда получал ее. И парома не было. Если возникала необходимость попасть в Голову Енота, муж отвозил тебя на своей рыбацкой лодке. И унитазы со сливом появились на острове лишь в 1946 году. Первый – в доме сына Быка, Гарольда, в тот самый год, когда инфаркт хватил Быка в тот самый момент, когда он расставлял капканы. Я помню, как Быка несли домой. Я помню, как его завернули в брезент. Я помню, как из брезента торчал зеленый сапог Быка. Я помню…»
И они спросили бы: «Что, баб? Что ты помнишь?»
Что она могла им ответить? Помнила ли она что-то еще?
В первый день зимы, через месяц или около того после дня рождения, Стелла открыла дверь черного хода, чтобы принести дрова для печи, и увидела на крыльце мертвого воробья. Она осторожно нагнулась, подняла его за ножку и оглядела.
– Замерз, – произнесла она, но внутри у нее прозвучало другое слово. Последний раз она видела замерзшую птицу сорок лет назад – в 1938 году. Том самом, когда Протоку сковал лед.
По телу пробежала дрожь. Стелла поплотнее запахнула пальто и бросила мертвого воробья в ржавую бочку, которая служила печью для сжигания мусора. День выдался холодным. Небо сияло глубокой синевой. В день ее рождения выпало четыре дюйма снега. Но потом он стаял, оголив землю. «Скоро снова ляжет», – сказал накануне в магазине Ларри Маккин с таким умным видом, будто приход зимы зависел от его хотения.
Стелла подошла к поленнице, загрузилась дровами, направилась к дому. Тень, выхваченная солнцем, следовала за ней.
У самой двери черного хода, там, где лежал мертвый воробей, Стелла услышала голос Билла… хотя Билл уже двенадцать лет как умер от рака.
– Стелла, – промолвил Билл, и она увидела его тень, легшую рядом с ее тенью, более длинную, но такую же четкую, тень Билла с тенью шляпы, как всегда чуть сдвинутой набекрень. Она попыталась закричать, но крик застрял в горле, не добравшись до губ. – Стелла, – повторил Билл, – может, махнем на материк? Возьмем старый «форд» Норма Джолли и отправимся поразвлечься во Фрипорт? Что скажешь?
Стелла резко обернулась, едва не выронив дрова, но никого не увидела. Пустой двор, далее заросшая сорняками земля, а за ней край всего сущего, магическая граница – Протока… и материк.
«Баб, что такое Протока?» – могла бы спросить Лона… хотя так и не спросила. И она могла бы дать ответ, который каждый рыбак знал наизусть: «Протока – это полоска воды между двумя полосками суши, полоска воды, открытая с обоих торцов. Отсюда и старая шутка ловцов омаров: как определиться с показаниями компаса в тумане? По очень длинной Протоке между Джонспортом и Лондоном».
«Протока – это вода между островом и материком, – ответила бы она, угощая детей пирожками с мелиссой и горячим чаем, щедро сдобренным сахаром. – Это я хорошо знаю, так же хорошо, как знаю имя моего мужа… как знала его манеру носить шляпу».
«Баб, – спросила бы Лона, – как получилось, что ты так и не пересекла Протоку?»
«Лапочка, – ответила бы она, – я не видела в этом смысла».
В январе, через два месяца после дня рождения Стеллы, Протока замерзла, впервые после 1938 года. По радио предупреждали, как островитян, так и жителей материка, что лед непрочный, но Стиви Макклеланд и Расселл Боуи, как следует накачавшись яблочным вином, отправились покататься на снегоходе Стиви. Конечно же, снегоход провалился под лед. Стиви удалось выкарабкаться (хотя обмороженную ногу пришлось ампутировать), а вот Расселла Боуи Протока забрала к себе.
Двадцать пятого января состоялось поминальное богослужение по Расселлу. Стелла стояла, опираясь на руку своего сына Олдена, подпевавшего громовым голосом. Потом Стелла сидела рядом с Сарой Хейвлок, Хэтти Стоддард и Верой Спрюс в зале муниципалитета, освещенная пламенем камина. Поминали Расселла пуншем и сандвичами с сыром, нарезанными аккуратными треугольниками. Мужчины то и дело выходили за дверь, чтобы приложиться к кое-чему покрепче пунша. Вдова Расселла Боуи, потрясенная случившимся, с красными от слез глазами, расположилась рядом с Эвеллом Маккракеном, священником. Она была на седьмом месяце (ждала уже пятого ребенка), и Стелла, пригревшись у огня, подумала: Наверное, скоро она пересечет Протоку. Переселится во Фрипорт или Льюистон, пойдет в официантки.
Она повернулась к Вере и Хэтти, послушала, о чем те толкуют.
– Нет, я этого не слышала, – говорила Хэтти. – Так что сказал Фредди?
Речь шла о Фредди Динсморе, старейшем мужчине на острове (Он, однако, на два года моложе меня, с удовлетворением отметила Стелла), который в 1960 году продал свой магазин Ларри Маккину и с тех пор удалился от дел.
– Он сказал, что не припоминает такой зимы. – Вера достала вязанье. – Он говорит, что теперь многие заболеют.
Сара Хейвлок посмотрела на Стеллу и спросила, была ли на ее памяти такая зима. Первый снег давно стаял, обнажив голую, смерзшуюся бурую землю. Днем раньше Стелла прошла тридцать ярдов по полю, что начиналось за двором, держа руку на высоте бедра, и трава при соприкосновении с рукой ломалась со звуком, напоминающим бьющееся стекло.
– Нет, – ответила Стелла. – Протока замерзала в 1938 году, но тогда выпал снег. Ты помнишь Быка Саймса, Хэтти?
Хэтти рассмеялась.
– Думаю, у меня еще остался синяк на заднице после его щипка на новогодней вечеринке 1953 года. Ущипнул от души. А чего ты его вспомнила?
– Бык и мой благоверный в тот год пересекли Протоку по льду. В феврале. Надели снегоступы и потопали в трактир «Дорритс» в Голове Енота. Выпили по стопке виски и вернулись тем же путем. Они еще и меня с собой звали. Все равно что мальчишки, решившие на салазках прокатиться.
Они в изумлении смотрели на нее. Даже Вера, хотя она-то наверняка слышала эту историю раньше. Если верить сплетням, Бык и Вера когда-то жили вместе, хотя, глядя нынче на Веру, с трудом верилось, что Вера когда-то была молодой.
– И ты не пошла? – спросила Сара. Возможно, перед ее мысленным взором возникла Протока, белая до голубизны в холодном свете зимнего солнца, сверкающая ледяными кристаллами. И Стелла, шагающая по океану, словно Иисус по водам, покидающая остров единственный раз в жизни, не на лодке, а на своих двоих…
– Нет, – ответила Стелла. Внезапно она пожалела о том, что не захватила с собой вязанье. – Не пошла с ними.
– А почему? – в недоумении полюбопытствовала Хэтти.
– Потому что стирала, – отрезала Стелла, и в этот момент Мисси Боуи, вдова Расселла, разразилась рыданиями. Стелла обернулась и увидела Билла Фландерса, в его клетчатом красно-черном пиджаке, сдвинутой набекрень шляпе, с сигарой «Герберт Тейритон» во рту и второй, засунутой про запас за ухо. Она почувствовала, как на мгновение остановилось сердце, потом забилось вновь, и даже тихонько ахнула, но никто из женщин ее не услышал, потому что все смотрели на Мисси.
– Бедняжка, – проворковала Сара.
– Может, оно и к лучшему, – буркнула Хэтти. Она порылась в памяти в поисках слов, достойных Расселла Боуи, и нашла их. – Никчемный человек. Ничтожество. Можно сказать, что ей просто повезло.
Стелла ничего этого не слышала. Здесь же сидел Билл, так близко от преподобного Маккракена, что тот мог бы ущипнуть его за нос, если бы захотел. Выглядел он лет на сорок, черноглазый, во фланелевых брюках, в прорезиненных ботинках и в серых шерстяных носках.
– Мы ждем тебя, Стел, – сказал Билл. – Переходи Протоку, посмотри на материк. В этом году снегоступы тебе не понадобятся.
Он сидел в зале муниципалитета как живой, а потом в камине треснула веточка, и он исчез. А преподобный Маккракен начал успокаивать Мисси Боуи, словно Билл и не появлялся.
В тот вечер Вера позвонила Энни Филлипс по телефону и в разговоре упомянула о том, что Стелла Фландерс неважно выглядела, очень неважно.
– Олдену придется попотеть, чтобы увезти ее с острова, если она заболеет, – ответила Энни. Олден Энни нравился, потому что ее сын Тоби как-то сказал ей, что Олден не пьет ничего крепче пива. Сама Энни и вовсе воздерживалась от алкоголя.
– Если он и сможет увезти ее отсюда, то лишь в коме, – ответила Вера. – Когда Стелла говорит: «Лягушка», Олден прыгает. Олден не шибко умен, знаешь ли. Он у Стеллы под каблуком.
– Правда? – спросила Энни.
Тут в трубке заскрежетало. Какое-то мгновение Вера еще слышала голос Энни, только голос – не слова, а потом пропал и он. Порыв ветра оборвал телефонный провод, то ли у пруда Годлина, то ли у бухты Борроу, там, где он выходил из-под Протоки. А может, авария случилась на материке, у деревни Голова Енота… Какой-нибудь шутник мог сказать, что это Расселл Боуи порвал подводный кабель своей холодной рукой.
В семистах футах от Веры Стелла Фландерс лежала под стеганым одеялом и прислушивалась к музыкальному храпу Олдена, доносящемуся из соседней комнаты. Она вслушивалась в храп, чтобы не слышать ветер… но все равно слышала, слышала его завывание над замерзшей Протокой, полутора милями воды, которые теперь сковал лед, накрыв лобстеров, рыбу, а может, и тело Расселла Боуи, который каждый апрель приезжал на стареньком мини-тракторе, чтобы вскопать ей огород.
Кто же вспашет мне огород в этом апреле? – гадала Стелла, замерзая даже под толстым стеганым одеялом. И, словно во сне, ей ответил ее голос: Любишь ли ты? Под очередным порывом ветра задребезжало окно. Оно словно говорило с ней, но Стелла отвернулась, чтобы не слышать слов. И не заплакала.
«Баб, – могла бы настаивать Лона (она никогда не сдавалась, эта девочка, совсем как ее мать, а еще раньше бабушка), – ты же не сказала нам, почему ты так и не пересекла Протоку».
«А зачем, дитя? Все, что нужно, я имела и на Козьем острове».
«Но он такой маленький. Мы живем в Портленде. Там ходят автобусы!»
«Насмотрелась я на ваши города по телевизору. Лучше уж здесь поживу».
Хол даром что младше, зато дотошнее. Он бы не спрашивал об одном и том же, как его сестра, зато его вопросы били бы прямо в цель. «А тебе никогда не хотелось на материк, бабушка? Никогда?»
И она наклонилась бы к нему, взяла за руки и рассказала бы о том, как ее отец и мать приехали на остров вскоре после свадьбы, как дед Быка Саймса взял отца Стеллы на свое судно. Она рассказала бы, что ее мать беременела четыре раза, но один раз случился выкидыш, а еще один ребенок умер через неделю после рождения. Она уехала бы с острова, если б они могли спасти ребенка в больнице на материке, но, разумеется, он умер до того, как они успели подумать об этом.
Она рассказала бы им, как Билл принял у нее роды Джейн, их бабушки, но не упомянула бы о другом. О том, что потом он ушел в ванную, где его сначала вырвало, а потом он рыдал, как истеричка. Джейн, разумеется, покинула остров в четырнадцать лет: поехала учиться в среднюю школу. Девушки больше не выходят замуж в четырнадцать лет, но Стелла, увидев, как Джейн поднимается в лодку с Бредли Максвеллом, который перевозил детей на материк и обратно, сердцем поняла, что Джейн уходит навсегда, хотя какое-то время она и возвращалась на остров. Она рассказала бы им о том, как Олден появился десять лет спустя, когда они уже перестали и надеяться, да так и остался с ними, вечным холостяком. Стеллу это даже радовало, потому что умом Олден не отличался, а многие женщины хотели бы заполучить в мужья тугодума, но с добрым сердцем (она не стала бы говорить детям, что такие союзы не выдерживают проверки временем).
Она могла бы сказать: «Луис и Маргарет Годлин родили Стеллу Годлин, которая стала Стеллой Фландерс. Билл и Стелла Фландерс родили Джейн и Олдена Фландерс, и Джейн Фландерс стала Джейн Уэйкфилд. Ричард и Джейн Уэйкфилд родили Лоис Уэйкфилд, которая стала Лоис Перролт. Дэвид и Лоис Перролт родили Лону и Хола. Это ваши фамилии, дети. Вы –Годлин-Фландерс-Уэйкфилд-Перролт. Ваша кровь – в камнях этого острова, и я остаюсь здесь потому, что материк слишком далеко. Да, я люблю. Я любила, во всяком случае, пыталась любить, но воспоминания слишком живы и глубоки, и я не могу пересечь Протоку. Годлин-Фландерс-Уэйкфилд-Перролт…»
Исходя из сообщения Национальной метеослужбы, этот февраль выдался самым суровым за все время наблюдений за погодой, и к середине месяца Протоку сковал крепкий лед. Снегоходы сновали взад-вперед, иной раз переворачивались, когда старались взобраться на слишком крутой ледовый торос. Дети пытались кататься на коньках, но слишком бугристый лед лишал это занятие всякого удовольствия, так что им пришлось возвращаться на Годлиновский пруд. Произошло это, однако, лишь после того, как Джастин Маккракен угодил коньком в трещину и упал, сломав ногу. Его увезли в больницу на материке, где доктор, который ездил на «корветте», сказал ему: «Сынок, ногу тебе подлечим, будет как новая».
Фредди Динсмор скоропостижно скончался через три дня после того, как Джастин Маккракен сломал ногу. В конце января Фредди заболел гриппом, но врача вызывать не стал, говоря всем: «Обычная простуда, нечего было выходить за почтой без шарфа». Он лег в кровать и умер, прежде чем его успели перевезти на материк и подключить к тем машинам, которые всегда стояли наготове в ожидании таких, как Фредди. Его сын Джордж, отъявленный пьяница, несмотря на почтенный возраст (шестьдесят восемь лет), нашел Фредди в постели, с «Бангор дейли» в одной руке и разряженным «ремингтоном», лежащим рядом с другой. Вероятно, перед тем как умереть, Фредди думал о том, чтобы почистить ружье. Джордж Динсмор ушел в трехнедельный запой, поговаривали, что запой финансировал тот, кто знал, что Джордж получит страховку отца. А Хэтти Стоддард говорила всем, кто хотел ее слушать, что старый Джордж Динсмор – позор рода человеческого и ничуть не лучше шлюхи, отдающейся за деньги.
Эпидемия гриппа бушевала вовсю. В том феврале каникулы длились две недели, а не одну: многие ученики болели. «Отсутствие снега способствует распространению инфекции», – говорила Сара Хейвлок.
К концу месяца, когда люди с надеждой ждали марта, заболел гриппом и Олден Фландерс. С неделю он ходил больной, а улегся в постель, лишь когда температура поднялась до ста одного градуса[62]. Как и Фредди, вызвать врача он отказался, отчего Стелла очень волновалась. Но Олден был помоложе Фредди: в мае готовился разменять всего-то седьмой десяток.
Наконец посыпал снег. На День святого Валентина выпало шесть дюймов, еще шесть двадцатого, а уж двадцать девятого навалило целый фут. Снег белой полосой лежал между берегом и материком, там, где в это время обычно серела вода. Несколько человек сходили на материк и вернулись обратно. Обошлись без снегоступов: снег смерзся в блестящую твердую корку. Должно быть, выпили на материке виски, думала Стелла, но только не в трактире «Дорритс». Тот трактир сгорел дотла в 1958 году.
И все четыре раза она видела Билла. Однажды он сказал ей: «Ты должна прийти на материк, Стелла. Мы потанцуем. Что скажешь?»
Она ничего не могла сказать. Рот затыкал ее кулак.
«Здесь есть все, что мне нужно, – сказала бы она им. – Радио, теперь и телевизор, а больше от мира, существующего за Протокой, мне ничего не нужно. Каждый год я собираю с огорода урожай. Лобстеры? И что, у нас всегда был чугунок похлебки из лобстеров, который мы прятали в кладовую всякий раз, когда приходил священник, чтобы он не видел, что мы едим суп бедняков.
Я видела погоду хорошую и плохую, случалось, что я задавалась вопросом: каково это – покупать вещи в магазине «Сирс», а не заказывать их по каталогу, или отправиться на фермерскую ярмарку вместо того, чтобы покупать продукты в магазине, или посылать Олдена на материк за чем-то особенным, вроде индейки на Рождество или бекона на Пасху… А однажды мне даже захотелось, только однажды, постоять на улице Конгресса в Портленде, посмотреть на людей в машинах и на тротуарах, одновременно увидеть больше людей, чем жило в те дни на всем острове… Стоило захотеть этого, как захотелось бы чего-то еще. Я не замечаю за собой никаких странностей. Я не чудачка, это даже не возрастное. Моя мать говаривала: «Главное в этом мире – чувствовать разницу между желаниями и возможностями». Я в это верю до сих пор. Я считаю, что лучше рыть вглубь, чем вширь.
Эта земля моя, и я ее люблю».
В середине марта, в один из дней, когда небо побелело и прижалось к земле, Стелла Фландерс уселась на кухне в последний раз, в последний раз зашнуровала сапоги на костлявых голенях, в последний раз повязала шею ярко-красным шерстяным шарфом (рождественский подарок Хэтти, полученный тремя годами раньше). Под платье она поддела теплое белье Олдена. Резинка кальсон оказалась точно под мышками, подол рубашки прикрыл колени.
Снаружи вновь поднялся ветер, синоптики обещали снегопад во второй половине дня. Стелла надела пальто и варежки. Подумав, натянула рукавицы Олдена поверх своих. Олден поправлялся после гриппа, и этим утром он и Харли Блад отправились чинить дверь в доме Мисси Боуи, которая родила девочку. Стелла видела несчастную малютку: вылитый отец.
Она подошла к окну, посмотрела на Протоку, нашла Билла там, где и ожидала: он стоял на полпути между островом и Головой Енота, стоял на Протоке, совсем как Иисус на воде, махал ей рукой, как бы говоря, что время поджимает и она должна поспешить, если хочет ступить на материк в этой жизни.
– Только если ты этого хочешь, Билл, – сердито бросила Стелла. – Бог свидетель, у меня такого желания нет.
Но ветер произнес другие слова. Она хотела. Она хотела отправиться в это путешествие. Зима далась ей нелегко: досаждал артрит, суставы пальцев и коленей то горели огнем, то леденели. Один глаз стал видеть гораздо хуже, словно в сумраке (на днях Сара сказала, с явной неохотой, что пленочка, появившаяся на нем, когда Стелле исполнилось шестьдесят, стала плотнее и заметнее). А главное, вернулась сильная пульсирующая боль в желудке, и два дня назад, поднявшись в пять утра и прошлепав в туалет по холоднющему полу, она увидела в унитазе алую кровь. В это утро к крови добавилась дурно пахнущая слизь, а во рту появился привкус меди.
Боль в желудке последние пять лет появлялась и исчезала, усиливалась и слабела, но Стелла с самого начала знала, что это рак. От рака умерли ее мать, и отец, и отец матери. Ни один из них не дожил до семидесяти лет, и Стелла полагала, что она побила все рекорды страховщиков.
– Ты ешь как лошадь, – с улыбкой сказал ей Олден прямо перед тем, как вновь появились боли, а в утреннем кале показалась кровь. – Разве ты не знаешь, что в твоем возрасте старики клюют как птички?
– Помолчи, а не то я тебя взгрею! – Стелла подняла руку, а ее седовласый сын, притворно сжавшись в комок, закричал:
– Не надо, мама! Беру свои слова назад!
Да, ела она с аппетитом, не потому, что хотелось, но в уверенности (в этом она не отличалась от других своих сверстников), что рак оставит ее в покое, если как следует кормить его. Возможно, это срабатывало, хотя бы на время. Кровь в кале появлялась и исчезала, случалось, что ее довольно-таки долго не было вовсе. Олден привык к тому, что она брала добавку (а то и две, когда становилось особенно худо), но Стелла не поправлялась ни на фунт.
А теперь рак, судя по всему, прорвался через, как говорили лягушатники, piе́ce de rе́sistence[63].
Стелла направилась к двери, увидела кепку Олдена с меховыми наушниками, висящую на крючке в прихожей. Надела ее, козырек оказался на уровне кустистых седых бровей, последний раз оглянулась, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Заметила, что дрова в печи догорели, а Олден слишком выдвинул заслонку. Сколько она ни твердила ему одно и то же, он никогда не мог оставить нужный зазор.
– Олден, теперь на зиму тебе потребуется вдвое больше дров, – пробормотала она, вернулась к печи, открыла дверцу, и тут же лицо ее перекосила гримаса. Она захлопнула дверцу, дрожащими пальцами задвинула заслонку. На мгновение, только на мгновение, она увидела в углях лицо своей ближайшей подруги, Аннабелль Фрейн. Как живое, даже с родинкой на щеке.
Неужели Аннабелль подмигнула ей?
Она подумала о том, чтобы оставить записку Олдену, объяснить, куда она ушла, но решила, что Олден скорее всего дойдет до всего сам, пусть и не сразу.
Прикидывая про себя текст (С первого дня зимы я вижу твоего отца, и он говорит, что умирать совсем не страшно. Во всяком случае, я думаю, что он это говорит…), Стелла вышла в белизну дня.
Ветер набросился на нее, и она едва успела схватить кепку Олдена. Иначе ветер ради шутки сорвал бы ее с головы и унес прочь. Холод, казалось, отыскивал каждую щелочку в одежде и заползал в нее. Сырой мартовский холод, пахнущий мокрым снегом.
По склону холма Стелла спустилась к бухте, стараясь шагать по пятнам золы и уголькам, рассыпанным Джорджем Динсмором. Однажды Джордж получил подряд на расчистку дороги в Голове Енота, но во время сильного снегопада в 1977 году перебрал ржаного виски и своим грейдером сшиб не один, не два, а три столба. В итоге в Голове пять дней не было света. Стелла помнила это странное зрелище: полная темнота на другой стороне Протоки. Они-то привыкли видеть на том берегу яркие огни деревни. Теперь Джордж работал на острове. Поскольку грейдера здесь не было, он не мог причинить большого вреда.
Проходя мимо дома Расселла Боуи, она увидела приникшую к окну Мисси, бледную как молоко. Помахала ей рукой. Мисси ответила тем же.
Стелла сказала бы им:
«На острове мы всегда держались дружно. Когда у Герда Хенрейда лопнул сосуд в груди, мы целое лето отказывали себе во всем, собирая деньги на операцию, которую ему сделали в Бостоне, но зато Герд вернулся живой, слава Богу. Когда Джордж Динсмор посшибал эти столбы и электрокомпания наложила арест на его дом, мы позаботились о том, чтобы расплатиться с электрокомпанией и обеспечить Джорджа работой. Так что ему хватало на сигареты и выпивку. Почему нет? Другого занятия, кроме как пить, в свободное время он не находил, но работы не боялся, вкалывал как лошадь. Вот столбы он повалил только потому, что расчищать снег пришлось поздним вечером, а вечерами Джордж трезвым не бывал. Его отец по крайней мере продолжал его кормить. Теперь Мисси Боуи родила еще одного ребенка. Может, она останется здесь, будет жить на пособие. Скорее всего этих денег на жизнь не хватит, но тогда ей помогут. Может, она и уедет, но здесь она точно не умрет с голоду… и послушайте, Лона и Хол: если она останется, если зацепится за этот маленький мир с маленькой Протокой по одну сторону и большой – по другую, в чем-то ей будет легче, чем подавать суп в Льюистоне, пончики в Портленде или коктейли в «Нэшвилл норт» в Бангоре. И мне уже достаточно много лет, чтобы знать, о чем именно идет речь. Я толкую о жизненном укладе, даже о самой жизни».
Они приглядывали друг за другом и в остальном, но об этом Стелла не стала бы говорить своим правнукам. Дети этого бы не поняли, так же, как Лоис и Дэвид, хотя Джейн знала что к чему. Когда у Нормана и Этти Уилсон родился ребенок-дебил, с монголоидными чертами лица, плавающими глазами, головой в рытвинах, вывернутыми ножками, преподобный Маккракен пришел и окрестил ребенка, а днем позже появилась Мэри Додж, повитуха, принявшая добрую сотню родов. Норман увел Этти в бухту, чтобы посмотреть на новую лодку Френка Чайлда. Этти пошла, хотя едва передвигала ноги, но у двери остановилась, посмотрела на Мэри Додж, которая спокойно сидела у колыбели и вязала. Мэри подняла голову, их взгляды встретились, и Этти разрыдалась. «Пошли, – поторопил Норман; по голосу чувствовалось, что он расстроен. – Пошли, Этти, пошли». Когда же они вернулись часом позже, ребенок умер, прямо в колыбельке, во сне, Господь Бог избавил его от страданий. А за много лет до этого, до войны, во времена Депрессии, три маленькие девочки, возвращаясь домой из подготовительного класса, встретили мужчину, который предлагал показать им колоду карт с изображениями разных собачек, если они пойдут с ним в кусты. А в кустах мужчина говорил каждой, что сначала они должны потрогать его «штучку». Одной из этих девочек была Герт Саймс, которая в 1978 году удостоилась титула «Учитель года штата Мэн» за успехи в средней школе Брансуика. Герт, тогда пятилетняя, сказала отцу, что у мужчины недоставало пальцев на руке. Вторая девочка с ней согласилась. Третья ничего такого не заметила. Стелла помнила, как в один летний грозовой день Олден ушел, не сказав куда, хотя она и спрашивала. Выглянув из окна, она увидела, как Олден встретился с Быком Саймсом, а потом к ним присоединился Фредди Динсмор. На берегу бухты она углядела своего мужа, хотя с утра отправила его в море. Подошли другие мужчины, человек десять, среди них Стелла заметила и предшественника преподобного Маккракена. И тем же вечером около Слайдерс-Пойнта, там, где скалы торчат из воды, как драконьи клыки, нашли утонувшего мужчину по фамилии Дэниэль. Большой Джордж Хейвлок нанял этого Дэниэля, чтобы тот помог ему подправить фундамент. Приехал он из Нью-Хэмп-шира, умел ладить с людьми, нашел себе приработок и после того, как Большой Джордж рассчитался с ним… даже ходил в церковь. Вероятно, говорили все, Дэниэль пошел прогуляться к Слайдерс-Пойнту, поскользнулся на мокром граните и свалился в воду. Сломал шею и разбил голову. Поскольку никто не знал, есть ли у Дэниэля родственники, похоронили его на острове, и предшественник преподобного Маккракена прочитал над его могилой молитву, упомянув, каким хорошим работником был усопший и как усердно трудился, несмотря на то что на правой руке у него недоставало двух пальцев. Затем он благословил покойника, после чего все, кто присутствовал на похоронах, собрались в зале муниципалитета, где пили пунш и ели сандвичи с сыром, и Стелла так и не спросила своих мужчин, что они делали в тот день, когда Дэниэль свалился с обрыва в Слайдерс-Пойнте.
«Дети, – сказала бы она своим правнукам, – мы всегда держались друг за друга. Иначе не могли, потому что Протока была шире в те дни, и, когда ревел ветер, неистовствовал прибой, да еще рано темнело… чего уж скрывать, мы чувствовали себя такими маленькими – пылинками перед взором Господа. Естественно, мы держались за руки, стоя плечом к плечу.
Мы держались за руки, дети, а если и случалось, что у нас возникали мысли, а зачем все это надо, достоин ли остров нашей любви, то причиной тому был рев ветра и грохот прибоя долгими зимними ночами, – мы боялись.
Нет, у меня никогда не возникало желания покинуть остров. Я жила здесь. И Протока была шире в те дни».
Стелла спустилась к бухте. Посмотрела направо, налево. Ветер раздувал ее пальто, словно флаг. Если б она кого-то увидела, то пошла бы дальше, к скалам, хотя они блестели коркой льда. Но бухта пустовала, и Стелла зашагала вдоль пристани, мимо старого лодочного сарая Саймса. Дошла до края, постояла, подняв голову. Ветер рвал с ее головы кепку Олдена.
Билл ждал ее, призывно маша рукой. А за ним, за Протокой, Стелла видела церковь, высившуюся над Головой Енота, ее шпиль почти сливался с серым небом.
С кряхтением она села на край пристани, поставила ноги на смерзшийся снег. Ее сапоги чуть продавили его. Стелла поглубже натянула кепку Олдена, ветер очень уж старался сорвать ее, и направилась к Биллу. Один раз собралась уже оглянуться, но передумала. Испугалась, что не выдержит сердце.
Она шагала, снег скрипел под ногами, она чувствовала, как под ним потрескивает лед. И Билл по-прежнему маячил перед ней, звал к себе, хотя расстояние до него не сокращалось. Она кашлянула, харкнула кровью на белый снег, покрывавший толщу льда. Теперь Протока простиралась по обе стороны, и впервые она могла прочесть вывеску «СНАСТИ И ЛОДКИ СТЕНТОНА» без помощи бинокля Олдена. Она видела автомобили, снующие взад-вперед по Главной улице Головы Енота, и с изумлением думала: Они могут ехать куда захотят… В Портленд… Бостон… Нью-Йорк. Такое и представить себе невозможно! Но она почти представила себе дорогу, уходящую вдаль, раздвигающую границы мира.
Снежинка закружилась у нее перед глазами. Другая. Третья. Скоро посыпал легкий снежок, и она шла в сияющей белизне. Голову Енота она теперь видела сквозь белую пелену, которая, правда, иногда исчезала. Она поправила кепку Олдена, и снег с козырька запорошил ей глаза. Ветер вихрями поднимал снег с наста, и в одном из силуэтов Стелла увидела Карла Абершэма, который утонул с мужем Хэтти Стоддард на «Танцовщице».
Скоро, однако, сияние исчезло, поскольку снег повалил сильнее. Главная улица постепенно растворялась в нем, пока не пропала совсем. Какое-то время Стелла еще различала церковь, но потом исчезла и она. Дольше всех сопротивлялась снегопаду ярко-желтая вывеска «СНАСТИ И ЛОДКИ СТЕНТОНА», где также продавались моторное масло, туалетная бумага, итальянские сандвичи и «Будвайзер», но и тут природа взяла верх.
Теперь Стелла шагала в бесцветном мире, окутанная серо-белой снежной завесой. Как Иисус по водам, подумала она и наконец оглянулась, но остров тоже пропал из виду. Она еще видела цепочку своих следов, которые быстро выглаживал снег… а больше ничего. Абсолютно ничего.
Она подумала: Это буран. Ты должна быть внимательна, Стелла, а не то никогда не дойдешь до материка. Будешь ходить кругами, пока не замерзнешь до смерти.
Она вспомнила, как Билл как-то говорил ей о том, что, заблудившись в лесу, надо притвориться, что охромел на правую ногу, если ты правша, или на левую, если левша. Иначе эта самая нога начнет водить тебя кругами, а ты не поймешь этого, пока не вернешься на прежнее место. Стелла решила, что ей этот совет не пригодится. По радио сказали, что снег будет идти и сегодня, и завтра. Так что она едва ли сможет понять, что вернулась назад: ветер занесет ее следы.
Рук она уже не чувствовала, несмотря на две пары рукавиц, замерзли и ноги. В какой-то мере это даже радовало: раздувшиеся от артрита суставы больше не беспокоили ее.
Стелла начала припадать на правую ногу, дабы добавить нагрузку на левую. Коленные суставы еще не замерзли и вскоре начали подавать сигналы бедствия. Седые волосы развевались за спиной. Она закусила губы (зубы она сохранила все, за исключением четырех) и смотрела прямо перед собой, ожидая, когда же из летящего снега появится ярко-желтое пятно вывески с черными буквами.
Не появилось.
Какое-то время спустя она заметила, что белизна дня начала постепенно сереть. Снег валил все сильнее, гуще. Ноги еще доставали до наста, пробивая пять дюймов свежевыпавшего снега. Она глянула на часы, но те встали. Стелла вспомнила, что забыла завести их утром, впервые за двадцать или тридцать лет. Может, оно и к лучшему? Часы эти достались ей от матери, и Олден дважды относил их в Голову Енота к мистеру Дости, который всякий раз сначала восхищался ими, а потом чистил. По крайней мере ее часы побывали на материке.
Впервые она упала через пятнадцать минут после того, как заметила, что начинают сгущаться сумерки. Какое-то мгновение она постояла на четвереньках, упираясь в снег руками и коленями, подумала, а не прилечь ли, свернувшись калачиком, вслушиваясь в завывания ветра, но решимость, которая погнала Стеллу на материк, подняла ее на ноги. Она стояла наперекор ветру, глядя прямо перед собой, надеясь, что ее глаза увидят… но они ничего не видели.
Скоро стемнеет.
Ладно, она сбилась с пути. Забрала в одну или другую сторону. Иначе она уже добралась бы до материка. Однако Стелла не верила, что очень уж сильно отклонилась от нужного направления, что шагает параллельно материку или даже повернула к Козьему острову. Встроенный в голову компас шептал, что она взяла влево. Стелла, однако, полагала, что она все-таки приближается к материку, пусть и не по прямой, а по диагонали.
Этот же компас хотел, чтобы она повернула направо. Но Стелла двинулась прямо, прекратив хромать. Вновь закашлялась, отхаркнула кровь.
Десятью минутами позже (уже заметно стемнело, а снегопад все не унимался) Стелла упала во второй раз, попыталась подняться, поначалу попытка не удалась, потом она все-таки выпрямилась. Постояла, качаясь на ветру, по колено утонув в снегу, борясь с дурнотой, волнами накатывающей на нее.
Возможно, слышала она не только рев ветра, но именно он наконец-то сорвал с ее головы кепку Олдена. Она извернулась, чтобы схватить кепку, но ветер без труда подкинул ее ввысь и унес в сгущающуюся тьму. Пару раз мелькнула оранжевая изнанка, потом кепка упала в снег, покувыркалась по нему, поднялась и исчезла. И теперь седые волосы Стеллы свободно развевались под ветром.
– Все нормально, Стелла, – сказал ей Билл. – Ты сможешь надеть мою шляпу.
Она ахнула и оглядела окружающее ее белое марево. Упрятанные в рукавицы руки поднялись к груди, она почувствовала, как острые коготки царапают сердце.
Стелла ничего не увидела, кроме снежных вихрей, но внезапно ветер взревел, словно дьявол, и из серых сумерек появился ее муж. Поначалу она увидела только движущиеся в снегу пятна цвета: красное, черное, темно-зеленое, светло-зеленое, затем эти цветовые пятна трансформировались в пиджак, фланелевые брюки, зеленые сапоги. Существо галантно протягивало ей шляпу, и лицо его принадлежало Биллу, лицо, еще не тронутое раком, который и свел его в могилу (может, она боялась именно этого? Боялась увидеть изможденную тень своего мужа, узника концлагеря с обтянутыми кожей скулами и ввалившимися глазами?), и Стелла почувствовала безмерное облегчение.
– Билл? Это действительно ты?
– Разумеется.
– Билл, – повторила Стелла и радостно шагнула к нему. Одна нога зацепилась за другую, она подумала, что упадет, упадет сквозь него, в конце концов кто он, как не призрак, но Билл заключил ее в объятия, такие же крепкие, как и в тот день, когда он перенес ее через порог дома, который после его смерти она делила только с Олденом. Он поддержал ее, а мгновение спустя она почувствовала, что его шляпа плотно сидит на ее голове.
– Это действительно ты? – повторила Стелла, всматриваясь в его лицо, глаза, черные как вороново крыло, которые еще не запали в глазницы, в хлопья снега на пиджаке в красно-черную клетку, на прекрасных каштановых волосах.
– Это я, – улыбнулся он. – Мы все.
Он чуть отстранился, и она увидела остальных, выходящих из снега, которым ветер заметал Протоку в сгущающейся тьме. Крик, одновременно радостный и испуганный, сорвался с ее губ, когда она увидела Маделину Стоддард, мать Хэтти, в синем платье, раздувшемся на ветру, словно колокол, рука об руку с отцом Хэтти, не обглоданным скелетом, лежащим на дне вместе с «Танцовщицей», а молодым и здоровым парнем. А за ними…
– Аннабелль! – воскликнула Стелла. – Аннабелль Фрейн, ты ли это?
Да, Аннабелль, Стелла узнала желтое платье, в котором Аннабелль пришла на ее свадьбу, и, когда она потянула Билла к своей лучшей подруге, ей показалось, что воздух наполнился запахом роз.
– Аннабелль!
– Мы все здесь, дорогая. – Аннабелль взяла ее за другую руку. Желтое платье, которое показалось в те дни слишком Вызывающим (но, учитывая репутацию Аннабелль, до Скандального не дотянуло), оставляло ее плечи обнаженными, но Аннабелль, похоже, холода не чувствовала. Ветер играл ее волосами, мягкими, темно-русыми. – Только чуть подальше.
И Билл с Аннабелль потянули Стеллу за собой. Другие фигуры выступили из снежной ночи (ночи ли?). Стелла узнавала многих, но не всех. Томми Фрейн присоединился к Аннабелль. Большой Джордж Хейвлок, по-дурацки погибший в лесах, шагал чуть позади Билла. Тут был и мужчина, который двадцать лет проработал на маяке в Голове Енота и каждый февраль приезжал на остров, чтобы поучаствовать в турнире по криббиджу, который проводил Фредди Динсмор. Стелла никак не могла вспомнить его фамилию. Увидела она и самого Фредди. А чуть в стороне – Расселла Боуи, с написанным на физиономии удивлением.
– Смотри, Стелла. – Билл протянул руку, и, проследив за ней взглядом, она увидела торчащие из снега носовые части кораблей. Только то были не корабли, а скалы. Они вышли к Голове Енота. Они пересекли Протоку.
Она слышала голоса, хотя и не знала наверняка, произнесены ли эти слова вслух:
Возьми меня за руку, Стелла…
(возьму)
Возьми меня за руку, Билл…
(возьму, возьму)
Аннабелль… Фредди… Расселл… Джон… Этти… Френк… возьми меня за руку, возьми меня за руку… меня за руку…
(ты же любишь)
– Ты возьмешь меня за руку, Стелла? – Новый голос.
Она обернулась. Бык Саймс. Он тепло ей улыбался, однако ее охватил ужас от приговора, который она прочитала в его глазах. Стелла отпрянула, еще сильнее сжав руку Билла.
– Уже…
– Пора? – закончил вопрос Бык. – Да, Стелла, полагаю, пора. Но это не больно. Во всяком случае, раньше никто боли не испытывал.
Она разрыдалась, неожиданно для себя, выплеснула все слезы, не выплаканные раньше, и взяла Быка за руку.
– Да, я буду любить, да, я любила, да, я люблю.
Они стояли кружком посреди снегопада, покойники Козьего острова, а вокруг ревел ветер, забрасывая их снеговыми зарядами. Она запела, но ветер унес слова. Они запели все вместе, как поют дети тихим летним вечером, ясными, чистыми голосами. Они пели, и Стелла чувствовала, как уходит к ним и с ними, наконец-то преодолев Протоку. Если боль и была, то несильная, несравнимая с той, что испытала она, теряя девственность. Они стояли в ночи. Их заметал снег, а они пели. Они пели и…
…и Олден не мог сказать Дэвиду и Лоис, но на следующее после смерти Стеллы лето, когда дети, как обычно, приехали на две недели на остров, он сказал Лоне и Холу. Он сказал им, что во время зимних метелей, когда ветер, казалось, пел человеческими голосами, он вроде бы даже разбирал слова: «Славим Господа милосердного, славим Творца всего сущего…»
Но он не мог сказать (представьте себе, что такое говорит лишенный воображения тугодум Олден), что иной раз, слыша эти звуки, он начинал дрожать от холода даже рядом с печью. Он откладывал рубанок или капкан, который собирался починить, думая о том, что ветер поет голосами тех, кто умер и ушел с острова… но ушли они недалеко, стоят где-то на Протоке и поют, словно дети. Он вроде бы слышал их голоса и в те ночи, когда спал и ему снилось, что он поет отходную молитву, невидимый и неслышимый, на собственных похоронах.
О таком вообще не говорят, и, хотя это совсем не секрет, подобные темы обсуждению не подлежат. Стеллу, замерзшую насмерть, нашли на материке, через день после бурана. Она сидела на валуне, в двухстах ярдах к югу от Головы Енота, превратившись в ледяную статую. Доктор, который ездил на «корветте», сказал, что такого ему видеть еще не доводилось. Стелла прошла пешком больше четырех миль, а вскрытие показало наличие множественных метастаз. Сказал ли Олден Дэвиду и Лоис, что у нее на голове была не его кепка? Ларри Маккин эту шляпу узнал. Так же, как и Джон Бенсон. Он это прочитал в их взглядах. Он сам тоже не забыл, как выглядит старая шляпа его отца, хорошо помнил, где и как порваны и загнуты поля.
«Есть вопросы, на которые не надо спешить с ответом, – мог бы сказать он детям, если бы знал как. – Такие вопросы следует хорошенько обдумывать, пока руки делают свою работу и греются о большую кружку с кофе. Возможно, вопросы эти задает Протока: поют ли мертвые? Любят ли они тех, кто жив?»
По вечерам, после того как Лона и Хол вернулись к родителям на материк, уплыли на лодке Эла Кэрри, помахав на прощание рукой, Олден долго искал ответы на эти вопросы и на другие, думал о том, как на голове Стеллы оказалась шляпа его отца.
Поют ли мертвые? Любят ли они?
И в долгие, полные одиночества ночи, когда его мать, Стелла Фландерс, лежала в могиле, Олдену часто казалось, что ответ положительный. На оба вопроса.
Примечания
1
© Перевод. А. И. Корженевский, 2014.
(обратно)2
90 градусов по Фаренгейту соответствуют примерно 32 градусам Цельсия. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)3
© Перевод. Д. В. Вебер, 2014.
(обратно)4
© Перевод. И. Г. Гурова, наследники, 2014.
(обратно)5
© Перевод. Д. В. Вебер, 2014.
(обратно)6
© Перевод. А. И. Корженевский, 2014.
(обратно)7
© Перевод. А. И. Корженевский, 2014.
(обратно)8
Р. Хайнлайн. Дублер.
(обратно)9
© Перевод. Д. В. Вебер, 2014.
(обратно)10
«Тихими» (speakeasy) в период действия «сухого закона» (1920–1933 гг.) называли бары и рестораны, где подпольно торговали спиртным.
(обратно)11
Музыкальный стиль джаза, преимущественно танцевальная и развлекательная музыка.
(обратно)12
Пренебрежительное прозвище итальянцев и испанцев.
(обратно)13
Один из крупнейших универмагов Нью-Йорка (до 80-х годов крупнейший), где можно купить все.
(обратно)14
© Перевод. Н. И. Сидемон-Эристави, 2014.
(обратно)15
© Перевод. И. Г. Гурова, наследники, 2014.
(обратно)16
Годфри Артур (1903–1983) – популярный американский теле- и радиоведущий.
(обратно)17
Прощай (исп.).
(обратно)18
© Перевод. А. И. Корженевский, 2014.
(обратно)19
Детский конструктор.
(обратно)20
Игрушечная железная дорога.
(обратно)21
Казнить, а также исполнить, выполнить.
(обратно)22
Название одного из крупных американских банков.
(обратно)23
Марка видеомагнитофона.
(обратно)24
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)25
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)26
Эй-Эс-Эн (ASN) – Atomic Strike Net, сеть подразделений, задействованных для нанесения ядерного удара.
(обратно)27
Без (фр.).
(обратно)28
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)29
Крупнейшая страховая компания, создана в Лондоне в 1688 году.
(обратно)30
Аллюзия с английской поговоркой «A skeleton in the cupboard» – «скелет в буфете». Зд.: семейная, обычно постыдная, тайна.
(обратно)31
Вечеринка, прием (фр.).
(обратно)32
© Перевод. И. Г. Гурова, наследники, 2014.
(обратно)33
© Перевод. Н. И. Сидемон-Эристави, 2014.
(обратно)34
© Перевод. И. Г. Гурова, наследники, 2014.
(обратно)35
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)36
Холмс Оливер Уэнделл (1809–1894) – американский физиолог, поэт, эссеист. Очевидно, имеется в виду его стихотворение «Старик – железный бок» (1830).
(обратно)37
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)38
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)39
Маленький, слабый, небольшой (фр.).
(обратно)40
Город в штате Аризона.
(обратно)41
«Ситго петролеум» – нефтеперерабатывающая корпорация, владеет сетью автозаправочных станций в США.
(обратно)42
Сильный, большой (фр.).
(обратно)43
Разновидность лото.
(обратно)44
© Перевод. Н. В. Рейн, 2014.
(обратно)45
Рекламное мероприятие в форме вечеринки с целью продажи пластиковых пищевых контейнеров фирмы «Тапперуэр».
(обратно)46
Местное отделение ассоциации фермеров.
(обратно)47
Имеются в виду события войны Алой и Белой розы (1455–1485).
(обратно)48
Глупец, дурак (ит.).
(обратно)49
Имеется в виду семейная тайна.
(обратно)50
Фирма, разрабатывающая навигационные приборы.
(обратно)51
© Перевод. А. И. Корженевский, 2014.
(обратно)52
Правила игры в «Монополию».
(обратно)53
Персонаж мультфильмов.
(обратно)54
Сорт виски.
(обратно)55
Английские солдаты.
(обратно)56
Исполнитель роли Дракулы.
(обратно)57
Испанская идиома.
(обратно)58
Лицо, имеющее право снимать со счета деньги и переводить другому лицу наряду с основным вкладчиком.
(обратно)59
Герой детской телепередачи.
(обратно)60
Фантастический герой комиксов и детских радиопередач.
(обратно)61
© Перевод. Д. В. Вебер, 2014.
(обратно)62
По шкале Фаренгейта; соответственно чуть выше 38 градусов по Цельсию.
(обратно)63
Уровень сопротивления (фр.).
(обратно)

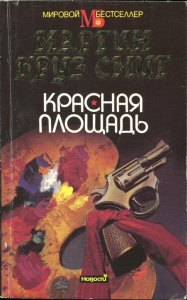

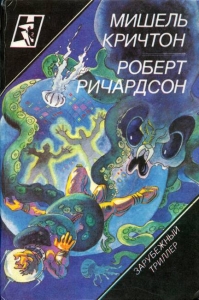

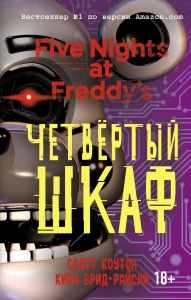
Комментарии к книге «Команда скелетов», Стивен Кинг
Всего 0 комментариев