Валентен Мюссо Холод пепла
Есть вещи, которые порой очень мучительно открывать для себя. И только потом, в обстановке полного одиночества, на помощь приходят воспоминания. Когда пепел уже остыл, мы вновь смотрим вокруг и неожиданно понимаем, что оказались в совершенно ином мире.
Донна Тарт. Мастер иллюзийПосвящаю Элен
Предисловие
Вторая мировая война тяжелым наследием остается в памяти человечества. Многие тайны того времени не раскрыты до сих пор. Одной из таких загадок является созданное в нацистской Германии общество «Лебенсборн», деятельность которого тщательно скрывалась и даже в настоящее время остается мало известна общественности.
Организация «Лебенсборн», название которой переводится с немецкого как «источник жизни», была создана задолго до Второй мировой войны, в конце 1935 года, под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Она изначально задумывалась как система родильных отделений и детских домов с наилучшими для того времени условиями и медицинским персоналом. Официально цель общества была вполне благородна: борьба с абортами, ставшими массовыми для психологически травмированного после Первой мировой войны общества Германии, и помощь нуждающимся одиноким матерям. Однако реальные цели Третьего рейха были иными. Для планируемых завоеваний нужно было больше солдат. Был разработан план возрождения «арийской расы» через систему спецприемников, в которых женщины могли бы рожать и оставлять младенцев на попечение государству. Таким образом, интересам нацистской партии должны были подчиняться все сферы человеческой жизни.
Главным лозунгом проекта, призывающим молодых женщин Германии к участию в программе повышения рождаемости, стала фраза «Подари ребенка фюреру!». Беременность вне брака отныне не считалась позорной, если отцом был чистокровный арийский солдат. Маленьким «нюансом» при приеме ребенка в приют было лишь то, что оба родителя должны были представить специальные справки о подлинной расовой чистоте будущего гражданина «великой нации». Чтобы быть принятыми в одно из заведений «Лебенсборна», будущие матери подвергались самой строгой проверке. Предполагалось составление родословной, которая должна быть прослежена по возможности до 1800 года. Кроме этого требовались: «наследственный лист», в котором отмечались все возможные наследственные болезни, «лист врачебного осмотра», анкета, в которой описывались подробности зачатия ребенка, личность отца, планировался ли брак с ним и т. д. В завершение женщина должна была дать подписку, которая фактически являлась государственной присягой. В ней она утверждала, что отцом ребенка действительно является заявленный мужчина арийского происхождения.
Роженицу направляли в один из специальных родильных домов с высоким уровнем медицинского обслуживания, а после появления ребенка на свет он автоматически становился достоянием нации.
Будущий представитель «нации господ» проходил символический обряд крещения, во время которого мать от имени малыша присягала на верность нацистской идеологии. Воспитанием малыша могла заниматься либо сама мать, при этом государство платило ей пособие, либо новорожденного передавали в приют «Лебенсборна», откуда впоследствии он мог быть определен на воспитание в верную нацистской политике немецкую семью, где ему прививались идеи о будущем господстве арийской расы в Европе.
Вскоре собственных человеческих ресурсов рейху показалось недостаточно, и с 1941 года программа «Лебенсборн» перешла на новый этап, целью которого было онемечивание покоренных народов. Для этого стали открывать отделения «Лебенсборна» в покоренных странах. Рекордное число таких филиалов было открыто в Норвегии — девять, в Польше — три, в Дании — два, а во Франции, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге — по одному. Огромных масштабов человеческое воспроизводство достигло в Норвегии, так как скандинавки считались наиболее близкими по крови к арийской расе. Только согласно официальным данным, начиная с 1940-го и вплоть до 1945 года по проекту «Лебенсборн» в Норвегии родилось двенадцать тысяч младенцев.
В дальнейшем было решено расширить деятельность программы на подбор детей, подходящих под «арийский» идеал, и среди местного населения. В Югославии, Чехии, Польше и СССР офицерам СС было предписано изымать светловолосых и голубоглазых детей. Таких малышей насильно отбирали у настоящих родителей и после подготовки в приемниках-распределителях отдавали на воспитание в семьи нацистов. Детей тщательно отбирали и при проявлении неподходящих генетических признаков или сопротивлении онемечиванию уничтожали. Известны случаи, когда забирали детей в возрасте всего нескольких дней от рождения. Таким образом, подрастая, дети ничего не знали не только о своих настоящих родителях, но и о том, к какой нации они принадлежат на самом деле.
Также известно о похищениях женщин «арийской внешности». К этому нацисты готовились заблаговременно и особенно тщательно. Специальные агенты иногда заранее располагали информацией о том, где проживают молодые женщины, подходящие для воспроизводства «великой нации». Сразу после захвата области особые команды объезжали все указанные в списке адреса и вывозили девушек, предоставив их в распоряжение подразделений СС, работающих на программу «Лебенсборн».
Весной 1945 года отступающие немецкие войска поспешно закрывали родильные дома, свозя детей и секретные досье в главный дом в немецком пригороде Штайнхеринг под Мюнхеном. В апреле 1945 года архив проекта со всеми данными был уничтожен его сотрудниками. Почти все сведения о детях, отданных на воспитание в немецкие семьи, исчезли. Большинство из них так никогда и не узнало и не узнает историю своего появления на свет и своих настоящих родителей. После окончания войны домой возвратилась лишь четвертая часть малышей из Восточной Европы, отнятых у родителей и прошедших инкубаторы СС. Судьбы остальных остались неизвестными.
В современной Германии открыта специальная организация «Лебенсшпурен», целью которой является оказание помощи тем, кто узнал правду о своем появлении на свет или пытается найти настоящих биологических родственников за пределами страны. Многие историки и исследователи также стараются приподнять часть завесы, скрывающей информацию о том, куда же пропали тысячи невинных младенцев и детей, украденных у своих истинных родителей по всей Европе.
Об одной такой семейной тайне и повествует эта книга.
А. Осьмачко.
Пролог
Суланж, Марна, 1999 год
Позднее Эрика Фабр будет рассказывать следователям, что сразу же почувствовала неладное.
Едва въехав на аллею, она заметила, что «барышня» не поджидает ее на террасе дома, сидя, как обычно, в этот час по пятницам в плетеном кресле, потускневшем под лучами солнца и струями дождя. Все не задумываясь называли эту женщину «барышней», хотя в таком обращении было нечто несуразное, ведь даже те, кто знал ее более двадцати лет, всегда считали ее старой. Дети, для которых это слово отнюдь не означало «старая дева» (кем она действительно была), не понимали, как можно называть барышней восьмидесятилетнюю женщину.
На самом деле старую женщину звали Николь Браше. Эрика Фабр жила менее чем в трех километрах от ее фермы. Все говорили «ферма», хотя речь шла об обыкновенном доме, построенном после войны на фундаменте разрушенной фермы. Это был дом в форме буквы L, с тенистым двором, окаймленным несколькими деревьями. К главному зданию примыкал сарай, в котором всегда царил беспорядок… Несмотря на причуды старой дамы — привычку долго переливать из пустого в порожнее и довольно неуживчивый характер, — Эрика питала к ней искренние дружеские чувства, поскольку поняла, что за суровой оболочкой скрываются могучий ум и удивительная человечность.
Защитив диссертацию, муж Эрики решил стать сельским ветеринаром, членом одного из акционерных обществ. Два года назад молодые супруги поселились в окрестностях Суланжа. С тех пор Эрика не искала работу, да муж и не побуждал ее к этому, поскольку хорошо зарабатывал. К тому же они стремились поскорее стать настоящей семьей. Но беременность все не наступала. И пусть молодая женщина не нуждалась в дополнительном заработке, ей хотелось вести активный образ жизни, завести друзей и хороших знакомых среди жителей окрестных деревень. Николь Браше вела затворнический образ жизни, и, несмотря на разницу в возрасте, два одиноких человека наконец-то встретились.
По пятницам, ровно в половине десятого Эрика приезжала к Николь на машине. Женщины отправлялись за покупками в ближайший гипермаркет, расположенный на дороге, ведущей в Шалон, где они и познакомились. Если Эрика задерживалась на несколько минут, Николь осыпала ее упреками. Однако Эрика не обращала на них никакого внимания, словно они срывались с уст бабушки, нравоучения которой внуки всегда слушают вполуха.
Эрика поставила «пежо» около террасы и взглянула на часы. Они показывали девять часов тридцать три минуты. Впервые в это время «барышни», безупречно одетой, со старыми холщовыми сумками в руках, не было на террасе.
Молодая женщина забарабанила пальцами по рулю, не столько от нетерпения, сколько чтобы прогнать свои страхи. Учитывая преклонный возраст Николь, эта задержка вызывала беспокойство.
Эрика стремительно вышла из машины и взбежала на террасу по поросшим мхом ступенькам. Сначала она подошла к окнам кухни. В этой комнате Николь проводила почти всю светлую часть дня. Эрика, решив, что, скорее всего, Николь ждет ее именно здесь, энергично постучала по стеклу. Потом молодая женщина, приставив руку ко лбу, стала вглядываться внутрь.
— Барышня, это Эрика! Вы дома?
Эрика сразу же заметила осколки цветного стекла, устилавшие пол и сверкавшие, как мелкие камешки на дне неглубокой реки. Сердце Эрики сжалось от смутной тревоги. Не раздумывая, она бросилась в дом, продолжая громко звать старую даму.
То, что Эрика увидела в гостиной, повергло ее в шок. Там был настоящий погром: опрокинутая мебель, открытые ящики, разбитые безделушки и лампы, словно кто-то решил разгромить комнату просто из удовольствия. В доме царила тишина, похожая на то длительное безмолвие, которое устанавливается на полях после кровопролитных боев.
Эрика, быстро миновав гостиную, вошла в кухню, даже не подумав, что сама может подвергнуться опасности. Под ее ногами тут же захрустели осколки стекла и разбитой посуды. Все, что должно было стоять на столе, валялось на полу. Николь нигде не было.
Выйдя из кухни, Эрика стала подниматься на второй этаж, но вдруг ее внимание привлекло мяуканье из закутка в глубине дома, служившего чуланом и одновременно кладовкой для продуктов. По темному коридору Эрика добежала до приоткрытой двери закутка. В проеме показалась кошачья мордочка. Выскочив, животное стало тереться о ноги молодой женщины.
— С тобой все в порядке, моя красавица? — спросила Эрика, гладя кошку по густой шерсти, чтобы хоть немного успокоиться.
Кошка жалобно мяукнула, а потом побежала в гостиную. Снедаемая тревогой, Эрика одной рукой оперлась на наличник, а другой толкнула дверь.
Молодой женщине хотелось кричать, но она не могла издать ни звука. Николь Браше неподвижно сидела на стуле со связанными за спиной руками. Ее голова безвольно свисала на грудь. Лица не было видно за копной взлохмаченных волос, слипшихся от крови. Кривые ноги «барышни» были выгнуты неестественным образом. Можно было подумать, что ее тело вдруг стало короче.
Эрика почувствовала, как у нее по спине забегали ледяные мурашки. Ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание, но затем женщина справилась с паникой и бросилась к старой даме. Эрика осторожно приподняла голову Николь. Глаза «барышни» были закрыты, ледяное лицо искажено предсмертной гримасой.
— Николь, Николь! — рыдая, повторяла Эрика.
В отчаянии она бросилась к телефону, стоявшему в гостиной, и набрала номер «скорой помощи», хотя в глубине души понимала, что это бесполезно.
Часть 1 Абуэло
Шкаф был из дуба. И он не был открыт. Возможно, оттуда выпали бы мертвецы. Возможно, оттуда выпал бы хлеб. Много мертвецов. Много хлеба.
Эжен Гильвик. Из земли и водыГлава 1
У счастливых людей нет истории.
Долгое время я думал, что с нашей семьей не может случиться ничего плохого. В детстве меня чрезмерно опекали. Назвать мое детство несчастливым было бы не совсем правильно, поскольку то, что позднее я стал отождествлять со счастьем, было неотъемлемой частью моего существования, причем постоянной. В школе мне порой случалось замечать в глазах приятелей, которым жизнь преподносила гораздо меньше подарков, искорку зависти, нечто, несомненно, неуловимое. Впрочем, это можно объяснить паранойей. Однако мой детский взгляд обладал удивительной способностью все подмечать. Я взирал на других с равнодушием, граничившим с презрением, оставаясь глухим к драмам, которые разыгрывались передо мной. Вообще дети — это существа, которых невинность делает жестокими.
Когда я стал юношей, мое благополучие зашаталось. Отцу, которому было тогда сорок шесть лет, поставили диагноз: рак. Через несколько месяцев он погиб в страшной автомобильной катастрофе. Никто из нас не предполагал, что он мог покончить с собой. Любое подозрение в самоубийстве уничтожалось в зародыше, поскольку оно, несомненно, влекло за собой слишком много вопросов, которые никто не хотел себе задавать. Позднее в разговорах, украдкой подслушанных мной, кое-кто с сочувствием говорил о сигналах, которые могли бы предотвратить драму. Однако никто, похоже, не отдавал себе отчета в том, что признать существование этих сигналов — означало узаконить сам факт самоубийства.
Анна, моя младшая сестра, так и не оправилась после смерти отца. У нее случались долгие периоды депрессии. Из-за странного феномена сообщающихся сосудов ее страдания как бы вытеснили мою печаль. У меня создается впечатление, что я никогда не носил траура по своему отцу. В то время я начал верить в переселение душ. Я был уверен, что те, кто был слишком счастлив, должны так или иначе заплатить за это, причем необязательно в другой жизни. У меня складывалось впечатление, будто я внезапно распрощался с простодушным, но сознательно эгоистичным подростком, каким я мог быть. Таким же внезапным было переселение, заставившее меня внедриться во взрослое тело и принять внешний вид мужчины, которого я сам не узнавал. Я уж и забыл, кто сказал, что осознание проходящего времени состоит исключительно в этом мучительном пробуждении, в один прекрасный день заставляющем нас видеть в зеркале совершенно незнакомого нам человека.
Этот перелом в моем существовании был, разумеется, так или иначе связан с моей неспособностью устанавливать любовные отношения и вести совместную жизнь. Я крутил романы, у которых не было будущего, завязывал мимолетные связи… До встречи с Лоранс. Если измерять чувства моей собственной шкалой Рихтера, эта встреча стала для моей жизни разрушительным землетрясением. Но все относительно, и в любви в том числе. Нежность, которую я питал к Лоранс, равно как и мой вклад в нашу совместную жизнь, вероятно, не казались ей достаточными. Это была великая драма людей, не способных на настоящие чувства. Им постоянно кажется, что они принуждают себя, переходят установленные ими же самими границы полнейшего равнодушия, но никто не выражает им благодарность за их усилия.
Наши отношения продолжались четыре года. Четыре года, наполненные хорошим и плохим… Скорее непониманием, чем настоящими ссорами, расставаниями и хрупкими примирениями. В результате на свет появился маленький Виктор — спокойный ребенок, как две капли воды похожий на меня. Эта удивительная, по моему мнению, физическая схожесть послужила для Лоранс дополнительной причиной сохранить ко мне — даже после того как мы расстались — доброжелательную снисходительность и довольно глубокую нежность.
— Знаешь, — сказала мне как-то Лоранс, — поскольку ты не живешь в мире с самим собой и никогда не согласишься время от времени закрывать на все глаза, ты не способен кого-либо полюбить.
В других обстоятельствах подобные слова, словно взятые из учебника по жизни, написанного каким-нибудь философом-дилетантом, рассмешили бы меня. Но поскольку они относились именно ко мне, они не вызвали у меня смеха.
Я никогда не питал пристрастия к романам. У меня нет сомнений, что из-под моего пера выйдет только эта история. Потому что это не просто история. Это моя жизнь.
Глава 2
Париж, 1999 год
Анна оставила мне два сообщения.
Сначала она попыталась связаться со мной, когда я был в лицее, но по досадному недоразумению ей сказали, что в этот день я не работаю. Тогда она позвонила домой, но тоже неудачно.
— Орельен, срочно позвони мне. Это по поводу Абуэло, — говорилось в первом сообщении.
Второе сообщение было более конкретным. Анна сообщала мне, что у нашего деда по отцовской линии произошло кровоизлияние в мозг и он впал в кому. Она также сказала, что собирается в Марну на машине и что, если я хочу присоединиться к ней, я должен позвонить прямо в Арвильер.
Это было в четверг, 8 апреля 1999 года. В прошлом месяце моему деду исполнилось девяносто лет.
Оба сообщения я прослушал после занятий, около шести часов вечера. В то время ни у меня, ни у Анны не было мобильных телефонов. Я сразу же позвонил по ее парижскому номеру и попал на Офелию, приятельницу Анны (они вместе учились в Школе Лувра и снимали квартиру). Но Офелия знала не больше, чем я. Она сказала, что только что вернулась и нашла записку, в спешке написанную моей сестрой. Затем я позвонил в Марну, в дом нашего деда, но там никто не снял трубку. Я решил, что Анна была еще в дороге, а Алиса дежурила в больнице.
В пятницу я был занят в лицее всего три часа. Я предупредил дирекцию, что завтра меня, возможно, не будет, и попросил секретаря сообщить ученикам тему сочинений, которые они должны будут написать в эти свободные часы.
Приехав на вокзал Монпарнас, я купил билет в Шалон-ан-Шампань. Затем, впав в какое-то странное состояние, принялся бродить по улицам Парижа. Несмотря на то что у меня было крайне мало информации, я осознавал, что в нашей жизни что-то разбилось.
Я ждал телефонного звонка от Анны, сидя на кухне в обществе кота, которому я оставлял остатки еды на узком балконе и которого в конце концов приютил. Я называл его «вечерним гостем», поскольку часто видел, как он в сумерках уверенно идет по парапету, ловко огибая заброшенные жардиньерки.
Анна позвонила мне около девяти часов. В ее голосе я уловил не столько грусть, сколько нечто вроде замешательства.
— Орельен, я тут же успокоилась, услышав твой голос.
Анна не сказала, что счастлива или рада меня слышать. Нет, она сказала, что успокоилась. Я не сразу обратил внимание на это небольшое лексическое несоответствие, о котором вспомнил гораздо позже.
— Как поживаешь, сестренка? Ты в Арвильере?
— Я приехала около четырех часов. Мы только что вернулись из больницы.
— Алиса с тобой?
— Да, она в гостиной. Я сейчас в кабинете Абуэло.
Абуэло… Этим испанским уменьшительным именем мы называли нашего деда… Это было наследием, которое оставила нам наша бабушка, уроженка Барселоны, умершая двадцать пять лет назад.
— Расскажи, что произошло.
Я услышал, как Анна вздохнула.
— Это случилось поздним утром. Абуэло пошел на улицу покормить птиц в вольере, как всегда делал это в одно и то же время. Через двадцать минут он не вернулся, и Алиса пошла за ним. Она обнаружила его лежащим в клетке среди птиц. Сначала Алиса подумала о сердечном приступе, поскольку у Абуэло, несомненно, были проблемы с сердцем. Она сразу вызвала «скорую помощь», но тут же решила, что врачи не сумеют его реанимировать.
— Полагаю, они перевезли его в Шалон?
— Да.
— Что говорят врачи?
Анна заколебалась, словно каждое слово диагноза, которое она уже приготовилась неоднократно повторять, могло что-либо изменить.
— Они говорят… об инфаркте мозга… Врачи полагают, что в сердце Абуэло образовался кровяной сгусток, который поднялся до мозга и закупорил артерию. Они называют это «церебральной эмболией сердечного происхождения».
— Он выкарабкается?
— Его состояние стабилизировалось, но в часть мозга из-за сгустка долгое время не поступал кислород… Даже если Абуэло выкарабкается, последствия будут очень серьезными…
На какое-то мгновение воцарилось молчание.
— Я купил билет в Шалон, думал приехать завтра утром.
— Завтра утром, — повторила Анна. — Да, это было бы хорошо…
Я сказал ей, когда прибывает поезд. Мы договорились, что она приедет за мной на вокзал на машине.
— Что произошло, Орельен?
— Ты говоришь об Абуэло?
— Нет, о нас двоих. Какая кошка между нами пробежала? Почему все не так, как раньше?
Я так мало плакал в своей жизни, что мои глаза оставались сухими даже тогда, когда умер мой отец. По той же причине я не умел выражать свои чувства. Однако в этот момент инфаркт мозга, случившийся с дедом, вкупе с обезоруживающими словами сестры чуть не довели меня до слез. Вопросы Анны казались мне некой математической задачей, решить которую было чрезвычайно трудно.
— Не знаю, сестренка… Не знаю…
Я мог бы повторять это до бесконечности, только бы не отвечать.
— Может, поговорим об этом завтра? — в конце концов предложил я.
— Ты прав… Вернемся к этому позже.
С течением времени я приобрел некую способность избегать неприятных разговоров или переносить на завтра споры и объяснения. Именно эту черту моего характера и возненавидела Лоранс. Я мог бы, конечно, излить душу Анне, рассказать ей о вялотекущей катастрофе, в которую превратилась моя жизнь, признаться, что в отношениях с ней тоже был не на высоте, учитывая проблемы, с которыми она сталкивалась в последние годы.
Но в тот вечер мои уста оставались немыми. Анна ускользала от меня, я ее избегал.
Мы были неспособны даже извлечь урок из банальности о том, что несчастье сближает людей.
Глава 3
Сестра ждала меня на перроне.
Я и сейчас вижу ее, в светлом платье и темном пиджаке с короткими рукавами, сидящую на облезшей скамье и рассеянно вертящую в руках сумочку. Устремив на меня чуть уклончивый взгляд, всегда придававший ей трогательный вид, Анна встала и бросилась в мои объятия — в порыве, ставшем таким редким для нас, что я с трудом сдержал желание попятиться. Она разжала руки и с осуждением посмотрела на мою спортивную сумку.
— Больше у тебя ничего нет?
— Я уеду в воскресенье. Я и так пропустил сегодняшние занятия. Как он?
— Я отвезла Алису в больницу около половины восьмого. Она хотела как можно раньше приехать туда, хотя медсестры косо на нее поглядывают. Ничего нового нет. Врачи ждут. Они собираются сделать ему церебральное сканирование или что-то в этом роде, не знаю…
Анна быстро шла по перрону, устремив пристальный взгляд в какую-то невидимую точку в конце вокзала.
— Я думаю, он не выкарабкается, — добавила она нейтральным тоном, откидывая назад непослушную прядь золотисто-каштановых волос. — Врачи настроены более пессимистично, чем я дала тебе понять по телефону.
— Я так и думал, — солгал я, чтобы она не чувствовала себя виноватой.
На стоянке перед большим старомодным фасадом вокзала Шалон-ан-Шампань мы сели в колымагу Анны, «рено-19», купленную на распродаже. Насколько я помнил, эта машина всегда была помятой со всех сторон. Я прозвал ее катафалком не только из-за цвета, но и потому что человек, садившийся в нее, подвергал свою жизнь смертельной опасности.
Ремень безопасности на пассажирском сиденье отказывался растягиваться. Моя сестра перегнулась через меня и энергично, с видом знатока, несколько раз дернула за него.
— Мне очень жаль, но у этого ремня свой характер…
Я улыбнулся. Она повернула ключ зажигания, мотор зачихал. Пришлось еще раз повернуть ключ.
— Ты уверена, что мотор не заглохнет?
— Не бери в голову, у меня свои методы…
В конце концов машина поехала. Мотор продолжал чихать, что внушало некоторое беспокойство.
— Может, сразу поедем в больницу, встретимся с Алисой? Что ты об этом думаешь?
— Прекрасная идея, — ответил я, рассеянно глядя сквозь потускневшее стекло, когда мы проезжали через Марну.
Десять минут спустя мы были в Медицинском центре Шалона. Я шел за Анной по больничным коридорам, едва успевая за ней.
Мой дед находился в палате интенсивной терапии. Мне было тяжело видеть его лежащим на больничной койке под капельницей, с трубками, вставленными в нос и рот. Несмотря на его преклонный возраст и осознание того, что он может вскоре покинуть нас, мы не представляли нашей жизни без него.
Алиса, которую мы встретили в комнате перед палатой, сказала, обращаясь ко мне:
— Не знаю почему, но вчера утром у меня возникло странное предчувствие.
— Абуэло плохо себя чувствовал? — спросил я.
— Нет, вовсе нет. Но когда он пошел кормить птиц, я из окна кухни следила за тем, как он удаляется, словно знала, что вижу его в последний раз.
В моей душе вспыхнула тревога: все предвещало мучительный разговор, для которого я был неспособен найти подходящие слова.
— Не волнуйся, дед здесь, рядом… Не волнуйся…
Алиса не была нашей бабушкой, но мы всегда считали ее таковой. В середине семидесятых годов мой дед, решивший подстричь зеленую изгородь в саду дома в Арвильере (хотя он платил садовнику, который два раза в неделю должен был выполнять тяжелую работу), упал и сломал шейку бедра. После неудачной операции по замене сустава у деда началось воспаление, на несколько месяцев приковавшее его к постели. Алиса была его сиделкой. Это была мягкая, спокойная женщина, альтруистка, которая, казалось, никогда не заботилась о собственном благополучии. О ее прошлом мы знали только то, что она очень рано овдовела и что у нее не было детей. Без всякого преувеличения можно было сказать, что она спасла моего деда, сильно сдавшего после недавней смерти жены, и помешала ему впасть в депрессию и апатию после несчастного случая. С тех пор они не расставались.
Мне было бы трудно охарактеризовать суть их отношений. В том возрасте, в каком мы тогда находились, мы не могли представить себе, что они оба испытывали настоящую любовную страсть. Мы довольствовались тем, что считали их союз смешением нежности, солидарности и желания убежать от одиночества. Впрочем, никогда больше я не встречал двух существ, так искренне привязанных друг к другу.
Алиса согласилась вернуться вместе с нами в Арвильер, но «только на несколько часов», чтобы пообедать в нашем обществе и помочь мне разместиться.
Едва старенькая машина Анны миновала ворота, как мое сердце сжалось. В отсутствие деда поместье, казалось, приобрело иной облик.
По молчаливому согласию мы всегда называли его «домом в Арвильере», однако местные жители именовали поместье «мануарием Коше». Огромное трехэтажное строение начала века состояло из пятнадцати комнат. У него был серый каменный фасад, небольшая выступающая башня с фахверковыми стенами и устремившимися ввысь печными трубами на широких основаниях. Сад, занимавший площадь более гектара, был засажен столетними каштанами. Встречал гостей огромный бронзовый фонтан, словно последнее и немного смешное свидетельство былой славы семьи Коше, а также символ их прежних достижений.
В начале XIX века, в годы, последовавшие за вступлением на престол Карла Десятого, Виктор Коше превратил маленькую семейную литейную мастерскую, специализировавшуюся на футеровке, в предприятие, изготавливавшее роскошные орнаменты и декоративные изделия. Еще в ранней юности он увлекся искусством и мечтал о карьере парижского художника. Однако намного более прозаические расчеты его родителей положили конец амбициям Виктора. Тогда он всей душой возненавидел мещанский дух своей семьи, но не осмелился пойти против ее решения и порвать с ней. Когда Виктор встал во главе предприятия, ему в голову пришла счастливая мысль, позволившая взять реванш, правда запоздалый, над своими родителями. Он сделал рисунки статуй, фонтанов, канделябров и отдал их литейщикам своей плавильной мастерской в Шампани. Первое время литейщикам, обеспокоенным будущим торгового дома, было трудно, несмотря на огромный опыт, приспособиться к технике художественного литья, которую они считали прихотью своего нового патрона. Виктор без колебаний влезал в долги, ставя на карту судьбу своего предприятия. Он нанял лучших парижских рабочих, которые учили литейщиков семейной плавильной мастерской новым приемам. И он одержал победу: через несколько лет Торговый дом Коше смог конкурировать с литейными заводами Калла и Мюэля. Виктор разбогател. Благодаря его юношескому увлечению скромное семейное предприятие процветало.
Виктор умер в 1887 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет, богатым, уважаемым человеком, оставившим после себя детей, которым, к счастью, не пришлось видеть полное разорение фамильного наследства. Жан-Шарль Коше, старший из двух сыновей — мой прадед, — не обладал ни художественными талантами своего отца, ни его жесткостью. В его оправдание надо сказать, что в тот момент, когда он унаследовал отцовское предприятие, художественное литье переживало во Франции упадок. Какое-то время Жан-Шарль посещал парижские салоны крупных буржуа, вел легкомысленный образ жизни, кутил, влюбился в танцовщицу Парижской оперы и начал, впрочем безуспешно, заниматься политикой. Он был плохим отцом, вечно отсутствовавшим, равнодушным.
Семейное предприятие было продано за бесценок. Это позволило лишь частично погасить накопившиеся долги. Из всего фамильного состояния прадеду удалось сохранить только поместье в Арвильере и немного акций, которые он сумел утаить от кредиторов.
Мой дед с ранней юности затаил на отца обиду и дал себе слово никогда не становиться похожим на него. Впрочем, насколько я помню, когда мы были детьми и подростками, он ни разу не сказал ни одного дурного слова об этом человеке и даже старался найти ему оправдание, хотя бы немного обелить его.
Абуэло изучал медицину, выбрав своей специальностью гинекологию и акушерство. Получив диплом, он, преисполненный гуманистических идеалов, столь резко контрастировавших с черствым эгоизмом его отца, присоединился к мужчинам и женщинам, пришедшим на помощь семьям, которые, бежав из Испании после победы Франко в 1939 году, оказались в лагерях беженцев в Восточных Пиренеях. Если можно так выразиться, Абуэло стал одним из членов первых эшелонов современной «гуманитарной помощи». Моя бабушка Констанца, которую мы с Анной практически не знали, принадлежала к семье испанских республиканцев, покинувших Барселону сразу после захвата города фалангистами. С дедом они познакомились в лагере Аржелес-сюр-Мер, где десятки тысяч человек жили в условиях ужасной антисанитарии. Люди умирали от недоедания и дизентерии.
Я до сих пор удивляюсь, как их любовь могла зародиться при столь жутких обстоятельствах. Однако подобное удивление, несомненно, свойственно поколению, не знавшему ни войн, ни лишений.
У Анри и Констанцы был только один сын, Теодор, мой отец, родившийся в самый разгар войны. Роды были трудными, моя бабушка едва не потеряла ребенка. И хотя они оба мечтали о большой семье, остальные беременности бабушки заканчивались неудачно.
Что еще сказать о моем деде? Он был человеком, которым мы с сестрой искренне восхищались, который привил нам вкус к усердию, справедливости и труду. Он был необычайно сдержанным и скрытным, поэтому история его семьи, нашей семьи, мне известна лишь отрывками. О ней я узнавал благодаря некоторым фразам, невольно вырывавшимся во время разговоров, занятным подробностям, фотографиям из семейного альбома. Но там было много пустот, недомолвок, мертвых зон…
Я расположился на втором этаже, в комнате, которую всегда считал своей, когда останавливался в Арвильере. Это было просторное помещение, которое прозвали «спальней пирата» из-за причудливых обоев на стенах и украшавших их навигационных приборов. Там висели октант с диоптрами, теодолит и компас, которыми я играл в детстве. Да я и сейчас мог бы любоваться ими часами.
Я нашел Алису в кухне — она чистила и резала картофель. Я знал: ей бесполезно говорить, что она могла бы не беспокоиться об обеде. Какими бы ни были обстоятельства, Алиса всегда будет готовить, как делала это четверть века для моего деда.
— Хорошо, что ты смог так быстро приехать, — сказала она, не отрываясь от работы. — У тебя не будет из-за этого неприятностей в лицее?
— Один день мои ученики прекрасно смогут обойтись и без меня.
— Напомни, что именно ты преподаешь. Да, конечно, ты говоришь мне это всякий раз…
— Я преподаю литературу, а также историю кино и особенности аудиовизуальных средств ученикам подготовительных курсов.
— Ах да, кино… Твой дед так гордился тобой.
Действительно, страсть к кинообразам передалась мне от Абуэло. Почти половину своей жизни он коллекционировал профессиональные фильмы, снятые на тридцатипятимиллиметровой пленке, которые приобретал на черном рынке. В комнате, переоборудованной под кинозал, дед показывал нам классику американского кино 1950-х и 1960-х годов. Он с гордостью рассказывал нам о том, что однажды к нему обратился Анри Ланглуа из Парижской фильмотеки, поскольку Абуэло был единственным обладателем пригодной к показу версии с субтитрами «Дороги» Феллини. Наш дед собрал также немало любительских фильмов, которые показывал летом, когда мы все приезжали на каникулы в Арвильер.
В начале 1980-х годов я, сдав экзамен на бакалавра, решил поступить в IDHEC, а уж потом посвятить себя преподавательской деятельности, получив звание агреже в области литературы. Но моя любовь к кино не остыла. На факультете я читал курс лекций, посвященных литературе и кино, как вдруг в лицее, в котором я преподавал, было создано направление «Аудиовизуальное кино» для учеников, собиравшихся поступать в Высшую Нормальную школу. Конкурс на место преподавателя был огромным, но была одобрена именно моя кандидатура, поскольку я обладал немалым опытом в этой области.
— Куда делась Анна?
Руки у Алисы были заняты, и она локтем показала на большой сад, куда выходили окна кухни.
— Она в саду, курит тайком, как в юности.
Анна всегда обладала способностью становиться незаметной, как камень подо мхом. Помню, в детстве она могла исчезнуть в мгновение ока и забиться в уголок дома, чтобы шпионить за взрослыми.
— Как здоровье твоей сестры, Орельен? — добавила Алиса, на этот раз взглянув на меня.
Но что я о ней действительно знал? Любой ответ о состоянии здоровья Анны мог быть только предварительным, но категоричным. Она не вылезала из простуд и даже как-то раз сломала ногу. Могла ли она излечиться от болезней, которыми страдала?
— Думаю, ей лучше…
— Ты говоришь это, чтобы меня не волновать, или же и в самом деле так думаешь?
— Все очень сложно, Алиса.
Все, что было связано с Анной, действительно было сложно. Как-то раз, когда ей едва исполнилось семнадцать лет, то есть менее чем через два года после смерти нашего отца, я отыскал Анну в больнице, куда она попала после передозировки лекарств. Учитывая количество проглоченных таблеток, врачи пришли к убеждению, что речь идет не о неосторожности или желании помочь своему организму, а о настоящей попытке самоубийства. Тогда моя сестра лишь чудом избежала смерти.
Анна согласилась на несколько бесед с психологом, но только для того, чтобы дать нам понять: «Вот видите, я иду на поправку, теперь мне станет лучше». Она использовала психологическое сопровождение как щит, уловку, позволявшую ей на какое-то время избавиться от нашей опеки. Разумеется, мне хотелось ей помочь, но я очень быстро понял, что был способен видеть свою сестру только в болезненном состоянии, представлять ее маленькой девочкой, страдающей депрессией, мучения которой приводили меня в отчаяние и вызывали чувство вины.
У Анны были взлеты и падения. Это можно сказать о ее физическом и душевном состоянии, а также о наших с ней отношениях. Я помню, что даже после смерти нашего отца мы проводили незабываемые летние каникулы в Арвильере. В то время для нас было немыслимо провести хотя бы одни выходные за пределами Марны. Это было своего рода ритуалом, который никто из нас не нарушал. Потом мы стали видеться не так часто. Я теперь уже и не помню, почему так случилось. Я стал реже приезжать в Арвильер. Моя жизнь с Лоранс, наши ссоры, рождение Виктора, жертвы, на которые мне пришлось пойти, чтобы получить должность преподавателя… Анна, жившая, как и я, в Париже, по-прежнему много времени проводила в Арвильере. Полагаю, Арвильер был единственным местом, где она чувствовала себя как дома. Ubi bene, ibi patria…
— Похоже, ты тайком дымишь?
Моя сестра скорчила гримасу, одну из тех, которые были способны перенести меня на много лет назад и заставить поверить, будто она нисколько не изменилась.
— Не одолжишь сигаретку? — добавил я.
— Я бросила, ты же знаешь.
— Так я тебе и поверил!
— Помнишь это дерево?
Это был каштан, на который мы когда-то повесили самодельные качели. Я приподнял прядь, закрывавшую на лбу небольшой шрам — память о падении, из-за которого меня забрала в больницу карета «скорой помощи», когда мне было тринадцать лет.
— На ветке все еще видны следы от веревки, — заметил я. — Странно, но у нее тоже остался шрам. Так что мы квиты.
Анна выпустила изо рта струйку белого дыма.
— Знаешь, в этом году Абуэло плохо себя чувствовал. Алиса очень беспокоилась о нем. В последние месяцы я часто у них бывала.
— Почему ты ничего мне не сказала?
— Возможно, надо было бы. Ничего серьезного, но он… сдал. Полагаю, это самое подходящее слово.
Анна закурила новую сигарету.
— Как поживает Виктор? Когда я увижу своего любимого племянника?
— Во время следующих каникул он поживет одну недельку у меня. Можно что-нибудь придумать… Ты не против?
— Да, это было бы хорошо.
Вот уже два года как Лоранс жила в Риме. Она поехала туда за своим мужем, резчиком, создававшим ужасные деревянные скульптуры, которые покупали по бешеным ценам простаки, лишенные какого-либо художественного вкуса, зато лопавшиеся от счастья из-за того, что теперь они могут подкрепить свою страстную любовь к искусству комичной идеологией школьной переориентации. Я не возражал против ее отъезда. Лоранс металась между Римом и Парижем, где осталась вся ее семья, так что я, несмотря на разделявшее нас расстояние в полторы тысячи километров, часто виделся с Виктором, когда он жил в Париже в трех станциях метро от меня.
— Как твоя учеба?
— Нормально, хотя мне кажется, что время тянется медленно.
Анна училась на третьем цикле в Школе Лувра. Теоретически через несколько месяцев она должна была закончить учебу.
— Далеко продвинулась в своей дипломной работе?
— Я отстаю, очень даже отстаю, но обязательно наверстаю упущенное. Я уже прошла стажировку в Сен-Жермен-ан-Лэ.
— В замке?
Анна кивнула. На самом деле, хотя я не имел никаких конкретных доказательств, на которые мог бы опереться, у меня было подозрение, что Анна бросила учебу. После семи столь трудных, столь разных лет это было самым глупым ее решением. Но в любом случае я буду последним, кто узнает об этом.
Легкий ветерок колыхал листья каштана, шумевшие над нашими головами. Некоторые деревья уже были усыпаны гроздьями белых и розовых цветов. Я набрался мужества.
— Послушай, относительно того, о чем мы вчера говорили по телефону…
— Забудь, Орельен. Вчера я была такой подавленной. Я ни в чем тебя не упрекаю.
— Нет, я хочу, чтобы ты знала… Мне хотелось бы, чтобы в будущем мы чаще виделись. Как хорошо вновь встретиться здесь, в Арвильере… Например, на каникулах… Через три недели, весной, я приеду с Виктором. Можно снова сделать качели…
Это все, что я смог ей предложить.
— Последние годы я мало занимался тобой, — закончил я срывающимся от волнения голосом.
Анна бросила окурок на влажную землю и раздавила его ногой. Ее губы озарила улыбка.
— Никто не просит, чтобы ты занимался мной, Орельен. Теперь я уже большая девочка. Папа умер более двенадцати лет назад…
Мне с трудом удалось скрыть изумление. Анна мало говорила о нашем отце, а я привык уважать ее молчание. Но, насколько мне было известно, сейчас она впервые провела непосредственную параллель между его кончиной и своей хронической депрессией.
— Ты с кем-нибудь встречаешься?
Подобный вопрос, заданный в разговоре между братом и сестрой, должен подразумевать любовную связь. Но в нашей беседе он подразумевал визиты к врачу.
— Я встречаюсь с психологом, хорошим психологом. В отличие от своих коллег он, похоже, не валяется на диване доктора Фрейда.
Говорила ли Анна мне правду или просто хотела успокоить меня и положить конец разговору на эту тему? Не знаю.
Я давно разучился понимать свою сестру, а она была способна на любую ложь.
В течение двух дней, которые я провел в Марне, состояние моего деда оставалось стабильно-тяжелым, что позволяло предполагать худшее.
В воскресенье вечером, сидя в поезде, увозившем меня обратно в Париж, я почти физически почувствовал, как отрываюсь от своего прошлого, как оставляю его позади, словно старую кожу. Однако последующие недели вновь бросили меня в минувшие годы, причем так грубо, так жестоко, что моя жизнь разлетелась вдребезги.
Глава 4
Мой дед умер через четыре дня после приступа, в понедельник вечером. Когда он отходил в мир иной, Алиса была рядом с ним. Она отказалась покидать больницу, пусть даже на несколько часов, словно боялась, что в роковой момент Абуэло окажется в одиночестве. Он так и не пришел в себя. Полагаю, так даже лучше, поскольку ему наверняка было бы невыносимо чувствовать себя — как морально, так и физически — «сдавшимся», если говорить словами Анны.
Последние две недели перед пасхальными каникулами я жил словно в густом тумане. Я все делал в каком-то замедленном темпе, мое тело казалось мне ватным. В лицее я больше не придерживался той программы, которую сам для себя разработал. Со своими учениками я изучал два любимых фильма моего деда: «Красные башмачки» Майкла Пауэлла и «Босоногая графиня» Манкевича. Благодаря этим шедеврам у меня создавалось впечатление, будто мой дед все еще рядом со мной.
Каждый вечер я звонил Анне. Мне хотелось вновь сблизиться с ней. Я был уверен, что смерть Абуэло поможет нам обрести друг друга. Мы долго разговаривали, как в прежние времена. Необязательно на самые трудные и важные темы. Просто звук ее голоса, такого звонкого и ласкового, как мелодия виолончели, вызывал во мне необыкновенный прилив сил.
В тот период я несколько раз звонил матери по телефону. Мои родители развелись в 1986 году, за год до того, как Теодор, мой отец, узнал, что у него рак. Через четыре года после смерти отца, когда я уже заканчивал учебу, мать уехала в Экс-ан-Прованс, где завершила свою карьеру физиотерапевта. Я никогда не был с ней особенно близок, и мой ежемесячный телефонный звонок можно было по праву рассматривать как дополнительное задание к уроку, в виде наказания. Несколько раз летом я вместе с Виктором ездил к ней на юг Франции, чтобы она не потеряла связи с внуком.
Похороны Абуэло произвели на меня тягостное впечатление. Пришло слишком много народу, поскольку мой дед был одним из тех, кого в провинции до сих пор называют «именитыми гражданами». Траурная церемония показалась мне совершенно безликой. После кладбища Алиса хотела организовать нечто вроде угощения, чтобы отблагодарить пришедших на похороны людей. Я нашел эту идею нелепой и бессмысленной, но ничего ей не возразил. Во время поминального приема я бродил в глубине сада, куря сигарету за сигаретой.
Моя мать тоже приехала на похороны, но в основном потому, что это давало ей возможность увидеться с нами, с Анной и со мной. Сказать, что моя мама никогда не ценила своего свекра, было бы неправильно. Еще одна таинственная зона в истории нашей семьи, но эту тайну я не стремился ни разгадать, ни понять, словно их интимные отношения меня не касались. Мать много говорила о себе, утверждала, что у Анны все хорошо, поскольку «она прекрасно выглядит», и не смогла удержаться, чтобы в сотый раз не упрекнуть меня за то, что я позволил Виктору уехать вместе с его матерью в Италию. У меня не было сил произносить высокопарные речи, чтобы хоть как-то защититься, и я с видом блаженного отвечал на все ее упреки, стараясь сдерживать иронию, чтобы она не подумала, будто я над ней издеваюсь.
Когда я долго не виделся с мамой, меня охватывало чувство вины. Я говорил себе, что объективно она была скорее хорошей матерью и что ни в чем серьезном я не мог ее упрекнуть. Когда я был маленьким, она была центром моей крохотной эгоистической вселенной, которую я создал вокруг себя. Я находил маму нежной и внимательной, но когда углублялся в самоанализ, начинал понимать, что она любила нас, когда мы были маленькими, поскольку могла формировать наши характеры по своему желанию. Но чем старше мы становились, тем откровеннее она считала нас нежелательными элементами, существами, которые нарушали ее жизненное пространство и лишали ее кислорода. Впрочем, я полагаю, что именно по этим причинам она в конце концов рассталась с моим отцом, а вовсе не потому, что между ними возникло непонимание.
Однако чувство вины никогда не мучило меня слишком долго. Мне достаточно было в очередной раз проанализировать эгоцентризм матери и ее вечные упреки, чтобы убедить себя: без нее мне лучше и в наших встречах нет особой необходимости.
Моего отца не было в живых, и мы с Анной становились прямыми наследниками Абуэло. К нашему великому облегчению, Абуэло выделил Алисе долю имущества, которой она могла свободно распоряжаться, что, впрочем, не явилось для нас неожиданностью. Нам даже в голову не приходило продать фамильный дом, но Алиса сказала нам, что не желает больше в нем жить.
— В любом случае этот дом слишком велик для меня.
Алиса хотела снять квартиру в городе, возможно, обосноваться в Шалоне, что было более удобно для женщины ее возраста.
Мы решили, что сдадим дом, после того как вывезем личные вещи деда и Алисы. Отложив в сторону несколько предметов, которыми мы с Анной особо дорожили, мы наняли одного книготорговца и двух антикваров, чтобы те сделали опись, а потом продали тонны книг и ценных предметов, хранившихся в доме. Однако разобрать фильмотеку Абуэло Алиса доверила только мне.
— Никто не сумеет справиться с этой задачей лучше тебя. Анри хотел бы, чтобы этим занимался ты.
Учитывая сложившиеся обстоятельства и работу, которую мне предстояло выполнить, мы с Лоранс решили изменить наши планы и договорились, что Виктор не приедет во время каникул на неделю ко мне, но проведет больше времени во Франции следующим летом.
Как ни странно, мне казалось, что Анна выглядит умиротворенной, словно смерть Абуэло вырвала ее из болезненной депрессии, в которой она так давно пребывала. Но не было ли это поверхностным ощущением, психологическим воздействием, призванным успокоить меня?
В первую неделю каникул, когда все старались навести в доме порядок, я решил рассортировать фильмы, о чем просила меня Алиса. Эту работу я рассматривал не как тяжелую повинность, а скорее как прощальный привет деду, с которым меня объединяла одна и та же страсть.
Полагаю, я не сразу оценил масштабы предстоящей работы. Абуэло отвел для своих фильмов целых две комнаты. Первая была просторным кабинетом с обшитыми деревянными панелями стенами, вдоль которых стояли высокие, до самого потолка, стеллажи. На этих стеллажах лежали бобины. Прилегающую к кабинету комнату, бывшую некогда маленькой гостиной, дед переоборудовал в кинозал с удобными кожаными креслами, прочно закрепленным на стене экраном и двумя кинопроекторами, оставившими в конце концов глубокие следы на столе, на котором они стояли.
Сначала я отделил семейную хронику от классических голливудских фильмов, снятых на тридцатипятимиллиметровой пленке. Я даже подумал, что голливудские фильмы можно будет передать в дар моему лицею и показывать учащимся подготовительных курсов, избравшим своей специальностью кино. Однако после каждого показа эти фильмы требовали реставрации. Кроме того, они считались утраченными и поэтому не могли стать частью фильмотеки учебного заведения. В конце концов я решил отдать их в специализированный магазин, торгующий фильмами, снятыми на серебросодержащих пленках. Я знал, что до сих пор есть любители-коллекционеры, охотящиеся за подобными фильмами.
Оставшаяся часть коллекции состояла в основном из фильмов, снятых на восьмимиллиметровых пленках или пленках Super 8. Очень скоро я с огромным сожалением увидел, что бо́льшая часть этих фильмов находится в плачевном состоянии. Пленки с серебросодержащими носителями имели тенденцию становиться жесткими и покрываться тонким слоем уксусной кислоты. Тогда я отложил в сторону наиболее поврежденные бобины.
Но все равно их осталось слишком много. Мне понадобилось бы несколько недель, чтобы просмотреть все фильмы. На протяжении многих лет мой дед придерживался строгой классификации, отмечая на коробках даты и события. Однако некоторые пометки были слишком лаконичными или непонятными. В отдельных коробках лежали обрывки пленки, не представлявшие никакой ценности. Разумеется, у меня не было причин их хранить.
Даже если на каждой из этих бобин была запечатлена часть нашей семейной истории, я должен был забыть о сентиментальности и оставить лишь технически пригодный фонд. В то время было просто немыслимо перевести столько фильмов на носители DVD. Итак, мне пришлось снова заняться сортировкой.
Я буквально не вылезал из этой комнаты, просматривая, классифицируя, расставляя, надписывая, а порой и реставрируя фильмы своего деда. Иногда в полутемную маленькую гостиную приходила Анна. Мы молча сидели, зачарованные мелькавшими перед глазами картинами нашего детства, успокаивающим шумом пленки, крутящейся на подающих бобинах.
Одним из двух антикваров, описывавших по нашей просьбе имущество, был некий Долабелла, владевший в Шалоне магазином с прекрасной репутацией. Как сообщила мне Алиса, он был старинным приятелем моего деда. Я никогда прежде не видел этого человека и должен сказать, что его внешность с первого взгляда произвела на меня сильное впечатление. Долабелле было около семидесяти лет. Несмотря на легкую сутулость, у него были широкие плечи и импозантная осанка. Седая бородка и густые брови делали его похожим на Мишеля Лонсдаля. Долабелла говорил размеренно, как метроном, но отнюдь не монотонно, длинными фразами, не запинаясь ни на мгновение, четко, уверенно. Создавалось впечатление, что он говорил так, как другие пишут.
На третий или четвертый день наших «раскопок» произошел случай, который я, вероятно, оставил бы без внимания, если бы не сделал на следующий день некое «открытие». После обеда я вышел из дома, чтобы купить сигареты, но вскоре заметил, что забыл бумажник, и повернул назад. Я был уверен, что оставил дверь кабинета, где находились фильмы, широко открытой. Сначала я подумал, что в кабинет зашла Алиса, но, войдя туда, увидел, что Долабелла внимательно рассматривает бобины, лежащие в столе. Он явно искал нечто конкретное. Старик тут же обернулся. Вид у него был смущенный, словно его поймали на месте преступления, и в свое оправдание он пролепетал несколько неразборчивых слов, что резко контрастировало с его обычной уверенностью.
— Вы что-нибудь ищете? — спросил я без всяких задних мыслей, тоном, в котором не было ни тени осуждения.
За эти несколько секунд Долабелла обрел прежнюю уверенность в себе.
— Я не смог удержаться и решил в последний раз взглянуть на эту удивительную коллекцию. Простите, мне надо приниматься за работу… Этот дом похож на настоящий музей…
Итак, на следующий день, ближе к вечеру я нашел этот фильм. Не стану утверждать, что он был спрятан, однако учитывая то место, где он лежал — задвинутый, если можно так выразиться, под самый потолок, на верхней полке, среди старых бобин, — его невозможно было обнаружить случайно.
На серой, мятой, разорванной в некоторых местах картонной коробке не было никаких надписей, кроме названия фирмы-изготовителя пленки. Однако к ней был приклеен, причем явно недавно, стикер. Я сразу же узнал тонкий, изящный почерк деда.
Элоиза Турнье
01 93 74 22 68
Ни этого имени, ни телефона я не знал. Конечно, меня заинтриговал этот стикер, служивший единственным опознавательным знаком, но еще сильнее я удивился, когда внутри картонной коробки увидел небольшую алюминиевую цилиндрическую коробку с маркой киностудии «Пате», в которой лежала девяти с половиной миллиметровая пленка. Это был достаточно редко встречающийся любительский формат. Однако некоторые радетели за «чистоту» кинематографа высоко ценили его, поскольку он позволял в совершенстве использовать всю поверхность пленки. Действительно, перфорационные отверстия были расположены между кадрами, а не по бокам, что не вело к потере пространства.
Я осторожно перемотал фильм вручную, словно это был античный папирус. Похоже, он был в хорошем состоянии. Пленка была гибкой, без пятен и симптомов кислотного разрушения. Речь шла о небольшой бобине с пленкой длиной в пятнадцать метров, на которую был снят двух-или трехминутный фильм. Я не знал, был ли у деда проектор или просмотровое устройство для девяти с половиной миллиметровых пленок. Если не было, то мне вряд ли удастся отыскать где-нибудь подобное оборудование.
В шкафу маленькой гостиной, где Абуэло хранил свои инструменты, я нашел два аппарата. В любом случае они были не приспособлены для этого формата. Однако я знал, что в подвале хранилось кое-какое оборудование.
Среди невероятного нагромождения всякой всячины, достойной лавки старьевщика, в широком металлическом сундуке, между двух склеечных прессов и восьмимиллиметровых чистых бобин я отыскал кинопроектор в довольно хорошем состоянии, правда без лампочки. Я отнес кинопроектор в кабинет и прикрутил к нему лампочку от другого проектора. Мне пришлось потрудиться, чтобы поставить бобину, ведь у меня не было навыка. Зубцы не хотели входить в перфорационные отверстия, и в какой-то момент я испугался, что порву пленку. Это было бы ужасно, поскольку я не сумел бы починить девяти с половиной миллиметровую пленку. Наконец в интимной темноте гостиной замелькали изображения.
Я почти сразу понял, что речь идет не о семейном фильме. Доверившись своему опыту, я датировал его периодом, предшествовавшим 1950-м годам. Возможно, это был самый старый фильм из коллекции моего деда. На какое-то мгновение мне даже показалось, что это отрывок хроники.
Общий план. Огромное здание с фахверковыми стенами из светлого кирпича, с черепичной крышей и двумя стройными башенками, окруженное просторным садом. Поместье, по стилю напоминающее наше поместье в Арвильере. Однако раньше я его никогда не видел.
Второй, передний план. Крыльцо этого же дома. На лестнице с широкими ступенями и коваными перилами стоят женщины в светлых платьях. Они с улыбкой на губах позируют перед камерой и приветливо машут руками в сторону объектива. По виду им от двадцати до тридцати лет. Некоторые, возможно половина, из них беременны. Они гладят свои округлившиеся животы. Лица женщин разглядеть практически невозможно. Меня неприятно поразила одна деталь — деталь, которую я сумел идентифицировать гораздо позже, но которая постоянно будоражила мое сознание.
Я заметил, что, несмотря на то что бобина хорошо сохранилась, изображение было немного искажено, что часто случается с фильмами подобного формата. На экране были видны полосы, отсутствовал резкий контраст, отчего кадры были размытыми. Но все эти технические несовершенства казались мне несущественными. Я не отрывал глаз от экрана. В настоящий момент я не мог объяснить смысл происходящего на экране, но в глубине души чувствовал, что этот фильм не имеет ничего общего с теми, которые я смотрел в последние дни.
Следующий план перенес меня внутрь здания. Неужели я узнал своего деда? Конечно, ведь я видел его на семейных фотографиях, сделанных примерно в то же время. Деду приблизительно столько же лет, сколько сейчас мне. На нем белый халат. Он стоит в центре комнаты для новорожденных. Две медсестры в белых косынках позируют рядом с ним среди кроваток для малышей. Абуэло берет на руки одного из младенцев и начинает махать его пухленькой ручкой, словно это марионетка. Медсестры улыбаются, глядя на них.
Затем мы перенеслись в просторную гостиную, переоборудованную в столовую. Вокруг массивного деревянного стола, на котором стоит столовый сервиз и блюда, собрались те же женщины, что и на крыльце. Камера немного отъехала назад и сняла панорамный план. По всему было видно, что между женщинами, которые вдруг показались мне намного моложе, установились доверительные отношения. Можно было легко представить себе, что это была послевоенная столовая для молодых дам, если, конечно, абстрагироваться от довольно богатой обстановки и особенного физического состояния женщин.
Послевоенный период… Но последующие кадры разрушили мою первоначальную гипотезу. Та же гостиная, что и раньше, только переоборудованная не под столовую, а под приемный зал. Персонал дома и медсестры — мне показалось, что я узнал одну из них, — собрались вокруг того же самого стола, только застеленного кружевной скатертью и уставленного бутылками и фужерами. В углу справа был отчетливо виден сделанный из подручных материалов плакат, на котором было написано:
Добро пожаловать
Willkommen
Я никак не мог понять суть того, что происходило потом. На экране вновь появился мой дед. Он улыбался, а вот человек, находившийся рядом с ним, отнюдь не был веселым. Это был мужчина с изможденным лицом, поджатыми губами и напомаженными волосами, зачесанными назад. Ему, вероятно, перевалило за пятьдесят. Очки с круглыми стеклами не скрывали острого взгляда. На нем была форма, которую я идентифицировал как форму эсэсовцев. На левом рукаве был вышит знаменитый нацистский орел, а кончики воротника были украшены острыми листьями. Камера увеличила угол обзора, и теперь я увидел на плакате свастику.
Машинально, словно ребенок, испугавшийся, что его шалости будут раскрыты, я выключил аппарат. Но в чем я мог себя упрекнуть? Однако мне казалось, что на потухшем экране я все еще вижу своего деда рядом с эсэсовцем.
Это видение долго меня не покидало. Несомненно, оно не покинет меня никогда.
Глава 5
Жандармерия Шалон-ан-Шампань
Лейтенант Франк Лонэ нервно перелистывал страницы досье, в которое в очередной раз погрузился с головой. Он столько раз его перечитывал, что уже выучил наизусть. Лейтенант даже составил нечто вроде сводной таблицы, записав в своем блокноте несколько слов в две торопливо начертанные колонки.
Браше Другие ограбления
Клейкая лента Трубчатые косы
С первого взгляда ничего не украли Наличные деньги, драгоценности, мобильные телефоны…
Четверг
С 14 до 17 часов? Выходные
С 19 до 22 часов?
Вся жандармерия Шалон-ан-Шампань была сразу же мобилизована на раскрытие этого дела. Однако через месяц пришлось констатировать, что расследование не продвинулось ни на шаг. Подобное положение приводило Франка Лонэ в отчаяние.
Николь Браше, восьмидесятилетнюю женщину, нашли убитой в собственном доме в Суланже. Она была привязана к стулу в закутке, служившем кладовкой, в глубине дома. Вскрытие показало, что несчастную сильно ударили по голове, прямо в темя, щипцами, которыми обычно пользуются для ворошения поленьев и горящих углей. Орудие преступления со следами крови нашли рядом с противопожарным экраном камина. Внутричерепное кровоизлияние… По словам судебного медика, Николь Браше умерла не сразу, но из-за раны быстро потеряла сознание. Казалось, обнаруженное орудие преступления являлось главным козырем, однако щипцы принадлежали хозяйке дома и поэтому не могли быть принесены извне. На них так и не нашли ни одного пригодного для идентификации отпечатка пальцев. Однако специалистам все же удалось выделить ДНК, не принадлежащую старой женщине. ДНК немедленно сравнили с образцами, хранящимися в Национальной автоматизированной картотеке генетических отпечатков, но безрезультатно. База данных содержала только образцы, имеющие то или иное отношение к преступлениям, совершенным на сексуальной почве. Впрочем, с этой стороны никто ничего особенного и не ждал.
А вот на первом этаже нашли два десятка отпечатков. Но отпечатков было так много, что не представлялось возможным сразу их идентифицировать. Конечно, старая женщина вела уединенный образ жизни, однако к ней приходило множество людей: почтальон, помощница по хозяйству, патронажная сестра…
Эрика Фабр, соседка, которая обычно ездила вместе с Николь Браше по пятницам за покупками, оказала Франку и его коллегам поистине бесценную помощь. Это она обнаружила тело утром, на следующий день после убийства, и поставила в известность полицию. По словам Эрики, она была «единственным по-настоящему близким человеком» старой женщины. Во всяком случае, она была свидетелем, сообщившим наиболее полезные сведения.
Франк Лонэ помнил, что они, приехав на место и увидев, что криминалисты еще не закончили осмотр, сразу отдали предпочтение версии о домашнем пиратстве, о home-jackings, как говорят по ту сторону Ла-Манша, — виде преступлений, который стал распространяться по Франции с пугающей быстротой. Впрочем, на следующий день газеты именно так и представили это дело в статьях с броскими заголовками. Однако довольно скоро множество подробностей, установленных жандармами, позволило предположить, что все обстоит гораздо серьезнее.
Существовал один фактор, который работал против жандармов с самого начала. Ферма Николь Браше находилась на отшибе, в двух километрах от деревни. Ближайшие соседи, которые, впрочем, не могли видеть весь дом целиком, не заметили ничего необычного. А ведь отсутствие свидетелей всегда тормозит расследование.
Франк Лонэ много раз перечитывал досье. В конце концов, сравнив это дело с другими случаями домашнего пиратства, происшедшими за последние два года в Шампань — Арденнах и прилегающих территориях, он стал рассматривать убийство под иным углом зрения. Все знали, что лейтенант, ведя расследование, всегда сражался до победного конца. Эта страсть Лонэ вызывала как восхищение, так и раздражение у его сослуживцев. Однако на этот раз капитан Лорини целиком и полностью поддерживал лейтенанта, поскольку сам считал, что для раскрытия убийства действительно необходимо провести целый ряд следственных действий.
В окно, расположенное рядом с его письменным столом, Франк Лонэ увидел, как на стоянку на большой скорости въехал красно-белый «мини-купер» Эмили Дюамель. Из машины вышла высокая изящная женщина и направилась к зданию жандармерии. Франк мгновенно отвернулся, боясь встретиться с ней взглядом. Он не хотел, чтобы у Эмили возникло впечатление, будто он за ней подглядывает.
Эмили, которой исполнилось двадцать семь лет, была новичком в розыскном отделе жандармерии Шалон-ан-Шампань. Франк был на десять лет старше ее. Какое-то время они приглядывались друг к другу, играя в кошки-мышки. Правда, они толком не знали, кто был кошкой, а кто — мышкой. Потом оба одновременно вышли из игры. «Несовместимость характеров», — так они решили, ища объяснение этому фиаско. По мнению Эмили, Франк вел себя чересчур покровительственно. А Франк считал, что у Эмили слишком независимый характер; она была неспособна соглашаться на компромиссы и постоянно была настороже, словно чувствовала необходимость проявлять характер даже во внерабочее время.
На самом деле все было гораздо сложнее. Франк никак не мог прийти в себя после развода, случившегося спустя десять лет супружеской жизни, и боялся вновь устанавливать с кем-либо серьезные отношения. Эмили же была слишком честолюбивой, чтобы пускаться в любовную авантюру, которая могла негативно сказаться на ее карьере. Поэтому их связь и оказалась такой короткой. К счастью для обоих, потому что едва поползли слухи об их романе, как капитан Лорини плохо к этому отнесся, хотя ни один закон не запрещал двум жандармам встречаться.
— Франк, вы уверены, что знаете, как вести себя с этой малышкой? — все же спросил капитан, когда они остались наедине.
— Капитан, жизнь не была бы странной, если бы мы были уверены в своих действиях на все сто процентов.
— Франк, не выпендривайтесь. Если ваши шашни скажутся на результатах не только вашей работы, но и работы Дюамель, я буду винить в этом лично вас.
— Хорошо, — ответил лейтенант.
На том дело и закончилось.
Эмили вошла в кабинет инспекторов.
— Ты опять чуть не врезалась в «БМВ» капитана, — насмешливо сказал Франк.
— Очень смешно. А ты что, ночевал здесь? — спросила она, устремив взгляд изумрудных глаз на досье, которое тут же узнала. — Что-то я не вижу бивака… Кстати… Похоже, капитан хочет видеть нас по поводу дела Браше.
Франк кивнул головой.
— Ты просмотрел свои записи? Я уверена, что ты сделаешь блестящий доклад и удостоишься похвалы.
— И часто ты используешь иронию в качестве оружия? — качая головой, спросил Франк.
— Извини, но ты первый начал…
Капитан Лорини всегда держался строго и немного отстраненно, однако под этой маской скрывался настоящий шутник, которого подчиненные высоко ценили и уважали.
Франк с трудом скрывал удовольствие, которое доставляли ему доклады в кабинете капитана. Каждый раз они давали ему возможность изложить свои оригинальные выводы. Однако Франк не любил выставлять себя в выгодном свете. Было даже время, когда ему приходилось бороться с природной робостью. Впрочем, в ходе работы Франк ощущал неудержимую потребность демонстрировать свои лучшие качества. Он был красивым мужчиной, и некоторые коллеги питали к нему довольно устойчивую зависть. К тому же он считался протеже капитана, что совсем не улучшало положение дел. Многие за глаза называли Франка «любимчиком начальства».
— Прежде всего, — начал капитан, — я хочу напомнить лейтенанту Дюамель, что элементарные правила дорожного движения, действующие на дорогах, применяются также и на стоянке жандармерии.
Все присутствующие жандармы сдержали смешки. Эмили сердито посмотрела на Франка, словно тот нес персональную ответственность за колкое замечание капитана.
— А теперь серьезно. Я хочу, чтобы убийство Браше было расследовано под иным ракурсом. Вы сами знаете, что в деле появились новые факты, а со стороны создается впечатление, будто мы барахтаемся в сметане.
Услышав столь необычное сравнение, присутствующие улыбнулись.
— Словом, мы не должны опускать руки. Франк много работал над делом. Возможно, у него есть какие-нибудь идеи. Франк, мы вас слушаем.
Пятеро жандармов, сидящих в кабинете Лорини, повернули головы в сторону лейтенанта.
— Спасибо, капитан. За последние пятнадцать месяцев в районе Шампань — Арденны было зарегистрировано четыре ограбления, сопровождавшихся насилием. Я говорю только о тех случаях, когда жертв удерживали против их воли, угрожая им смертью, чтобы получить, например, код банковской карточки.
— Пять, если учесть дело Браше, — с удовлетворением в голосе вмешалась Дюамель.
Франк с раздражением посмотрел на нее.
— Да, — согласился он, — но я оставляю это дело в стороне, поскольку это единственный случай, когда жертву убили.
— В этом и состоит оригинальность теории Франка, — уточнил капитан.
— Если проанализировать все эти ограбления с применением насилия, можно увидеть, что жертвами всегда становились люди с высокими доходами — в двух случаях представители свободных профессий — или пенсионеры, то есть легкая добыча. К тому же многие думают, что пенсионеры хранят дома значительные суммы денег. Но социальное положение Николь Браше не вписывается в эти рамки.
— Ей было восемьдесят лет, — ехидно заметил Жером Морено, один из лейтенантов, на дух не переносивший Франка. — Она была пенсионеркой, то есть идеальной жертвой.
На этот раз Эмили пришла на помощь своему коллеге:
— Да, но она вела скромный образ жизни. Ее «ферма» давно обветшала, хотя там и царил порядок.
— Совершенно верно, — подтвердил Лонэ. — Я прекрасно знаю, что не всяк монах, на ком клобук. Вы, несомненно, помните о деле бывшего рабочего, который жил в большой нужде, но тем не менее всю жизнь экономил и держал у себя дома более двухсот тысяч франков наличными.
Этим делом занимались все присутствующие сейчас в кабинете капитана жандармы. Соседи, встревоженные странными звуками в доме старика, позвонили в жандармерию. Грабители, воспользовавшись его беспомощностью, искали в доме сбережения.
— Таким образом, дело Браше стоит особняком. В принципе, хотя с полной уверенностью этого утверждать нельзя, у мадам Браше не украли ни одной ценной вещи, хотя на первом этаже все было перевернуто вверх дном. В спальне в комоде мы нашли спрятанный под одеждой кошелек, в котором лежали две тысячи франков в банкнотах. Либо грабители не успели обыскать весь дом, либо они приходили за чем-то другим.
Эмили, как прилежная ученица, подняла руку, словно хотела, чтобы все забыли об ее утренней оплошности на стоянке.
— Да, Дюамель? — произнес капитан, давая ей слово.
— Непонятно, что могло помешать грабителям и почему они не успели обыскать весь дом. Убийство было совершено во второй половине дня. Нам доподлинно известно, что в тот день к мадам Браше никто не приходил. Зачем убивать старуху, если в ее доме особо и поживиться нечем?
Франк кивнул головой:
— На мой взгляд, это самый важный момент. Все прочие ограбления происходили по выходным, вечером, между девятнадцатью и двадцатью двумя часами. Совершенно очевидно, что гораздо легче ограбить дом и его обитателей вечером, когда преступникам не грозит опасность быть застигнутыми врасплох. Но грабители, решившие проникнуть в дом днем, в четверг, подвергали себя огромной опасности, даже если они хорошо изучили привычки этой женщины.
— Возможно, они не хотели ее убивать? Может, сначала они собирались ее только ранить? — предположила Эмили. — Вдруг что-то пошло не так, ситуация вышла из-под контроля…
— Не надо забывать, — вмешался Жером, — что этой женщине было восемьдесят лет и что она была привязана к стулу. Преступники должны были понимать: проломив старухе голову кочергой, они оставляют ей мало шансов остаться в живых…
— Каминными щипцами, а не кочергой, — резким тоном уточнил Франк. — Можно предположить, что Николь Браше сначала ударили, а потом привязали. На полу между гостиной и кухней есть мелкие пятна крови, что позволяет думать: она шла в тот момент, когда ее ударили. К тому же, разумеется, щипцы…. Мы нашли их около камина, а не в кладовке. Но есть один пункт, который, по моему мнению, подтверждает эту гипотезу…
— Клейкая лента, — поспешила сказать Эмили, словно после всех этих ссор она снова играла с Франком знакомую пьесу в четыре руки.
— Старую женщину привязали к стулу с помощью клейкой ленты, которую грабитель или грабители нашли, судя по всему, на месте, в ящике на кухне. Эрика Фабр, соседка, обнаружившая тело, уверенно заявила, что видела эту клейкую ленту и даже сама ею пользовалась. В других случаях жертв обездвиживали с помощью либо трубчатых кос, которые сегодня можно купить в любом магазине, торгующем охранным оборудованием, либо наручников… Либо на них просто наставляли какое-нибудь оружие. Согласитесь, что по крайней мере удивительно, когда преступник идет на ограбление, не захватив с собой ничего, чем бы он мог связать жертву. С другой стороны, если мадам Браше могла двигаться в тот момент, когда ее ударили, я не понимаю, зачем ее, полумертвую, привязывать к стулу в кладовке.
— Действительно, — согласился капитан Лорини, — учитывая ее состояние и возраст, маловероятно, что она смогла бы навострить лыжи.
— Твой рассказ впечатляет, — насмешливо произнес Жером, обращаясь к Франку, — но я не услышал ничего нового. Что конкретно может сдвинуть расследование с мертвой точки?
Капитан Лорини знал о некой напряженности, царившей среди членов его команды, но рассматривал ее скорее как элемент состязательности, чем как раздор.
— Франк полагает, что нам надо пересмотреть некоторые фундаментальные положения расследования.
— В самом деле, если исходить из принципа, что убийство Николь Браше не имеет ничего общего с другими случаями ограбления, становится очевидным, что нам необходимо искать иные мотивы: семейная драма, преступление на почве страсти, домашние неурядицы, ревность, еще что-нибудь… Поэтому мы должны заняться личностью жертвы, ее привычками или изменениями, которые могли произойти в ее жизни в последние месяцы. Опросите еще раз Эрику Фабр, обнаружившую тело. Она лучше всех знала Николь Браше. Опросите также соседей. Убийство было совершено во второй половине дня. Ближайшие соседи не работают, они вполне могли что-нибудь заметить. Не мог же убийца прийти пешком в эту чертову дыру.
На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Было ясно: Франку не удалось привлечь на свою сторону всю команду.
— Я хочу сказать, что мы будем отталкиваться от нового предположения. — Капитан попытался поднять боевой дух жандармов. — Допустим, Николь Браше знала своего убийцу. Эта гипотеза может закрыть перед нами многие двери, но когда речь идет об убийствах, в двух третях случаев жертвы знают своего убийцу. Значит, вам придется получить от «Франс-Телеком» детализированную распечатку всех входящих и исходящих звонков жертвы и изучить ее буквально под микроскопом.
— Если я правильно тебя поняла, — попыталась подвести итог Эмили, повернувшись к Франку, — ты думаешь, что жуткий беспорядок, царивший в гостиной, разгром в кладовке, клейкая лента могли быть лишь…
Эмили запнулась, подыскивая подходящее слово.
— Инсценировкой, — продолжил Франк. — Обыкновенной инсценировкой, призванной ввести нас в заблуждение и скрыть истинную причину убийства.
Глава 6
Стоя за плотной шторой, закрывавшей окно в гостиной, Женевьева Дельво со страхом наблюдала за тем, как к дому подъехала машина жандармерии и остановилась около цветочных куртин, являвшихся предметом ее гордости. И тут же перед ее глазами возник образ, который ее муж наверняка счел бы нелепым. Женевьева увидела, как ее, арестованную за пособничество в убийстве, сажают в наручниках в голубую «пежо-306».
— Франсуа, жандармы! — в панике крикнула она мужу.
Муж Женевьевы нажал большим пальцем на кнопку пульта. Он смотрел программу региональных новостей — священный дневной ритуал, во время которого его нельзя было беспокоить. Однако, хотя у него внутри все кипело от негодования, Франсуа все же сумел скрыть раздражение.
— Тебе лучше подняться в спальню, — неприветливым тоном обратился он к жене. — Я сам их встречу.
— Нас заметили, — с улыбкой констатировала Эмили Дюамель, увидев, как заколыхалась штора.
Франк Лонэ тоже не смог сдержать улыбку.
— Теперь ты понимаешь, к чему я веду. Эти люди, несомненно, проводят полдня, ожидая, не произойдет ли чего-нибудь необычного. Просто невозможно, чтобы они ничего не заметили.
Пока же жандармы терпели полное фиаско. Их первый визит не принес никакого результата. Из дома ближайших соседей Николь Браше ее ферма просматривалась лишь частично, поскольку высокие деревья и забор загораживали вид. Владелица дома была на последнем месяце беременности и почти весь день спала. В момент убийства она тоже отдыхала в своей спальне, окна которой, к сожалению, выходили на север, то есть на противоположную сторону. Ее муж в тот день работал и вернулся около восьми часов вечера.
Франк внимательно рассматривал дом, надеясь, что с этими соседями им повезет больше.
— Думаю, с их заднего двора открывается прекрасный вид на ферму.
— Я тоже так полагаю, — согласилась Эмили.
Резкий звонок нарушил тишину. Женевьева Дельво вздрогнула и кинулась к лестнице, словно испуганное животное.
Бросив в последний раз злобный взгляд на жену, словно она была причиной всех его бед, Франсуа Дельво открыл дверь.
— Здравствуйте, мсье. Национальная жандармерия, лейтенанты Дюамель и Лонэ.
Шестидесятилетний мужчина хорошо помнил стройную женщину с зелеными глазами. Месяц назад она приходила в их дом вместе с другим жандармом. В тот раз, к его великой радости, допрос оказался коротким.
— Полагаю, вы снова пришли по поводу убийства Николь, — проворчал он, даже не пытаясь скрыть плохое настроение.
Лейтенанты переглянулись. Они всегда с изумлением убеждались в том, что люди с неохотой уделяют им внимание, даже если речь шла об убийстве, когда любое свидетельское показание могло существенно повлиять на ход расследования.
— Вы правы, — так сухо, как только мог, ответил Франк. — Я знаю, вас уже допрашивали, но мы хотели бы выяснить дополнительные подробности. Сейчас мы разрабатываем новую версию.
Проворчав что-то нечленораздельное, Франсуа Дельво широко распахнул дверь и впустил жандармов.
— Мадам Дельво нет дома? — наигранно наивным тоном спросила Эмили, садясь на диван в гостиной.
Немного поколебавшись, мужчина решил, что будет лучше не лгать по столь незначительному поводу. Ему и так было что скрывать.
— Мадам Дельво отдыхает на втором этаже.
— Очень жаль, но мы должны ее побеспокоить. Нам надо задать ей несколько вопросов. Вы же знаете поговорку: «Один свидетель — не свидетель».
— Мы с женой уже говорили, что в день убийства ничего не видели. Поэтому мы не можем быть свидетелями в прямом смысле слова. А поскольку мы еще не выжили из ума, то я не вижу…
— Я настаиваю, — оборвал его Франк резким тоном, не терпящим возражений.
Не говоря ни слова, Франсуа Дельво встал и медленно вышел из комнаты.
— Женевьева! — крикнул он, оказавшись на лестничной клетке. — К нам пришли господа из жандармерии. Поторопись… Спускайся…
Эмили подумала, что если она когда-нибудь выйдет замуж и ее муж позволит себе разговаривать с ней подобным тоном, пусть даже только один раз, она немедленно выставит его за дверь.
Мадам Дельво была тщедушной женщиной. Судя по взглядам, которые она всякий раз бросала на мужа, словно ища одобрения своим словам, она, казалось, полностью ему подчинялась.
— Хотите чего-нибудь выпить? Прохладительные напитки? — спросила Женевьева с некоторым беспокойством, но приветливым тоном, резко контрастировавшим с тоном ее супруга.
— Нет, спасибо, — отказался Франк.
Ему не терпелось взять быка за рога.
— С удовольствием, — откликнулась Эмили, вставая. — Я помогу вам.
Франк заговорщически подмигнул ей. Эмили нашла прекрасный повод, чтобы узнать, какой вид открывается из кухонного окна.
— Какой характер носили ваши отношения с мадам Браше? — начал Франк.
Мужчина, сидевший напротив, нахмурился. Тон разговора казался ему более резким, чем в прошлый раз, почти обвиняющим.
— Ну, Николь Браше была нашей соседкой на протяжении вот уже… пятнадцати лет.
— Мы знаем. Вы жили в добром согласии?
— «В добром согласии»? Да, каждый из нас жил сам по себе, и это хорошо.
— Мы выяснили, что лет десять назад между вами возник спор. Вы огородили участок земли, а потом, по кадастровой записи, выяснилось, что он является собственностью мадам Браше.
Франсуа Дельво тяжело вздохнул. Малейшее упоминание об этой истории было способно вывести его из себя.
— Этот надел был частью земельного участка, купленного нами, — пустился он в объяснения. — Мы потратили много денег на его обустройство и на возведение изгороди. Вы думаете, что эта мегера стала возражать, когда мы начали работы? Нет, она ждала, когда мы все закончим, и только потом выложила карты на стол.
— Кажется, до суда дело не дошло.
— Адвокат разубедил нас обращаться в суд. В нашу купчую вкралась ошибка. Это отчетливо явствует из кадастра. Мы предпочли сломать изгородь, иначе нам пришлось бы понести более существенные убытки, выплачивая мадам Браше проценты и возмещая ущерб. Полагаю, именно этого она и добивалась. Но какое это имеет отношение к ее убийству? Вы же не собираетесь повесить его на нас?
Франк решил, что лучше пока не давить на Дельво.
— Успокойтесь, мсье Дельво. Мы просто пытаемся выяснить, какие у мадам Браше были отношения с соседями. Судя по вашим словам, ее не любили?
— Да вы просто мастер эвфемизмов! — с иронией отозвался Дельво. — Эта женщина слишком много болтала.
— Да, она постоянно распускала сплетни, — добавила мадам Дельво, возвращаясь из кухни вместе с Эмили. В руках она держала поднос.
Франк обернулся к ней.
— Я думал, что она вела уединенный образ жизни. С кем она могла сплетничать?
— К ней многие заходили, — на одном дыхании продолжила Женевьева и бросила взгляд на мужа, словно хотела убедиться, что не говорит глупостей. — Врач, медсестра, помощница по хозяйству, почтальон… Да все, кто шел мимо. Наша соседка пользовалась любым предлогом, чтобы рассказать о своей жизни, посудачить об окружающих…
— Послушайте, — вмешался в разговор Франсуа Дельво, — Николь Браше была одинокой, озлобившейся женщиной. У нее не было ни семьи, ни детей. И она неприязненно относилась к людям.
«А не слишком ли высоко ты ставишь планку?» — подумал Франк.
— Допустим. Давайте вернемся ко дню убийства. Вы были дома в четверг, 12 марта этого года? — спросил он, все же беря стакан лимонада ярко-желтого цвета.
— Разумеется. Мы так и сказали в тот день, когда было обнаружено тело.
— Мы полагаем, что вашу соседку убили между четырнадцатью и семнадцатью часами. В этот промежуток времени видели ли вы какую-нибудь машину, стоявшую около ее дома или где-нибудь поблизости?
Вопрос был адресован обоим супругам, но Франк следил в основном за реакцией мадам Дельво, более сговорчивой, чем ее муж. По ее лицу пробежала тень беспокойства, но, возможно, она просто подумала об ужасном преступлении, совершенном в нескольких десятках метров от их дома.
— Мимо нашего дома ездит немало машин, — признался Дельво. — Но мы же не торчим все время у окна. Хотя… Если бы машина стояла довольно долго, мы бы ее заметили.
— Я обратила внимание на то, что из окна вашей кухни ферма мадам Браше очень хорошо просматривается, — невинным тоном заметила Эмили.
— Мой муж практически никогда не заходит в кухню, — насторожившись, уточнила мадам Дельво, словно хотела его в чем-то оправдать. — Понимаете, это моя территория.
— А в тот день вы действительно не заметили ничего необычного?
— Нет, конечно нет. Иначе я бы об этом сказала, не правда ли?
— Ну что? Ты разочарован? — спросила Эмили, когда они с Лонэ сели в машину.
— Эти двое не слишком-то сговорчивы, особенно муж. Думаю, после этой истории с изгородью он возненавидел мамашу Браше, которая, в свою очередь, и не собиралась производить на него благоприятное впечатление.
— Но достаточная ли это причина для того, чтобы скрывать подробности, которые могли бы помочь нам выйти на след убийцы их соседки?
Франк с сомнением покачал головой:
— Разумеется, нет, но люди порой бывают непредсказуемыми.
Он завел мотор и дал задний ход.
— А ты нашла удобный предлог, чтобы осмотреть кухню.
— Похоже, «салага» не так уж плохо справляется со своими обязанностями, — довольным тоном произнесла Эмили.
— Еще бы, с таким наставником, как я! Тебе удалось что-нибудь разнюхать, оставшись с ней наедине?
— Нет. Полагаю, она разгадала мою уловку. Эта женщина гораздо умнее, чем кажется на первый взгляд. Вот только муж ей попался отвратный. Наверно, невыносимо жить с таким типом.
— В любом случае даже если эти люди что-то видели, они не готовы поделиться с нами информацией…
Франсуа Дельво дождался, когда машина жандармов скроется из вида, а потом вошел в кухню и обрушил свой гнев на жену:
— Я больше не хочу слышать об этой истории, тебе понятно?! Вот уже второй раз они приходят и начинают пудрить мне мозги, но уверяю тебя: третьего раза не будет!
Однако сейчас Женевьева Дельво была решительно настроена дать отпор своему мужу.
— Послушай, Франсуа… Речь идет об убийстве. Согласна, Николь была настоящей змеей, но она мертва. Ты понимаешь это? На нее напали, привязали к стулу и забили до смерти. А теперь только представь себе, что было бы, если бы преступники ворвались в наш дом. Разве ты не хотел бы, чтобы соседи, более милосердные, чем мы, дали показания, которые позволили бы надолго запрятать этих уродов в тюрьму, чтобы они не смогли совершить очередное убийство?
Женевьева надеялась, что если ее муж представит себя в роли жертвы, это заставит его задуматься о собственной печальной участи. После убийства соседки у нее не было ни одной спокойной ночи. В ее память прочно врезались картины увиденного, которые то и дело всплывали у нее перед глазами, даже во сне. Женщина не могла забыть белую машину, стоявшую около часа перед фермой соседки в день убийства. Женевьева была уверена, что за пятнадцать лет ни разу не видела во дворе фермы этой машины. Конечно, она не могла назвать марку автомобиля, но если бы ей показали несколько моделей, она, несомненно, узнала бы его. В тот день Женевьева часто посматривала в окно кухни, чтобы прогнать послеобеденную скуку, пока ее муж отдыхал, сидя в кресле в гостиной. Любое событие, даже незначительное, было способно разнообразить ее унылую жизнь.
Несколько секунд… Все произошло за несколько секунд. Женевьева убирала посуду в шкаф, как вдруг издалека до нее донесся шум отъезжающей белой машины. Если бы Женевьева взглянула в окно секундой раньше, она увидела бы убийц соседки. Это обстоятельство не давало ей покоя. Но еще более невыносимой была мысль о том, что ей приходится скрывать важную информацию от полиции. И все из-за мелочной обиды, которую ее муж затаил на Николь. Из-за нескольких квадратных метров земельного участка, который и без того был слишком велик для них…
— Так или иначе, теперь уже слишком поздно, — сурово произнес муж, подводя черту под разговором. — Надо было говорить сразу…
— Никогда не бывает слишком поздно, — попыталась возразить ему Женевьева. — Достаточно позвонить по номеру с этой визитки, которую нам оставили жандармы, и рассказать им правду.
— Об этом не может быть и речи! Если мы вдруг заговорим, нас могут обвинить в том, что мы препятствовали ведению расследования. А даже если и не обвинят, все равно неприятностей не оберешься. Новые допросы, очные ставки… Возможно, нас даже вызовут в суд.
— Но…
— Разговор окончен, — оборвал Женевьеву муж, выбрасывая визитку в помойное ведро. После этого он покинул территорию своей жены.
Женевьева Дельво застыла посреди кухни. Она чувствовала, как к глазам подступают слезы. Ей пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы не расплакаться. Она устала чувствовать себя слабой, устала от оскорблений и унижений. Муж не испытывал к ней никакого уважения. На этот раз она не пойдет у него на поводу, какими бы ни были последствия.
Женщина решительно сняла крышку с помойного ведра, достала визитку, оставленную жандармами, и положила ее в карман брюк.
Глава 7
Париж, октябрь 1940 года
— Вы уверены, что действительно хотите его продать?
Вместо ответа Эли Вейл моргнул. Ему надоело оправдываться. Антиквар, стоявший перед ним, не удержался и алчно провел рукой по лакированному золоченому декору на черном комоде.
— Как мы и договаривались, я могу дать за него только пять тысяч франков. Я понимаю, эта сумма разочаровывает вас… Но главное, я не хочу, чтобы вы думали, будто я стараюсь воспользоваться… обстоятельствами. Сейчас и для меня настали тяжелые времена. В данный момент такую мебель нелегко продать.
Эли Вейл прекрасно знал, что у торговца антиквариатом уже есть на примете десяток клиентов, готовых заплатить за эту вещь в несколько раз дороже. Комод с гнутыми ножками эпохи Людовика Пятнадцатого, изготовленный в мастерской Леле, в прекрасном состоянии… Самый красивый предмет мебели, который удалось сохранить из отцовской коллекции. Но Эли Вейл не подал виду, что огорчен. Ему всегда было противно торговаться. К тому же он не хотел показывать, что находится в отчаянном положении.
— Хорошо. Пять тысяч франков меня вполне устроят, — тоном фаталиста произнес Эли Вейл.
Сначала он думал, что расставание с комодом причинит ему щемящую боль, не столько из-за относительно небольшой денежной суммы, которую можно будет за него выручить, сколько из-за воспоминаний, связанных с ним. Но сейчас, учитывая сложившиеся обстоятельства, комод стал последней из его забот. Эли Вейлу срочно требовались наличные, причем он должен был получить их так, чтобы не вызвать ни у кого подозрений.
За несколько дней облик Парижа изменился до неузнаваемости. Эли Вейлу рассказывали, что в квартале Сен-Венсен-де-Поль на стенах домов появились антисемитские листовки. На одной из них было написано: «Если ты еврей, отправляйся в Палестину или подыхай». Витрина магазина часовщика Исаака Горовица, с которым Эли Вейл был знаком на протяжении тридцати лет, была разграблена и покрыта недвусмысленными угрозами: «Раз, два, три, бум… и твоя лавка взлетает на воздух!»
Впрочем, Вейла беспокоили не столько подлые проявления стадных настроений толпы, сколько меры, недавно принятые в кулуарах министерств. Правительство запретило иностранным врачам или врачам — сыновьям иностранцев заниматься своей профессией. Разумеется, этот запрет не касался непосредственно Вейла. Он даже имел малодушие разделять мнение своих коллег-евреев, которые полагали, будто статус изменится только у иностранцев, не важно, кем они были, евреями или нет.
Но сейчас Вейл уже ни в чем не был уверен. Какие дальнейшие меры правительство примет для того, чтобы «устранить чересчур расплодившихся евреев», как заявил один из ретивых членов кабинета министров? И каковы будут их пределы?
В поведении своих клиентов нееврейского происхождения Эли Вейл не чувствовал по отношению к себе никаких существенных изменений. Многие из них даже не одобряли, если не сказать осуждали политику, проводимую Францией. Но он прекрасно знал, что люди способны менять свои взгляды, едва на горизонте забрезжит опасность. Он должен рассчитывать только на себя.
Рашель Вейл на цыпочках прошла по коридору и притаилась за приоткрытой дверью в кабинет отца. Рашель уже исполнилось восемнадцать лет, но отец по-прежнему, к великому сожалению дочери, считал ее ребенком. Он никогда не говорил в ее присутствии о политике, за исключением тех случаев, когда к ним приходил ее дядя Симон. Тогда между братьями разгорались жаркие споры. Рашель притворялась, будто их споры ее не интересуют. За ними было легче наблюдать, когда они оба теряли бдительность.
Отец Рашель был человеком спокойным, уравновешенным, по натуре оптимистом. Но каждый день приносил очередные тревожные новости, и природное спокойствие уступило место откровенной тревоге.
— Симон, мы французы со времен революции. Учредительное собрание 1791 года… Это тебе о чем-нибудь говорит? Наш отец сражался в 1870 году, в 1914-м мы с честью исполнили свой долг. После позорного поражения, когда члены Центрального церковного совета евреев Франции не только бежали сами, но и уговаривали нас последовать их примеру, мы не поддались всеобщей панике и остались в Париже. А ведь у нас была возможность эмигрировать. Однако мы этого не сделали. Почему? Потому что мы любим Францию, и ни один еврей ни под каким предлогом не должен покидать свою страну.
Брат Эли нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла.
— Мне все это известно так же хорошо, как и тебе, Эли. Я пришел к тебе вовсе не для того, чтобы выслушивать лекцию об истории нашей семьи или разглагольствования о долге порядочного французского еврея. Я говорю тебе о законе, о правилах, установленных администрацией, которую ты обычно уважал…
— Какое значение могут иметь законы, изданные незаконным правительством?! — вышел из себя Эли.
— Боже мой, открой глаза! Толпы евреев осаждают комиссариаты! И не потому, что горят желанием встать на учет. Они стараются хотя бы немного уменьшить нависшую над ними опасность. Евреи просто не желают лить воду на мельницу тех, кто утверждает, будто мы являемся источником всех бед. Ты хочешь, чтобы на тебя и твою дочь показывали пальцем? Наш раввин сообщил нам, что на учет встал даже Бергсон. Анри Бергсон встал на учет, а ты, Эли Вейл, делаешь вид, будто готов оказать сопротивление…
— Перестань бормотать слова своего раввина! У меня тоже есть информация. Знаешь, в каком виде Бергсон отправился в комиссариат? В домашних туфлях и халате, опираясь на руки своих друзей и тяжело дыша, словно проклятый. Разве можно представить себе большее унижение?
Эли Вейл попытался успокоиться. Взяв со стола разрезной нож, он принялся вертеть его в руках. Почти всегда они с Симоном придерживались разных точек зрения. Симон усердно посещал синагогу, а Эли был лишь формально приписан к Центральному церковному совету. Если возникала необходимость, он не боялся заявлять о своей активной политической позиции. Впрочем, Эли не отличался религиозным рвением. Несмотря на протесты семьи, он женился на протестантке голландского происхождения. В политике он отдавал предпочтение радикальным социалистам, хотя и никогда публично не выражал своего мнения. Он как чумы боялся воинствующих еврейских организаций, которые постоянно пытались вступить в открытую борьбу с крайне правыми.
Но сейчас Эли буквально кипел от негодования, а вот Симон, казалось, решил во всем положиться на судьбу. Эли очень долго думал, что антисемитизм, набиравший силу в последние годы, был всего лишь мимолетным явлением, «чистым продуктом тевтонского импорта», как он любил повторять своему брату. Но теперь он вдруг увидел, что Франция покрылась кровоточащими язвами, способными разрушить национальное единство. И, главное, подставить под удар его семью.
— Разве ты не понимаешь, что постановка на учет — это только начало? — с раздражением в голосе продолжил Эли. — Что они сделают, когда в их распоряжении окажутся списки всех евреев, живущих во Франции?
Эли Вейл резко открыл ящик письменного стола и вытащил вчерашний выпуск «Вуа дю пёпль».
— Ты читаешь ежедневную газетенку Дорио? — саркастически заметил Симон.
— Перестань юродствовать. Мне ее дал один из моих коллег. Прочитай вот эту статью.
— Ты шутишь? Я не буду читать эту пакость.
— Нет, ты должен ее прочитать. Это весьма поучительная статья. В ней написано, что правительство приступило к тотальной денатурализации алжирских евреев. Но это никого не беспокоит. Вот уже более семидесяти лет они считаются французскими евреями, живущими в стране, даже не оккупированной немцами. Симон, следующие на очереди — мы.
Симон строго посмотрел на Эли, но все же пробежал статью глазами.
— Ладно. В любом случае у нас нет выбора. Эли, встань на учет как можно скорее. Если ты не хочешь сделать это ради себя, сделай это ради Рашель.
Симон коснулся самой больной темы. Рашель… Свет его очей. После смерти Мины, жены Эли, у него осталась только Рашель. Лишь она одна действительно много значила для него.
Симон резко встал и принялся ходить по комнате.
— У меня больше нет аргументов, чтобы убедить тебя, Эли. Ты всегда был упрямым, как осел.
Услышав, что дядя приближается к двери, Рашель бросилась в свою комнату, но половицы заскрипели у нее под ногами.
— У стен есть уши, — констатировал Эли, показывая головой на дверь.
— Ты слишком опекаешь ее, — упрекнул брата Симон. — Твоя дочь уже взрослая. И не такая наивная, как ты думаешь. Рашель не может не знать, что происходит за пределами вашего дома.
Эли Вейл повернулся к окну кабинета и принялся смотреть на авеню, чтобы скрыть внезапно охватившие его чувства.
— Ты, несомненно, прав. Но знаешь, Симон, я твердо уверен в одном: я никому не позволю причинить зло моей малышке Рашель. Слышишь? Никому!
Глава 8
Арвильер, Марна, 1999 год
В конце концов я включил проектор, чтобы досмотреть фильм. На экране появились другие, не представляющие особого интереса кадры. Казалось, все внимание было обращено на мужчину в эсэсовской форме. А мой дед буквально заискивал перед ним.
Вот и все. Бобина покрутилась еще несколько мгновений, но больше изображений не было. В отличие от старых немых фильмов, здесь не было титров, объясняющих то или иное действие или сопровождающих его шуткой. Эти изображения были до боли реальными.
Я не осмелился посмотреть фильм еще раз. По крайней мере, я не готов был сделать это сейчас.
Я помню, что машинально положил пленку в металлический футляр и убрал ее на самую верхнюю полку, словно пытался скрыть постыдную тайну. Я положил стикер в карман и вернулся в гостиную, к Алисе и Анне.
Как ни странно, но мне легко было притворяться. Я и без того находился под сильным впечатлением, так что во время обеда мой рассудок был немного затуманен из-за испытания, которое мне пришлось выдержать. Напустив на себя равнодушный вид, я пытался принимать участие в разговоре. Полагаю, ни Анна, ни Алиса не заметили в моем поведении ничего необычного.
Но оказавшись в своей комнате, я перестал сдерживать свои чувства.
С пронзительной остротой я вдруг осознал, что почти ничего не знаю о своем деде, во всяком случае, о его жизни до нашего появления на свет. У нас в семье никогда не говорили о Второй мировой войне. Мне неизвестно, как с этим обстоит дело в других семьях. Является ли молчание самым распространенным ответом на вопросы тех, кто ничего не знает об этом периоде? Скрывают ли героические поступки из скромности или подлость из чувства стыда? Я знал только то, что у моего деда была карточка участника-добровольца Сопротивления. Но я также знал, что подобные карточки выдавали и в 1980-х годах. С тех пор как произошли те события, прошло слишком много времени, и эти карточки не могли служить оправданием. Кусок бумаги не мог затмить того, что я увидел на экране.
В тот вечер меня настойчиво преследовали вопросы. Где был снят этот фильм? Ни одна фактическая деталь не могла помочь мне ответить на них. Поместье было мне незнакомо, однако у меня создалось впечатление, что плакат с надписью на двух языках был сделан во Франции по случаю приезда этого эсэсовца. Но кем он был на самом деле? Почему родильный дом находился под властью эсэсовца, пусть даже на оккупированной территории?
Откуда взялись эти женщины? Почему их собрали в поместье, а не в обычном родильном доме? Все мои познания о профессиональной деятельности деда ограничивались 1960-ми годами, когда он возглавлял гинекологическое отделение больницы Шалон-сюр-Марн, как тогда назывался этот город.
Кто снял этот фильм? Я склонялся к версии, что это сделал мой дед, хоть он и на мгновения появлялся в коротких сценах. Почему он счел необходимым так долго прятать документ, ставивший его в довольно щекотливое положение? Несомненно, этого фильма было достаточно, чтобы обвинить моего деда в активном коллаборационизме.
Ночь я провел в поисках ответов на все эти вопросы, но безуспешно.
На следующий день я, сославшись на дела, поехал в Шалон. В Центральной библиотеке, расположенной в бывшем особняке Дюбуа де Крансе, я провел часть утра, сидя среди роскошных каминов и резных деревянных панелей, за компьютером. Я располагал очень скудными сведениями. Поиски надо было вести методично.
Я набрал в поисковике все ключевые слова, которые только пришли мне в голову: «Вторая Мировая война / родильный дом / детское отделение / Франция / СС…» Очень скоро я вышел на сайт, в котором говорилось о двух прямо противоположных реалиях. Первая реалия касалась родильных домов, где во время облав укрывали еврейских детей, тем самым спасая их. Через полчаса чтения я понял, что первый след никуда меня не приведет.
Вторая реалия была непосредственно связана с программой «Лебенсборн». Я не могу точно сказать почему, но с первого мгновения, когда я увидел это слово на экране, я понял, что проникаю в мир, который будет преследовать меня и изменит жизнь моей семьи, мир, на пороге которого я уже не мог задержаться. Я знал это слово, ведь немецкий был моим первым иностранным языком в коллеже. И потом, поступив на подготовительные курсы по истории, я начал изучать его более углубленно. Однако у меня были смутные представления о реалии, которую это слово обозначало.
Программа «Лебенсборн», в переводе «Источник жизни», была разработана в Германии в 1935 году под эгидой Главного управления расы и поселений — организации, созданной для защиты женщин и детей. Управление также занималось проверкой расовой чистоты членов Schutzstaffel, то есть СС.
Если говорить более конкретно, речь шла о клиниках, принимающих жен и подруг эсэсовцев и полицаев. Лебенсборны были призваны дать возможность матерям, «пригодным по расовым показателям», родить ребенка, а затем передать его СС для дальнейшего воспитания в приемной семье. Это был способ повысить рождаемость и укрепить «арийскую расу». Многие девушки, часто становившиеся жертвами пропаганды, приходили в лебенсборны, чтобы получить шанс подарить ребенка фюреру.
В Германии было создано девять лебенсборнов. Несколько лебенсборнов появилось и на территории оккупированных стран. Я хотел узнать, существовали ли подобные родильные дома во Франции. Но мои поиски оказались трудными и не внушали мне оптимизма. В 1999 году Интернет еще не получил во Франции широкого распространения, и сайтов, рассказывающих о столь малоизученных исторических феноменах, практически не существовало. Из университетского сайта, на котором велось обсуждение диссертации, посвященной расовой политике нацистов, я все же узнал, что во Франции был по крайней мере один лебенсборн. Он располагался в Ламорлэ, в сорока километрах к северу от Парижа. Как ни странно, но только в 1975 году журналисту Марку Иллелю удалось, преодолев множество трудностей, установить местонахождение этого родильного дома. В остальном мне пришлось довольствоваться коротким комментарием, сообщающим, что этот центр был открыт поздно, в 1944 году, и что там родилось только несколько десятков детей.
В отделе выдачи книг я заказал произведение Марка Иллеля «Во имя расы». Я с любопытством пролистал книгу, первые три страницы которой были посвящены Ламорлэ. Автор указывал на то, что этот лебенсборн, вероятно, работал еще до официального открытия. Его пациентками были молодые француженки, бельгийки и голландки, забеременевшие от связи, порой короткой, с членами различных подразделений и кавалерийских соединений СС, расквартированных в этих странах. К сожалению, на фотографиях, помещенных в конце книги, я не нашел изображения замка Ламорлэ.
Вновь войдя в Интернет, я все же сумел найти одну фотографию лебенсборна Уазы: огромное, довольно вычурное здание с эркерами, не имевшее ничего общего со зданием, которое я видел на девяти с половиной миллиметровой пленке.
Я успокаивал себя, пытаясь поверить в то, что придаю слишком большое значение всей этой истории с лебенсборнами. В конце концов, речь могла идти об обыкновенной клинике в оккупированной зоне, которую немцы реквизировали или просто посещали. Присутствие эсэсовца еще ничего не доказывало и уж конечно не означало, что мой дед был коллаборационистом. И все же я не мог убедить себя в этом. В самом деле, разве Абуэло хранил бы этот фильм более пятидесяти лет, да еще в укромном месте, если бы тот не имел особого значения? Я взял на дом книгу Иллеля, а потом вернулся в Арвильер.
В полдень мы обедали в саду. Алиса и Анна, проведшие столько времени в доме, нуждались в свежем воздухе.
Ближе к вечеру после мучительных колебаний, над которыми в конце концов одержало победу мое любопытство, я улучил момент и заперся в кабинете, чтобы позвонить по номеру телефона, записанному на стикере. После нескольких гудков в трубке раздался молодой, хорошо поставленный голос.
— Элоиза Турнье?
— Да…
Я решил не ходить вокруг да около.
— Здравствуйте, меня зовут Орельен Коше… Полагаю, вы знаете моего деда, Анри Коше.
На том конце провода воцарилась тишина, сотканная из удивления и смущения.
— Примите мои соболезнования, — искренне сказала Элоиза. — Я узнала, что ваш дед умер.
— Да, две недели назад.
— Это он дал вам мой телефон?
Разумеется, я не собирался вдаваться в подробности и рассказывать о странном стечении обстоятельств, которые привели меня от фильма к ней.
— Не совсем. По правде говоря, я обнаружил ваш номер случайно, приводя в порядок вещи моего деда. А вы хорошо его знали?
— Я встречалась с ним только один раз, но мне выпала возможность часто говорить с ним по телефону.
Ее слова только разожгли мое любопытство.
— Простите за нескромность, но при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
— Я аспирантка кафедры истории в университете Париж-IV и встретилась с ним в связи со своей диссертацией. Я думала, что ваш дед сможет сообщить мне сведения, которые мне помогут.
Ее ответ меня совершенно не удовлетворил. Вдруг я почувствовал, как у меня бешено забилось сердце. Диссертация на историческую тему… Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не произнести вслух немецкое слово, преследовавшее меня с самого утра.
— Да, — продолжала Элоиза, поскольку я никак не отреагировал на ее слова, — это долгая история. Вы, разумеется, подумаете, что мне не хватает тактичности, ведь со смерти вашего деда прошло так мало времени, но… Мы можем поговорить с вами об этом не по телефону? Вы в Париже?
Я мог бы отказаться от ее предложения, повесить трубку и постараться поскорее забыть обо всей этой истории. Чтобы не копаться в жизни умерших, а заняться живыми, которые сейчас, как никогда прежде, нуждались во мне.
— Только не сегодня, — услышал я свой голос. — Я вернусь в Париж через два дня. Но мы можем договориться о встрече. Когда вы свободны?
Глава 9
Над площадью Сорбонны висело низкое небо, покрытое мелкими облачками. Вокруг фонтана летали голуби, которых уже давно не смущало присутствие людей.
Я пришел немного раньше, но Элоиза Турнье уже ждала меня, сидя на террасе ресторана с книгой в руках. Даже без этого опознавательного знака, о котором мы условились, я, несомненно, узнал бы ее. Она выглядела несколько старомодно, и я сразу же подумал о моделях итальянских художников Возрождения: бледный цвет лица, шафрановые волосы — те самые белокурые венецианские волосы, которые видишь на картинах Рафаэля и Боттичелли.
Мне было несложно найти повод для поездки в Париж. Во время ужина я завел разговор о своем участии в создании коллективного труда, который должен был выйти в свет к началу нового учебного года, к очередному конкурсу на замещение преподавательских должностей. Я сказал, что мне необходимо как можно скорее встретиться с издателем и другими авторами.
Когда я прощался с Алисой, у меня создалось впечатление, будто она окончательно вступила в новый жизненный этап, следующий за потерей любимого человека. Она смирилась со смертью Абуэло, преодолела странный период, когда у человека появляется желание оставить все как есть, перестать бороться. Алиса казалась мне безмятежной, умиротворенной. Но тут, как потом выяснилось, я допустил серьезную ошибку.
Из Арвильера я увозил фильм и проектор Абуэло. Я хотел как можно быстрее сделать копию этого документа, но у меня не было никакого желания привлекать к этому делу третьих лиц, учитывая сюжет фильма. Итак, мне пришлось соорудить небольшую лабораторию в гостиной моей квартиры. Наиболее удовлетворительный метод требовал использования конденсатора, а его у меня, разумеется, не было. А раз так, то я пошел по пути любителей: поставил скорость проектора на шестнадцать изображений в секунду и начал проектировать фильм на чистый лист формата А4. Одновременно я снимал изображение на видеокамеру, установленную около объектива. Я вновь увидел деда рядом с эсэсовцем, но на этот раз пытался смотреть на вещи исключительно с технической точки зрения.
Вопреки моим ожиданиям, результаты оказались не столь удручающими. Разумеется, мне не удалось избежать световых пятен и небольшой деформации, связанной с отклонением оси видеокамеры, однако, просматривая копию на видеомагнитофоне, я убедился, что качество изображения было вполне приличным.
Элоиза Турнье увидела меня и встала, протянув мне руку.
— Мсье Коше? Здравствуйте… Спасибо, что согласились так быстро встретиться со мной.
Я мог бы ответить ей примерно так же. Мне трудно было понять, кто кому из нас оказал бо́льшую любезность.
— Я не заставил вас слишком долго ждать?
— Я всегда прихожу раньше назначенного времени. Я по природе весьма осмотрительна.
Ее лицо было усыпано мелкими веснушками, которые контрастировали с белизной лица.
— Вы звонили мне из дома вашего деда в Арвильере? Однажды я приезжала туда…
— Да, там многое надо привести в порядок. Мы собираемся сдавать этот дом в аренду.
К нашему столику подошел официант. Я заказал газированную воду, Элоиза попросила принести ей еще одну чашку кофе. Как и она, я был весьма осмотрительным, если не сказать подозрительным. В нескольких словах я рассказал ей о своей работе, об Алисе, о смерти Абуэло, но только в самых общих чертах, не вдаваясь в подробности.
— Когда вы познакомились с моим дедом? — спросил я, переводя разговор на тему, которая нас объединяла.
— Я узнала о его существовании приблизительно полгода назад. Мы два раза беседовали с ним по телефону, но, как я вам уже говорила, виделись только однажды, в начале марта.
Я немного колебался, не зная, какую линию поведения выбрать. Мне хотелось узнать как можно больше, но я боялся, что Элоиза не захочет делиться со мной информацией, которой она владела, если поймет, что о прошлом деда мне практически ничего не известно.
— Вы упоминали о своей диссертации. Как вам удалось наладить с ним контакт?
— Вот уже год я готовлюсь к защите диссертации на кафедре истории Сорбонны. Мы с моим научным руководителем решили, что я буду писать о незаконнорожденных детях, появившихся на свет во Франции от немцев. Именно поэтому я заинтересовалась информацией о двух лебенсборнах, существовавших во Франции.
У меня сложилось впечатление, будто Элоиза специально произнесла это слово, чтобы проверить меня и проследить за моей реакцией. При этом столь знакомом слове, но впервые произнесенном в моем присутствии вслух, у меня по спине побежали мурашки. Я отпил воды, стараясь сохранять спокойствие.
— Если сегодня вы пришли сюда, значит, вам известно о существовании лебенсборнов.
Я кивнул головой.
— «Завод по производству людей», — попытался я подвести итог.
— Это немного преувеличенное сравнение, но так действительно долгое время называли лебенсборны. На самом деле речь вовсе не шла о местах, где немецкие солдаты будто бы «оплодотворяли» ариек, чтобы на свет появились белокурые дети с голубыми глазами. Все это относится к разряду вымыслов.
— Тем не менее, цель этих родильных домов заключалась в том, чтобы дать жизнь «совершенным», в соответствии с нацистскими критериями, детям.
— Да, но с научной точки зрения их методы были эмпирическими. Я хочу сказать, что сегодня мы знаем: подавляющее большинство женщин поступали в эти центры уже беременными. В оккупированных странах, таких как Франция, лебенсборны принимали женщин, у которых с эсэсовцами или солдатами вермахта были внебрачные, порой мимолетные связи.
— Вы говорили о двух лебенсборнах во Франции. Однако я полагал, что в этой стране существовал только один лебенсборн, в Ламорлэ.
Во взгляде Элоизы я прочитал неподдельное изумление, словно мое замечание могло стать причиной недоразумений между нами.
— Простите, но я думала, что вы знаете о существовании другого лебенсборна, того самого, в котором работал ваш дед.
Последние слова явились для меня откровением, которое подтвердило мои предположения, не дававшие мне покоя эти два дня. Ошеломленный, я достал из сумки книгу Марка Иллеля, которую взял в библиотеке.
— Полагаю, вы знаете эту книгу наизусть. Автор упоминает только об одном лебенсборне, расположенном около Шантильи.
Похоже, Элоиза смутилась, словно наш разговор казался ей теперь неуместным или нелепым.
— А собственно говоря, как вы меня нашли?
— Я обнаружил ваше имя и номер вашего телефона в вещах моего деда, среди документов.
— Документов… — повторила она, явно заинтригованная.
Возможно, я сказал слишком много. Я пока не знал, готов ли был поделиться всеми известными мне сведениями с этой молодой женщиной, которая, вероятно, была просто увлечена темой своей диссертации, но в десять раз больше, чем я, знала о прошлом Абуэло. Судя по всему, она даже не догадывалась о существовании фильма.
— Иллель первым написал о лебенсборне в Ламорлэ, в Уазе, — продолжила она, поскольку я молчал. — За исключением нескольких страниц этой книги, нет ни одного исследования, посвященного этой теме. О существовании второго лебенсборна, расположенного в Сернанкуре, стало известно в начале 1980-х годов благодаря научным исследованиям одного профессора из Бельгии.
Сернанкур… Разумеется, я слышал название этой деревушки, расположенной километрах в пятидесяти от Арвильера. Но о ней самой практически ничего не знал.
Элоиза открыла голубую сумочку, лежавшую на столе с самого начала нашего разговора, и вытащила несколько цветных фотографий, на которых я тут же узнал здание, неотступно преследовавшее меня вот уже два дня.
— Это поместье Ларошей, старинной семьи шампанских виноделов. В 1940 году оно было реквизировано немцами.
— Это вы фотографировали?
— Да. Я несколько раз приезжала в Сернанкур. Облик поместья не слишком изменился после войны, несмотря на сильный пожар, случившийся там в 1942 году. Сегодня это досуговый центр для детей-инвалидов. Если учесть, какое будущее уготовили нацисты детям с физическими и умственными недостатками, полагаю, мы можем говорить об иронии судьбы.
— А какое отношение ко всему этому имел мой дед?
Элоиза сочувственно взглянула на меня.
— Сначала я ничего не знала о вашем деде. Я начинала с нуля, поскольку исследований, посвященных Сернанкуру, просто не существует. Перед отступлением немцы уничтожили большинство архивов с документами, в которых шла речь о лебенсборнах. Например, в конце 1944 года в парке поместья Ламорлэ они сожгли тонны книг и документов. Но все же кое-что было спасено местными ребятишками, рассчитывавшими продать свои «трофеи». До нас дошли весьма ценные документы: обширная переписка между центрами и администрацией СС, подчиняющейся штабу Гиммлера. Сегодня эти письма хранятся в Международной службе розыска Арользена в Германии. Я внимательно читала их.
Я уже слышал об этом центре Бад-Арользена, работающем под эгидой Международного комитета Красного Креста, и знал, что там хранится документальная информация обо всех узниках нацистских лагерей.
— А когда именно был создан родильный дом Сернанкура?
— Трудно сказать. Лебенсборн Ламорлэ был открыт в феврале 1944 года, однако исследователи уверены, что он начал принимать пациенток еще в 1942 году. Полагаю, лебенсборн Сернанкура начал работать еще раньше, в самом начале 1941 года. Разумеется, официально центр так и не был открыт, поскольку, как я вам говорила, через год огонь серьезно повредил здание.
Я принялся задумчиво поворачивать из стороны в сторону кружочек лимона, лежавший на дне моего стакана.
— Что вы выяснили об этом лебенсборне и о роли, которую играл во всем этом мой дед?
— В документах, которыми мы располагаем, точно не указано название этого лебенсборна. Там он фигурирует под кодовым названием, присвоенным ему СС: Düsterwald.
— «Темный лес»?
— Вы говорите по-немецки?
— Немного.
Я вспомнил о «Лесном царе», балладе Гёте, которую выучил наизусть в школе. Там ребенок говорил о düstere Ort, «темном месте».
— «Темный лес», или «лес юдоли», — продолжала Элоиза. — Дело в том, что поместье раскинулось на опушке леса. В нацистской переписке, дошедшей до нас, есть короткое послание Макса Зольмана, эсэсовца, отвечавшего за работу лебенсборнов. В этой записке впервые упоминается Сернанкур.
Элоиза вынула из сумочки листок бумаги.
— Я принесла вам перевод этого письма, ставшего отправной точкой моего исследования.
«По подсчетам наших служб от матерей-француженок и солдат, расквартированных в оккупационной зоне, родилось примерно двадцать тысяч детей. Мне известно о сдержанности Конти по этому поводу: наши теоретики расовой политики всегда считали французов полукровками. Но по моему убеждению, некоторые из этих детей ничуть не хуже тех, что появились на свет в Голландии или Норвегии. Рейх понесет большие потери, если эти дети не будут вовремя увезены в Германию, при условии, разумеется, что их матери будут признаны совершенными с расовой точки зрения. Полагаю, мы должны ускорить открытие Düsterwald. В первое время он мог бы принимать детей, которые в настоящее время находятся в домах, контролируемых Мартой Унгер, и беременных женщин, прошедших тщательный отбор.
Вы знаете, что генеральша Гильермо активно интересуется детьми, которые могли бы быть отправлены в Германию. Недавно до меня дошли слухи, что даже в тех случаях, когда немецкие семейные пары хотят взять на воспитание одного из таких незаконнорожденных малышей, мадам Гильермо, действуя через свою ассоциацию, вставляет нам палки в колеса. Полагаю, мы просто обязаны работать вместе с французскими властями, чтобы избежать потери этих детей».
Из книги Иллеля я узнал, что Леонардо Конти был известным нацистским теоретиком «расового превосходства». Но смысл второго абзаца оставался для меня неясным.
— Кто такая мадам Гильермо?
— «Фрау генеральша Гильермо» — так немцы называли эту женщину в своих документах. Именно благодаря ей я сумела выйти на вашего деда. Эжени Гильермо — такое имя и выдумать-то невозможно! — была вдовой генерала Гильермо, командовавшего Четвертой армией во время Первой мировой войны. Он умер в конце 1930-х годов, упав с лошади. Мадам Гильермо потеряла одного из своих сыновей во время сражения в 1915 году. Редкий случай в среде высших офицеров, которых так часто обвиняли в том, что они занимали высокие посты в тылу, не подвергая себя никакой опасности. После войны эта женщина создала несколько организаций для помощи семьям, понесшим ощутимые потери во время этого кровопролитного конфликта. Благодаря положению своего мужа и семейному состоянию, мадам Гильермо имела свободный доступ в коридоры власти и финансовые круги. После разгрома 1940 года она встала во главе новой организации, «Жены и дети военнопленных». Эта организация опекала семьи, главы которых погибли в боях или попали в плен и были угнаны в Германию.
— Но какое отношение все это имеет к лебенсборнам?! — воскликнул я, не понимая, куда клонит моя собеседница.
— Официально никакого. Но после того, как было заключено перемирие, между немецкими солдатами, расквартированными в оккупационной зоне, и француженками, чаще всего замужними, установились тесные связи. По оценкам специалистов, за время войны каждый двадцатый ребенок родился во Франции от отца-немца. Впрочем, долгое время в нашей стране это была запретная тема. Фрау генеральша брала под свою опеку незаконнорожденных детей, которые принадлежали неизвестно кому: то ли Франции, то ли Германии. Ее ассоциация состояла из пунктов неотложной медицинской помощи, больничных центров, детских домов, яслей… Но вскоре, возможно, под давлением немцев или по решению правительства Петена, эту ассоциацию объединили с Национальной помощью. Было ясно, что после смерти мужа мадам Гильермо заметно утратила свое влияние. Однако, насколько нам известно, немцы считали ее главной помехой для увоза в Германию незаконнорожденных детей, появившихся на свет во Франции.
— Вы сказали, что именно благодаря этой женщине вы вышли на моего деда…
— Совершенно верно. Сначала в моих руках оказалось письмо Гиммлера, в котором прямо говорилось о начальном периоде лебенсборна Сернанкура. Опираясь на предоставленные ему рапорты, Гиммлер сетует на небрежность, отсутствие элементарной гигиены, насущную потребность в квалифицированном персонале… Но нас особо интересует последний пункт. Это может показаться невероятным, но вначале в Сернанкуре не было даже акушера-гинеколога. Кроме того, немцы понимали, что местное население относится к подобным центрам враждебно. Женщин, поступавших в эти центры, считали продажными шлюхами, которые жили в роскоши и праздности. Поэтому сами немцы старались не допускать, чтобы персонал лебенсборнов, созданных за пределами Германии, состоял исключительно из немцев. Нацисты сталкивались с невероятными трудностями при вербовке медицинских сестер, хотя работа в таких центрах предполагала улучшение жизненных условий того времени.
— Полагаю, моего деда завербовали в Сернанкур как врача.
— Он был завербован при содействии генеральши Гильермо. Прочтите два абзаца этого письма, которое она послала в Центральную дирекцию лебенсборнов.
На этот раз Элоиза вручила мне не перевод, а фотокопию старого письма, напечатанного на машинке.
«Наша ассоциация протягивает руку помощи молодым незамужним матерям, часто лишенным денежных средств или отвергнутым своими семьями. Но как я вам уже говорила в своем предыдущем письме, мы считаем вполне возможным послать в ваш центр в Марне нескольких молодых женщин, изъявивших на то согласие, если получим гарантии, что рожденные ими дети останутся на территории Французского государства и будут находиться под его защитой.
Разделяя вашу озабоченность, хочу предложить вам кандидатуру квалифицированного врача, которому мы полностью доверяем. Он мог бы оказать вам неоценимую помощь в наблюдении за пациентками. С другой стороны, присутствие французского врача позволит избежать бойкота центра и успокоит местное население».
— В другом письме упоминается имя вашего деда, Анри Коше. Затем, благодаря письму, посланному в Центральную службу по делам лебенсборнов, в Мюнхен, я получила доказательства того, что он действительно работал в лебенсборне с 1941 года. Это вполне безобидное письмо. В нем говорится о нехватке витаминных растворов для детей.
— Но какие цели преследовала эта женщина, внедряя моего деда в подобную организацию?
Элоиза положила письма и фотографии в сумочку.
— Трудно сказать. Генеральша Гильермо понимала, что пользуется весьма ограниченной властью. Она жила в Париже и не поддерживала прямых отношений с Виши. Кроме того, она прекрасно знала, что у нее нет никакой возможности помешать немцам увезти часть детей в Германию. Вне всякого сомнения, она стремилась внедрить в лебенсборн знакомого ей человека. Таким образом, она была бы в курсе всего, что происходило в лебенсборне, и не утратила бы полностью контроль над новорожденными.
— Вам было трудно разыскать моего деда?
Элоиза посмотрела мне прямо в глаза.
— Нет. Я нашла его по Интернету. Я узнала, что он заведовал отделением больницы в Шалон-ан-Шампань и был членом Административного совета. Правда, мне пришлось настаивать, но в конце концов в секретариате больницы мне дали номер его телефона. Редкостная удача, что за последние пятьдесят лет он не сменил места жительства. Трудные на первый взгляд вещи порой оказываются сущим пустяком. Знаете, в 1970-е годы журналист Марк Иллер в течение многих месяцев тщетно разыскивал Грегора Эбнера, главного врача лебенсборнов. Он даже думал, что тот умер. Но однажды десятилетний ребенок, сын его друзей, катался на велосипеде. Неожиданно лопнула шина. Мальчик прислонил велосипед к стене дома, и только представьте себе: на почтовом ящике было написано — «Грегор Эбнер». Даже в фильме или романе с трудом веришь в такое совпадение, но это истинная правда.
Взгляд Элоизы внезапно затуманился. Она осознала значение своих слов.
— Простите меня, — с дрожью в голосе сказала она. — Это неуместное сравнение. Я не хотела выводить на первый план…
— Не надо извиняться, — успокоил я ее. — Я прекрасно понимаю, чем занимался мой дед. Что можно думать о человеке, согласившемся работать на нацистов, в организации, которая ставила своей целью «деторождение арийского потомства»?
Казалось, мои слова огорчили Элоизу, но их справедливость не позволила ей возразить.
— Он согласился с вами поговорить?
— Я позвонила ему и объяснила, кто я такая и какую работу пишу. Разумеется, я была готова к тому, что он откажется ворошить прошлое. В самом худшем случае скажет, что он не тот человек, которого я разыскиваю. Но этого не случилось. Конечно, ваш дед был раздосадован, однако согласился встретиться со мной у себя, но только не в тот день, когда его жена будет дома.
— Значит, вы не виделись с Алисой?
— Нет, ваш дед был один. Мы беседовали в его кабинете. Я разговаривала с его женой только по телефону. Это произошло потом, но я не представилась. Это она сообщила мне о его смерти…
Возможно, Алиса ничего не знала ни о лебенсборне, ни о деятельности Абуэло во время войны. Это легко понять, учитывая то, что они встретились через тридцать лет после всех этих событий.
— Что мой дед вам рассказал?
— По правде говоря, не так уж много, хотя его рассказ является единственным свидетельством существования лебенсборнов. Я записала нашу беседу на диктофон и могу дать вам это прослушать, если хотите. Ваш дед подтвердил, что работал в Сернанкуре. Однако, по его словам, он там пробыл всего несколько месяцев и покинул лебенсборн до пожара, что представляется мне маловероятным.
— Почему?
— Учитывая тот факт, что немцам было очень трудно найти квалифицированного врача для подобного заведения, я, несомненно, обнаружила бы намеки на изменения и появление нового члена персонала в переписке нацистов.
— Но какую роль на самом деле играл во всем этом мой дед? И почему он согласился занять эту должность?
— По его словам, он был простым служащим, не имевшим права принимать никаких решений. Ваш дед объяснил мне, что, когда поступил на работу в лебенсборн в начале 1941 года, не знал об истинных целях организации. Он утверждал, что даже не догадывался об отборе пациенток, происходившем при принятии их в клинику. Мсье Коше уверял меня, что по внешним признакам молодые женщины сильно отличались друг от друга и далеко не все они были высокими и светловолосыми, как это написано в исторических книгах.
В моей памяти всплыли кадры из фильма. Теперь я понял, что именно поразило меня с первого взгляда: белокурые волосы и впечатление, будто всех этих женщин собрали вместе в соответствии с определенными критериями.
— Хочу быть с вами откровенной, — продолжала Элоиза. — Я ему не поверила. В таких организациях, как лебенсборны, врачи играли главную роль. В Германии они порой даже занимали должность директора. Значит, ваш дед был в курсе всего, что происходило в лебенсборне. Что касается внешних данных беременных женщин, то тут у меня возникает много сомнений. Например, в Мюнхене после войны люди, жившие по соседству с лебенсборном, показали, что все без исключения молодые женщины, которых они видели, были высокими, белокурыми, нордического типа и совсем не походили на коренных баварок.
Между двух облачков выглянуло солнце и залило площадь ярким светом. Элоиза вытащила из сумки солнцезащитные очки.
— Неужели ваш дед никогда не упоминал в вашем присутствии о лебенсборне, пусть даже намеками?
— Нет. В нашей семье говорили обо всем, но только не о главном. Впрочем, по моему мнению, этим периодом своей жизни мой дед не слишком-то гордился. Такие истории не рассказывают на ночь внукам, чтобы те быстрее уснули.
До встречи с Элоизой я испытывал чувство стыда и непонимание, думая о прошлом Абуэло. Но после разговора с ней во мне начинала закипать глухая ярость. Я вытащил из сумки видеокассету, на которую переписал фильм, найденный в коробке, и положил ее на стол. Молодая женщина с удивлением посмотрела на нее.
— Что это?
— Документ, который я просто обязан вам показать. Документ, который мой дед отложил специально для вас.
Глава 10
Квартира Элоизы располагалась под самой крышей. Две старые комнатушки для прислуги были соединены вместе. Из мансардных окон открывался вид прямо на небо Парижа. Я был удивлен таким количеством книг, расставленных вдоль стен на стеллажах и лежавших высокими и весьма неустойчивыми стопками на полу во всех углах. На широком письменном столе, стоявшем около мансардной стены, я заметил груду документов, которые Элоиза использовала при написании своей диссертации. На папке, лежащей наверху «сталагмита» из книг, я прочитал: «Почта Информационной системы резервирования / Ламорлэ / Сернанкур». Поскольку Элоиза жила в пяти минутах ходьбы от Сорбонны, мы решили пойти к ней, чтобы посмотреть кассету на ее видеомагнитофоне.
С первых же кадров в глазах женщины засверкали огоньки. Должен сказать, что и я, уже видевший этот фильм несколько раз, испытывал странное возбуждение при мысли о том, что делюсь с малознакомым человеком частью интимной истории своей семьи.
Сернанкур… Теперь мне было известно, как называется это величественное здание. Три слога, в которых согласные доминировали над гласными… Порой имя собственное может дать представление о незнакомых вам местах. Но в данном случае я шел от обратного. Магическая власть слов, тот факт, что теперь я могу идентифицировать реальность, представили мне эту самую реальность совершенно в ином свете.
Сначала Элоиза сомневалась.
— Только не надо мне говорить, что это снято в…
— Минутку терпения. Сейчас вы сами все увидите.
Молодые женщины на крыльце. Элоиза застыла от изумления. Я наблюдал за ее реакцией, время от времени поглядывая на экран. Я прекрасно понимал, что эти черно-белые изображения значили для молодой аспирантки, многие месяцы жившей мыслями о лебенсборнах. Я содрогался от ужаса, думая о том, как отбирали этих молодых женщин по росту, цвету волос и глаз, словом, по генеалогическим критериям… Та очевидная ложь, до которой опустился мой дед в разговоре с Элоизой, казалась мне отвратительной. Разве он мог не знать об истинных целях этих заведений?
На экране возникло лицо эсэсовца в маленьких очках. Свастика на заднем плане казалась несмываемым пятном. Элоиза схватила пульт и нажала на кнопку «пауза».
— Глазам своим не верю! — прошептала она.
— Что? Вы знаете человека, который стоит рядом с моим дедом?
Казалось, Элоиза не могла оторваться от экрана.
— Это Грегор Эбнер. Главный врач лебенсборнов, о котором я вам говорила. Член нацистской партии со дня ее создания, специалист в области «расового отбора», близкий друг Гиммлера.
Я был поражен. Я надеялся, что этот эсэсовец занимал какой-нибудь второстепенный пост. Но оказалось, что он был центральным винтиком нацистского колеса.
— То, что этот фильм сохранился, иначе как чудом не назовешь, — сказала Элоиза прерывающимся от волнения голосом. — Фотографии лебенсборнов встречаются крайне редко. Всем руководителям центров было строжайше запрещено фотографировать матерей. Но этот фильм… Я не могу прийти в себя от изумления…
Словно ребенок, нашедший новую игрушку, Элоиза перемотала пленку.
— Можно посмотреть еще раз?
Я махнул рукой.
— У нас не было ни единого доказательства, что эсэсовцы уровня Эбнера приезжали в лебенсборны, расположенные на территории Франции. Эти кадры также неоспоримо доказывают, что в Сернанкур были приняты десятки женщин, отобранные, как и в немецкие клиники, по расовым критериям. Но как у вас оказался этот фильм?
— Я нашел его в вещах моего деда. Он был спрятан среди других бобин. Там же я нашел стикер с вашим именем и телефоном. Разве мой дед не говорил вам о существовании этого фильма?
— Нет. Он уверял меня, что у него не сохранилось никаких документов того периода.
Расследование, которое вела Элоиза, было сродни ножу, бередящему еще не зажившую рану. Я по-прежнему с трудом верил в то, что мой дед принимал активное участие в осуществлении замыслов нацистов, связанных с евгеникой.
— А что стало с этим эсэсовцем, Эбнером? Вы сказали мне, что Марк Иллель нашел его по воле случая.
— Эбнеру предъявили обвинения в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. Однако вопреки ожиданиям в ходе Нюрнбергского процесса он был оправдан. Он умер в 1974 году, в своем доме в Верхней Баварии, по-прежнему уверенный в том, что лебенсборны способствовали спасению немецкой расы.
— Но если Эбнер занимался только этими заведениями, почему его обвинили в совершении преступлений против человечности? Лебенсборны не имели ничего общего с концентрационными лагерями. Разве не существовало более надежного способа вынести ему приговор, например, упомянув о его принадлежности к Schutzstaffеl?
Элоиза оторвалась от экрана.
— Прекрасные клиники, обустроенные в замках, — это всего лишь видимая часть айсберга под названием «система лебенсборнов». Расовая политика, задуманная Гитлером и проводимая Гиммлером, опиралась на постулаты многочисленных теоретиков от евгеники и преследовала двойную цель. С одной стороны, она была призвана поощрять воспроизводство «истинных германцев». Гиммлер мечтал заселить Германию ста двадцатью миллионами «нордических германцев» в течение сорока лет. С другой стороны, эта политика предполагала систематическое уничтожение в Европе всех рас, которых ее творцы считали «низшими»: евреев и цыган, разумеется, а также украинцев, горалов… Словом, всех народов Восточной Европы, среди которых Гиммлер собирался проводить «расовые чистки».
— Но ведь лебенсборны не принимали участия в уничтожении этих народов?
— Именно к такому заключению и пришли судьи на Нюрнбергском процессе. Однако в их распоряжении не было документов, которые сейчас попали к нам в руки. Лебенсборны, безусловно, принимали участие в этой политике уничтожения, путь и косвенно. Нацистский маховик быстро застопорился, когда выяснилось, что младенческая смертность в лебенсборнах была выше средней смертности в Германии. И это несмотря на то, что эти дети были призваны служить воплощением идеала высшей расы, а их матери на протяжении всей беременности жили в привилегированных условиях. Известно, что Эбнер фальсифицировал данные о младенческой смертности, чтобы не вызвать гнев Гиммлера. Однако нацисты по-настоящему запаниковали, когда выяснили, что в лебенсборнах на свет появляются «ненормальные» дети.
— И что они сделали?
— Первое время они пытались затушевать, вернее, скрыть эту реальность. Они тщательно изучали происхождение детей, пытаясь доказать, что их кровь не была такой чистой, как утверждали их матери. Если болезнь была излечимой и отец оказывался высокопоставленным эсэсовцем, врачи пытались спасти новорожденного. Но в большинстве случаев от больных детей избавлялись.
— Что вы хотите этим сказать?
— Детей, страдавших болезнью Дауна, гидроцефалией, различными видами паралича, пороками развития, даже незначительными, отправляли в бывшую тюрьму Гердена, переоборудованную в специализированную психиатрическую клинику. Там проводилось то, что нацисты называли «дезинфекцией». Детей медленно убивали, делая им инъекции морфина или люминала, но при этом утверждали, будто спасают их. Об этой политике уничтожения знало не только высшее руководство лебенсборнов, но и те, кто контролировал их. Если говорить только об Эбнере, он заранее указывал в своих письмах дату смерти новорожденных. Поскольку он не был провидцем, вы сами можете догадаться о причине…
Сведения, которые сообщила мне Элоиза, ошеломили меня. Вероятно, она все поняла, поскольку тут же добавила:
— Все же я почти уверена, что ни один ребенок, родившийся во французских лебенсборнах, не был умерщвлен подобным образом.
— Почему?
— Во-первых, во французских клиниках родилось всего несколько десятков детей. Таким образом, если верить статистике, было очень мало шансов, что кто-то из них появился на свет с серьезными дефектами. Во-вторых, немцам было бы чрезвычайно сложно скрывать исчезновение детей, находящихся под защитой Франции, как утверждало правительство Петена.
Элоиза вынула кассету из магнитофона.
— Вы оставили оригинал в доме деда?
— Нет, я привез его в Париж. Если хотите посмотреть… На экране кадры этого старого фильма выглядят вполне удовлетворительно.
— Не оставите ли вы мне эту кассету на несколько дней, чтобы я смогла более внимательно ее изучить?
— Как я уже говорил, мой дед, насколько я понимаю, собирался передать эту бобину вам. Однако я предпочел бы, чтобы сейчас она находилась у меня. Я не знаю, хочу ли я предавать этот документ огласке. Моя семья ничего не знает. Для нее, в частности для Алисы, это было бы шокирующим откровением.
— Разумеется. Я вас понимаю.
Я вернулся к себе, на улицу Леон-Морис-Норман, испытывая противоречивые чувства. Примерно такое же состояние было у меня три недели назад, когда я получил сообщение Анны.
Вставив ключ в замочную скважину, я сразу же заметил, что язычок не сработал. Дверь была взломана.
На пороге квартиры я с трудом сдержался, чтобы не попятиться: в нос мне ударил затхлый запах, резко контрастировавший со свежим воздухом в коридоре. Но когда я вошел в гостиную, там пахло уже не затхлостью, а разлагавшейся плотью.
Мою квартиру не обчистили, но те, кто нанес мне визит, постарались разгромить ее так, чтобы нагнать на меня как можно больше страха. В этом беспорядке мне было бы трудно определить, украли ли у меня что-нибудь.
Я почти сразу понял, откуда исходило зловоние. В гостиной на диване, между двух подушек, лежал труп моего «вечернего гостя». Коту вспороли брюхо и выпотрошили все его содержимое. Медленно вытекавшая кровь пропитала подушки дивана… Она и сейчас капала на белый ковер, образуя широкое алое пятно, местами приобретшее цвет граната.
Я пристально смотрел на труп. На этот раз я ничего не сделал, чтобы сдержать слезы, потоком лившиеся из глаз. Слезы… Кажется, я сдерживал их более десяти лет.
— Мне так жаль…
И только потом, осматривая квартиру, я заметил, что бобина, которую я утром оставил на проекторе, исчезла.
В спальне над кроватью висела записка. Мне показалось, что буквы были выведены кровью:
«Если вы дорожите теми, кого любите, не ворошите прошлое».
Часть 2 Сернанкур
Что касается иностранок, забеременевших стараниями немецких солдат, наша цель заключается в том, чтобы забрать всех новорожденных детей, а затем сделать так, чтобы в надлежащий момент они попали на территорию рейха.
Генрих ГиммлерГлава 11
Они не были готовы к чему-либо подобному. Ни он, ни она. Так или иначе, они думали, что такое происходит только с другими.
— Кто вы?
Слова вырвались изо рта машинально, в приступе безумной паники. Она даже не закричала. Она просто не осознавала, что эти двое мужчин делают в ее доме.
Было ровно девять часов вечера. Она варила в кухне кофе и еще не заперла на ключ дверь, выходившую в сад за домом. Перемахнуть через изгородь оказалось для них детской забавой. Дом был оснащен сигнализацией, но это не помогло. Двое мужчин решительно вошли. Они были в масках. В руках мужчины держали оружие. У их жертв не было никаких шансов.
— Заткнись! — угрожающе рявкнул голос, в котором чувствовалось лихорадочное возбуждение. — Иди сюда…
Без всяких дальнейших объяснений один из мужчин грубо схватил ее за руку и потащил в гостиную, примыкавшую к кухне. Из-за громко работавшего телевизора их вторжение в дом осталось незамеченным. Муж, сидевший у телевизора, увидел их в самый последний момент. Он даже не успел пошевелиться.
— Черт возьми, что происходит?
— Спокойно, Стефан, — посоветовал первый мужчина в маске, наставляя на него оружие, «беретту» девяносто второго калибра, похожую на все, что угодно, только не на игрушку. — Если не наделаете глупостей, все будет хорошо.
Стефан… Они знали, как его зовут. Эти мужчины ворвались к ним в дом неслучайно. Стефану было невыносимо видеть, как бандит вцепился в руку его жены. К страху, от которого душа ушла в пятки, примешивалось чувство отвращения, омерзения.
— Не трогайте мою жену, — заикаясь, пробормотал он. — Мы сделаем все, что вы потребуете.
— Очень на это надеюсь. Иди сюда. Давай, шевели копытами!
Пока второй мужчина задергивал занавески, чтобы в комнату ненароком не заглянул ни один любопытный прохожий, первый вытащил из кармана наручники. Уверенным жестом он закрепил одно кольцо на ножке стола, а второе защелкнул на запястье Стефана.
— Это на тот случай, если тебе захочется изобразить из себя героя…
— Что вам надо?
— Все, что у тебя есть и чего нет… Драгоценности, банковские карточки, наличные… И главное, тайник и код сейфа.
Стефан попытался скрыть удивление. Как они могли узнать о сейфе?
— Забирайте все. В ящике моего письменного стола должно быть пять тысяч франков наличными. Но у нас нет сейфа.
— Неправильный ответ, Стефан. У типов, которые живут в такой хате, как твоя, и ездят на машине за тридцать лимонов, всегда есть сейф.
Первый удар был сокрушительной силы. Ему показалось, будто его челюсть рассыпалась на тысячи кусков, а половина зубов вылетела. Он упал на колени.
Он точно не знал, когда мужчины вломились в их дом. Вероятно, это произошло не больше четверти часа назад, но время тянулось так медленно. Сначала они принялись складывать в большую спортивную сумку все мелкие вещи, которые потом можно было выгодно продать. Драгоценности жены, его коллекционные часы, наисовременнейший мобильный телефон, подаренный ему коллегами по службе… Стефан не раздумывая назвал пин-код своей банковской карточки. Он особо не рисковал, ведь вклад был застрахован.
Но что касается сейфа, он не хотел уступать. И какой черт дернул его послушаться советов тестя и вложить деньги в золото? Пять слитков по семьдесят тысяч франков каждый…
Видя, что он заупрямился, бандиты затащили Стефана в гараж, чтобы там разговорить его своими методами. Стефан надеялся, что в конце концов они отчаются и поверят в его ложь.
Мужчины подняли его и усадили на стул, стоявший в углу.
— После мягких методов следуют жесткие…
Второй удар пришелся в живот. Это был сильный удар, от которого содрогнулось все тело. Неожиданно Стефан осознал, что никогда прежде не испытывал настоящей физической боли, что не готов к сопротивлению. Он дорожил своим сейфом, но еще больше — своей жизнью. И своей женой. Одному Богу известно, на какие муки они способны ее обречь.
Незнакомец, ударивший его два раза, встал около верстака и принялся рыться в инструментах. После некоторых колебаний он выбрал секатор. Стефан почувствовал, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Он с ужасом смотрел на инструмент, который держал в руках бандит. Это был совершенно новый секатор, который в прошлом году подарила ему жена. Однако Стефан никогда им не пользовался. Он не любил заниматься домашней работой.
— Держи его, — обратился бандит к своему сообщнику.
— Подождите! — взмолился Стефан. — Что вы намерены делать?
— Ты правша или левша?
Он собрался с духом и протянул им левую руку.
— Сначала малютку, — сказал главарь. — Так моя бабушка называла мизинец.
Палец оказался между двумя лезвиями. Стефан попробовал оказать сопротивление, но силы покинули его.
— Сейф!
Эти люди запугивали его. Они не осмелятся совершить столь чудовищный поступок.
— Я вам уже говорил, что в доме нет сейфа! Забирайте все, мы не станем подавать жалобу, ничего никому не скажем.
— Все так говорят, — со смехом сказал второй бандит.
Это была резкая, ни на что не похожая боль. Когда палец отскочил, словно кусок мяса, у Стефана появилось чувство, будто вся его кровь вытекает из основания, где когда-то был мизинец. Это было похоже на ожог, на локальную боль, которая тут же разлилась по всей руке.
Глаза наполнились слезами. Стефан попытался остановить кровотечение, прижав руку к брюкам, на которых тут же появилось красное пятно.
— Хорошо, парни, — пробормотал он, переводя дух. — В спальне, за гардеробом. Код из шести цифр: 62 03 08.
Это была дата рождения его жены, только наоборот. Тип, продавший ему сейф, предупреждал, что никогда не следует использовать даты рождений. Но Стефан был сентиментален и не придал значения словам продавца. Так или иначе, в подобных обстоятельствах это не имело никакого значения.
— Можешь, когда хочешь!
Стефан не сводил глаз с окровавленной руки и поэтому не увидел, как ломик опустился ему на голову, травмировав череп.
Глава 12
Жандармерия Шалон-ан-Шампань
Им по-прежнему не везло. Дополнительные опросы соседей и знакомых жертвы не принесли особых результатов. То ли никто ничего не знал, то ли люди просто не хотели говорить. Новые сравнения отпечатков пальцев и следов ДНК, обнаруженные в доме Николь Браше, тоже не помогли продвинуться в расследовании. Что касается телефонных разговоров, то старая женщина общалась в основном с людьми, уже известными полиции. И только один звонок заслуживал особого внимания: он длился десять минут и был сделан из библиотеки Сорбонны, из Парижа. Полицейские выяснили, что этим телефоном пользуются студенты и преподаватели кафедры истории. Франк Лонэ все же попросил секретаря университета предоставить ему список всех абонентов библиотеки. Бесконечный перечень производил удручающее впечатление: это было равносильно поискам иголки в стогу сена. Звонок вызывал недоумение еще и потому, что у Николь Браше не было знакомых в столице.
Но однажды вечером удача улыбнулась полицейским.
В жилом квартале Эперне был совершен очередной налет. Жертвами стали супруги лет сорока. Прекрасный дом, большая немецкая машина… Грабители забрали все дорогие вещи и содержимое сейфа: несколько сотен тысяч франков в золотых слитках.
Хозяина дома бросили в гараже, предварительно ударив по голове ломиком, найденным на месте. С кляпом во рту, закованная в наручники, его жена просто не могла поднять тревогу. Несмотря на серьезную черепно-мозговую травму, мужчина, придя в сознание, нашел силы добраться до гостиной и позвонить в полицию.
За рекордно короткий срок жандармерия выставила заслоны и мобилизовала патрули в надежде задержать угнанную машину. Грабители не знали, что машина была оснащена противоугонным устройством замедленного действия. Она заглохла через несколько километров, в чистом поле. Налетчики облили машину пеной из огнетушителя, чтобы уничтожить все следы. К счастью, жандармский патруль задержал налетчиков на дороге Шато-Тьери, когда они пытались пешком добраться до ближайшей деревни. У них не было времени, чтобы избавиться от награбленного добра.
Налетчиков доставили в жандармерию Шалон-ан-Шампань. Допрос длился более шести часов. Мужчины не посмели отрицать нападение на супружескую чету и перекладывали друг на друга обвинение в применении насилия. Они отвергли все обвинения в других налетах, совершенных в течение последних восемнадцати месяцев в этом районе. О смерти Николь Браше задержанные вообще ничего не знали и, осыпав жандармов оскорблениями, возмущенно заявили, что те «пытаются пришить им мокруху».
У молодого налетчика не было криминального прошлого, зато второй был хорошо известен полиции. Он три раза был осужден за хранение и распространение наркотиков, групповое изнасилование и грабеж. Ему было тридцать три года. Жил он с матерью, которую буквально терроризировал. Несчастная женщина вздохнула с облегчением, когда рано утром к ней в дом пришли жандармы. Обыск дал блестящие результаты. В комнате закоренелого преступника были найдены предметы, украденные во время трех налетов с применением насилия. Но ничто не указывало на то, что он был причастен к убийству старой женщины.
Франк Лонэ вышел из кабинета своего начальника. Работа в жандармерии кипела. Располагая столь убедительными доказательствами, жандармы были уверены в том, что сумеют упрятать подозреваемых в тюрьму, предъявив им обвинения по четырем делам. Все помнили, что первые три налета посеяли панику в самых спокойных местах района.
Когда Франк вошел в комнату отдыха жандармерии, Эмили Дюамель поняла по его лицу, что ему хочется прыгать от радости. Она закрыла холодильник и откупорила бутылочку «кока-лайт». Послышалось шипение газированного напитка.
— Полагаю, ты веришь этим типам, — сказала она, присаживаясь на скамейку. — Что касается смерти Браше, разумеется…
Франк порылся в холодильнике.
— Теперь мы знаем, что они виновны в четырех налетах. Но я уверен, что они не имеют никакого отношения к смерти старой женщины и что анализ ДНК этих типов ничего не даст. Они никогда не были на ферме Суланжа. Если хочешь, давай заключим пари.
— Прекрасно. На бутерброд с тунцом и яйцом под майонезом после завтрака…
— Согласен.
Эмили отпила содовой с заменителем сахара.
— И все же есть одно обстоятельство, которое может вызывать сомнение, — продолжила Эмили. — Вчера вечером эти негодяи проломили голову жертве предметом, найденным на месте преступления. Это тебе ничего не напоминает?
— В принципе, я с тобой согласен. Способ действия на первый взгляд выглядит одинаково. Но, думаю, речь идет о простом совпадении. Налетчики хотели нейтрализовать хозяина, чтобы выиграть время. Возможно, они также следовали своим садистским инстинктам и утоляли жажду насилия. Я не думаю, что они планировали его убивать. Они не подвергали его жизнь опасности. Что касается Николь Браше, я по-прежнему считаю, что преступник прибег к инсценировке, чтобы скрыть убийство, предумышленное или нет.
Франк замолчал и заглянул в шкаф, висевший над раковиной.
— Что, не осталось ни одного «Болино»? Я умираю от голода.
— «Неаполитанские косички»? Ты вчера все их съел.
— Черт!.. Возвращаясь к нашим налетчикам, скажу, что изменение в их поведении вполне логично. Они вошли во вкус, ведь налеты позволяли им угонять мощные машины и воровать мелкие предметы, которые потом легко можно продать. Постепенно они стали рисковать все больше…
— Сначала они нападали на пенсионеров, — уточнила Эмили.
— А вчера вечером их жертвой стал мужчина в расцвете лет, который мог бы оказать им сопротивление. Они не просто хотели поживиться, они готовы были рисковать. И эта тяга к риску и погубила их. Случай с Николь Браше никак не вписывается в эту схему. В списке потерпевших она занимает пятую позицию. Я с трудом представляю, что она могла быть легкой добычей, на которой бандиты собирались «потренироваться». У нее не было ни денег, ни машины. Игра не стоила свеч. А в итоге преступникам могло светить пожизненное заключение за убийство.
Франк наткнулся на уже начатый пакет с трубочками «Фиголу».
— Проблема заключается в том, — вздохнула Эмили, — что если эти типы действительно непричастны к убийству Браше, то их арест никак нам не поможет.
— Не согласен, — возразил ее коллега. — По крайней мере, их арест позволил нам окончательно отвергнуть версию с налетом, которая привела бы нас в тупик. Теперь мы можем напрочь забыть о краже и сосредоточиться на новых мотивах преступления.
Дверь приоткрылась. В проеме показалась голова дежурного.
— Лонэ, тебя к телефону.
Лейтенант вопросительно посмотрел на дежурного.
— Это срочно? У меня перерыв.
— Похоже, что срочно. Звонит Женевьева Дельво.
Франк и Эмили удивленно уставились друг на друга. В их памяти всплыл один и тот же образ: запуганная женщина, полностью подчиненная мужу-тирану.
Разговор длился целых пять минут. Эмили не сводила глаз со своего коллеги. Франк что-то записывал в блокноте, поощряя собеседницу продолжать.
— Не было бы счастья, да несчастье помогло! — воскликнул Франк, кладя трубку. — Можешь забыть о тунце под майонезом. Сегодня вечером я закажу столик в ресторане отеля «Англетер».
— Ловлю тебя на слове… Их премьер-меню начинается с трехсот франков.
— А теперь слушай меня внимательно. Похоже, к мамаше Дельво вернулась память. В день убийства она видела, что перед домом Браше стояла белая машина. Женщина полагает, что не только сможет узнать машину, но и…
— Что «но и»?
— Но и более того… По ее словам, машина рванула с места и задела ворота. А это означает, что если нам и дальше будет везти, мы обнаружим на машине царапины.
Глава 13
Разгром в моей квартире, кража бобины и гибель «вечернего гостя» стали для меня очень тяжелым испытанием. Гораздо более тяжелым, чем я мог бы предположить еще несколько недель назад, когда думал, что все смогу преодолеть, призвав на помощь невозмутимость, равнодушие и отрешенность, которые всегда были мне свойственны. Смерть моего деда была в порядке вещей, чего нельзя было сказать о новых событиях, взбудораживших мою жизнь.
Я бродил по квартире, словно пьяный, который не в состоянии найти дорогу в спальню. Не знаю, что было для меня тяжелее: ощущение, что кто-то вторгся в мою личную жизнь, смерть животного, к которому я привязался, исчезновение этого проклятого фильма, который, несмотря на печальную действительность, впервые представшую моему взору, был для меня самой прочной, пусть и загадочной, связью с Абуэло.
Я не стал заявлять в полицию. И вовсе не потому, что испугался угроз, написанных на стене моей спальни. Нет, истинной причиной послужил стыд, снедавший меня с того самого момента, когда я узнал об истинном характере деятельности почтенного Анри Коше. Я не мог осмыслить то, что произошло со мной, не мог представить, как буду рассказывать полицейским о своей жизни, выкладывать им почти полувековую историю своей семьи. Я просто не мог поведать им о Гиммлере, об Эбнере, о расовом отборе, о евгенике…
Как только я немного собрался с мыслями, я попытался спокойно и разумно проанализировать сложившуюся ситуацию. Кто мог меня так сильно ненавидеть? Разумеется, я не имел ни малейшего представления о том, кто способен опуститься до такой жестокости, выпотрошить моего кота и оставить для меня зловещее предупреждение. Какую цель преследовал этот человек? Хотел ли он просто украсть бобину или же намеревался заставить меня прекратить расследование? И должен ли я принимать эти угрозы всерьез?
Около шестидесяти лет прошло с тех пор, как в Сернанкуре произошли все эти события. Список еще живущих лиц, которые могли бы быть к ним причастны, наверняка был очень коротким. Абуэло дожил до преклонного возраста, ему было девяносто лет. Я с трудом мог представить себе, что его сверстник, старик, решил пойти на кражу, жертвой которой я стал. Но нельзя было исключать подручных. Если только с фильмом и этим лебенсборном не были связаны другие обстоятельства, о которых я пока не знал…
Вскоре, когда в моем мозгу закружился рой подозрений, я отчетливо увидел лицо Долабеллы. Я вспомнил тот момент, когда три дня назад застал его роющимся — можно даже сказать, проводящим обыск — в ящиках письменного стола моего деда. Что он искал? Хотел ли Долабелла заполучить бобину, которую у меня украли? Возраст этого антиквара оставался для меня тайной. На первый взгляд ему было лет семьдесят. Но, возможно, он был старше и, как многие люди, подверженные сильным страстям, продолжал заниматься любимым делом, несмотря на возраст. Был ли он во время войны подростком? Знакомя меня с ним, Алиса сказала, что Долабелла «старинный друг» Абуэло. Следовало ли из этого сделать вывод, что он знал моего деда уже тогда?
С другой стороны, сколько людей могло знать о том, что я нашел эту девяти с половиной миллиметровую пленку среди множества фильмов, составлявших коллекцию моего деда? Следили ли за мной? Шпионили ли за мной, когда я встречался с Элоизой? Маловероятно. Однако многим было известно о расследовании, которое вела молодая аспирантка университета. Она много раз приезжала в деревню, расспрашивала местных жителей. Кое-кто из них наверняка был связан с нацистским родильным домом.
Теряясь в догадках, я почувствовал себя бесконечно одиноким. Мне не с кем было поделиться своими переживаниями. Я уже говорил, что угрозы никак не повлияли на мое желание не обращаться в полицию, но я, несомненно, преувеличивал, поскольку вначале испугался. Человек, способный убить кота столь варварским способом, был, вне всякого сомнения, готов расправиться со всеми теми, кого я любил.
Да, я не стал обращаться за помощью к полиции, однако почувствовал желание исповедаться своей бывшей жене, Лоранс. Но не для того чтобы поставить ее в известность по поводу сделанных мной открытий, а чтобы она была настороже. Моя бывшая жена жила в тысяче пятистах километрах от Парижа, и поэтому я решил, что такое расстояние убережет их — Лоранс и Виктора — от любой опасности.
И все же я не удержался и снял телефонную трубку. По голосу Лоранс я понял, что она нисколько не удивилась моему звонку. Я всегда был для нее открытой книгой. Та легкость, с которой она вычисляла «мою аффективную заторможенность», как она говорила, очень быстро притупила наши чувства.
— Я должен был услышать твой голос, — оправдывался я.
Едва я произнес эти слова, как понял, насколько странными они казались.
— Нет проблем. Как ты себя чувствуешь после смерти деда?
— Могло быть и хуже, — солгал я.
— Но и лучше тоже? Что произошло, Орельен?
Aperto libro, как я и говорил.
Не вдаваясь, разумеется, в подробности, я сообщил Лоранс о том, что нашел в вещах Абуэло документы, которые доказывали: он не всегда вел безупречный образ жизни. Лоранс хватило такта не выяснять, что именно это могло означать.
— Мой отец всегда говорил: «Каждый человек — это настоящее тайное общество».
В этом была вся Лоранс. Она могла привести цитаты на все случаи жизни, чтобы вас поддержать. Точно так же она могла процитировать мне Расина и ввернуть в разговор фразу вроде: «Нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным».
— Вполне естественно, что тебе сейчас плохо. Ты восторгался дедом. Вы, твоя сестра и ты, сделали его своим кумиром. Долгое время Абуэло заменял вам отца. Его смерть вернула вас к жестокой действительности.
— Виктор дома? Я хотел бы с ним поговорить.
— Он вышел вместе с Паоло. Паоло учит его играть в теннис.
Эти слова сгустили черные тучи над моей головой. Я жил вдали от сына, а тип, с которым я сталкивался всего два или три раза, воспитывал его вместо меня.
— Ты сможешь перезвонить мне, когда он вернется?
— Договорились.
— Береги себя, и его тоже.
— Не беспокойся.
— Я говорю серьезно, Лоранс. Жизнь может так резко измениться…
Но мой мелодраматический тон не произвел на нее должного впечатления. Лоранс уже давно привыкла к моему неискоренимому пессимизму. В этот самый момент я хотел ей сказать, что она была единственной женщиной, которую я действительно любил и которую, несомненно, люблю до сих пор, но мой душевный порыв сдержали неожиданно проснувшиеся трезвость и рассудительность. Подобная выходка лишь усложнила бы мне жизнь, что было бы сейчас весьма некстати.
Что касается Элоизы, то мне казалось очевидным, что я просто обязан ввести ее в курс дела. Только она одна, не считая меня, знала о тайной жизни моего деда. Она расследовала работу лебенсборнов, что до нее не делал никто… Она тоже «ворошила прошлое». Я уже представлял, как она будет разочарована, узнав о похищении оригинала фильма. К счастью, оставалась копия, которую я ей показывал.
В течение дня мне не удавалось с ней связаться, и я решил навести в квартире порядок. Я понимал, что мне нужно как можно скорее сделать уборку. В два больших мусорных мешка я засунул чехол и подушки, пропитавшиеся кровью, а в третий положил труп кота, что стало для меня нелегким испытанием, вызвавшим тошноту. Затем я вычистил испачканный ковер.
Мне пришлось держать окна открытыми в течение двух дней, чтобы выветрился едкий запах, которым, казалось, пропитались все уголки моей квартиры.
Около шести часов вечера я дозвонился до Элоизы. Я поведал ей обо всех своих горестях, не упустив ни одной детали. Это принесло мне колоссальное облегчение. Мой рассказ взволновал ее гораздо сильнее, чем я мог предположить.
— По правде говоря, я не думаю, что вам грозит какая-либо опасность, — попытался я ее успокоить. — Но все же лучше соблюдать осторожность.
Тогда я еще не мог понять истинной причины ее тревоги.
— Я беспокоюсь не о себе, Орельен. Послушайте… Нам необходимо как можно скорее увидеться, сегодня вечером, если вы свободны. Утром я кое о чем вам не сказала. Я просто не придала этому событию большого значения, но теперь полагаю, что вы должны отнестись к этим угрозам со всей серьезностью.
Глава 14
Элоиза вдохнула аромат пойяка, а затем поднесла бокал к губам.
— Превосходно. Прекрасная консистенция, но вино немного вязкое.
Поскольку я не разбирался в винах, о чем сразу же ей сказал, я подумал, уж не смеется ли она надо мной. Элоиза заметила мой смущенный вид и объяснила, улыбнувшись:
— Мой отец — винодел. У него есть виноградники в Маконнэ. Вот почему я знаю толк в винах.
Пойяк помог Элоизе расслабиться. С тех пор как мы пришли в ресторан, она казалась такой же напряженной, как и два часа назад, когда мы разговаривали по телефону. Второй раз за день мы встречались за столиком. Хотя я почти ничего не знал об этой молодой женщине и несмотря на странные обстоятельства, при которых мы познакомились, мне казалось, что сейчас мы пришли на настоящее свидание.
Глядя на сидевшую передо мной Элоизу, которая не спеша смаковала вино, я вдруг осознал, что после разрыва с Лоранс никогда не пытался завязать любовные отношения. Не без стыда хочу добавить, что все это время я считал, будто все мои свидания могли завершиться лишь сексом. Время от времени я вступал в физическую близость с женщинами, но никогда не привязывался к ним душой.
На выходные я приглашал женщин в дорогие рестораны или шикарные отели, тратя при этом уйму денег. Я всегда жил не по средствам, во всяком случае, не на зарплату преподавателя. Мой отец сделал блестящую карьеру адвоката, специализировавшегося по вопросам недвижимости. Эта профессия поглощала все его время, нисколько не увлекая. Он оставил мне достаточно средств к существованию, которые я постепенно проматывал, испытывая при этом не наслаждение, а смутное чувство вины, несомненно связанное с тем, как он погиб.
Неужели склонность к мотовству передалась мне по наследству? В начале повествования я говорил о переселении душ. Порой мне казалось, что я был реинкарнацией своего прадеда, Жан-Шарля Коше, который мало-помалу растратил отцовское наследство.
Элоиза заметила, что я задумался, и с любопытством посмотрела на меня. Я повертел бокал в руках, чтобы вновь обрести уверенность в себе.
— А что находится в конверте, лежащем рядом с вами?
— Причина, по которой я захотела встретиться с вами сегодня вечером.
Ее объяснение напомнило мне о сугубо практической цели нашего свидания.
— Можно взглянуть?
— Через несколько минут, если не возражаете. Как я объяснила вам по телефону, есть одно обстоятельство, о котором я умолчала, но которое в данный момент представляется мне чрезвычайно важным.
— В связи с кражей и исчезновением фильма?
— Возможно. Не знаю.
— Я слушаю вас.
— Изучая переписку лебенсборнов с центром, находившимся в Мюнхене, я наткнулась на письмо, датированное летом 1941 года. Его написала некая Schwester.
— Сестра? — перевел я.
— В немецком языке слово Schwester имеет несколько значений: «сестра» и «монахиня», как во французском, но также и «медицинская сестра». Нацисты использовали многозначность этого слова, обозначая им молодых медсестер из лебенсборнов, которые могли случайно забеременеть и подарить ребенка фюреру.
— И о чем говорится в этом письме?
— Эту Schwester, немку разумеется, звали Ингрид Кирхберг. Судя по всему, она оказывала Эбнеру услуги еще до войны, а потом стала главной медсестрой в лебенсборне Сернанкура. В этом письме она жалуется на поведение медсестры, француженки, которая, по ее словам, плохо относится к иностранным пациенткам, особенно к немкам, и порой даже оскорбляет их. В письмах эту женщину называют просто «медсестра Николь». К счастью для меня, в одном из писем было указано, что она служила няней в семье Ларошей, владевших поместьем, до того как немцы реквизировали его в 1940 году. Хотя эту женщину и называли медсестрой, возможно, у нее не было соответствующей подготовки.
— Все та же политика вербовки персонала из местных жителей?
— Да. Когда лебенсборны располагались в замках, на виллах или в частных клиниках, у немцев не было проблем с квалифицированным персоналом. К тому же местное население относилось к ним не столь враждебно. Я говорила с внуком владельца поместья. Теперь семейная собственность принадлежит ему. Его дед и отец умерли.
— И разговорить его вам помогли ваши познания в виноделии?
— Отчасти, — улыбнулась Элоиза. — Ему лет сорок, и он, разумеется, не знает никакой няни, которая могла бы работать в замке в те годы. Однако он обещал расспросить прежних работников и самых старых членов своей семьи.
— И?..
— Через два дня он мне перезвонил и назвал имя: Николь Браше. Согласно полученным им сведениям, в начале войны, когда она оставила службу у Ларошей, ей было около двадцати лет.
— Около двадцати лет? — переспросил я. — Значит, вполне вероятно, что эта женщина жива и сейчас.
— Мне это тоже пришло в голову. В телефонном справочнике я нашла семь Николь Браше, одна из них живет в Шампань — Арденнах.
— Это она?
— Да. Сами понимаете, я была вне себя от радости. Если считать вашего деда, я нашла двух человек, работавших во французском лебенсборне, людей, непосредственно соприкасавшихся с одной из очень плохо изученных программ Третьего рейха.
Глаза Элоизы заблестели. Те же огоньки я видел, когда показывал ей фильм Абуэло. Она замолчала, переводя дух.
— Я позвонила ей. По голосу я поняла, что имею дело с женщиной преклонного возраста. Я была уверена, что речь идет о той самой медсестре. Я вкратце рассказала ей о своей работе и спросила, согласится ли она поведать мне о лебенсборне Сернанкура, в котором она работала во время войны.
— И что она вам ответила?
— Она немного… замялась, но тем не менее не бросила трубку. Эта женщина сказала, что это дела давно минувших дней и она смутно помнит о них. И что мне не надо ворошить прошлое.
— Что?! — воскликнул я. — Она так и сказала: «не надо ворошить прошлое»?
Элоиза, несомненно, ждала такой реакции.
— Думаю, именно так она и сказала. Во всяком случае, она произнесла слова, по смыслу близко напоминающее те, что были написаны на стене вашей квартиры.
Я не мог прийти в себя от изумления. Я пытался успокоиться, пока официант расставлял на нашем столике закуски: профитроли из козьего сыра и лосося. Я обожал их, но сейчас внезапно потерял аппетит.
— Где живет эта женщина? Мне необходимо с ней поговорить.
— Не торопитесь, Орельен. Дайте мне закончить. Вы сами поймете, что тут не все так просто.
Я налил Элоизе вина, побуждая ее продолжить рассказ.
— В конце нашего разговора она смягчилась. Мне даже показалось, что, несмотря на недоверчивый тон, она на самом деле чувствовала облегчение, слушая меня.
— Облегчение?
— Да. Полагаю, это самое подходящее слово. Во время поисков я часто замечала, что те, кто жил в тот период — каких бы взглядов они ни придерживались, — намного легче доверялись незнакомцам, особенно в тех случаях, когда не могли рассказать об этой части своей жизни близким.
— И о чем она рассказала?
— Она сказала, что в настоящий момент не чувствует себя готовой к разговору на эту тему, что ей надо хорошенько подумать.
— Полагаю, вы стали настаивать?
— Нет. Я подумала, что будет лучше, если я дам ей возможность самой разобраться в своих воспоминаниях. Она хранила их более пятидесяти лет, и я могла себе позволить подождать еще некоторое время.
Элоиза съела немного капусты.
— Но я, к сожалению, ошиблась…
— Она вам не перезвонила?
— Нет. Я ждала недели две, а потом вновь набрала номер ее телефона. Никто не ответил. Несколько дней подряд я вновь и вновь пыталась связаться с ней. Напрасно.
— Она избегала вас?
— Сначала я так и подумала. В конце марта я решила отправиться на выходные в Марну, чтобы поговорить с Николь при личной встрече. Приехав в Суланж, я увидела, что на воротах висит замок, а сам дом заперт.
Не знаю почему, но у меня появилось чувство, что продолжение мне не понравится.
— Я позвонила в дом ее ближайших соседей. Если можно так выразиться, моя поездка оказалась не напрасной.
Элоиза замолчала и взяла в руки конверт, так долго не дававший мне покоя. Из конверта она вынула газетную вырезку.
— Читайте.
Это была статья из «Юнион» от 14 марта 1999 года.
«Во время ограбления была убита восьмидесятилетняя женщина».
Я почти сразу понял, что жертвой стала Николь Браше, и погрузился в чтение статьи. Я узнал о жутких обстоятельствах смерти старой женщины, которую привязали к стулу, избили, а затем оставили умирать в кладовке ее собственного дома в Суланже. Жандармы воздерживались от комментариев, но, судя по просочившейся информации, дом был разгромлен. Наиболее вероятным мотивом считалось ограбление.
— Эту статью мне дали соседи Николь Браше. Они вырезали ее из газеты. Сначала я, разумеется, подумала о стечении обстоятельств. Я ни на мгновение не могла представить, что между смертью старой женщины и ее военным прошлым может существовать какая-либо связь. В газете писали об ограблении. Но когда вы мне сегодня позвонили и рассказали о надписи на стене вашей спальни, я… растерялась.
Я был ошеломлен. К длинному списку вопросов, которые я сам себе задавал несколько часов назад, Элоиза добавила еще один, сбивающий с толку трагический вопрос.
— Вы полагаете, что эту женщину могли убить, чтобы помешать ей быть с вами откровенной?
— Я вовсе не это хотела сказать, — ответила Элоиза. — Я начала собирать сведения и узнала, что за последнее время в том краю произошло несколько аналогичных ограблений. Те, кто убил старую медсестру, работавшую в лебенсборне, не имеют, несомненно, никакого отношения к тем грабителям, которые проникли в вашу квартиру.
— Но, похоже, вы не верите в совпадения…
— Не знаю, что и думать. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что кто-то знает о моем расследовании и о ваших открытиях. И этот кто-то готов на все, чтобы помешать нам узнать как можно больше о лебенсборне Сернанкура.
Официант убрал с нашего столика грязную посуду. Я пытался оценить вероятность того, насколько эти события могли быть связаны друг с другом. У меня не было никакого желания испытать приступ паранойи, но необычный визит, который нанесли мне незваные гости, заставлял меня рассматривать все варианты.
— Что вы предлагаете, Орельен?
— Думаю, нам нужно связаться с полицией и рассказать им все, о чем нам известно…
— Но?..
— Но если судить по этой статье, все верят в ограбление, закончившееся убийством. Вы представляете себе, как мы придем в полицию и начнем рассказывать им в подробностях все, что нам известно о лебенсборнах? Да полицейские поднимут нас на смех. К тому же я, вероятно, немного поторопился.
— Что вы имеете в виду?
— Я навел порядок в своей квартире. Словом, я уничтожил все следы взлома. Мне только не удалось полностью стереть надпись с угрозами над моей кроватью.
Элоиза нахмурилась.
— Действительно, это плохо.
— Вы тоже так думаете?
— Полицейские не поймут, почему вы поспешно уничтожили следы ограбления, прежде чем связались с ними.
— Тем хуже. Что сделано, то сделано.
— А что с этим Долабеллой, о котором вы мне говорили?
— Я попытаюсь разузнать о нем, во всяком случае, прояснить, что связывало его с моим дедом. А пока вам все же надо соблюдать осторожность. Полагаю, на данном этапе вы не будете менять тему своей диссертации, неожиданно заинтересовавшись жизнью крестьян Марны в конце XIX века.
Элоиза улыбнулась.
— Я в раздумьях. Только вот, к сожалению, мне кажется, что над этой темой уже кто-то работает.
— Еще вина?
— Самую малость. А что вы собираетесь делать?
— Полагаю, принимая во внимание все эти события, мне не стоит торопиться. У меня больше нет оригинала фильма, моего кота убили, а квартиру разгромили. Я должен подумать о себе и забыть про эти последние недели.
— Понимаю. На всякий случай я принесла вам вот это.
Из сумочки, в которой уже лежал конверт с газетной вырезкой, Элоиза вынула аудиокассету.
— Новый сюрприз?
— Это записи моих бесед с вашим дедом. Вы должны их прослушать. Он говорит, правда по-своему, о своем прошлом, о работе в лебенсборне.
Я не мог не обратить внимания на слова «правда по-своему», которые доказывали, что его свидетельство должно было быть ключевым.
— Я не уверен, что готов выслушать все это, — признался я. — Вы воспринимаете эту историю со стороны. Я же сейчас на это не способен.
— Время терпит. Все же возьмите кассету, это копия. Я уверена, что в надлежащий момент вы ее прослушаете.
Глава 15
«Суланж, 9 марта
Дорогой Анри!
За три дня — встреча и письмо. Это больше, чем мы могли себе позволить за пятнадцать лет. Знай, что, несмотря на обстоятельства, которые помогли нам «найти друг друга», я была рада увидеть тебя и провести немного времени в твоем обществе. Сейчас я могу тебе признаться (мы дожили до такого возраста, когда скрытничать глупо), что каждый божий день я вспоминала о тебе и о твоем несчастном сыне. И я полагаю, что жизнь обошлась с тобой жестоко, очень жестоко. Но, возможно, такова цена за нашу ложь.
Я много думала с того самого дня, когда мне позвонила эта молодая аспирантка, но еще больше после нашего последнего разговора. Я знаю о твоих сомнениях, знаю, что ты предпочел бы оставить прошлое в покое, чтобы уберечь свою семью от новых тяжелых испытаний, которых она не заслуживает. Возможно, ты сочтешь меня суеверной, но я постоянно твержу себе, что ничто не происходит случайно. В этом году мне исполнилось восемьдесят лет, и хотя у меня нет особых проблем со здоровьем, я все же чувствую, что конец мой близок. Думаю, настало время рассказать о том, чем мы занимались в те годы. Я не хочу уносить эту правду с собой в могилу.
Прошло почти шестьдесят лет, но мне кажется, что все это было вчера. Знаешь, я иногда забываю, где оставила ключи или какой сейчас месяц, однако прекрасно помню каждое мгновение, проведенное нами в этом родильном доме. Я никогда не забуду маленького Вальтера, юную Софи и, разумеется, нашу дорогую, нежную Рашель.
Анри, мы слишком долго лгали. В жизни всегда настает момент, когда нужно набраться мужества и разобраться в своем прошлом. Я приняла решение. Я все расскажу этой молодой женщине, настолько честно, насколько смогу, обо всем том, что нам довелось пережить, в надежде, что люди смогут понять нас. А самые близкие — простить.
Всего тебе доброго, Анри.
Да хранит тебя Господь.
Николь».
Глава 16
Париж, январь 1941 года
Непринужденно стоя в витрине, Рашель Вейл поправила на манекене манжет пышного рукава и застегнула овальные пуговицы на блузке. Ее подруга Роза, стоявшая по ту сторону стекла на тротуаре, выглядела довольно забавно. Спасаясь от холода, она до самого носа закуталась в манто. Время от времени Роза кивала головой, выражая тем самым одобрение.
Снег перестал идти рано утром, но улицы Парижа были покрыты снежным слоем высотой в пятнадцать сантиметров. Из-за этого плотного мокрого снега стало невозможно ездить на велосипеде или мотоцикле. А машины, и так редко появлявшиеся на шоссе из-за нехватки топлива и ужесточения правил дорожного движения, словно совсем исчезли.
Дверь открылась, и в магазин ворвался порыв ледяного ветра.
— Я устала от этого холода! — воскликнула Роза. — А ведь говорили, что прошлая зима выдалась необычайно морозной. Что же тогда можно сказать о нынешней зиме?
— Похоже, в Сен-Клу уже катаются на лыжах! — заметила Рашель, спускаясь с невысокого помоста, на котором стояли манекены.
— Знаю. Вчера мама видела, как к Девятой линии метро, в сторону станции «Пон-де-Севр», шли люди с лыжами в руках.
— Ну как? — спросила Рашель, показывая подбородком на витрину.
— Великолепно! Я уверена, что эта «новая» коллекция будет иметь успех.
Рашель улыбнулась, услышав ироничное замечание подруги. Модели, выставленные в витрине, были разработаны зимой 1939 года. Их, конечно, переделали и подправили, чтобы подарить им вторую молодость, но все равно они не производили должного впечатления. После сокрушительного поражения в июне 1940 года импорт во Францию прекратился. В Париж поступало лишь небольшое количество тканей с Севера. Один за другим закрывались Дома моды. Шанель закрыла свой Дом сразу после объявления войны, Дом Вионне находился в стадии ликвидации… Поговаривали даже, что Эльза Скиапарелли перебралась в Нью-Йорк. Скромный Дом Эрнеста Буржуа, где работала Рашель, влачил жалкое существование. Хозяину пришлось уволить бо́льшую часть работников швейных мастерских.
— Уже одиннадцать часов, — делано наивным тоном заметила Роза. — А раз так, сомневаюсь, что он сегодня появится.
— О ком ты говоришь?
— А ты как думаешь? О Жозефе, конечно! Только посмей мне сказать, что не ждешь его. Я видела, как ты раз десять смотрела на часы.
— Что за глупости? — возмутилась Рашель, густо покраснев. — Ты сошла с ума.
— Ой! Не строй из себя святую невинность.
Схватив Рашель за руку, Роза сделала несколько танцевальных па и запела, подражая Эдит Пиаф:
Его выбрало мое сердце… Ему не нужно говорить, Ему лишь нужно на меня смотреть, И я в его власти, Я не могу ничего рядом с ним…
— Черт возьми, — произнес Жозеф, стряхивая с кепки снег. — Это когда-нибудь закончится?
Полчаса назад на город вновь стали падать густые снежные хлопья. Молодой посыльный попал в метель и теперь с облегчением вбежал в швейную мастерскую через служебный вход.
— Сегодня нет ни одной доставки, — сообщил он, развязывая шарф. — А я потратил три часа, чтобы сюда добраться.
— Вы не испугались метели! — с иронией заметила Роза. — Мы счастливы видеть вас.
— Я хотел предупредить вас, поскольку мсье Буржуа очень рассчитывал на эту партию шляп.
— О! В такие-то времена! Три клиентки за два дня. Но это хорошо, что вы пришли. Иначе Рашель расстроилась бы.
— Роза! — воскликнула девушка гораздо громче, чем хотела бы.
Жозеф не смог сдержать улыбку. От холода его лицо раскраснелось. Взлохмаченные волосы делали его похожим скорее на мальчишку, чем на двадцатичетырехлетнего мужчину.
— Ладно. Я оставляю вас, — с заговорщическим видом прошептала Роза. — Если какой-нибудь нелепой старухе вдруг вздумается войти…
Рашель, смутившись, опустила глаза и скрестила руки на груди, пытаясь вернуть себе самообладание.
— Сена почти замерзла, — нарушил молчание Жозеф. — Даже баржи встали. Рабочих и безработных мобилизовали, чтобы они с помощью подручных средств расчистили улицы. Но через час все можно начинать сначала.
— Мне стыдно за то, что сказала Роза…
— О, не обращайте внимания, — ответил Жозеф, махнув рукой. — Она всегда была острой на язык. Кстати, пока не забыл, я принес вашу книгу…
Жозеф вынул из сумки «Грозовой перевал» Эмили Бронте — роман, который Рашель дала ему две недели назад.
— Вы прочитали книгу? — спросила Рашель с горящим взором.
— Я пытался, — пробормотал Жозеф, — но дело не пошло. Я вас предупреждал, что не сумею ее одолеть. Эта история слишком сложная для меня.
По лицу Рашель было понятно, что она немного разочарована.
— Понимаю. Возможно, я смогу предложить вам другие книги, более короткие, чем эта.
— Возможно, — откликнулся Жозеф без особого воодушевления. — Вы обдумали то, о чем мы с вами говорили?
Рашель вопросительно посмотрела на Жозефа, хотя прекрасно поняла, на что он намекает.
— После работы мы могли бы пойти в кафе.
— Не знаю. Я никогда не хожу в кафе.
— Раз так, это будет великой премьерой! — воскликнул он, смеясь. — Можно сходить и в кино. В «Гомоне» показывают «Господина Эктора» с Фернанделем. Это история графа, выдававшего себя за камердинера. Похоже, смешной фильм. Конечно, это не так романтично, как ваша история, происходящая на песчаных равнинах, но…
Рашель поджала губы. Каждый раз, когда он приглашал ее пойти куда-нибудь вечером, она старалась сменить тему разговора. А ведь она сгорала от желания согласиться. Жозеф казался ей порядочным молодым человеком, к тому же они знали друг друга уже полгода, с тех пор как Рашель поступила продавщицей в Дом мсье Буржуа. Однако существовало одно обстоятельство, сдерживающее ее: отец. Он следил за каждым ее шагом, и не могло быть и речи о том, чтобы она вернулась домой на десять минут позже. Поэтому Рашель никуда не ходила и все свободное время читала, закрывшись в своей комнате. Надо было придумать какую-нибудь отговорку, но Рашель ненавидела ложь. Сказать, что она идет в кино с Розой или подружкой по коллежу…
— Хорошо, — произнесла наконец Рашель, прогоняя образ отца, стоявший перед ее мысленным взором.
— Правда?
— Я согласна, пойдем в кино. Хоть по мне этого и не скажешь, но я обожаю смешные истории.
Глава 17
Я часто мысленно возвращался к автомобильной аварии, в которой погиб мой отец. То я видел эту сцену со стороны, как в кино, то занимал место отца за рулем, вживаясь в его образ. Декорации порой менялись, но исход всегда был одинаковым.
Вот уже много лет как я, возвращаясь из Арвильера, сворачивал с автострады и выезжал на национальную дорогу, чтобы избежать крутого поворота, где погиб мой отец. После аварии эксперты пришли к заключению, что он ехал со скоростью, превышающей сто тридцать километров в час, вместо положенных девяносто. Отец всегда ездил быстро и слепо верил в возможности своего ультрасовременного «мерседеса». Эксперты не нашли никаких неисправностей, однако все знали, что на этом повороте уже произошло несколько аварий со смертельным исходом. Можно было утешать себя этим и винить во всем злой рок…
Когда я думал об отце, в моей памяти всплывали скорее негативные образы: моменты, когда он был слишком занят своей работой, чтобы обращать на меня внимание, неисполненные обещания, небольшие размолвки, которые случались, когда я превратился в подростка. Но если быть объективным, такие моменты случались довольно редко. Моего отца можно было назвать равнодушным, но он не был суров с нами. Было ли это для меня возможностью думать о чем-то другом, избегать воспоминаний о счастливых минутах, чтобы не испытывать сожаления? С Анной все было наоборот. В те редкие мгновения, когда моя сестра упоминала об отце, она всегда с нежностью говорила: «А ты помнишь, как из-за папы мы прогуляли школу, потому что он захотел сводить нас в цирк?» или «Ты не забыл, как папа катал нас на вертолете накануне Рождества?» Обычно я кивал головой в знак согласия, уверенный, что мне особо нечего возразить Анне и незачем нарушать идиллию, возникавшую в ее воображении.
Недели, последовавшие за смертью моего деда, и череда событий, сопутствующих ей, словно состарили меня. Не стоит ждать, что я сейчас составлю объективный список симптомов этого преждевременного старения. Это было смутное, но настойчивое ощущение, тем более неуловимое, что никогда прежде я не переживал подобных внутренних метаморфоз, если, конечно, не принимать в расчет то удивительное преобразование, которое я познал после смерти отца. Однако сейчас со мной происходили новые метаморфозы, поскольку я не чувствовал, что становлюсь новым человеком. Я оставался прежним, просто был более усталым, более подавленным, если не сказать впавшим в депрессию.
Неожиданно для самого себя я велел своим ученикам выучить этот прекрасный отрывок из романа Мишеля Лейриса «Возраст мужчины», который начинается следующими словами:
«Мне только что исполнилось тридцать четыре года, я прожил половину своей жизни».
Я часто спрашивал себя, не обращался ли Лейрис к статистике, чтобы определить возраст «равновесия», или же он опирался на глубоко личное знание собственного организма. Мне было тридцать два года, когда я начал спускаться с вершины.
Расставшись в тот вечер с Элоизой после ужина, я впал в мрачное настроение. Было ли это следствием кражи вкупе с тяжелыми думами о мерзких проектах нацистов, в которых Абуэло принимал участие? Или было связано с тем обстоятельством, что впервые за долгие годы по моей мужской гордости нанесли сильный удар и я с грустью расставался с женщиной, с которой провел несколько часов за деловым, как мне казалось, ужином?
Моя хандра приобрела неожиданный оттенок. Мне вдруг захотелось безмятежно наслаждаться жизнью, подобно людям, которые чудесным образом выжили после аварии и охвачены неистовством carpe diem, вызывающим головокружение.
Я решил буквально следовать призыву, украшавшему стену моей спальни, словно фронтиспис: не ворошить прошлое, оставить его далеко позади, убедить себя в том, что все происходившее в том поместье во время оккупации меня не касается, что я не несу ответственности за ошибки членов своей семьи.
Пасхальные каникулы подходили к концу. У меня накопилось множество работы, из-за которой я должен был бы остаться дома. И все же я отложил на потом подготовку к последнему предварительному экзамену, перестал думать о книге, для которой должен был кое-что написать, и решил уехать подальше от Парижа.
Этот отъезд я считал настолько срочным, что ночь после ужина с Элоизой показалась мне настоящей пыткой. Я долго не мог заснуть, задавая себе бесконечные вопросы, на которые у меня не было ответов. Наконец около четырех часов утра меня сморил сон, но только для того чтобы я погрузился в один из самых жутких кошмаров в своей жизни.
Я оказался в бывшей тюрьме, переоборудованной немцами в психиатрическую больницу, куда из лебенсборнов отправляли детей с различными дефектами. В допотопном зале, где проводились вскрытия, я увидел врача, похожего на Эбнера. На столе лежали тела новорожденных младенцев и маленьких детей, не старше двух лет. Рядом были разложены предметы, похожие скорее на орудия пыток, чем на инструменты судебно-медицинского эксперта.
— Что вы делаете? — с ужасом спросил я.
— Не будьте таким наивным, — ответил Эбнер, поправляя круглые очки. — Знайте, мы в совершенстве постигли науку о расах. И сейчас мы обязаны провести отбор. Не забывайте, о чем говорил Гиммлер: скоро нас, чистокровных нордических германцев, будет сто двадцать миллионов.
Эбнер схватил скальпель и занес его над телом одного из детей.
— Не трогайте его! — завопил я. — Вы и так причинили им много зла!
— Во имя науки, мсье Коше! Мы получили приказ вскрывать и анализировать тела, чтобы установить причину серьезных наследственных и врожденных болезней.
Дальнейшее я помню смутно. Я попытался покинуть тюрьму через лабиринт бесконечных коридоров и лестниц, до тех пор пока пробуждение не вырвало меня из этого ада.
В то же утро я набрал номер Жизель, который знал наизусть. Я часто ей звонил, когда не хотел обедать один в ресторане или когда меня не радовала перспектива провести выходные в унылом одиночестве.
Жизель работала на одного издателя с правого берега, который выпускал множество бестселлеров. Она, конечно, училась, но образованием и внутренней культурой не блистала. Жизель была наглядным примером феномена «воспроизводства элит», которым удавалось, в полном согласии с общепринятыми нормами, пристраивать своих членов на хорошо оплачиваемые теплые местечки, где не надо было надрываться. Я познакомился с Жизель, когда работал читчиком-корректором-негром на этого издателя, до того как перешел в лицей Феликса Фора и стал получать весьма неплохую зарплату преподавателя подготовительных курсов.
И все же Жизель обладала одним козырем, который у нее невозможно было отнять. Она отличалась поразительной, хотя и нетипичной красотой, которая, правда, нравилась далеко не всем мужчинам, и поэтому у Жизель было гораздо меньше воздыхателей, чем она того заслуживала.
Мне показалось, что Жизель была рада слышать мой голос. И она обрадовалась еще больше, когда я предложил ей съездить на несколько дней в Рим. Тем не менее она сделала вид, будто ей необходимо справиться со своим ежедневником, а потом лицемерно заявила, что, «несомненно», сумеет освободиться. Тогда я потратился на два билета «Эр-Франс» и забронировал номер в «Романико паласе», на улице Венето.
Мы провели три дня в Италии, три дня, в течение которых я каждую минуту старался убедить себя в том, что счастлив, и, как заправский гедонист, твердил, что просто обязан наслаждаться настоящим.
Мы завтракали на просторной террасе отеля. По утрам Жизель делала покупки в однотипных маленьких магазинчиках, которые без труда смогла бы найти и в Париже, недалеко от своего дома. Поскольку у меня не было никакого желания посещать бесчисленные музеи города, которые я знал как дважды два, я чаще всего сопровождал ее. На улице Кондотти: «Видишь эту сумку? Обрати внимание на отделку. — Да, Жизель». На улице Корсо: «Как ты думаешь, мне пойдет эта юбка от Армани? Все же немного коротковато! — Примерь, Жизель».
Я не предупредил Лоранс о своей поездке в Рим. Сначала я собирался воспользоваться случаем и провести некоторое время с Виктором, тем более что после смерти моего деда мы изменили наши первоначальные планы. Однако, приехав в Рим, я, сам не зная почему, даже не позвонил своему сыну. Более того, бродя по Риму под руку с Жизель, я боялся неожиданно встретить Лоранс и Виктора. Тогда мне как недостойному отцу пришлось бы оправдываться. Когда мы сидели в кафе у перекрестка Четырех фонтанов, я вдруг подумал, что неосознанно выбрал Рим для короткого отдыха, чтобы лучше осознать фиаско своей супружеской и семейной жизни.
У нас была короткая культурная программа. Поскольку Жизель никогда не видела ни Форума, ни Колизея, а во мне проснулся мой преподавательский инстинкт, я счел своим долгом показать ей их. Жизель нашла удручающим то, что ни один памятник архитектуры не сохранился целиком. Я возразил, что у руин есть своя прелесть. По правде говоря, моя роль чичероне утомляла не только ее, но и меня. Жизель нашла, что в Риме слишком много храмов и форумов. Я польстил ей, сказав, что как-то раз Шатобриан сделал аналогичное замечание и подчеркнул, что римские императоры из чувства тщеславия проводили все свое время, разрушая творения своих предшественников, чтобы на этом месте возвести новые сооружения, прославляющие их самих.
Я водил Жизель в маленькие ресторанчики, которые когда-то показала мне Лоранс, избегая trappole per turisti. Мы с Жизель много времени проводили в отеле, занимаясь любовью, на кровати, украшенной херувимами, словно сошедшими с картин Рафаэля. До ужина Жизель с удовольствием принимала ванну. «Ты должен присоединиться ко мне. Эта гидромассажная ванна — просто отпад! — Спасибо, Жизель. Я подожду тебя внизу, в баре отеля».
В последний вечер, когда на улице Мелория я увидел прелестную пиццерию, а Жизель рассказывала мне о неприятностях одного из своих авторов, вынужденного строчить по два романа в год, чтобы платить алименты бывшим женам, я вдруг подумал, что именно в этот момент я хотел бы оказаться в обществе Элоизы. Но потом я счел смешным мечтать о молодой женщине, которую видел всего два раза. Делая вид, будто интересуюсь рассказом Жизель, я старался понять, почему Элоиза не выходит у меня из головы, и пришел к выводу, что в моем влечении к ней нет ничего физического. Чувствуя себя подавленным после смерти Абуэло и открытий, которые я сделал о его прошлом, я распознал в Элоизе человека, способного меня понять, человека, которому я могу довериться, не боясь, что меня осудят.
В тот вечер мы поздно вернулись в отель. Жизель захотела снова принять ванну, чтобы еще раз насладиться гидромассажем.
Из внутреннего кармана куртки я достал кассету, которую дала мне Элоиза. После нашего с ней ужина я ни разу не брал кассету в руки. Была ли это простая забывчивость или сознательный акт? Так или иначе, сейчас у меня возникло непреодолимое желание прослушать ее. Нет, я не был счастлив. Нет, поход по дорогим магазинам с Жизель не принес мне реального облегчения, а лишь «отвлек» меня от ноющих внутренних ран. Я ненадолго забыл о постоянно подавляемых страданиях, причиненных мне смертью отца, поскольку теперь нисколько не сомневался в том, каким образом оборвалась его жизнь; о своей неспособности прийти на помощь сестре, погрузившейся в хроническую депрессию; наконец, об изумлении и стыде, от которого сгорал, узнав, что наш дед, этот безупречный образ из нашего детства, во время войны активно сотрудничал с немцами.
Я спросил администратора, могу ли я воспользоваться registratore a cassette.
— Sì, naturalmente, signore.
Я устроился за столиком, стоящим чуть в стороне, в самом углу террасы, и заказал стакан джина для храбрости. Едва я нажал на кнопку «пуск», как мной овладела ностальгия. Мне было тяжело слышать голос, раздававшийся словно из могилы.
— Можно начинать?
— …
— Когда именно вы приехали в лебенсборн Сернанкура?
— В то время не говорили «лебенсборн». Это заведение называлось общежитием или родильным домом.
— В общежитие, если вам так угодно.
— В феврале 1941 года.
— Вы знаете, когда оно было открыто?
— Я не могу назвать вам точную дату. Скажем, оно работало несколько месяцев…
— При каких обстоятельствах вас наняли на работу? Через посредничество мадам Гильермо?
— Да. Через мадам Гильермо. Я познакомился с ней в начале лета 1939 года в Аржелес-сюр-Мер во время Retirada. Тогда я, молодой врач, только что закончивший университет, хотел помогать испанским беженцам. Лагеря, наспех разбитые на побережье и окруженные колючей проволокой… Это был трудный, но незабываемый опыт. Вот в этом-то аду я и познакомился с мадам Гильермо.
— Что именно она делала в лагерях для испанских беженцев?
— Через одну из своих ассоциаций она оказывала гуманитарную помощь, которая в буквальном смысле спасла тысячи беженцев, которые могли умереть от голода и холода. Мадам Гильермо была ни на кого не похожей, никому не подчиняющейся женщиной.
— В каком смысле?
— Франция ничего не сделала, чтобы облегчить жизнь семей, бежавших из Испании, в которой правил Франко. И вдруг жена генерала, героя Великой войны, протянула им руку помощи… Тогда это считалось дурным тоном. После войны о ней говорили много плохого, в частности из-за ее ассоциации.
— «Жены и дети военнопленных»?
— Да. На самом деле она не вмешивалась в политику. Мадам Гильермо просто протягивала руку тем, кто нуждался в помощи.
— Вернемся к общежитию, если позволите. Почему вы согласились перейти на службу к немцам?
— Ничего подобного не было. Я не переходил на службу к немцам.
— Тем не менее с самого начала вы знали, что Сернанкур принимал женщин, забеременевших от эсэсовцев или нацистских полицаев.
— Мадам Гильермо объяснила мне, что немцы планировали забирать детей у некоторых матерей-француженок под тем предлогом, что их отцами были немцы. Она считала, что надо сделать все необходимое, чтобы защитить таких новорожденных, помешать их увозу из Франции. Поскольку немцы не могли найти гинеколога для своего родильного дома, она уговорила меня занять должность в Сернанкуре и создать впечатление, будто я сотрудничаю с ними.
— «Создать впечатление»? Вы хотите сказать, что вы вели с немцами двойную игру?
— Мадам Гильермо не имела ничего общего с мерзавцами из Виши. Она не скрывала, что ненавидит оккупантов. В то время она частично утратила свое прежнее влияние, однако немцы по-прежнему считали ее главной посредницей. Мадам Гильермо умела лавировать. Для немцев она как бы олицетворяла уклончивую позицию Франции в отношении своих детей, хотя на самом деле дети Виши совершенно не интересовали. Но немцы боялись, что их политика вызовет в обществе резкий протест.
— Расскажите об организации родильного дома. Кто возглавлял Сернанкур, когда вы туда приехали?
— Теоретически общежитием руководил главный врач штаба, доктор Дитрих.
— Почему вы говорите «теоретически»?
— Потому что мы его практически никогда не видели. Дитрих наслаждался жизнью в Большом Париже. Рестораны, ночные заведения, бордели… Он был большим любителем выпить. В Сернанкур Дитрих часто приезжал в сильном подпитии. Реальной власти у него не было. Да он вообще не знал, что происходит в общежитии.
— Кто же конкретно руководил родильным домом?
— Ну что ж, управляющий, член СС, и главная медсестра Ингрид Кирхберг. В их непосредственном подчинении находились акушерка и три медсестры.
— А вы?
— В той или иной степени. Мне всегда казалось, что я стою немного в стороне. Я находился там неотлучно только в момент родов.
— Значит, персонал не состоял полностью из немцев?
— Нет, разумеется. Акушерку нашли в Страсбурге, она работала в общежитии с момента его открытия. Две медсестры также были француженками, не говоря уже о работниках кухни, уборщицах, садовнике…
— Вы помните медсестру по имени Николь Браше? Она в то время работала в Сернанкуре.
— …Да, была такая медсестра.
— Вы сохранили с ней связь?
— Нет. После моего отъезда из общежития я никогда ни с кем не встречался. Я не знаю, что с ними стало.
— Вернемся к пациенткам… Сколько их было в момент вашего приезда в Сернанкур?
— Семь или восемь, кажется… Все они, разумеется, были беременны.
— Почему «разумеется»?
— Потому что я читал об этих общежитиях черт знает что. О так называемых «племенных быках», которые приезжали, чтобы оплодотворить молодых женщин, мечтавших подарить ребенка немцам… Вздор… Уверяю вас, мы ни разу не видели в этом родильном доме ни одного эсэсовца. За некоторыми исключениями, мужчинам было запрещено там находиться.
— Вы помните фамилии ваших пациенток?
— Я не знал их фамилий. Мы называли их только по имени. Немцы требовали, чтобы мы соблюдали анонимность и не допускали дискриминации из-за различия в социальном положении.
— «Не допускали дискриминации»? Дискриминация молодых женщин, прошедших тщательный отбор в соответствии с расовыми критериями, — это звучит немного иронично, не так ли?
— …
— Вы знали, где и как отбирали женщин?
— Не имею понятия. В самом общежитии отбор не проводился. Когда к нам приезжали молодые женщины, никто ни о чем их не расспрашивал. Мы обращались с ними так же, как и с другими беременными женщинами. Знаю только, что две женщины приехали к нам из Бельгии.
— Как вы думаете, речь может идти о лебенсборне Вежимона? Я полагала, что он начал функционировать в 1942 году…
— Мне ничего об этом не известно. Я не знаю этого общежития. Нам просто объяснили, что остальные родильные дома переполнены и что нам, возможно, придется принять и других пациенток.
— Вы можете мне сказать, какими были эти женщины? Физически, я имею в виду.
— Вас опять постигнет разочарование, мадемуазель. Пациентки не были сделаны на одну колодку, как вы, вероятно, полагаете. У нас были разные пациентки: блондинки и брюнетки, высокие и маленькие… Мы же находились во Франции, в Марне, а не в Норвегии…
— Какая обстановка царила в родильном доме?
— Вы хотите сказать, среди пациенток?
— И среди членов персонала.
— Обстановка была скорее напряженной. Главная медсестра, Ингрид Кирхберг, вела себя как настоящий тиран. По ее словам, салат всегда был плохо вымыт, комнаты никогда чисто не убирались, вещи в шкафах лежали в беспорядке. Она постоянно устанавливала новые, совершенно абсурдные правила. Она даже запретила женщинам запирать шкафы на ключ. Словно им было что прятать. Между собой мы насмешливо называли ее Бешеной.
— Между собой?
— Я говорю о французском персонале общежития. Однажды Кирхберг обвинила в воровстве девушку, работавшую на кухне. Она думала, что исчез кофе, настоящий кофе, порции которого были строго дозированы. Кирхберг немедленно уволила несчастную из Сернанкура, даже не пожелав узнать, что именно произошло.
— Были ли другие увольнения?
— Нет. По крайней мере, в тот период, когда я там работал. Но Бешеная не скупилась на угрозы. Она постоянно твердила: «Мы должны работать безукоризненно, мы должны брать пример с главного дома». Все свое свободное время она писала донесения и отправляла их в Германию. Хотя, возможно, она блефовала, чтобы держать нас в узде.
— А люди со стороны? Местное население? Что они думали о вашем заведении?
— Трудно сказать. Поместье Сернанкур находилось на отшибе. Полагаю, именно поэтому немцы и выбрали его. Туда никто не являлся просто так.
— Но до вас должны были доходить слухи о разговорах местного населения.
— Времена были тяжелые. Разумеется, люди немного завидовали тому, как обращались с беременными женщинами.
— В частности, из-за еды?
— Да, я ведь уже говорил о кофе… Мы ни в чем не испытывали недостатка. Даже в продуктах, которые тогда невозможно было достать.
— В феврале 1942 года в лебенсборне Сернанкур вспыхнул пожар. Вы еще работали там?
— Нет. Я покинул родильный дом в ноябре 1941 года.
— Почему?
— Мне надоели вечные придирки Кирхберг, все более настойчивые требования немцев… Даже мадам Гильермо уже не могла мириться с условиями, навязываемыми немцами. По ее мнению, больше не имело смысла тратить столько сил, чтобы удержать нескольких детей во Франции. К тому же из-за определенных обстоятельств сам факт работы у немцев стал для меня неприемлемым.
— Что вы хотите этим сказать?
— После заключения перемирия многие думали, будто Петен был наименьшим злом для Франции, и я разделял это мнение. Понимаете, я не знал никого, кто слышал бы призыв де Голля в 1940 году. Сегодня нас хотят заставить поверить в то, что миллионы французов тайком припадали к радиоприемникам. На самом деле события развивались гораздо медленнее. Сначала появились коллажи с лотарингским крестом, прокламации, листовки… В конце 1941 года я сблизился с отставным полковником-летчиком, владевшим рестораном в Шалон-сюр-Марн. Конечно, немецкие офицеры часто бывали в этом ресторане, но одновременно он служил укрытием для бойцов Сопротивления, которых разыскивало гестапо. Там состоялось первое собрание ВДО…
— «Всё для освобождения»?
— Да. Они хотели наладить подпольную работу в Марне, где Сопротивление имело слабые позиции. Добровольцы Французских свободных сил, некоторые организации сети Эктора… Потом были другие собрания, на которых я также присутствовал. На собрания приходили аббат, нотариусы, директора акционерных обществ… Одним словом, влиятельные люди, поддерживавшие, по мнению некоторых, тесные связи с Буске. Они рассчитывали использовать свое влияние в борьбе с немцами и коллаборационистами. Но это уже другая история… Став членом этой сети, я больше не мог работать у немцев.
— Вы говорили о двойной игре с немцами. Почему руководители организации «Всё для освобождения» не захотели, чтобы вы сохранили свою должность? Ведь вы занимали стратегический пост…
— Моя сеть не принимала наше общежитие всерьез. Они не понимали, почему немцы прилагают столько усилий, чтобы вывезти из Франции несколько десятков детей. К родильному дому они относились как к глупой шутке…
Я выключил магнитофон.
Мой дед вновь превратился в храброго члена Сопротивления, в двойного агента, работающего в лебенсборне… Я не знал, что и думать.
У меня в памяти всплыл образ Эбнера, посещающего Сернанкур. Как и говорила Элоиза, в рассказе моего деда многое не сходилось. Его так называемое неведение об истинных целях лебенсборна, хотя все молодые женщины были удивительно похожи друг на друга, поспешный отъезд из родильного дома, не подтвержденный ни одним документом… Его трусость и ложь разочаровали меня.
Несмотря на поздний час, я испытывал необходимость поговорить с Элоизой о записи, если только это не было простым желанием услышать ее голос, а не голос Жизель, оставшейся в номере. Меня проводили в маленький уютный салон.
— Элоиза, это Орельен.
— Орельен… Где вы?
Меня всегда удивляло, как по телефону легко угадывалась географическая удаленность.
— В Риме.
— В Риме?
— Моя бывшая жена и сын живут в Италии.
Я покраснел, поскольку мое объяснение было по крайней мере неполным. Но я не мог сказать Элоизе, что в номере, в постели меня ждет некая Жизель.
— Мне немного стыдно, что я беспокою вас в столь поздний час. Я действительно веду себя не слишком учтиво.
— Нет, нет, вы правильно поступили, что позвонили мне. Я всегда работаю допоздна. Это самые спокойные часы. Как поживаете, Орельен? — спросила она вовсе не из вежливости, а поскольку поняла, что я немного растерян.
— Я только что прослушал запись.
Молчание.
— Почему вы ничего не сказали мне о сети Сопротивления… о причинах, по которым мой дед покинул Сернанкур?
— Я решила, что будет лучше, если вы услышите этот рассказ из его уст, — смутившись, ответила Элоиза. — Мне хотелось, чтобы у вас сложилось личное мнение. Так что вы об этом думаете?
— Я нахожу его объяснения притянутыми за волосы. Мой дед слишком уж обеляет себя. Как я вам уже говорил, многое не сходится.
— Именно поэтому я и не стала вам ничего говорить. Не хотела напрасно вас обнадеживать.
— Элоиза…
— Да?
— С того момента, как мы с вами встретились и вы рассказали мне о лебенсборнах, у меня из головы не выходят эти больные дети, которых отправляли в Герден на верную смерть. Вот уже три ночи, как они мне снятся…
— Я вам уже сказала, что все дети, родившиеся во французских лебенсборнах, избежали этой печальной участи.
— Это ничего не меняет. Каждый индивид является звеном большого механизма. Мой дед также был причастен к этой безумной системе. Тот, кто не препятствует злу, поощряет его. Или вы так не думаете?
— Возможно, вы правы. Но очень трудно судить о решениях, которые принимали обыкновенные люди в таких особенных обстоятельствах, как война. Никто не может сказать, как он поступил бы, оказавшись на месте вашего деда.
Я не знал, что и думать. И алкоголь, выпитый вечером, ничуть не помогал делу.
— Пожалуй, мне хотелось бы увидеть лебенсборн Сернанкура, вернее, то, что от него осталось.
— Не думаю, что это вам что-нибудь даст, — произнесла Элоиза задумчиво. — Вы увидите лишь большое здание.
— Знаю. Но как только подумаю, что вырос в нескольких километрах от этого места, не зная, чем там занимался мой дед…
— Послушайте, Орельен. Я собираюсь вскоре поехать в Сернанкур, чтобы встретиться с человеком, который жил в то время и согласился поговорить со мной. Я не думаю, что он был свидетелем очень важных событий, но если вы захотите меня сопроводить, это доставит мне удовольствие.
— Спасибо, я поеду с вами. А теперь я хочу с вами попрощаться. È tempo di andare a dormire, как говорят здесь.
— Я совершенно не знаю итальянского, но, кажется, поняла вас. Спокойной ночи, Орельен. И постарайтесь больше не думать об этих детях, хотя бы сейчас.
— Вот еще что, Элоиза. Что касается фильма, который я нашел в вещах деда… я отдаю его вам. И разрешаю использовать так, как вы сочтете необходимым. Он ваш. Надо, чтобы люди имели ясное представление о том, что происходило в лебенсборнах. Нельзя допустить, чтобы об этих детях забыли.
— Понимаю вас. Обещаю сделать все, что в моих силах.
Повесив трубку, я не стал сразу подниматься в номер. Я задержался в баре в надежде, что Жизель уже будет спать, когда я вернусь.
Глава 18
Париж, май 1941 года
Рашель Вейл закрыла маленькую записную книжку из красного сафьяна и спрятала ее под матрас. Отец не имел привычки рыться в ее вещах, однако она принимала меры предосторожности, чтобы он не нашел ее дневник, пусть даже случайно.
Любовь к литературе, письмам и интимной исповеди Рашель унаследовала от матери. От Мины, своей мамочки, своей милой moeke… Рашель едва минуло десять лет, когда гнойный менингит унес ее двадцатидевятилетнюю мать. Первое время девочка думала, что отец, Эли, никогда не оправится от смерти Мины. «Сама того не понимая, ты его спасла», — говорили позже Рашель. Именно благодаря дочери Эли сумел преодолеть свое горе. Он должен был помочь Рашель вырасти, должен был попытаться заменить ей мать, которая так нежно любила дочь.
Несмотря на то что Рашель в столь юном возрасте пережила смерть мамы, девочка сохранила о ней тысячи воспоминаний — более или менее четкие образы, периодически вызывающие у нее приступы меланхолии. Рашель вновь видела, как Мина сидит у окна их первой квартиры на западе Парижа, погрузившись в чтение «Человеческой комедии» или вышивая скатерти и салфетки своими тонкими, хрупкими, как крылья бабочки, пальцами настоящей кружевницы. Она также видела, как мать, склонившись над письменным столом, заполняет округлым летящим почерком записные книжки в кожаном переплете, похожие на те, которыми сейчас пользовалась сама Рашель.
По вечерам Мина читала дочери голландские сказки, потертую пухлую книгу, которую Мине подарила в начале века ее бабушка, когда та еще жила в Роттердаме. При дрожащем свете ночника мать гладила Рашель по волосам, накручивая белокурые локоны на палец, словно шерстяные нити на веретено. Мина часто сравнивала дочь с героиней «Торговки из Делфта», одной из голландских сказок.
— Ты такая… lichtblond, — повторяла Мина. — Во французском языке нет слова, чтобы описать оттенок твоих волос.
В школе Рашель прозвали голландкой, несмотря на ее фамилию и изредка случавшиеся антисемитские выпады, жертвой которых она вполне могла стать. Хотя в устах некоторых учеников это прозвище звучало насмешливо, Рашель не сердилась. Наоборот, она переполнялась гордостью, поскольку оно сближало ее с рано умершей матерью. А вот отец Рашель никак не мог понять, почему над еврейкой смеялись из-за ее белокурых волос.
Рашель оперлась на подоконник и прижалась лбом к стеклу. Кончиком указательного пальца она вытерла слезу, катившуюся по щеке. Если бы Мина была жива, она поддержала бы дочь в этом трудном испытании. Разумеется, Рашель больше всех на свете любила своего отца, но порой он был таким суровым, таким непреклонным.
Отец Рашель был хорошим врачом. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять причину хронической усталости дочери и частых приступов рвоты по утрам. Пусть отец порой строго отчитывал Рашель, он никогда не поднимал на нее руку. Но в тот день, когда Рашель, загнанная в угол множеством настойчивых вопросов, призналась, что находится на втором месяце беременности, и увидела, как отец, рассвирепев, яростно принялся стучать кулаком по столу, она не смогла удержаться и импульсивно закрыла лицо руками, испугавшись, что он ее ударит. Этого столь необычного для Рашель жеста, вызванного отчаянием, оказалось достаточно, чтобы ярость отца улеглась, хотя бы на время.
Целых два дня Рашель провела в своей комнате. Она лежала на кровати, уткнувшись в подушку и стараясь выплакать все свои слезы. Ужасные слова, которыми осыпал ее отец, до сих пор звучали у нее в ушах. Вначале Эли, ослепленный гневом, даже не пожелал узнать, кто отец будущего ребенка. По его словам, ему это было «неинтересно», особенно после того, как он догадался: этот человек никогда не признает ребенка и Рашель, вероятно, уже не встречается с ним. И тут девушка поняла, что гнев отца был вызван не столько ее непристойным поведением или перспективой сгорать от стыда под осуждающими взглядами членов их семьи, сколько страхом, что в столь смутные времена ее новое положение может навлечь на них грозную опасность.
Рашель сама предпочитала не думать о Жозефе, об отце ребенка, молодом рассыльном из Дома моды, где она работала. Красивые слова, игривые улыбки, вежливые предложения… А потом она уступила. О, ее никто к этому не принуждал! Так легко перекладывать вину на другого. Она даже получила удовольствие, намного сильнее того, которое представляла себе, слушая рассказы подружек, перешагнувших через этот рубеж. Рашель верила своему возлюбленному, как и многие другие до нее… Вплоть до того дня, когда забеременела, а Жозеф не захотел признать отцовство. Больше она его не видела, вернее, он ничего не сделал, чтобы увидеться с ней.
Рашель недавно исполнилось девятнадцать лет. Примерно столько же было и Мине, когда она родила Рашель. С той существенной разницей, что Мина и Эли были женаты, когда Рашель появилась на свет. Но что Рашель оставалось делать, учитывая ее возраст и положение?
Сначала, до тех пор пока Рашель удавалось скрывать беременность от отца, она много раз думала избавиться от плода, хотя аборт казался ей труднопреодолимым психологическим и материальным испытанием.
«Всегда есть способ выкрутиться», — не раз слышала она от своих решительных подружек. Одна из таких подружек знала хиромантку с улицы Борон, которая, прикидываясь гадалкой, поддерживала тесные связи с «фабрикантшей ангелов». Проблема заключалась в деньгах. Хиромантка требовала триста франков всего лишь за посредничество. За саму операцию надо было заплатить в два раза больше. Рашель работала продавщицей-стажером у Эрнеста Буржуа, в Восьмом округе. Такая сумма равнялась ее зарплате за два месяца.
А вот насчет того, чтобы избавиться от плода самостоятельно… Рашель говорили о зонде, который можно было достать у любого фармацевта, о большой дозе хинина, об апиоле…
Потом, когда прошли тревога и паника, Рашель привыкла к медленной эволюции своего организма. Прибегать к столь крайним мерам ей теперь казалось немыслимым. С тех пор она ничего не делала, чтобы скрыть симптомы своего состояния от отца. Более того, она порой даже ловила себя на мысли, что хочет, чтобы он как можно скорее все понял.
Сидя за массивным письменным столом из красного дерева, Эли Вейл устремил на дочь взгляд, полный сострадания, который так резко контрастировал с его суровостью в последние дни. Рашель, немного взволнованная этой торжественной сценой, поскольку за письменным столом отец занимался только своими профессиональными делами, ждала, что сейчас будет оглашен приговор, вынесенный за совершенное ею «преступление».
Отец тяжело вздохнул.
— Я не должен был впадать в ярость… Я сожалею о своих словах, сказанных тебе…
— Папа…
— Нет, дай мне закончить. Я должен сказать кое-что очень важное. Я часто относился к тебе как к маленькой девочке, но ты давно уже стала взрослой. Сегодня я понял, что совершил серьезную ошибку. Обстоятельства сложились так, что мы ничего не можем изменить. Ты забеременела… Я никак не мог этого предвидеть, но подобная… помеха, возможно, заставит нас действовать быстрее, чем я предполагал.
Рашель с недоумением посмотрела на отца.
— О чем ты говоришь?
— Я говорю тебе о серьезных событиях, которые происходят сейчас во Франции, в частности о мерах, направленных против евреев. Я знаю, мы редко говорили об этом дома, но…
— Ты шутишь! Лучше скажи, что ты не говорил об этом со мной, — с упреком в голосе оборвала Рашель отца. — Потому что с дядей Симоном вы не стеснялись в выражениях. Неужели ты действительно думаешь, будто я ничего не знаю о ваших шушуканьях?
Эли удивили столь резкие слова дочери, но он предпочел сделать вид, будто не обратил на это внимания.
— Я жалею, что держал тебя в неведении. Но поскольку ты шпионила за нами, мне будет легче объяснить тебе сложившееся положение вещей. Мы привыкли жить в достатке, и мне кажется, что ты никогда ни в чем не нуждалась.
— Это правда.
— Так знай: со дня на день мы можем потерять все, что имеем.
— Из-за реквизиции?
— Скорее это можно назвать ограблением. Но хуже всего то, что мне, возможно, запретят заниматься практикой. Именно по этой причине из нашего дома исчезли наиболее ценные вещи. Я продал их, чтобы отложить деньги, пока еще есть такая возможность.
Эли не стал говорить дочери о том, что за последние месяцы его нееврейская клиентура стала сокращаться, как шагреневая кожа, и что они уже жили на вырученные от продажи деньги.
— Я ждал удобного случая, чтобы переправить тебя в свободную зону или попытаться увезти тебя из Франции. Но теперь, учитывая твое нынешнее состояние, подобная мысль кажется мне неприемлемой. И все же я нашел пути к отступлению.
— Что ты имеешь в виду, говоря: «переправить тебя», «увезти тебя»? Почему ты не говоришь «нас»?
Эли Вейл водрузил на нос очки и в замешательстве погладил щеки.
— Я не могу так сразу бросить работу. Мой поспешный отъезд вызовет слишком сильные подозрения. Сейчас надо в первую очередь обезопасить тебя, тем более что ты ждешь ребенка.
Ребенок… Эли впервые заговорил о ребенке, а не о ее «состоянии» или ее «положении».
— Неужели ты думаешь, что я соглашусь покинуть Париж, бросив тебя здесь?
— Так надо.
— А моя работа у Буржуа?
— Ты всего лишь стажер. Мне это не кажется непреодолимой преградой. Мы можем ввести их в заблуждение. Скажем, что ты заболела.
Эли вдруг помрачнел.
— Мне хотелось бы, чтобы ты поняла: обстоятельства могут очень быстро обернуться против нас.
— Ты хочешь сказать для нас, евреев? Полно, папа! В соответствии с законом я не считаюсь еврейкой. Мама была голландкой протестантского вероисповедания. Ты почти никогда не ходил в синагогу! Если бы не дядя Симон, я наверняка не получила бы религиозного образования.
— Все это мелочи, которые немцы и Виши не станут принимать во внимание. Их политика становится все более жесткой. Я не верю, что они будут проводить различия между мной и тобой в тот день, когда придут нас арестовывать.
Эли поднялся с кресла и обошел письменный стол. Подойдя к дочери, он продолжил:
— Послушай меня. Неделю назад пять тысяч евреев были арестованы и отправлены на специальных поездах в Луарэ, в лагерь для интернированных. Все эти люди просто получили повестки с требованием прийти в полицию для проверки удостоверений личности. А когда они собрались, их насильно посадили в автобусы и отвезли на вокзал, без всяких личных вещей. Ни одна газета не сообщила об этих массовых арестах. С официальной точки зрения, немцы просто устранили открытых врагов, всех иностранцев, чтобы те не стали жертвами грубого обращения. Но на самом деле большинство этих людей были польскими евреями, которые не совершали никаких преступлений и даже не интересовались политикой. Их единственная вина заключалась в том, что они родились евреями.
Эли опустился на колени и сжал тонкие пальцы дочери своими широкими руками, словно защищая их.
— Моя малютка Рашель, тебе опасно здесь оставаться. Деньги, которые я выручил от продажи мебели, помогут мне раздобыть для тебя фальшивые документы высочайшего качества. Но этих документов недостаточно. Я знаю кое-кого в Париже, человека, считающего, что я оказал ему неоценимую услугу. Это, вне всякого сомнения, привилегия врачей, которым удается спасти чужую жизнь. Этот человек, вернее, дама, имя которой ты никогда не должна называть, возмущена политикой, проводимой французским правительством в отношении евреев. Она пользуется определенной властью и может оказать нам помощь.
Эли полез во внутренний карман пиджака.
— Ты завтра же отправишься к ней. Ее имя и адрес я записал на этом клочке бумаги. В данный момент я не могу пойти с тобой. Будет лучше, если нас никто не увидит вдвоем. Эта дама знает о нашем положении. Ты можешь ей полностью доверять. Благодаря своим связям она уже помогла многим людям, оказавшимся в более тяжелой, чем наша, ситуации.
Эли встал и оперся руками на письменный стол.
— А теперь главное, о чем ты не должна забывать ни на мгновение. С сегодняшнего дня и особенно после того, как мы раздобудем для тебя фальшивые документы, ты не должна никому говорить, что происходишь из еврейской семьи. Ты поняла?
— Да.
— Тебе повезло. Твоя внешность ни у кого не вызовет подозрений. Если будешь вести себя тихо, никакая опасность тебе не грозит.
— А ты, папа?
— Не беспокойся обо мне. Сейчас важнее всего, чтобы ты оказалась в безопасности. Эти безумцы могут выть, как волки, и принимать любые решения, но клянусь тебе, что мы окажемся сильнее их.
Глава 19
Суланж, Марна
Эрика Фабр жила в доме современной постройки, просторном, но лишенном всякого очарования. Его окружал сад с безукоризненно подстриженной лужайкой. Дом находился в четырех-пяти минутах езды от фермы Николь Браше, так что Франку Лонэ и Эмили Дюамель не пришлось его долго искать.
В первый раз лейтенанты допрашивали молодую женщину на месте преступления, сразу после того как она обнаружила тело. Второй раз — в жандармерии Шалона. В их памяти сохранился образ приветливой молодой женщины, до глубины души пораженной смертью своей соседки. Ничего общего с поведением четы Дельво, которые, казалось, отнеслись к смерти старой женщины, как к пропаже поношенной рубашки.
В расследовании наступил коренной перелом. Два дня назад следы белой краски, обнаруженные на воротах фермы Николь Браше, были отправлены на анализ в отделение Института криминалистических исследований Национальной жандармерии, расположенной в Роне-су-Буа. Это было уникальное с технической точки зрения учреждение, призванное препарировать, сравнивать и тщательно исследовать улики, найденные на месте преступления.
На следующий день капитан Лорини связался с централизованной службой, обрабатывающей заявки, поступавшие в это, одно из двенадцати, отделений института.
— У меня для вас есть хорошая и плохая новость, — сообщил капитан своей команде.
Хорошая новость заключалась в том, что следы краски были пригодны для анализа. Подразделение «Экспертизы химической идентификации», специализировавшееся на полимерах для автомобилей, могло точно указать модель машины и год выпуска. Правда, оставалось надеяться, что следы не приведут к «пежо-306», самой распространенной модели во Франции, кошмарному сну следователей, занимавшихся идентификацией автомобилей.
А плохая новость была следующей: институт был буквально завален заявками. Лаборатории делали более двадцати анализов в день. Таким образом, существовала вероятность, что придется ждать несколько дней, прежде чем придут результаты. Все же капитану удалось заручиться поддержкой прокурора, чтобы ускорить ход событий, ведь с момента преступления прошло более двух месяцев, и это дело отныне не считалось срочным.
Франк Лонэ сгорал от нетерпения. Если бы чета Дельво заговорила с самого начала расследования, убийца, вероятно, был бы уже за решеткой. Нет ничего хуже ожидания. Настоящая жизнь была далека от кинофильмов, которые упрощали научную работу полиции и внушали зрителям, будто анализ ДНК или следов каких-либо веществ эксперт проводил за несколько минут в уголке лаборатории, положив четыре образца в микротрубочку центрифуги.
Тем временем капитан Лорини попросил Франка и Эмили вновь допросить Эрику Фабр и составить приблизительный перечень всех знакомых жертвы, даже дальних. Как только им передадут список автомобилей, они смогут сопоставить полученные сведения.
Стоял прекрасный день, небо было безоблачным. Эрика Фабр предложила жандармам расположиться за домом, на террасе, которую защищал от солнца широкий полотняный навес. Местечко было приятным, закрытым со всех сторон. С террасы можно было увидеть автомобили, ехавшие по национальной дороге.
— Не возражаете, если я закурю? — спросила Эрика, вынимая из кармана пачку «Вог».
— Прошу вас, — ответил Франк. — Поверьте, нам очень жаль, что пришлось вновь вас побеспокоить.
— Вы вовсе не беспокоите меня. Я рада, что расследование продолжается. Знаете, если людей и волнует судьба Николь, то только потому, что они боятся сами стать жертвами ограблений. Не думаю, чтобы многие ее оплакивали.
— Если я правильно понял, ее недолюбливали?
— Все из-за того, что она казалась нелюдимой. Но в душе Николь была милой женщиной, которая очень много для меня сделала. Просто со временем она ожесточилась.
— Вы знаете почему?
— Она была очень одинокой. Полагаю, у нее не осталось родственников. Знаете, жизнь не баловала ее. Николь никогда не была замужем и все лучшие годы своей жизни посвятила уходу за старыми людьми в хосписе. Но главное — у нее не было детей, о чем она сильно жалела.
Эмили решила перехватить инициативу:
— Вы уже оказали нам неоценимую помощь в расследовании. Сейчас мы приехали в надежде, что, возможно, есть детали, пусть даже мельчайшие, на которые вы тогда просто не обратили внимания. Вы думали о звонке мадам Браше из Сорбонны, о котором мы с вами говорили по телефону?
— Да, но я не знаю, кто мог ей звонить. Я почти уверена, что у Николь не было знакомых в Париже, тем более в университете. Нет, правда, я ничего не понимаю.
— Ничего страшного, — успокоила ее Эмили.
— А кроме этого, вы нашли что-нибудь новое? — спросила Эрика.
— К сожалению, мы не имеем права обсуждать это с вами. Но скажем так: мы рассматриваем новые версии…
— Значит, вы не верите в то, что это было ограбление?
Франк и Эмили удивленно переглянулись. Сведения о расследовании не просочились в прессу. Как она могла об этом узнать?
— А что вы думаете по этому поводу? — спросил Франк.
— Что касается меня, я все меньше и меньше в это верю. Когда я вошла в дом… — На глазах Эрики заблестели слезы. — Не знаю… Я почувствовала, что кто-то хотел устроить в столовой настоящий кавардак, стремился все испортить, разбить, но при этом ничего не взял.
Молодая женщина вытерла слезы.
— Мне так стыдно, что я перед вами плачу.
— Не стоит извиняться. Мы приехали именно для того, чтобы уточнить этот пункт. Мы хотим знать, было ли что-либо украдено из дома мадам Браше. Знаю, вас уже спрашивали об этом, но мы полагаем, что этот аспект может стать самым важным в расследовании.
Эрика раздавила сигарету о пепельницу, которая и так была полна окурков.
«Вероятно, здесь она подыхает от скуки, пока ее муж на работе», — подумал Франк.
— У Николь не было никаких ценных вещей. Вы же видели обстановку дома: все было старым и вышедшим из моды. Кому все это нужно? Наличные деньги, которые Николь хранила в спальне, не были украдены. Я почти уверена, что у нее не было дорогих украшений.
— Мы имеем в виду не только ценные вещи. Преступник мог завладеть каким-нибудь документом, письмом, на первый взгляд безобидным предметом, который имел для мадам Браше особенный смысл.
Эрика Фабр покачала головой.
— Мы с Николь были в близких отношениях, но я не знаю, что она хранила в ящиках. Она была очень умной женщиной, никогда не теряла головы. Разумеется, у нее были небольшие провалы в памяти. Я прекрасно знаю, что она не помнила моего номера телефона, хотя и звонила мне два-три раза в неделю. Но всеми счетами она занималась сама и не любила, когда ей помогали.
— Понимаю, — разочарованно протянул Франк. — Тем не менее мы принесли фотографии, сделанные на месте преступления сразу после того, как было обнаружено тело. Нам очень жаль, что мы вынуждены подвергать вас столь тяжелому испытанию, но это очень важно.
Лейтенант Лонэ вытащил из своей сумки штук двадцать фотографий формата А4, очень четкого разрешения.
— Не волнуйтесь, здесь нет фотографий кладовки, где было найдено тело мадам Браше. Это снимки разных частей дома. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на них внимательно. Скажите, если заметите отсутствие какого-либо предмета или если какая-нибудь деталь вас насторожит.
Эрика взяла в руки пачку фотографий. Казалось, она немного растерялась, осознав, какую тяжелую задачу поставил перед ней жандарм.
— Я постараюсь.
— Спасибо.
В течение нескольких минут молодая женщина внимательно рассматривала снимки. Но чем сильнее она сосредотачивалась, тем заметнее на ее лице проступала растерянность.
— Мне очень жаль, — пробормотала Эрика. — Но у меня всегда была плохая зрительная память. Если я смогла помочь вам с клейкой лентой, то только потому, что уже пользовалась ею, а затем снова убрала в ящик. Но сейчас у меня в голове все перепуталось.
— Не волнуйтесь, — приветливым тоном откликнулся Франк. — Мы не спешим.
Лейтенант повернулся к коллеге, которая, помрачнев, погрузилась в свои мысли. Черт возьми, ведь обычно это ей без труда удавалось успокоить свидетелей. Он же никогда не преуспевал в этом деле.
— Прошу прощения, мадам Фабр, — вмешалась Эмили. — Вы говорили, что мадам Браше часто забывала о пустяках, например не помнила телефонных номеров.
— Да, это так.
— У вашей соседки был старый телефонный аппарат, с диском. И у него не было функции «память». Значит, мадам Браше куда-то записывала телефонные номера, например, в записную книжку.
— Да, разумеется, у нее была записная книжка. Такая старая, на спирали, с металлическими уголками и защелкой. Впрочем, она никогда не закрывалась. Я неоднократно говорила себе, что надо подарить Николь другую записную книжку.
Эмили схватила фотографии и быстро просмотрела их.
— На месте преступления мы не нашли записной книжки, — уверенно сказала она.
— Ничего не понимаю, — прошептала Эрика Фабр, растерянно глядя на жандармов. — Что это значит?
Конечно, Франку Лонэ не стоило делать столь важный вывод в присутствии свидетеля, но он не сумел удержаться и ответил молодой женщине:
— Это значит, что имя убийцы Николь Браше, возможно, было записано в этой книжке…
Глава 20
После нашей римской эскапады я вернулся в столицу с огромным облегчением. Жизель была просто счастлива после поездки и говорила, что я «забавлялся, как сумасшедший».
Учебный год выходил на финишную прямую, и это позволило мне с головой погрузиться в работу и немного оправиться от депрессии. У профессии преподавателя, заставляющей вас нести трудовую повинность и играть на публику, есть одно немаловажное преимущество: она отвлекает от личных проблем, пусть даже на короткое время. До конкурсных экзаменов в Высшую нормальную школу оставалось меньше двух месяцев. Мы уже прошли часть программы, отведенную на изучение эстетики, однако совсем не касались итальянского неореализма, художественного течения, выбранного на этот год. Я полностью посвятил себя работе, но «Германия, год нулевой» Росселлини вновь вернул меня, против моей воли, к страданиям военного периода.
Один раз — это еще не привычка. В воскресенье мне позвонила Элоиза. Она сообщила, что ее «приглашение» остается в силе и что, если я согласен, мы можем поехать в Сернанкур на следующие выходные.
Я прожил эту неделю, как в бреду, проверяя работы своих учеников и печатая для них контрольные карточки.
В субботу мы взяли в аренду машину и выехали из Парижа около десяти часов утра. Я предупредил Алису, что мы заедем в Арвильер, и она настояла, чтобы мы там пообедали. Разумеется, я не мог сказать Алисе правду и представил Элоизу как свою коллегу, работающую в том же учреждении, что и я. Молодая женщина уже приезжала к моему деду, чтобы взять у него интервью, но в отсутствие Алисы. И все же я хотел, чтобы Элоиза еще глубже прониклась духом этого дома, в котором мы — Анна и я — жили и который был театром, где прошли лучшие годы нашей жизни. Я хотел также познакомить Элоизу с Алисой. Она разговаривала с Алисой только один раз, когда узнала от нее о смерти Абуэло.
Во время нашей двухчасовой поездки в Марну я рассказывал Элоизе о своем детстве, о смерти отца и об особом случае с Анной. Обо всем этом я постоянно думал, но до сих пор никогда не делился ни с кем своими сокровенными мыслями. Элоиза внимательно слушала меня. Она мало говорила, но умело, выбирая правильный тон и верные слова, побуждала меня к дальнейшим откровениям.
Так или иначе, после того как я передал Элоизе обещанную кассету, наш разговор вернулся к нацистским родильным домам, не переставшим меня преследовать.
— Как получилось, что вы заинтересовались лебенсборнами?
— По правде говоря, случайно. У нас на факультете работает удивительный профессор, специализирующийся на истории Второй мировой войны. Он мой научный руководитель. Ему понравилась моя работа, и он посоветовал мне продолжить исследование. Я поддерживаю с ним очень близкие отношения. Однажды, когда я училась на третьем цикле, я увидела по телевизору репортаж. Потом мы с ним обсудили проблему лебенсборнов и оба удивились, почему на эту тему существует так мало научных работ. К сожалению, мы так и не нашли вразумительного ответа на этот вопрос.
— Мало документов? — предположил я.
— Не думаю. В Арользене хранится обширная корреспонденция. После войны мир с ужасом узнал о нацистских лагерях, однако лебенсборны представляли собой потаенную сторону нацистской политики в области евгеники. Это позорная часть нашей истории, которую определенные силы смогли затушевать, поскольку утвердилось мнение, будто никто не пострадал. По сравнению с холокостом эти родильные дома выглядят такими безобидными… Разумеется, если не принимать в расчет десятки тысяч детей, которых немцы увезли из стран Восточной Европы. Но эти дети никого не интересовали.
— А дети, родившиеся на Западе, в оккупированных странах?
— Они тоже не получили права на сострадание. Это были «дети позора», символизировавшие коллаборационизм и беспринципность, о чем некогда оккупированные страны пытались поскорее забыть. От одних детей скрывали их происхождение, другие же, напротив, подверглись унижению и преследованиям, будь то в школе или в приемных семьях. У нас есть свидетельства о возмутительных оскорблениях и жестоком обращении.
— Но как люди смогли до этого опуститься после пяти лет страха и ужаса, которые пережила Европа?
— Это наглядное проявление трусости и малодушия. Дети стали идеальными громоотводами. Теперь любой мог выместить на них злость из-за собственных прегрешений. Их матерей стригли наголо, а самих детей буквально втаптывали в грязь. В Норвегии сразу после войны власти на деле применяли нацистские теории, но теперь их обратили против этих так называемых немецких ублюдков.
— Как?
— Детей войны помещали в отвратительные заведения. Исступленные психиатры осматривали их и заявляли, будто эти малыши представляют внутреннюю угрозу для страны. Одно время норвежцы даже собирались депортировать этих «зачумленных» в Австралию. Потом, в 1950-х годах, эти дети стали настоящими подопытными кроликами: на них испытывали препараты, вызывающие галлюцинации. Некоторые из них даже умерли.
— В конце концов можно понять молчание, окружавшее эти родильные дома в послевоенный период. Но почему историки потом не заинтересовались этим вопросом?
— Это нельзя объяснить. Пришлось ждать тридцать лет, чтобы стало известно о существовании лебенсборнов. Марк Иллель был первым, кто (в 1975 году) выпустил о них серьезное исследование. Его книга стала бестселлером. Но затем о ней забыли. Сейчас эту книгу сложно найти даже в библиотеках. Несколько исследователей затрагивали эту тему в своих работах. Но что касается двух французских лебенсборнов, ими никто никогда не интересовался. А ведь до сих пор многие женщины и мужчины хотят узнать правду о своем происхождении. Одни из них, наделенные природным упрямством, сумели размотать запутанный клубок, другие же никогда не узнают правды и даже не услышат о существовании этих родильных домов. Многие из этих детей войны пристрастились к наркотикам или спиртному. Через пятьдесят лет после окончания войны лебенсборны продолжают убивать, но к их жертвам никто не испытывает сострадания.
В Арвильере меня ждал сюрприз. Едва мы въехали в ворота поместья, как я увидел Анну, лежащую в саду в шезлонге с книгой в руках. Анна сказала мне, что после смерти Абуэло она всегда проводит выходные с Алисой.
После того как я представил Элоизу, мы расположились в саду, а Алиса угостила нас вином. Когда Элоиза отлучилась в уборную, Анна не смогла удержаться и насмешливо сказала:
— Она очаровательная и к тому же кажется умной. Попытайся удержать ее, может, на этот раз…
Обычно моя сестра не питает нежности к моим знакомым. Лоранс она на дух не выносила и очень строго судила обо всех женщинах, с которыми мне удавалось ее познакомить. Несомненно, Анна меня идеализировала и считала, что ни одна женщина не может быть меня достойна.
— Какой чудесный дом, — произнесла Элоиза, присоединяясь к нам в саду.
— Да, но он стал слишком печальным без мебели и вещей Анри, — заметила Алиса. — Можно сказать, что он лишился души.
— Орельен сказал мне, что вы собираетесь переезжать.
— Анна нашла мне прелестную квартирку в Шалоне, с очаровательным видом на Марну. Тут я наслаждаюсь последними деньками. Надо набраться мужества, чтобы покинуть корабль. Но я подала вам вино, даже не спросив, любите ли вы его.
— Элоиза — настоящий эксперт в виноделии, — заметил я.
— Правда?
— Мой отец — винодел, так что у меня не было выбора.
— Тем лучше. Я всегда считала, что люди, которые не любят вино, выглядят грустными. Орельен, помнишь любимый тост Анри?
— «Благородный человек никогда не станет хулить вино». Это слова Рабле.
— Забавно, — откликнулась Элоиза. — А мой отец говорит: «Когда пробка выбита, нужно пить вино». И добавляет: «Особенно если оно хорошее».
Алиса усмехнулась.
— Анри и ваш отец были созданы для того, чтобы встретиться…
Мы обедали в саду под двумя большими зонтиками, поскольку нещадно палило солнце. Стоял один из прекрасных дней ранней весны. Во время обеда я рассеянно слушал разговор между Анной и Элоизой, которой, казалось, было у нас хорошо. Я с сожалением подумал о том, что мы не были настоящей супружеской четой. Анна была права: Элоиза «очаровательная и умная».
— Ты оканчиваешь Школу Лувра? — спросила Элоиза у моей сестры.
— Да, я учусь на последнем курсе.
— Очень мило. И чем же ты собираешься заниматься?
— Я хотела бы проводить экспертизу предметов искусства, особенно для аукционов. Но эта профессия закрыта для того, у кого нет знакомств. Нужно иметь покровителей на всех уровнях. И давно вы с Орельеном вместе?
Казалось, Элоизу нисколько не смутило то, что моя сестра перепрыгивает с одной темы на другую. Она с честью сыграла свою роль, о чем мы договорились заранее, хотя мне было крайне неприятно лгать Анне.
— Нет, недавно, — весело ответила Элоиза.
— Если мой брат привез тебя сюда, значит, у него серьезные намерения. За исключением его бывшей жены, ни одна девица не переступала порог «Мануария Коше».
Анна произнесла эти слова высокопарным тоном, с неким вызовом.
— Правда? Приятно слышать.
— Послушай, Анна, — вмешался я. — Оставь нашу гостью в покое хотя бы на пять минут. Мне очень жаль, Элоиза, но Анна всегда была слишком любопытной.
— Я никогда не любила тайн, — заметила моя сестра намного более серьезным тоном, чем того требовал разговор.
В кухне, где стенные полки были заставлены фаянсовой посудой, я, оказавшись наедине с Алисой, воспользовался моментом, чтобы расспросить ее о Долабелле. Этот тип не выходил у меня из головы. Сейчас он был единственной зацепкой, за которую я мог ухватиться.
— Ты права, без мебели дом выглядит совершенно иначе. Есть новости от антикваров?
— Кажется, они прислали нам опись. Спроси Анну, всем занимается она.
— Кстати, а кто такой Долабелла?
Алиса как раз клала фрукты в вазу. Она на мгновение оторвалась от своего занятия и с подозрением посмотрела на меня. Я действовал слишком прямолинейно.
— Долабелла держит самый известный в Шалоне антикварный магазин. Анри был страстным коллекционером. Думаю, именно в этом магазине они и познакомились.
— Это произошло до того, как ты встретила Абуэло?
— Думаю, да. Это тебя смущает?
— Нет, вовсе нет. Просто ты сказала, что Долабелла старинный друг Абуэло, но я никогда прежде его не видел. И мне стало интересно почему.
Стараясь держать себя в руках, я принялся складывать грязные тарелки в керамическую раковину.
— Сколько ему лет? Не слишком ли он стар, чтобы торговать антиквариатом?
— Долабелла? Думаю, ему около семидесяти пяти. Теперь всем заправляет его сын. Долабелла занимается лишь вопросами наследства и время от времени оказывает услуги старым клиентам.
Семьдесят пять лет. Этот человек был старше, чем я думал. Вполне вероятно, что он знал Абуэло еще во время войны, хотя и был тогда подростком.
— Но к чему ты задаешь все эти вопросы?
— Просто так. Этот человек заинтересовал меня, вот и все.
— Ты боишься, что он нас обворует? Знаешь, Долабелла богат, как Крез. Деньги его больше не интересуют. Лишь старая мебель может вызывать у него восторг. В любом случае раз за дело взялась Анна, я могу быть спокойна. Она ведь знает цену старинным вещам.
— Ты права, — сказал я, выдавив из себя улыбку.
Я был разочарован, что мне не удалось узнать больше.
Около пяти часов мы покинули Арвильер. Казалось, Элоиза была рада, что пообедала в обществе Алисы и моей сестры.
— Алиса славная женщина, — сказала Элоиза, когда мы тронулись в путь. — Странно, но когда я пожимала ей руку, у меня возникло впечатление, будто я вижу ее уже не в первый раз.
— Вы ведь общались с ней по телефону…
— Нет, ее голос ничего мне не говорит. Ее лицо, улыбка… Но, может, продолжим обращаться друг к другу на «ты»? Как ты думаешь?
— Согласен. Мне очень жаль, что Анна задавала тебе такие нескромные вопросы. Она любит всех дразнить…
— Ничего страшного. Во всяком случае, твоя сестра показалась мне более безмятежной, чем я представляла ее по твоим словам.
— Правило номер один при общении с людьми, страдающими депрессией: никогда не верь внешним факторам. Так нас учил первый из психологов, лечивший Анну после попытки самоубийства. Тогда ей было семнадцать лет. Уверяю тебя, моя сестра может безукоризненно вести себя в обществе, даже если у нее отвратное настроение.
Когда мы миновали указатель с названием деревни Сернанкур, мое сердце забилось сильней.
Мы ехали еще несколько минут, прежде чем за поворотом на небольшую дорогу, за величественными воротами из кованого железа показалось бывшее поместье Ларошей. У входа висела голубая табличка:
Центр отдыха
Досуг для всех
Элоиза припарковала машину, передние колеса которой попали в рытвину, тянувшуюся вдоль дороги. Как я уже видел на фотографиях, сделанных Элоизой, здание почти не изменилось. Серое каменное строение показалось мне строгим, даже мрачным. Но, несомненно, такое суждение было вызвано событиями, происходившими в нем. К счастью, парк, окружавший здание, был ухоженным и хорошо приспособленным для различных игр на свежем воздухе: горки, качели, турникеты. В парке не было ни одной живой души, двери и ставни на окнах здания были закрыты.
— Неужели никого нет?
— Центр работает в основном во время школьных каникул. Давай немного прогуляемся.
Поместье, раскинувшееся на опушке леса, казалось отрезанным от внешнего мира. Во всяком случае, его нельзя было заметить с главной дороги.
Элоиза угадала мои мысли:
— Теперь понимаешь, почему немцы выбрали именно его?
— Да, полная изоляция.
Мы четверть часа бродили вокруг бывшего родильного дома. Неожиданно я осознал, что принадлежу к последнему поколению, которое реально связано со Второй мировой войной. Когда я учился в лицее, к нам приходили участники Сопротивления и бывшие узники концлагерей. Мы разговаривали с ними, слышали рассказы об «экстремальном опыте», жертвами которого они стали. Мы не сомневались, что случаи преследования евреев были единичными. Я отдавал себе отчет, что через пятнадцать-двадцать лет не останется практически ни одного непосредственного свидетеля ужасов этой войны. И возможно, в наших умах эта война превратится в конфликт, имеющий сходство со всеми другими вооруженными конфликтами.
— Не жалеешь, что приехал? — спросила Элоиза, когда мы сели в машину.
— Нет, нисколько. Мне необходимо было увидеть это место. Но к кому мы едем?
— Этого человека зовут Пьер Мерсье. В прошлом году журнал «Экспресс» посвятил очень интересную статью лебенсборнам Ламорлэ и Сернанкура. Она называется «Фабрика совершенных детей». Журналисты опирались на несколько известных произведений, посвященных этой теме. Но они также разыскали человека, который жил во время оккупации вблизи поместья, и взяли у него интервью. Редко кто-нибудь соглашается поговорить на эту тему. Я просто не могу пройти мимо.
Пьер Мерсье по-прежнему жил в десяти километрах от Сернанкура, в большом доме, полностью построенном из дерева и поэтому резко контрастировавшем с соседними зданиями.
Мужчина поджидал нас, стоя на пороге дома. Он, несомненно, слышал, как наша машина взбиралась по грунтовой дороге, ведущей к его жилищу. Он хорошо выглядел для человека, которому перевалило за семьдесят: легкая походка, пронзительный взгляд, смеющееся лицо…
— Я ждал вас. Вы легко меня нашли?
Элоиза поблагодарила его за то, что он согласился нас принять, и представила меня как своего коллегу по университету. Обман продолжался.
— Прелестный дом! — восхищенно сказал я.
— Я построил его своими руками. И это в то время, когда экологически чистые деревянные здания еще не вошли в моду.
Гостиная была отделана в деревенском стиле. Пьер Мерсье предложил нам сесть за большой круглый стол. Угостив нас ратафией, он взял фотографию в рамке, стоявшую на самом видном месте — на книжном шкафу.
— Это мои родители, — пояснил он, протягивая нам черно-белую фотографию, сделанную, вероятно, в 1937 или 1938 году. — А мальчик, которого вы здесь видите, это я. На заднем фоне ферма, где мы в то время жили. Она находилась вдали от деревни, в двух километрах от немецкого поместья.
Элоиза вытащила диктофон. Она явно была рада, что Пьер Мерсье сам заговорил на интересующую ее тему.
— Вы позволите мне записать наш разговор?
— Разумеется…
— Сколько вам было лет, когда открылся родильный дом?
— Этот родильный дом… Я все спрашиваю себя, почему им сейчас интересуется так много людей. Знаете, я стал почти что знаменитостью. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что мне было около четырнадцати лет.
— Вы говорили, что ферма, где вы жили, находилась недалеко от поместья.
— Да. Мои родители иногда работали у Ларошей. Я хорошо знаю это место. Мы с братом играли в парке, когда наша мать убирала в доме.
— В статье, опубликованной в «Экспресс», вы говорили, что многие знали: в поместье находились ясли и детский сад. Но как местные жители смогли проведать о существовании лебенсборна?
Пьер Мерсье сделал глоток аперитива. Я последовал его примеру и нашел ратафию слишком сладкой.
— В конце 1940 года фрицы реквизировали поместье. Разумеется, люди сразу же стали спрашивать себя, во что они намерены его превратить. Округа буквально кишела немцами, в Сюипе и Мурмелоне находились крупные военные лагеря, но никто не понимал, почему выбор немцев пал на поместье, практически изолированное от внешнего мира. Время от времени мы видели, как в ворота въезжали черные машины.
— Вы знали, что там происходит?
— Нет. Вскоре стали поговаривать, что немцы забирают высоких белокурых женщин, чтобы те рожали для них совершенных детей. К тому же в поместье работал французский персонал. Это были те самые люди, которые прежде состояли на службе у Ларошей. Полагаю, некоторые из них не смогли удержать язык за зубами. Я очень хорошо помню, что жители деревни называли девиц, живших в поместье, шлюхами.
— Значит, вам было известно, что отцы детей были немцами?
— Разумеется. Однажды одну из служащих, работавшую в кухне, выгнали из поместья. Эту местную девицу мы все хорошо знали. Ей не составляло никакого труда работать на оккупантов. Некоторые говорили, что она была «горизонтальной коллаборационисткой», как их тогда называли. Вот тогда-то она и принялась изливать свою ненависть к немцам и рассказывать обо всем, что там происходит. Она сообщила, что по отношению к персоналу девицы вели себя высокомерно и презрительно, словно думали, будто вышли из бедра Юпитера. Она также рассказывала, что все рождавшиеся там дети были белокурыми, с голубыми глазами и что в конце концов эта раса вытеснит все остальные. В какой-то момент никто больше не захотел ее слушать. Людям стало страшно. Мои родители запретили нам даже смотреть в сторону поместья.
Пьер Мерсье залпом выпил стакан и продолжил:
— Все так испугались, что даже после войны, слушая местных жителей, можно было умереть от смеха. Никто ничего не видел, никто ничего не знал. Невероятная коллективная потеря памяти.
— А вы сами видели этих женщин?
— В то время я был подростком. Знаете, запретный плод всегда сладок. И мы с приятелями начали играть в шпионов. Разумеется, мы подбирались к поместью не по дороге. Мы делали большой крюк по лесу, выходили на задворки поместья и наблюдали, глядя через решетку. Однажды мы видели, как в парке гуляли матери с колясками, в которых лежали дети. Ничего необычного. В другой раз мы разглядели медсестер и врача родильного дома. Они о чем-то разговаривали, стоя на крыльце.
— Вы знали этого врача? — спросила Элоиза, не дав мне возможности вмешаться.
— Нет. Сначала говорили, что это нацистский врач, приехавший из Германии, чтобы проверять расовую чистоту детей. Но потом мы узнали, что он был французским гинекологом.
— Как долго вы шпионили за родильным домом?
— Несколько месяцев. До того самого дня, когда нас заметил садовник. Мы испугались за свою жизнь и сразу же дали деру. Уверяю вас, в то время с этим не шутили. В нашем районе многих приговаривали к смерти только за то, что у них находили листовки. Поэтому у нас не было никакого желания быть схваченными. Не говоря уже о той головомойке, которую устроили бы нам родители, если бы обо всем узнали.
Элоиза проверила, хорошо ли работает диктофон, лежащий на столе.
— Вы помните пожар, вспыхнувший в поместье в 1942 году?
— Разумеется! Разве можно о нем забыть? Той ночью в начале февраля около четырех часов утра нас разбудил шум. Мой отец уже оделся. Он сказал нам: «В логове бошей пожар». С нашей фермы был виден огонь, отбрасывавший красные отсветы на лес. Моя мать не хотела, чтобы мы покидали дом, но мы с моим старшим братом ни за что не желали пропустить подобное зрелище.
— Вы видели пожар вблизи?
— Еще как! Когда мы прибежали, ворота были распахнуты, у них толпилось много народу. Здание было охвачено языками пламени. Это был огромный костер, из-за которого было светло как днем. Помню, я нашел это зрелище великолепным. Я даже не думал о детях, которые, возможно, еще находились в здании. Никто не испытывал к ним сострадания. Для нас они были маленькими нацистами.
— Люди пытались потушить пожар?
— Да, жители деревни делали все возможное. Помню, мой отец тоже пришел им на помощь. Но, думаю, они хотели спасти имущество Ларошей, которых в деревне все любили, а вовсе не обитателей родильного дома. Людям удалось свести ущерб к минимуму, но пожар продолжался всю ночь. Следующим утром поместье еще дымилось. Каменный остов здания почернел, но не разрушился. А вот внутренние помещения и крыша полностью выгорели. В таком виде поместье оставалось до конца войны. Потом его вернули Ларошам.
— Не знаете, были ли жертвы?
— Говорили, что одной матери с новорожденным не удалось спасти. Не знаю, так ли это. Сами понимаете, немцы перед нами не отчитывались.
— Что стало с детьми и персоналом поместья?
— Утром приехали немцы. Они оценили урон и запретили приближаться к поместью. Затем они вывезли обитателей родильного дома на грузовиках и автомобилях. Я уверен, что немецкий персонал уехал в полном составе. О других ничего не могу сказать. В любом случае в деревне они были персонами нон грата. В течение нескольких дней вокруг поместья ходили патрульные, потом и они уехали. Больше мы никого не видели.
— Вам известно, как возник пожар?
— После отъезда немцев у жителей деревни развязались языки. Говорили, что это был поджог. Что некоторым надоело присутствие фрицев. Но я никогда не верил в эту версию.
— Почему?
— Нас постигла бы ужасная кара, если бы немцы узнали о поджоге того, что вы теперь называете лебенсборном. Прежде мне никогда не удавалось произнести это слово, но теперь я делаю успехи…
Элоиза улыбнулась.
— А врач поместья? — не смог удержаться я от вопроса.
Пьер Мерсье повернулся ко мне.
— Я вам уже говорил, что не знал его. Понятия не имею, что с ним стало. Но, полагаю, при освобождении ему не поздоровилось.
— Что вы хотите этим сказать?
— Во время войны в нашем краю почти не было бойцов Сопротивления. Из-за географического положения местности, да и из-за близости к «запретной зоне», как они говорили. Но после высадки союзников, уверяю вас, их появилось множество, этих «сопротивленцев одиннадцатого часа». А ведь большинство из них были просто жуликами, мелкими спекулянтами, промышлявшими на черном рынке. Эти типы вопили о мести и во внезапном патриотическом порыве требовали смерти несчастных малых. Полагаю, что этот врач, как и другие ему подобные, окончил свои дни с пулей в башке. Вряд ли ему удалось отвертеться.
Мы возвращались в Париж… Теперь мы были менее разговорчивыми, особенно я.
— Подумай только, Орельен, если бы все свидетели великой истории заговорили, как этот мужчина…
— Полагаю, тогда у тебя прибавилось бы работы.
— Да, — согласилась Элоиза, улыбаясь. — Но так больно говорить себе, что последние свидетели войны уходят из жизни, унося в могилу свои тайны.
— Примерно о том же я думал совсем недавно, когда мы бродили по поместью.
Элоиза остановилась возле моего дома около семи часов вечера. Я не спешил выходить из машины. Несколько минут мы сидели молча. Затем Элоиза нарушила молчание.
— Возможно, нам надо еще раз встретиться. И необязательно для того, чтобы поговорить о лебенсборнах…
Я, немного удивившись, повернулся к ней.
— Я собирался предложить тебе то же самое.
— Знаю.
— А!
— Звони мне, когда захочешь… В любое время.
Я подумал, что она намекает на мой поздний звонок из Рима.
Предложение Элоизы стало для меня целебным бальзамом.
На следующий день я встал поздно, позавтракал в ресторане через две улицы от своего дома и целый день смотрел фильм Висконти «Земля дрожит», делая заметки для сравнительного анализа, с которым хотел познакомить своих учеников на следующей неделе. В понедельник я больше думал об Элоизе, чем о своем деде и о войне. К сожалению, это длилось недолго.
Вернувшись вечером домой, я вынул корреспонденцию из почтового ящика. Мое внимание сразу же привлек бежевый конверт без марки и адреса. На нем совершенно безликим почерком были написаны мое имя и фамилия: «Орельену Коше».
В конверте я нашел небольшую карточку того же цвета:
«Последнее предупреждение».
Не знаю, что произвело на меня большее впечатление: свастика или два слова, написанные в мой адрес. Несколько минут я стоял, прислонившись к почтовым ящикам, расположенным у входа в здание, и не сводил глаз с четырех крюков свастики. Я уже почти жалел, что вытащил из конверта карточку и что не извлек никаких уроков из ограбления своей квартиры. С другой стороны, я понимал, что те, кто подбросил мне конверт, не были настолько глупы, чтобы оставить на карточке отпечатки пальцев.
Я поднялся в квартиру и просидел добрых полчаса в полутьме на диване, на котором десять дней назад лежал вспоротый труп моего кота. Новая угроза задела меня за живое. Я, потрясенный до глубины души, спрашивал себя, за какие грехи мне выпала такая судьба.
Из оцепенения меня вывел резкий телефонный звонок.
Звонили из больницы. Ровный голос сообщил мне, что на мою сестру было совершено разбойное нападение в ее же квартире и что сейчас она находится в отделении неотложной помощи.
Часть 3 Рашель
Отец и мать страстно любили нас. Но, как случается со многими родителями, эта любовь таила для нас смертельную опасность.
Пэт Конрой. Принц приливовГлава 21
Сернанкур, февраль 1942 года
К вечеру облака рассеялись. Теперь на небе ярко светила полная луна. За массивной решеткой посреди парка четко вырисовывался белый, как мел, силуэт здания. Огни были погашены, ставни закрыты. Сейчас здание напоминало изящный кукольный домик, сделанный для маленьких девочек из буржуазных семей.
Шорох… Тереза, у которой неистово билось сердце, прижалась к стене.
— Ты слышал? — прошептала она, обращаясь к своему спутнику.
Огюстен напрягся, прислушиваясь. Шорох повторился. Он доносился из зарослей у них за спиной. Ночь усиливала любой звук, даже самый тихий, которого днем никто бы не расслышал.
— Ничего страшного, это какое-то животное… — успокоил он ее.
Они, крадучись, шли вдоль стены, стараясь не ступать на опавшие ветви. Впрочем, опасность, что их заметят, была невелика. Жители деревни полагали, будто родильный дом охраняли круглые сутки, как крепость. Но Тереза знала, что ночью охраны вообще не было.
Тереза испытывала чувство, сотканное из страха и восторга. Ее переполняла радость при одной только мысли о неминуемой мести. В течение полугода ее унижали, порицали, презирали. Более того, на нее объявили охоту, как на нечистоплотную, мерзкую воровку из-за этой истории с кофе, которую она никак не могла объяснить. Конечно, как и другие, она иногда лакомилась украдкой. В конце концов, эти девицы, бившие весь день баклуши, не заслуживали всех этих яств, которые им подавали, когда люди в округе умирали с голоду. Но до кофе она никогда даже не дотрагивалась.
Перед глазами Терезы до сих пор стоял образ этой мерзкой главной медсестры, которая в присутствии всего персонала своим визгливым голосом с жутким акцентом орала на нее. Ничего, скоро она раскается. Как и все эти девицы, которые расхаживали с важным видом, демонстрируя ей свое презрение. И тем хуже для их детенышей… В конце концов, это просто гнусные маленькие боши.
Огюстен открыл калитку. Плохо смазанные петли заскрипели. Две тени обменялись взволнованными взглядами.
— Ты уверена, что хочешь это сделать? Еще не поздно отступить.
— Нет, продолжим, — подбодрила она его.
— Все же я предпочел бы, чтобы ты подождала меня на улице.
— Об этом не может быть и речи, мы так не договаривались. Я хочу вернуться сюда в последний раз.
— Замечательно.
Тереза хотела получить все за свои деньги. Но это так, ради красного словца, поскольку, чтобы добиться помощи Огюстена и заручиться его молчанием, она заплатила своим телом. Два раза. А третий будет тогда, когда он выполнит работу.
Они молча прошли метров двадцать, отделявшие их от здания. После того как Терезу уволили, никто не подумал забрать у нее ключи. Таким образом, у них не было необходимости взламывать замки. Тереза прекрасно ориентировалась и показывала дорогу своему спутнику. Они зашли с заднего хода, через кухню, где она работала еще две недели назад, потом, миновав длинный коридор, попали в гостиную, погруженную во тьму. Неожиданно из темноты вынырнула голова Огюстена, похожая на восковую маску. Он зажег спичку, чтобы сориентироваться в комнате.
— Отойди в сторону, — посоветовал Огюстен. — Надо быть готовыми в любой момент смыться.
Гостиная вновь погрузилась в кромешную тьму. На ощупь молодой человек осторожно открыл бутылку, которую принес с собой. Это был быстро воспламеняющийся раствор на основе уксусной кислоты, который он украл из сарая отца. При слабом лунном свете, просачивающемся сквозь решетчатые ставни, Огюстен смочил раствором льняные шторы. Отойдя на шаг, он зажег спичку, осторожно подошел к окну и едва успел отпрыгнуть назад.
Толстые шторы вспыхнули, как факел. Пламя полностью охватило их. Комнату мгновенно залил золотистый свет. Казалось, все предметы, стоявшие там, ожили.
— А теперь сматываемся, — приказал Огюстен, хватая Терезу за руку.
Они стремительно побежали и обогнули решетку, окружавшую парк. Тереза не смогла удержаться, чтобы не бросить последний взгляд на поместье, зацепилась ногой за корень и упала. Огюстен был уже далеко впереди.
— Черт возьми, ты с ума, что ли, сошла?
Тереза быстро поднялась, но осталась стоять на месте.
— Подожди! — крикнула она. — Я хочу посмотреть…
Прорези в ставнях на первом этаже сверкали, как неопалимая купина. Тереза, прижавшись лицом к решетке, судорожно сжимала ржавые прутья. Зрелище было таким завораживающим, что она не могла отвести взгляд от здания.
— Надо уходить! — заорал Огюстен.
Молчание ночи разорвали крики, похожие на взвизгивания, к которым примешивался звон бьющейся посуды. Возможно, это под воздействием жары лопались оконные стекла.
Когда языки пламени начали вырываться из окон, на губах Терезы появилась улыбка. Она повернулась спиной к зданию и со всех ног помчалась к опушке леса.
Глава 22
«В очередной раз возобновлено дело об убийстве в Суланже
Двенадцатого марта в кладовке, примыкающей к дому, была найдена Николь Браше, безобидная пенсионерка, жившая в коммуне Суланж. Она была убита и привязана к стулу клейкой лентой. Эта трагедия вызвала широкий резонанс в небольшой коммуне Марна и ее окрестностях.
Первое время Отдел по расследованию убийств жандармерии Шалон-ан-Шампань неохотно делился информацией по этому делу. Было известно лишь о том, что предпочтение отдавалось версии об ограблении с применением насилия, закончившимся убийством. Эти кражи с угрозами в частных домах называют “домушничеством”.
Три дня назад дело приняло иной оборот. Были арестованы двое подозреваемых, задержанных после нового ограбления в квартале Эперне (см. наш выпуск от 10 мая). Хотя жандармы установили связь между этим делом и несколькими нападениями на дома, совершенными в районе за последние два года, на настоящий момент ничто не позволяет утверждать, будто они имеют отношение к смерти восьмидесятилетней женщины.
Как заявил капитан Лорини из жандармерии Шалон-ан-Шампань, “обстоятельства смерти мадам Браше отличаются от обстоятельств, при которых совершались налеты на дома в этом районе”. Совокупность деталей наводит на мысль о том, что преступник или преступники хотели натолкнуть полицию на ложный след и ограбление не было главным мотивом нападения.
Расследование приняло новый оборот через несколько дней в связи с запоздалым свидетельством соседей жертвы, которые дали следователям “основополагающую” информацию. Один из свидетелей действительно видел, как в день убийства перед домом мадам Браше стояла белая машина. Капитан Лорини подтвердил, что “в данный момент эксперты проводят проверку и делают всевозможные анализы”. Прокурор Республики также не слишком словоохотлив. Он лишь отмечает, что существует несколько версий у тех, кто расследует преступление, которое сейчас рассматривается как предумышленное убийство, не имеющее прямого отношения к совершенным ранее ограблениям».
Как только ее взгляд упал на заголовок в газете, сердце бешено забилось. Она не случайно наткнулась на эту статью. После смерти Николь Браше она каждый день перелистывала утреннюю газету, следя за ходом расследования. До сих пор она была убеждена, что жандармы продолжают отрабатывать версию об ограблении. Ни одного свидетеля, ни одного подозреваемого, ни одной улики…
Но при упоминании о «белой машине» и анализах, проводимых специалистами, ею овладела паника. Свидетели, объявившиеся в последнюю минуту… Это напоминало дурной сон.
Она с трудом встала и взяла из ящика кухонного буфета коробочку с успокоительными средствами, которые прописал ей врач. Она налила воды в стакан и проглотила таблетку, пытаясь унять тревогу. Затем немного постояла, любуясь каштанами, росшими в саду. Старые пузырчатые, немного вогнутые оконные стекла слегка искажали их очертания. Через это самое окно она видела его в последний раз…
Она осталась одна. Анри ушел. Ее дорогой Анри, с которым она провела двадцать пять лучших лет своей жизни. Может, ее существование обретет смысл, когда она покинет этот огромный дом, полный воспоминаний?
Она не могла не думать о смерти этой старой женщины, которую так хотела предотвратить… И о жандармах, которые в конце концов доберутся до нее, выйдя на белую «ауди» Анри, стоявшую в гараже, в нескольких метрах отсюда… Легко ли избавиться от машины? Впрочем, что можно предпринять в ее-то возрасте? Надо было найти какое-нибудь решение. Она не могла сидеть сложа руки и ждать, когда они идентифицируют машину.
Из-за облаков на минуту выглянуло солнце. Сегодня погода будет переменчивой. Алиса сложила газету вчетверо и опустила ее на дно мусорного ведра под раковиной, словно пытаясь прогнать реальность, терпеть которую у нее больше не было сил.
Глава 23
На Анну неожиданно напал человек в капюшоне, когда она открывала дверь.
К сожалению, Офелия, девушка, с которой она вместе снимала квартиру, еще не вернулась. Вероятно, незнакомец поджидал Анну, спрятавшись на лестничной площадке. Он втолкнул мою сестру в квартиру, повалил на пол и стал пинать ногами. Он также несколько раз ударил ее по лицу. Хотя в подобных обстоятельствах понятие времени становится весьма относительным, Анна утверждала, что весь этот кошмар длился одну-две минуты.
Когда в больнице я увидел свою сестру, то с трудом сдержал слезы: за эту неделю я плакал больше, чем за последние двадцать лет. Нападавший сломал Анне нос. Под глазами и на правой щеке виднелись фиолетовые синяки и кровоподтеки. Ее прелестное личико с тонкими чертами превратилось в воспоминание.
Врач, с которым я разговаривал, пытался меня успокоить. С клинической точки зрения, положение Анны не было серьезным. Гораздо сложнее будет избавиться от психологической травмы, которая неизбежно появляется после нападений подобного рода. Сейчас Анна нуждалась в заботе и внимании. Врач также сказал мне, что моя сестра проведет еще одни сутки в больнице под медицинским наблюдением. Эти меры предосторожности помогут ей выдержать столь нелегкое испытание.
— Вы уверены, что ее не…
Я не мог произнести это слово.
— Нет, не волнуйтесь. Она не подверглась сексуальному насилию.
В тот вечер я почувствовал себя окончательно выбитым из колеи. Я не только не сумел помочь своей сестре, когда она в этом нуждалась, но и всем своим поведением поставил ее под угрозу. Человек, напавший на Анну, ничего не украл из квартиры, не устроил погром. Список мотивов стремительно сокращался. Я нисколько не сомневался в том, что нападение на мою сестру было связано с полученными мной угрозами и расследованием, которое я вел.
В больнице дежурил полицейский. Едва очнувшись после нападения, Анна бросилась к соседям. Те сразу же вызвали полицию и «скорую помощь». К сожалению, соседи Анны были пожилыми людьми, к тому же немного глуховатыми, так что в момент самого нападения они ничем не могли ей помочь. А также не могли дать свидетельских показаний.
— Кто мог затаить злобу на вашу сестру? — спросил меня человек в форме. — Брошенный ревнивый дружок? Или кто-нибудь еще в этом роде…
Я понимал, что больше не мог молчать о событиях, происшедших за последние недели. И я рассказал полицейскому о полученных мной угрозах и об ограблении, жертвой которого я стал. Когда я сообщил ему, что не подавал жалобы, он нахмурился и посмотрел на меня так, словно в чем-то упрекал.
— Не понимаю. Вы рассказываете мне об угрозах. Значит, вы думаете, что у вас есть враги?
Я старался как можно лаконичнее и доходчивее рассказать ему об открытиях, сделанных мной, и об исследованиях Элоизы. Думаю, что я окончательно сбил полицейского с толку, когда произнес слова «нацистский родильный дом».
— Послушайте, — смущенно прервал он меня. — Я пришел сюда только для того, чтобы взять показания у вашей сестры. Эта история кажется мне слишком сложной. Прошу вас прийти завтра в комиссариат, чтобы уточнить все обстоятельства.
— Разумеется. Думаю, все окажется гораздо проще.
Я наивно спросил, не получит ли Анна право, по крайней мере на этот вечер, на полицейскую защиту.
— Мне очень жаль, но каждый час во Франции совершается около пятидесяти разбойных нападений. Как вы сами понимаете, полиция не может предоставить персональную защиту всем жертвам.
Я хотел остаться на ночь с Анной, но она находилась под действием сильных успокоительных средств, и мне разрешили провести с ней только четверть часа.
— Не волнуйтесь, мы проследим за ней, — сказала мне медсестра, сочувственно улыбаясь.
В палате я обхватил маленькую кисть своей сестры, сжавшуюся, как у больной птички, и с ужасом смотрел на изуродованное лицо. Я всегда был миролюбивым человеком, но сейчас понимал тех, кто лично мстил обидчикам, объявляя им настоящую вендетту. Возможно, я тоже голыми руками убил бы напавшего на Анну, если бы в этот самый момент столкнулся с ним.
— Обещаю, сестренка, с этой самой минуты я буду заботиться о тебе.
Конечно, она не слышала меня, заснув от усталости и снотворных. Я поклялся себе, что эти слова не были просто благими намерениями.
В начале одиннадцатого я позвонил в дверь Элоизы. По моему расстроенному лицу она поняла, что произошло что-то серьезное. Я рассказал ей о нападении на Анну, упомянув о карточке со свастикой, которую нашел среди своей корреспонденции.
— Это ужасно, Орельен. Дело зашло слишком далеко. Надо обо всем рассказать полиции.
— Я уже рассказал, правда, частично. Завтра я пойду в комиссариат и объясню им все подробно. Но уже сейчас я могу заверить тебя, что они ничего не поймут. Полицейский, с которым я разговаривал в больнице, в лучшем случае принял меня за чудака, в худшем — за типа, которому есть что скрывать.
— Но кто мог отважиться на такое? Кто готов совершить преступление, чтобы сохранить в тайне события, происходившие более пятидесяти лет назад?
— Тот, кто стремится скрыть гораздо больше, чем мы думаем.
— Ты по-прежнему считаешь, что этот Долабелла…
— Я ничего не считаю. Но я хочу, чтобы с этой минуты ты была очень осторожна и не делала ничего такого, что могло бы кого-нибудь навести на мысль о том, что ты занимаешься лебенсборнами.
Элоиза испуганно посмотрела на меня.
— Но, Орельен, это тема моей диссертации! Неужели ты хочешь, чтобы я все бросила?
— Не знаю. Но сейчас ограничься работой с книгами. Сиди в библиотеке Сорбонны. Думаю, там ты ничем не рискуешь.
— Не уверена. Ты читал «Имя розы»?
— Я говорю серьезно, Элоиза. Думаю, кто-то пристально следит за нами с самого начала всей этой истории. Этот человек знает, что на прошлой неделе мы ездили в Сернанкур и разговаривали с Пьером Мерсье. И поэтому больше никаких посещений бывших лебенсборнов, никаких расспросов возможных свидетелей… И вот тебе мой совет: отдай мне видеокассету. Я сделаю еще одну копию и спрячу ее в надежном месте.
Элоиза направилась к бару.
— Хочешь выпить? Отец прислал мне бутылочку макона.
— Почему бы и нет? Думаю, сейчас мне это необходимо…
Взяв стаканы, мы сели на диван. Комнату заливал слабый свет торшера. Мы хотели забыть о событиях последних дней. Элоиза стала рассказывать мне о своем деревенском детстве, которое провела на ферме своих родителей, о бабушке — целительнице, лечившей ревматизм и артрозы, о первой любви по имени Тристан, который был красив, как молодой полубог, но совсем не умел целоваться…
— Он запихивал свой язык в мой рот с нежностью лесоруба. Это было ужасно.
— Как получилось, что ты увлеклась историей?
Элоиза закрыла лицо руками.
— Ты сочтешь это смешным.
— Нет, мне действительно интересно.
— Хорошо. Был такой мультфильм под названием «Жил-был Человек»…
— Я хорошо помню этот сериал. Он мне очень нравился. А ты помнишь заглавные титры?
Элоиза принялась напевать токкату ре-минор Баха.
— Да, это было время, когда титры мультфильма сопровождались музыкой Баха… Словом, именно тогда я заинтересовалась великими цивилизациями.
— Подумать только! Не будь Маэстро и Пьера, мы бы с тобой сегодня не разговаривали!
— Это очень интересное изложение истории, — улыбаясь, продолжила Элоиза. — Сначала, как большинство девчонок и мальчишек, я хотела стать археологом. Потом, в выпускном классе, нам показали отрывки из «Шоа» Клода Ланцмана. Я поняла, что отныне для меня многое изменилось и я хочу изучать историю XX столетия. На факультете мне повезло: я встретила преподавателя, о котором уже говорила тебе.
— Это тот, который открыл для тебя лебенсборны?
— Да. А как ты стал преподавателем подготовительных курсов?
Я сделал вид, что задумался.
— Вероятно, это восходит к тому времени, когда я открыл для себя «Мартину на море».
— Вот видишь! Я же говорила, что ты будешь надо мной смеяться. Нет, серьезно?
— У меня было беззаботное детство. Я много читал, уйдя в себя. Я пристрастился к литературе. В пятнадцать лет я прочел всего Пруста, но, разумеется, не говорил об этом со своими учителями. Да и все равно они бы мне не поверили.
— А я так и не сумела прочитать дальше десятой страницы, — весело откликнулась Элоиза.
— Но от деда я заразился любовью к кино. После бакалавриата я собирался поступать в Институт кинематографии. Но целый год я бездельничал. А потом, я думал, что вполне достаточно посмотреть сотни фильмов, чтобы поступить туда. Разумеется, на вступительных экзаменах я с треском провалился.
— И ты не попробовал пересдать экзамены?
— В то время я не был таким усердным. Скорее меня можно было назвать лоботрясом.
— Потрясающе! Я с трудом представляю тебя таким.
— Тем не менее это правда. Я был балбесом, враждовавшим со всем миром. Мой дед очень любил нас и всегда слишком баловал. У него был только один сын, и он считал нас своими детьми, которых ему не довелось иметь.
— А твой отец?
— Мой отец был полностью поглощен работой…
— Чем он занимался?
— Недвижимостью. Он не особо любил свою профессию, но жил в страхе, что рано или поздно у нас не будет денег. Это какой-то наследственный порок в нашей семье.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Мой прапрадед изготавливал чугунные орнаменты, пользовавшиеся успехом во всей Европе. Ты видела реликвию той эпохи в саду нашего дома в Арвильере.
— Фонтан? — предположила Элоиза.
— Совершенно верно. Прапрадед сколотил колоссальное состояние, которое его дети промотали. Мой дед был вынужден начинать с нуля. Но это совсем его не смущало, он не считал зазорным трудиться. Однако для моего отца неудачи его деда стали навязчивой идеей. Он работал как одержимый, пытаясь зарабатывать как можно больше денег. Но он никогда не пользовался ими в свое удовольствие. Думаю, он всю жизнь чувствовал себя несчастным. А вот я стал расточительным звеном цепи.
— Ты никогда не был близок с отцом?
— По-настоящему нет. Мы не ссорились, но я не знаю, хорошо ли это. Мы не разговаривали по душам. Между нами не было нежности. Дед был мне намного ближе. Теперь ты понимаешь, почему из меня не вышел хороший отец?
— Зачем ты так говоришь? Глупо верить, что из ребенка, которого часто бьют, вырастет жестокий взрослый.
— Это расхожее мнение. Но разве ты знаешь много отцов, которые не моргнув глазом позволили бы бывшей жене увезти их ребенка за границу, чтобы там его воспитывал чужой человек?
— Все не так просто… Ты же сам мне сказал, что твоя бывшая мечется между Римом и Парижем.
— Возможно, я преувеличиваю, но могу тебя уверить, что образцовых отцов не бывает…
— А твоя сестра? В каких отношениях она была с отцом?
— Анна была еще маленькой, когда он умер, так что она всегда его идеализировала. Между ними установилось настоящее сообщничество. Его смерть потрясла Анну. Думаю даже, она всегда немного сердилась на меня за то, что я не переживал так же сильно, как она.
— Странно…
— Да нет. Просто у Анны хрупкая психика. Как многие люди, страдающие депрессией, она до сих пор не понимает: то, что касается непосредственно ее, нисколько не волнует других.
Почему я все время возвращался к своему отцу? Его смерть была похожа на риф, на который постоянно наталкивалось мое суденышко. Элоиза вывернула мою душу наизнанку, чего до нее никто никогда не делал.
— Полагаю, это была минута психоанализа.
— Мне очень жаль, что мои вопросы были не слишком-то скромными.
— Нет, я шучу. Мне надо было выговориться. Вскоре после того как я отказался от мысли стать новым Кубриком, мой отец погиб. Я не знал, что делать. После окончания подготовительного курса я мог бы поступить в Высшую нормальную школу, но с треском провалился на устном экзамене. Потом я прозябал на факультете, прежде чем мне удалось сдать на агреже. Правда, тут мне повезло: мне попался текст, который я уже когда-то переводил. Дуракам всегда везет.
Элоиза встала и поставила компакт-диск с произведениями Джона Колтрейна. Меня очаровали первые же аккорды фортепьяно, за которыми последовала колдовская мелодия саксофона.
— «Мой маленький мир», — заметил я.
— Ты знаешь?
— Это один из моих самых любимых альбомов.
Элоиза направилась к дивану, но не села на свое место. Она приблизилась ко мне и стремительно поцеловала в губы. Я так ждал этого поцелуя, но не надеялся, что она решится. Мне сразу же понравился вкус ее губ. Я отплатил Элоизе тем же, прижав ее к себе. Но мой поцелуй был более продолжительным и страстным. Я потерял голову от восторга.
— Ну как, я целуюсь лучше, чем Тристан?
— Это не так уж сложно, — ответила она, смеясь.
Глава 24
Я провел ночь у Элоизы, глядя на звезды. Между мной и небом Парижа не было никаких препятствий, кроме оконного стекла ее мансарды.
Мы занимались любовью с чувством, которого я не испытывал уже много лет. Нет, это не было очередным завоеванием новой женщины. Я даже не пытался показать себя с лучшей стороны. Я просто отдался глубокому желанию, которое возбуждала во мне Элоиза.
Но абсолютная безмятежность, которую вызвали во мне наши крепкие объятия, длилась недолго. Сон никак не приходил ко мне. Я все время думал о сестре, о подлом нападении, жертвой которого она стала. Мне тяжело в этом признаваться, а тем более писать об этом, но порой мне случалось — когда депрессия сестры усиливалась, — думать об Анне как об обузе и даже говорить себе, что без нее я был бы более счастливым. Полагаю, что в тот или иной момент всех одолевают ужасные мысли, которые никто не осмеливается высказать вслух. Правда, мои мысли периодически повторялись и порой даже становились навязчивыми.
Но той ночью я осознал, что не смогу жить, если Анна умрет. И это не было смутным предположением, лишенным смысла.
Я проснулся около девяти часов утра. Элоиза уже ушла. Как аспирантка, она вела теоретические занятия у студентов первого цикла. Она собиралась так тихо, что я не услышал никакого шума. На кухонном столе я нашел записку:
«Я очень рада, что ты остался у меня на ночь. Я буду занята весь день и приду домой около шести. Сможешь зайти вечером? Надеюсь, что с твоей сестрой все будет хорошо.
Целую».
У меня занятия начинались только в час дня, и поэтому я решил зайти в больницу.
Анна шла на поправку. Вернее, она чувствовала себя настолько хорошо, насколько это возможно после столь жестокого нападения. Врач вновь осмотрел Анну и согласился выписать ее из больницы днем. Тем не менее он предупредил меня, что после подобных переживаний жертва может вести себя неадекватно.
«Я к этому привык», — едва не ответил я.
Анна сидела на кровати в больничной пижаме.
— Кто я? — спросила она меня.
В детстве мы любили играть в одну игру. Один из нас застывал, изобразив на лице выразительную гримасу или приняв особую позу, а другой должен был догадаться, о каком персонаже — реальном или вымышленном — идет речь.
Но сейчас я не был настроен играть. Анна тем более, однако она, вне всякого сомнения, ощущала потребность освободиться от тревоги.
— Не имею ни малейшего представления, — ответил я.
— Подсказка: Мэри Шелли.
— Франкенштейн?
— Угадал, — откликнулась она, печально рассмеявшись.
— Болит? — спросил я, показывая на повязку, наложенную на нос.
— Немного, но терпеть можно. Завтра они сделают мне ринопластику. Похоже, надо вправить перелом, иначе нос останется искривленным. Франкенштейну предстоит пережить пластическую операцию.
— Восстановительную, — поправил я. — Я подожду, когда тебя выпишут, а потом отвезу домой.
— О нет! Не надо играть в сиделку! Сегодня Офелия свободна. Она скоро заедет за мной.
— Но все же я могу тебе помочь…
— Не волнуйся, Офелия проведет со мной весь день. А у тебя и так полно дел.
Выйдя из больницы в начале двенадцатого, я сразу же направился в комиссариат, как и обещал. Новое испытание вызывало во мне подспудную тревогу. Полицейский, с которым я встречался накануне, несомненно, доложил о моем деле, поскольку меня сразу провели к комиссару, едва я назвал свое имя. В унылом кабинете со стандартной обстановкой я вновь попытался последовательно изложить свою историю. Но у меня самого возникло впечатление, будто я путаюсь в лабиринте своего рассказа.
— Я вот что не могу понять, мсье Коше. В ваших вещах рылись, вам угрожали, наконец, у вас украли фильм, который по вашим словам обладает определенной исторической ценностью, но вы не подали жалобу…
Он не упомянул о «вечернем госте» только потому, что я не счел необходимым рассказывать ему о том, что моему коту вспороли живот.
— Понимаю, я поступил легкомысленно, но для меня все это стало настоящим потрясением. Я решил, что мне будет трудно рассказывать о происшедших событиях постороннему человеку.
Комиссар нахмурился. Возможно, я дал ему понять, что нахожу полицейских слишком глупыми, совершенно неспособными понять эту историю. Наконец я дошел до убийства Николь Браше. Правда, я не знал, имеет ли оно непосредственное отношение к первой части моего рассказа. Должен сказать, что я долго колебался, прежде чем решился поведать о трагической судьбе этой старой женщины. Впрочем, в том положении, в какое я попал… Новая тень промелькнула на лице комиссара.
— Подождите. Я должен все записать. Повторите имя этой женщины и дату, когда произошло убийство.
Я напряг память и сообщил комиссару все подробности, которые вычитал в «Юнион». Он озабоченно почесал лоб.
— Вы уверены, что ваш дед умер естественной смертью?
Ко всем вопросам, мучившим меня, комиссар добавил еще один, который я никогда себе не задавал.
— Да, уверен. Ему было девяносто лет. Врачи диагностировали у него инфаркт мозга.
— Так, послушайте. Конечно, ваша история очень… нетипичная… Я могу понять, почему вы не хотели ставить в известность полицию. Мы уже зарегистрировали жалобу по поводу нападения на вашу сестру. Что касается остального, я должен навести справки и связаться с жандармерией. И вот еще что… Вы в любой момент можете мне понадобиться…
Я опоздал на занятия и был вынужден продлить их на целый час, что вызвало всеобщее недовольство.
— Если вы не хотите поступать в Высшую нормальную школу и предпочитаете провести еще один год на подготовительном курсе, можете идти. Никто вас не держит, — сухо произнес я.
Обескураживающая перспектива тут же восстановила спокойствие в аудитории.
Около семи часов, закончив принудительные занятия со своими учениками, я позвонил Элоизе из преподавательской комнаты лицея. Я весь день думал о ней. Мне хотелось сжать ее в объятиях, почувствовать ее рядом, заняться с ней любовью. Она возродила во мне волнение и возбуждение, свойственные состоянию влюбленности, те самые чувства, о которых меня постепенно заставили забыть мои мимолетные увлечения. Я рассказал ей о происшедших событиях и поведал новости о сестре.
— Ты придешь вечером?
— Я могу быть у тебя около восьми часов, если не возражаешь. Принесу что-нибудь поесть…
— Не знаю. — Она притворилась, будто сомневается. — Мне надо подумать…
В семь часов я зашел к себе домой, чтобы взять кое-какие личные вещи, потом купил несколько китайских блюд в ресторанчике на улице, где жила Элоиза.
Когда Элоиза открыла мне дверь, я сразу же заметил, что вид у нее хмурый. Она поцеловала меня.
— Что случилось?
— Входи. Мне надо кое-что тебе рассказать.
Тон Элоизы насторожил меня. Я поставил блюда на кухонный стол, не спуская с нее глаз.
— Садись.
— Я слушаю тебя.
— Помнишь, когда мы обедали в Арвильере, в ту субботу… В машине я сказала тебе, что мне знакомо лицо Алисы…
— Да, и что?
— Не знаю почему, но я вдруг снова об этом подумала. Я не говорила тебе, но чем дальше, тем сильнее я убеждалась, что где-то ее видела. А недавно, когда я приводила в порядок документы, у меня в голове что-то щелкнуло…
— О чем ты говоришь?
— Я вспомнила.
Элоиза взяла лист бумаги формата А4, лежащий на столе.
— Смотри.
Это была фотокопия газетной статьи.
«Открытие центра для детей-инвалидов “Досуг для всех”
В субботу в Сернанкуре, небольшой деревне в департаменте Марна, был открыт центр “Досуг для всех”, предназначенный для детей с физическими, умственными или сенсорными расстройствами в возрасте от шести до шестнадцати лет.
Центр распахнул свои двери в старинном особняке, приобретенном в 1986 году Генеральным советом и до сих пор пустовавшим. Он смог появиться благодаря усилиям департамента, мэрии Сернанкура и Французского фонда. При щедрой помощи частных лиц здание, находившееся в аварийном состоянии, было полностью отреставрировано в соответствии с нормами безопасности.
Новый досуговый центр, в котором каждый специалист-аниматор будет заниматься тремя детьми, будет работать под руководством постоянного директора, в основном по средам и во время школьных каникул».
Статья была проиллюстрирована фотографией центра в том виде, в каком я видел его в прошлые выходные.
— Куда ты клонишь?
— Посмотри внимательно на фотографию.
Я вновь взглянул на фотокопию. Среди людей, стоявших перед зданием в день открытия центра, на первом плане я увидел Алису.
Глава 25
Жандармерия Шалон-ан-Шампань
Капитан Лорини стоял перед своей командой, не скрывая нетерпения. Он ждал, когда в кабинете воцарится тишина.
Хотя арест двух налетчиков-домушников позволил далеко продвинуться в делах о вооруженных нападениях, вызвавших сильное волнение среди жителей края, он никак не способствовал расследованию убийства Николь Браше. Благодаря опросам лиц, контактировавших с жертвой, Лонэ и Дюамель с уверенностью установили, что записная книжка Николь Браше исчезла, а это подтверждало версию о том, что убийца знал свою жертву.
— Есть какие-либо соображения относительно записной книжки? — спросил Лорини у лейтенанта Дюамель, когда та вернулась.
— Когда Эрика Фабр упомянула о телефонном номере, я вспомнила о деле, о котором рассказывали в уголовной хронике.
Как и многие молодые следователи, разочарованные банальностью преступлений, с которыми они постоянно сталкивались, Эмили обожала смотреть передачи о громких уголовных делах, буквально заполонивших телевизионные каналы. Форма замещения, но в то же время прекрасный способ узнать и по достоинству оценить сильные и слабые стороны полицейского расследования.
— Молодую женщину убили в доме ее родителей, нанеся ей многочисленные ножевые ранения. Преступник не оставил никаких следов, но прихватил с собой записную книжку жертвы.
— Да, припоминаю. Я слышал об этом деле.
— Убийцу никогда бы не поймали, но следователи предположили, что его имя фигурирует в записной книжке жертвы.
Порой капитан Лорини строго относился к новичкам, желая их закалить. Но он должен был признать, что с каждым днем эта молодая женщина все больше его удивляла. Она действительно была создана для этой работы.
— Так, не стоит тянуть дальше, — начал капитан. — Пришли результаты химических анализов. Машина, которую мы ищем, это «ауди 80 В3». Судя по картотеке, в районе Шампань — Арденны зарегистрировано около шести тысяч машин этой модели…
— Шесть тысяч? — переспросил Франк Лонэ.
— Будем надеяться, что в 2010 году мы все-таки закроем это дело, — прошептала Эмили, обращаясь к своему коллеге.
— Но после детализированного анализа химического состава эксперты установили, что эта машина была выпущена в 1986–1987 годах, то есть количество уменьшается до… восьмидесяти девяти машин.
Жандармы вздохнули с облегчением. Старый добрый прием, к которому капитан часто прибегал: сначала сгустить краски, чтобы задача, которую предстояло выполнить, показалась детской игрой.
— Мы поступим следующим образом. Сначала вы сверите список владельцев машин со списком знакомых жертвы, составленным Лонэ и Дюамель. Если это ничего не даст — а я считаю, что не следует слишком надеяться, — мы проверим все машины, обойдя их владельцев.
Хотя капитан Лорини был настроен скорее оптимистично, он хорошо знал, что в расследовании дел такого рода можно потерпеть сокрушительное поражение. Как и все, он помнил об аварии, в которой два года назад погибла принцесса Диана. Пресловутый «фиат уно», столкнувшийся с «мерседесом» принцессы в тоннеле Альма, так и не нашли, несмотря на колоссальные усилия. Были проверены четыре тысячи машин, три из которых прошли строжайшую экспертизу. Безрезультатно. Это дало повод для слухов о заговоре. Многие британские таблоиды подвергли Францию резкой критике, причем необоснованной.
— Мы располагаем ограниченными средствами. На расследование этого дела я могу выделить только четырех человек. Так, на настоящий момент у нас будет две группы. Франк и Дюамель, до сих пор вы приносили нам удачу, значит, вы будете первой парой. Вторая пара будет состоять из Морено и Симоне.
Обе пары смерили друг друга оценивающим взглядом с головы до ног, словно поиски правды, объединившие их, сейчас превратились в спортивное соревнование.
— В каком порядке мы должны проверять машины? — спросил Франк.
— Лучше всего отрабатывать машины с географической точки зрения. Центром, разумеется, должен быть Суланж. Постепенно мы расширим наши поиски до границ района.
— А если это ничего не даст? — предположила Эмили.
— Об этом говорить еще рано. Не надо быть пессимистом с самого начала. Если убийца — знакомый Николь Браше, значит, есть все шансы, что он живет в округе, относительно недалеко от фермы. В любом случае поиски за пределами района окажутся не в нашей компетенции.
Капитан помахал списком из восьмидесяти девяти владельцев машин, один из которых мог быть убийцей, разыскиваемым в течение вот уже двух месяцев.
— Я не буду учить вас, как надо работать. Только прошу, чтобы вы отнеслись внимательно ко всем машинам, недавно побывавшим в ремонте: новая покраска, правый указатель поворота… Убийца или убийцы первым делом должны были скрыть следы аварии, чтобы не привлекать нашего внимания. При малейшем подозрении задерживайте владельца и отправляйте машину на экспертизу.
Взгляд капитана изменился, голос стал более строгим, более торжественным.
— Прошу вас, будьте осторожны. Этот человек уже совершил убийство, и теперь он представляет для всех потенциальную опасность. Никогда не знаешь, как поведет себя преступник, чувствующий, что его преследуют. Не рискуйте напрасно, не изображайте из себя героев. Я не хотел бы, чтобы один из членов моей команды вышел из строя.
— Не волнуйтесь, капитан, вы от нас так легко не отделаетесь, — усмехнулся Франк.
— Я не шучу, Лонэ. Мы проводим отнюдь не рутинную проверку. Когда вы придете к двадцатому владельцу, вы обязательно расслабитесь и утратите бдительность. Но, возможно, именно в этот момент вы столкнетесь с тем, кого мы ищем. Понятно?
Команда жандармов в один голос сказала «да».
— Тогда за работу!
Глава 26
Париж, сентябрь 1941 года
— Вы уверены, что вас никто не видел?
Эли Вейл молча закрыл дверь квартиры. В темном коридоре перед ним стояли три обеспокоенных мужчины.
— Мы были очень осторожны, — сказал один из них, с изможденным лицом и взлохмаченными волосами.
Он слегка картавил и говорил с резким акцентом, который в смутные времена способен выдать вас при первом же произнесенном слове.
— Хорошо, идите за мной.
Гостиную квартиры освещал тусклый свет лампы с абажуром. Плотные шторы были задернуты, чтобы с улицы ничего не было видно.
Несмотря на слабое освещение, Эли Вейл оторопел, разглядев растерянные, отрешенные лица трех мужчин, стоявших перед ним. Тот, кто говорил, был на голову выше остальных. Его звали Адамом Рыбаком. Эли встречался с ним только один раз неделю назад. Других он никогда не видел.
— Это Даниэль и Гжегош…
Они были намного моложе Адама. На взгляд Эли определил, что эти люди примерно такого же возраста, что и Рашель. Они были одеты в темные шерстяные длинные пальто, из-под которых виднелись помятые брюки.
Эли обменялся с пришедшими короткими, но сердечными рукопожатиями.
— Но ведь вы должны были прийти вчетвером?
Взгляд Адама затуманился.
— Юрек не явился на назначенную встречу.
— Что с ним случилось?
— Нам ничего не известно. Мы договорились встретиться ровно в десять часов. Мы ждали его более получаса.
— Сейчас нет и одиннадцати. Почему вы не подождали его чуть дольше?
— Это слишком опасно. Полчаса, как мы и договорились. Понимаете, если арестуют одного из нас…
— Понимаю. Есть ли вероятность, что он еще придет сюда?
— Это невозможно, — резко ответил Адам. — Ради вашей безопасности, да и нашей тоже, только я знал ваш адрес.
— Где он жил в последнее время?
— Он жил в Бельвиле, у одной снисходительной содержательницы меблированных комнат. Но это место ненадежное.
— А разве есть сейчас в Париже место, надежное для еврея?
Адам сокрушенно кивнул головой. Трое мужчин, смущенные и немного настороженные, стояли в центре комнаты, засунув руки в карманы.
— Ну что ж, снимайте пальто, — сказал Эли, желая их немного приободрить. — Отныне чувствуйте себя здесь как дома. Вы, наверно, умираете от голода?
В кухне Эли благожелательно смотрел на своих гостей, молча евших скромный ужин, который он им приготовил.
— Мне очень жаль, но ничего другого я вам предложить не могу.
— Да вы шутите! Это настоящий пир по сравнению с тем, чем мы обычно питались, — возразил Адам и впервые улыбнулся, обнажив два налезающих друг на друга зуба.
Присутствие трех поляков, нарушивших его ежедневное одиночество, явилось для Эли настоящим утешением. Рашель ушла три месяца назад, оставив в квартире безмерную пустоту. Весточки от нее приходили редко, однако они обнадеживали. В любом случае Эли понимал, что он должен свести до минимума общение с дочерью. Странно, но с тех пор как Эли убедился в том, что Рашель находится в безопасности, он больше не испытывал страха за собственную судьбу, хотя летом 1941 года обстановка в Париже резко ухудшилась.
Вступление в войну Советского Союза и отчаянное сопротивление русских сначала вселили в Эли определенные надежды. Впервые он мог рассчитывать на поражение Германии и победу Англии. Но надежды вскоре рухнули. Во Франции начались гонения на коммунистов, что послужило предлогом для первой облавы на французских евреев. В конце августа брат Эли Симон чудом избежал ареста. Трех его соседей увели полицейские, которые, вооружившись списками, составленными префектурой, буквально прочесали улицы Одиннадцатого округа, а затем и прилегавшие к нему кварталы. До Эли дошли слухи, что за три дня были арестованы четыре тысячи евреев, которых затем отправили в Дранси. В начале сентября последовали новые аресты. Многие евреи боялись выходить из дома, опасаясь, что их арестуют в кафе или в других общественных местах. И даже когда наступил тишрей, синагоги были полупустыми. Все дрожали от страха.
Тогда Эли понял, что обратной дороги нет. Его самые худшие опасения подтвердились. Как ни странно, но чем ближе становилась угроза ареста, тем отчетливее он понимал, что должен прийти на помощь тем, кто оказался в еще худшей ситуации, чем он. Опасность пробудила в Эли безрассудную смелость, которая раньше никогда не была ему свойственна.
Через одного из своих пациентов он вышел на Адама Рыбака, польского еврея, уроженца Кракова, который сумел спастись от ареста в мае 1941 года и теперь постоянно менял убежища. Не осознавая до конца последствия, к которым может привести его инициатива, Эли решил приютить Рыбака, а также трех его соотечественников в своей большой квартире, опустевшей после отъезда Рашель. И ни о чем не жалел.
Сидя за кухонным столом, мужчины заканчивали ужинать. Они по-прежнему молчали. Наконец Адам заговорил:
— Мы понимаем, чем вы рискуете из-за нас, Эли. Как мы можем вас отблагодарить?
Эли покачал головой.
— Я рискую не больше, чем вы, Адам. Полагаю, они намерены арестовать всех евреев, живущих во Франции, не обращая внимания на гражданство. Теперь мы в одной лодке.
Все четверо обменялись пристальными взглядами, черпая друг в друге поддержку. Они еще не знали, что отныне навсегда связали свои судьбы.
Глава 27
Алиса… Что ей было известно обо всей этой истории?
Алиса встретила Абуэло только в середине 1970-х годов. Однако вполне возможно, что он рассказал ей о своей работе в лебенсборне Сернанкура. С другой стороны, если она знала о существовании фильма, то почему попросила меня рассортировать бобины, понимая, что в конце концов я непременно найду его? Был ли мой дед «среди частных лиц, оказывавших щедрую помощь» досуговому центру для детей-инвалидов, чтобы искупить свою вину и участие в евгенистической программе нацистов? Весь вечер мы с Элоизой терялись в догадках.
На следующий день после занятий, окончившихся в тринадцать часов, я сразу же направился в агентство по прокату автомобилей. Я ехал быстро, очень быстро и уже через полтора часа был в Арвильере.
Небо покрылось тяжелыми тучами, предвещавшими грозу. Дом выглядел грустным. Я вошел, не позвонив. Никого. Коридор казался обветшалым. Ковровые покрытия отсырели, вздулись и местами отклеились. Впервые я почувствовал себя здесь чужаком.
Я старался не шуметь, но наверху лестницы неожиданно появилась Алиса. Возможно, она услышала, как к дому подъехала машина.
— Орельен, что ты здесь делаешь?
Я никогда не приезжал в Арвильер неожиданно, да еще в середине недели.
— Здравствуй, Алиса.
— Чья это машина там, на аллее?
— Я взял ее напрокат.
— Я беспокоюсь о тебе, — сказала Алиса, спускаясь по лестнице. — Что произошло?
Алиса шла неуверенной походкой. Казалось, что озабоченное выражение лица состарило ее на несколько лет.
— Мне надо с тобой поговорить.
— По поводу твоей сестры?
Я отрицательно покачал головой.
— Пойдем в кухню, — продолжила она. — Это единственная комната в доме, еще не потерявшая жилой вид.
Я сел за широкий дубовый стол, вокруг которого мы так часто собирались и трапезничали. Я вновь увидел всех нас: Абуэло, Алису, Анну… Мои три «А». Мы были очень странной семьей…
Как всегда, Алиса засуетилась.
— Хочешь чаю? Или шоколад?
— Да, шоколад… Почему бы и нет? Как в детстве.
Алиса подошла к плите. Я воспользовался этим моментом, вытащил из кармана статью и положил ее на стол, на самое видное место. Алиса налила молоко в терракотовую чашку и повернулась ко мне. Она сразу же заметила лист бумаги.
— Что это?
— А вот об этом ты сейчас мне и расскажешь.
Алису удивил мой резкий тон. Обычно я никогда с ней так не разговаривал. Она подошла к столу и взяла статью. Я заметил, как ее лицо вытянулось.
— Где ты это нашел?
— В прошлый раз я солгал. Элоиза, молодая женщина, с которой я приезжал, не моя коллега. Она аспирантка и пишет диссертацию о лебенсборнах.
Алиса и бровью не повела.
— Полагаю, ты знаешь, что такое лебенсборны.
Алиса кивнула головой, не глядя мне в глаза.
— Абуэло встретился с Элоизой, чтобы рассказать ей о том периоде, когда он работал в Сернанкуре. После его смерти ты даже говорила с ней по телефону, только не знала, кто она на самом деле.
— Не помню. После смерти Анри звонило столько людей…
Алиса взяла стул и тяжело опустилась на него, словно ее тело обмякло под непосильным бременем. Я толком не знал, с чего начать. У меня было слишком много вопросов к Алисе.
— Полагаю, раз ты присутствовала на открытии досугового центра, значит, ты знала, что там происходило. Абуэло тоже там присутствовал?
Алиса колебалась. Я понимал, что для нее было настоящим испытанием рассказать мне обо всем, что ей было известно.
— Да, присутствовал. Он пожертвовал значительную сумму, чтобы ускорить открытие центра. Я не знаю, что ты там себе напридумывал, Орельен, но, уверяю тебя, порой жизнь намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
— А что я должен понимать?
— Есть вещи, которые принадлежат прошлому и лично твоему деду. Все имеют право на тайны. Ты согласен со мной?
— Тогда почему ты попросила меня порыться в бобинах Абуэло, если знала, что я непременно найду фильм?
— О каком фильме ты говоришь?
— Разве ты не знала, что у Анри был фильм о лебенсборне Сернанкура, снятый на девяти с половиной миллиметровой пленке в 1941 году? Там дед запечатлен в обществе Грегора Эбнера и молодых беременных женщин.
Алиса внезапно помрачнела.
— Я никогда не видела этого фильма. Анри мне его не показывал.
Я решил не настаивать. Впрочем, у Алисы не было причин мне лгать.
— Когда и как ты узнала о прошлом Абуэло?
— В 1975 году Анри упал в саду. После операции на бедре он несколько недель был прикован к постели. Я была его сиделкой.
— Да, так вы и познакомились. Вы тысячу раз рассказывали нам об этом.
— У Анри началось воспаление, которое могло стоить ему жизни. В то время ему было за шестьдесят пять лет, и в какой-то момент он подумал, что не выкарабкается. Он впал в уныние. Я весь день сидела рядом с ним. Мы много разговаривали. Постепенно Анри проникся ко мне доверием. Он объяснил, что ему о многом надо рассказать. Это старые истории, о которых никто не знает, но он не хотел бы унести их с собой в могилу.
— История с лебенсборном?
— Да. А также другие истории, непосредственно касающиеся вашей семьи.
Эти последние слова разожгли во мне не только любопытство, но и беспокойство.
— Это может показаться странным, — продолжала Алиса, — но я думаю, что Анри всегда хотел, чтобы ты об этом знал, хотя он и делал все, чтобы скрыть эту часть своей жизни.
— О чем именно он тебе рассказал?
Алиса поставила локти на стол и вздохнула:
— После учебы, незадолго до войны Анри поехал помогать испанским беженцам, жившим в лагерях в Восточных Пиренеях.
— Я об этом знаю, именно там он познакомился с моей бабушкой.
— Совершенно верно. В то же самое время в этих же лагерях он познакомился с вдовой генерала, которую звали Эжени Гильермо.
Все это было мне хорошо известно.
— Элоиза рассказывала мне об этой женщине. Именно через нее Абуэло попал в родильный дом.
— Да. Она хотела защитить детей, рожденных от союза между француженками и немцами. Захватчики собирались отдать этих малышей в приемные образцовые арийские семьи. Нацисты искали медицинский персонал для нового родильного дома, который открылся в Марне. Мадам Гильермо убедила Анри согласиться занять эту должность, чтобы быть в курсе планов немцев.
— Абуэло рассказывал об этом Элоизе, — с нетерпением прервал я Алису, вспомнив о записи, которую прослушал в римской гостинице. — Но, по его словам, он ничего не знал о расовом отборе, проводимом при приеме в лебенсборн. Он утверждал, что Сернанкур был обыкновенным родильным домом, как многие другие. Но ты бы видела этих женщин из фильма. Почти все они блондинки…
Алиса неожиданно заволновалась. Ее, несомненно, раздражал мой угрожающий тон.
— Анри прекрасно знал, что все эти молодые женщины прошли строжайший отбор. Если он солгал Элоизе, то только потому, что не хотел обо всем рассказывать.
— Как это понимать: «обо всем рассказывать»? Что еще он мог сообщить? Предположим, что Абуэло не был мерзавцем во время войны, что он действительно хотел помочь этой Гильермо вырвать детей из лап немцев. Но кого он, в сущности, спас? Абуэло провел в Сернанкуре менее года, если уехал оттуда до пожара, вспыхнувшего в поместье. Немцы увезли всех младенцев, чтобы вырастить из них совершенных арийцев. Тем, кто сейчас жив, уже лет шестьдесят, и они, скорее всего, не знают о своем происхождении. Возможно, некоторые на протяжении всей жизни пытались раскрыть тайну своего рождения, но так и не нашли никаких доказательств, способных привести их к лебенсборну.
Алиса выслушала мою тираду до конца. Потом она встала и направилась к двери.
— Что ты делаешь? Ты не можешь остановиться на полпути. Ты должна идти до конца.
— Подожди меня в гостиной, Орельен, а я поднимусь в спальню. Я должна кое-что тебе показать…
В гостиной остались только старый диван с зеленой бархатной обивкой, низенький столик и два старомодных кресла, в которых мы и устроились. Остальную мебель уже вынесли, что придавало комнате удручающий вид. Алиса положила на колени толстый альбом в кожаном переплете, защищенном родоидом.
— Для начала ты должен знать, что твой дед оставался в лебенсборне до того момента, когда вспыхнул пожар.
— Что?! — воскликнул я. — К чему еще одна ложь?
— Сейчас поймешь. Не будь таким нетерпеливым. В общей сложности родильный дом принял в свои стены около двадцати пациенток. Среди них была некая Ивонна, молодая женщина девятнадцати лет, очень красивая. Она появилась там в июне 1941 года и была на третьем месяце беременности. Ивонна — это ненастоящее имя.
— Элоиза объяснила мне, что пациентки лебенсборнов часто брали вымышленные имена, чтобы сохранить анонимность.
— Но этой молодой женщине псевдоним дали не немцы. Она должна была любой ценой скрывать свое происхождение.
— Я не уверен, что хорошо тебя понимаю.
Алиса раскрыла таинственный альбом. В самом конце, под клапаном защитной пленки лежали пожелтевшие от времени листы бумаги. Но насколько я мог судить, они находились в хорошем состоянии. Алиса осторожно вынула их.
— Я хочу, чтобы ты прочитал вот это.
— Что это?
— Своего рода дневник, который вела Ивонна. Ты увидишь, что многих страниц не хватает. Однако того, что сохранилось, вполне достаточно. Я тебя ненадолго оставлю. Такие документы лучше читать в одиночестве.
Алиса встала. Я с волнением взял тонкую стопку, уверенный, что в моих руках оказались важные, исключительные свидетельства, касающиеся нацистских родильных домов.
«Дневник» состоял из разрозненных листков, исписанных плотным, но разборчивым почерком.
15 июня
Я не должна писать, это бесполезный риск. Тем не менее я не могу удержаться. Папа не захотел, чтобы я брала с собой свои записные книжки в сафьяновом переплете, а также мамины дневники. Сейчас я пишу на разрозненных листах, но надеюсь найти что-нибудь получше. Я уже отыскала временный тайник. Я обнаружила, что одна из досок шкафа, который стоит в моей комнате, плохо прикреплена к днищу. Ее можно приподнять и спрятать под ней какой-нибудь тонкий предмет. Никому не придет в голову искать в таком месте.
В родильный дом я приехала два дня назад. Сюда меня привезла мадам Г. Всю дорогу она предостерегала меня от возможных опасностей, которые меня поджидают. И сейчас мне очень страшно. В родильном доме у меня есть только один союзник. Это доктор Коше. Он занимается нами и знает о моем прошлом. Но я ни под каким предлогом не должна разговаривать с ним наедине. Это очень опасно для нас обоих. Я это понимаю. Впрочем, мне хорошо и одной.
Я обошла почти весь родильный дом. Это настоящий маленький замок, словно сошедший со страниц романа девятнадцатого века. Помещения огромные, спальни отделаны со вкусом. Ничего общего с больничной обстановкой. Стены моей комнаты оклеены шелковыми обоями в розовых и серых тонах. Там стоят две кровати, но сейчас я живу одна.
Кормят нас сытно и разнообразно. Всегда дают мясо, овощи, свежие фрукты. Даже чай и кофе, и никто не считает это удивительным. Что в нас такого особенного, если нас так обхаживают, в то время когда столько людей испытывают жуткие страдания?
Но, несмотря на эти приятные моменты, место, куда я попала, производит пугающее впечатление. Мадам Г. предупреждала меня об этом, но мне будет трудно абстрагироваться от некоторых деталей. В первый же день я заметила в вестибюле таблицу рас. Там в фас и профиль изображены лица мужчин, женщин и детей, которых немцы называют «арийской расой». Предполагается, что мы похожи на них.
Хотя здание огромное, здесь очень мало пациенток, что удивило меня. Если я правильно посчитала, нас около двадцати. Я вхожу в группу самых юных. Некоторые женщины уже родили. Самому старшему ребенку чуть меньше восьми месяцев. Молодые матери живут в южном крыле здания, там, где располагаются ясли. Днем они гуляют с детьми в парке. Несколько раз мне выпадала возможность взять малышей на руки. Я все еще с трудом представляю, что в конце года сама стану матерью.
Другие молодые женщины находятся на поздних сроках беременности. У меня живот едва заметен, хотя я чувствую, как с каждым днем растет мой ребенок.
Только сейчас я поняла, что написала слишком много, ведь бумагу надо экономить. В дальнейшем постараюсь писать исключительно о главном.
19 июня
Теперь я знаю всех. Я сблизилась с двумя пансионерками примерно моего возраста. Их зовут Катрин и Мария. Я попыталась выведать у них как можно больше, но они оказались не очень-то разговорчивыми. Думаю, им всем велели ни с кем особо не откровенничать. Катрин призналась мне, что отец ее ребенка — солдат СС, расквартированный в Мурмелоне, в нескольких километрах отсюда.
Все молодые женщины — француженки, кроме двух немок, которые старше нас и порой смотрят на нас так, словно мы выскочки, и одной голландки по имени Лизбет. Она хорошо говорит по-французски. Мне так хочется поболтать с Лизбет на ее родном языке, но это слишком опасно для меня. Катрин утверждает, что это замужние женщины, приехавшие во Францию, чтобы тайком родить ребенка.
23 июня
Каждый день я думаю о папе. Где он? Что сейчас делает? Ни под каким предлогом я не должна стремиться установить с ним контакт. Папа и мадам Г. были непреклонны по этому вопросу. Когда я покидала Париж, папа обещал, что постарается как можно быстрее передать мне письмо. «Это будет кодированное послание, — предупредил он. — Как в рассказах Эдгара Алана По». Сейчас я понимаю, почему он так сказал. Мне стало известно, что вся почта просматривается.
В целом, персонал относится к нам благожелательно, за исключением главной медсестры, немки, которую все боятся, как чумы. Я сблизилась с молодой медсестрой, Николь, которая обращается со мной, как со своей младшей сестрой. Мне странно слышать, как меня называют Ивонной. Я все время думаю, что зовут другую молодую женщину, находящуюся в комнате. Мне всякий раз приходится следить за собой.
26 июня
У меня появился новый друг: садовник Кристоф. Сегодня, когда я прогуливалась по парку, мы обменялись с ним несколькими словами. Он воспользовался тем, что нас скрывала изгородь, поскольку он не имеет права вступать в беседы с пансионерками. Когда я спросила его почему, он ответил: «Порядок есть порядок. Они хотят, чтобы с вами обращались как с маленькими восковыми куклами из ларца». Его слова рассмешили меня.
2 июля
Мы ничего не знаем о том, что происходит за стенами нашего поместья. Слова Кристофа, которые тогда рассмешили меня, теперь вызывают у меня желание плакать. Мы действительно оказались в золотой клетке.
Главная медсестра отругала девушку, работающую в кухне, за то, что та разговаривала с пансионеркой. Это была самая банальная болтовня о беременности. Чего же они так боятся?
6 июля
Сегодня жарко и душно. В полдень солнце, казалось, прожарило парк. На улицу мы смогли выйти только около шести часов вечера.
Я о многом хочу написать, но у меня очень мало бумаги. Я спрашиваю себя, имеет ли смысл продолжать вести дневник?
13 июля
Сегодня утром я вновь столкнулась с Кристофом, моим единственным источником информации. Он сообщил мне, что Советский Союз вступил в войну с Германией. Смеясь, он добавил: «Для вас будет лучше, если немцы не так скоро проиграют войну». Я с трудом выдавила из себя улыбку. Слово за слово, я попыталась расспросить его об участи евреев, оставшихся в столице. Но он ничего толком не знает. Кристоф только сказал, что были арестованы тысячи евреев. Это, несомненно, связано с антикоммунистической кампанией. Я не стала больше расспрашивать его из страха, что у него могут возникнуть подозрения. Я просто в отчаянии, что от папы нет никаких вестей. К тому же у меня закончилась бумага. Придется использовать форзацы моих книг.
[…]
3 августа
Наконец-то я смогла достать листочки. Это бумага для писем, которой Катрин не пользуется. Мне кажется, что время тянется нестерпимо долго. Никогда ничего не происходит, но атмосфера — гнетущая. К тому же я очень беспокоюсь о папе.
7 августа
Я счастливее королевы. Сегодня нас навестила мадам Г. Пансионеркам и персоналу было велено оказать ей радушный прием. Но Кирхберг пришла в дикую ярость. Вероятно, она думает, что кто-то посягает на ее власть. Мадам Г. улучила минуту, чтобы поговорить со мной наедине. Она сообщила мне новости о папе. Все хорошо. Он по-прежнему в Париже, в добром здравии. Она сказала мне, что я не должна волноваться. Я спросила, почему он не попытался передать мне с ней письмо. Она ответила, что переписываться сейчас опасно. Verba volant, scripta manent, как повторял мой учитель латыни. Сегодня я буду спать спокойно. Я представлю себе, что папа спит в соседней комнате.
11 августа
Великая новость! Два дня назад у меня появилась соседка по комнате. Я очень рада, поскольку одиночество начинало меня тяготить, особенно по вечерам, перед отбоем. Мою соседку зовут Жанна. Она из Страсбурга, и ей столько же лет, сколько и мне. Мы даже выяснили, что у нас разница всего лишь в один месяц. У Жанны кукольное личико, белая кожа и алые губки. Волосы она заплетает в косы и укладывает их колечком. Настоящая куколка! Но в ее случае внешность обманчива. Судя по тому, что мне удалось узнать, она была любовницей холостого мужчины, сотрудника Полиции безопасности, который делал вид, будто собирается на ней жениться. Семья Жанны не питает к немцам никаких симпатий. Когда родные Жанны узнали, что она беременна, то отвернулись от нее. Ей пришлось выкручиваться самой.
Но как я могу быть уверена в том, что Жанна рассказала мне правду? Я тоже рассказала ей часть своей истории, той, которую мадам Г. заставила меня выучить наизусть.
Жанна на третьем месяце беременности: из всех нас у нее самый маленький срок. Я никогда не встречала девушку, которая так свободно говорила бы о себе и о своих отношениях с мужчинами в столь откровенных выражениях. Кажется, ее ничто не может шокировать. Нужно сказать, я не всегда слежу за ходом ее мыслей. Но я рада, что моя соседка не ханжа. Жанна кажется простой и милой девушкой. Тем не менее я знаю, что должна усилить бдительность, ведь теперь я не одна. Вести дневник становится все труднее.
13 августа
Сегодня я много смеялась. Николь, моя любимая медсестра, тайком пела мне песенку: «Лучший способ маршировки — это наш». Но в тот момент, когда надо было отставлять ногу в сторону и петь «левой, левой», она тихо повторяла «бош, бош». Мне нравится Николь. Кажется, она совершенно игнорирует опасность, которой себя подвергает.
15 августа
Большие хлопоты. Медсестра Кирхберг собрала нас в гостиной и долго читала нам нотации. Причем она потребовала, чтобы мы слушали ее стоя, кроме тех женщин, которые должны вот-вот родить. К нам собирается приехать некий Эберт (?). Похоже, это один из высокопоставленных чиновников, отвечающих за родильные дома. Кирхберг подробно объяснила нам…
[…]
3 сентября
Разговаривать с Кристофом становится все труднее. Думаю, медсестра Кирхберг разгадала нашу нехитрую игру. Я видела, как они беседовали в глубине парка, причем она явно его не хвалила. Тем не менее мне удалось усыпить ее бдительность. Кристоф — человек, если можно так сказать, неграмотный и не читает газет. Он рассказал мне только об участившихся казнях заложников, но о евреях ничего конкретного сказать не смог. Отсутствие новостей тоже новость, разве не так? Может, папа зря паниковал?
6 сентября
Днем нам совершенно нечем заняться. Я даже не могу читать. Нам выдают только неинтересные книги. Переходить от Бальзака, Гёте и Рембо к «Пособию по домашнему хозяйству» — это ужасно… Нам велят вязать распашонки для младенцев, но занятие это навевает на меня скуку. Как я жалею о своей прежней жизни!
15 сентября
Сплю я теперь беспокойно. Мне снятся кошмары. Порой я внезапно просыпаюсь. Моя ночная рубашка мокрая от пота. Николь просидела часть ночи у моей кровати, поскольку у меня поднялась температура. К счастью, Жанна спит крепко. Похоже, мои ночные страхи ее не беспокоят.
17 сентября
Прошлой ночью случилось нечто ужасное. У меня вновь поднялась температура. Я даже металась в бреду. Николь сидела рядом со мной. К счастью, Жанна ничего не слышала.
Весь день я не выходила из комнаты. Николь принесла мне бульон. Когда мы остались одни, она долго расспрашивала меня, поскольку во сне я говорила. Об отце, о евреях, о своей тайне… Сначала я все отрицала, ведь папа предупреждал меня, чтобы я никому не доверяла. Но Николь умеет вызвать на откровенность. К тому же я прониклась к ней симпатией. Она уверяла меня, что я не должна ее бояться. Я уже давно заметила, что она не питает к немцам нежных чувств. В конце концов я все ей рассказала, и очень подробно. Я даже упомянула о докторе Коше. «Ты больше никому не должна рассказывать эту историю», — велела мне Николь. Она даже заставила меня поклясться жизнью моего ребенка. И добавила, что мы сошли с ума, раз пошли на такой риск, бросившись прямо в пасть волка, но теперь у нас нет выбора. «Я поговорю с доктором Анри. Он выпишет тебе какое-нибудь успокоительное средство. Здесь мы с ним единственные, кому ты можешь доверять. Обещаю, мы будем заботиться о тебе и сделаем все возможное, чтобы после родов ты покинула родильный дом вместе с ребенком».
20 сентября
Вчера утром меня осматривал доктор Анри. Николь беседовала с ним. Когда мы остались одни, мы разговорились. Хотя новости, доходившие до нас, были неутешительными, его слова подняли мне настроение. Сейчас я так нуждалась в этом еще и потому, что Николь все время меня пугает. Она постоянно требует, чтобы я не теряла бдительности.
Если бы она знала о моем дневнике, думаю, она сожгла бы его в ту же секунду.
5 октября
Мне страшно. Позавчера я, гуляя в парке, упала в обморок. До сих пор все шло хорошо. Я сделал несколько шагов, как вдруг страшная боль пронзила мою поясницу и живот. Никогда прежде я так не страдала. У меня было такое ощущение, будто в меня вонзили горящий кол. Меня перенесли в медпункт. Доктор настойчиво рекомендовал мне отдохнуть и не делать никаких резких движений.
9 октября
Кажется, все понемногу налаживается. Мучительная боль стала далеким воспоминанием. Доктор Коше старается успокоить меня. Он объяснил мне, что подобное недомогание порой встречается во время беременности. Несколько месяцев назад нежданная беременность казалась мне самым большим несчастьем, которое может со мной случиться. Сегодня я думаю, что не переживу, если с моим ребенком что-нибудь произойдет.
Вот уже три дня, как я не встаю с постели. Жанна порой составляет мне компанию, но должна сказать, что теперь у нас с ней не такие хорошие отношения, как прежде. Жанна оказалась эгоисткой, которую совершенно не волнует то, что происходит за пределами этого проклятого родильного дома.
У меня много времени, чтобы придумать имя своему ребенку. Не знаю, позволят ли мне назвать его так, как я хочу, но это не важно… Как только я выйду из родильного дома, я […]
Глава 28
Сернанкур, октябрь 1941 года
— Доктор, можно с вами поговорить?
Анри Коше положил ребенка в кроватку и взглянул на медсестру, появившуюся так внезапно. Она явно была взволнована, хоть и пыталась это скрыть.
— Я буду в вашем распоряжении через минуту, Николь. Вот только закончу с Вальтером.
Врач написал несколько слов в своем блокноте и повернулся к Жаклине, молодой кормилице, сопровождавшей его при ежедневном обходе новорожденных. Он научился понимать Николь и легко догадался, что она хочет поговорить наедине.
— Жаклина, будьте добры, сходите в аптеку на втором этаже и проверьте, достаточно ли у нас витаминных растворов. Если я не ошибаюсь, мы получали их в этом месяце.
— Хорошо, доктор, — ответила молодая женщина, выходя из комнаты.
Детское отделение было самым спокойным местом в родильном доме. Немцы решили, что для новорожденных лучше всего подходит бывший зал для игры на бильярде, примыкающий к маленькой гостиной. Это была теплая комната с лакированным паркетом. Из широких окон открывался прекрасный вид на парк. В ряд стояли пятнадцать кроваток с белыми пологами.
— Как он, доктор? — спросила Николь, глядя на маленького Вальтера, который беспокойно заметался.
— Лучше, намного лучше. У него нет ни высокой температуры, ни кашля. К сожалению, на следующей неделе Вальтер покинет нас.
— Как это «покинет нас»?
— Он едет в Берлин, где его усыновят.
— Усыновят? — словно эхо, переспросила Николь. — Но кто?
— Его родной отец.
Николь Браше застыла в недоумении.
— Отец Вальтера, — продолжал доктор, — высокопоставленный эсэсовец. У него уже есть двое законных детей, но его жена, судя по всему, не может еще раз забеременеть. А Гиммлер приказал всем женатым эсэсовцам иметь минимум четырех детей. Так вот, этот мужчина вступил во внебрачную связь с Идой, нашей молодой пансионеркой-немкой. Вы прекрасно понимаете, почему нацисты отправили ее рожать во Францию… Они с самого начала договорились, что этот эсэсовец и его жена усыновят ребенка, когда он появится на свет.
— Не понимаю. Вы хотите сказать, что эта женщина знала о том, чем занимается ее муж?
— Разумеется. Нацисты поощряют женатых мужчин содействовать повышению уровня рождаемости вне брачных уз. Полагаю, она считает честью подарить фюреру как можно больше детей, пусть даже не родных.
— Но это ужасно! — возмутилась Николь. — И мы ничего не можем сделать, чтобы помешать этому?
— Абсолютно ничего. Мы не заинтересованы в том, чтобы демонстрировать свое несогласие. Мы с самого начала знали, что дети немецких матерей нас покинут. Что касается остальных, мадам Гильермо сделает все возможное, чтобы вырвать их из рук нацистов. Хотя это будет нелегко.
Николь Браше помолчала несколько секунд, пытаясь осознать смысл слов доктора. Она почти забыла, для чего пришла в детское отделение.
— Так о чем вы хотели поговорить со мной, Николь?
— Ах да… Я пришла из-за Рашель…
Анри Коше испуганно оглянулся.
— Никогда не произносите это имя здесь. Даже когда мы одни, вы должны называть ее Ивонной.
— Прошу прощения, доктор. Не знаю, что на меня нашло. Я застала… Ивонну пишущей…
— Пишущей? Но что она пишет? — спросил доктор, нахмурившись.
— Она ведет нечто вроде личного дневника. Я вошла в ее комнату и увидела, как она прячет стопку листов бумаги под одеяло.
— Надеюсь, вы отобрали их у нее?
— Да, не теряя ни секунды.
— И давно она ведет этот дневник?
— С момента своего приезда в родильный дом.
Анри Коше пришел в замешательство.
— Вы читали его?
— Я быстро пробежала его глазами.
— И что?
— Если бы этот дневник попал в другие руки, разразилась бы настоящая катастрофа. Для нее, разумеется, но и для нас тоже.
— Черт возьми, о чем она думает? Впрочем, вряд ли стоит читать ей нотации… Куда вы дели дневник?
— Я унесла его к себе и спрятала в надежном месте. Я решила сразу же поставить вас в известность.
— Вы правильно поступили. Но как ей удавалось прятать дневник в течение пяти месяцев? После ее приезда Кирхберг по крайней мере три раза обыскивала все комнаты.
— Эта девушка очень хитрая. Она прятала дневник в двойном дне шкафа.
— Кирхберг тоже не простушка. Она подмечает малейшие детали, и я думаю, что она на дух не переносит Ивонну.
— Вы полагаете, что у нее появились сомнения?
— Нет. Но любой подозрительный поступок может заставить ее насторожиться. Как вы думаете, кто-нибудь еще знает о дневнике? Например, Жанна, соседка Ивонны по комнате?
— Ивонна уверяла меня, что была очень осторожной и писала только тогда, когда оставалась в комнате одна. Еще она сказала, что Жанна поглощена собой и не замечает, что происходит вокруг.
Анри Коше попытался быстро оценить ситуацию.
— Хорошо. Я сейчас пойду к Ивонне и поговорю с ней…
— Не будьте слишком строги с ней, я ее уже отчитала.
— Николь, я вам уже говорил, что вы слишком сентиментальны по отношению к Ивонне. Если сегодня мы не будем с ней строги, завтра строгость проявят другие, причем для них любые способы будут хороши. В полдень, до обеда, вы принесете мне этот дневник, чтобы я смог спрятать его как можно дальше от родильного дома.
Маленький Вальтер громко заплакал. Николь тут же наклонилась над его кроваткой. Вальтер метался, его лицо стало пунцовым. Николь нежно взяла его на руки и принялась качать. Ребенок вскоре замолчал.
— Полагаю, сейчас ему нужен покой, — сказал доктор Коше. — Мы слишком шумим.
— Этот ребенок нуждается в ласке, — возразила Николь. — Не понимаю, почему нежность по отношению к детям считается здесь преступлением.
Николь знала, о чем говорит. С первого взгляда было ясно, что она, несмотря на молодость, имела большой опыт общения с детьми.
— Есть новости от отца Ивонны? — шепотом произнес она. — Она каждый день спрашивает об этом.
— По словам мадам Гильермо, для него все складывается не так уж плохо. Если он будет вести себя осторожно, думаю, ему ничего не грозит. В данный момент репрессивная политика Виши обходит его стороной.
Анри Коше предпочел умолчать о том, что несколько дней назад в Париже были взорваны синагоги. К счастью, обошлось без жертв. Доктор боялся, что Николь не сумеет удержать язык за зубами и напрасно испугает Рашель. Понизив голос и убедившись в том, что они по-прежнему одни в комнате, он добавил:
— Я знаю, что постоянно твержу вам об этом, но повторяю: мы не должны рисковать. Что бы там ни случилось, Ивонна и ее ребенок смогут покинуть родильный дом только через несколько месяцев. Малейшая ошибка может привести к фатальным последствиям. И поверьте, эта война не скоро закончится.
— Значит, это правда: Советский Союз терпит поражение.
— Нет, сейчас это утверждать слишком рано. Немцы двигаются на Москву, и советские войска несут тяжелые потери. Говорят о тысячах убитых и раненых, но в настоящий момент русские сумели приостановить немецкое наступление. Не знаю, сколько времени они продержатся. Николь, я очень боюсь, что мы останемся здесь надолго.
Глава 29
Алиса вошла в гостиную в тот момент, когда я клал листы дневника на диван. Я находился под сильным впечатлением от прочитанного. Когда наконец лебенсборн Сернанкура полностью раскроет все свои тайны? Я предположил, что медсестра Николь, которой доверилась Ивонна, была не кем иным, как Николь Браше, убитой два месяца назад. Но я пока не хотел говорить на эту тему, поскольку она могла увести нас далеко от дневника Ивонны.
— Значит, эта молодая женщина, Ивонна, была еврейкой?
— Да, еврейкой. На самом деле ее звали Рашель Вейл.
— Для чего ты дала мне все это прочитать? Чтобы показать, что с помощью медсестры Абуэло защитил юную еврейку, спрятав ее в лебенсборне?
— И для этого тоже. Но главное, чтобы у тебя сложилось правильное представление о том, чем занимался Анри во время войны.
Внезапно я почувствовал себя неуютно. Мне стало стыдно за то, что я так безапелляционно судил Абуэло после его смерти.
— Но что делала эта молодая женщина в нацистском родильном доме?
— Ее отец был евреем, а мать — голландкой протестантского вероисповедания. Мать умерла задолго до войны. По словам твоего деда, у Рашель была особенная внешность. Белокурые волосы устраняли все подозрения относительно ее подлинного происхождения.
Тут я понял, что, возможно, видел Рашель… Она была среди молодых женщин, стоявших на крыльце поместья в том фильме, который у меня украли.
— А «мадам Г.», упомянутая в дневнике, это мадам Гильермо?
— Да. Эли Вейл, отец Рашель, был врачом в Париже. Как клиницист, он пользовался заслуженным уважением. До войны сын мадам Гильермо тяжело заболел. Все специалисты, которых она приглашала, думали, что у него брюшной тиф, однако лечение не давало никаких результатов. Отчаявшись, она обратилась к врачу, слава о котором передавалась из уст в уста. Он диагностировал вирус животного происхождения, вызывавший лихорадку и нарушения работы легких. Этот врач спас мальчику жизнь. Эли Вейл отказался брать с мадам Гильермо больше денег, чем он привык получать от своих пациентов. Тогда она поклялась, что никогда не забудет, чем ему обязана. Каждый год, в день, когда Эли Вейл спас ее сына, она посылала ему записку с напоминанием, что остается его вечной должницей.
— Благородная женщина…
— Да. Твой дед до конца своих дней восхищался ею. В начале 1941 года, когда Рашель забеременела, Эли Вейл собирался переправить дочь в свободную зону, но потом передумал. Он связался с мадам Гильермо и попросил ее о помощи. В то время эта женщина возглавляла ассоциацию, опекавшую семьи военнопленных. Я не знаю, как именно она была связана с лебенсборнами. Так или иначе, когда мадам Гильермо впервые увидела Рашель, она была… поражена ее внешностью. Ведь она не ожидала увидеть блондинку. И тут ей в голову пришла совершенно безумная идея. Она поняла, что сможет претворить в жизнь опасную стратагему и одним выстрелом убить двух зайцев: спасти дочь человека, которому стольким была обязана, и сыграть с немцами злую шутку, поместив еврейку в самом сердце организации, радеющей о «расовой чистоте». Но ее замысел мог осуществиться только при содействии твоего деда. Мадам Гильермо взяла на себя все формальности, а твой дед должен был оберегать Рашель в лебенсборне. При такой поддержке молодая женщина могла чувствовать себя в полной безопасности даже в стане врага.
После всего, что рассказала мне Элоиза о лебенсборнах, эта история показалась мне невероятной.
— Но ведь немцы тщательно изучали прошлое и происхождение женщин, поступавших в эти родильные дома…
— У Рашель были фальшивые документы, а мадам Гильермо пользовалась определенным влиянием. Немцы побаивались ее. Никто не осмелился бы придираться к ее протеже. Однако мадам Гильермо знала, что существует условие, без которого попасть в родильный дом было невозможно: отец ребенка должен быть эсэсовцем, сотрудником полиции или немецким солдатом. Мадам Гильермо занялась поисками подходящей кандидатуры. Ей повезло. Она вышла на эсэсовца, погибшего в начале 1941 года в Париже в результате покушения. Все тщательно проверив и позаботившись о том, чтобы ее история казалась правдоподобной, мадам Гильермо заявила, что именно этот человек был отцом ребенка Рашель. У немцев не было никаких причин не верить ей. Они провели поверхностное расследование и пришли к выводу, что все так и было.
Небо покрылось облаками, и гостиная погрузилась в полумрак. Я встал, чтобы зажечь люстру.
— Что стало с Рашель? — спросил я, садясь на диван.
— Как следует из дневника, во время третьего триместра беременности у Рашель возникли осложнения. Она начала испытывать боли внизу живота, что, вероятно, было связано с преэклампсией… Рашель родила в декабре 1941 года, за две недели до срока.
Алиса встала и прислонилась к камину. При тусклом освещении ее силуэт, казалось, растворился в полутьме.
— Анри рассказывал мне о ее родах со слезами на глазах. За свою недолгую карьеру он еще никогда не сталкивался со столь серьезной ситуацией. Он чувствовал себя бесполезным. У Рашель было плацентарное гематоцеле.
Я часто слышал, как дед рассказывал о своей работе, и поэтому понял, что речь идет об обильном кровотечении, возникающем между плацентой и маткой. Это одно из самых тяжелых осложнений при родах.
— Она потеряла ребенка?
— Нет, ребенка спасли. Но не мать. У Рашель случилось то, что называют гиповолемическим шоком. В то время ее было невозможно спасти, учитывая те средства, которыми располагал Анри. Тем не менее он всю жизнь корил себя за ее смерть. Вне всякого сомнения, с этой пациенткой у него сложились особые отношения. Он чувствовал себя обязанным защитить ее. Думаю, с появлением Рашель он понял, что его работа в родильном доме обрела смысл.
— Значит, он не покинул лебенсборн после смерти Рашель?
— Нет, он оставался там до конца. Для Николь и Анри родившийся ребенок стал центром вселенной. Поскольку его мать умерла, немцы в любой момент могли отправить малыша в Германию, чтобы там его усыновила одна из семей, подавших заявку. Николь и Анри прекрасно это понимали. Но Анри не смог бы этого пережить. Он не мог допустить, чтобы ребенок Рашель был воспитан как настоящий ариец и проникся идеалами Третьего рейха.
— И как он поступил?
— Он попросил мадам Гильермо сделать все возможное, чтобы вырвать ребенка из рук немцев и отдать его на усыновление во французскую семью. Но время шло, а дело не сдвигалось с мертвой точки. И тут сама судьба пришла им на помощь.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Иногда случаются неожиданные события. Кажется, будто они происходят специально, только для того чтобы помочь нам выполнить ту или иную миссию, возложенную на нас свыше. Анри поверил в судьбу той февральской ночью 1942 года, когда около двух часов ночи в родильном доме вспыхнул пожар. Анри и Констанцу разбудили крики. Поместье уже было объято огнем. Все произошло быстро, словно в дурном сне.
— Моя бабушка жила в лебенсборне?
— Нет, они не жили там, но после смерти Рашель часто оставались на ночь, чтобы быть уверенными, что с ребенком ничего плохого не произойдет.
— Это был несчастный случай или поджог?
— Анри так никогда этого и не узнал. Впрочем, немцы тоже.
Алиса села напротив меня. Тусклое освещение только подчеркивало морщины на ее лице.
— Вечером у ребенка Рашель поднялась температура. Николь тайком унесла его в свою комнату. Главная медсестра Кирхберг не любила, когда детей баловали и окружали материнской лаской. Николь знала, что ее сурово отчитают за это. Огнем была объята часть первого этажа. Он в любую минуту мог перекинуться наверх. Анри и Констанца помогали молодым женщинам, охваченным паникой, выйти из здания. Ингрид Кирхберг и медсестры выносили детей. Но твой дед не видел Николь. Ее комната находилась на втором этаже, в той части, куда огонь еще не добрался. Когда твои дед и бабушка прибежали туда, они нашли Николь, буквально парализованную от ужаса. В руках она сжимала ребенка. Они растормошили ее и вывели на улицу по лестнице, еще не охваченной пламенем. Николь передала ребенка Констанце и сказала: «Через заднюю дверь». Анри и Констанца переглянулись и все поняли.
— Как так «все поняли»?
— Они поняли, что надо воспользоваться этой неожиданной возможностью. В здании была служебная дверь, ведущая в кухню. Через нее можно было выйти к небольшой калитке в глубине сада. Этой дверью пользовались те, кто не хотел идти через главный ход, чтобы не быть замеченными. Анри и Констанца решили воспользоваться пожаром и всеобщей паникой, чтобы бежать с ребенком, спасая его тем самым от немцев.
— Однако это был очень опасный план…
— Да, но они претворили его в жизнь. Анри и медсестра проводили Констанцу до двери. Твоя бабушка вышла в ночь с ребенком на руках. Затем Анри и Николь вернулись и вылезли на улицу через окно первого этажа. Перед зданием на лужайке стояли вперемешку персонал, матери и беременные женщины. Здесь же находились младенцы. Никто ничего не мог понять. Прибежали жители деревни, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Вскоре здание превратилось в огромный костер. Попасть внутрь больше не было возможности.
— Не понимаю. Почему с ребенком не бежала Николь? Ведь идея, в конце концов, принадлежала ей!
— Это было невозможно. Ее исчезновение не осталось бы незамеченным, и тогда все бы поняли, что она похитила ребенка.
— Но она могла бы погибнуть в огне!
— Даже при таком сильном пожаре тело взрослого человека не исчезает по мановению волшебной палочки. А вот тельце новорожденного… В суматохе никто не заметил отсутствия Констанцы… Возможно, потому что она не была членом персонала. Заметив исчезновение ребенка, Кирхберг запаниковала. Она несла личную ответственность за детское отделение. Когда медсестры спасали детей, каждая из них, увидев пустую кроватку, думала, что малыша уже вынесли на улицу.
Алиса замолчала. Она застыла неподвижно, став похожей на соляной столб. Казалось, она перенеслась в прошлое. Алиса не просто рассказывала историю, а переживала ее, слившись с ней воедино.
— Этот ребенок жив?
Мне почудилось, что на ее ресницах заблестели слезы.
— К сожалению, нет, — с трудом выговорила Алиса. — Этот ребенок вырос, стал мужчиной. Но сейчас его уже нет в живых.
Когда я это понял? В какой именно момент рассказа Алисы разрозненные элементы сложились в моей голове, словно хрупкие части часового механизма?
1941 год. Я воспринимал эту дату как исторический ориентир, год, когда в полной мере начал работать лебенсборн Сернанкура, но никак не связывал ее с собственной историей.
Щеки Алисы были мокрыми от слез.
— Этот ребенок, Орельен, твой отец.
Часть 4 Под пеплом
Вещи не исчезают, если о них не знаешь. Познавательный урок. Возможно, уроки должны порой причинять боль, чтобы их хорошо запомнили.
Р. Дж. Эллори. Только тишинаГлава 30
Утром 4 декабря 1941 года в префектуру полиции среди множества других анонимных писем, в которых содержался донос на соседа, торговца, преподавателя, адвоката, пришло письмо, тоже анонимное… В нем, на удивление обстоятельном, полном антисемитских выпадов и желчных выражений, сообщалось, что некий Эли Вейл, французский еврей, укрывает в своей квартире, расположенной на западе Парижа, нескольких польских евреев, которые никогда не вставали на учет и которым удалось избежать ареста в мае 1941 года. Чиновники отнеслись к этому письму очень серьезно, и оно заняло достойное место среди множества доносов, каждый день поступавших в префектуру.
Через три дня письмо передали в комиссариат округа, приказав провести «проверку сведений» в самые кратчайшие сроки. Комиссар, усердный чинуша, не стал тянуть резину. Он заслужил определенную репутацию в октябре 1940 года, добившись увольнения полицейского, который советовал своим знакомым-евреям не регистрироваться, поскольку «фамилия их не выдаст». Исправный служака, ориентировавшийся в обстановке как рыба в воде, без зазрения совести принимал участие в августовских арестах, в ходе которых в недавно открытый лагерь в Дранси были отправлены тысячи евреев в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет.
Комиссар послал двух полицейских на квартиру Эли Вейла, чтобы проверить обоснованность обвинений. Полицейские немного поговорили с консьержкой дома, которая, несмотря на страх перед мундирами, заверила, что врач был образцовым жильцом, которого все соседи уважали за простоту и скромность. Впрочем, в девяти случаях из десяти донос был делом рук озлобленных и завистливых соседей.
Полицейские, которых намного сильнее, чем их начальника, огорчали все эти подлые доносы, каждый день вслепую разбивавшие человеческие жизни, неохотно постучали в квартиру врача. Дверь им открыл мужчина с измученным лицом. У него на носу были очки в металлической оправе. Полицейские не увидели в его глазах ни капли удивления. Казалось, он покорился судьбе, словно мгновенно понял, что его ждет.
Три польских еврея, прятавшиеся в комнатах большой квартиры, даже не пытались спастись бегством или оказать сопротивление при аресте. Несмотря на численное превосходство, они не хотели вредить человеку, приютившему их, наивно надеясь, что власти проявят к нему снисхождение из-за его французского гражданства и уберегут от трагической судьбы.
Полицейские разрешили Эли Вейлу взять с собой несколько личных вещей. Но он захватил лишь дешевое издание «Государства» Платона и небольшой черепаховый гребень, принадлежавший сначала его жене Мине, а затем дочери Рашель.
Эли Вейла отвели в комиссариат округа на допрос. Его неделю держали в казармах. К большому удивлению Эли, обращались с ним вежливо.
Через пять дней по Парижу прокатилась новая волна арестов. Утверждая, что ведется борьба с саботажем и ожидаются покушения на немецких солдат, фельджандармерия арестовала на рассвете семьсот зажиточных евреев, большинство из которых имели французское гражданство. Их согнали в кучу под дулом автоматов. Эли Вейл и еще около десяти узников, содержавшихся в казармах Военной школы, присоединились к ним на Северном вокзале, откуда их отправили в Компьен. Из Компьена ночью под грубые окрики солдат вермахта они преодолели пешком четыре километра до лагеря Рояльльё.
С первых же дней интернированные евреи страдали от голода и холода. Спали они на соломе. Порции еды были очень скудными. Порой рацион становился немного разнообразнее благодаря коллективным посылкам французского Красного Креста. Чтобы не впасть в уныние и сохранить самообладание, по вечерам узники беседовали в своих крошечных каморках. Эли Вейл, призвав на помощь свою образованность и талант оратора, рассказывал своим слушателям об истории, литературе, медицине.
Не имея никаких контактов с внешним миром, Эли Вейл так и не узнал о смерти дочери, случившейся менее чем через неделю после его прибытия в Компьен. По ночам он сжимал в руке маленький гребень Рашель так сильно, что немели пальцы. Воспоминания о дочери придавали ему силы, помогали выносить жуткие условия, царившие в этом транзитном лагере.
В январе сильно похолодало, похлебка стала совсем жидкой. Многие интернированные не могли больше выдерживать длительные переклички, на которые их заставляли выходить два раза в день в любую погоду.
В начале февраля Эли Вейл заболел. Он отморозил пальцы ног и не мог больше стоять. Его силы таяли. Несколько десятков самых старых и больных узников освободили. Эли Вейла бегло осмотрел врач, но не счел его достаточно старым и больным для того, чтобы быть освобожденным. В конце концов Эли Вейлу удалось справиться с болезнью. Однако его друзья по несчастью не были такими стойкими. За четыре месяца девяносто два узника умерли от холода, голода, паразитов и инфекций.
Освобождения, считавшиеся сначала добрым знаком и помогавшие держать удар, становились все более редкими. Тринадцатого марта последние интернированные евреи покинули Компьен. Но они не вернулись домой. Их сразу же отправили в Дранси.
Двадцать седьмого марта 1942 года Эли Вейл попал в первую группу конвоя, состоявшего из тысячи ста двенадцати человек, которых должны были отправить в концентрационный лагерь Освенцим.
Ему не суждено было вновь увидеть Францию.
Глава 31
В античные времена греки использовали слово tukê, не имеющее эквивалента во французском языке. Довольно часто его не совсем верно переводят как «судьба». В отличие от «рока», бывшего, по мнению древних, выражением закона, перед которым склонялся разум, tukê нашло способы нарушать этот закон по неожиданному капризу, способному возникнуть в любой момент нашей жизни. Сейчас я думаю, что обнаружение фильма Абуэло, послужившего началом всей этой истории, было проявлением tukê, вторжением в повседневную жизнь, вторжением, которое нельзя заранее рассматривать как пагубное или благоприятное.
Тем не менее мне кажется, что в тот день, сидя в мрачной, плохо освещенной гостиной дома в Арвильере, я не находил во всей этой истории ничего положительного. Поведав мне, что ребенок Рашель был моим отцом, Алиса горько разрыдалась. Разумеется, я чувствовал себя виноватым за то, что вынудил ее к таким откровениям. Однако это чувство вины не шло ни в какое сравнение с моим желанием узнать правду: Алиса была последней, кто хранил тайны моего… «деда» — теперь язык у меня с трудом поворачивался, чтобы так его называть, — единственным живым человеком, который мог бы рассказать мне о «белых пятнах» в истории моей семьи.
Я довел Алису до кухни, чтобы дать ей воды. Она показала на ящик буфета, где лежали успокоительные. Казалось, она как-то обмякла. Долгий рассказ о семейных тайнах оставил на ее лице больше следов, чем все предыдущие переживания.
Мы долго молчали, сидя друг напротив друга за столом. Маски слетели. Наша жизнь… Жалкая комедия за ширмой! Все защитные стратагемы, которые я разрабатывал на протяжении стольких лет, оказались вдруг никчемными, смешными. Жизнь, настоящая жизнь догнала меня. Мне никак не удавалось к ней приспособиться. «Абуэло не был моим дедом. Мой отец родился в лебенсборне. Его мать была еврейкой». Я мысленно повторял эту информацию, чтобы она укоренилась в моем мозгу. Как мне хотелось повторить ее вслух, четко произнося каждый слог! Глупо думать, что только чувства способны стереть ложь и предательство. Я сердился на деда. Я также сердился, несомненно несправедливо, на Алису, на которой пытался выместить свою озлобленность. Наконец Алиса успокоилась. Ее лицо немного прояснилось, как небо после бури. Мое же лицо оставалось непроницаемым.
— Есть одна вещь, которую я никак не могу понять. Как моим бабушке и деду удалось воспитать этого ребенка? Почему эта медсестра не оставила его себе, если, по твоим словам, была к нему столь сильно привязана?
Алиса отняла платок от своих покрасневших глаз.
— Мы солгали вам еще кое в чем. Твоя бабушка Констанца была бесплодной. Ты же знаешь, как Анри обожал детей. Он всегда говорил, что у его жены были очень сложные роды и что все ее другие беременности заканчивались выкидышами. Таким образом Анри пытался объяснить тот факт, что Тео был их единственным сыном. Твой дед был счастливейшим из людей, когда на свет появились вы с Анной. Вы вдохнули в этот дом новую жизнь. Николь не была замужем, она потеряла работу и не могла бы объяснить своей семье это «непорочное зачатие». С другой стороны, она знала, что Анри и Констанца не могут иметь детей. Они пришли к согласию, что твоему отцу будет лучше, если они выдадут его за своего сына.
В центре всей этой истории стояла Николь Браше. Теперь я не верил, что ее смерть могла быть простым совпадением, тем более что Николь умерла практически одновременно с моим дедом, в то время когда Элоиза вела расследование. По определенным причинам я не стал сообщать Алисе, что знал о Николь еще до того, как она рассказала мне о ней.
— А тебе известно, что стало с этой медсестрой?
— Понятия об этом не имею. Сначала она поддерживала с Анри и Констанцей близкие отношения. Как друг семьи, она наблюдала за тем, как рос ребенок. Но я не думаю, что Анри встречался с ней после смерти твоей бабушки и уж тем более после смерти твоего отца. Лично я никогда ее не видела.
— Теодор… Это настоящее имя моего отца?
— Во всяком случае, так они его нарекли. Они не хотели идти на неоправданный риск.
— Рашель выбрала другое имя?
— Не знаю. Анри ничего мне об этом не говорил, а я его не расспрашивала. Все это не имеет никакого значения.
Имя моего отца навело меня на размышления. Как большинство врачей его поколения, Абуэло был эллинистом. Разумеется, он не случайно выбрал такое имя: Теодор, «дар Божий». Еврейский ребенок, которого они спасли и который занял место того ребенка, которого они не могли иметь…
— Что произошло после пожара? У Абуэло не было проблем с немцами?
— Разумеется, немцы провели расследование, но твой дед и Николь прекрасно сыграли свои роли. В конце концов, их не могли ни в чем упрекнуть. Я даже не думаю, что Ингрид Кирхберг понесла наказание. Ведь это был не первый, да и не последний ребенок, умерший в лебенсборне.
Я вспомнил, что говорила мне Элоиза о высоком уровне смертности в лебенсборнах.
— Пожар многое уничтожил. Не думаю, что немцы старались во что бы то ни стало найти обгоревший труп ребенка. Потом они окончательно покинули Сернанкур и не пытались открыть новый лебенсборн в его окрестностях. Им хватило неприятностей, вызванных пожаром и довольно непредсказуемым функционированием этого родильного дома. Вскоре к северу от Парижа был открыт второй лебенсборн.
— Ламорлэ, в Уазе.
— Да. Потом Анри и Констанца уехали в Реймс, где их никто не знал. Там они жили очень замкнуто, чтобы у Констанцы была возможность симулировать беременность. Все оказалось гораздо проще, чем они думали. Анри работал врачом, а потом стал членом подпольной организации.
— «Всё для Сопротивления»?
— Как тебе удалось об этом узнать?
— Абуэло рассказал об этом Элоизе. Кажется, он общался с отставным полковником авиации…
— Сначала организация «Всё для Сопротивления» вербовала своих членов среди демобилизованных офицеров и членов Французской социалистической партии. Этот отставной офицер организовал одно из первых подпольных собраний движения. Члены движения использовали свои должности как прикрытие. Они часто работали даже в организациях, учрежденных Виши, что снимало с них любые подозрения. Очень скоро твоему деду доверили возглавить ячейку организации в Реймсе. После войны никто так и не узнал, что он работал в нацистском родильном доме. В любом случае в то время лебенсборнами не интересовались.
Один вопрос обжигал мои губы, словно сигарета, догоревшая до конца. Внезапно мой голос задрожал.
— Мой отец знал, в каких условиях он появился на свет?
Алиса закрыла покрасневшие глаза и медленно произнесла:
— Твой отец долгое время ни о чем не догадывался. Анри и Констанца решили рассказать ему правду о Рашель только тогда, когда он вырастет и сумеет все правильно понять. Прекрасное решение, но явно необдуманное… Чем старше становился Тео, тем меньше они находили в себе мужества сказать ему, что он не их сын. Они хотели перевернуть страницу истории, забыть о войне, о родильном доме, о смерти Рашель. Анри и Констанца молчали, возможно, из трусости, но, возможно, и потому что полагали: так будет спокойнее для него. Так продолжалось до того самого дня, когда Тео обо всем догадался…
Я никогда не был тонким психологом, но мне казалось очевидным, что ложь, даже во благо, может произвести на ребенка эффект разорвавшейся бомбы в тот день, когда он узнает правду.
— Когда это произошло?
На лице Алисы отразилась паника. Как и я, она столкнулась с безжалостной действительностью. Вероятно, она никогда никому об этом не говорила. Слишком глубоко спрятанные тайны потрясают нас тогда, когда мы осознаем, что они могут разрушить жизнь наших близких.
— Почему ты не хочешь ответить на мой вопрос? — настаивал я. — Алиса… Я должен знать.
Алиса покачала головой, словно это движение могло прогнать колдовские чары.
— Твой отец… Он узнал правду на той неделе, когда погиб.
Почва стала уходить у меня из-под ног. К горлу подступила тошнота. В археологии моей семьи, до того как я обнаружил более глубокие пласты, приведшие меня к Второй мировой войне, смерть моего отца была первоначальным моментом, который смоделировал, сформировал нас такими, какими мы были сейчас. Я вспомнил о тех многочисленных мгновениях, когда спрашивал себя, была ли его смерть несчастным случаем или он покончил с собой. Алиса наверняка могла бы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Я встал. У меня кружилась голова, но теперь я не мог отступить.
— Нет, нет, — возбужденно начал я. — Как вы могли скрывать это от нас?
Алиса сложила руки, словно приготовилась к молитве.
— Никто не хотел, чтобы все закончилось именно так. Тео никогда не должен был узнать правду. Твой дед расплачивался за молчание всю оставшуюся жизнь.
— Но как мой отец обо всем узнал? Через столько лет…
Алиса пристально смотрела на стол, погрузившись в прошлое.
— Хотя Анри об этом никогда не говорил, думаю, он все же был готов к такому повороту событий. В тот октябрьский вечер 1987 года твой отец приехал сюда, в Арвильер. После развода с твоей матерью он редко нас навещал, и поэтому мы очень удивились его приезду. Это случилось после того, как ему диагностировали рак. Я никогда не забуду этот вечер. Шел проливной дождь, сад превратился в настоящее болото. Тео приехал очень возбужденный. Знаешь, из-за рака твоему отцу пришлось сделать множество анализов и исследований, но врачи были настроены оптимистично, и он решил бороться до конца. Однако в тот вечер его отчаяние не имело ничего общего с болезнью. И мы сразу все поняли…
Алиса замолчала. Она сидела неподвижно. Майевтика оказалась слишком сложной.
— Вне всякого сомнения, у него давно появились сомнения по поводу обстоятельств своего рождения, — наконец заговорила Алиса. — Возможно, рак послужил этому стимулом. Все началось с безобидного замечания, которое сделала ему медсестра о его редкой группе крови. У твоего отца была группа АВ с отрицательным резусом. Глупо, но обыкновенная группа крови разрушила сорок лет лжи. Тео не знал, какая группа крови у Анри. Но неизвестно почему вдруг вспомнил, что у его матери была группа О.
У меня в памяти тоже всплыли основные правила передачи группы крови по наследству: от родителей с группой О никогда не рождаются дети с группой АВ. Не важно, какая группа крови была у Абуэло, Констанца не могла быть матерью Тео.
— Анри не мог этого отрицать. Было бесполезно нанизывать еще одну ложь на другие. Твой отец заплакал, его ярость утихла. Он был ошарашен, потрясен. Анри попытался объяснить, что ему очень жаль и что сначала они не хотели скрывать от Тео правду. И тогда он все рассказал.
— Всю правду? Он рассказал о лебенсборне, о расовом отборе?
— Он рассказал все. Примерно в тех же выражениях, в каких я рассказала об этом тебе. О своей работе в лебенсборне, о родах Рашель… Исповедь Анри ни к чему не привела. Тео словно стал собственной тенью. Твой дед пытался объяснить ему, что, несмотря на трудное прошлое, они любили его так же горячо, как любили бы собственного ребенка.
У тайн есть своя иллюзорная риторика. Тайна — это не ложь по умолчанию. Нет, такая концепция слишком проста. Тайна — это фотографический негатив, бессодержательная реальность с независимым существованием, которая в день своего раскрытия может низвергнуть с пьедестала. Если тайна раскрыта вовремя, она, несомненно, ранит, но такие раны можно вылечить. Разрушительная сила тайны заключается в ее сокрытии, вернее, в скрываемом содержании. Именно это отказывались понимать мои бабушка и дед.
— Тео ушел, хлопнув дверью. Он сказал Анри, что никогда не простит ему ложь, что ненавидит его за то, что тот сделал. Твой отец говорил в порыве гнева, но это были его последние слова.
— Он умер после этого посещения, да?
— Он умер через час, возвращаясь в Париж.
Я выглянул в окно кухни. Охровое небо висело над садом и заливало его тусклым светом. И все же окружающий пейзаж был более веселым, чем мое настроение.
— В глубине души я всегда знал, что мой отец покончил жизнь самоубийством, но думал, что он поступил так из-за рака, да еще из-за разрыва с мамой.
Я не смотрел на Алису, но понял, что она резко выпрямилась.
— Что за глупости ты говоришь? Нет никаких доказательств того, что твой отец покончил с собой. В тот вечер он был настолько потрясен, что, вероятно, не справился с управлением.
Я устал от лжи. У меня складывалось впечатление, будто Алиса твердит заученный урок, вот только ее голос звучал фальшиво. В конце концов, разве имело значение, как именно умер мой отец? Был ли это несчастный случай или самоубийство, он умер из-за того, что узнал правду. И хотя я вовсе не гордился пришедшей мне на ум мыслью, я спрашивал себя, как мой дед сумел пережить смерть своего сына и как он смог столько лет нести груз такой вины.
Эта последняя мысль — мысль о непосильной вине, способной медленно сломить вас за несколько лет, — позволила мне увидеть новую сценографию, менее искусственную, более логичную, способную приобщить меня к тому, чего мне всегда не хватало: к перспективе. Неожиданно все показалось мне очевидным. Откровения Абуэло, смерть моего отца, депрессия Анны… На первую семейную трагедию наложилась вторая, но тогда, словно глядя на фотографический снимок, на котором растры смещались и делали изображение неразборчивым, я не мог установить между ними связь и расшифровать их.
Трагедия заключается в том, что, если ты начинаешь копаться в прошлом, ты должен идти до конца.
— Алиса, я хочу задать тебе последний вопрос, — вполголоса произнес я.
В саду под небом землистого цвета деревья оставались невозмутимыми.
— Ведь Анна знала правду о нашем отце, да?
Алиса промолчала, но ее молчание было для меня лучшим ответом.
Глава 32
Семнадцать машин. Лонэ и Дюамель уже проверили семнадцать машин. Безрезультатно.
Первоначальное возбуждение спало. Их медленно, но настойчиво начало охватывать отчаяние. Поездки на полицейском автомобиле, поквартирный обход, повторные проверки… Это была самая утомительная сторона расследования, но именно такая кропотливая работа могла закончиться успехом. По крайней мере, именно за эту мысль надо было хвататься, как за спасительную соломинку. За время поисков они познакомились с широким спектром характеров: от матери семейства, возмущенной тем, что ее посмели заподозрить в совершении преступления, до одинокого пенсионера, для которого визит жандармов стал солнечным лучиком в кромешной тьме забвения и который всеми силами старался удержать их как можно дольше. Как правило, общение с представителями сил правопорядка вызывало самые разнообразные реакции: безграничную панику у одних, гнев, если не сказать агрессию, у других.
Стараясь не слишком сильно волновать опрашиваемых, Франк и Эмили пели привычную для владельцев «ауди» песню, рассказывая им об обыкновенном расследовании автомобильной аварии.
— Кто наш следующий клиент? — спросил Франк, когда они въехали на территорию коммуны Бетенивиль.
— Некий Антуан Лубиа. Притормози. Думаю, мы приехали.
— Черт возьми! Мы что, должны таскаться по самым глухим уголкам района?
Едва они вышли из машины, как им в нос ударил невыносимый запах вареной капусты.
— Боже, что за зараза?
— Приятные флюиды от перегонки, — с иронией откликнулся Франк. — Думаю, они переставили тазы.
Они позвонили в дверь городского дома, узкого, облупившегося, покосившегося. Дверь открылась. На пороге стоял мужчина лет тридцати, в грязном спортивном костюме, с волосами, заплетенными в косички, и бегающими глазками.
— Мсье Лубиа?
— Да, чего еще надо?
Франк взглянул на Эмили, не зная, как истолковать слово «еще».
— Лейтенанты Дюамель и Лонэ из жандармерии Шалон-ан-Шампань. Мы проводим проверку в рамках расследования автомобильной аварии, которая недавно произошла в этом районе.
— А какое я имею к этому отношению? — сухо спросил мужчина. — Я-то ни в какую аварию не попадал.
— У вас есть «ауди» модели 80 В3?
Мужчина пытался отвести свой взгляд так, чтобы лейтенанты исчезли из его поля зрения.
— Есть у меня такая тачка, но это чертовски распространенная модель. Вы ошиблись адресом.
— Если позволите, мы все же взглянем на вашу машину.
— А у вас есть ордер или что-то вроде того? — прорычал Лубиа.
Франк рассмеялся. Правда, смех получился вымученным.
— Полагаю, вы насмотрелись американских сериалов. Впрочем, мы можем продолжить разговор в жандармерии. Как вы думаете, лейтенант Дюамель?
— Думаю, так будет лучше, — ответила молодая женщина, подыгрывая коллеге.
— Ладно, давайте заканчивать, — проворчал Лубиа сквозь зубы. — Гараж рядом. Сейчас я открою вам его изнутри.
— Мы пойдем с вами, — тут же откликнулся Лонэ, следуя за мужчиной по пятам.
В доме все выглядело жалким: ветхая бесцветная мебель, полный беспорядок.
Они прошли в гараж через кухню. Неоновая лампа замерцала, потом слабый свет позволил увидеть машину, занимавшую практически все помещение.
— Не могли бы вы открыть откидную дверцу?
Мужчина нажал на кнопку. Дневной свет залил помещение и на мгновение ослепил их. «Ауди-80» нисколько не походила на своего владельца. Вымытая, начищенная, сверкающая машина, казалось, была единственной вещью в доме, о которой действительно заботились. Франк и Эмили радостно переглянулись: автомобиль недавно перекрасили в светло-зеленый цвет. Не спуская глаз с владельца, они обошли машину, чтобы проверить передний правый указатель поворота. Он тоже был новым. Лонэ почувствовал, как у него бешено забилось сердце.
— Это не первоначальный цвет?
— Нет, я перекрасил машину полгода назад.
— А указатель поворота?
— В прошлом году я разбил его. Пришлось поменять.
— Но вы же нам говорили, что не попадали в аварии.
— «Недавно». Недавно не попадал… Та авария произошла более полугода назад. Мы все уладили полюбовно.
— Есть ли у вас счета, подтверждающие ремонт?
— Счета? Вы шутите? Мне все починил один тип, работающий в гараже. Черт возьми, чего вам надо?
— Полагаю, мсье Лубиа, вам придется проехать с нами.
Это был день бонсая.
Капитан Лорини взял китайский берест, стоявший на подоконнике за его письменным столом, и начал легонько стучать по горшку. Он по звуку определял, насколько высохла земля. Затем Лорини взял импровизированную лейку — бутылку из-под молока, в которой проделал миниатюрные отверстия, чтобы вода лилась тонкими струйками, — и принялся поливать карликовое деревце.
В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет вошел Лонэ.
— Растет, патрон?
— Садитесь, Франк, — откликнулся капитан, немного раздраженный фамильярным тоном своего подчиненного. — Ну?
— Этот тип назвал имя человека, который якобы полгода назад чинил ему машину, неофициально, разумеется. Мы попытались с ним связаться, но, похоже, гараж закрыт.
— Что вы об этом думаете?
— Трудно сказать. Лубиа, конечно, не мальчик из церковного хора, но мы не должны судить по внешности… Разумеется, у него нет алиби на момент смерти Николь Браше. Он уже два года как не работает и практически все время проводит у себя дома. Что касается машины, нет никакой возможности определить, когда ее ремонтировали, если только не отправить ее в Роне-су-Буа.
Капитан осторожно поставил карликовое деревце на подоконник.
— Хорошо, не будем горячиться. Сначала надо поймать этого неуловимого работника из гаража… Что касается остального, я хочу, чтобы вы продолжили проверки, немедля.
«Немедля». Привыкший к архаизмам капитана, Лонэ не осмелился переспрашивать и сделал вывод, что к работе надо приступить тотчас же.
— Если этот след ни к чему не ведет, глупо тратить время зря. Сколько машин вы уже проверили?
— Лонэ — Дюамель: восемнадцать, включая машину Лубиа. Морено — Симоне: четырнадцать. Мы их обставили, капитан.
— Прекратите паясничать, Франк. Я знаю, что вы отдали этому расследованию много сил, но нельзя заниматься им вечно. Наступит момент, когда дело об этом убийстве, хотя и ужасном, окажется внизу стопки.
— Что он сказал?
— Мы продолжаем проверки, «немедля». Подожди, я возьму списки со стола.
— Мне этот обход начинает действовать на нервы, — вздохнула Эмили. — Было бы лучше сначала отработать версию о причастности Лубиа, а потом уже продолжить проверку…
— Черт возьми! Что это?! — воскликнул Франк, беря в руки лист бумаги, который недавно положили ему на стол.
— О чем ты говоришь?
Без всяких объяснений Франк пулей влетел в кабинет дежурного. До Эмили донесся разговор на повышенных тонах… вернее, обмен крепкими выражениями.
Когда Франк вернулся к себе в кабинет, он буквально кипел от ярости.
— Так ты скажешь наконец, что происходит? — раздраженно спросила Эмили.
— А происходит то, что три дня назад нам звонили из комиссариата Тринадцатого округа Парижа. Дело о нападении…
— Разве нас это касается?
— Брату жертвы угрожали. Он путается в показаниях, весьма мудреных, но упомянул об убийстве Николь Браше.
— Ты шутишь?
— Нет. По всей вероятности, он может дать нам важную информацию. Поскольку вся эта история сначала выглядела очень странно, комиссар колебался, стоит ли нам о ней сообщать. Тем не менее он решил перестраховаться.
— Ты сказал, что он звонил три дня назад! Но почему нам ничего не сообщили?
— Судя по всему, они не поняли, что это срочно. В тот день, когда комиссар нам звонил, нас с тобой не было. И записку положили на стол Англада, который потом ушел в отпуск. А ты еще говоришь о работе одной командой!
Лонэ в третий раз прочел записку, которую держал в руках. Недовольство уступило место удивлению.
— Погоди… Коше. Это о чем-нибудь тебе говорит?
— Это фамилия брата девушки, на которую напали?
— Да. Его зовут Орельен Коше.
Лонэ бросился к своему столу и стал лихорадочно просматривать списки владельцев «ауди-80».
— Черт!.. Анри Коше… Он живет в Арвильере…
— Не может быть!
— Посмотри! Либо это совпадение, во что я не верю, либо мы напали на верный след.
Глава 33
Вода разливалась по всему моему телу. Она была такой горячей, что на коже появлялись большие красноватые пятна. У Элоизы душевая кабина была такой узкой, что любые движения превращались в настоящие акробатические номера. Я чувствовал себя мумией в саркофаге. Я долго стоял под струей воды, расслабившись от пара. Мне с трудом удавалось сосредоточиться на откровениях, услышанных из уст Алисы.
Из Арвильера я сразу поехал к Элоизе. У меня не было ни малейшего желания пребывать дома в унынии и одиночестве, ведь теперь не было даже «вечернего гостя», который мог бы утешить меня своим мурлыканьем. Приехав, я почти все рассказал Элоизе, но в общих чертах. Прежде всего я нуждался в ду́ше — как в физическом, так и в духовном очищении.
Как наказанный ребенок, часто чувствующий ответственность за свои беды, я ощущал смутную вину, упрекая себя за неспособность понять то, что происходило у меня на глазах. После смерти отца я замкнулся. Я убеждал себя, что моя сестра была тяжело больна, глубоко расстроена, что у нее всегда была нестабильная психика, только это проявилось уже после того, как наш отец ушел из жизни. Я никогда не пытался по-настоящему понять Анну. Траур может вызвать временную депрессию, но в подавленном состоянии моя сестра находилась более десяти лет. Это было сродни опухоли, которая медленно уничтожает вас изнутри, опухоли, которую нельзя вылечить.
Анна все знала. Она несла двойное непосильное бремя. Она не только знала, что наш отец был сыном женщины, умершей при родах в лебенсборне, но и что он погиб сразу после того, как открыл для себя истину. Истину, которая вынудила мою сестру принять обет молчания. Теперь я не думаю, что Анна стала заложницей жизненных перипетий. Я скорее полагаю, что наш характер способен влиять на события, даже на те, которые с первого взгляда не имеют к нам никакого отношения. Моя сестра была очень восприимчива ко всему, что происходило вокруг. Из нашей маленькой фратрии только она, казалось, несла личную ответственность за все несчастья, словно это было предначертано ей судьбой. Ее повышенная чувствительность, острое восприятие мира притягивали к ней нелегкие и жестокие испытания. Меня же охраняло мое равнодушие.
Как мой отец мог не знать правды более сорока лет? Почему его не насторожило полное отсутствие сходства с родителями, которое теперь так отчетливо бросается в глаза, или предчувствие, не требующее очевидных доказательств? Я с трудом мог это допустить, зная, что неприятие действительности существует, например, у женщин, которые до самого конца не воспринимают свою беременность. Мой отец — и это передалось от него мне — мог упорно отрицать очевидное, идти на любые уловки, чтобы не воспринимать неприятную действительность, ставшую в конце концов явной.
Кожа моя покраснела. Я закрыл кран. Ванная комната превратилась в парилку. Зеркало покрылось непрозрачной пеленой, что избавило меня от необходимости встречаться лицом к лицу с самим собой.
Обернув полотенце вокруг талии, я открыл дверь, чтобы клубы пара могли рассеяться. В проеме показалась Элоиза.
— Все в порядке?
Я попытался улыбнуться, но ответить не смог.
— Хочешь поговорить?
— Возможно. У тебя осталось немного волшебного зелья?
— Ты имеешь в виду вино моего отца?
— Да. Налей мне стаканчик.
Мы лежали на диване, как в первый вечер. Элоиза прижималась ко мне, я обнимал ее обеими руками.
— Когда твоя сестра узнала правду об отце?
— Она давно ее знала, с того самого вечера, когда он приехал в Арвильер.
— Только не говори, что она присутствовала при этой сцене!
— Присутствовала…
— Но что она делала у деда?
— В то время Анне было пятнадцать лет. Мои родители только что разошлись. В середине года мы с матерью переехали в Париж, а Анна придумала целую историю, потому что не хотела покидать лицей Шалона и расставаться с друзьями. Ей разрешили доучиться до конца года в Шалоне и жить в Арвильере, у деда. Моя сестра всегда отличалась невероятной скрытностью. По вечерам она занималась у себя в комнате или слушала музыку, надев наушники. В тот вечер никто не обратил на нее внимания. Но она стояла наверху лестницы и слышала весь разговор.
— Твой отец погиб в тот вечер?
— Да. Он возвращался из Арвильера, пьяный от ярости. Мой дед пытался его удержать, но тщетно.
— Почему твоя сестра ничего не сказала? Как она могла так долго хранить молчание?
— Думаю, если бы я был на ее месте, я тоже ничего бы не сказал. Несомненно, чтобы оградить, уберечь ее…
И тут мне стало страшно. Значит, я тоже готов был лгать и делать то, за что сейчас упрекал своего деда.
— Надо же, а ведь я все эти годы сердился на Анну за то, что она никак не может излечиться от депрессии.
— Мне очень жаль, Орельен.
Я допил второй стакан вина.
— Я жил в семье, для которой ложь стала нормой жизни. Я с трудом верю в то, что наша бабушка была еврейкой.
— Знаешь, несмотря на строгий контроль при приеме в лебенсборны, происхождение некоторых беременных женщин оставалось не до конца установленным. Вполне возможно, что среди дальних предков некоторых из них были евреи, хотя сами женщины об этом даже не догадывались.
И хотя я по-прежнему сердился на Абуэло и во многом упрекал его, он в то военное время пытался спасти две жизни. Он защитил Рашель, никому не выдав ее тайну, и сделал все, чтобы моего отца не отправили в «образцовую семью» в Германию, где его жизнь сложилась бы иначе.
— Как ты думаешь, Алиса сказала правду о Николь Браше?
— Не уверен, что она лично была с ней знакома и знала о ее смерти. Если бы Алиса захотела что-либо от меня утаить, она не стала бы показывать мне дневник Рашель, в котором постоянно говорится об этой медсестре. Она не пошла бы на такой риск. Думаю, Алиса лишь частично знает эту историю, ведь она даже не подозревала о существовании фильма.
— В любом случае то, что сегодня тебе поведала Алиса, не проливает свет ни на кражу в твоей квартире, ни на нападение на Анну. Я уже не говорю об убийстве Николь Браше. Кому могло быть известно о той роли, которую играла эта женщина в лебенсборне, и о существовании фильма? Что хотели скрыть, убив ее?
— Не знаю. Может, мы об этом никогда не узнаем.
Элоиза крепче прижалась ко мне.
— Ты собираешься поговорить об этом с сестрой?
— Только не сейчас. Я еще не пришел в себя. Мне надо привести в порядок свои мысли. К тому же я пообещал Алисе ничего не говорить ей о нашем разговоре.
Я почувствовал, как Элоиза напряглась в моих объятиях.
— Думаешь, я не прав?
— Если хочешь знать мое мнение, в вашей жизни было слишком много лжи. Пришло время вскрыть нарыв.
Глава 34
За массивными дверями портика уходила вдаль бесконечная аллея, обсаженная каштанами, сквозь ветви и листву которых словно через решето струились солнечные лучи. Машина жандармерии притормозила, а затем, прибавив скорость, поехала по поместью.
С тех пор как Лонэ обнаружил фамилию Коше в своем списке, он пребывал в радостном возбуждении. Он немедленно связался с комиссариатом Тринадцатого округа Парижа. Правда, ему не повезло — комиссар, принимавший Орельена Коше три дня назад, отсутствовал. О деле Лонэ рассказали лишь в общих чертах. В понедельник, 14 мая, молодая женщина по имени Анна Коше подверглась в своей квартире жестокому нападению. Не было ни одного подозреваемого. В тот же вечер полицейский заслушал в больнице свидетельство ее брата, Орельена, преподавателя подготовительных курсов, квартиру которого ограбили за десять дней до нападения. У него украли ценный фильм, снятый во время Второй мировой войны. Затем история становилась более чем странной. Речь шла о нацистском родильном доме, в котором работали дед Орельена Коше, акушер-гинеколог, и медсестра по имени… Николь Браше. Это была отрывочная информация, которую в данный момент Лонэ никак не мог связать в единое целое. Она вызывала новые вопросы, но не давала никаких вразумительных ответов.
Вскоре появилось здание с фахверковыми стенами, перед которым возвышался причудливый фонтан без воды.
— Неплохой домишко! — заметила Эмили Дюамель.
— Слишком вычурный, на мой взгляд, — откликнулся Лонэ, скривив губы. — Но мы не позволим этому декоруму усыпить нашу бдительность!
Их приезд не остался незамеченным. Выйдя из «пежо-306», они поняли, что их уже поджидала пожилая женщина, застывшая на крыльце в торжественной позе. Она спустилась на несколько ступенек.
— Здравствуйте, мадам. Лейтенанты Лонэ и Дюамель из жандармерии Шалона.
В этот момент у Франка возникло ощущение, будто он действовал, как автомат, дни напролет представляя себя и свою коллегу. Он продолжил:
— Мы хотели бы поговорить с мсье Коше.
Лицо женщины оставалось невозмутимым.
— Он больше здесь не живет, — спокойно ответила она.
— Тогда где можем мы его найти?
Женщина выдержала паузу.
— На кладбище Арвильера.
Ошарашенные Дюамель и Лонэ переглянулись.
— Вы хотите сказать, что он умер? — уточнила Эмили.
— Анри покинул нас более месяца назад.
— Нам очень жаль, — сказал Лонэ тоном, в котором вовсе не было сочувствия. — Мсье Коше был вашим супругом?
— Моим спутником, — поправила его женщина. — Мы прожили вместе почти двадцать пять лет.
Мозг Лонэ лихорадочно заработал. Анри Коше умер более месяца назад, то есть приблизительно тогда, когда Николь Браше…
— Простите, мадам?..
— Зовите меня Алисой.
— Когда именно умер мсье Коше?
— Двенадцатого апреля, в понедельник…
Николь Браше убили двенадцатого марта. Месяцем раньше, день в день. А это означало, что Анри Коше мог иметь отношение к ее смерти.
— У мсье Коше была «ауди 80 В3»?
По-прежнему бесстрашная, нисколько не обеспокоенная визитом двух жандармов, женщина медленно кивнула головой.
— Да, «ауди-80», совершенно верно.
— Мы расследуем автомобильную аварию с участием белой «ауди» этой модели. Мсье Коше был единственным, кто пользовался машиной?
— Анри больше не садился за руль. Ему было девяносто лет.
«Черт возьми! — мысленно выругался Лонэ. — Он был слишком стар, чтобы прикончить женщину, да еще связать ее».
— Машину водила я, — через некоторое время продолжила Алиса.
— Можем ли мы взглянуть на нее?
Женщина повернулась к жандармам спиной.
— Следуйте за мной.
Гараж не примыкал к зданию. Это был старый сарай с источенными червями дверями, створки которых удерживала широкая цепь без замка. Старая женщина развязала цепь и бросила ее на землю.
Помещение было тесным и насквозь пропахло опилками и сыростью. Лонэ заметил верстак, заваленный старыми ржавыми инструментами и коробками разных размеров. «Ауди» стояла капотом к задней стене, и жандарму пришлось протискиваться, чтобы посмотреть на ту часть машины, которая его интересовала.
Лейтенант сразу же заметил, что справа капот был поцарапан, а указатель поворота разбит. На этот раз речь не могла идти о совпадении. Лейтенанта охватило чувство удовлетворения. Однако вскоре к этому чувству примешалось странное замешательство. Картина, представшая перед его глазами, никак не сочеталась с величественным обликом поместья и четой старых владельцев.
Лонэ кивнул своей коллеге.
— Мадам, был ли у мсье Коше внук по имени Орельен?
Лицо женщины внезапно оживилось. Маска, которую она надела для жандармов, спала.
— Почему вы спрашиваете у меня об Орельене? Вы приехали из-за Николь…
Лонэ и Дюамель изумленно переглянулись. Женщина оперлась на ржавый металлический стул и тяжело опустилась на него, словно сломленная внезапной усталостью.
— Что вы можете сказать о мадам Браше? — спросила Эмили, еще не оправившаяся от шока.
В уголках губ Алисы появились горькие складки.
— Ничего. Только то, что я виновата в ее смерти.
Глава 35
Алису задержали 15 мая 1999 года. Об этом событии я узнал из короткого сообщения, оставленного на моем автоответчике жандармом, который не потрудился сообщить мне причину ареста. И все же у меня в голове сразу мелькнула мысль об убийстве Николь Браше. Или, возможно, речь идет об апостериорной реконструкции, теперь, когда у меня сложилось более полное представление об этом деле…
Я немедленно позвонил адвокату нашей семьи, хорошему знакомому моего отца, который на похоронах, между выражениями соболезнования и несколькими рукопожатиями, заверил нас, что всегда придет нам на помощь, как бы ни сложились обстоятельства. Я редко имел с ним дело лично. Он занимался лишь нашими семейными мелкими дрязгами и был так же, как и я, удивлен, узнав о задержании Алисы. Однако лаконичное послание жандармов удивило его не так сильно. Адвокат объяснил мне, что, хотя задержанный может предупредить членов своей семьи о том, где он находится, ничто не обязывает полицию или жандармерию сообщать им о характере самого правонарушения. Адвокат чувствовал мое замешательство и говорил со мной дружеским, успокаивающим тоном.
— Послушайте, Орельен, прошу вас, предоставьте мне свободу действий. Оставайтесь в Париже. И, главное, не связывайтесь с жандармерией Шалона. Вы ничего не добьетесь от жандармов. В любом случае вы не сможете увидеться с Алисой.
— А вы, когда вы сможете с ней поговорить, как думаете?
— Через двадцать один час с момента задержания. Разумеется, я постараюсь собрать как можно больше сведений до встречи с ней, но мне не дадут ознакомиться с делом. А вы сами-то как думаете, за что задержали Алису?
Я внутренне содрогнулся. Должен ли я откровенно рассказать адвокату обо всем, что узнал за эти последние недели? В конце концов, я не мог установить точную связь между всеми происшедшими событиями. Мне казалось, что смерть Николь Браше стояла особняком.
— По правде говоря, я не уверен…
— Но вам что-то известно, не так ли? Орельен, вы должны мне доверять.
Я тяжело вздохнул.
— Хорошо. Более двух месяцев назад умерла женщина…
И тут слова полились рекой. Я уже не мог остановиться.
Я решил последовать совету Элоизы. Я должен был поговорить с сестрой: не только о смерти отца, но, разумеется, и о задержании Алисы. На протяжении десяти лет я имел глупость считать, что оберегаю Анну, в то время как это она хотела меня защитить. Я не мог позволить себе скрывать от нее столь важную информацию.
— Офелия, это Орельен. Мне надо поговорить с Анной.
— Она еще не вернулась.
— Ты не знаешь, где она?
— Полагаю, в Школе Лувра…
Офелия лгала так же плохо, как муж, который пытается скрыть от жены существование любовницы.
— Послушай, не напрягайся. Я прекрасно знаю, что Анна давно бросила учебу.
У Офелии хватило совести не притворяться, будто она удивлена.
— Мне очень жаль, Орельен. Я не думала, что ты об этом догадываешься. Последнее время Анна сама не своя. Думаю, у нее очередной приступ.
Я вспомнил, как поучал Элоизу: когда имеешь дело с людьми, страдающими депрессией, никогда нельзя доверять внешним признакам.
— Черт возьми! — вырвалось у меня. — Ты могла бы сказать мне об этом раньше. Я ее почти не вижу…
— Анна заставила меня поклясться, что я ничего тебе не скажу.
Офелия чувствовала себя меж двух огней. Да, она попала в незавидное положение.
— Но ты, по крайней мере, знаешь, чем она занимается?
— Анна много времени проводит в Арвильере. Иногда она весь день не выходит из квартиры. Когда она бросила учебу, я известила дирекцию школы о ее состоянии. Поскольку Анна находится на медицинском учете, они, разумеется, не стали ее отчислять. Ведь она все-таки проучилась семь лет. Дирекция школы согласилась перенести защиту ее диплома. Но я не знаю, собирается ли Анна в ближайшее время вернуться к учебе.
То, что сообщила мне Офелия, не повлияло на мои планы. Я во что бы то ни стало должен был сказать сестре правду.
— Ладно, сейчас бесполезно об этом говорить. Скажи, пожалуйста, Анне, что я звонил. Это очень важно. Сегодня задержали Алису.
— Что? Вашу Алису? Но почему?
— Не имею понятия. Я узнал об этом всего час назад. Наш адвокат наведет справки. Пусть Анна обязательно мне перезвонит. Скажи ей, чтобы она не пыталась добиться свидания с Алисой. Пусть остается дома. Ты поняла?
Вечером адвокат сообщил мне новости. Я сказал ему, что он может найти меня у Элоизы. Наш разговор был коротким, но ошеломил меня, выбил из колеи.
— Ну что? — спросила Элоиза, прислушивавшаяся к разговору.
— Он не видел Алису, но говорил с жандармами. Я не могу в это поверить: она призналась в убийстве Николь Браше.
Лицо Элоизы вытянулось от удивления.
— Это блеф!
— Нет, не думаю. Судя по словам адвоката, десять дней назад объявился свидетель. Сосед, который видел, как в день убийства у дома Браше стояла белая машина. Они нашли следы краски на воротках и послали их на анализ.
— Ты хочешь сказать, что это была машина Алисы?
— Скорее машина моего деда, белая «ауди», которой он почти не пользовался. Жандармы проверили все машины, зарегистрированные в районе. Они приехали в Арвильер и убедились, что автомобиль поврежден, а указатель правого поворота разбит.
— И что это доказывает? Это может быть совпадением.
— Алиса ничего не пыталась скрывать. Она призналась, что ездила к Николь Браше и убила ее, хотя и объяснила, что речь идет о несчастном случае.
— Но почему она убила эту женщину?
— В настоящий момент адвокат этого не знает. Алиса не смогла дать убедительных объяснений.
— Ты действительно веришь, что Алиса могла пойти на такое?
Я немного поколебался.
— Некоторое время назад я решительно ответил бы «нет». Но сейчас я не знаю. Николь Браше знала все о лебенсборне и о работе Абуэло во время войны. То обстоятельство, что она хотела обо всем рассказать тебе, вероятно, послужило толчком.
— Ты хочешь сказать, что Алиса собиралась помешать ей рассказать мне правду? Нет, это абсурд. Ведь твой дед согласился поговорить со мной о своем прошлом.
— Да, но Алиса об этом, несомненно, не знала. Он принял тебя в тот день, когда ее не было дома. К тому же мой дед высказал тебе личную, если можно так выразиться, точку зрения на свое пребывание в Сернанкуре. Алиса могла испугаться, что прошлое, а вместе с ним и все наши семейные тайны станут явью. Абуэло был болен. Она могла полагать, что если вся эта история выйдет наружу, он не перенесет такого удара.
— Но ограбление? — продолжала спорить со мной Элоиза. — Николь Браше нашли привязанной к стулу в кладовке. Уж не хочешь ли ты мне сказать, что Алиса могла инсценировать все это, чтобы отвести от себя подозрения? Ей почти семьдесят пять лет…
— Знаешь, все это выше моего понимания… Черт!
— Что такое?
— Я только сейчас понял, что не сказал Офелии о том, что сегодня вечером буду у тебя. Я должен ей позвонить.
Офелия сняла трубку после первого гудка и не дала мне ничего сказать.
— Орельен, я несколько раз пыталась связаться с тобой…
— Это моя вина, я сейчас не дома…
— Анна недавно вернулась. Я рассказала ей об Алисе.
— Как она отреагировала?
— Трудно сказать… У нее был… отсутствующий вид, словно то, что я ей говорила, ее не касалось.
— Она дома?
— Нет. Именно поэтому я и хотела тебя предупредить. Анна отказалась с тобой говорить. Она ушла около часа назад.
— Ушла? Но куда?
— Не знаю. Она ничего мне не сказала. Я пыталась ее удержать, но…
— Черт знает что! Только этого не хватало! Но ты хотя бы можешь предположить, куда она отправилась?
— Понятия не имею.
— У нее есть друзья, знакомые?
— Конечно. Некоторых я знаю. Но я сомневаюсь, что Анна пошла к ним. У меня такое впечатление, будто ей хочется побыть одной.
— Послушай, Офелия… Все же не могла бы ты разузнать и встретиться с теми, к кому Анна могла бы пойти?
— Хорошо, я сейчас же этим займусь.
— Спасибо. Я дам тебе номер телефона того места, где я нахожусь. Позвони, когда что-нибудь узнаешь.
Весь вечер я провел в тревожном ожидании. Было очевидно, что известие о задержании Алисы потрясло Анну, хотя она и не подала вида и Офелия ни о чем не догадалась.
— Ты действительно не знаешь, куда она могла пойти? — спросила меня Элоиза.
— Есть одна мысль…
— В дом твоего деда?
— Да. Именно там все и началось для нее. Пресловутая «первоначальная психическая травма».
— Думаешь, твоя сестра поедет туда? Ночью?
— Именно этого я и боюсь. К сожалению, у меня нет машины, и путь туда и обратно займет почти пять часов. Думаю, мне лучше дождаться телефонного звонка.
Я так и поступил. Офелия позвонила мне около полуночи и сказала, что Анна до сих пор не вернулась. Я раз десять звонил в Арвильер, но безрезультатно. Я бодрствовал до четырех часов утра, но в конце концов заснул на канапе.
Около семи часов утра раздался телефонный звонок, вырвавший меня из оцепенения. Звонила Офелия.
— Орельен, прости за столь ранний звонок.
— Анна дома?
— Я слышала, как она вернулась час назад.
— Ты даже не представляешь, какое это для меня облегчение!
— Она заперлась в своей комнате. Думаю, она уснула. Я не решилась беспокоить ее.
— Хорошо… Послушай… У меня занятия до полудня, но потом я сразу же приду ее проведать. Спасибо за все, что ты сделала. Анне повезло, что у нее есть такая подруга, как ты.
Утро тянулось медленно. Ничто не изнуряет так сильно, как бессонные ночи, которые стали для меня обыденностью. Я читал лекцию о знаменитом отрывке из «Обретенного времени», где Пруст описывает смерть человека, пришедшего в музей полюбоваться картиной Вермеера. Я, словно автомат, комментировал текст, который знал наизусть, до того момента, когда меня захлестнули неожиданные эмоции. Виной этому стал пейзаж Вермеера, который я проецировал на экран.
Я принялся размышлять о времени, когда готовился к экзамену на агреже. В том году в программу входил последний том произведений Пруста. Мне было двадцать три. С момента гибели отца прошло три года. Бо́льшую часть лета я провел, запершись в своей комнате в Арвильере, с головой погрузившись в книги и переводы с латыни. Август выдался душным. Сидя на подоконнике и глядя на черепичные крыши, я курил и пил горькие лимонады, которые готовила Алиса. Из этого же окна я видел в саду Алису, деда и сестру, которые сидели вокруг стола. До меня долетали обрывки фраз, успокаивающий смех… Около девяти часов мы ужинали за столом в гостиной и беседовали допоздна. Мой дед слушал, как я рассказывал о Прусте и Овидии, а я слушал, как он рассказывал о своей молодости, когда был интерном в больнице Святого Иосифа Реймса, принадлежавшей иезуитам. Хотя Анри не был удовлетворен своим образованием, все же он сохранил то, что сам называл «фарисейской непреклонностью», — строжайшее уважение нравственных норм, которое, возможно, мы от него унаследовали. Я любил его слушать. Его голос, такой мягкий, такой сочный, создавал у меня впечатление, будто я нахожусь в полнейшей безопасности. Чувство, которое ни разу не возникало у меня после его смерти.
Я стоял в глубине аудитории. И вдруг мне показалось, что я впервые вижу этот пейзаж Вермеера. Он перекликался с моими неистовыми чувствами, которые обуревали меня последние недели, но которые я не сумел бы выразить словами. Эта картина, словно дополнявшая текст Пруста, внезапно приобрела для меня иной смысл. Она не только оживила воспоминания о том лете. Я ощутил, что постиг тот жизненный урок, который она нам преподавала: искусство — это не уловка или ложь, это сама жизнь. Искусство помогает нам приобщиться к сокровенному Я, которое без него осталось бы непостижимым. Окольными путями я добрался до этого странного зеркала, в котором отражались мои слабости, мое малодушие, моя слепота. Как эти произведения приобщают нас к правде, не лежащей на поверхности, так и ничем не примечательный фильм пятидесятилетней давности открыл мой истинный характер и проявил неумолимое разрушение моих отношений с Анной.
Я рассеянно смотрел на утреннее небо, очистившееся от туч после ливня, как вдруг в дверь аудитории постучал учебный надзиратель. Он подошел ко мне и прошептал на ухо несколько слов.
Я помню, как шел за ним по длинным коридорам лицея до секретариата, где меня ждал самый душераздирающий в моей жизни телефонный разговор.
Глава 36
Сернанкур, октябрь 1945 года
Было холодно. Под хмурым небом два человека шли по кладбищу между могилами. Дождь размыл дорожки, и к подметкам ботинок прилипали почти сгнившие листья. Воздух был пропитан ароматами земли, к которым примешивался резкий запах тисовых деревьев.
В глубине кладбища, рядом с могилой, поросшей колючим кустарником, Анри Коше остановился около ухоженного гранитного камня, вокруг которого росли куртины красного и розового вереска.
— Это здесь, — произнес он ровным голосом, полным, тем не менее, сильных чувств.
На камне не было эпитафии. Там были выгравированы только имя и две даты:
Ивонна Ламбер
12 марта 1922 года — 17 декабря 1941 года
Мужчина, сопровождавший Анри Коше, поднял воротник пальто и медленно покачал головой.
— Это вы ухаживаете за могилой?
— Да. Мы с женой приходим сюда каждый месяц. Мы хотели изменить имя, но административные процедуры такие долгие, такие обескураживающие, — сказал Анри Коше, словно оправдываясь. — Тем не менее я надеюсь, что нам удастся добиться своего.
— Понимаю, — прошептал мужчина с седыми висками.
— Если хотите, я оставлю вас одного…
— Нет, — ответил мужчина, беря Анри Коше за руку. — Будьте рядом…
Симон Вейл молча смотрел на надгробный камень. Он до сих пор удивлялся, что стоит рядом с почти незнакомым человеком на кладбище, затерявшемся на северо-востоке Франции. Симон с трудом верил в то, что это была могила его племянницы, которую он безуспешно разыскивал с тех пор, как закончилась война. И вдруг два месяца назад он получил это невероятное письмо, которое перечитывал столько раз, что в конце концов выучил его наизусть… Письмо, написанное врачом, разыскивавшим его целый год. Смерть Рашель не явилась для Симона сюрпризом. Но он даже представить себе не мог, какой оказалась судьба его племянницы в конце 1941 года.
— Знаете, — сказал он Анри Коше в то утро, когда они впервые встретились, — мой брат так и не сообщил мне, где прячется Рашель. Он просто заверил меня, что она находится в полной безопасности. Его слова до сих пор звучат у меня в ушах: «В самом надежном месте на земле». Потребовались годы, чтобы я понял истинный смысл этих слов.
После того как в декабре 1941 года Эли арестовали, Симон сделал все возможное и невозможное, чтобы установить с ним контакт и попытаться освободить его. Но лагерь Компьен-Рояльльё, хоть и находившийся недалеко от Парижа, был, казалось, отрезан от остального мира. В начале января 1942 года администрация лагеря разрешила семьям посылать своим родственникам письма и три посылки весом пять килограммов каждая. Но они не доходили до узников. Тем не менее через месяц Симону удалось переправить Эли посылку, из которой предварительно вынули все продукты и лекарства.
Взяв семейную книжку и Военный крест, которым его брат был награжден в 1918 году, Симон попытал счастья у чиновников префектуры. Но те сухо объяснили ему, что освободить интернированного можно лишь с письменного разрешения немецких военных властей. Настойчивые визиты и письма Симона вызывали у чиновников раздражение, и в конце концов они настоятельно посоветовали ему прекратить свои демарши, которые все равно ни к чему не приведут. Обращения Симона в Генеральный союз французских евреев также остались без ответа.
Однажды Симон узнал, что должны быть опубликованы списки инвалидов, больных и некоторых французских евреев, подлежавших освобождению. Он расценил это как смягчение политики интернирования, проводимой государством. Однако он не знал, что в Компьене и Дранси люди умирали, как мухи, и что эти освобождения были единственным средством, чтобы на время сдержать болезни и снизить ужасающий уровень смертности. Кратковременное отсутствие в Париже непримиримого Даннекера, представителя Эйхмана во французской столице, позволило врачам префектуры получить от немецкой военной комиссии разрешение на освобождение нескольких сотен интернированных. У Симона появилась надежда, но имени его брата в списках не оказалось. Знакомые, близкие к коммунистическим кругам, сообщили ему, что из французских лагерей несколько эшелонов ушли «в неизвестном направлении». Не получая никаких известий от брата, Симон смирился и решил ждать.
Пятого июля из газет Симон узнал, что французская полиция передала немцам досье на тридцать тысяч евреев. Десятого июля знакомый из Комитета Амело сообщил Симону, что в Париже готовится новая облава и массовая депортация евреев. На рассвете шестнадцатого июля в четыре часа утра на улицах столицы началась охота на людей. Невозможно с полной уверенностью сказать, сколько евреев было арестовано и по каким критериям. Утверждали, что жертвами стали в основном женщины и дети. Действительно, многие мужчины, опасавшиеся, что их отправят на немецкие заводы, нуждавшиеся в рабочей силе, в ту ночь не спали дома.
Эти широкомасштабные аресты потрясли Симона до глубины души и окончательно убедили его покинуть Париж в начале августа. В отличие от многих своих друзей, вдохновленных стойким сопротивлением русских, Симон не верил ни в скорое окончание войны, ни в разгром Германии. Напротив, он замечал лишь ужесточение антисемитских мер.
Облава, проведенная в середине июля, изменила его первоначальные планы. Более или менее подготовленные поездки внезапно превратились в стихийное бегство. Симон, сумевший взять с собой деньги, без особых трудностей прошел через контрольно-пропускной пост на демаркационной линии около городка Монброн, в департаменте Шаранта. Плата за переход резко возросла. Тысячи беженцев оказались блокированными в приграничных деревнях. Цены на жилье вдоль демаркационной линии взлетели до небес. Семьи оказались разъединенными. Для тех, кому, как и Симону, посчастливилось перейти через демаркационную линию, испытания только начались. Большинство французских евреев, которых полиция пока не преследовала в южной зоне, предпочли встать на учет в жандармерии. Но Симон, полностью утративший веру в справедливость, решил уйти в своеобразное подполье.
В южной зоне Симон прожил около года. В начале лета 1943 года, несмотря на неприязненное отношение кантональных властей и частые препоны на франко-швейцарской границе, Симон добрался до Швейцарии. Там он жил на свои сбережения, а потом устроился на малооплачиваемую должность бухгалтера и дождался окончания войны.
В конце 1944 года Симон вернулся во французскую столицу. Весной 1945-го от одного из девятнадцати выживших евреев из первого эшелона, отправленного из Компьена в Освенцим в марте 1942 года, он узнал, что его брат Эли умер от истощения практически сразу же после прибытия в Польшу. В течение многих месяцев Симон разыскивал Рашель, но не мог обнаружить никаких следов. В глубине души он понимал, что его племянница не могла выжить во время войны. Иначе почему после освобождения Франции от фашистов она не попыталась с ним связаться? Симон уже потерял надежду когда-нибудь выяснить, что с ней стало. Не знать… Это самая мучительная из пыток.
Со своей стороны сразу после освобождения Франции от фашистов Анри Коше пытался отыскать членов семьи Рашель. Благодаря своим старым знакомым по движению Сопротивления, которые навели справки в Генеральном союзе французских евреев, он узнал о дальнем родственнике Эли Вейла, скорняке из Сент-Антуанского предместья. Через него он вышел на Симона.
Ветер, налетевший с востока, разогнал облака. Сквозь просветы на землю полились солнечные лучи. Симон Вейл преклонил колено и ласково погладил темный гранит. Потом он медленно поднялся и тяжело вздохнул.
— Давайте пройдемся, если вы не против…
Мужчины молча пошли по тропинке, вдоль которой росли тисовые деревья. Вдруг Симон остановился перед монументальным, вычурным надгробием.
— Некоторые люди тщеславны и после смерти, — заметил он.
Симон не мог не думать о том, что у его брата никогда не будет достойного надгробия. Повернувшись к своему спутнику, он сказал:
— Я хочу поблагодарить вас, мсье Коше.
— Поблагодарить? Меня? За что?
— За вашу честность. За то, что вы искали меня, чтобы сказать мне правду. Это было для вас непростым решением. Если бы не ваше письмо, я, возможно, так и не нашел бы следов Рашель. И никогда не узнал, что у нее есть ребенок.
Теодор… Симон впервые увидел его в то же утро. Тщедушного и ласкового, как маленький зверек, пятилетнего ребенка. Он был немного похож на мать. Возможно, какое-то сходство угадывалось в нижней части лица: такой же четко очерченный рот, вздернутый подбородок… Симон смотрел, как мальчик играет в саду с маленькой деревянной лошадкой, потом минут десять подержал его на коленях. Мальчик улыбался, но в то же время удивленно смотрел на него, словно спрашивал себя, кто этот незнакомец.
— Вы не боитесь, что потом будете жалеть о вашем решении относительно Теодора? Моя жена и я согласимся с вашим выбором, каким бы он ни был.
Симон остановился на аллее, покрытой гравием, и улыбнулся Анри.
— Мне шестьдесят два года, мсье Коше. У меня никогда не было детей. Война закончилась, но ничто уже не будет так, как было раньше. Понимаете, у меня такое ощущение, будто часть меня умерла. Я не чувствую себя способным воспитывать пятилетнего мальчика. Этот ребенок обрел семью. Я уверен, что с вами ему будет хорошо. Я знаю, вы будете любить его как родного. Я также знаю, что вы, разыскивая меня, понимали, что можете его потерять. Я не имею права отнимать его у вас.
— Спасибо, — только и сумел прошептать Анри Коше.
Облака разбегались по небу.
— Эли и я, мы были такими… разными. Мы все время ссорились, по всяким пустякам. Думаю, невозможно представить себе двух столь непохожих друг на друга братьев. Но знаете, мне его не хватает. А Рашель тем более.
— Да, Рашель была очень обаятельной девушкой.
— Сейчас я думаю, что мой брат был прав.
— В чем?
— В том, что касается черствости человеческой души.
Аллея вела в тупик. Мужчины повернули назад. Симон остановился на несколько мгновений перед могилой племянницы.
— Я очень надеюсь, что вам удастся вернуть ей имя, — тихо произнес он.
Они дошли вдоль могил до входа на кладбище.
— Пока не забыл, хочу попросить вас о последнем одолжении.
Симон вытащил из внутреннего кармана широкий бумажник из сафьяновой кожи. Оттуда он вынул небольшой прямоугольник с зубчатыми краями.
— Это фотография Рашель. Здесь ей шестнадцать лет. Рядом с ней — ее отец Эли.
Анри Коше внимательно вгляделся в лицо девушки. На фотографии она уже была красавицей, но еще не достигла того расцвета, который он видел в Сернанкуре. В памяти Анри тотчас всплыл день родов, ставший днем ее смерти. Эти видения вот уже несколько лет преследовали его почти каждую ночь.
— Сохраните эту фотографию. Поскольку вы решили рассказать Теодору правду в тот день, когда он будет способен ее понять, я хотел бы, чтобы вы тогда показали ему эту фотографию. Я хочу, чтобы он знал, как выглядели его мать и дед. Я так боюсь, что о нашей малютке Рашель забудут. Я действительно боюсь, что забудут обо всех нас.
Глава 37
Некоторые жизни сродни тихим заводям, бесстрастным, спокойным, бесконфликтным. Другие полны роковых надломов, самым наглядным проявлением которых служит смерть, если она наступает внезапно, когда ее совсем не ждешь. У отдельных существ эти надломы, отнюдь неявные и нечеткие, приводят к возникновению мириад вторичных трещин, нервюр, которые в конце концов все заражают и подвергают опасности прочность целого. Совершенно очевидно, что Анна принадлежала к последней категории.
Словом, положение вещей было бы более простым, если бы в то время моя сестра проявила себя с худшей стороны, если бы ее сильный припадок заставил меня быть настороже. Но все сложилось иначе. Это было похоже на землетрясение, которое происходит неожиданно, без малейших предзнаменований. Анна казалась спокойной. В тот единственной раз, когда Элоиза встретилась с моей сестрой, она нашла ее безмятежной. Если проводить сравнение с паргелием, когда на небе появляется ложное солнце, настоящая Анна ускользала от меня, постоянно разыгрывая передо мной комедию. Во всяком случае, у меня складывалось именно такое впечатление.
Я весь в мыле примчался в больницу. Офелия пребывала в сильном волнении. Это была необычайно жеманная девушка, которая, как мне казалось всякий раз, когда я сталкивался с ней, только что вышла из салона красоты — полная противоположность моей сестры, всегда выглядевшей — несмотря на свойственную ей красоту, — как мальчишка-сорванец. Но на этот раз тени и тушь потекли, образовав яркие пятна. Лицо Офелии напоминало портрет, написанный каким-нибудь фовистом. Она бросилась ко мне, припав головой к моей груди. Ее тело содрогалось от рыданий.
— Офелия, как она?
— Она все еще в хирургическом отделении, — выдохнула девушка, приподнимая голову.
— Она выкарабкается?
— Сейчас врачи не могут сказать ничего определенного. Они срочно ее прооперировали.
— Черт возьми… — прошептал я, буквально падая на стул, стоявший в коридоре. — Расскажи мне подробно, что случилось…
Офелия неумело вытерла глаза рукавом.
— Сегодня утром я не хотела оставлять ее одну. Я позвонила тебе, а потом пошла в ее комнату. Анна лежала на кровати, но не спала. Мы немного поговорили…
— Ты знаешь, где она была ночью?
— Нет, она не захотела мне сказать, но выглядела такой умиротворенной…
— Умиротворенной?
— Да, как бы странно это ни звучало… Именно это слово пришло мне на ум. Анна вела себя совсем не так, как вчера. Она даже улыбалась, причем улыбка не сходила с ее губ. Анна не захотела, чтобы я оставалась с ней. Она сказала: «Не волнуйся. Я хорошо себя чувствую. Не воспринимай все трагически». Конечно, мне не следовало этого делать, но я ушла. Мне надо было идти на занятия. Уходя, я думала, что она заснула.
Да как я сам мог сегодня утром отправиться в лицей, не навестив сестру, учитывая ее состояние? Офелия громко высморкалась. Нос ее стал пунцовым.
— По дороге я поняла, что забыла дома доклад, над которым работала. Не знаю, может, я сделала это бессознательно. Я вернулась и тут же прошла в ее комнату. Но Анны там не было. Тогда я открыла дверь ванной и увидела ее… лежащей в ванне. Можно было подумать, что ванна наполнилась кровью…
Офелия замолчала. Ее душили рыдания.
— Голова Анны склонилась на грудь, а слева на шее зияла рана.
— Ты хочешь сказать, что она пыталась…
— Она пыталась перерезать себе горло.
Я был ошеломлен. Какую вину хотела искупить двадцатисемилетняя женщина, изуродовав себя таким жестоким способом? Почему Анна пошла на столь отчаянный шаг? И как могло случиться, что эта молодая женщина приходилась мне сестрой?
— Анна была без сознания. Я не знала, что делать… Я позвонила в «скорую помощь». Когда они вытащили ее из ванны, я увидела на ее запястьях глубокие резаные раны…
Я представил себе безжизненное тело Анны, лежавшей обнаженной в ванне, в воде, окрашенной ее кровью.
— Когда мы приехали в больницу, Анну сразу же увезли в операционную. Судя по словам врачей, они попытаются сшить вены у нее на шее.
Офелия порылась в сумочке. Это была модель из кожи, слишком дорогая для такой малоимущей студентки, как она.
— Послушай… Она оставила для тебя письмо на полочке над раковиной. Я взяла его, когда санитары уносили Анну.
Офелия протянула мне конверт, в котором, судя по объему, лежало много листков бумаги. На конверте Анна написала: «Для Орельена». Когда я взял в руки конверт, он показался мне настоящей обузой, мертвым грузом. Я не решался сказать себе, что в моем распоряжении имеется то, что могло оказаться последними словами моей сестры, ее загробным посланием.
Часы ожидания казались бесконечными. Хирург, согласившийся побеседовать со мной, сообщил, что Анна потеряла много крови, до того как ее привезли в больницу. Однако им удалось стабилизировать ее состояние, и прогнозы на будущее были скорее оптимистическими. Рана у основания шеи была довольно большой, левая яремная вена была повреждена, но сонная артерия оставалась целой. Правда, трахея была травмирована, но, к счастью, не порезана. Анна «чудом» осталась в живых. Именно такое выражение врачи использовали десять лет назад, когда Анна предприняла первую попытку самоубийства.
Разумеется, я попросил, чтобы меня впустили к ней, однако мне объяснили, что в настоящий момент все посещения запрещены. Из-за странного поступка Анны в первую очередь с ней должен был поговорить психолог, едва она придет в себя. Мне посоветовали поехать домой и немного отдохнуть. Отдохнуть… Это было последнее, в чем я нуждался в настоящий момент.
Из больницы я позвонил Элоизе. Она хотела приехать ко мне, но я отговорил ее. Я еще два часа томился в коридоре, пропитавшемся неприятным запахом дезинфекционных средств. Наконец появилась медсестра. Она смогла уговорить меня вернуться домой, после того как пообещала, что я смогу увидеть Анну завтра утром.
Попытка самоубийства моей сестры заставила меня почти забыть о задержании Алисы. Я просто не мог сейчас покинуть Париж. Все новости сообщал мне адвокат по телефону. В четверг утром Алису привезли в прокуратуру. После разговора с судебным следователем ей предъявили обвинения в умышленном убийстве и перевели в тюрьму, расположенную у ворот Святого Иакова в Шалон-ан-Шампань. Показания Алисы были невразумительными, однако она продолжала утверждать, будто убила Николь Браше во время спора и решила обставить убийство как ограбление. Молчание только вредило ей, и это очень беспокоило нашего адвоката.
— Алиса замкнулась в себе. Я тщетно приводил ей аргументы, которые вы вчера мне сообщили, и пытался ее образумить. Она стоит на своем. Алиса заявила мне, что заговорит только в день суда. Это губительная позиция. Как правило, расследование убийства длится в среднем два года… Надо, чтобы она дала правдивые показания. Будет лучше, если вы встретитесь с ней как можно быстрее.
— Это очень трудно. Моя сестра попала в больницу.
— Анна? Почему?
— Она пыталась покончить жизнь самоубийством…
— Боже! Как она?
— Ее привезли в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи думают, что вытащат ее.
— Вы полагаете, что ее поступок связан с арестом Алисы?
— Вряд ли это было единственной причиной, однако, несомненно, явилось последней каплей, переполнившей чашу.
— Согласен, Орельен. Занимайтесь сестрой. Я сделаю все, чтобы помочь Алисе. Как только появится возможность, я подам ходатайство о ее освобождении, хотя и маловероятно, что его удовлетворят. Однако не надо отчаиваться. Последнее слово будет за нами.
На следующий день я рано утром приехал в больницу. Анна очень ослабела и лежала под капельницей. Мне пришлось дождаться психолога, который накануне беседовал с ней.
— Ваша сестра очень плохо себя чувствует, — сказал он безапелляционным тоном, в котором я уловил осуждающие нотки.
Интересно, этот тип десять лет учился только для того, чтобы сказать мне, что после попытки самоубийства Анна плохо себя чувствует?
— Знаю, — огорченно откликнулся я.
Связанный профессиональной тайной, психолог ограничился тем, что сообщил мне: ему не удалось наладить контакт с Анной и она с ним почти не разговаривала.
— Мы не нашли истории болезни вашей сестры. Она уже покушалась на свою жизнь?
— Да, около десяти лет назад… Передозировка лекарств…
— Произошло ли какое-нибудь особенное событие, которое могло бы объяснить ее поступок?
— Более десяти лет назад наш отец погиб в автомобильной аварии…
Психолог нахмурился, у него на лбу появились глубокие морщины.
— Я имел в виду события, происшедшие недавно. Сомневаюсь, что смерть вашего отца стала непосредственной причиной последней попытки самоубийства вашей сестры.
— Это трудно объяснить. Анна знала о прошлом нашей семьи, о вещах, которые долго замалчивали.
— Она узнала о них недавно?
— Нет. Но произошли события, оживившие в ее памяти прошлое: смерть деда и обвинения, выдвинутые против женщины, к которой мы всегда относились как к нашей бабушке.
— Какие обвинения?
— Я не хочу об этом говорить.
— Послушайте, мсье Коше, если вы хотите, чтобы я помог вашей сестре, вы должны рассказать мне все о ней и о вашей семье. Попытка самоубийства может привести к очень серьезным последствиям, особенно когда человек пытается перерезать себе горло тем способом, к которому прибегла ваша сестра.
— Хорошо… Я вас понимаю…
Мне было неприятно еще раз раскрывать подноготную нашей семьи. В общих чертах я поведал психологу все, что могло помочь лучше понять поступок Анны.
Мне разрешили побыть с Анной только четверть часа, учитывая ее психическую неустойчивость и довольно тяжелое физическое состояние.
— Привет, сестренка.
Анна повернула ко мне невыразительную восковую маску. Ее шею скрывала толстая повязка, а на лице еще были заметны следы недавнего нападения. Я никогда не видел Анну в таком состоянии, но постарался не выдавать своей растерянности. Сейчас было важно только то, что она осталась в живых. И все же я не мог не думать, что если бы не Офелия, я сейчас находился бы в морге на опознании трупа.
Я не знал, о чем говорить. Все слова, приходившие мне в голову, казались либо смешными, либо неуместными.
— Скоро к тебе придет Офелия, но только на пять минут. Врачи не хотят, чтобы в палате находилось сразу несколько посетителей.
— Офелия, мой ангел-хранитель…
Голос Анны был хриплым, но говорила она нормально. Однако эти слова она произнесла с некоторой иронией, словно упрекала подругу в том, что та спасла ей жизнь.
— Анна, ты же обещала не начинать все сначала, — сказал я со слезами на глазах.
Разумеется, после попытки самоубийства таких упреков следовало избегать, однако я не смог удержаться, чтобы не высказать все, что накопилось у меня на душе.
— Именно поэтому я не люблю давать обещания. Чтобы не сдерживать их…
Я ненавидел, когда моя сестра изрекала подобные сентенции.
— А Алиса, как она?
Я вовсе не собирался вдаваться в подробности о ее задержании и заключении в тюрьму.
— Не волнуйся, все уладится. Я уверен, что это недоразумение.
— У тебя всегда все улаживается, — вздохнула Анна, грустно усмехнувшись.
— Почему ты так говоришь?
— Потому что это правда… «Все уладится», «Тебе будет лучше, сестренка…» Я всегда слышала от тебя эти фразы. Рефрен, который в конце концов утомляет, чертовски утомляет.
В этот момент я не испытывал особой гордости за себя. Анна была права. Я убаюкивал себя успокаивающими словами. Я всегда демонстрировал безмятежный оптимизм, который никого не вводил в заблуждение. Почему я отказывался вести неприятные разговоры с людьми, которые так много значили в моей жизни? Элоиза смотрела в корень: настало время вскрыть нарыв.
— Я все знаю о папе, — признался я. — Я знаю, что он не был сыном Абуэло.
Та же маска. Анна нисколько не удивилась. Либо ей было известно, что я в курсе, либо мое признание было меньшей из всех ее забот. Вопреки ожиданиям она начала медленно аплодировать забинтованными руками.
— Браво. Ты опытный сыщик. Ты действительно делаешь успехи: тебе понадобилось десять лет, чтобы это понять.
— Алиса мне все рассказала. Мне так жаль, Анна.
— Этого недостаточно! — взорвалась Анна. — Извинения — оружие слабых. Ты никогда ничего не замечал, Орельен. Подростком ты уже жил в своем коконе. Можно сказать, что ты построил для себя совершенный мир, где ничто не могло причинить тебе боль. Став взрослым, ты не изменился. От тебя все ускользало: смерть папы, твой развалившийся брак… Ты никогда не задавал себе вопросов о людях, окружавших тебя.
Диагноз был безоговорочным.
— Знаю. Я все это понимаю. За последние недели у меня на многое открылись глаза.
— В любом случае сейчас это не имеет значения.
Я не стал просить Анну, чтобы она объяснила мне смысл своих слов.
— Послушай, я принес вот это, — сказал я, вынимая из кармана конверт.
— Полагаю, ты не читал моего послания.
— Нет. Я предпочел бы, чтобы ты сама рассказала мне о том, что написала в письме. Анна, я хочу, чтобы мы с тобой наконец поговорили. Надо собрать осколки, надо попытаться стать счастливыми.
— Жизнь — это не ваза, разбитая на две части, которые можно склеить. Ты хотел услышать эту банальность?
— Нет ничего непоправимого.
— Я советую тебе забрать письмо и прочитать его. А теперь оставь меня. Я устала. Скажи Офелии, чтобы она пришла в другой раз. Сейчас я не хочу ее видеть.
Я положил конверт в карман и вышел из палаты, внезапно почувствовав странное одиночество.
Глава 38
Фотографии несут в себе столько же лжи, сколько и правды.
На этой фотографии мне, должно быть, восемнадцать лет. Анне — тринадцать. Снимок сделан в Лиссабоне, на улочке Альфама, на фоне домов с белыми и розовыми фасадами, возможно, случайным прохожим, поскольку нас четверо. Португалия… Лиссабон… Азенхас до Мар, небольшая живописная деревушка, где мы снимали традиционный дом рыбаков. Последнее семейное путешествие. На фотографии у Анны еще детское выражение лица. Она смотрит вдаль, на ее губах застыла беззаботная улыбка. Это лицо прочно зафиксировано на бумаге, но я не могу точно воспроизвести его по памяти. Отчасти можно сказать, что такого лица для меня никогда не существовало.
Эта фотография была сделана за год до развода наших родителей. Тем не менее на ней мы производим впечатление образцовой семьи. У меня самого есть горький опыт, и я не могу поверить, что супружеские отношения разрушаются в один день. Какая связь, иная, нежели внешняя, могла объединять моих родителей в то время? Было ли это путешествие попыткой укрепить их союз? Я плохо помню о нашем пребывании в Португалии, но в то время — хотя я уже мог почувствовать напряжение, возникшее между ними, и убедиться, что они все чаще спорили по самым незначительным поводам, — ничто не казалось мне слишком серьезным. Я даже представить себе не мог, что положение дел так внезапно ухудшится.
Из шкафа я вытащил семейные фотографии, лежавшие в старых крафтовых пакетах, и сел за письменный стол. Я никогда не любил альбомов. Тем более у меня никогда не возникало настойчивого желания упорядочить свои воспоминания. В тот вечер я смотрел на фрагменты жизни, разложенные на столе, но не мог сосредоточиться на историях, которые они могли бы мне поведать.
После первой ночи, проведенной с Элоизой, я лишь время от времени приходил в свою квартиру. Тем не менее после столь тягостного визита в больницу я почувствовал острую необходимость побыть в одиночестве.
Несколько часов я бесцельно бродил по квартире. Даже немного выпил. Потом поставил на проигрыватель старую пластинку Вана Моррисона «Недели в астрале», которую любил слушать, будучи подростком. Однако я не испытывал никакой ностальгии. Меня ждало письмо Анны, лежавшее на столе.
«Мой дорогой Орельен!
Хотя извинения порой не оправдывают поступков, все же прости меня за то, что я причинила тебе столько зла. Поверь, я вовсе не собиралась этого делать. Но порой в жизни случается так, что ты должен вести себя, как эгоист. Не кори себя. Ты не виноват в том, что произошло со мной. Впрочем, я не думаю, что в несчастьях нашей семьи вообще кто-либо виноват.
Когда ты будешь читать это письмо, ты, несомненно, подумаешь, что я сошла с ума. Или, возможно, печаль помешает таким мыслям прийти тебе в голову, и ты почувствуешь ко мне снисхождение. Полагаю, я должна тебе все объяснить, хотя эти слова, которые я не осмелилась произнести в твоем присутствии, заставят тебя страдать сильнее, чем ты думаешь. Прошу тебя перенестись в прошлое вместе со мной.
Тринадцатое октября 1987 года… Этот четверг я никогда не забуду. Если ты помнишь, в то время я жила в Арвильере и ходила в лицей Пьера Байена в Шалоне. Наступил обычный вечер. Я должна была написать к завтрашнему дню сочинение. Ты ведь знаешь, моя комната находится в глубине дома, поэтому я не слышала, как подъехала машина. Однако меня удивили громкие голоса, доносившиеся из гостиной. Приехал папа. Я тут же подумала: «Что он делает здесь в столь поздний час?» Он ссорился с Абуэло. Это была ужасная ссора, каких прежде никогда не случалось. Разумеется, я не стала показываться им на глаза. Стоя наверху лестницы, я ловила обрывки их разговора. Сначала я не могла понять, о чем они спорят, и спустилась на несколько ступенек. Они говорили очень громко. Постепенно слова стали обретать для меня смысл. Абуэло вспоминал о войне и родильном доме, где он работал. Он говорил сбивчиво, но все же я поняла, что наш отец не был сыном Абуэло и что он родился в разгар войны от молодой женщины, умершей при родах. Обстоятельства его рождения и то, как наши дед и бабушка усыновили ребенка, остались неясными для меня. Я тихо ушла в свою комнату, до того как папа покинул наш дом. Услышанное ошарашило меня, и я не спала всю ночь.
На следующий день мы узнали, что папа погиб, возвращаясь в Париж.
Возможно, ты сочтешь это странным, но я никому ничего не сказала. Я замкнулась в молчании. Смерть папы послужила для меня своего рода прикрытием. Мне даже не приходилось притворяться. Ты, конечно, помнишь, что на похоронах, когда гроб опускали в землю, Абуэло почувствовал себя плохо. Все подумали, что это вызвано потерей единственного сына. Но я знала, что ему было гораздо труднее смириться с обстоятельствами этой смерти, чем с идеей самой смерти.
Целый год после смерти папы я жила, как в тумане. Я без всякого удовольствия ходила в лицей, но все же старалась получать хорошие отметки, чтобы маме не взбрело в голову показать меня психиатру. Меня постоянно мучили вопросы. Я не слышала весь разговор, состоявшийся в тот вечер, и пыталась понять, что могло происходить во время войны в родильном доме. Я не могла больше жить в Арвильере, в обстановке лжи. Думаю, в конце концов Алиса о чем-то стала догадываться. Я понимала это по взглядам, которые она на меня бросала. По этим самым взглядам, которые кажутся безобидными, чтобы не вызывать подозрения, но которые пытаются проникнуть в душу. Именно в этот момент я захотела приехать к тебе в Париж.
Через год после смерти папы, когда мы приезжали в Арвильер на выходные и на каникулы, я принялась методично рыться в вещах Абуэло, чтобы найти доказательства того, чем он занимался во время войны. Я пользовалась моментами, когда оставалась в доме одна. Прошло три месяца, прежде чем я наткнулась на письмо, отпечатанное на машинке. Оно было тщательно спрятано среди прочих документов. Пожелтевшее, но в хорошем состоянии, письмо было датировано июнем 1941 года. Под ним стояла подпись Макса Зольмана, одного из начальников нацистских родильных домов. Нет нужды говорить тебе, что в то время я ничего не слышала ни об этом человеке, ни о Центральном бюро лебенсборнов — да я даже этого слова не знала. Письмо было адресовано доктору Дитриху, главному врачу штаба и директору родильного дома «Дюстервальд». Взяв словарь, я попыталась прочесть его. В письме говорилось о гигиене, о снабжении продовольствием и о витаминных растворах.
Я стала наводить справки о лебенсборнах и прочитала почти все, что можно было отыскать в библиотеках. Мне понадобилось время, чтобы найти информацию о лебенсборне, который они называли «Дюстервальд». В архиве департамента я наткнулась на несколько документов, в которых шла речь о нацистском родильном доме в Сернанкуре. Тогда я вспомнила, что в тот вечер папа и Абуэло вскользь упоминали о евреях. Мне не составило труда мысленно восстановить то, что происходило в 1940-х годах. Наш дед, наш дорогой Абуэло, которого мы всегда считали участником Сопротивления, работал в родильном доме Марны, где проводился расовый отбор, в то время как во всей Европе уничтожали евреев. Две грани одной политики. С одной стороны, первый масштабный опыт над человечеством с применением законов евгеники. С другой, геноцид «низших» рас.
Кем была мать нашего отца? Француженкой, соблазненной немецким солдатом, которая нашла прибежище в этом родильном доме, спасаясь от пересудов? Немкой, очарованной нацистским режимом, которая захотела подарить ребенка фюреру? Одной из этих женщин, которых называли «маленькими белокурыми сестрами» и которые все были кандидатками в будущие матери и работали в родильных домах медсестрами? Не знаю. Как ребенок этой женщины мог стать сыном наших деда и бабушки? Мне об этом тоже ничего неизвестно. Детей, родившихся в лебенсборнах, могли усыновлять семьи, тщательно отобранные нацистским режимом, либо семьи эсэсовцев. Значит, Абуэло получил от немцев разрешение усыновить ребенка? Я не нашла ни одного доказательства, подтверждающего эту гипотезу. Так или иначе, наш дед активно сотрудничал с немцами, и наша настоящая бабушка принадлежала, по словам нацистов, к «арийской расе». Но для меня по-прежнему оставалось загадкой, что все это значит.
Зато я поняла, почему наши дед и бабушка ничего не хотели говорить папе. Если бы они признались, что он был усыновлен, им пришлось бы выдумывать новую ложь, чтобы обойти молчанием историю о лебенсборне.
Через несколько недель я проглотила столько таблеток, что меня срочно отвезли в больницу. Не знаю, действительно ли я хотела покончить с собой. Я даже не знаю, заключалась ли истинная причина моего поступка в том, что я открыла для себя. Этот переход от намерения к действию с трудом поддается анализу с рациональной точки зрения.
Как ни странно, но вместо того чтобы возненавидеть Абуэло за его ложь и темное прошлое, я решила защитить его, точнее, защитить нашу семью от ее собственных тайн. Смерть папы была мучительной драмой. Я не выдержала бы, если бы об этом постыдном периоде истории нашей семьи стало известно.
Думаю, я и дальше смогла бы жить так, как жила эти десять лет, если бы в этом году не произошло событие, круто изменившее мою жизнь. В начале марта, когда Алиса куда-то отлучилась, я увидела, как перед домом в Арвильере остановилось такси. Я была заинтригована, ведь я знала, что Алиса и Абуэло больше никого не принимают. Из такси вышла пожилая женщина. Я никогда прежде ее не видела. Абуэло и эта женщина, расположившись за столом в саду, о чем-то беседовали около часа. Я наблюдала за ними из окна твоей комнаты. Казалось, между ними происходит нечто особенное, похожее на заговор. Расставаясь, они крепко обнялись. Потом за женщиной приехало такси. После ее отъезда я напустила на себя равнодушный вид и спросила Абуэло, кто эта незнакомка. Он ответил: «Это Николь, моя старая приятельница, медсестра, с которой я долго работал». Разумеется, я не сразу поняла, что ее визит имеет непосредственное отношение к войне и папе.
Но через три дня, вынимая почту из почтового ящика, я заметила письмо, адресованное Абуэло. Аккуратный почерк на конверте словно принадлежал к другой эпохе. На обратной стороне было выведено имя: Николь Браше. Интуиция подсказала мне, что я должна вскрыть конверт.
Когда я читала письмо, меня переполняли противоречивые чувства. Каждое слово вызывало всплеск эмоций. Эта женщина работала медсестрой в лебенсборне Сернанкура. Письмо, сначала дружеское, с каждой строчкой становилось все более угрожающим. Николь Браше собиралась рассказать аспирантке о прошлом нашего деда. Разумеется, в тот момент я не знала, что речь идет об Элоизе. Я не могу точно процитировать тебе письмо, но эта женщина говорила о «лжи», за которую рано или поздно придется расплачиваться. Она говорила, что наш дед не может вечно оберегать свою семью, что она решила поведать об их сотрудничестве с немцами во время войны.
Я вновь заклеила конверт и положила его вместе с другой корреспонденцией.
Я не нахожу слов, чтобы описать тебе свои чувства. Абуэло исполнилось девяносто лет, он был больным, слабым. Я была уверена, что предание этой истории огласке станет для него смертельным ударом. После всего, что мы пережили, я не могла допустить, чтобы нам причинили новое зло и чтобы ты узнал то, что знала только я.
Я запомнила адрес Николь Браше. На следующий день я решила съездить к этой женщине, чтобы разубедить ее переходить от слов к действиям. Мне не удалось завести свою машину. Ты же знаешь, какая она неуправляемая. Тогда я взяла белую «ауди», которая почти никогда не покидала гаража. Николь Браше жила в Суланже, в доме, стоявшем на отшибе. В тот день она была у себя. Она оказалась довольно бодрой женщиной, несмотря на преклонный возраст. Я попыталась представить ее в молодости, когда она познакомилась с Абуэло. Я не стала скрывать, кто я. Она удивилась. Я заметила, что к ее удивлению примешивалось нечто похожее на беспокойство.
Я призналась, что прочитала ее письмо. Я также сказала, что знаю, что происходило во время войны в Сернанкуре. Казалось, она испытала облегчение.
— Это хорошо, что вы все знаете… Но зачем вы приехали ко мне?
— Я хочу, чтобы вы оставили прошлое в покое.
Я попыталась объяснить ей, что мы и так много страдали. Сказала, что она собирается открыть правду, о которой ты даже не догадываешься. Но мои слова только вызвали у нее раздражение. «Нельзя скрывать правду вечно», — ответила мне Николь… Это были практически те же слова, что она написала в своем письме. «Если вам известна правда, то ваш брат тоже имеет право ее знать», — добавила она.
Я спросила, кто эта аспирантка, с которой она собирается откровенничать. Николь ответила, что меня это не касается. Затем, чрезвычайно раздраженная, направилась к телефону и взяла старую записную книжку.
— Держите. Если вы действительно хотите знать, вот ее имя и номер телефона. Но это никак не повлияет на мое решение.
Я не уступала, настаивала, пытаясь образумить ее. Мы заспорили. Вскоре мы перешли на повышенные тона. Сейчас я не помню, почему это произошло. В начале письма я написала, что ты сочтешь меня сумасшедшей и будешь прав. Я опьянела от ярости. Но ярость оправдывает далеко не все. Я схватила первый предмет, попавшийся мне под руку: каминные щипцы. Я угрожала Николь, хотела, чтобы она испугалась и отказалась от своих намерений. Я сказала, что убью ее, если она попытается причинить нам зло. Знаешь, что она сделала? Она рассмеялась, словно желая показать мне, что не боится меня. А затем сказала, что давно выставила бы меня за дверь, не будь я внучкой Анри. Ей не стоило поворачиваться ко мне спиной. Нет, не стоило. Я ударила ее. Только один раз. Она упала на ковер в гостиной. Крови почти не было.
Что происходило потом, я плохо помню… Возможно, я в прострации постояла около ее тела минут десять. Я ничего не делала, не звала на помощь. Николь Браше лежала на полу. Не знаю, наступила ли смерть мгновенно. Когда я вышла из оцепенения, первым моим желанием было убежать, но я не могла пошевелиться. И вдруг я вспомнила, что говорила Алиса как-то утром, читая газету, где было написано о кражах с применением насилия, совершенных в наших краях. Алиса то и дело повторяла: «Теперь даже дома не чувствуешь себя в безопасности».
Я механически отволокла тело старой женщины в кладовку, расположенную в глубине дома. Потом связала ее толстой клейкой лентой, которую нашла в кухне, и перевернула все вверх дном, чтобы создать видимость ограбления. Прежде чем уйти, я стерла отпечатки пальцев с предметов, до которых могла дотронуться. Я также взяла записную книжку, в которой был номер телефона Элоизы, испугавшись, что они доберутся до нее.
Мне хотелось бы сказать тебе, что меня мучили угрызения совести. Но мне кажется, что я больше не способна испытывать такие чувства. Во мне давно уже что-то сломалось. А это значит, что я больше никогда не буду прежней. О да, разумеется, если это не починить… Но мучиться угрызениями совести не означает хотеть вернуться в прошлое, чтобы поступить иначе. Для этого нужны жизненные силы, которых у меня больше нет.
Когда мы превращаемся в чудовище? Когда переходим от слов к делу? Или чудовище появляется в нас задолго до этого? Полагаю, я осознаю, что одержима злом. Но я не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы действительно понять, что я натворила. Я никогда не считала себя способной убить кого-либо. Но если бы ты знал, как легко все это произошло! Слишком легко.
На следующее утро соседка обнаружила тело Николь Браше. В субботу в газете появилась статья. Версия неудачного ограбления считалась приоритетной. Прошло несколько недель. Мне казалось невероятным, что никто не заподозрил меня.
Не знаю, как сильно огорчило нашего деда убийство Николь Браше. Усилило ли оно его чувство вины или, наоборот, вызвало облегчение? Он никогда не говорил со мной о ее смерти, но я заметила, что теперь Алиса ждет утренней почты с каким-то лихорадочным напряжением.
Так или иначе, через месяц Абуэло нас покинул. Даже если его смерть наступила по воле случая, я не могла не думать, что все эти события связаны друг с другом, что я невольно расплачивалась за свое преступление. Ужасно говорить, но смерть нашего деда явилась для меня освобождением, хотя и причинила мне горе. Возможно, я перевернула еще одну страницу своей жизни. Возможно, скобки, открывшиеся после гибели папы, наконец закрылись. Теперь наши тайны будут похоронены под пеплом… Останется убийство Николь Браше, которое я всегда буду носить в себе, но Алиса и ты окажетесь в безопасности…
Однажды вечером за ужином, на той неделе, когда мы наводили в доме порядок, я почувствовала, что твои мысли витают где-то далеко. Я видела, что ты чем-то огорчен, хотя и стараешься не подавать вида. Ты очень рано поднялся к себе в комнату. На следующее утро ты взял мою машину и уехал. Не знаю, возможно, за последние недели я стала параноиком, но я почувствовала, что происходит нечто необычное. Сразу ли я поняла, что ты, разбирая вещи Абуэло, сделал важное открытие? Когда ты вернулся, я, воспользовавшись моментом, когда ты разговаривал с Алисой, обыскала твою сумку. Вот видишь, до чего я опустилась! Я нашла книгу Марка Иллеля «Во имя расы» и страницы, распечатанные из Интернета, где говорилось о нацистских лебенсборнах, работавших в оккупированных странах.
И тогда у меня возникло ощущение, что мой кошмар никогда не закончится. Через два дня ты вернулся в Париж. Такая спешка и твои объяснения показались мне подозрительными. Я была уверена, что ты захочешь узнать как можно больше о жизни Абуэло во время войны и в конце концов встретишься с Элоизой. Но я не думала, что все это случится так быстро.
В тот же день я тоже уехала в Париж. О чем я думала, когда шла к тебе домой? Сама не знаю. Я, несомненно, хотела забрать документы, найденные тобой в письменном столе Абуэло. Когда я увидела фильм на старом проекторе, который ты привез из Арвильера, я мгновенно все поняла. Я смогла включить проектор благодаря тем элементарным навыкам, которым ты меня обучил. И хотя этот фильм не открыл мне ничего нового, он стал для меня еще одним жутким испытанием. Все то, что преследовало меня столько ночей после смерти папы, вдруг приобрело четкие очертания. Я не могла удержаться, чтобы не сказать себе: нашей бабушкой была одна из этих молодых женщин, стоявших на крыльце.
Я была подавлена. Я представляла, какой шок ты испытал, узнав о прошлом деда. Вероятно, он сразу же слетел с пьедестала! Мне не оставалось ничего иного, кроме как вынудить тебя отказаться от дальнейшего расследования. Я хотела, чтобы ты никогда не узнал еще одну правду: правду о рождении нашего папы. Но я не просто собиралась украсть пленку. Я хотела, чтобы ты испугался. Окно кухни было открыто. Твой кот спал, свернувшись в клубочек на стуле. Я взяла нож…
Я могла бы сказать тебе, что я буйно помешанная, но это было бы слишком простым объяснением. Разве сумасшедшие отдают себе отчет в своих поступках, даже когда этические нормы перестают для них существовать?
Я действительно считала, что ты прекратишь свои поиски. Так позволяла мне думать твоя поездка в Рим. До той самой субботы, когда ты приехал в Арвильер с Элоизой. Я не знаю, как тебе удалось связаться с ней, и никогда не узнаю, было ли ей известно о смерти Николь Браше, и если было, то догадывалась ли она об истинных причинах этой смерти. Должна тебе признаться, что ваша игра до глубины души возмутила меня, однако я приложила максимум усилий, чтобы казаться спокойной. У меня даже появились сомнения относительно истинной природы ваших отношений.
В тот момент я была почти уверена, что ты еще ничего не знаешь о папе. Но я не сомневалась, что, продолжив копаться в прошлом, ты поймешь, что происходило в этом родильном доме. В понедельник вечером я была в квартире одна. Офелия должна была вернуться поздно. Не знаю, как эта мысль пришла мне в голову, но мне казалось, что только опасность, нависшая над теми, кого ты любишь, может заставить тебя остановиться. Я инсценировала нападение. Я взяла статуэтку «Купальщицы» Родена, которую Офелия подарила мне на день рождения — ту самую, которую ты находил столь прелестной, — и ударила себя несколько раз по лицу. Несомненно, я наказывала себя за все, что сделала. Не волнуйся, физические страдания не идут ни в какое сравнение со стыдом, который я в тот вечер испытала. Я долго смотрела в зеркало на свое разбитое лицо. Я осознавала, что мои действия, вероятно, лишены всякого смысла, но не отступила от задуманного. Я опрокинула мебель, устроила невероятный шум, а потом позвала на помощь. Мои соседи по лестничной площадке нашли меня лежащей на полу, в самом углу. А дальше все пошло как по маслу. Меня увезли в больницу. Любезное обхождение медсестер и ваше сочувствие почти убедили меня в том, что я действительно стала жертвой нападения.
Ну вот, теперь ты все знаешь. Полагаю, этого письма, в котором я четко изложила все факты, будет достаточно, чтобы освободить Алису и снять с нее подозрения. Признавшись в убийстве Николь Браше, она хотела всего лишь защитить меня.
Не суди меня слишком строго. Ты же знаешь, что я не такая уж плохая. Впрочем, никто не может быть очень плохим. Поступая так, как я считала нужным, я хотела защитить нашу семью. Я никогда не верила в загробную жизнь, но если она существует, пусть Господь простит меня.
Я люблю тебя. Знаю, что ты никогда не сомневался в моей любви.
Анна».
Глава 39
У меня остались смутные воспоминания о судебном процессе по делу Анны. Порой ко мне невольно приходят мысли об этом периоде. Но каждый раз, когда я пытаюсь сосредоточиться на месяцах, последовавших за попыткой самоубийства моей сестры, мой рассудок словно включает защитный механизм.
Я не буду рассказывать о внезапных пробуждениях, о бессонных ночах, когда мои нервы напрягались до предела, о бесконечных часах, проведенных у нашего адвоката и в суде, когда я, душевно измотанный, потерявший всякие ориентиры, спрашивал себя, что я здесь делаю. Впрочем, очень быстро я осознавал, что моя сестра преступница, что для нее хорошо — да, хорошо, — что столько людей собралось в зале заседаний.
Анна избавила меня от необходимости делать выбор. В тот момент, когда я читал ее письмо, она в больничной палате давала показания полицейским, признавшись в убийстве Николь Браше.
До суда мою сестру осматривали два известных психиатра. Они констатировали наличие глубокой депрессии и склонность к паранойе и пришли к выводу, что в момент совершения преступления на ее рассудок оказывало сильное влияние психическое расстройство. Хотя они признали ее вменяемой, если говорить терминами уголовного права, ее психологическое состояние послужило смягчающим обстоятельством, что было учтено при вынесении приговора. К счастью — и это стало для меня небольшим утешением, — средства массовой информации почти не освещали процесса по делу Анны. Газеты писали, что взбалмошная девица перешла от слов к делу, и упоминали вскользь о «семейных тайнах», уходящих корнями в военный период. Глубоко спрятанное прошлое семьи Коше не было выставлено напоказ, а убийство бывшей медсестры лишь на мгновение появилось в рубрике «Разное».
В суде перед началом заседания я имел возможность побеседовать с двумя жандармами, которые расследовали смерть Николь Браше и арестовали Алису. Мужчина и молодая женщина были весьма любезны со мной и сочувствовали моей сестре. Они признались, что это дело было самым трудным за всю их карьеру. «Мы надеемся, что она не схлопочет слишком суровое наказание», — сказали они мне на прощание. Эти простые слова, в которых полностью отсутствовала жажда мести, тронули меня до глубины души.
Анну приговорили к восьми годам тюремного заключения с принудительным лечением у психиатра. По словам нашего адвоката, это был неожиданный и чрезмерно мягкий приговор для суда присяжных. Когда мы вышли из здания суда, адвокат объяснил мне, что при благоприятных условиях у Анны есть шанс выйти из тюрьмы через четыре с половиной года.
В письме моя сестра спрашивала себя, не сошла ли она с ума. Мне хотелось сказать, что я в это никогда не верил, но… Пусть можно представить себе, что в порыве ярости или безумия один человек способен невольно убить другого, но до какой степени садизма надо дойти, чтобы вспороть живот коту, как это сделала она, когда устраивала погром в моей квартире? Как можно объяснить такой поступок? Какую спящую жестокость, какие дремлющие нарушения психики пробудил этот садизм? К счастью, на суде никто не знал о гибели животного, иначе — в чем я нисколько не сомневаюсь — это серьезно отразилось бы на приговоре. Я никогда не смогу понять этот душевный изъян, эту темную сторону натуры Анны. Впрочем, у меня нет никакого желания это делать.
В любом случае я не психолог. И не хочу выносить нравственный приговор своей сестре. Для меня имеют значение только ее страдания. Думаю, Анна была глубоко несчастна, ведь несчастье может уничтожить вас как личность, постепенно, но так же верно, как и безумие. И тогда вы становитесь чужим самому себе. Именно это медленно накапливавшееся страдание толкнуло Анну на иррациональное поведение и вынудило ее совершить убийство. Все, что было инсценировано потом — кража и нападение на нее — побудило меня узнать больше обо всех нас. Не вмешайся Анна, возможно, мне никогда бы не открылась правда о моей семье.
Впоследствии, когда я вновь думал об этом деле или разговаривал с Алисой, я собирал воедино разрозненные фрагменты, которые позволили мне — за неимением полной картины — понять, что именно привело к трагедии.
Алиса довольно поздно догадалась, что Николь Браше убила Анна. Ее беспокоило множество безобидных деталей, тех самых, которые задвигают вглубь памяти, чтобы больше о них не думать. Анна взяла старую белую «ауди» и где-то пропадала почти весь день… Царапины на капоте и разбитый указатель поворота, которые Алиса заметила лишь через несколько дней… Но ничего конкретного, что могло бы вызывать у нее тревогу или позволить ей связать все это с убийством старой женщины.
Алиса узнавала о ходе расследования из газет, неделя за неделей, вплоть до того дня, когда статья, в которой была упомянута белая машина, стоявшая в день убийства перед фермой, открыла ей глаза. Отныне нетрудно было представить себе, как разворачивались события.
Алиса была уверена, что рано или поздно жандармы доберутся до нее. Она без страха готовилась к этому моменту. Ей даже хотелось, чтобы вся эта история, начавшаяся пятьдесят лет назад, поскорее закончилась. Абуэло уже не было в живых, и Алиса не боялась взять на себя ответственность за убийство, чтобы защитить Анну. Она по-прежнему хотела спасти семью во что бы то ни стало…
Я не нашел письма Николь Браше. Его, несомненно, больше не существует, и я никогда не узнаю, что в нем было написано. Зато я знаю, что Анна прочитала его и по-своему интерпретировала то, что, как она считала, узнала об Абуэло. В своем воображении моя сестра создала портрет беспринципного коллаборациониста, ничего не зная о Рашель, о тайне ее происхождения и о роли, которую сыграл наш дед, чтобы защитить Рашель и ее ребенка.
Что я мог испытывать, кроме горечи? Жизнь никогда не бывает так жестока, как тогда, когда демонстрирует свою трагическую иронию. Желая скрыть правду, Анна лишь способствовала ее обнаружению. И эта правда оказалась далеко не такой, какой она ее себе представляла.
Задумавшись, я часто представлял себе другой конец истории нашей семьи. Я представлял, как Николь Браше развеивает сомнения Анны и объясняет ей, что они с Абуэло пытались спасти еврейку, в то время когда по всей оккупированной Франции шли массовые аресты. Что Абуэло взял на себя заботу о ребенке, что жизнь объединила их крепче, чем это могли сделать кровные узы. Я также пытался представить себе, что было бы, если бы я выяснил правду раньше Анны. «Знаешь, Анна, — говорил я в одном из воображаемых диалогов, — Абуэло был хорошим человеком. И не имеет никакого значения, что он не наш родной дед».
Что касается Долабеллы, что мне было стыдно за то, что я заподозрил семидесятипятилетнего мужчину, который не играл никакой роли в этой истории. В тот день присутствие Долабеллы в кабинете, где лежали бобины моего деда, объяснялось лишь его интересом к прекрасному лакированному черно-золотистому столу в стиле Людовика Пятнадцатого работы Жан-Франсуа Леле. Это был любимый стол Абуэло, самый старый ценный предмет в доме, приобретенный им сразу после войны. Именно поэтому Алиса не хотела с ним расставаться, несмотря на настойчивые уговоры антиквара. Почему она не сказала мне о страстном желании Долабеллы купить стол в тот день, когда я в Арвильере расспрашивал ее об антикваре?
Этот стол стоял в моей парижской квартире два года. Потом я решил продать его с аукциона. Он ушел за тридцать тысяч евро. Всю вырученную сумму я пожертвовал центру для детей-инвалидов в Сернанкуре. Это самое большее, что я мог сделать. Деньги пошли на обустройство последнего этажа и создание новых комнат.
Через год и два месяца после смерти деда Алиса нас покинула. Она ни дня не жила в прелестной квартире с видом на Марну, которую они присмотрели вместе с Анной. Она не присутствовала на суде. Алиса угасла во сне в полупустом доме в Арвильере… От одиночества, горя, чувства вины? Возможно, от всего этого вместе. Ее похоронили в фамильном склепе рядом с Абуэло. Это произошло в начале лета, сияющим утром. В такой день трудно было представить себе, что где-то рядом бродит смерть.
За несколько месяцев до своей смерти после нашей прогулки по саду Алиса отдала мне фотографию моей бабушки Рашель, единственную, которая у нее была. На фотографии Рашель, вероятно, было лет пятнадцать, почти столько же, сколько Анне на снимке, сделанном в Португалии. Алиса никогда не спрашивала у Анри, как к нему попала эта фотография. Я мгновенно узнал черты лица своего отца и отметил явное сходство со своей сестрой. Несомненно, я тоже был на нее похож, но это мог заметить только посторонний. Позднее, в очередной раз просматривая кассету, на которую я переписал старый фильм, я сразу же узнал Рашель. Она, одетая в белое хлопчатобумажное платье, стояла на четвертой ступеньке лестницы. Выражение ее глаз трудно было различить, но я, сравнив с фотографией, которую дала мне Алиса, прочитал в них бесконечную печаль.
В 2001 году Элоиза защитила диссертацию о двух лебенсборнах, созданных во Франции немцами. Члены комиссии очень хвалили ее за новые, не известные ранее документы. Отредактированная диссертация была опубликована в сокращенном варианте издательством, специализировавшимся на гуманитарных науках. Эта диссертация имела большой успех в научном мире. Элоиза сразу получила право читать лекции по современной истории.
Как и надеялся наш адвокат, моя сестра вышла из тюрьмы в конце 2004 года. Благодаря программе профессиональной реадаптации Анну приняли в художественную мастерскую при реймской мануфактуре, поставляющей багеты в национальные музеи. Что еще добавить о моей сестре? Похоже, она медленно восстанавливается, но кто может сказать, что на самом деле происходит в ее голове?
Через полгода после того как Анна вышла из тюрьмы, мы продали дом в Арвильере. По словам риелтера, это был особенный дом. Такая архитектура редко встречалась в нашей местности. Дом был куплен в следующем месяце. Как ни странно, но когда я в последний раз там был, я не испытывал никакой ностальгии и сердце у меня не щемило. Отныне это место вызывало у меня слишком много тягостных воспоминаний, и я почувствовал облегчение, когда так быстро нашелся покупатель.
На часть полученного наследства мы с Элоизой купили старую овчарню в Любероне. Ремонт длился два года. Элоиза обставила ее мебелью, приобретенной на местных барахолках. Там мы проводим наш отпуск.
Элоиза без труда нашла могилу Рашель Вейл на маленьком кладбище Сернанкура. После смерти Абуэло никто не ухаживал за памятником из песчаника, к которому была прикреплена бронзовая дощечка. На ней под именами и датами была выгравирована фраза Маргерит Юрсенар:
Молчание соткано из непроизнесенных слов
В декабре 2001 года, примерно за неделю до Рождества, почти через шестьдесят лет после смерти моей настоящей бабушки я добавил к памятнику небольшой медальон с фотографией, которую дала мне Алиса.
Эпилог
В начале повествования я говорил о том, что здесь речь идет не об истории, а о моей жизни. Но теперь, глядя в прошлое, я думаю, что моя жизнь удивительным образом похожа на историю.
Сейчас почти семь часов. В доме тихо. Тусклый свет заливает овчарню. Сегодня утром я встал на заре, чтобы написать эти последние страницы.
Пять месяцев назад, в выходные, которые мы проводили в Праге, Элоиза сообщила мне о своей беременности. Ей уже исполнилось тридцать шесть лет, и мы не надеялись, что у нас когда-нибудь появится ребенок. Через неделю я написал пару строк о своем деде, потом несколько страниц, не зная, куда меня это приведет. Мне необходимо было заполнить пустоту, вылить на бумагу непроизнесенные слова. Я пока не знаю, как поступлю с этим повествованием. Я даже не уверен, что дам его кому-нибудь прочитать.
Элоиза спит на втором этаже. Думаю, она уже привыкла к моей бессоннице и пробуждению «с петухами», как говорят у нее в Бургундии. Я не говорил ей о своих занятиях, хотя она чаще, чем раньше, видит меня за компьютером.
— Что ты делаешь? — как-то утром спросила она, когда я припал к монитору.
— Готовлюсь к лекциям, — солгал я.
Больше она никогда не задавала мне подобных вопросов.
В этом году Виктору исполнилось шестнадцать лет. Он по-прежнему живет в Италии с матерью. Однако в последнее время мы с ним сблизились, и он хорошо ладит с Элоизой. Вопреки ожиданиям, он, повзрослев, установил тесные отношения со своей бабушкой, которая, выйдя на пенсию, ведет размеренную жизнь в Экс-ан-Провансе. Виктор поступил во французский лицей. Это подросток-экстраверт. В его возрасте я был не таким. Думаю, Виктор с каждым днем становится все меньше похожим на меня. Однако меня это не огорчает. В следующем месяце, в августе, он должен приехать к нам в Люберон на три недели. Виктор безумно обрадовался, услышав, что у него будет брат или сестра.
Как раз сегодня мы идем к гинекологу на эхографию. Мы наконец узнаем, кого носит Элоиза: девочку или мальчика. Элоиза не сомневается, что у нас будет девочка. Она в этом твердо убеждена.
Она уже решила, что мы назовем ее Рашель.
Примечание автора
Эту книгу можно назвать романом в жанре фэнтези. Конечно, большинство деталей, касающихся функционирования нацистских родильных домов, отнюдь не вымышлены, но в департаменте Марна никогда не было лебенсборна. Деревня Сернанкур тоже выдумана мной.
Во время Второй мировой войны во Франции существовал только один лебенсборн, размещенный в Ламорлэ, департамент Уаза. Многие дети, появившиеся на свет в этих родильных домах, не знали, да и до сих пор не знают тайну своего происхождения.
Благодарности
Матери и отцу за их поддержку, советы и исправления.
Жюльену.
Моему издателю Жан-Лорану Пуатевену за его энергию и доверие.

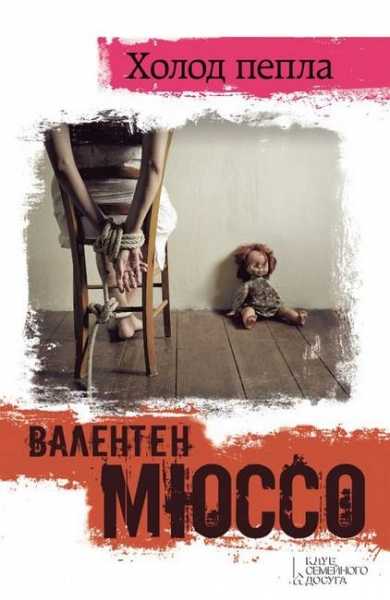

Комментарии к книге «Холод пепла», Валентен Мюссо
Всего 0 комментариев