Генри Моррисону
Воина — жестокость, и ее не смягчить
Уильем Текумсе ШерманЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
ЭЛЬ-ПАСО, ТЕХАС, 8 МАРТА.
Согласно неподтвержденному сообщению, полученному сегодня генералом Габриэлем Гавира в Хуаресе, двое американцев Фрэнклин и Райт были в понедельник убиты бандой Вильи в Пачеко, между Каса-Грандес и Ханое, Чиуауа.
В сообщении не упоминается о жене и маленьком сыне мистера Райта, которые, как стало известно, находились в то время в Пачеко. Гавира заявил, что крестьяне-мормоны, живущие к западу от Каса-Грандес, проигнорировали предупреждения, которые он разослал всем американским жителям Чиуауа, узнав о передвижениях Вильи в этом районе.
Глава 2
КОЛУМБУС, НЬЮ-МЕКСИКО, 8 МАРТА. Согласно телеграмме, присланной американским управляющим ранчо, Франсиско Вилья и его войска сегодня совершили нападение на ранчо Земледельческой и Скотоводческой компании Палома в Ногалесе, Чиуауа, в десяти милях от границы и в сорока пяти милях к востоку.
В сообщении ничего не говорится об Артуре Мак-Кинни, Джеймсе Корбетте и Джеймсе О`Ниле, американских скотоводах, которые, по слухам, были взяты в плен.
Глава 3
ВАШИНГТОН, 8 МАРТА. Сегодня Государственный Департамент получил сведения, которые можно рассматривать как подтверждение сообщения о пребывании Вильи на ранчо Палома, в нескольких милях к югу от Колумбуса, Нью-Мексико. Вашингтон не имеет никакой информации о том, что Вилья убил американцев Франклина и Райта. Согласно сообщениям, все американцы, работающие на ранчо, кроме одного, пересекли американскую границу, узнав о приближении Вильи, с которым, по слухам, находится не менее четырехсот человек.
Глава 4
КОЛУМБУС, НЬЮ-МЕКСИКО, 1916.
Здесь нет ни одного дерева. Растут лишь какие-то кустики между палатками и домами, густой тростник у канавы вдоль дороги, ведущей с севера на юг, кое-где саксаул и кактусы. Пустыня: песок и камни.
Не веря своим глазам, он смотрел в окно и думал, что это, должно быть, городские окраины. Потом поезд остановился, он поднялся вместе с остальными и, забросив на плечо вещевой мешок, вышел из вагона, спустился вниз. Черта с два это окраины! Он посмотрел вперед по ходу поезда и увидел, что домов там больше нет, а весь город — не больше четырех кварталов. Он стоял, пытаясь привыкнуть к местному пейзажу.
В Эль-Пасо было зелено, как и в Рио-Гранде. За три дня, проведенные там, он просидел все свободное время в сквере Форт-Блисс под тенью деревьев, где гулял свежий ветерок. На севере, откуда он приехал, все еще была зима, деревья стояли голые, а трава оставалась пожухлой. Но в Техасе в марте было хорошо: достаточно тепло, но и не так жарко, чтобы зелень увядала и блекла. Ему говорили о весенних цветах пустыни, но кроме как в Эль-Пасо он нигде не видел никаких цветов. Прентис не понимал, почему на него так смотрели. Но теперь все стало ясно. Здесь вообще ничего не было. Полуразвалившиеся бараки, палатки, спекшиеся от жары улицы. Тощая собака, вывалив язык, исчезла в канаве. Он оглядел потрескавшуюся от солнца деревянную платформу, грязь, забившуюся в щели, провел по ним башмаком и, покосившись на окна станции, затянутые пылью, облизнул губы и еще раз огляделся.
Насколько он понимал, лагерь располагался на этой стороне города. Солдаты, возвращавшиеся из увольнения, вышли из поезда, свернули налево и потащили свои вещмешки к веренице длинных и узких деревянных домов, похожих на казармы, позади которых слышалось ржание лошадей. Он дошел до дальнего края перрона и увидел флаг и указатель: “Лагерь Фарлонг”. Из приземистой развалюхи вышли два офицера, и он понял, что не ошибся. Теперь солнце, стоявшее низко над железнодорожным полотном, светило ему в глаза, но небо по-прежнему оставалось белым и мутным. Его толстая шерстяная рубашка прилипла к потной груди. Он повернулся лицом к поезду; звук паровоза стал тише, вагоны медленно двигались, и, наконец, мимо промелькнул последний. Наверное, здесь такое солнце. Но другая сторона города ничем не отличалась от этой — дома-развалюхи, несколько двухэтажных строений, похожих на гостиницы, среди которых вроде бы магазин и почта; такие же твердые каменистые улицы. Но как только солнце окрасило городские строения в коричневатый цвет, все стало выглядеть по-другому. Как будто на фотографии. Он увидел, как двое людей в мешковатых костюмах завернули за угол, услышал пыхтение автомобиля, двигавшегося с севера, подошел к краю платформы и стал смотреть в направлении, откуда, шел звук. Но ничего не рассмотрел, хотя дорога была совершенно прямой и он видел дальнюю окраину города. Пять кварталов. Воды в канаве нет. И вообще ничего нет.
Глава 5
Скорее всего, сержант все время смотрел на него в запыленное окно станции. Теперь он услышал сухой скрип двери за спиной и, повернувшись, увидел его в дверном проеме: приземистый, широко костный, с открытым лицом; закатанные рукава просторной рубашки оливкового цвета и заправленные в башмаки брюки. Он наверняка брился, но при такой пылище и ветре его лицо казалось небритым.
Он встал по стойке смирно и отдал честь.
— Как ваша фамилия?
— Прентис, — ответил он.
— Прентис, сержант. Не нужно отдавать честь. Дайте-ка взглянуть на ваши документы.
Он порылся в вещмешке и достал бумаги.
— А где остальные?
— Не понял.
— Остальные. Мы просили десять человек, нам дали троих. Так где же еще двое?
— Я не знаю.
— Так, значит, вы из Огайо? Девятнадцать лет, в армии шесть недель, и вас определили в кавалерию. — Он замолчал и покачал головой. — Не знаю, куда мы катимся. Ну, так что скажете о них?
— Не понимаю.
— Лошади. Как насчет лошадей? Какой они породы?
— А-а, понятно. Вы об этом.
— Вот именно, об этом. Ну, так что скажете? Вы теперь кавалерист, так докажите это. Какие лошади…
— Помесь аравийских и квартеронов. Сержант заморгал, а затем продолжил:
— Ну, а седла?
— Усовершенствованный Мак Клеллан.
— Что это значит?
— Открытая щель между передней лукой и лошадиной спиной. Нет седельного рожка. Высокий перед и округлый зад.
— Это удобно?
— Не очень. Ружья скользят. Две боковых части проседают, передняя лука касается спины и весь груз ложится на лошадь. К тому же кожа у подпруг слишком тяжелая. Шкура лошадей вытирается.
— Где вас обучали? В каком-нибудь поло-клубе в Цинциннати?
— Нет. Неподалеку от Кливленда. На ферме моего отца. Сержант поджал губы и стал его рассматривать.
— Что ж, может быть, и правильно сделали, что прислали именно вас.
Глава 6
Десять квадратных футов, три койки, несколько полок, маленькая пузатая печка, на стене картинки из каталога “Сирс” — женские пояса.
— До завтра останетесь здесь. Эти трое в отпуске. Он снял вещмешок и огляделся. Земляной пол. Дощатые стены со щелями, в которые видно заходящее солнце. Он обратил внимание, что все ножки коек стояли в консервных банках. Он нахмурился и повернулся к сержанту.
— Да-да… И пока вы здесь находитесь, следите, чтобы койки не касались стен. Он не понял.
— Есть три вещи, о которых вам необходимо знать. Здесь не север. Пауки, змеи и скорпионы.
От мысли о пауках его передернуло.
— Первое, что вы делаете, входя сюда, — берете метлу и подметаете под кроватью. — Сержант говорил и одновременно показывал, как это делается.
— Потом откидываете одеяла и смотрите, нет ли чего под ними. Утром снова пошарьте под кроватью. Перетряхивайте одежду и проверяйте ботинки. Надевайте их как можно медленнее. Ничего особенного, вы быстро привыкнете.
— А почему кровати стоят в жестянках?
— Там керосин.
Сразу стал ощущаться острый сладковатый запах.
— Если что-нибудь захочет навестить вас во время сна, то придется проползти через керосин. Это сделать невозможно. Налейте в банку керосину и через неделю обнаружите там все, что угодно.
Об этом думать не хотелось.
— Ну, вот и все. Скажите поварам, что вы новичок. Вас накормят. Увидимся утром. Так где, говорите, ваша ферма?
— Недалеко от Кливленда.
— А-а, я и сам из тех мест. Так помните о ботинках. — Сержант ушел.
Он стоял посреди комнаты, вдыхая запах керосина, глядя на полоски заката, мерцавшие на полу; пахло еще пылью и деревом, он глубоко вздохнул, облизал губы и долго стоял не двигаясь. Сняв шляпу с круглыми полями, он повесил ее на крючок, поискал, куда бы положить вещевой мешок, наконец туго стянул его и повесил на другой крючок, потом подошел к двери. Сержанта нигде не было видно. Он оглядел цепь хибар перед ним, казармы поодаль, солдат, сидящих на завалинке, клубящееся облако пыли там, где, как он подумал, были конюшни. Мимо протарахтела линейка; солдаты на завалинке даже не взглянули на нее. Потом освещение изменилось: солнце село. Похолодало, поднялся ветер. Он стоял и думал, поесть ему или нет, вспоминал о ветчине, кофе, галетах. От этой мысли в животе заурчало. Он взглянул на койки, потом снова посмотрел на улицу и закрыл дверь.
Глава 7
Его разбудил гром.
Ему снились зеленые поля и цветущие сады на склоне холма, а под дубом на вершине стоял его отец, и чем быстрее он бежал, тем дальше казалась ему цель, а отец становился расплывчатым пятном. Когда же он, спотыкаясь, все-таки добрался до вершины, там не было никого. Он посмотрел вокруг, ища отца, вглядываясь в бесконечные зеленые поля и высокую траву. Один длинный холмик с камнями с одной стороны показался ему могилой, где был отец, который старался вырваться оттуда. Пошел дождь, сначала слабый, но потом он перешел в хлещущий ливень. Ничего не стало видно. Он протянул руки, чтобы дотронуться до дерева, но не нашел его и оцепенел от внезапной молнии и раскатов грома.
Они стояли у самой двери, а он сидел на койке с протянутыми руками, не соображая, где находится. Сержант ошибся. Только один солдат из барака был в увольнении. Двое других пришли вскоре после девяти, поздоровались и легли спать, а теперь они сбрасывали с себя одеяла, бормоча: “Боже милосердный! Что там за дьявольщина?”
Раздались ружейные выстрелы, и все стало ясно. Стены тряслись от непрерывного грохота. Они вскочили с коек, натянули бриджи и, схватив ружья, кинулись к двери и выбежали во тьму.
Он не двинулся с места. Сидя на койке, он видел, как мимо проносятся беспорядочно мельтешащие фигуры. Снова пальба, вспышки огня в темноте. Ничего не понимая толком, он натянул брюки, лежавшие сложенными на койке. Схватив ботинки, он на миг оцепенел, вспомнив слова сержанта, затем бросил их и, озадаченный, побрел к двери.
Казалось, всадники заполнили вокруг все. Их громоздкие фигуры проносились с непрерывным грохотом. Из домов начали стрелять, и всадники стали падать. Потом загорелся сначала один барак, затем другой. Из-за темноты и пыли, поднимаемой лошадьми, ничего не было видно, но при огненных вспышках во всадниках можно было распознать мексиканцев. Под полями сомбреро темнели мрачные усатые лица, сверкали зубы, ослепительно и неистово горели глаза.
Он так и не понял, как это получилось. Только что он стоял полусонный и оцепеневший от происходящего, протянув руки к двери. И вот он уже медленно идет вперед, загипнотизированный событиями и готовый слиться с происходящим. Он не мог остановиться. Вот лошади окружили его. Вот они все ближе и ближе… Все больше мечутся по обеим сторонам от него… Он понимает, что ему тут делать нечего, приказывает себе бежать, но почему-то не двигается с места. Одна из лошадей задела его, закрутила и чуть не повалила на землю, он вытянул руки, чтобы удержать равновесие, и упал на одно колено. Поднявшись, он увидел, как на него скачет еще один всадник, занеся мачете для удара. Тридцать футов, двадцать… Всадник движется все медленнее, становясь крупнее и крупнее. Он ощупал мягкую кожу у себя на шее, на груди, куда вот-вот ударит лезвие. Он снова приказал себе бежать, но не двинулся с места, а всадник все приближался, стремительно увеличиваясь в размерах. Мачете сверкнуло в воздухе, но тут откуда-то слева появилось ружье и сбило всадника с лошади; его нога запуталась в стремени, лошадь рванулась и понесла, а всадник, извиваясь, потащился за ней по земле.
У него перехватило дыхание. Ошеломленный, Прентис обернулся на выстрел, но ничего не увидел. Он приказал себе дышать и изо всех сил стал вглядываться в темноту.
Ничего не видно.
А потом от тьмы отделилась фигура. Мощная и крупная. Это был мужчина в штатском, высокий, с квадратным лицом и широкой грудью. Он бежал, приседал, стрелял и снова бежал. В одной руке он держал револьвер, из которого стрелял, в другой — ружье. Мужчина двигался по направлению к нему, а он стоял окаменев, как минуту назад, увидев всадника. Только теперь никто, наверное, не выстрелит, не собьет с ног этого человека. Мужчина подбежал и так сильно толкнул его плечом, что они оба упали.
Лежа лицом в пыли, он бормотал:
— Что это? Кто…
— Да лежи ты, черт подери!
Он почувствовал, как его схватили за пояс и за воротник и потащили, отчаянно проклиная и ругаясь. Он увидел впереди барак и почувствовал, как две руки втолкнули его внутрь.
С такой же скоростью, как появился, мужчина сразу ринулся во тьму, останавливаясь при выстрелах всадников; дважды он выстрелил сам, потом бросился в сторону и скрылся из виду.
Прентис лежал на глиняном полу барака, глядя вслед тому человеку в открытую дверь. Он все еще ощущал его руки на шее и спине, где незнакомец схватил его, чувствовал царапины на коленях и на руках. И что-то еще в своей руке. Ружье. Он и не заметил, как тот человек оставил оружие. Он лежал и смотрел на свои руки, потом с удивлением обнаружил, что вскидывает ружье, взводит курок и, не целясь, стреляет из дверей.
Глава 8
Всадник получил пулю в затылок и упал. Человек в штатском снова выстрелил и попал другому всаднику в грудь. Он был действительно здоровенным, как в первый момент и показалось Прентису. Трудно сказать, какого роста, но где-то шесть футов три дюйма, а может, и больше. Ковбойская шляпа с острой тульей и загнутыми полями делала его еще выше. Широкое лицо, толстая шея, массивные плечи, под рубашкой и жилетом на руках и на груди отчетливо вырисовывались мускулы. Длинные устойчивые ноги, плотный торс, даже удивительно, что он двигался так быстро и ловко, да еще в темноте. И вообще удивительно, что он такой подвижный. Ведь когда он подбежал и свалился на парня, тот заметил, что он стар — мужчине было лет шестьдесят, и то и шестьдесят пять, о чем свидетельствовало морщинистое, задубевшее лицо и слегка отвисшие щеки, покрытые седоватой щетиной. Словом, старик.
Первый выстрел он услышал, выходя из дома и направляясь к конюшням. Времени было чуть больше четырех; он сначала собирался дать своей лошади корма и воды, потом выпить кофе с беконом в столовой, выкурить папиросу и посмотреть, как взойдет солнце. К этому времени солдаты, с которыми он вместе несет дозор, встанут и будут готовы. Он присоединится к ним, поскачет на запад, проверит там границу.
Старик так и не дошел до конюшни. В десяти футах от барака он услышал первый выстрел и, остановившись, напрягся и подождал; очень скоро последовал второй выстрел, а потом еще и еще, и все звуки слились в единый грохот. Сначала он подумал, что этот шум — отголосок дальнего грома в горах; но теперь все понял. Гром? Как бы не так! Это лошади, а у него при себе ружье для патрулирования и пистолет в кобуре; он выхватил пистолет, отвел затвор, зарядил, стал вглядываться в сторону, откуда неслись выстрелы, вычисляя, где перехватить врага.
Они там, справа; он пробежал мимо казарм, увидел вспышки выстрелов возле склада, горящие бараки, услышал крики всадников, топот лошадей, звуки ружейных выстрелов; он бежал, пока не разглядел отчетливо всадников, и тогда начал стрелять. Вокруг происходило слишком много всего, поэтому было непонятно, попал он или нет. Он снова выстрелил, пробежал мимо двух бараков, прицелился, выстрелил; потом еще. Обойма кончилась, он вложил новую и снова стал стрелять в несущихся всадников. Ясное дело, мексиканцы; он прицелился во всадника в широком сомбреро с мачете наизготовку, выстрелил, вышиб его из седла; тот запутался ногой в стремени, лошадь рванулась и понесла, а всадник, так и застрявший в стремени, извиваясь, волочился за ней по земле.
Глядя вслед лошади, он вдруг обратил внимание, куда целился всадник, и глазам своим не поверил. Посреди всеобщей заварухи, опустив руки, стоял человек. Совершенно беззащитный. Собственно, мальчишка, одетый в кавалерийские бриджи, без рубашки, в одном белье. Легкая мишень — стоит и не двигаясь смотрит в его сторону. А вокруг скачут и кричат всадники. Он знал, что так нельзя. Это глупо. Но, Господи, мальчишка стоит и стоит, и он кинулся к нему из-за бараков, приседая и стреляя во всадников. Он подбежал к нему в такой ярости, что сразу сбил с ног, пихнул плечом прямо в грудь. Они повалились на землю.
— Что это? Кто…
— Да лежи ты, черт подери! — Теперь мужчина так разозлился на себя, что чуть не вмазал парню. Он схватил его за ремень и за ворот белья, потащил, отчаянно проклиная и ругаясь. К ближайшей казарме. Дверь была открыта, старик швырнул парня внутрь, бросил ему ружье, повернулся и снова побежал, стреляя в скачущих мимо мексиканцев.
Глава 9
Всадник получил пулю в затылок и упал. Человек в штатском снова выстрелил и попал другому всаднику в грудь. Он оглянулся на барак, где оставил мальчишку, увидел вспышку выстрела из дверей, понял, что все в порядке, и забыл о нем.
Он услышал за спиной выстрел, обернулся и увидел патрульного, стрелявшего с колена из-за угла здания. Затем появились еще пятеро солдат, сомкнувших круг с защищенными флангами, которые тоже стреляли. Стреляли из домов, из-за повозок, из канав, из кустов; всадники метались из стороны в сторону, к пламени горящих казарм напротив присоединилось пламя в городе, языки которого взвивались к небу.
Он увидел цепочку мексиканцев, двигавшихся по направлению к огню. Он нырнул между двух построек, побежал в ту сторону, стреляя в поток всадников, скачущих мимо вокзала, добрался до железнодорожной насыпи, поднялся на нее, остановился, чтобы убедиться, что с другой стороны никого нет, и поспешил вниз. Дорогу с севера на юг — слева от него — заполнили мечущиеся, стреляющие всадники. Справа были кавалеристы с карабинами; они скакали в город. Он пробежал через пустырь, миновал ряд домов, нырнул под изгородь, пронесся по переулку и выбежал на дорогу, шедшую с запада на восток. Вокруг полыхали магазины, и было так светло, как будто среди темной ночи внезапно наступил день.
На улице суетился пулеметный расчет, пытавшийся занять Удобную позицию. Несколько всадников выскочили из-за угла и налетели на пулеметчиков.. К ним присоединилась еще группа мексиканцев. Позже возникнут некоторые вопросы. Захваченный в плен мексиканец станет утверждать, будто их предводитель не вступал в бой, что, отдав приказы, он остался в пустыне с резервом, и — более того — скакал не на своей знаменитой белой лошади Сьете Легуас, “Семь Лье”, а на обычном чалом коне по кличке Таурино. Как бы то ни было, сейчас человек в штатском был совершенно уверен, что перед ним Вилья, приземистый и коренастый, с массивной грудью, почти непропорционально маленький по сравнению с огромным белым конем, которого он пришпоривал. Хотя он и был далеко, казалось, своим присутствием он заполнил всю улицу; в глаза бросались пышные висячие усы и холодные, пронзительно черные глаза.
Расчет пулеметчиков отчаянно пытался вступить в бой, один из них низко присел, чтобы укрепить треногу, другой вставлял ленту, третий быстро палил во все стороны из пистолета, чтобы прикрыть их. Но все было напрасно. Всадники надвигались и надвигались, стреляя и оттесняя их. Человек в штатском отступил в переулок, прицелился в Вилью, который скакал мимо, но ему пришлось увернуться от пули, попавшей в стену над его головой. Он снова прицелился, на этот раз выстрелил и промахнулся. Затвор его пистолета остался отведенным, обойма была пуста. Он нащупал в кармане новую обойму, увидел неподвижную тень и поднял глаза на мексиканца, который скалился ему в лицо. Мексиканец был меньше чем в десяти футах, он ухмылялся и вскидывал ружье, чтобы выстрелить. Но не тут-то было. Штатский сунул руку под расстегнутый жилет и выхватил револьвер западного образца, кинулся к лошади, поднырнул под ее голову, так что лошадь встала на дыбы, увернулся от удара копытом и выстрелил во всадника. Пуля попала ему в лицо. Он опрокинулся, под тяжестью его тела лошадь еще круче вскинулась на дыбы и упала вместе с седоком.
Глава 10
Потом по вокзальным часам, остановленным пулей, все узнают точное время атаки: 4.11. Возникнет вопрос, почему, собственно, Вилья совершил нападение? Два года назад он объявил себя сторонником Америки, приветствовал посланников президента США, консультировался с военными авторитетами США во время известной встречи на мосту Эль-Пасо-Хуарес.
Но тогда в Мексике четыре года бушевала гражданская война. Диктатора Диаса сменил народный любимец Мадейро. Его в свою очередь сменил Уэрта — Диас номер два. Вилья сражался на стороне Мадейро и, имея четыре тысячи солдат, обратил их против Уэрты. На это ушел год, но, с помощью вождей повстанцев, таких как Сапата и Карранса, он победил. Тут встал вопрос, кто будет править страной. Вилья все время давал понять, что не настаивает на своей кандидатуре, но, когда Карранса добился достаточной поддержки, чтобы победить, Вилья выступил против него. По всему северу страны, с востока на запад, происходили столкновения сил Каррансы и Вильи.
США сделали стратегический выбор. Президентом тогда был Вильсон; в Европе шла война, и он придерживался позиций строгой изоляции. Немцы, боясь, что со временем он присоединится к союзникам, посылали в Мексику людей и оружие. Они рассудили, что он никогда не двинется за океан, если будет опасность возникновения мексиканского фронта, а Вилья, в свою очередь, жаждал видеть Мексику мирной и без немцев. Вопрос был в том, кто из повстанцев достаточно силен, чтобы объединить страну. Каррансу поддерживали, но и Вилью тоже, и проамериканские взгляды Вильи склоняли Вильсона сделать выбор в его пользу. Но тут Вилья начал проигрывать сражения, пошли слухи, что он сторонник большого бизнеса, и, когда Карранса получил поддержку Американской федерации труда, Вильсон, которому нужно было быстро принять решение, выбрал Каррансу. Он прекратил поставки американского оружия и припасов Вилье, в то же время снабжая Каррансу щедро, как только удавалось. Конфликт разразился в Агуа-Приета, пограничном городе между Мексикой и Аризоной, где Вилья осадил размещенные в тамошних казармах войска Каррансы, а США позволили каррансистам ввозить в город подкрепление по железным дорогам, идущим через территорию Соединенных Штатов.
“Была создана обстановка для сражения, почти уникального в военной истории, — писал потом один историк. — Зрители могли наблюдать его из-за боковой линий, как футбольный матч… Подошли войска Вильи, американские траншеи заполнились людьми, американская артиллерия заняла предварительно выбранные позиции незадолго перед рассветом… Артиллерия каррансистов открыла огонь, и на протяжении всего дня шла бурная перестрелка между защитниками и атакующими. В полвторого утра Вилья пошел в наступление, его люди изо всех сил прокладывали себе путь вперед… Но все тщетно, потому что вильисты поняли то, что уже знали по обе стороны Западного фронта в Европе: наступление на позиции, защищенные колючей проволокой, прикрытые перекрестным пулеметным огнем и мощной артиллерией, обречено на неудачу. Наверное, впервые в военной истории Мексики поле боя было освещено. Прошлые успехи Вильи в ночных наступлениях заставили его глубоко уверовать в них, но в Агуа-Приета ночь была превращена в день мощными прожекторами, лучи которых не только освещали наступающих, но и ослепляли их. Эти прожекторы разозлили вильистов и быстро увеличили враждебность, которая уже у них назревала по отношению к США. Когда в следующие несколько дней стало ясно, что их поражению способствовала, если не целиком вызвала его, новая политика Соединенных Штатов, среди вильистов поползли слухи, что прожекторы предоставили американцы, управляли ими американские солдаты, и они находились на американской стороне границы”.
Оставшись без оружия, проигрывая сражения и теряя боевой дух, солдаты Вильи постепенно покидали его, от сорока тысяч скоро осталось четыре тысячи, а потом четыре сотни. Он переправился в район Чиуауа, покрытый пустынями и горами, и, обозленный тем, что США помогали Каррансе, обратился против американского горного бизнеса в том районе: похищал управляющих и держал их ради выкупа, перехватывал топливо и тоже требовал выкупа, врывался в поселения и поджигал их. В начале 1916 года произошло несколько подобных столкновений Вильи с Америкой, самое известное из которых случилось 10 января и получило название побоища в Санта-Исабель, когда из поезда, следовавшего в Чиуауа, похитили и расстреляли семнадцать американцев, которые ехали восстанавливать шахту, разоренную Вильей. Собаку одного из американцев ударом ножа рассекло почти надвое, но она как-то выжила. Золотое кольцо, снятое с одного из трупов, позже оказалось на убитом налетчике в Колумбусе. Судя по различным сообщениям, Вильи в поезде не было, но тем не менее все произошло по его приказу.
Итак, учитывая его острую нужду в припасах и резкую перемену в отношении Америки, неудивительно, что со временем Вилья совершил налет на американский пограничный город. Собственно, США ожидали этого. Сообщения о передвижениях Вильи возле границы каждый день приходили в Форт-Блисс и в Эль-Пасо. Гарнизоны вдоль всей границы были приведены в боевую готовность. Лагерь Фарлонг в Колумбусе патрулировал зону в шестьдесят пять миль.
Но все думали, что после провала нападения на мексиканский город Паломас к югу от Колумбуса Вилья направится в Эль-Пасо. Никто не понимал, как нужны были ему боеприпасы и лошади, и как зол он был на двух лавочников из Колумбуса. Братья Сэм и Льюис Равели владели отелем и магазином, где торговали всем понемногу, а когда США прекратили снабжать Вилью, они отказались продать ему оружие, которое он заказал, и вернуть уже заплаченные деньги. Главной целью налета и был их отель и магазин, которые сначала разорили, а потом подожгли.
Сам налет был проведен мастерски — внезапная ночная атака, — коронный номер Вильи. Прорвав ограждение в нескольких милях к западу от пограничных ворот, обойдя там патруль, ранним утром 9 марта он привел своих людей на окраину Колумбуса и атаковал две цели: лагерь, в основном конюшни и склад боеприпасов, и деловой центр города, магазин и все хозяйство братьев Равелей. За день до нападения он послал двоих людей в город осмотреть гарнизон, и те доложили, что там всего тридцать солдат. Собственно говоря, солдат-то было триста, но в течение дня большинство из них были заняты патрулированием, поэтому разведка их не видела, из-за чего кажущийся легким налет обернулся катастрофой.
Представьте себе небольшой город, состоящий из четырехсот человек гражданских лиц и еще трех сотен военных, к которым прибавились еще четыреста налетчиков, постоянно стреляющих. И днем была суматоха, а уж ночью все оказалось и того хуже. Когда просматриваешь список потерь, то искренне удивляешься, как это погибло всего лишь восемнадцать американцев, восемь было ранено, в то время как у налетчиков были убиты девяносто, ранены двадцать три и немного меньше взято в плен. Это говорит о хорошей боевой готовности американских кавалеристов: они быстро оправились от шока и мобилизовали достаточно сил. Именно поэтому налет, планировавшийся как молниеносный, кончился трехчасовым беспрерывным боем. И все равно Вилья получил то, что хотел. Не считая значительного количества продовольствия, его люди забрали восемьдесят лошадей, тридцать мулов, несколько повозок военного снаряжения, включая пулеметы, боеприпасы и триста маузеров, которые они, впрочем, вскоре почти все потеряли. Об изнасилованиях сообщений не было.
Глава 11
Мужчина со своей женой мчался по улице к саманному убежищу — второй гостинице. Жена была на шестом месяце беременности. Ее выпирающий живот отчетливо выделялся, когда его прошила пуля. Мужчина, который в отчаянии повалился рядом с ней, чудом остался жив.
Другой человек, с женой и трехмесячным ребенком, выехал на машине задним ходом из гаража, получив при этом пулю в плечо. Он кое-как добрался до дороги с севера на юг, снова был ранен и оказался беспомощен. Жена пересела на место водителя и отвезла свою семью в пустыню.
Семья пряталась в зарослях кактусов. Другая семья находилась в канаве, которую охранял лейтенант со своим братом. Когда всадник чуть не наехал на них, они выстрелили из ружья, только ранив его. Испугавшись, что новый выстрел может привлечь к ним внимание, мужчина подбежал к упавшему всаднику и ударил его ножом. Лезвие сломалось, и тогда один из мужчин прижал мексиканца к земле, а другой стал бить его прикладом. Пока он колотил его, жена и дочь лейтенанта съежились в канаве, заткнув уши, чтобы ничего не слышать.
Забившись в спальню, завесив матрасами дощатые стены дома, семья боялась, что плач пятимесячного ребенка привлечет внимание налетчиков. Мать засунула ребенку в рот наволочку и ненадолго отвлеклась от младенца. Когда она снова посмотрела на ребенка, он не двигался. Она выдернула кляп, чуть не закричав от ужаса. Но ребенок начал дышать.
Глава 12
Больше налетчиков не было. Человек в штатском перебегал от одного упавшего мексиканца к другому, чтобы удостовериться в их смерти. Стало светлее, и не только от пожаров вокруг, но от восходящего солнца. Поглядев через улицу, он увидел, как двое пеших мексиканцев выходят из дверей, волоча за собой сопротивляющегося мальчишку в одном белье. Они остановились и огляделись, думая, что остались одни; человек в штатском дважды выстрелил; один упал на деревянный тротуар, другой в сторону окна. Всадники, находящиеся недалеко, повернулись и поскакали назад; мальчик исчез.
Он снова нырнул в переулок и, наскочив на кого-то, обернулся и увидел женщину в крови с головы до ног, с невидящими глазами. Она отшатнулась, вытянула руки и снова двинулась к улице. Мужчина схватил ее, пригнул к земле, а сам упал на одно колено и принялся палить в стреляющих налетчиков, пробегающих по тротуару.
Теперь стало светлее, человек в штатском оглядывался, надеясь, что к мексиканцам не идет подмога, и продолжал стрелять. Налетчики завернули за угол слева. Один всадник упал, другой схватился за плечо. Потом они исчезли, и он услышал пальбу в лагере неподалеку и отдельные выстрелы по всему городу. Он взглянул на женщину в переулке, увидел, как она, спотыкаясь, все же пошла по направлению к улице, а другая женщина бросилась к ней. Он поискал глазами мишени, но не нашел, услышал звук полкового рожка, потом еще один сигнал, схватил поводья у убитого всадника, осторожно, чтобы не напугать лошадь, вскочил в седло — высокое широкое мексиканское седло было непривычно для него, — пришпорил лошадь и помчался по улице.
Затем состоялось конное пистолетное сражение; таких во всей истории США было потом еще четыре. Он завернул за угол, поскакал по дороге, перемахнул через рельсы — слева осталось депо, справа таможня, — услышал в стороне ружейные выстрелы и догадался, что кавалеристы стреляют с высокого места у флагштока в отступающих налетчиков. Он увидел колонну кавалеристов, скачущую к лагерю; потом слева к ним присоединилась еще одна, и обе колонны углом двинулись в пустыню. Светало, и хотя день вступал в свои права, видимость оставалась плохой, а пыль из-под копыт лошадей, которых он насчитал около пятидесяти, застилала все вокруг. Он поскакал к облаку пыли, промчался сквозь него и только тогда повернул направо. Огневое прикрытие из лагеря таяло, сменившись выстрелами кавалеристов впереди. Они повернули, двигаясь прямо на юг, поднялось огромное облако пыли. Он пришпорил лошадь, чтобы догнать их.
Становилось все светлее; копыта лошади мерно вздымались и опускались на каменистую землю пустыни. Человек в штатском увидел налетчиков далеко впереди, ярдах в трехстах, а может быть, и больше, — отчаянно скачущие, маленькие подпрыгивающие пятнышки среди песка и кактусов. Он проскакал мимо палаток и повозок, брошенных ими, мимо мексиканцев, лежащих в грязи и истекающих кровью. Он взглянул направо, на цепь кавалеристов, потом вперед, где виднелся овраг, въехал в него, выскочил с другой стороны и помчался дальше.
Он видел, как всадники миновали высокое место, оставив позади несколько человек, которые стреляли, прикрывая их. Пули ударялись в грязь. Два кавалериста упали, и кто-то отдал приказ быстрее подтягиваться. Сначала он испугался, что они возвращаются в лагерь, натянул поводья и замер. Остальные тоже постепенно останавливались. Человек в штатском смотрел, как кавалеристы сосредотачиваются справа от него. Они глотали слюну, вытирали лица, их рубашки потемнели от пота, руки крепко сжимали поводья. Облако пыли улеглось. Теперь впереди были отчетливо видны всадники, покрытые пылью, которые съезжали вниз с откоса. На холме поблескивали ружья. Человек, отдавший приказ подтянуться — теперь он видел, что это был майор Томпкинс, без шляпы, в бриджах и рабочей рубашке, с запыленными тонкими усами, — подъехал ближе. Они выжидательно смотрели на него, а он оглядел налетчиков, потом своих солдат и наконец сказал:
— В линию.
— Да, сэр, — широко улыбаясь, ответил сержант.
Остальные тоже заулыбались. Потому что они вовсе не возвращались в лагерь. Это был первый приказ для начала наступления, и, учитывая, как беспорядочно они съехались, человек в штатском мог только восхищаться быстротой, с которой они выстроились в линию: каждый солдат в своем взводе, каждый взвод на своем месте. Он пришпорил лошадь, занял место на левом фланге линии; майор проскакал вдоль построения, чтобы убедиться, что все на местах, приблизился, остановился и посмотрел на него. Человек в штатском кивнул. Майор кивнул в ответ. Затем майор перевел взгляд на солдат и сказал: “Проверьте пистолеты”. Но они опередили его — уже вынимали старые обоймы, проверяли затворы, с нестройным металлическим лязгом вставляли новые обоймы. Они сидели на лошадях в напряжении и готовности, сжимая пистолеты так, что костяшки пальцев у многих побелели.
Майор еще раз оглядел их и скомандовал:
— Шагом.
— Да, сэр, — отозвался сержант и повторил команду. Они двинулись друг за другом, как на скачках, когда стартуют одновременно.
Некоторое время они медленно скакали вперед, давая лошадям возможность войти в ритм движения. Потом майор скомандовал: “Рысью”, сержант отозвался, потом последовало:
“Вскачь”, и как будто огромная машина пришла в движение: гладкая, большая и мощная, которую почти невозможно остановить. Позади человека в штатском клубилась пыль, кавалеристы справа от него держали поводья в левых руках, правыми сжимая пистолеты.
Затем прозвучала команда “Галопом”, и на этот раз сержанту не пришлось ее повторять. Лошади неслись слаженно, старались удержаться в едином ритме, и всадникам нужно было всего лишь ослабить поводья, и лошади сразу перешли на галоп. Перед ними замаячил холм, обороняемый арьергардом налетчиков: отблески ружей, летящие пули. Один за другим конники приподнимались в седлах, наклоняясь вперед, наконец майор скомандовал: “Огонь!”
И они открыли огонь, наклоняясь вперед, держа пистолеты над головами лошадей, между ушей: свистели пули, от отдачи дергались руки, сыпались гильзы, как будто целую повозку патронов опрокинули в огонь. Залп за залпом катились по плоской пустынной равнине, стреляли из пятидесяти пистолетов. Колонна почти взобралась на холм, пули со звоном отскакивали от камней, кактусы разлетались, а мексиканцы на вершине отстреливались. Средняя линия держалась слегка позади, а фланги двигались вперед, и кавалеристы принялись взбираться на холм полукруглым порядком, стреляя, перезаряжая пистолеты. У некоторых кончились патроны. Держа поводья в левой руке и этой же рукой перезаряжая пистолеты, они продолжали стрелять. Все камни и кактусы на вершине буквально взрывались, налетчики падали, отступали, кавалеристы теснили врага, и наконец они достигли вершины, но там уже не было никого, повсюду валялись одни трупы, а оставшиеся в живых спустились за холм. Некоторые кавалеристы устремились в погоню, но тут майор прокричал:
“Стой!”, остальные спрыгнули с лошадей, держа ружья наготове. Майор снова крикнул: “Стой!” Сержант повторил команду. Им пришлось прокричать еще раз, пока их слова услышали солдаты, съезжавшие с холма; они натянули поводья и вернулись. Те же, кто выхватил ружья, начали стрелять. Они стреляли лежа или с колена, затем двинулись вниз с вершины холма, продолжая стрельбу. Всадники у подножия холма падали с лошадей, а солдаты, спускавшиеся вниз, снова поднимались наверх. Они прыгали с лошадей, хватали ружья и продолжали стрелять. Мексиканцы падали, потом их стало меньше. Затем мишени превратились в удаляющиеся пятна пыли… Майор приказал: “Прекратить огонь”. Некоторые продолжали стрелять. “Прекратить огонь!” — скомандовал сержант. Стрельба прекратилась.
Налетел ветер, ударил в солдат песком. Никто не двинулся с места. Потом кто-то закашлял. Другой, лежавший на животе с ружьем наизготовку, перевернулся на спину. Еще один вытер губы. “Господи”, — сказал кто-то. Все было кончено.
Солдаты смотрели друг на друга, ощупывали себя, чтобы понять, не ранены ли они. Многие осматривали взмыленных лошадей. Майор обернулся к штатскому.
— Они скоро приведут нас на границу? — Человек в штатском не понял. Потом до него дошло. Майор, очевидно, так увлекся погоней, что даже не заметил разделительной полосы, через которую они промчались. Он сдвинул шляпу и вытер вспотевший лоб. Потом показал рукой.
— Майор, по-моему, проскочив ее, мы продвинулись мили на четыре.
Майор не шевельнулся. Он пристально посмотрел на него, потом огляделся и, покачав головой, еле заметно улыбнулся. Человек в штатском улыбнулся в ответ и кивнул.
— Сержант, — сказал майор. — Пошлите посыльного в лагерь. Пусть доложит полковнику, что мы сделали, и попросит указаний.
— Да, сэр.
— Постойте. Давайте уточним. Пусть спросит у полковника, можем ли мы продолжать в том же духе.
— Да, сэр, — сказал сержант, оглядываясь.
Они ждали сорок минут, и, когда посыльный вернулся, выяснилось, что полковник не ответил, предложив действовать на усмотрение майора.
На усмотрение майора надо было продолжать преследование.
Они вскочили на лошадей и двинулись вперед, а мексиканцы, очевидно, не ждали погони, потому что через час кавалеристы снова догнали их, и было еще одно сражение, потом еще, и так продолжалось до утра, пока мексиканцы наконец не перестали оставлять арьергард для защиты и бросили все триста человек против пятидесяти кавалеристов. Американцам оставалось только занять позиции и перегруппироваться.
Оба войска встали в линии друг против друга, на расстоянии четырехсот ярдов. К тому времени наступил полдень. Ни еды, ни воды. Лошади выдохлись, боеприпасы кончались, и, подождав в течение часа нападения мексиканцев, майор скомандовал отступать. Возвращались медленно, лошади валились с ног, солнце жарило вовсю, люди чуть не падали с седел. Но на пути они насчитали тридцать убитых мексиканцев, подобрали несколько повозок с едой и одеждой, два пулемета, десяток ящиков с оружием и боеприпасами. Всю дорогу двигаясь через пустыню, они натыкались на лошадей, как своих, так и мексиканских. Человек в штатском помог забрать их с собой.
Глава 13
Прентис ухватился за ботинки, а его напарник за запястья. Они, согнувшись, подняли тело и потащили к огню. Даже завязав платком рот и нос, он не мог сдержать кашля. Он кивнул напарнику, они подняли тело выше, раскачали и с размаха отпустили его. Тело упало в огонь, на верхний труп в куче. Оранжево-белое пламя охватило волосы, поднялся черный дым. Ему пришлось отвернуться: невыносимым казался звук горящей плоти, пузырящийся и стекающий ручьями жир. Он отошел к трупам, сложенным, как поленница; они были покрыты насекомыми — маленькими жесткими жуками, которые бегали по одежде, выползали из ран и открытых ртов.
И мухи. Он слышал, что в пустыне мух нет, но это явная неправда. Потому что и мух было полно; на полуденной жаре трупы уже начали раздуваться, и даже в перчатках, почти ничего не касаясь, кроме ботинок, он чувствовал тошноту от ощущения плоти под руками.
Прентис посмотрел в направлении города. Низкие квадратные дома, в двух сотнях ярдов. Уже больше часа прошло с того времени, как прибыла последняя повозка с трупами, подобранными на окраинах, поэтому он решил, что вряд ли их будет еще много. И так достаточно. Сорок трупов уже сгорели, еще пятьдесят лежат сваленные в кучу, и, похоже, придется разводить еще один костер. Позади что-то громко шлепнулось, но он не обернулся. Наверное, в городе сейчас наводят порядок, работы хватит на несколько дней. Один квартал сгорел целиком, другой почти наполовину: обгоревшее дерево, искореженный металл, разбитое стекло и посуда и Бог знает что еще. Все это увезут из города, заменят доски и стекла, починят заборы.
Были и неожиданности, порой приятные, а порой позорные. Дежурные по кухне, которые уже встали и готовили завтрак, находились в их саманной кухне во время начала атаки; когда налетчики ворвались в кухню, они стали обороняться всем, что попадалось под руку, — кого облили кипятком, а кого стукнули топором, в одного запустили бейсбольной битой и, наконец схватив охотничьи ружья, выгнали мексиканцев. Напротив, санитарная бригада заперлась в больнице и отказалась выйти или кого-либо впустить. Склад боеприпасов был заперт, и пулеметной команде пришлось взломать двери. Все равно от пулеметов толку было мало. Французские пулеметы завода Бене-Мерсье почти никогда не использовались. В них все время набивался песок, и, поскольку в них было мало подвижных частей, они нуждались в постоянной чистке. А главное, их было трудно заряжать. Сначала нужно было сдвигать вбок использованную ленту, рассчитанную на тридцать патронов, а потом вставлять в узкую прорезь с правой стороны пулемета новую. Это и днем-то нелегко, а ночью и вовсе невозможно. Первый пулемет заело сразу. Остальные три никак не могли привести в готовность. Тем не менее Прентис слышал, как пулеметчик рассказывал, будто они дали двадцать тысяч очередей.
И он верил. Городские магазины превратились в горы развалин, так же как конюшни и казармы. По всем сообщениям, в городе не осталось ни одного неповрежденного здания. Если один пулеметный расчет столько настрелял, то сколько же всего было выстрелов с обеих сторон? Сто тысяч? Или вдвое больше? Он не знал, но в городе работала команда, единственным назначением которой было собирать стреляные гильзы.
Прентис поглядел на горящие трупы, на яркий оранжевый огонь в клубах черного дыма, поднимавшийся к небу, схватился за очередную пару ботинок, его напарник — за запястья. Потянули, подняли. В городе говорили, что надо бы раздеть трупы и забрать обувь, но, в конце концов, никто не захотел такой одежды, и у убитых взяли только деньги, оружие и патроны. Когда ему попадался нож или пистолет в кобуре, реже какой-нибудь кошелек, он брал их и бросал на дорогу. Чаще всего он просто поднимал тело, тащил его и бросал, стараясь ни о чем не думать. Что-то привлекло его внимание, и, взглянув к югу от костра, он увидел, как по дороге из пустыни движется двойная колонна. Это были кавалеристы, которые преследовали налетчиков. Должно быть, они обратили внимание на дым от горящих трупов.
Кавалеристы подъехали ближе; семь часов пути отразились на их внешнем виде: их покрывала пыль с головы до ног, лица казались изможденными, лошади были в мыле. Вот они почувствовали запах паленого мяса, достали платки, прикрыли рты и носы. Некоторые закашлялись. Они достигли дороги и повернули мимо костра к городу, пристально посмотрев на Прентиса и его напарника. Некоторые ругались. Впереди был офицер — майор, и еще сержант, с которым Прентис разговаривал на станции. Но он обратил внимание на человека в штатском. Не только потому, что это был единственный штатский в колонне. Хотя Прентис видел его всего лишь несколько секунд, он не мог не узнать эту широкую грудь, эти плечи и круглое лицо. Тот самый человек, который повалил его ночью, человек, из ружья которого он стрелял. Теперь он казался еще старше, лицо в подтеках от пота и пыли, морщины на лице виднелись отчетливо, как трещины на высушенном солнцем пергаменте. Он никогда не встречал такого внушительного и властного человека. Проезжая мимо, незнакомец взглянул на него — не пристально, не внимательно, а как будто мимоходом, но все-таки не совсем равнодушно. Потом повернулся к куче горящих тел, а затем снова стал смотреть вперед.
Непонятно, узнал он его или нет.
Подходили новые и новые кавалеристы, таращили глаза на костер, закрывали лица руками, сдерживая тошноту, отворачивались.
— Кто это? — спросил он напарника.
— Майор Томпкинс.
— Нет. Вон тот, штатский, рядом с сержантом.
— Штатский? Какой еще штатский? — Напарник вгляделся в колонну, нахмурился, покачал головой и сказал: — Понятия не имею.
Глава 14
Сержант отстоял очередь, налил себе чашку кофе, повернулся и сказал:
— Календар.
Он не понял.
— Его зовут Майлз Календар. А тебе зачем?
Столовая была наполовину пуста, солдаты сидели за столами из неструганых досок, другие стояли в очереди за своими порциями.
— Я должен кое-что ему отдать. Вы не знаете, где его найти?
— В сарае у конюшен, но я бы не стал на твоем месте к нему приставать.
Он подождал, пока сержант получил тарелку говядины с бобами, и сказал:
— Спасибо, — и повернулся.
— Эй, слышал, что я сказал?
Но он уже выходил из столовой.
Глава 15
Прентис постучал, ответа не последовало. Он открыл дверь и в полоске света, которая возникла за ним, увидел старика: тот растянулся на земляном полу, подложив под голову мешок овса. Шляпа надвинута на лицо, руки скрещены на груди. Он лежал неподвижно, видимо, спал.
Он не знал, следует ли разбудить его.
Старик даже не приподнял шляпы с лица. Его голос зазвучал приглушенно:
— В чем дело, парень?
Он не мог вымолвить ни слова.
— Давай-давай, парень. Выкладывай. Ты же видишь, я хочу спать.
— Я пришел сказать вам спасибо.
— Ну хорошо, считай, что ты сказал.
— В смысле за то, что вы сшибли меня ночью.
— Я понял. Нечего мне растолковывать. Дурак я был, что из-за тебя рисковал. Я ведь мог погибнуть. Зря.
Прентис ожидал совсем не этого. Когда он шел благодарить старика, у него было легко и хорошо на душе, но теперь он начал злиться.
— Что ж, все равно спасибо. И за ружье тоже. Я принес его.
— Почистил?
— Да. — Теперь он разозлился еще больше.
— Тогда оставь вон у той рамы. — Старик показал носком ботинка, куда положить ружье.
Он немного помедлил, потом сделал то, что ему сказали, и стал Хдать; оба молчали.
— Что-нибудь еще? — Кажется, нет.
— Тогда закрой за собой дверь.
Прентис почувствовал, что краснеет. Выходя, он резко закрыл Дверь, не то чтобы хлопнул ею, но сделал это достаточно громко.
Глава 16
Старик снял руки с груди, где под жилетом у него был пистолет, поднял шляпу и взглянул на ружье, лежащее у двери. Потом посмотрел на дверь, услышал, как парень уходит, чавкая башмаками по грязи, и провел рукой по лицу.
Глава 17
То, что случилось потом, во многом было реакцией на происшедшее с Мод Райт. Она была одной из немногих американок, живших тогда в Мексике, в ста двадцати милях в югу от границы, на маленьком ранчо недалеко от города Пирсон в Чиуауа. Первого марта, за девять дней до налета на Колумбус, она с грудной дочерью ждала на ранчо своего мужа и его друга, которые должны были вернуться, сделав покупки в Пирсоне. Двенадцать вооруженных всадников въехали в ворота и спешились возле дома. Это был разведывательный отряд главных сил Вильи, который двигался на север, к границе. Поначалу солдаты Вильи притворились, что они люди Каррансы, врага Вильи, и спросили ее, нет ли у нее съестного на продажу. Она ответила, что у нее есть только немного муки и крупы, которой хватит не больше, чем на одну семью, и когда они снова поинтересовались, нельзя ли купить продукты, она ответила, что отдаст их бесплатно.
К тому времени стемнело. Ее муж со своим другом вернулись из Пирсона с двумя нагруженными мулами, которых налетчики отобрали. Затем они связали ее мужа и его друга, обчистили дом, забрав все, что могли, ребенка отдали местной крестьянке, посадили Мод на мула и заявили, что она едет с ними. Она не видела мужа, позвала его, но он не ответил. Она соскочила с мула, бросилась к ребенку, но солдат выхватил саблю и, пригрозив смертью, снова заставил ее сесть на мула. Как говорила Мод позже, она поняла, что попала в ловушку.
Марш к северу продолжался до девятого марта. Разведывательный отряд присоединился к остальному войску Вильи, они отдыхали не больше трех часов в сутки. Она пошла к Вилье и стала умолять отпустить ее. Он отправил ее с жалобами к своим подчиненным — для этого, мол, они и существуют. Они велели ей заткнуться и ехать, пока есть силы. Девять дней провела Мод в пустыне Чиуауа. Воды и пищи не хватало. Глаза ее остекленели, она едва держалась в седле, над головой кружились хищные птицы. Вилья сказал, что образ жизни, который она ведет с ними, ей на пользу: “Щечки у тебя розовые и пухлые”. — “Обгоревшие и опухшие”, — поправила она. И когда они наконец достигли Колумбуса, он сказал, что заставит ее застрелить несколько горожан. Она заявила, что раньше застрелит его, но он только рассмеялся.
Но когда налет не удался, люди, охранявшие Мод, отпустили ее, и она, спотыкаясь, пошла из пустыни в город. Она встретила женщину, раненную около дома, и помогла ей добраться до врача. Она помогала раненым в лагере. Люди поняли, сколько ей довелось вытерпеть, и заставили ее лечь отдохнуть. Она спала целую ночь и целый день, впервые за девять дней нормально поела, узнала, что ее муж убит, но ребенок жив, и сказала, что пойдет пешком в Пирсон.
— Я хочу к ребенку. Всего-то девять дней пути.
История Мод Райт появилась на первых страницах всех крупных газет страны. Затем было еще несколько репортажей, и хотя выяснилось, что она вовсе не пошла в Пирсон, а ее отвезли в Эль-Пасо и доставили ей туда ребенка, детали, которые она припоминала, четко отпечатались у всех в памяти: как Вилья собирался сжечь всех мужчин, женщин и детей в Колумбусе; как он намеревался перебить всех американцев, в чем ему должны были помочь немцы и японцы; как в начале марша они наткнулись на дороге на американца. Десяток людей Вильи сшибли его с ног. Один офицер протащил его через всю роту. Другой выстрелил ему в затылок, и он пробежал сорок футов, прежде чем упасть. Его раздели и поделили одежду. Колонна затоптала его лошадьми, а последний всадник прострелил ему голову.
Такие подробности, вкупе с ее личным опытом, сделали трагедию Колумбуса настоящей и близкой каждому американцу. Одно дело говорить о том, что восемнадцать американцев убиты, восемь ранены. Но это все абстрактные слова. Даже сообщения о разрушениях в Колумбусе — только сухие факты. А нужен был живой, насыщенный подробностями рассказ, который воззвал бы к чувствам американцев. Таковым и оказался рассказ о мучениях Мод Райт. Женщина, у которой разорили дом, убили мужа, отобрали ребенка, не говоря уже о подразумеваемых сексуальных ужасах, которые она претерпела во время марша. Газеты старались не намекать на это, но, избегая упоминаний, они лишь подчеркивали такую возможность. Все это было как будто специально задумано, чтобы подстегнуть гнев американцев. Не хватало только знамени и яблочного пирога, но, учитывая, что границы Америки были нарушены, выплыло и знамя. К одиннадцатому марта американцы приняли решение отправить войска в Мексику.
Официально была поставлена цель отрезать войску Вильи путь на юг, чтобы он не смог напасть на поселение американских мормонов в ста шестидесяти милях от границы, в местности под названием Колония Дублан. Истинная цель была иной: нужен был повод, чтобы пересечь границу, застать врасплох войско Вильи и уничтожить его. Тут возникла некоторая путаница. Сначала был приказ просто захватить Вилью, но, как объяснил начальник штаба армии, это значило воевать с одним человеком, и если у Вильи будет возможность сесть на поезд и уехать в Гватемалу, Юкатан или даже Южную Америку, он станет недоступен для американцев. Главное — лишить его возможности действовать, а это значит, что нужно воевать не столько с самим Вильей, сколько с его людьми.
Для выполнения такого плана было выделено пять тысяч человек, что составляло одну шестую часть личного состава регулярной армии США. В качестве следующего шага один сенатор предложил мобилизовать полмиллиона солдат; большинство в сенате решило, что это слишком много, но военные сочли это количество смехотворным.
“Мы находимся на мексиканской границе уже более четырех лет, — заявил один полковник в Нью-Йорке в публичной речи, напечатанной в “Нью-Йорк таймс”. — В настоящее время здесь две трети регулярной армии США. Иными словами, вдоль границы рассредоточено двадцать две тысячи солдат. Но вы не представляете себе протяженности этой границы. Чтобы проехать на поезде из одного конца в другой, нужно трое суток, и вдоль этой линии расположены двадцать две тысячи человек. А подкрепление, если будет такая необходимость, может составить около девяти тысяч. Если бы это не было так печально, то было бы просто смешно.
До того как разразилась война в Европе, армия США выглядела как муха, на которую смотришь с другой стороны телескопа. Говорю вам, нет ничего более жалкого, чем американская армия, и другие страны знают это еще лучше, чем мы… Пришло время понять, что, когда в 1898 году мы отошли от политики, которую вели целое столетие, и объявили себя великой державой, мы взяли на себя определенные обязательства, и следует понять, что для выполнения этих обязательств необходимо, чтобы каждая нота, посланная нашим президентом, каждое действие, которое президент считает своим долгом предпринять, имели за собой реальную силу.
Как вы думаете, что значит для нас вступить в войну с Англией, Германией, Францией или любой другой сильной державой? Американцы, как вам известно, имеют привычку махать кулаками, едва что-то мешает их торговле. Все мы хорошо знаем, что Англия в настоящее время располагает четырехмиллионной армией, готовой занять свое место в боевых действиях, что Германия имеет от шести до восьми миллионов, Россия — от восьми до десяти миллионов. В плане коммерции мы тоже сейчас конкурируем со страной к западу от нас.
Я полагаю, следует серьезно подумать, что, если мы вступим в боевые действия на Атлантике, мы в то же время получим удар со стороны Тихого океана. С Атлантики могут прийти четыре миллиона и еще три миллиона с Тихого океана, а четыре и три — это уже семь миллионов. Как вы собираетесь действовать, если мы окажемся в таком положении? Наша береговая линия тянется самое малое на двадцать тысяч миль, и она уязвима в каждой точке, за исключением тех, где имеется береговая охрана, но и эта охрана несет вахту только в одну смену.
Мы можем создать регулярную армию из ста сорока тысяч человек, может быть, из двухсот тысяч, но если отвлечься от этих цифр, цена будет слишком дорогой, ведь мы должны выйти на свободный рынок и вербовать людей, потому что как последние идиоты мы живем при системе добровольного набора.
Здравый смысл подсказывает лишь один путь, а именно — обучать нашу молодежь и начать обучение, именно пока они молоды. Необходимо дать боевую подготовку этим мальчикам. Заставить их учиться, если это необходимо”.
Был сформирован первый американский летный дивизион, потом первые американские мотопехотные роты; затем — добровольные ополчения штатов. И на протяжении всех этих приготовлений США пытались достичь согласия с Мексикой, чтобы вступить на ее территорию. Много лет назад между двумя странами существовало соглашение, позволявшее войскам каждой из них пересекать территорию другой страны в погоне за враждебными индейцами. Теперь правительство Каррансы предложило возобновить это соглашение. Мексике будет позволено преследовать своих преступников на территории США, а США, в свою очередь, ловить бандитов в Мексике, “если налет, имевший место в Колумбусе, будет иметь несчастье повториться”. США вроде бы получили разрешение, но только на будущее. Ясно, что Каррансе ни к чему были американские войска в Мексике, но, США были в бешенстве, и об ограничениях никто не думал.
И Колумбус стал расти. Поезд, который приходил трижды в день и на котором приехал Прентис, стал приходить по десять, а то и двадцать раз, привозя людей, лошадей и боеприпасы: полевые пушки, ящики с патронами, винтовки, пулеметы. Возле дороги на краю лагеря стали строить взлетную полосу. Построили и аппарель: две полосы бетона с пространством между ними — первую аппарель американской армии. Появилось двадцать грузовиков, потом пятьдесят, затем сто; пятнадцать мотоциклов и разных легковых машин. Тысяча солдат, потом еще тысяча, и еще… Лагерь стал больше вдвое, затем еще вдвое. Город рос пропорционально лагерю.
Глава 18
— Господа, мы намереваемся, как вы понимаете, неофициально вторгнуться в Мексику.
Они, казалось, не поняли. Хотя и слушали внимательно, но смысл слов не дошел до них. Сержант подождал, пока они положили вилы, скребницы, седла и посмотрели на него. Он продолжал:
— Вот именно — в Мексику. Скорее всего, выйдем послезавтра на рассвете, так что если кому-то нужно написать письма, починить ботинки или пришить пуговицы, займитесь этим сейчас. А заодно помолитесь, потому что, можете мне поверить, там только Бог поможет вам… Бог поможет нам всем.
Если кто-то из вас завербовался сюда, рассчитывая провести время в какой-нибудь уютной восточной стране или ожидая, что мы ввяжемся в европейскую заварушку (сержант определенно имел в виду нескольких новичков), то вам следует знать, что нам предстоит. Вы будете скакать на юг — примерно девяносто четыре квадратных мили Богом проклятой, самой бесплодной и выжженной земли, кучи камней и пыли, какую только Господу случилось создать в недобрый час и которая называется провинцией Чиуауа.
В задней части конюшни, опираясь на перегородку, достающую ему до плеча, с лицом в подтеках пота и пятнах грязи после чистки стойл, Прентис посмотрел через головы мужчин, стоявших впереди него, на сержанта, а потом взглянул на мужчин, если их так можно было назвать, — самых молодых, новых солдат в лагере. Он чувствовал досаду, что его поставили в одну смену с ними. Не то чтобы он сам был не молод или не новичок. Конечно, это так. И не то чтобы ему претила эта работа. Прентис вспомнил, что случилось во время нападения, и подумал, что и они поступили бы точно так же. Более того, повторись все вновь, он и сам повел бы себя, как в первый раз. “Единственный способ избежать этого, — подумал он, — это поставить их рядом с опытными солдатами и дать им почувствовать, что к чему. Так, чтобы им не на кого было оглядываться”.
С этой стороны у конюшни не было стен, только крыша, которая держалась на кольях. Он перевел взгляд с солдат и сержанта, продолжавшего говорить, на другую конюшню и вязанки соломы, потом посмотрел на улицу и увидел приготовления, которые шли в лагере. Уже ходили разговоры о походе в Мексику, но большинство думало, что они отправляются туда, чтобы укрепить границу. Теперь все встало на свои места. Повозки, запряженные мулами, тащат поклажу. Кавалеристы сгоняют лошадей. Другие сматывают веревки коралей. И на какой-то миг среди солнечных лучей и пыли он увидел человека в штатском, который был на голову выше двух солдат-погонщиков, и сразу же подумал, что это Календар.
Потом мимо прошла еще одна цепочка лошадей, человек пропал из виду, а сержант продолжал говорить.
— Вы будете скакать без остановки, пока хватит сил, будете есть, спать, ругаться, не слезая с седла, ваши лошади так осточертеют вам, что, добравшись до места, вы будете готовы поклясться, что они-то и есть дьяволы во плоти. Вы будете молить Бога о дожде, но дождя не будет. Вы будете мечтать о еде, но увидите только бобы и хлеб. И все время, что придется там сражаться с Вильей, мексиканские власти будут преследовать вас, потому что какие-то идиоты в Мехико не поладили с нами, и мы переходим границу без их благословения.
— Сержант, а это надолго?
Сержант пристально смотрел на спросившего, не зная, как отнестись к этому вопросу. Через минуту он наконец решился.
— Майор сказал мне, что, по словам полковника, мы выходим на. шесть недель. Но если вы спросите меня, я отвечу, что поход займет шесть месяцев, а то и год. Поэтому я вас предупреждаю. Вы услышите разговоры, что мы, дескать, придем на место, наведем порядок и сразу вернемся, так что никто и ахнуть не успеет. Но не верьте. Это все равно, что переплыть океан и научить французишек воевать с немцами. Точно такое же вранье. Налетчиков уже и след простыл. Отыскать их будет нелегко. Земля всюду слишком каменистая, а в некоторых местах песчаные бури занесли следы. К тому же мы не можем надеяться, что сельские жители покажут нам дорогу, потому что Вилья слишком долго либо кормил их, либо запугивал. Так что рассчитывайте на худшее, а если дело окажется не так плохо, то тем лучше. Но на это не надейтесь… Только так я могу обнадежить вас.
Прентис посмотрел на него, потом снова скользнул взглядом мимо стойл и вязанок соломы на улицу, и теперь, когда лошади прошли и пыль за ними улеглась, человек в штатском, повернувшись спиной, — а это был, несомненно, он, высокий и внушительный даже на таком расстоянии, — подходил к группе солдат и кивал на ряд бочек, показывая, куда их переставить.
Глава 19
— Ну что, отдал ему то, что хотел?
Он услышал позади себя голос сержанта. Это происходило уже позже, но Прентис все еще был на посту, хотя работу закончил. Все остальные уже ушли, а ему хотелось что-то делать, и, кроме того, тот человек еще работал рядом, а он решил понаблюдать за ним. Прентис еще раз почистил бока лошади, посмотрел туда, где тот человек выстраивал пикет, положил щетку и обернулся.
— Ага, отдал. Несмотря ни на что.
Сержант пожал плечами.
— Я же тебя предупреждал. Он странный тип. Делает свое дело, держится особняком, никого к себе не подпускает. — Он на миг задумался. — Я еще не встречал никого, кто считал бы себя его другом, кроме разве что майора, да и он, я думаю, не считает это настоящей дружбой. Они просто работают вместе с тех пор, как оба служили на Филиппинах.
— На Филиппинах? — Представление о влажном воздухе, дождях и джунглях показалось ему столь неожиданным, что он даже переспросил.
— Ну да. Как я слышал, он участвовал во всех войнах, начиная с гражданской.
— Что-о? — Прентис не поверил своим ушам. — Сколько же ему лет?
— Лет шестьдесят пять, — сказал сержант и снова передернул плечами. — Я как-то подсчитал. Когда ему было тринадцать или четырнадцать, он стал кавалеристом, потом разведчиком во время войны с индейцами. Потом воевал на Кубе, на Филиппинах, как я говорил, а теперь здесь. Тут никто лучше его не знает своего дела. У Нас наступает горячее время, ничего не стоит попасть под пули, так что держись его. Поступай всегда так, как он. Он все делает правильно. — Они стояли и смотрели на него.
— Вообще-то грустно, — сказал сержант.
— Что грустно?
— Ну, ему ж шестьдесят пять, это его последняя война. В армию его больше не возьмут, особенно в германскую заваруху. Не важно, что он еще хоть куда, они не могут рисковать — вдруг он начнет ошибаться. Он профессионал, тянут сколько можно, но скоро ему будет некуда деваться. Вот это и грустно. Через десять лет я сам буду в таком положении.
Прентис взглянул на него, потом снова посмотрел вдаль. Солнце уже почти зашло, окрасив странным красновато-коричневым цветом человека, стоявшего на повозке и выливавшего воду из бочек в углубление за оградой кораля.
Глава 20
Старик смотрел на лошадей. Они пили воду, нагнув головы. Одна лошадь все время пыталась отпихнуть другую, пока та не укусила ее. Старик засмеялся.
Повернувшись, он увидел, что к нему подходит майор; старик свесил ноги с повозки и спрыгнул на землю. Левая нога чуть подогнулась, и он еле устоял. Майор, казалось, ничего не заметил.
— Ну как, совсем плохо, Майлз?
Старик сначала подумал, что он говорит о ноге, но тут же понял, в чем дело. Он вздохнул и покачал головой.
— Хуже некуда. У всех лошадей корабельная лихорадка. Кровавый понос. Их бы нужно недели две откармливать лучшим овсом. А у нас нет ни овса, ни повозок, чтобы его привезти, даже воду возить не на чем. Если там, куда мы отправимся, у нас не будет ничего, кроме алкалиновой воды и пустынной травы, которую лошадь может есть целый год и не прибавлять в весе, можно не беспокоиться о мясе для личного состава, оно перед тобой.
— Конечно, Майлз, — сказал майор, улыбаясь. — Но сумеем ли мы дойти туда и вернуться обратно?
— Нам же приказано, верно? Конечно, сумеем. Теперь улыбались оба. Майор вытащил две сигары.
Глава 21
Стоя в конюшне, Прентис смотрел на них. В лучах заходящего солнца майор дает прикурить Календару, прикуривает сам, вдвоем они идут в столовую, разговаривают, улыбаются, попыхивают сигарами. Он смотрел, пока они не дошли до столовой и не завернули за угол, скрывшись из вида.
Глава 22
Согласно плану, в Мексику должны были выступить три колонны: одна из Эль-Пасо к востоку, другая по центру из Колумбуса, третья — с ранчо, владельцем которого был некий Калберсон, близ западной границы Аризоны. Они должны были составить треугольник и загнать налетчиков в середину, где колонна, выступающая из Колумбуса, могла бы захватить их.
Поход из Эль-Пасо зависел от возможности использования мексиканских железных дорог, но мексиканское правительство не дало на это разрешения, так что восточный марш был отменен, а две оставшиеся колонны двигались по отдельности, к чему вынуждала не столько тактика, сколько создавшаяся ситуация. Обе армии были многочисленны, и казалось, чем объединять, легче заставить действовать их по отдельности, чтобы потом они сошлись под углом.
Сержант ошибся. Они не вышли на рассвете, как он сказал. Лагерь был так велик, что колонна не могла выстроиться почти до полудня. Стоя со своей ротой на дороге возле лагеря, Прентис ждал, пока заведут грузовики и закончат нагружать повозки. Он натягивал поводья и думал о своем коне, что он не лучше и не хуже других. Хотя помесь аравийца с квартероном сочетает в себе лучшие качества обоих — скорость и выносливость; конь был гнедой, с белой полосой на морде, достаточно маленький, чтобы на него было легко взобраться, и все же довольно-таки большой, чтобы нести его и тридцатифунтовую сбрую. Восьмилетка, решил Прентис, судя по тому, что зубы уже немного стерлись. Ему дали этого коня только вчера, и он всего дважды проехался на нем. Но под седлом конь шел хорошо, отзывался на команды, а если он бросался в сторону от машин и. ему требовалась дополнительная узда, то ведь и другие ведут себя также. Хотя правый глаз у коня видел немного лучше, чем левый, Прентис вскоре привыкнет к этому. Если он будет постоянно ухаживать за лошадью и проявлять к ней внимание, то скоро узнает ее характер и повадки во всех подробностях не хуже, чем своих прежних лошадей.
Лошадь вздрагивала, когда заводились машины. Кавалеристы съезжались на дорогу, поднимая пыль, которая садилась на Прентиса. Он смотрел на людей вокруг — все это были опытные солдаты, новичков Прентис не заметил. Он смотрел, как проезжают мимо всадники, как садятся по коням солдаты из роты напротив него. Потом подошел сержант и скомандовал тоже садиться на коней. Вскакивая в седло, держа ногу в стремени, а левой рукой ухватившись за гриву лошади, он увидел, как на дороге формируется колонна по четыре всадника в ряд. Впереди мелькали полковые знамена. Каждая рота подъезжала, по команде останавливалась и ждала своей очереди. Он тоже сейчас поедет. Повозки, грузовики, вьючные мулы, новые и новые всадники…
Он ждал, сквозь облака пыли ища взглядом Календара, но вместо него увидел полковника и майора. Они, разговаривая, выходили из здания, потом отдали друг другу честь. Полковник остался стоять, глядя, как майор вывел на открытую площадку женщину с маленькими детьми: мальчиком и девочкой, а потом стал прощаться с ними. Вокруг были кавалеристы, подходили офицеры. Майор нагнулся, чтобы поцеловать дочурку протянул ей маленький гостинец в яркой обертке, затем оглядел сына, протянул гостинец ему и поднял мальчика на пуки. Потом он повернулся к жене и поцеловал ее в губы. Прентис увидел, как майор что-то говорит ей. Потом услышал голос сержанта: “Марш”. Он вздрогнул, взглянул на сержанта, потом на майора, отпустил поводья, сжал круп лошади коленями и двинулся вперед.
Тут он увидел Календара. Посреди открытой площадки, к которой подъезжали кавалеристы, в облаке пыли старик неподвижно сидел на лошади и смотрел, как майор целует жену. Потом майор отошел от семьи, повернулся и направился к Календару. Мимо Прентиса проскакала цепочка всадников и скрыла старика. Двигаясь вперед, Прентис попытался оглянуться назад, ничего не увидел и снова повернул голову.
Вскоре он остановился позади всадников, прибывших чуть раньше. За его спиной останавливались другие. Затем он услышал приближающийся шум моторов: это подъезжали грузовики. Вскоре вдоль колонны проскакал майор, за ним Календар. Кто-то снова прокричал: “Марш”. Он увидел, как кавалерийские шапки пришли в движение. Опять проскакал Календар. Прентис обернулся, глядя на него, потом снова посмотрел вперед и подстегнул лошадь.
Они пересекли границу около часа дня. Было 15 марта, со времени налета прошло шесть дней. Возникали опасения, что граница будет закрыта, но там не оказалось никого, кроме мужчины, маленького мальчика и собаки. Через час кавалеристы набрали скорость, двигаясь по выжженной солнцем дороге, которая вскоре превратилась в тропу, а потом ее и вовсе нельзя было различить среди камней, песка и кактусов. В жаре, в пыли, посреди движущейся колонны некоторые кавалеристы от скуки затянули песню, сначала нестройно, потом все слаженнее. К ним присоединились и другие. Сержант стал смеяться, и, когда его спросили, что его развеселило, он ответил, что песня.
— Может быть, они и не знают, но это походная песня Вильи.
Ла кукараача! Ла кукараача!
Вторая колонна двинулась с ранчо к западу от границы через двенадцать часов, вскоре после полуночи. Там граница тоже не охранялась, и, если колонна из Колумбуса вышла в полуденную жару, когда воздух был так сух, что солдаты, казалось, и не потели, но все время хотели пить, то западная колонна выступила в ночной холод, такой отчаянный, что вода замерзала в канистрах. Поначалу дорога была ровной и удобной. Потом появились рытвины и ухабы, белая горькая пыль, собравшаяся за девять месяцев засухи, достигала до щиколоток и оседала повсюду. Она жгла глаза людям, забивала носы лошадей. Они завязали лица платками. Им пришлось остановиться и обвязать попонами морды лошадей. Цепочка мулов отстала. Всадники замерзли. Пехоте, которую больше всего донимала пыль, идти было труднее, но она меньше мерзла под тяжестью девятифунтовых винтовок и тяжелых вещевых мешков. Некоторые из тех, кто хорошо знал пустыню, прихватили автомобильные очки, но пыль все время залепляла их, и чем чаще солдаты вытирали ее, тем больше на очках появлялось пятен и подтеков.
Они остановились на рассвете, снова выступили в полдень, и если прежде они мечтали о жаре, то теперь затосковали о холоде. Тридцать миль, пятьдесят, шестьдесят. Ночной привал, и снова в путь. Через двенадцать часов колонны встретились.
Человека, который гнал их вперед с такой скоростью, звали Першинг. Будучи бригадным генералом, он получил прозвище “Черный Джек”, когда прослужил два года в негритянском полку в Монтане, где был единственным белым человеком. Когда произошел налет, он был комендантом Форт-Блисс в Эль-Пасо. Несколько лет назад он разговаривал там с Вильей и даже сфотографировался вместе с ним. Теперь, в пятьдесят пять лет, ему приходилось воевать с ним. Министерству обороны выбор дался непросто. Им нужен был человек, нюхавший порох: Першинг побывал под огнем на Кубе и на Филиппинах. Нужен был человек, знающий толк в партизанской войне: снова помогли Куба и Филиппины. Более того, нужен был человек, который мог повести войска в Мексику и в то же время не спровоцировать войну. Здесь его опыт перетянул чашу весов. Во-первых, как комендант Форт-Блисс, он знал все пограничные проблемы. Во-вторых, его отличительной чертой являлось желание понять противника прежде, чем напасть на него. Поэтому во всех кампаниях, особенно на Филиппинах, он выучился местному языку, обычаям, религии, всегда подходил к противнику с его мерками, а не со своими собственными. Техника эта срабатывала так хорошо, что некоторые племена сразу же сдавались, как только видели такое отношение. Тех же, кто не хотел сдаваться — это тоже было его отличительной чертой, — он уничтожал. С таким необычным сочетанием силы и предупредительности, готовности драться и в то же время желания выслушать он, казалось, был просто создан для мексиканской кампании. К тому же у него не было политических интересов. Хотя его жена была дочерью сенатора, он не использовал влияния родственника для собственной карьеры. И так его повышали в чинах достаточно быстро. Он обошел восемьсот старших офицеров, добиваясь получения генеральского чина, хотя некоторые все равно считали, что ему помогли связи. Сам Рузвельт заявил, что чин Першингу дали исключительно за отличную службу на Филиппинах. Его умение приходить к власти, не гонясь за ней, сделало его идеальной кандидатурой для мексиканской кампании. Возникали опасения, что лидер другого склада начнет привлекать внимание к собственной персоне, испортив отношения с мексиканскими властями. Першинг, напротив, мог выполнить задание и при этом остаться в тени. В этом плане, однако, его начальство слегка ошиблось. Не интересуясь политикой, Першинг оставался благоразумным человеком. Он воспользовался мексиканской кампанией, чтобы подготовить свои войска для войны за океаном. На всякий случай. Так что, когда Америка вступила в Первую мировую войну, а всем давно было ясно, что от этого не уйти, у нее был костяк обученных войск для таких сражений, и Першинг оказался командиром так называемых американских экспедиционных войск против Германии. Но до этого было еще далеко.
Глава 23
Впереди на дороге лежал труп; врач полагал, что человек мертв уже около недели. Может быть, это был американец. После того как над ним поработали солнце и койоты, трудно было что-то определенное сказать. Перед смертью ему завязали глаза и прострелили голову, башмаков, штанов и кошелька не было. Колонна остановилась, чтобы похоронить его. Капеллан произнес несколько молитв, и они двинулись дальше.
Майор послал за Календарем.
— Карта говорит, что впереди какие-то города. Возьми индейцев и сходи на разведку.
Календар отказался.
— Это еще почему?
Старик покачал головой.
— Индейцы? — сказал он. — Я не намерен с ними иметь дело.
— Ее дури, Майлз.
— Плевать. Мы так не договаривались.
— Ну, возьми белых. Мне все равно. Кого хочешь. Только сходи на разведку в те города.
Старик кивнул и повернулся.
Прентис смотрел, как он удаляется.
Потом, сквозь приглушенный стук копыт и лязг грузовиков, он услышал новый звук, похожий на шум какого-то незнакомого мотора. Сначала он был едва слышен, потом стал громче и громче; казалось, он доносится откуда-то сзади. Колонна как раз спустилась с холма, выровнялась у подножия, и, посмотрев назад, Прентис увидел хвост колонны, потом вершину холма и других кавалеристов, которые тоже оглядывались, как и он. Шум стал еще громче. Из-за пыли и жары вершины почти не было видно, можно было с трудом разглядеть там очертания грузовика. Вот он начал увеличиваться. Шум стал еще громче, и грузовик отделился от холма; пыль препятствовала видимости, но скоро стало ясно, что это вовсе не грузовик, а самолет. И он теперь летел. Это был двукрылый, обтянутый полотном “Кэртис”. “Дженни”, как называли его в лагере. Такой хрупкий и неустойчивый, что странно было, как он оторвался от земли. Он полетел прямо на колонну, да так низко, что лошади сильно перепугались. Но все равно кавалеристы приветственно замахали руками и закричали “ура”. Пилот выровнял крылья и тоже помахал в ответ под рев мотора; ясно были видны его очки и кожаный шлем. Затем он исчез так же быстро, как появился, шум мотора затих, самолет превратился в далекое пятно. Секунд через тридцать появился еще один самолет.
Глава 24
Он упал, пролетев около мили.
Календар растянулся на обрыве, надев полевые очки, и всматривался в то место, где, согласно карте, находился поселок, представлявший собой на самом деле только какие-то развалюхи. Он увидел двух кур и осла, но людей не было, и тем более не наблюдались представители федеральной армии. Поднимаясь на ноги, он услышал слева над собой гудение самолета и увидел не один, а сразу два: первый летел с легкостью, второй терял высоту. Сначала он решил, что самолет снижается специально. Но потом услышал, как мотор чихнул и заглох. Самолет под углом шлепнулся за кучей камней. Календар был уже на лошади, когда раздался грохот.
Глава 25
Он присоединился к другим разведчикам, и они направились к обломкам.
— Что это за дьявольщина?
Самолет лежал в лощине, одно колесо повисло на скале, другое зацепилось за кактус, крылья отвалились, фюзеляж каким-то чудом остался цел, хотя был побит и треснул, казалось, в сотне мест.
— Секретное оружие Першинга, — сказал пилот. Он, хромая и ругаясь, выбирался из-под обломков в таком бешенстве, что даже не удивился, увидев разведчиков. — По идее, мы должны летать с донесениями, но, скажу я вам, все, на что мы способны, — это долететь до Вильи, потерять управление и перепугать его людей до смерти, начав валиться им на головы. Господи, да полюбуйтесь на эту хреновину! Запчастей нет, топлива нет. Можете мне не верить, но у меня в этой развалине половина старого мотора от “форда”. — Он пнул ногой фюзеляж, который тут же развалился на части.
Глава 26
Пилот первого самолета узнал, что его напарник потерпел аварию только через пять минут, когда, миновав колонну кавалеристов, он обернулся и увидел, что в небе пусто. Он все же пролетел немного дальше, решив, что, наверное, неправильно определил расстояние и второй самолет просто отстал и старается нагнать его. Он уменьшил скорость и стал ждать, часто оглядываясь, но когда прошло еще пять минут и никто не появился, он снова прибавил скорость.
Обломки было разглядеть не просто, и он чуть не пролетел мимо. Потом пилот увидел лошадей под самой кромкой лощины и, опустившись ниже, разглядел, как лошади натягивают поводья, привязанные к камням, а его напарника окружили люди; потом он обратил внимание на обломки, а пилот махнул ему рукой. Он еще раз пролетел на бреющем полете, но на этот раз достаточно низко, чтобы убедиться, что люди эти — не мексиканцы. Его напарник, по-видимому, остался цел и невредим и делает ему знак лететь дальше. Так или иначе, почва была слишком каменистой, чтобы рисковать и совершать посадку, поэтому он сделал еще один круг, помахал рукой и улетел.
Глава 27
Пилот добрался до Першинга после полудня. Шел третий день экспедиции, и, поскольку колонна из Ко-лумбуса была всего лишь на полпути к месту встречи, он полагал, что Першинг тоже еще далеко. Собственно, он на это рассчитывал. Он и его напарник вылетели раньше, чем планировалось, и изо всех сил старались побыстрее добраться до места, так, чтобы у них был день или два в запасе до того, как начнется основная работа. Колония Дублан, как говорили, это какое-то чудо: деревья, ручьи, возделанные поля. Он рассчитывал, что прилетит туда первым и его будет ждать хороший прием: еда, питье, радостное гостеприимство, спать он будет в прохладе, а дни проводить на скамейке в тени.
И теперь, когда солнце оказалось справа от него, он заметил, что местность стала совершенно иной: скалы, овраги, пески и кактусы сменяются зелеными полями и высокими деревьями, кое-где поблескивает проточная вода. Посреди деревьев он разглядел точки домов — некоторые с плоскими крышами, другие с остроконечными, были даже дома с фронтонами. Одни белые, очевидно из крашеного дерева, как он подумал, а другие желтые, саманные. Он рассмотрел сложенные из камней ограды между полями, хорошо ухоженные посевы, по всей видимости, молодой кукурузы. Он увидел внизу фигурку величиной с булавочную головку — фермера, пахавшего на осле. Чуть дальше речка стала расширяться, там стирали женщины. Он увидел запряженную лошадьми повозку, которая медленно ехала по дороге, потом автомобиль, грузовик, палатки, солдат, пасущихся лошадей и понял, что Першинг опередил его.
Глава 28
Приземляясь, он непрерывно ругался про себя. Его уже ждал лейтенант.
— Першинг хочет вас видеть.
— Ну еще бы. Конечно.
Пилот прошел мимо палаток и повозок в тень нескольких деревьев.
Он никогда не видел этого человека раньше. Высокий и худой, усталый, с седоватыми усами, с впалыми щеками, он сидел на канистре из-под бензина и разговаривал с офицерами.
— Я хочу, чтобы вы полетели на запад, — сказал он летчика, указывая на карту. — Я послал три колонны на юг, на восток и на запад и хочу, чтобы вы были с западной колонной. Вы полетите вперед, на разведку, и будете приносить мне ежедневные донесения.
— Боюсь, что ничего не получится, сэр.
Першинг нахмурился и недоуменно уставился на него.
— Лучше пошлите меня на юг. На западе горы. Я не смогу перелететь через них.
— Вы… то есть как?
— На “Дженни” ничего не выйдет. Я могу подняться на четыре тысячи футов при безветренной погоде или на тысячу футов, когда ветрено. Но в горах всегда ветер, и к тому же эти горы, кажется, выше десяти тысяч футов. Я никогда не перелечу их.
Першинг не сводил с него взгляда.
— Видите ли, сэр, “Дженни” не очень-то хорошая машина. Если бы правительство мне дало что-нибудь вроде “Блерио” или “Мартинса”, которые англичане и французы используют против немцев, тогда все было бы в порядке. А с “Дженни” — нет. Нет, сэр, только не с “Дженни”.
Першинг продолжал смотреть на него.
— Эти вашингтонские… Господи, мы дали миру аэроплан, а авиация у нас хуже, чем у Японии.
Он поджал губы и покачал головой.
Глава 29
У одного грузовика сломалась ось. У другого из радиатора шел пар. Колонне пришлось остановиться. Впереди была деревня, и Календар поскакал туда на разведку. Двое других дозорных, разделившись, отправились осматривать местность с флангов. Издалека, через бинокли, казалось, что там все спокойно, — одни крестьяне, федеральных солдат нет. По сравнению с тем, что они видели раньше, это была даже не деревня, а городок: три сотни домов, а может быть, и больше, широкая дорога посредине. Календар поскакал по ней; копыта лошади цокали по плотному грунту; он оглядывал дома с обеих сторон дороги. Когда он смотрел в бинокль, здесь было оживленное движение, люди ходили по улицам, ослики стояли у домов. На полпути он заметил, что движение уменьшилось, а когда он въехал в поселок, там было почти пусто. У некоторых дверей стояли люди и смотрели на него. Остальные, видимо, прятались внутри. У окон не было стекол, они представляли собой квадратики из дерева, которые раскрывались изнутри. И теперь он увидел, как они захлопываются. Двери тоже закрывались. Впереди в открытых дверях стояла длинноволосая круглолицая девочка и с любопытством смотрела на него; тут из дома протянулась рука, втащила девочку внутрь и захлопнула дверь. Только и слышался приглушенный звук запираемых засовов. Какой-то мужчина плюнул под копыта его лошади, когда он проезжал мимо. Кто-то бросил камень. Он огляделся, но никого не увидел.
Он не мог их винить. В конце концов, за много лет местные жители узнали, что от чужаков надо ждать беды. Сюда могли ворваться либо грабители Вильи, либо федеральные войска и опустошить поселок. Вообще-то Вилья в лучшие времена сам снабжал такие местечки, воровал скотину на богатых ранчо и раздавал мясо крестьянам. Но только в обмен на верность. Не важно, что делали пришельцы — давали или отбирали, крестьяне знали, что рука, которая сейчас дает, вернется и отнимет, а рука, которая отнимает, вернется и снова отнимет. В конце концов, они перестали доверять кому-либо и полагались только на самих себя.
Для него это было не ново. Он видел такое много раз — на западе, на исходе войн с индейцами нейтральные племена одинаково боялись и банд грабителей, и белых. Они хотели одного: чтобы их оставили в покое. То же самое происходило на Кубе и на Филиппинах — всюду, где партизаны жили за счет местных жителей. Как бы они ни были дружелюбны, местным жителям доставалось с обеих сторон, и, в конце концов, они превращались в своеобразного противника. Они могли быть так же опасны, как настоящие противники. Хотя теоретически, даже если хочешь помочь, доверять никому нельзя. Если местное население давало повод к сомнениям, его приходилось уничтожать, не важно, нейтрально оно или нет. Сейчас, не желая будоражить местное население, он скакал, держа одну руку не на пистолете, а близ спрятанной под жилетом кобуры. Он никак не мог прикрыть себя со всех сторон, поэтому он послал еще троих дозорных, чтобы они следовали за первыми двумя и за ним, в пятидесяти ярдах позади, с единственной целью — следить, чтобы не выстрелили в спину. На улице по-прежнему не было людей, домов становилось больше, хижины сменились амбарами и квадратными домами с плоскими крышами из желтой глины; в глине виднелись камешки, торчали опорные балки. Он оглядел боковые переулки; кое-где попадались ослики и люди, которые тут же прятались. Взглянув вперед, он увидел главную площадь поселка с колодцем, выложенным кирпичом в центре; у колодца сидел старик в сандалиях на веревочной подошве. “Если и будут неприятности, — подумал Календар, — то именно здесь”.
Приблизившись, он поздоровался; крестьянин кивнул, не глядя на него. Он спешился и повел лошадь к колодцу так, чтобы она оказалась между ним и крестьянином. Календар увидел деревянное ведро и испугался, что в нем может быть вода. Он не думал, что местное население отравит собственный колодец, но крестьяне вполне могли отравить воду в ведре, поэтому, соблюдая меры предосторожности, ему придется его опорожнить. Однако вода здесь драгоценна, и если ведро не отравлено, он только оскорбит людей, выливая воду; поэтому он обрадовался, увидев, что оно пусто. Календар опустил ведро на веревке на глубину, как ему показалось в темноте колодца, около двадцати футов, вытянул его, выплеснув воду в ближайшую яму, и ослабил поводья лошади, чтобы она могла пить. Убедившись, что вода хорошая, он порылся в переметной суме, достал кружку, окунул в ведро, выпил остаток воды и поблагодарил старика за гостеприимство.
Старик снова кивнул. Он по-прежнему не смотрел на Календара.
Потом, взглянув на человека, прикрывавшего его, Календар поднял руку и махнул ему, и тот поскакал к нему через площадь. Городок был больше, чем ему поначалу показалось, — не три сотни домов, а все шесть, но на этой стороне площади их было меньше, чем на другой. Все равно он оставался начеку, пока не увидел, что напарник поскакал дальше по дороге и присоединился к остальным дозорным, которые объехали город кругом и ждали с другой стороны.
Теперь он был уверен: пока он тут, с колодцем ничего не случится, дозорные вернутся в колонну и скажут майору, что можно послать отряд за водой. Он снял шляпу, пробормотал что-то о жаре и, встав так, чтобы лошадь прикрывала его сбоку, принялся ждать.
Глава 30
Колонна разбила лагерь в ста ярдах от города. Приказания были ясны: не вступать в контакт с местными жителями без необходимости. В данном случае необходимость была: вода. Предполагалось, что грузовики будут возвращаться и привозить воду по мере необходимости, но грузовики прежде никогда не использовались для этого, и никто не подумал об ущербе, который нанесет дорога: севшие аккумуляторы, перегревшиеся радиаторы, лопнувшие шины, погнутые подвески, разорванные маслопроводы. Иногда масло выливалось, едва его успевали залить. Им необходима была вода в первую очередь для грузовиков и лошадей — люди могли и обойтись, в крайнем случае, пить меньше, и хотя еще были запасы на ближайшие дни, они не хотели рисковать. Кавалеристы вычерпали столько воды, сколько смогли достать из колодца, оставив немного местным жителям, а затем дали мэру вексель. Это вообще-то было бесполезно, так как его должны были оплатить по ту сторону границы, а он скорее всего никогда в жизни не бывал так далеко от своего селения. Но это было удобнее, чем везти ему деньги, и вообще, кому нужны деньги в деревне, где все основано на натуральном обмене.
Теперь, незадолго до заката, они поставили в круг повозки и грузовики, патруль охранял их снаружи. Лошадей распрягли, кавалеристы сняли уздечки и седла, привели лошадей в порядок. Прентис подождал, пока солнце почти село, принес канистру из-под бензина с отпиленным верхом, наполнил ее водой.
— Пока хватит. А то заболеешь.
Потом он подлил еще. Затем повесил на шею лошади мешок с овсом и стал смотреть, как она ест. Поход готовился впопыхах, и Прентис не отходил от лошади: вдруг в овсе окажутся камешки, и лошадь откажется есть. Если так, ему придется высыпать его на землю и принести новый, причем так, чтобы лошадь это видела. За камешками надо внимательно следить, чтобы лошадь не отказывалась есть. Но овес оказался хорошим. Когда лошадь наелась, Прентис еще раз почистил ее и, довольный, что сделал все, как надо, занялся собой.
В отличие от последующих походов, когда ставились специальные палатки-столовые и дежурные роты готовили обед на всех, сейчас солдатам приходилось стряпать себе самим. В основном питались пайками, выданными в первый день похода, — это были бобы и сушеное мясо, галеты, бекон, кофе. Пайки носили с собой и пополняли из грузовиков по пути, а в результате вещевые мешки оказывались переполнены. О разнообразии еды никто не думал, главное, чтобы она занимала поменьше места. К тому же пища не портилась, ее хватало надолго, правда, вкусом еда не отличалась.
Колени у Прентиса были натерты до красноты, поясница и бедра болели, потому что он не ездил верхом несколько месяцев. Он наклонился, согнув ноющие ноги, и стал рыться в переметной суме. Сунул в рот галету и стал сосать ее, доставая сахар, кофе и говядину; потом на подгибающихся ногах двинулся к сержанту и кучке солдат.
Они сидели на корточках, изо всех сил стараясь развести костер. В наступающей темноте он видел, как вспыхивали огоньки. “Интересно, — подумал он, — что они нашли в качестве топлива?” Подойдя ближе, Прентис увидел иссушенные солнцем ветки мескита, сложенные в кучку, и ямку, в которой сержант зажег еще одну спичку. Она вспыхнула и погасла. Сержант чиркнул еще одной, потом еще. Куски мескита медленно загорелись, края свернулись, обуглились, яркое пламя вспыхнуло, осветило землю у их ног. Сержант добавил побольше веток. Они тоже занялись, а сержант подбрасывал и подбрасывал ветки; наконец горел целый куст.
Но толку было мало. Во-первых, мескит быстро сгорает, а у них было всего два куста — это все, что они всем лагерем нашли поблизости. С темнотой наступил холод, огонь давал немного тепла, но для стряпни этого было недостаточно; они сгрудились вокруг костра и стали греть руки. Через десять минут кусты сгорели и огонь погас.
Он вернулся к лошадям, сел около своего седла, передвинул пистолет так, чтобы кобура лежала на правом бедре, отстегнул от пояса флягу и, поставив кружку на землю, налил в нее воды. Затем он всыпал туда ложку сахара из пакета, размешал в воде, затем откусил кусок говядины, прожевал, проглотил его, отхлебнул глоток из кружки.
У воды был легкий металлический привкус. Сахара почти не чувствовалось, и это означало, что у Прентиса в нем потребность. Когда-то он целыми днями сосал каменную соль. Как только начинал ощущаться вкус соли, Прентис знал, что ему достаточно. Теперь он потягивал подслащенную воду, жевал говядину и оглядывал лагерь.
Вокруг стояли солдаты, завернутые в одеяла, и дрожали. Некоторые пытались вбить колышки для палаток, но земля была слишком твердой, и они бросили это занятие. Другие лежали среди седел, подсовывали под себя камни, а вещевые мешки под головы. Несколько человек еще сидели вокруг угасающего костра, грызя сухари или куски мяса. “Господи”, — услышал он справа от себя, и это был самый громкий звук вокруг — солдаты не шумели, как в начале марша, они слишком устали, чтобы разговаривать.
Прентис продолжал задумчиво прихлебывать подслащенную воду — теперь он почувствовал слабый вкус сахара. Неподалеку заржали две лошади, он проглотил еще немного мяса и сухарь, наконец решился и встал. Напротив смутно различались темные очертания грузовиков, составлявшие часть границы лагеря. Прентис услышал лязг поднимаемого капота. Потом кто-то зажег фонарь, и он увидел трех водителей, которые разглядывали мотор; один из них указывал на что-то рукой. Чуть дальше при свете другого фонаря еще двое водителей отвинчивали колесо и заглядывали под кузов. Так он оглядел весь лагерь — сначала справа, пока его взгляд не наткнулся на лошадей, потом слева. Но он не увидел того, кого хотел. На небе высыпали звезды, но луна еще не взошла, и, несмотря на фонари и затухающие костры, было слишком темно, чтобы видеть детали. “Лучше всего, — подумал он, — обойти вокруг лагеря, а если понадобится — пересечь его”.
Но это ему не понадобилось. Двинувшись влево, в сорока ярдах от места, где кончалась вереница повозок и стояли грузовики, Прентис увидел его: он сидел, прислонившись к колесу повозки, вытянув ноги, опершись рукой на седло, и свертывал самокрутку. Рядом мерцал огонек костра, при котором было видно, как движутся его руки; но Прентис подумал, что нашел бы старика и в темноте. Он уже давно думал о нем, не с того момента, как старик спас ему жизнь, а после слов сержанта. Теперь он стоял в темноте и ждал, собираясь с духом, глядя, как большие руки ловко скручивают самокрутку и подносят ее к губам. Прентис стоял и смотрел, как старик облизнул край самокрутки, заклеил ее, повертел во рту, а потом посмотрел в темноту, прямо на него.
— Черт, только не говори мне, что опять пришел благодарить меня.
Прентис хотел повернуться и уйти. Он ожидал, что старик станет говорить с ним так же, как тогда, в сарае, и, собственно, готовился к такому разговору. Но Прентис думал, что подошел незаметно, а старик, оказывается, все это время знал о его присутствии. И снова Прентис почувствовал себя глупо, но сдержался и шагнул вперед.
— Нет. Я пришел вас кое о чем попросить.
— Попросить о чем?
Прентис запнулся, не зная, стоит ли продолжать.
— Научите меня.
— Чему тебя научить?
— Всему этому.
— Не понимаю.
Старик казался равнодушным. Он отвернулся и прикурил. В темноте вспыхнул яркий огонек, при свете которого были видны глубокие морщины на его выдубленной коже. Редеющие волосы, запавшие щеки. Он выглядел лет на десять старше, чем обычно.
— Прекрасно понимаете, но я все равно скажу. Когда я записался в армию и проходил подготовку, меня учили обращаться с гранатами, ружьями и пулеметами, но я и так это умел, а главное, хорошо разбирался в лошадях. Тогда меня усадили читать книги и сказали, что, когда я попаду на постоянную службу, опыт будет лучшим учителем.
— Что ж, они правы.
— Это все хорошо, когда только сидишь и смотришь, но ведь Колумбус был на самом деле. В следующий раз, когда что-то подобное случится — а такое случится обязательно, — не могу же я рассчитывать, что кто-нибудь вроде вас опять спасет мне жизнь.
Старик кивнул, затягиваясь самокруткой. Ее кончик светился в темноте.
— Ты же знал, что здесь опасно. Если тебе это не нравится, какого черта ты пошел в армию?
— Может быть, по той же причине, что и вы.
— Не думаю. — Прентис сделал ошибку и сразу же пожалел об этом; старик наклонился вперед, враждебно глядя на него. — Не наглей, парень.
Он покачал головой.
— Вы правы. Извините.
— Еще бы, черт возьми. Я не потерплю, чтобы двадцатилетние юнцы ходили и воображали, будто все про меня знают. Потому что ни черта ты, парень, не знаешь. Ни черта. Ты меня слушаешь? Хоть это ты понимаешь?
— Да, сэр, понимаю. Поэтому я здесь.
Он надеялся, что обращение “сэр” поможет, и действительно старик, казалось, смягчился, погасил самокрутку и задумался.
— И, собственно, с какой стати?
— Что с какой стати?
— Помогать тебе. Учить. Если этому вообще можно научить.
— Ни с какой, наверное.
— Вот именно.
Вот и все. Ничего ему не помогло. Старик повернулся и стал скручивать новую самокрутку, явно ожидая, чтобы он ушел. Прентис и хотел было уйти, но передумал.
— Разве что по одной причине. Вам шестьдесят пять лет. Вы побывали на всех войнах со времен гражданской, а сейчас, в эту минуту, немецкие подводные лодки плывут через Атлантику.
— И что это значит?
— Все рано или поздно кончается. Вряд ли кто-нибудь не понимает, почему мы сегодня здесь. Вилья — только предлог. Все это генеральная репетиция нашего похода за океан, а когда он начнется, жизнь, которую ведете вы, будет закончена, все, что вы знаете, окажется бесполезным. У вас впереди еще десять, ну пятнадцать лет, потом вас не станет, и все, что вы знаете, умрет вместе с вами. Я предлагаю вам возможность передать ваши знания.
Старик задвигался, открыл было рот, но Прентис не дал ему вставить ни слова.
— Я понимаю. Когда это закончится, мне они тоже не пригодятся, так что этим вас не проймешь. Но еще вот какое дело. Как с фермой моего отца. Точнее, у него была ферма, пока город не надвинулся и не проглотил деревню. Отец получил квартиру, а я записался в армию. Все меняется, а я — глупая деревенщина — в душе хочу сохранить старые привычки.
— Теперь все?
— Да, — кивнув, сказал Прентис.
— Ну ладно, теперь я тебе кое-что скажу. И слушай внимательно, потому что кроме этого я тебя ничему учить не собирать. Ты не первый. Их было много, бесконечная цепь этаких умненьких, бойких мальчиков. И в индейские войны, и на Кубе. Всюду. До сих пор. И все они были похожи на тебя, и все говорили как ты. Но все думали только об одном: как остаться в живых. И я говорил им “нет”, так же, как тебе. Потому что если вы хотите остаться в живых, то и я тоже хочу, а как только ты с кем-то связываешься, ты начинаешь заботиться о нем так же, как о себе. Тут-то тебя и убивают… Поэтому я не имею дела с индейцами: я воевал с ними когда-то, и до сих пор мне не по себе, если я знаю, что они за спиной. Поэтому, как говорят, я ни с кем не дружу. И это очень хорошо: мне не по себе, если у меня есть друг, и я знаю, что он впереди. Это единственное правило. Заботься о себе и не позволяй, чтобы кто-то или что-то отвлекало тебя. Помни это, и все будет в порядке. А теперь я устал. Через несколько часов мне становиться в караул. Я хочу поспать.
Последние слова он произнес без паузы, как будто не сменил темы разговора. Старик встал, взял одеяло, лежавшее возле седла, и закутался в него. Потом он еще раз взглянул на Прентиса и лег около колеса повозки. Прентис подождал немного, но глаза старика были закрыты; он медленно повернулся и зашагал прочь.
Он шел к своему седлу и сбруе мимо солдат, по-прежнему тихих и молчаливых. Теперь холод стал пронизывающим. Он, как и все остальные, завернулся в одеяло, посмотрел еще раз на старика и огляделся: лошади стояли спокойно, часовые обходили границы лагеря. Он снова взглянул на старика, потом на последний догорающий костер, удивился, как это он горит так долго; но костер затухал, огонь становился все меньше и ниже. Последняя вспышка, потом мерцание, и он погас.
Глава 31
На рассвете стало еще холоднее. В канистрах был лед, черпаки примерзли, солдаты ковыряли лед ножами, потом терли ладони, чтобы согреться. Старик увидел, что майор еще спит, закутавшись в одеяло, около грузовиков с овсом. Он встал на колени и положил ему руку на плечо. Майор вздрогнул и, нахмурившись, вопросительно уставился на Календара.
— Лучше посмотри.
Майор ни о чем не спросил. Старик продолжал смотреть на него. Потом он жестом пригласил его следовать за собой, майор вылез из-под одеяла и посмотрел туда, куда указывал старик, — мимо грузовиков с овсом, в пустыню. Там была большая колонна всадников, но она находилась слишком далеко, чтобы разглядеть их форму или знамена, но майор и так знал, что это мексиканские федеральные войска.
Старик кивнул, покусывая губу.
— Они, должно быть, разбили лагерь поблизости. Но это еще не все. Посмотри-ка туда.
Он указал майору на другой конец лагеря, мимо солдат, которые бросили свои дела и теперь стояли, размахивали руками и разговаривали, видно, они тоже обсуждали, в чем дело. Они подошли к повозкам на другом конце лагеря и взглянули на Деревню. У околицы собралась толпа крестьян с палками и дубинами, смотревшая в направлении лагеря.
— Наверное, они подтягивались ночью. Уверен в этом, — сказал старик. — Это я виноват. Нужно было остаться там и проследить за ними.
— Ничего. Давайте уходить отсюда. Лейтенант, стройте колонну.
Глава 32
За пятнадцать минут они управились с тем, на что обычно уходил час, но не позаботились о лошадях: что ж, те, которых еще не покормили, подождут; солдаты только оседлали их, затем собрали снаряжение, завели грузовики и впрягли лошадей в повозки.
Старик затянул подпругу на своей лошади и смотрел, как строится колонна; грузовики отъезжали друг от друга, чтобы между ними был проход, солдаты садились на лошадей и скакали прочь. Скоро и повозки стронутся с места, двинувшись цепочкой, а за ними грузовики и остальные всадники. Он смотрел. Как только колонна двинулась с места, навстречу ей направились крестьяне. Они держали наготове свои дубины и палки. Теперь, когда они оказались ближе друг к другу, он увидел среди них яркие мундиры — это федералисты давали им указания. “Должно быть, — думал он, — федеральные войска пришли поздно ночью, подняли их и сказали, что им делать, а может быть, даже заставили”. Среди нападающих были и дети и женщины. Оно и понятно. Если кавалеристы захотят избежать столкновения с федералистами, то тем более им не надо связываться с крестьянами. Одно дело — погибшие в бою солдаты, другое — убитое гражданское население, и федералисты рассчитывали на это, используя крестьян, чтобы заставить колонну кавалеристов прекратить привал и убраться побыстрее.
Глава 33
Прентис сел на лошадь и двинулся вперед вместе со своей ротой; вдруг он почувствовал, что его что-то ударило. Он дотронулся до плеча, увидев, как справа от него пролетел камень. Оглянувшись, он понял, что крестьяне наклоняются, хватают камни и бросают в них. Колонна ускорила движение. Впереди ждали федеральные войска. Колонна свернула налево, чтобы обойти их, а федералисты разделились, и часть их поскакала влево, чтобы окружить кавалеристов с фланга. Обернувшись, Прентис обратил внимание, что крестьяне остановились, а колонна целиком покинула лагерь и медленно движется вперед. Он посмотрел перед собой и увидел, как колонна следует через проход, оставленный для нее федералистами, которые стояли в сотне ярдов с каждой стороны, а когда часть колонны прошла, они двинулись вместе с ней, справа и слева сопровождая ее. Их высокий, худой командир приглядывал за ними с правой стороны. Должно быть, был приказ майора: Прентис увидел, как голова колонны сменила ритм движения, кавалеристы поскакали быстрее, передние группы солдат отрывались от задних, а те тут же заполняли образовавшийся промежуток, и вскоре вся колонна увеличила скорость. Он тоже поскакал быстрее, другие устремились за ним. Федералисты тоже прибавили шагу. Он не понимал, что происходит: то ли федералисты собираются напасть на них, то ли просто пугают. Так или иначе, это подействовало. Они заставили колонну обороняться, и что бы ни мучилось после этого, инициатива была в их руках.
Глава 34
Мимо колонны, поторапливая всадников, проскакал Кален-дар; рысь сменилась аллюром. Вокруг лошадей клубилась пыль, видимость стала плохой, но на какой-то миг Прентис разглядел впереди долину между двумя пологими холмами, к которой они направлялись. Солдаты федеральной армии по-прежнему сопровождали их с обеих сторон. Он так и не узнал, кто первым выстрелил: американские или федеральные войска, и был ли это сигнальный выстрел или прицельный. Он даже не был уверен, что услышал его, потом прозвучал еще один, и еще… И внезапно началась открытая перестрелка. Всадник впереди него падал с лошади… Выбора не было. Потом он сам удивлялся, что даже не стал раздумывать. Он просто выхватил пистолет, прицелился в мексиканцев слева от него и выстрелил. Пыль и расстояние не дали ему увидеть, попал ли он, но он выстрелил еще и еще раз и пришпорил лошадь, чтобы не отстать от колонны, приближающейся к долине.
Глава 35
Они скакали галопом, колонна теряла порядок, вместо четырех всадников в ряд, стреляя, торопясь, скакали восемь, а то и десять. Федеральные войска поджимали с обоих флангов. Даже при желании они не имели другого выбора. Дорога была такой узкой, что им пришлось тесниться. Наконец солдаты, скакавшие впереди, добрались до долины. Прентис увидел, как всадники останавливаются, спешиваются и целятся, встав на колено. Они стреляли мимо колонны в федералистов. Прентис миновал их, направляясь к долине, поднимая пыль и изо всех сил стараясь удержать лошадь.
Глава 36
Они сгрудились, толкая друг друга, на узком пространстве между холмами. Он слышал позади крики, выстрелы. Пыль сгустилась. Он пришпорил лошадь и внезапно вырвался на открытое пространство; на полмили вокруг него простиралось пыльное поле, окруженное со всех сторон покатыми склонами; колонна рассредоточилась, позади послышались выстрелы. Впереди, слева, он увидел, как старик упал с лошади.
Глава 37
Что-то дернуло его. Он почувствовал, что рукав у него разорван, плечо в крови, и, не успев ничего сообразить, упал, стукнулся о землю с такой силой, что не почувствовал удара. Затем Календар перекатился несколько раз и замер, лежа на спине; над ним раскинулось небо, он жмурился и ощущал, как приходит боль. Он потерял счет времени. Календар попытался собраться с мыслями, сесть, встать, но снова упал, выругался; наконец ему это удалось. Старик огляделся. Лошади не было, колонна проскакала мимо. Он поискал свое ружье, но не нашел, выхватил револьвер из кобуры на груди, принялся стрелять в мексиканцев и, узнав парнишку, которому помог, снова выстрелил и побежал.
Календар споткнулся и упал на раненое плечо, скривился, попытался встать. Склоны слишком далеко. Ничего не получится.
Вдалеке он увидел, как один всадник резко повернул и поскакал назад. Он не мог понять, что этот человек задумал.
Потом он увидел: это был тот самый парнишка.
И понял: парнишка возвращается за ним.
Старик устроился поудобнее. Потом выстрелил, чтобы у парнишки было хоть какое-то прикрытие; обернувшись, он заметил, что тот приближается.
Парнишка пригнулся в седле и стрелял через голову лошади, Спускаясь среди камней; лошадь даже не сбилась с шага. Старик поневоле восхитился легкостью, с которой парень управлялся с лошадью, снова стал стрелять, чтобы прикрыть его, подождал, попытался подняться, но тот проскакал мимо, почему — он сразу не понял, но потом увидел, что парень натянул поводья, поверНУЛ лошадь и снова скачет к нему; тут до него дошло. Прентис отлично знал лошадей и понимал, насколько труднее будет лошади поворачивать с двумя седоками; чем больше они проскачут вдвоем, тем больше времени потеряют. Теперь парень был совсем близко, он остановился, чтобы помочь старику подняться, и тут же погнал лошадь вперед.
Они неуклюжим галопом скакали по равнине. Впереди рассредоточенная колонна взбиралась на холмы. Позади осталось несколько кавалеристов, а за ними, совсем близко, скакали мексиканцы. Ружейные выстрелы эхом отдавались по равнине.
Глава 38
Впереди справа старик заметил свою лошадь; подтолкнув Прентиса, он сказал ему об этом. Она бежала среди всадников. Старик снова сказал парню о лошади, и тот, осторожно натягивая поводья, подскакал к ней поближе, а затем приблизился почти вплотную; теперь он мог схватить ее за поводья и заставить бежать медленнее. Старик подождал, пока лошадь почти остановилась, соскользнул с седла, ухватился одной рукой за поводья и луку седла, а лошадь рванулась вперед, едва не потащив его за собой, пока он нащупывал стремена и взбирался на нее. Левая рука у старика отчаянно болела. Он пришпорил лошадь и понесся вперед, оставив мексиканцев позади. Казалось, они стреляют прямо ему в спину. Он увидел, что майор впереди отдает команды, грузовики и повозки уже были выстроены в линию. За ними стояли солдаты и стреляли. Теперь они стреляли и со склонов, и с вершины холма; всадники спешились, стреляли кто как: лежа, стоя, с колена. Он проскакал мимо них, въехал на холм, спешился и пошел рядом с лошадью.
Глава 39
Парнишка прискакал раньше. Он уже вовсю стрелял, взводя курок, целился, опять стрелял. Он увидел, как старик, спотыкаясь, брел к вершине, все еще сжимая поводья. Наконец он, задыхаясь, упал; его плечо было покрыто кровью и пылью. Прентис поборол искушение подбежать к нему и выстрелил в направлении долины. Мексиканец, в которого он целился, упал, но Прентис не мог точно сказать, чья пуля сразила его. Когда он снова обернулся, старик лежал на том же месте.
Он снова выстрелил, характер схватки изменился, мексиканцы отступали, во всяком случае, ему так показалось. Они отошли к центру поля и перегруппировывались; теперь он понял, что они делают: готовятся к верховой атаке. Этому его когда-то учили. Они построились линией с высоким худым командиром посредине и медленно двинулись вперед; тут кто-то скомандовал прекратить огонь.
Это был майор. Он еще раз дал команду, ее же повторили лейтенант и сержант. Солдаты остановились, некоторые еще несколько раз выстрелили, но большинство опустили ружья и стали смотреть вдаль, на равнину, в то время как цепь всадников медленно надвигалась оттуда.
Прентис обернулся: старик сел, достал носовой платок, перевязал им плечо как раз над местом, откуда текла кровь, взял один конец в зубы и затянул узел. Потом он встал и посмотрел на медленно приближающуюся колонну всадников. Кривясь, он потрогал свое плечо, повернулся, схватился за ружье.
— Майлз! — произнес майор.
— Какой-то гад мне за это заплатит!
— Они слишком далеко!
Старик не слушал. Он осмотрел ружье. Такого длинного ствола Прентис никогда не видел; старик зарядил ружье, потом отвязал от седла сумки и поставил их на попа. Все смотрели на него.
Он лег, установил ствол на сумках.
Всадники подошли немного ближе, из-за слепящего солнца и пыли было трудно понять, на каком они расстоянии, — по меньшей мере, до них было ярдов двести и люди казались крошечными игрушечными фигурками.
Старик прищурился, целясь, вытер глаза, снова прищурился. Он пошарил в переметной суме, достал пару очков в стальной оправе, нацепил их и снова прицелился. Прентис затаил дыхание.
Когда стрелял старик, ему пришлось вытянуть вперед раненую руку. Он выругался, покачал головой, потом положил палец на курок, спустил, и раздался выстрел, громкий, как пушечный, отдавшийся эхом.
Секунда, не больше — и вот невидимая рука смахнула игрушку: высокий худой командир медленно сполз с лошади. Наверное, из-за расстояния казалось, что он падал очень долго.
Солдаты прокричали “ура”.
Колонна вдалеке остановилась, солдаты переводили взгляды с убитого командира на вершину.
— Достаточно, — сказал старик. — Мы выиграли время, и раз уж мы влезли сюда, им придется бросить это дело. Он поднялся на колени, потом встал на ноги.
— Судя по виду их теперешнего командира, того, что там разглагольствует, он не хочет брать на себя ответственность.
Старик оказался прав. Один из всадников внизу, казалось, очень много говорит, отчаянно жестикулируя; кто-то слез с коня и осматривал упавшего. С флангов подъезжали новые всадники. Колонна теряла порядок.
— Твоя рука? — спросил майор.
— Не сломана.
— И то хорошо.
— Ну да.
И Прентис невольно улыбнулся. Надо было видеть старика с очками на носу и окровавленной рукой, покрытого пылью с головы до ног. Он держал ружье, забыв о раненой руке, и наблюдал, как всадники на равнине разбиваются на группы. Одни крутятся вокруг упавшего командира, другие скачут на поиски убитых и раненых. В ушах у него до сих пор отдавались выстрелы. Он посмотрел на свои руки — они дрожали.
Прентис невольно улыбнулся. Сколько всего случилось, а он ни разу и не подумал о себе.
Сделал все, как надо.
Глава 40
Они добрались до лагеря через два дня, перед самым закатом. Люди из колонны Першинга, которые ожидали их, не верили своим глазам. Раненых несли на носилках, раненые сидели на повозках и в грузовиках. У одних солдат были перевязаны головы, у других ноги забрызганы кровью, и они с трудом двигались вперед, кто-то шел, держась за животы, — длинная, медленная процессия боли и изнеможения. Одна лошадь попросту свалилась: у нее подогнулись передние ноги и она упала вперед, всадник сполз с седла и рухнул в грязь. Остальные потрясение смотрели на поселок и деревья. Зелень, тень, прохлада — в тот миг им казалось, что ничего прекраснее они никогда в жизни не видели; лошади спотыкались, сбруя звенела, моторы тарахтели, а солдаты продолжали молча смотреть вперед.
Потом они дошли до деревьев, все новые люди подходили и подходили к ним, смотрели, как они с трудом пробрели мимо палаток и повозок другой колонны в ту часть лагеря, которая предназначалась для них. Вдалеке виднелись дома города. Они пересекли деревянный мост, под которым текла прохладная глубокая река; солдаты обрадовались, увидев воду, и сержанту пришлось остановить двоих из них, слезших с лошадей и направившихся к воде.
— Эй! — сказал он. Это скорее прозвучало как рычание. Сержант показал на лошадей, и солдаты сразу поняли его. Дело было не в том, что они нарушили строй, а в том, что они подумали о себе раньше, чем о своих лошадях. Слабо кивнув, солдаты вернулись, схватили лошадей под уздцы и двинулись туда, где колонна остановилась и начала рассредоточиваться.
Глава 41
Кто-то выстроил частокол.
Прентис распряг лошадь, отцепил уздечку, привязал веревку к частоколу. Он похлопывал лошадь, разговаривал с ней, стирал с нее пот. Среди прохладных, тенистых деревьев все звуки казались приглушенными мягкой землей. После камней и песка пустыни земля здесь казалась пружинистой, по ней было легко ходить, лошадь переступала ногами и фыркала; копыта издавали глухой звук. Он почистил лошадь, прервавшись, чтобы отлепить толстую шерстяную рубашку от вспотевшей груди, поглядел на реку, на заходящее солнце, еще немного почистил лошадь и, мечтая о еде и отдыхе, подождал, пока не убедился, что лошадь достаточно остыла, так что можно ее накормить, напоить и наконец заняться собой.
У реки, хотя это было довольно далеко, он увидел старика. Тот, вероятно, уже привел в порядок свою лошадь и медленно шел к воде, нагнув голову и хромая; левая рука его была перевязана. Он нагнулся, наклонился к воде. И вдруг исчез из виду.
Глава 42
Календар даже не снял ботинок, сунув ноги в воду; штаны и носки тут же намокли. Ноги у него сначала онемели, но потом вода нагрелась до температуры тела, хотя река все равно казалась прохладной и успокаивающей. Он вышел из воды, лег на поросший травой склон и стал смотреть на тускнеющее небо.
Тут Календар услышал, что кто-то идет по берегу, и остановился рядом с ним. Он даже не поднял головы, чтобы посмотреть, кто это, а только по привычке ощупал кобуру под жилетом, по-прежнему глядя в небо. Старик надеялся, что, кто бы это ни был, теперь он уйдет. Но послышался шорох травы: кто-то устроился рядом с ним. Он не поднял головы.
— Как бы то ни было, — зазвучал голос майора, — Першинг собирается выпустить тринадцатую колонну. Мы двинемся на юг, а потом на запад вдоль гор.
Старик кивнул, глядя в небо. Там плыло облако, одно-единственное. Сейчас оно было прямо над его головой, один край облака окрасился багрянцем на фоне желтоватого закатного неба. Мысль о Першинге вернула его к действительности.
— Ну, и как он?
— Зол, как черт.
Старик засмеялся.
Глава 43
Зол — это было не совсем то слово. Скорее Першинг был разъярен. Он как раз приехал на автомобиле, который взял в аренду у мормона, и майор рассказал ему о нападении. Автомобиль был знаменитый открытый “додж”, на котором Першинг собирался возглавить экспедицию. Он снял верх, открыл одну дверцу и, окруженный солдатами и журналистами, выслушал сообщение. Затем он сказал: “Дьявол!” и захлопнул дверцу.
— Если эти проклятые вашингтонские политики не позаботятся о том, чтобы мы получили подкрепление, я их заставлю. Вам, господа, я разрешаю написать, что хотите, об этом случае. Единственное, о чем прошу, — покажите мне ваши сообщения; не для цензуры, просто я хочу посмотреть, достаточно ли хлестко они написаны. Я хочу, чтобы все газеты рассказали об этом и чтобы все, кто прочтет эти газеты, связались с Вашингтоном. Пока мы это закончим, в Мехико-Сити должно прийти подкрепление.
Обычно Першинг так не делал. Как правило, он тщательно следил за тем, что пишут о нем репортеры. Позже, во время Первой мировой войны, все репортеры, приставленные к нему, имели облигацию в десять тысяч долларов, и если они пытались протащить репортаж помимо цензуры, он конфисковывал облигацию, а однажды чуть не обвинил репортера в государственной измене. В этом походе он вел себя мягче, просто просматривая то, что они пишут. Поэтому он разрешил репортерам остаться и слушать, они никак не могли написать о нападении без его разрешения. Теперь журналисты, казалось, обрадовались. Некоторые улыбались. Собственно, теперь, кончив говорить и задумавшись, он, казалось, тоже просветлел, взглянул на майора, подошел к своей палатке и, пошарив там, что-то достал.
— Вот, майор, думаю, вам не помешает. Это оказалась бутылка виски и кружка, которую он тут же наполнил.
— С разрешения генерала, за вас, — сказал майор.
— С моего разрешения, за всех нас.
Он достал еще несколько кружек, корреспонденты подошли поближе, протягивая консервные банки, крышки от канистр, все, что оказалось под рукой. Першинг разлил виски, а затем выпрямился, поднял свою кружку и оглядел собравшихся.
— За сукиного сына Вилью и за нашу с ним встречу.
— Правильно, правильно. — Все подняли кружки и выпили.
Глава 44
Двое кавалеристов, совершенно голые, бежали по берегу к реке. Майор посмотрел, как они прыгнули в воду, подняв брызги.
— Ты, наверное, знаешь, что вся его семья погибла. Старик наконец посмотрел на него.
— Нет, — сказал он. — Я не знал.
— Прошлым летом. После того как его перевели в Эль-Пасо. Его семья была в Сан-Франциско и собирала вещи, чтобы последовать за ним. Ночью случился пожар. Погибли жена и три дочери. Спасся только младший сын.
Старик продолжал смотреть на него. Прентису этот взгляд был знаком. Так он смотрел, когда колонна двигалась в путь, и старик наблюдал, как майор целует дочь, сына и жену.
Майору стало не по себе от его взгляда.
— Он изменился, конечно. Немного похудел, постарел. Характер у него, правда, такой же, но теперь понятно, по какой причине. Один его адъютант говорил мне, что он стал гораздо больше жаловаться, чем раньше. Мало припасов, мало людей, и все такое. Как будто он заставляет себя о многом забыть и считает, что все должен делать сам, потому что не надеется на чью-либо помощь.
Старик отвернулся и стал смотреть на реку.
Они довольно долго молчали, и вдруг старик неловко поднялся и зашагал прочь.
Глава 45
Прентис сидел, прислонившись к дереву, и впервые за всю кампанию ел какое-то жаркое, которое приготовили для них мормоны. Он выудил кусок мяса, пропитанную соусом картофелину, отправил в рот и стал медленно жевать; внезапно он увидел, что рядом стоит старик.
— Не обременяйте себя благодарностью.
— Я не о том.
— Все равно мы теперь квиты.
Старик пожал плечами.
— Ты прав, в лошадях ты знаешь толк. Сейчас прежде всего надо раздобыть тебе новую винтовку.
Последних слов Прентис не расслышал. Он еще некоторое время жевал, потом проглотил еду, отставил тарелку с ложкой и скосил глаза на старика, желая понять, правильно ли он понял его слова и действительно ли это означало то, что он думал.
Старик по-прежнему стоял рядом.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 46
Джорджия, 1864.
До них уже дошли слухи, что сожгли Атланту. Теперь ходили слухи о том, что еще янки собираются сделать. Конфедерат генерал Гуд отошел от Атланты на север, и многие думали, что Шерман отправится за ним. Никто не думал о том, что случилось в Виргинии, и не догадывался, что случившееся однажды повторится. Даже когда уже не оставалось сомнений, они не могли до конца поверить в это. Вместо того чтобы двинуться за Гудом или избрать себе другую военную цель, Шерман оставил свои позиции и, чтобы деморализовать южан, повернул свои шестьдесят тысяч человек из Атланты к Саванне и морю, уничтожая и поглощая все на своем пути.
Ноябрь, самое подходящее время для таких дел. Как сказал позже один историк: “Они двигались шестидесятимильным фронтом по богатой земле, где только что собрали урожай, амбары были забиты зерном и фуражом, коптильни ломились от окороков и бекона, на полях пасся скот. Ежедневно каждая бригада отряжала фуражную роту человек из пятидесяти, которая прочесывала местность на несколько миль с каждого фланга от линии марша бригады. Захватывая повозки и телеги крестьян, они нагружали их ветчиной, яйцами, кукурузой, цыплятами, индейками и утками, сладким картофелем и всем, что можно было увезти, и каждый вечер доставляли свой груз в бригадные штабы. Другие роты пригоняли скот. То, что солдаты не могли забрать с собой, они уничтожали. Чтобы не тратить патронов, они рубили саблями свиней, а лошадей и мулов убивали ударами топоров по голове. С рассвета до заката тощие ветераны, привыкшие к галетам и солонине, обжирались ветчиной, мясом и свежей говядиной и, продвигаясь по штату, сделались толстыми и гладкими. Потолстели и негры, которым они отдавали плантаторскую еду и которые ликовали при приближении армии, как живое воплощение песенки:
Скажи, черномазый, видал ты, Как по дороге впопыхах Хозяин драпает усатый, Побрал его бы прах?
Удрал хозяин, хей-хо! А негр остался, хо-хей! Наверно, близко царство Божье, И наступает Юбилей.
И действительно, тот год оказался счастливым для негров, так же как для хохочущих ветеранов Шермана марш этот был чем-то вроде пикника. От фланга до фланга на протяжении шестидесяти миль поднимались столбы дыма: наступающая армия все разрушала. Склады, мосты, сараи, мастерские, депо и фабрики были сожжены. Не пощадили даже домов, особенно старались “обормоты”: дезертиры, сорвиголовы и мародеры с Севера и Юга, которые участвовали в марше ради добычи. Эти люди заставляли стариков и беспомощных женщин показывать им тайники, где прятали серебро, драгоценности и деньги. В грязных подкованных башмаках они плясали на белоснежном белье и сияющих столах, ломали мебель ружейными прикладами, рубили саблями пуховые постели и колотили окна и зеркала пустыми бутылками. Шерман мог бы приструнить их, но не очень-то старался. “Война — это жестокость, и ее нельзя смягчить”, — сказал он жителям Атланты, и намерением его было показать, что Конфедерация не в состоянии уберечь от нее своих людей”.
Их ферма была посреди штата, как раз на линии наступления, хотя они узнали о нем слишком поздно. Однажды утром в сарае оказались грабители. Отец попытался остановить их, и они застрелили его. Мать бросилась к нему, и ее тоже застрелили. Они изнасиловали его сестру, убили ее, зарубили саблей брата, забрали лошадей и свиней, застрелили собаку, сожгли сарай, дом и ускакали, таща за собой повозку, полную еды и зерна. Календар, самый младший, тринадцатилетний мальчишка, видел все это с верхнего этажа дома. Он спал, когда все началось, и, проснувшись, вскочил, выглянул из окна спальни и как раз увидел, как падает отец, а потом мать.
Календар стал спускаться по лестнице и заметил, как сестра отбивается от двух солдат. Еще один солдат, поднимаясь по лестнице вверх, оглушил его прикладом. Он очнулся среди дыма и пламени, спотыкаясь, сошел с лестницы на крыльцо, вспомнил о сестре, вернулся в дом и увидел, что она лежит на диване, платье задрано на шею, разорвано белье, на груди кровавое пятно, а рядом на полу лежал изрубленный саблей брат, и пламя уже подбиралось к нему. Календар, кашляя, двинулся к ним, но огонь заставил его отпрянуть; обрушилась балка, потом еще одна, загородив проход. Он попробовал пройти с другой стороны, но там огонь бушевал еще сильнее, балки падали одна за другой, одежда на нем загорелась, он уже не видел брата и сестры, перед ним была сплошная стена огня. Календар рванулся назад, сдирая с себя горящую одежду, вывалился в дверь и покатился по земле. Шея и голова болели, у него загорелись волосы, и он стал колотить себя по голове. Потом огонь погас, а он лежал в траве, сжимая руками голову; от него пахло паленым; а огонь ревел все громче, его то и дело обдавало жаром. Затем Календар прополз несколько дюймов, потом еще. Но жар продолжал жечь его. Он схватил тела отца и матери и потащил их; у ворот он остановился. Там он упал на землю и лежал довольно долго.
Календар знал, что они мертвы. Не было никаких сомнений: глаза остекленело смотрели в небо. Он лежал и глядел на них. Потом он встал и увидел, что сарай обвалился. Дом догорел почти дотла. Календар стоял и смотрел, как рухнула крыша, потом одна стена. Перед глазами у него все поплыло, он почувствовал, как что-то теплое и мокрое стекает по его лицу: он плакал. Он обернулся в поисках кого-нибудь, кому можно отомстить. Никого не было. Календар с трудом добрался до сарая и увидел, что все ящики с кормом для скота опустошены, что нет ни повозки, ни телеги. Он снова заковылял к воротам, собираясь догнать грабителей, и вдруг сообразил, что он гол и бос.
Календар посмотрел на мать и отца, лежавших у забора, к которому он их подтащил, и направился к ним; тем временем рухнули три стены дома. Он похоронил родителей. Потом огляделся в поисках чего-нибудь подходящего, чтобы надеть, схватил одежду, которую снял с отца, надел, закатал штаны, подтянул пояс, подвернул рукава, натянул на ноги носки, в башмаки напихал листьев и обулся, бросил взгляд на могилы, на дымящиеся развалины дома, и двинулся в путь.
Глава 47
Это заняло довольно много времени. Поначалу Календар даже не соображал, что делает. Он думал, что если поторопится, то может догнать грабителей. Потом до него дошло, что даже если он и догонит их, то не сможет ничего сделать. Мальчишка против полудюжины мужчин. Во всяком случае, он видел троих в доме и еще троих во дворе. Их могло быть и больше. Когда Календар мельком взглянул в окно, то видел солдата на лестнице и тех двоих, что боролись с его сестрой. Еще один подходил к нему — темный, грязный, всклокоченный. Он не был даже уверен, что сможет их узнать. Но уж повозку с телегой-то Календар ни с чем не спутает, он же хорошо помнит их. Он будет искать повозку и телегу и убьет тех, кто окажется рядом с ними.
Но сделает это не сразу, и так, чтобы не подвергать себя опасности. И к тому же он хотел добраться до них всех, так что он подождет немного, а когда найдет их, сделает все, чтобы прикончить всех по одному. Может быть, он подловит их, когда они спят, и прирежет или пристрелит всех до одного.
За сестру. За брата. За мать и отца. За сарай и дом. Но прежде всего за себя. Пройдя пять миль по дороге, он увидел телегу, застрявшую в канаве. Этого следовало ожидать. У телеги было плохо прилажено колесо, и отец ездил на ней очень медленно. Он собирался починить колесо, но теперь уже не починит.
Он все быстрее шел по дороге. Листья в его ботинках превратились в месиво, он сильно натер ноги и стал хромать, но все равно ускорил шаг. Календар почувствовал, что ноги начали ныть. Но он продолжал идти.
Потом он сообразил, что если будет шагать в таком темпе, то ноги скоро разболятся. Лучше попасть туда позже, чем не попасть вовсе. Календар снял ботинки и, держа в руке носки, пошел по мягкой траве на обочине дороги. И правильно сделал, потому что через пять минут он услышал конский топот и едва успел спрятаться, как мимо проскакала группа солдат союзной армии. Насколько он понял, это были не те солдаты. Но какая разница? Он увидел, что к их седлам приторочены полные мешки, одежда забрызгана кровью. Он выругался и двинулся за ними.
А потом Календар набрел на них: сначала услышал шум, но не мог понять, что это такое. Чем ближе он подходил, отдельный гвалт становился все громче и громче. Оказалось, что там были люди, лошади, свиньи, утки, индейки и цыплята, и все галдели одновременно и оглушительно, издавая всевозможные звуки. Он поднялся на холмик, посмотрел вниз и увидел нескончаемый поток людей и лошадей, скота, повозок, тянувшийся далеко-далеко; Календар видел, как они двигались, одетые в синюю, белую, коричневую форму, но в основном в синюю. Над ними клубилась пыль, приглушая звуки, а солдаты двигались кто верхом, кто пешком. Казалось, их десятки тысяч, может быть, пятьдесят, шестьдесят тысяч… Они шли, сметая все на своем пути, как полчища саранчи. Он понял, что никогда не найдет тех, кого ищет. Но он попытается. Вдруг ему повезет. Хотя он знал, что не сможет найти их.
Все равно Календар продолжал идти. Он шел и шел следом за ними. Он нашел пару брошенных ботинок. Непонятно, зачем их украли, но главное, что они оказались ему почти по ноге, только чуть-чуть великоваты. Он обмотал ноги вместо портянок какими-то тряпками, надел ботинки — так они стали впору — и снова двинулся вперед. Он подобрал солдатскую шапку, которую сдул ветер, и надел ее, чтобы солнце не пекло голову. Потом он нашел мешок с едой. Они, видимо, награбили столько, что и не заметили, как потеряли его.
И Календар шел и шел за ними, держась у фланга; кашляя от пыли, он рассматривал каждую повозку; потом он отстал и оказался уже не вместе с ними, а с кучей негров, которые шли следом. Они ели пищу, которую им давали солдаты, пели, хохотали, кричали, пялились на него, и он стал держаться на расстоянии, изо всех сил стараясь не отстать от колонны. Наконец колонна остановилась на ночь, он заполз в какие-то кусты и уснул.
Назавтра было то же самое, как и на следующий день. Каждое утро, когда солдаты вставали и завтракали, он пускался в путь раньше их, стараясь уйти подальше, потому что знал, что к полудню начнет отставать; рассматривал повозки, косился на лица солдат, но не видел тех, кого искал, и продолжал идти. Он шел и шел. Шел, пока ему не начинало казаться, что он вот-вот упадет. Но он продолжал идти.
Календар дошел до места, где солдаты навели мосты через реку, — бревна, скрепленные поперечинами и веревками; к тому времени он здорово отстал и опять оказался среди негров; солдаты, когда он подошел, уже почти все переправились, оставив группу, часовых на каждой переправе, чтобы не пустить негров, и начали втягивать мосты на берег. Негры взвыли. Солдатам они, должно быть, надоели, и они решили избавиться от них; они тянули за собой бревна, а часовые стояли на них с ружьями наготове. Бревна, на которых они стояли, отплывали к другому берегу, а их фигуры на берегу становились все меньше.
Негры продолжали вопить. Некоторые подползли к самой воде, а самые смелые вошли в реку, но течение подхватило их и понесло вниз. Они изо всех сил старались вернуться к берегу, и некоторым это удавалось. Остальные выли и выли. Он подошел к реке, ища место, где можно переправиться. Такого места не было.
Негры двинулись за ним.
Он посмотрел на них и понял, что теперь он с ними с одном положении — единственный белый среди тысячи чернокожих. Он отыскал бревно, лежавшее около воды, столкнул его в реку и уцепился за него; оно медленно поплыло по течению, постепенно набирая скорость. Негры начали бросить в него камни. Он пригнул голову так, чтобы бревно прикрывало его; холодная вода тянула его на глубину, а вокруг сыпался град камней.
Один камень ударился о бревно и отскочил, рикошетом задев его. Плечо пронзила боль. Календар еле удержался. Бревно перевернулось, он оказался под ним, отчаянно пытаясь выбраться наверх, кашляя, задыхаясь и захлебываясь; потом бревно еще раз перевернулось и он вновь оказался сверху.
Он осмотрелся. Берег, с которого он отплыл, отдалялся, негры по-прежнему кричали и швыряли в него чем попало. Он посмотрел в другую сторону и понял, что движется вниз по течению; он попытался, гребя ногами, направить бревно к противоположному берегу, но все равно плыл по течению. Особого выбора у него не было. Он вцепился в бревно, надеясь, что его выбьет к берегу. Его протащило по реке много миль. Он не знал, сколько именно, но плыл он долго и быстро. Он оказался на берегу лишь потому, что река в том месте изгибалась, а бревно которое прежде плыло посредине, немного приблизилось к берегу, и, увидев выступающий кусок суши, он рискнул, отпустил бревно, поплыл к берегу и чуть не утонул, но все же оказался на суше.
Глава 48
В тот день Календар едва не умер. Только через много лет он понял, что же произошло. Он лежал на песчаном берегу, задыхаясь, всхлипывая, насквозь промокший и промерзший, и ждал, когда к нему вернутся силы, но напрасно. Он нашел в мешке размокший хлеб и пробовал поесть, но его чуть не стошнило. Он сначала решил, что заболел, но потом подумал, что просто устал. Он слышал слово “изнеможение”, но не знал его значения, понимая только, что от этого можно умереть, но думал, что это случается, если человек заблудился в буран и замерз. Он не чувствовал, что тепло покинуло его тело, когда он замерз и промок, и не знал, что даже в погожий ноябрьский день в Джорджии, когда дует легкий ветерок и нельзя разжечь костер и просушить одежду, он будет лежать, слабея с каждой минутой, и умрет через несколько часов. Это вовсе не простуда, даже не воспаление легких. Просто потерял силы от переохлаждения.
Глава 49
Он лежал и слабел, что-то бормоча про себя. Голова кружилась. Он пытался встать, но тут же падал. Его спасла только необходимость догнать солдат. Календар знал, что потерял много времени и сильно отстал, но он понимал, чем дольше будет лежать, тем отстанет еще больше. Он попытался сдвинуться с места; шевелиться ему не хотелось, но он знал, что это необходимо, и он собрался с силами, встал и двинулся вдоль берега. В обозримых пределах река была довольно прямой. Он решил, что если срежет угол справа, то, может быть, найдет следы, по которым определит, куда пошли солдаты. Вряд ли он их не заметит — ведь там столько людей, лошадей и снаряжения. Вопрос только в том, далеко ли они. Он пустился в путь, двигаясь медленно, спотыкаясь, еле переставляя ноги. Носки и тряпки внутри ботинок теперь намокли и натерли ноги до волдырей; он все время смотрел вперед, проходя мимо деревьев, пригорков и каменных оград. Фермы, к которым он подходил, были сожжены, а люди убиты. Неожиданно он обнаружил, что то и дело падает. Если бы только раз или два — то ничего страшного, но падал каждую минуту; и к тому же он заметил, что проходит там, где уже был. Он сделал круг, Повернул туда, откуда пришел, заметил впереди какие-то деревья и пригорки и, спотыкаясь, побрел к ним; потом двинулся к новому путеводному знаку и шел так довольно долго, пока не обратил внимание на примятую траву. Календар сначала не понял, почему все кажется серым; потом до него дошло, что солнце почти село. Он не знал, сколько времени он шел, не знал, сколько прошел миль. Он вообще ничего не помнил; в темноте он упал, почувствовав, что не может стоять. Его колотила мелкая дрожь; лежа на земле, он смотрел вперед на что-то завораживающее; до него не сразу дошло, что это огонь, а когда он это понял, сразу пополз к нему.
Потом ему сказали, что в темную фигуру, которая ползла к лагерю, сначала чуть не выстрелили. Но потом услышали стон и рискнули подождать, пока фигура приблизится. Оказалось, что это всего-навсего мальчишка в лохмотьях, который ползет на руках и на коленях. Он так и не дополз до огня, только протянул руку, ярдах в двадцати от него упал в грязь и больше не шевелился.
Они стояли и рассматривали его, а потом, придя в себя, кинулись на помощь, подняли бесчувственное тело, отнесли к костру. Они нашли шапку солдата союзной армии у него за пазухой, куда он сунул ее, переправляясь через реку. Они содрали с него одежду, завернули в одеяло, согрели у огня, высушили одежду и попытались покормить его, дав горячего питья и мяса, но к мясу он не притронулся.
На следующее утро, когда они выступили, он еще спал. Его уложили в повозку, и он первый раз открыл глаза около полудня. Проснувшись, он бредил, едва притрагивался к питью, снова засыпал и пришел в себя, когда они снова разбили лагерь; только тогда он немного поел, рассматривая их, а они рассказывали ему, где нашли его, и как он чуть не умер. Они также сказали, что он плел что-то о реке, но они ничего не поняли, и стали спрашивать, что же с ним случилось. Ему не хотелось говорить. Он снова впал в забытье, а когда среди ночи проснулся, то соображал достаточно ясно, чтобы понять, что они ничего не знают о его отце, матери и всем прочем, а если узнают, то вряд ли поверят. Так что, проснувшись утром, он рассказал им, что его отец был попрошайкой, что он его потерял, пошел за колонной, чтобы попросить о помощи, попытался переплыть через реку и чуть не утонул. Они только смотрели на него. Он не был уверен, что ему поверили, но никто ничего не сказал.
Календар оставался с ними весь декабрь, вместе с колонной двигаясь на юго-запад, к Саванне; он отставал, отрывался от них, и, когда войска взяли город, он не сразу там оказался. Когда же он тоже вошел в город, то увидел, что могут сотворить шестьдесят тысяч нетерпеливых, грязных, уставших солдат.
Сначала солдаты обчистили салуны и гостиницы, круша все, что попадалось им на пути, а потом заодно уничтожили все остальное, просто ради того, чтобы крушить, — окна, двери, столы, стулья, сдергивали шторы, били зеркала. Солдаты разгуливали по улицам, держа несколько бутылок под мышкой и одну в руке, из которой все время отхлебывали. Они опустошили продуктовые магазины, кухни, пекарни. Между делом набрасывались на женщин. Он все искал повозку или людей, с которыми он пришел, но напрасно. Он видел офицеров, стоявших на перекрестках: они старались не замечать безобразий, а иногда даже принимали в них участие. Ясно, что остановить погром они не могли, даже если бы хотели. Целью марша было проучить южан, а такое дело надо доводить до конца, иначе не подействует. Солдаты, со своей стороны, не собирались прекращать буйства. После нескольких недель почти полной свободы они скоро должны вернуться к дисциплине, и если это последняя возможность побуянить, они ее старались использовать сполна. Женщин хватали прямо на улицах. Шум стоял оглушительный: крики, вопли, отдельные выстрелы; кое-где качались пожары. В конце концов, он уже не мог выносить этого; должно быть, люди, убившие его семью, тоже находились в гуще событий; но ему стало так тошно от этого зрелища, что он не мог заставить себя отправиться на их поиски. К тому же он не был уверен, что их узнает, а тех, кто его недавно спас, он давно потерял. Выйдя из города, он долго кружил по окраинам, пока не наткнулся на базу Шермана. Она располагалась к северу от города, на равнине, откуда было хорошо видно реку и океан. Там были установлены палатки, корали, стояли часовые. Двадцать первого декабря холодно было даже тут, в Джорджии; в лагере жгли костры, и тонкие серые струйки дыма взвивались к небу. И даже в долине шум из города был слышен ему слишком явственно — крики, вопли, одиночные выстрелы, грохот выламываемых дверей и бьющихся окон. Настоящий сумасшедший дом; шум доносился и сюда, от пожаров тянулись большие черные тучи дыма, которые совсем накрыли город. Хорошо, что он ушел оттуда. Он только теперь сообразил, на кого он похож в своих крестьянских отрепьях, в союзной шапке и с грязной физиономией. Что ж, даже трогательный вид. И он знал, что ему необходима помощь, нужна одежда, еда, место, чтобы спать, и раз уж он потерял тех, кто ему помог, придется найти других. Он подошел к часовому и стал его разглядывать. Часовой тоже уставился на него.
— Что тебе, мальчик?
— Я хочу есть. Часовой не сводил с него глаз.
— Уходи.
— Я хочу есть, — повторил он.
Часовой замахнулся было на него, но тут подошел другой солдат и остановил его жестом.
— Что здесь происходит?
— Ничего, сэр. Мальчишка не хочет уходить. Я хотел его прогнать
— Что тебе нужно? — На этот раз он обращался к мальчику.
— Я хочу есть.
Солдат стоял и смотрел на него. Потом поджал губы и сказал часовому:
— Пропусти.
Часовой пожал плечами. Солдат жестом показал ему дорогу.
Солдат как выяснилось, оказался офицером. Чтобы это знать, надо было разбираться в нашивках. Это был майор Райерсон, и тут-то все и началось по-настоящему.
Глава 50
Когда стали использовать пистолет 45-го калибра, Календар был в армии на Филиппинах. Шел 1911 год. К тому времени он уже давно вышел в отставку, ему было около шестидесяти, и его даже не хотели брать на войну, так что ему пришлось прибегнуть к влиянию солидных военных, с которыми он прежде служил. Даже тогда взяли неохотно. “Кажется, после Кубы и всего прочего вам достаточно”, — говорили ему. Но это было не так, только Календар не мог объяснить почему. Всю свою жизнь он был там, куда его заносили сражения, видел новые страны, изучал чужие обычаи. Сам ритм жизни Календара определялся конфликтами, в которые вступала его страна, и теперь снова началась война, и он чувствовал себя не у дел. Ему хотелось быть там, куда звал его инстинкт. В логике Календар не был силен, но был человеком эмоциональным. В конце концов он обратился к людям, которые были ему многим обязаны, и его желание исполнилось, но тут оказалось, что их опасения подтвердились. Суровость такой войны оказалась ему не по плечу: непроходимые джунгли, муссоны, желтая лихорадка, малярия. Хотя на Кубе он хорошо переносил подобные неудобства, теперь он не выдержал, и вскоре ему пришлось вернуться домой.
Но дело было не в этом. О главном он еще не упомянул. — Дело вот в чем, — объяснял он Прентису, сидя у костра — первого настоящего костра со дня их выступления, большого, жаркого и завораживающего, в отличие от едва тлеющих огоньков в ту холодную ночь у деревни. Он показал ему автоматический пистолет 45-го калибра… — После того как США победили Испанию на Кубе, Филиппины стали американской провинцией. Но когда американцы явились туда, чтобы взять бразды правления в свои руки, местные жители восстали. Это были в основном “моро” — по-испански мавры, мусульмане, и с таким религиозным воинственным пылом, как у них, американцы не встречались, даже воюя с индейцами. Они бежали по главной улице со своими большими длинными ножами и вопили, в них можно было стрелять и стрелять из ружья или пистолета, а они каким-то образом продолжали бежать. И если ты на миг отрывал палец от курка, они тут же на тебя набрасывались, и у них еще хватало сил перерезать тебе Горло. Только потом они уползали умирать. Нужно было что-то другое, чтобы их можно было остановить на близком расстоянии, и тут подоспело вот это. Когда в них попадали из такого пистолета в грудь, в плечо или в руку, они все равно оставались на ногах. Но это могло задержать их, обратить в бегство, и еще оставалось шесть патронов для остальных, а перезаряжать его легко — просто вставляешь новую обойму. Если ты знаешь толк в оружии, то ты понимаешь, что попасть в человека не так трудно, как говорят. Его сконструировал Браунинг, но он не получил патента. Все равно нужно знать о нем, помнить, что кто-то создал его для определенных целей, и всегда думать, что это особое оружие, и использовать его бережно и уважительно. Единственная беда — если попадаешь в такую местность, как эта, с ветром и песком, он часто заедает, а пока ты пытаешься его привести в порядок, тебя могут убить. Если надеяться только на него, ты труп. Нужно что-то про запас, вроде этого.
Он пошарил под жилетом и достал свой кольт 45-го калибра. — Этот, конечно, не такой удобный и не такой мощный. В нем умещается всего шесть зарядов, даже пять, если ты для верности оставляешь одно пустое место. Перезаряжать его целая морока. Но он у меня тридцать лет, побывал со мной во всех странах в любую погоду и ни разу не сплоховал. Его сам Кольт сконструировал. Он создал первую модель в 1830 году для заокеанского похода, а потом многие годы усовершенствовал. Вот это сделала его фирма в 70-е годы. Кольт к тому времени уже умер. Но не важно. Это его заслуга. Жаль, что он не успел увидеть, какие перемены принесло его изобретение. Используй такой пистолет как запасное оружие. — Старик порылся в переметной суме, достал второй пистолет и протянул Прентису. — Только чтобы сержант не увидел. Он знает, что по уставу не положено, и отберет. Держи его в суме, а когда станет совсем горячо, сунь за пояс сзади или сбоку. Только не пользуйся им без крайней необходимости. Он не раз спасал жизнь.
Я уверен, ты об этом много знаешь. Во всяком случае, слышал. Но это как с лошадьми: чем больше обхаживаешь лошадь, кормишь, чистишь, разговариваешь с ней, знаешь, что у нее болит, чем больше ты ее понимаешь, тем легче с ней управляться. Нужно знать лошадь как себя самого, тогда как бы срастаешься с ней. То же и с оружием. Ты его разбираешь чистишь не расстаешься с ним. Узнаешь, кто его сделал, зачем сделал и почему оно именно такое. Ты знаешь свой пистолет как самого себя, относишься к нему, как к части своего тела. Тогда он становится твоей второй натурой. Вот в чем дело. С этого-то и начинается все, что вообще следует знать.
Глава 51
— Давай для интереса притворимся, будто я — враг. Тебе нужно спешиться и подойти ко мне.
Было утро, и 13-я собиралась в путь, хотя они нуждались в отдыхе, но это было не важно. Першинг с нетерпением ждал прибытия колонны из Колумбуса. Он давно уже выслал в путь другие подразделения, оставил вокруг себя только необходимый костяк людей, и теперь, когда его силы объединились, он планировал несколько маршей: на юг, на запад и на восток в глубь Мексики. Ходили слухи о местонахождении Вильи, и он хотел настичь его. Прентис уже оседлал лошадь и повернул туда, где собиралась его рота; но тут перед ним вдруг появился старик и сказал эти слова.
“Интересно, зачем это?” — подумал Прентис.
— Давай, — сказал старик.
Прентис посмотрел на него, пожал плечами, спешился и повернулся. Старик целился в него из пистолета.
— Ты сам того не знаешь, но ты уже труп. Так не делают. Смотри-ка.
Он отложил пистолет, подошел к лошади, дал ей понюхать свою ладонь, провел рукой по ее морде и шее, ухватился за переднюю луку, тяжело и неловко, действуя одной рукой, забрался в седло; стремя скрипнуло.
— Никогда не спешивайся на глазах того, кому не доверяешь.
— Включая вас?
— Включая всех. Помни, когда имеешь дело с незнакомыми людьми, тогда не забудешь об этом в присутствии чужих.
Говоря это, Календар повернул лошадь так, чтобы Прентис видел его сбоку. Потом, орудуя одной рукой, он спешился. Видно было только его голову и ноги, затем Календар обошел вокруг лошади, снова целясь из пистолета.
Глава 52
По дороге он раздумывал об этом.
Лагерь свернули, кавалеристы разбились на маленькие колонны, напоминающие пальцы руки. “Додж” Першинга двигался посредине, за ним — его свита и журналисты в своих “гудзонах” и “фордах”. Вначале “пальцы” были сжаты. Потом они растопырились, двинувшись в разные стороны света.
Впереди сквозь туман и пыль Прентис видел, как старик скачет в первых рядах, и вспоминал то, что услышал от него; голос старика до сих пор звучал у него в ушах.
— Все это я могу показать тебе, все эти штучки и уловки. Но они бессмысленны, если ты не усваиваешь их и не придумываешь свои, еще лучше. Потому что дело не в штучках, а в твоем отношении, в привычке. Ты не можешь себе позволить беззаботности. Даже если ты натыкаешься на что-то совершенно безобидное с виду, ты все равно должен ждать худшего и обдумать план действий. Вроде этой змеи, — сказал старик.
Глава 53
Они стояли у озерца, небольшого, напоминавшего лужу в камнях, но они видели, как из него пила ящерица. Значит, вода была чистой, и солдаты остановились около нее, наполнили канистры, напоили лошадей.
Прентис оглянулся. В восьми футах от него за каменным уступом притаилась гремучая змея.
— Я ее увидел, когда мы только сюда пришли, — добавил старик, — и ждал, что ты тоже заметишь. Нельзя надеяться, что тебя предупредят. Нужно самому быть начеку каждую секунду.
Прентис отошел от озерца и выхватил пистолет.
— Зачем? — спросил старик. — Она не причинила тебе зла. К тому же, если Вилья поблизости и не видел пыли от нашего приближения, он наверняка услышит выстрел. Подумай. Ничего не делай, не подумав о последствиях.
Прентис посмотрел на него и, почувствовав себя последним дураком, опустил пистолет.
Глава 54
На самом деле Вильи поблизости не было.
Его настоящее имя было Доротео Арранхо. Он родился в 1878 году, в штате Дуранго, к югу от Чиуауа, но на протяжении всей своей жизни он провел столько времени в Чиуауа и вокруг, что знал этот штат как свой родной. Учитывая его знание местности, экспедиции нелегко будет выследить его на нейтральной территории, не говоря уже о его родных местах. К тому же почти двадцать лет он только и делал, что скрывался.
В 1895 году он вместе с матерью-вдовой, братьями и сестрами работал в богатом мексиканском поместье. Он подружился с местной бандой угонщиков скота, был замешан в грабеже, провел несколько месяцев в тюрьме, пока расположенный к нему помещик не вызволил его. Вскоре после этого было совершено нападение на его сестру, и он убил обидчика, сына хозяина, на которого он работал; и, хорошо усвоив главный принцип правосудия того времени — богатые всегда правы, — тут же убежал в горы. Тогда ему было семнадцать, и, вероятно, для того, чтобы уберечь от преследований свою семью, он сменил имя на Франсиско Вилья; обычно его звали Панчо — распространенным уменьшительным от Франсиско. Помня о дружбе с шайкой бандитов, он украл лошадь из загона возле бара и присоединился к ворам, орудовавшим в Дуранго и Чиуауа. Может быть, недолго он работал батраком в Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии. Ходили слухи, что он побывал и солдатом. Но в основном он оставался бандитом и снискал себе славу Робина Гуда. Воруя скот в больших поместьях, он часть оставлял для себя, немного продавал, а остальное раздавал бедным крестьянам. В конце концов, бандитом его сделало в первую очередь самоуправство мексиканских аристократов, и ему доставляло удовольствие снабжать себя за их счет и помогать бедным.
Это было в годы правления Диаса, просидевшего у власти тридцать лет, и, когда в 1910 году разразилась революция, Вилье представилась возможность из бандита стать партизаном и делать то же, что и раньше, но уже во имя справедливости. Он был предводителем собственной банды, иногда носил усы, иногда сбривал их, был невысоким, коренастым, круглолицым и темноглазым. Один современник описывает его: “Этот крупный атлет встал и заговорил; его мощная грудь выпирала из-под мягкой шелковистой сорочки с расстегнутым воротом, откуда была видна широкая бычья шея”. У него были жены по всей Мексике, он заводил повсюду друзей, покорял людей своей манерой сидеть в седле и самими лошадьми, которых он выбирал — самых крупных, самых сильных и эффектных.
Учитывая его способности, неудивительно, что, ударившись в революцию, он быстро превратил свой отряд из пятнадцати человек в сорокатысячное войско. Его умение планировать налеты, совершать их и уходить безнаказанно очень пригодилось в партизанской войне. Самый его излюбленный военный прием — внезапное ночное нападение — был взят из бандитской тактики, и если бы не неожиданное нежелание взять бразды правления в свои руки, он мог бы управлять государством. Так или иначе, он упустил такую возможность. Карранса победил его. После этого, отверженный, изгнанный армией Каррансы, он начал проигрывать сражения, обнаружил, что США повернулись против него, потерял доступ к боеприпасам, видел, как его сорокатысячное войско сократилось до четырех сотен, и к 1916 году его злость на США и нужда в еде, снарядах и лошадях привели его в Колумбус.
После налета его банда сократилась почти вдвое, он направился на запад, как и предполагали американцы, но вместо того, чтобы напасть на Колонию Дублан и живущих там мормонов, для предотвращения чего и была, собственно, послана карательная экспедиция, он обошел вокруг этой местности и направился в глубь Мексики к горам на далеком юге.
Он остановился у подножия гор в городке Эль-Валье, где набрал новых людей. Набрал в буквальном смысле слова. Некоторые мужчины из поселка охотно пошли с ним. Других он уговаривал пламенной речью, стоя на повозке, а его люди на лошадях прикрывали его, в то время как он жестикулировал, сверкая черными глазами. Жители поселка уныло или тупо смотрели на него, и только некоторые качали головами. Один молодой человек, который там был, позже написал, что, когда дни отказались, он выстроил их в шеренгу, отсеял стариков и под вой женщин и детей приказал своим людям увести остальных под конвоем.
Из Эль-Валье Вилья двинулся дальше на юг, к Намикипе, где он сражался с войсками Каррансы и победил. Это было 18 марта, в тот самый день, когда колонна Першинга прибыла в Колонию Дублан, семьюдесятью милями севернее. Так он и водил их почти все время, опережая на несколько дней: в какой бы город ни пришли американские солдаты, им говорили, что Вилья здесь был и давно ушел.
Из Намикипы он отправился еще дальше на юг, в Рубио, перегруппировав свои силы, чтобы атаковать войска Каррансы в Герреро, на западе. Атака прошла успешно. Наступление было совершено ночью, гарнизон спал, часовых не было, и он взял город без единого выстрела. В соседнем городке Сан-Исидро все вышло наоборот. Предвидя сопротивление и желая прикрыть фланг, он послал часть своего отряда захватить и этот гарнизон, но там его люди встретили такое сопротивление, что им пришлось бежать, отступать к Герреро, куда пришли, преследуя их, и каррансисты и где состоялось главное сражение.
Оно решило все. Собственно, Вилья сам, не ведая того, все решил, когда оторвал людей от жен и детей в Эль-Валье. Теперь, вынужденный использовать всех своих людей, он вооружил их, и пока бежал вперед, чтобы возглавить поход, они открыли стрельбу ему в спину. Они, вероятно, думали, что в пылу сражения никто не поймет, с какой стороны его застрелили.
Беда в том, что, как только они начали стрелять, остальные солдаты потянулись назад, так что не было никаких сомнений, откуда летела пуля. Его ранили в ногу, сзади навылет, поэтому местонахождение стрелявшего не оставляло сомнений. Солдаты Вильи кинулись на предателей, многие крестьяне побросали ружья, подняли руки и замотали головами, бормоча, что сами не понимают, как это вышло. Их чуть не расстреляли.
Их спасло то, что ему было больно. Он корчился на траве, из ноги хлестала кровь, и вскоре его люди кинулись ему на помощь. Его ранили из “ремингтона” очень большого калибра, который оставил дыру диаметром в палец там, где вошла пуля, и величиной с кулак там, где она вышла, пройдя ногу от колена до берцовой кости и раздробив берцовую кость так, что еще несколько дней его люди вытаскивали осколки из раны. Они перевязали рану, обложили со всех сторон шинами, отнесли Вилью в повозку и под надежной охраной спешно увезли в безопасное место. Это произошло вскоре после полуночи двадцать девятого марта. Остальные люди, их было около сотни, остались охранять город и отдыхать. Через восемь часов, узнав, что Вилья, возможно, в Герреро, 7-й кавалерийский полк, который скакал туда целую ночь, пошел в наступление и захватил город, убив пятьдесят шесть и ранив тридцать пять человек. Если бы не принудительная вербовка в Эль-Валье и не последовавшая за ней месть крестьян, экспедиция США могла бы закончиться в Герреро через две недели после начала; вместо этого она, в конце концов, растянулась на год.
Глава 55
Повозка, тарахтя, взбиралась наверх, подпрыгивала на камнях и рытвинах. Он вскрикивал. Человек, правивший повозкой, всматривался вперед сквозь ветер и снег, держась позади группы пеших людей, которые старались расчищать путь и находить самую гладкую дорогу. Воздух казался серым, небо таким темным, что можно было подумать, что уже сумерки, хотя был день.
Справа поднималась каменная стена в несколько сотен футов. Слева — зиял обрыв. Вилья снова вскрикнул. Погонщик оглянулся и увидел, как он, завернутый в одеяло, бледный и стенающий, корчится от холода и боли. Затем он посмотрел вперед на сужающуюся дорогу. Когда дорога с каждой стороны от повозки стала не более трех футов шириной, к ним приблизился офицер и велел остановиться. Погонщик натянул поводья и замедлил ход, приказав людям успокоить лошадей, и оглянулся на офицера, который спешился и уже забирался в повозку. Нескольким пешим людям приказали принести приготовленные носилки, подняли Вилью и уложили на них.
Один из людей споткнулся, и Вилья со стоном скатился с носилок. Остальные кинулись к нему, крича и падая. Одеяла развернулись, обнажив его ногу: штанина разрезана до колена, рана обложена четырьмя толстыми шинами, обмотана полосами ткани, покрытой темной кровью. Распухшая нога почернела.
Он вскрикнул. Офицер что-то вопил. Пешие теперь орали Друг на друга, суетились, отворачиваясь от зловонной раны. Вилью снова уложили на носилки” подняли их на плечи, с каждой стороны встало по восемь человек, а офицер повернулся к погонщику и велел ему снова ехать. Под снегом и ветром процессия двинулась вперед.
Дорога стала еще уже. Они находились на высоте десять тысяч футов. Лошади громко, со свистом дышали, погонщик вытер нос и увидел, что из носа идет кровь; Левое заднее колесо соскользнуло с дороги. Повозка начала съезжать в обрыв, погонщик изо всех сил натягивал поводья, чтобы остановить лошадей, но повозка уже повисла над пропастью. Погонщик соскочил, ударившись о землю, а повозка исчезла; деревянная оглобля сломалась, и лошади, почуяв свободу, помчались вперед, разметав пеших проводников. Люди, несшие Вилью, чуть не уронили его.
Глава 56
Прентис услышал крик и, обернувшись, увидел солдата, который выбирался из канавы со спущенными штанами и вопил изо всех сил. Он бежал, спотыкался, сжимал одну руку другой, сначала направился к одной группе солдат, но, подбежав к ним, сразу кинулся к другим, потом к следующим. Глаза у него блуждали, лицо было белым как полотно, и он безостановочно кричал.
Никто не двинулся с места. Все стояли и смотрели на него, а он бежал и вопил. Было около полудня. Они остановились, чтобы дать лошадям пройтись и отдохнуть, а потом собирались накормить и напоить их. Солдат, как видно, зашел в канаву, чтобы облегчиться, а теперь все недоумевали, что там могло случиться. Они смотрели, как он бегает кругами, сжимая свою руку, и слушали его крики.
— Что такое? В чем дело? — Календар, вдруг оказавшись среди них, схватил его.
— Чертова дрянь меня ужалила!
— Что за дрянь? Скажи-ка мне, в чем дело.
— Я теперь умру!
Он вырвался и снова забегал, но Календар подставил ему подножку. Солдат упал прямо в грязь, сверкая задницей.
— Я тебя спросил, что это было. Отвечай.
— Скорпион!
— Какой?
Парень корчился, лицо было искажено от боли.
— Какая разница какой? Я теперь…
— Дай-ка взглянуть на твою руку. Парень сжимал одну руку другой, и тогда старик нагнулся к нему и отлепил его руку своей огромной пятерней.
Прентис стоял рядом и смотрел. От запястья до локтя рука распухла так, что стала вдвое толще; посредине расплывалась яркая, горящая краснота. У него захолонуло в животе. Несколько солдат ахнули.
— Все в порядке. Ничего страшного
— Я умру. — Парень пытался вырваться.
— Нет. Не умрешь. Поболеешь как следует, но выживешь. Тебе здорово повезло. Что ты сделал? Пошел посрать? Облокотился на землю, не глядя, и тут же тебя ужалило?
Парень извивался на траве, отчаянно кивал и стонал.
— А мог ужалить в задницу. Вот тогда ты бы влип по-настоящему. Или в вену. Но главное, что место укуса распухло.
Парень все еще корчился с искаженным лицом, не прекращая стонать.
— Есть два вида скорпионов. Одни — желтые, в полоску, распространяют яд по телу и убивают. А другие побольше, пошире, почти коричневые. У них яд местный. Укус сразу распухает. Если бы у тебя рука не горела, а онемела, если бы она не распухла, тогда было бы о чем беспокоиться. Кто-нибудь принесите мою переметную суму.
Пока старик объяснял, парень непрестанно завывал. Но старик все равно говорил, как будто рассказывая все это вовсе не ему. Затем повернулся к Прентису и посмотрел на него.
Прентис кивнул и отправился за сумкой.
Глава 57
— Что вы ему дали?
— Морфин от боли. Секонал, чтобы он успокоился и прекратил дергаться.
Они стояли рядом, около лошадей, подтягивая подпруги и готовясь снова сесть в седло. Старик изо всех сил старался затянуть подпругу потуже, но одной рукой у него получалось неловко, и, в конце концов, он попросил Прентиса помочь ему.
— Хороший жгут ты наложил, — сказал он, наблюдая за молодым человеком, пока тот занимался подпругой и спускал с седла стремена. — Хотя яд и местный, лучше не давать ему распространиться. Если нам на пути встретится город, мы сможем достать льда и обложить больное место, чтобы опухоль спала. Для этого подойдут и мокрые бинты, но лед, конечно, лучше.
Он стоял около лошади, держась за поводья и глядя на него.
— Вот что я знаю наверняка. Ты видел, как это случилось. Теперь ты никогда не допустишь, чтобы то же самое произошло с тобой, и будешь знать, что делать, если кого-нибудь снова ужалит скорпион. У тебя должен быть пакет первой помощи, как у меня — марганцовка, морфин, всякие нужные мелочи, — и ты должен усвоить еще сотни подобных уроков. Например, никогда не приближайся к человеку, которого не знаешь как себя самого или о котором не знаешь абсолютно все. Именно так. У тебя только одна профессия, и в ней ты должен стать специалистом. Если хочешь всему научиться, смотри и. запоминай.
Но есть и другое, то, чего я не знаю наверняка: не сами факты, а то, как на них реагировать. Поэтому я говорю об отношении к проблеме. Вот, к примеру, тот дурень выскочил из канавы и стал бегать, орать, тратить силы. Он не умер бы от укуса, но мог умереть от шока и испуга. Я знал одного парня в Вайоминге. Он переступил через бревно и увидел, что его нога попала как раз в середину кольца гремучей змеи, и тут же помер на месте. Змея, как выяснилось, вообще была дохлая, но он позволил страху взять над собой верх. Так что, если тебя ужалит скорпион, как ты поступишь: будешь носиться кругами и вопить или попытаешься сообразить, что тебе делать? Вот в чем загвоздка. Мало ли что может с человеком случиться помимо его воли, но уж если оно случается, от тебя зависит, как себя вести. Ничего нельзя делать бессмысленно. Ты сначала узнаешь факты, а потом — как с ними бороться. И первое без второго никому не нужно. Это верная смерть.
Пока он говорил, колонна перегруппировывалась. Сержант скакал вдоль колонны, отдавая команды. Старик поднял руку, чтобы Прентис не садился в седло, а дослушал. Теперь он умолк и взглянул на него. Затем резко отвернулся, схватился здоровой рукой за луку седла, вставил ногу в стремя и оседлал лошадь.
— Спасибо, что помог с седлом. — Он пришпорил лошадь и поскакал вперед.
Прентис смотрел, как он скачет, не сразу сообразив, что он отстал от колонны. Кавалеристы удивленно смотрели на него. Он вскочил в седло и направился к ним.
— Черт возьми, — сказал поджидавший его сержант. — Сроду не видел, чтобы он так долго с кем-нибудь говорил.
Глава 58
Они прошли ущельем между двумя скалами, и через годы он вспомнил об этом, когда колонна из Колумбуса, преследуемая мексиканскими федеральными войсками, протискивалась через точно такое же ущелье и пробиралась к песчаной равнине. Когда ущелье закончилось, кавалерия в панике рассеялась, а вокруг него засвистели пули. Он почти ожидал, что сейчас увидит реку, плодородную долину, простирающуюся впереди, остров посреди реки. Но, конечно, никакой реки не было, как не было и долины, только песчаная впадина, по которой они двигались, и хотя на миг у него появилось чувство, что он уже был здесь и все будет в точности, как тогда, оно прошло так же быстро, как возникло, и бой оказался совсем другим. Но то было в другое время и в другой стране. То была река Арикари в восточном Колорадо, а клочок суши посреди реки вскоре стал называться островом Бич ера; шел 1868 год.
Их было пятьдесят человек. Они уже десять дней, как покинули свою базу в Форт-Уолласе, Канзас, и шли налегке форсированным маршем по следам индейцев. Индейцы, в основном сиу, шейенны или арапахо, достаточно насмотрелись, как белые отнимают у них землю, и теперь наносили ответный удар, нападая на повозки и поселения, на пересадочные станции, на ранчо, короче говоря, на все, что им встречалось на пути. Потом, быстро нанеся удар и убегая, они разделялись на маленькие группы и рассеивались по долине, так что преследовать их было безнадежно. К таким военным действиям армия, три года назад воевавшая в гражданской войне, не привыкла. Приученные к ведению крупных сражений со сложной тактикой, войска ожидали в фортах, пока не приходило сообщение о налете, а потом снаряжали основательную экспедицию. Нагруженные снаряжением и припасами, они двигались так медленно, что у них не было никаких шансов кого-либо поймать.
Эти войска были частью так называемой Дивизии Миссури, во главе которой стоял Шеридан, а он, в свою очередь, подчинялся Шерману. Оба были генералами союзных войск в гражданскую войну, чьи имена стали синонимами террора — первый сеял его в долине Шенандоа в Виргинии, а второй на юго-восточном пути через Джорджию. Но все равно они не сразу додумались применить такую же тактику против индейцев. Однако налеты становились все более жестокими, а привычная тактика явно не работала в здешних условиях, и они наконец приняли решение не дожидаться, пока индейцы нападут снова, а выступить и самим напасть на индейцев, выслав маленькие отряды из пятидесяти легко вооруженных, быстро передвигающихся людей, целью которых было выследить индейцев и принудить их к сражению. В тот день, шестнадцатого сентября 1868 года, одна из групп двигалась именно с такой целью.
Они уже несколько дней выискивали следы. Сначала попадались редкие колеи, оброненные вещи или кострища, потом следы стали появляться все чаще, затем их стало намного больше. После полудня им уже не надо было специально искать их. Трава впереди была примята и затоптана справа налево на протяжении двухсот ярдов.
— Похоже, — сказал один разведчик, — тут прошли люди из нескольких поселков.
Командовал отрядом майор Джордж А. Форсит. Он был бригадным генералом союзной армии у Шеридана, но после гражданской войны его понизили до майора, а армию расформировали. Он понимал, что, если сейчас не выдвинуться, шансов получить более высокий чин больше не будет, и вел себя соответственно. Обеспокоенный предполагаемым количеством индейцев, один из разведчиков предложил повернуть назад.
— Вы шли в армию, чтобы драться с индейцами или нет? — рявкнул майор и приказал колонне двигаться вперед.
Но он не был ни глупым, ни самонадеянным. Он знал свое дело и принял все предосторожности, выслав вперед дозорных, чтобы осмотреть дорогу; солдаты тем не менее чувствовали тревогу. Долина тянулась и тянулась, след вел их вперед. Он подождал, пока вернулись разведчики. Потом, взглянув на заходящее солнце, он принял решение, повел колонну к реке и они разбили лагерь.
Календару всегда казалось забавным, что он оказался в этом отряде благодаря самому высшему командованию — генералу Шерману. После Саванны он остался в армии Шермана не столько для того, чтобы разыскать людей, убивших его семью, хотя он продолжал надеяться на это, сколько из обычного здравого смысла. Южане проигрывали. Сомнений в этом не было. То, что делал Шерман в Джорджии, а Шеридан в Виргинии, ясно показывало, что если Юг будет продолжать сражаться, Север не просто разгромит его, а уничтожит, сотрет с лица земли. От Конфедерации только и осталось, что Вирджиния и обе Каролины. Шерман двигался по направлению к Каролинам. Грант и Шеридан прикрывали генерала Ли с флангов в Виргинии. Меньше всего мальчику-южанину хотелось бы оказаться в одиночестве или в армии южан, особенно такому мальчику, как он, верному только своей семье и дому, а не государству или Югу. Так или иначе, его семья не имела рабов, и если бы победители не трогали его и его домашних, ему было бы все равно, кто выиграет войну.
Календар выбрал северян, разыгрывая теперь роль беззащитного сиротки, взывая к чувству вины, хотя и не рассказывал подробностей о гибели его семьи, так как боялся, что ему не поверят. В основном он держался Райерсона, ходил за ним всюду, отчасти потому, что больше никто ему так не сочувствовал, а отчасти потому, что с самого начала рассказал ему, какой он одинокий, и сделал, как он считал, взаимовыгодное предложение. Если офицер будет заботиться о нем, он, в свою очередь, будет помогать офицеру, делать для него все, что тому нужно: чистить сбрую, бегать на посылках, служить кем-то вроде ординарца. С любой точки зрения, это было и удобно, и нужно. Так и пошло. Через некоторое время они привыкли друг к другу. Майор занимался с ним, чтобы он избавился от южного акцента, давал ему читать книги, учил, как разговаривать в разных случаях, — например, выражение “взаимовыгодное предложение” принадлежало не Календару, а Райерсону, но тот быстро усвоил его, так же как и многие другие. (Отсюда и пошла его речь — смесь жаргона с литературным языком, на которой он и говорил с Прентисом.) Мальчишка был рад порисоваться, а майор охотно поощрял его. К началу весны его Положение стало надежным. Более того, он вел себя как северянин и говорил соответственно. Солдаты и забыли, как он среди них оказался. С ними Календар чувствовал себя в безопасности.
Потом, 9 апреля, в вербное воскресенье, Ли сдался. Война окончилась. Армия еще несколько месяцев просуществовала, а затем начала распадаться. “Мы едем домой”, — говорили солдаты. К сожалению, мальчику было некуда возвращаться. Он подумывал вернуться и предъявить права на землю своей семьи, но не стал этого делать. Как он будет ее пахать, не говоря уже о том, что он будет к ней постоянно привязан. Уже поползли слухи о союзных сборщиках налогов и о северных спекулянтах, которые завладевали всей землей, какой только могли. К тому же кончилась война или нет, он понимал, как его встретят жители Джорджии, пережившие поход Шермана, когда узнают, что он имел дело с людьми Шермана. Он мог скрыть, где он провел последние полгода, но, в конце концов, они бы все равно узнали. В четырнадцать лет, оказавшись в таком положении, он просто не знал, что ему делать. Он не отходил от Райерсона все время, пока майор готовился покинуть армию, делал приготовления, писал документы, провожал солдат. Потом от отряда почти ничего не осталось. Солдаты были переведены в другие отряды. Почти все было закончено. Однажды Райерсон вышел из палатки не в военной форме, а одетый в красную рубашку в клетку и довоенные брюки. На поясе висела офицерская кобура с револьвером, на ногах были офицерские ботинки. Экипировку дополняла рабочая шапка и подтяжки. На плече он нес пару переметных сум. В руке — саблю и ружье.
Он кивнул мальчику, и у того замерло сердце, когда офицер подошел к лошади, которую он так часто для него седлал. Когда он садился на лошадь, мальчик стоял рядом и смотрел на него.
— Так куда же ты пойдешь? — спросил майор, опуская ружье и саблю в ножны.
— Не знаю, — ответил мальчик, пожав плечами. Он решил не подавать виду, что расстроен отъездом майора.
— Может быть, поедешь со мной? — Он сказал это так непринужденно, что мальчик даже подумал, не ослышался ли он. Потом сердце у него подпрыгнуло, он почувствовал жар внутри и изо всех сил постарался сдержать свои чувства; Он снова пожал плечами и спросил:
— А куда?
— Я еще сам не знаю. Может быть, на запад. Одно ясно. Здесь делать нечего.
— А я думал, у вас семья в Нью-Йорке.
— Да, — ответил майор, глядя на него и медленно покачиваясь в седле. — Но я думаю, они обойдутся без меня. У меня же там не жена, а только сестра и ее дети. Мужа она потеряла на войне. Я думал вернуться и помочь ей, но мне кажется, я уже столько делал для других, что пора позаботиться и о себе. Ну, так что скажешь?
— Я думаю.
— Не очень-то долго думай, а то уеду, а ты останешься.
— А далеко на запад?
— Ты когда-нибудь видел Миссисипи? Он покачал головой.
— Ну, наверное, отправимся вниз по реке. Там найдем какую-нибудь землю. Тебя это не устраивает?
— А почему вы только сейчас меня об этом спросили?
— А я не был уверен, что хочу, чтобы ты остался со мной. А теперь уверен.
Мальчик взглянул на него и на миг задумался.
— Мне понадобится лошадь.
— Я тебе достану.
— Еще нужно другую одежду, может быть, ружье.
— Я найду.
— Зачем?
— Если бы я знал, то знал бы и почему так долго не звал тебя с собой. Так едешь или нет?
— Еду.
— Тогда порядок. — Майор протянул ему руку. Мальчик сначала не понял, что это означает. Потом до него дошло, и они обменялись рукопожатием. Сердце у него заколотилось еще отчаяннее, хотя он изо всех сил старался не подавать виду. Все равно он не смог сдержать такой широкой улыбки, что даже заболели глаза. Райерсон сидел в седле и тоже улыбался. Мальчик видел его как-то расплывчато: глаза затуманились, щеки стали мокрыми, во рту солоно. У него перехватило дыхание. В горле стоял ком, а большая рука осторожно сжимала его руку; в первый раз после гибели его семьи он стоял, глядя на майора, и плакал.
Они нашли землю, много земли, отправившись на северо-запад от Каролин через Теннесси и Кентукки, к Миссури и Сент-Луису. Они пересекли Миссисипи. Она была не такой, как он ожидал, не очень широкой и не слишком бурной, как было написано в книгах. Ему сказали, что такая она на юге, именно поэтому они и отправились этим путем, а не прямо на запад. И еще они хотели по возможности избежать последствий войны. Поначалу по пути встречались сожженные фермы и вытоптанные поля. Солдаты, теперь уже в рабочей одежде, шли по дороге. Иногда северяне с южанами вступали в рукопашную схватку. Но чаще всего они просто пялились друг на друга, переругивались, а потом, приосанившись, шли в разные стороны.
Они избегали городов, располагались на привалы в лесу, где стреляли дичь, а иногда подрабатывали на полях за еду и одежду. Денег ни у кого не было. Чем дальше они уходили, тем меньше встречали прямых напоминаний о войне, прохожие порой улыбались, фермеры останавливались поговорить с ними. Люди жили своей жизнью, но все равно они почувствовали себя далеко от войны только в Сент-Луисе. Важный центр союзного тыла во время войны, он остался непострадавшим и процветал, являясь воротами на запад: там строились дома, было полно людей. Они прибыли туда поздней осенью, когда уже холодало; остались на зиму, работая на стройке, а ушли ранней весной, нанявшись охотниками. Это у них здорово получалось. Календар только в этом и знал толк да еще хорошо разбирался в лошадях. Охотились на буйволов, коз, оленей и всякую другую дичь. Так они добрались до Колорадо. Выйдя оттуда, они двинулись на север, год работали помощниками погонщиков скота в Вайоминге. И, наконец, записались в кавалерию, что казалось самым простым. Райерсон помог Календару солгать насчет возраста — к тому времени ему было шестнадцать, но выглядел он на все двадцать. Обман удался без труда.
Теперь они стояли вместе с военным лагерем в долине Колорадо и смотрели на другой берег реки, на густую длинную траву и далекие пологие холмы. Солнце садилось слева от них, становясь все больше и заливая окрестности ярко-желтым светом. Они посмотрели на реку. Русло казалось широким — как им представлялось, около двух сотен ярдов. В это время года река была не очень полноводной, вода поднялась только на половину русла, оба берега были песчаными, а посредине находился остров — короткий и узкий, заросший кустарником и вербой. Они повернулись и стали смотреть назад, на линию гор и на то ущелье, сквозь которое им пришлось пробираться; оно было совсем близко. Календар с Райерсоном раскинули руки и вдыхали прохладный чистый воздух. Их взгляды встретились, и они поняли друг друга без слов. Место им не нравилось.
Они почувствовали это почти сразу: здесь встречались такие места, откуда хотелось побыстрее уйти. Непонятно, почему возникало такое чувство, само место выглядело обыкновенно, дурной славы о нем не ходило, просто начинало беспокоить какое-то смутное, неприятное ощущение, что оставаться здесь не следует. Пытаясь это понять, они сравнивали это с полюсами двух магнитов. В одних местах чувствуешь себя как дома, в других нет, и если это так, то лучше уходить. Они знали, что, как правило, ведут себя слишком осторожно, но всегда слушали свой внутренний голос.
Именно такое беспокойное чувство возникло сейчас. В этой местности не было ничего непривлекательного. Собственно говоря, она была по-своему красива. Правда, впереди простиралась открытая равнина, но они много раз разбивали лагерь на открытой равнине. Поблизости были индейцы, но они не раз останавливались и рядом с индейцами, а сейчас ничего не говорило о том, что индейцы на них охотятся. И вообще, куда им было деваться? Лошадям нужна вода. В горах подходящего места нет. Здесь было лучшее из того, что они могли отыскать. Может быть, в этом все дело? Слишком уж здесь хорошо; и индейцы, прекрасно знающие местность, сразу поймут, что их преследователи именно здесь разбили лагерь. Сейчас они уже ничего не могли сделать. Солнце почти село. Некуда деваться. Придется оставаться здесь.
Тем не менее, они проверили свое оружие, положили рядом с собой и расстелили одеяла. Майор Форсит не разрешил разжигать костров, выставил дополнительный дозор, расположил лошадей поближе к людям. Он не паниковал, а просто проявлял осторожность. Но несмотря ни на что некоторые солдаты казались встревоженными. Раскладывая на земле седло и одеяло, Календар наблюдал за ними. Они проверяли свои пистолеты и ружья точно так же, как он сам и Райерсон, щелкали затворами, чтобы убедиться, что они полностью заряжены, и клали оружие рядом. Почти никто не разговаривал. Некоторые обменивались односложными репликами. Те, что прискакали сюда первыми, казались наиболее встревоженными. Он обернулся и увидел, что Райерсон не сводит с него глаз, и снова они поняли друг друга без слов. Если это чувствовали не только они, значит, на самом деле что-то не так. Они растянулись под одеялами и стали ждать; потом встали в караул, продолжая ждать, затем их сменили, и они задремали. Вскоре после рассвета их разбудило гиканье. Какой-то миг они лежали, не. сразу проснувшись. Потом услышали выстрелы, выбрались из-под одеял, схватили ружья и побежали на выстрелы. Восемь всадников съезжали с пологого холма, направляясь к лошадям. Часовые открыли огонь. Один всадник упал. Другой схватился за руку, но продолжал приближаться. Календар и Райерсон тоже открыли огонь, потом к ним присоединились остальные. Упал еще один всадник, шестеро уцелевших повернули налево и поскакали назад.
— По коням! — скомандовал майор. — Черт побери, уходим отсюда!
Позади шестерых индейцев, на вершине пологого холма, к которой они возвращались, по обоим берегам реки стояла цепь индейцев, сосчитать которых не было времени. Шестеро кавалеристов с ружьями наготове стояли в качестве прикрытия. Остальные бежали, хватали седла, наспех седлали лошадей. Проспавшие кавалеристы теперь тоже подбегали с седлами в руках к своим лошадям. Календар подумал: “Как глупо, что индейцы стали подбираться к лошадям и переполошили их. Если они всегда так сражаются, то такому организованному отряду, как они, ничего не стоит с ними справиться”. Он брякнул это Райерсону, желая порисоваться, но Райерсон тут же поправил его. Это вовсе не глупо. Они были уверены в себе, настолько не сомневались в своей победе, что даже не позаботились о неожиданности нападения и позволили своим самым молодым и храбрым воинам показать, на что они способны.
К тому времени на них устремилась вторая волна нападающих, по меньшей мере, четвертая часть всех индейцев из стоявших на холме; третья волна — еще четверть — оставалась на подходе. Шестеро дозорных теперь тоже приблизились к отряду, и все тревожно поглядывали вперед; тут майор отдал команду выступать, и не успел он этого произнести, как некоторые солдаты уже кинулись вперед, пришпоривая, торопя лошадей, другие бросились за ними галопом, с выстрелами, с проклятиями, с криками. Они летели на юго-запад к ближайшей линии холмов. До того мига, даже на войне, Календар никогда в жизни так не боялся. Перед глазами плыл туман, он все делал машинально. Он мог думать, как, вероятно, и майор, только об одном: о направлении, в котором они скакали. На высокое место. К тому ущелью, через которое они пришли. Заняв его, они никого не пропустят.
Это было очевидно. Даже слишком. Но майор внезапно резко повернул налево, отдалившись от холма, и повел их по кривой, в обход того пути, по которому они пришли. Скачущие кавалеристы, растерявшись, сбавляли скорость. Они смотрели на зияющее ущелье, потом на приближавшихся индейцев. Майор кричал, показывал на реку, скакал прямо к ней. Солдаты, разрываясь между необходимостью уходить и привычкой к повиновению, повернули и последовали за ним. Это их спасло. Потом выяснилось, что индейцы только и ждали, что они направятся через ущелье. Там прятались их люди, готовые поймать кавалеристов в ловушку перекрестного огня. Форсит подозревал это, но не был уверен и, вынужденный принять быстрое решение, предпочел вернуться в лагерь. Если бы не интуиция, от колонны ничего бы не осталось. На самом деле солдаты решили, что он увидел что-то опасное, чего не видели они, и поскакали за ним, не успев сообразить в полной мере, что происходит. Когда они поняли, что, собственно говоря, нет причин, которые мешают им двигаться к ущелью, было уже поздно. Они уже слишком близко подошли к реке, чтобы поворачивать обратно.
Их страх тогда сменился яростью, они отчаянно ругались, переправляясь вслед за майором через реку, на заросший кустарником остров; спрыгивали с лошадей, привязывали их, продолжая ругаться, выхватывали ружья, готовясь к бою. Один солдат никак не мог решиться, он кружил вместе с лошадью и кричал: “Не надо оставаться здесь! Нас убьют!” Он собрался скакать к ущелью, но майор схватил его за руку и, грозя пистолетом, произнес: “Только попробуй, мозги вышибу!” И выстрелил в атакующих.
Первый же верный выстрел со стороны атакующих выбил из седла одного из кавалеристов. Остальные привязали своих лошадей в круг так, чтобы они образовывали как бы баррикаду, и, пригибаясь, стреляли между копыт лошадей, стараясь держаться подальше от них, чтобы те их не затоптали. Они нагребали перед собой земляные горки, устанавливали на них ружья, стреляли, снова нагребали горку, прятались и опять стреляли. Майор стоял во весь рост и отдавал команды, но когда первая волна наступления двинулась напролом, кто-то потянул его вниз. Индейцы были тут как тут, не меньше ста человек: они спустились с берега, переплыли реку и теперь наступали, стреляя, крича, сидя на неоседланных лошадях, в одних набедренных повязках, у некоторых качались перья на головах, у многих все лица были размалеваны красной и зеленой краской, глаза выпучены, физиономии перекошены. Они стреляли, истошно крича при этом, и кавалеристы, заразившись их боевым пылом, теперь открыли настоящий огонь и палили без перерыва. У ружей кончались патроны; они хватались за пистолеты, патроны снова кончались, кавалеристы перезаряжали их. У них были шестизарядные кольты, более грубые, чем поздние западные образцы этого оружия, но очень эффективные. Ружья были марки “спенсер” с рычаговым затвором, шестью обоймами в магазине и еще одной в зарядной камере. Тринадцать выстрелов на человека; почти пятьдесят человек; меньше чем через тридцать секунд они выпалили все заряды в первую волну атакующих, уложив почти половину и сломав ряды наступления.
В их патронах был черный порох, а не бездымный, как позже. Густое серое облако, поднимавшееся над ними, скрыло из виду индейцев, которые повернули в обе стороны по ходу реки, омывавшей остров. Кавалеристы, заталкивая пули в свои ружья, всматривались, потом стреляли, всадники падали, а они снова на ощупь заряжали ружья. В дыму индейцы выбрались на другой берег, перегруппировались и снова начали наступление, но на этот раз их было легче расколоть, еще раз пустив вокруг острова по обе стороны. Под грохот выстрелов, с перекошенными ртами и с дикими воплями они выбрались на берег, с которого спустились в первый раз, и поскакали туда, откуда пришли. Едва солдаты успели перевести дух и убедиться, что оружие заряжено, на них надвинулась вторая волна атаки. На этот раз они разбили ряды наступавших еще до того, как те достигли реки, стреляя так уверенно и быстро, что индейцы уже в сотне ярдов от реки повернули и поскакали назад.
Потом, так же быстро как и началось, все закончилось; осталась только медленно поднимающееся облако дыма. Несколько солдат продолжали стрелять, но майору даже не надо было командовать, чтобы они прекратили огонь — все и так было ясно. При таком количестве противников им понадобится каждая обойма. У них и так оставалось не слишком много боеприпасов. Сто сорок обойм на человека для ружей, тридцать для пистолетов и еще четыре тысячи запасных обойм для ружей, которые тащил на спине вьючный мул. Каждый из них уже потратил на эти две атаки не менее тридцати обойм, и теперь нужно было не стрелять без толку.
Легко сказать. Или, во всяком случае, легко подумать. Потому что никто ничего не говорил, хотя кучи стреляных гильз вокруг были достаточно красноречивы. Дым почти улегся. Несколько человек перестали стрелять. Остальные, получив минутную передышку от напряжения боя, еще усерднее перезаряжали свое оружие. Ясно было, что индейцы и не думают уходить. Основная группа еще стояла на вершине холма, а две атаковавших волны уже возвращались. Календар смотрел на них между копыт своей лошади. Он, держась на благоразумном расстоянии от лошади, расположился около затоптанного кустарника, нагреб перед собой свежий холмик земли и тоже заряжал свое оружие, тяжело дыша и поглядывая в сторону индейцев. Они казались маленькими и расплывчатыми, сидели на лошадях и спокойно ждали.
Тишина потрясла его. Он слышал только резкий звук собственного дыхания, казавшийся странным, потому что шел не изо рта и ноздрей, а изнутри, из груди и горла, и приглушенно отдавался где-то в голове. Потом он услышал какой-то звон, вернее почувствовал в обоих ушах постоянное тонкое дребезжание, которое заглушало и дыхание, и все остальные звуки. Он никогда не был в гуще такой атаки, когда выстрелы гремели со всех сторон и закладывало в ушах, так что невозможно было отличить собственные выстрелы от чужих. Иногда, еще мальчишкой, когда он охотился в лесах Джорджии, он, выстрелив, чувствовал в ухе звон, но это никогда ему не мешало. Если у него было время, и он знал, что не спугнет добычу, он затыкал это ухо тряпочкой. Но теперь такой возможности не было, да ему бы и в голову не пришло ничего подобное, настолько незнакомым казалось ощущение.
Он потряс головой, чтобы избавиться от звона, но ничего не помогало, и теперь он пришел в ужас: он понимал, что вокруг раздается множество звуков, люди разговаривают, двигаются, а он ничего не слышит. Неужели они не оглохли, как и он? Если и оглохли, то не подавали виду. Потом он заметил, что живот и ноги у него мокрые, и сначала решил, что ранен, но, отчаянно ощупывая себя, сообразил, что от страха он не смог уследить за мочевым пузырем; он быстро ощупал себя сзади; хорошо хоть, что кишечник не подвел. Это, между прочим, удалось не всем людям и не всем лошадям. Запах был достаточно красноречив. С обонянием, значит, у него все в порядке. Он огляделся; казалось, никто ничего не замечал, а если и заметили, то им не было до него дела. Это не считалось позором. Они глубже зарывались в землю, обкладывались холмиками земли, копали с помощью ножей, жестяных тарелок, всего, что попадалось под руку. Слева от него был Райерсон; он быстро окапывался. Календар последовал его примеру и вдруг понял, что уже некоторое время слышит скрежет металла о землю, приглушенный храп лошадей, нервное постукивание копыт у него над головой. Слух возвращался, не сразу, а понемногу, и когда он достаточно успокоился, чтобы переключить внимание с себя на то, что происходит вокруг, он понял, что некоторые из окружающих его людей неподвижны, другие прижимают руки к разным частям тела и морщатся от боли, некоторые лошади лежат на земле со вздымающимися боками, истекая кровью. Он обернулся и увидел пятерых солдат, присевших на корточки вокруг шестого и что-то говорящих ему. Они отошли, и он увидел, что это майор; он был ранен в лодыжку, на синей штанине краснела кровь. Кровавое пятно расплывалось, кто-то накладывал ему жгут. Лицо майора посерело.
— Отнесите меня в такое место, где все видно, — простонал майор. Слова звучали сквозь звон в ушах, как будто сквозь вату.
Он увидел, как они пронесли майора мимо него; майор между ног лошади смотрел туда, где были индейцы. Казалось, они снова готовятся наступать, поворачиваются на лошадях, занимают позиции, оглядываются сначала назад, потом в сторону, как будто смотрят на что-то приближающееся со стороны холма. Там действительно что-то появилось — сначала кончик чего-то непонятного, потом голова, туловище — одинокий всадник приблизился к индейцам. Казалось, это принесло какие-то изменения. Индейцы загикали и помчались вперед. Первое, что увидели кавалеристы, оказалось верхушкой головного убора из перьев — длинного, широкого, развевающегося во все стороны.
— Ото, — сказал кто-то.
Он повернулся. Это был разведчик, самый старший из четверых, лысый, одетый в куртку из козлиной кожи, свисавшую лохмотьями.
Майор тоже повернулся. Они с разведчиком, вытянувшись, лежали рядом, не сводя взглядов с холма.
— Что там такое?
— Это он, — сказал разведчик, отвернувшись, и сплюнул.
— А кто он такой?
— Шейенны зовут его “Летучая мышь”. Отсюда не видно, но вблизи он очень внушительный. Здоровенный. Вы и не представляете: сплошные мускулы, морда как у статуи. Я его узнал по перьям. Они особенные. Такие перья надо заслужить.
— Не слышал о нем.
— Слышали, слышали, и не раз. Вы еще назвали его “Римский нос”.
— О Господи!
Даже Календар о нем слышал. Это был тот самый индеец, с которым все советовали ему ни при каких обстоятельствах не связываться; белые знали его по широкому крючковатому носу, который, должно быть, и напомнил разведчику о статуях. О нем ходили леденящие кровь истории. О том, как он рубит людей на части, потрошит, уродует так, что они уже и на людей не похожи. Он никогда не сдается. Если он вступает в сражение, то не прекратит его, пока противник не будет уничтожен. Пока проигрывали всегда белые.
— Боже, ну мы и влипли, — со стоном произнес майор. Обеими руками он вытащил из-под себя раненую ногу, на которой лежал. — Пусть трое солдат отправятся и залягут в той длинной траве у оконечности острова. — Он огляделся. — Вот вы трое, идите.
Календар не сразу сообразил, что майор смотрит на него, на его соседа и на Райерсона. Они переглянулись между собой, потом посмотрели на майора. Его сосед открыл рот.
— Я хочу, чтобы вы посмотрели на убитых, — продолжал майор. — И убедились, что они мертвы. Когда начнется наступление, наверняка окажется, что половина из них притворяются. Они начнут ползти к нам, и я хочу, чтобы их остановили. Здесь людей достаточно. — Он отправил еще троих солдат на другой конец острова и снова повернулся к ним. — Ну, чего вы ждете?
Они еще секунду смотрели на него, затем переглянулись, посмотрели вперед, потом снова друг на друга, схватили ружья и медленно поползли. Календар заторопился, пролезая под лошадью. Потом снова пополз медленно, уже оказавшись в пампасской траве, высокой, коричневой, с полосками на концах. Она была сухая, острая и трещала, когда он двигался сквозь нее. Звон у него в ушах уменьшился, и он слышал, как рядом ползут другой солдат и Райерсон. Он чувствовал, как бьется сердце в его прижатой к земле груди. Там, где трава кончилась, грунтовой берег покато сходил к реке. Он видел индейцев — одни лежали вниз лицом в мелкой воде, другие на песке, лицом вверх. Он немного отполз назад, так, чтобы перед ним была линия травы, сквозь которую он мог смотреть. Запах здесь был таким же, как в сарае у его отца.
Он перестал об этом думать, рассматривая лежащих индейцев. Ему хотелось заговорить, обратиться к Райерсону, но он знал, что нельзя. Если кто-то из них жив, они услышат голоса и проявят большую осторожность. Потом он перевел взгляд на линию индейцев на холме.
И замигал в растерянности. Их там не было. Они уже начали спускаться. В те несколько минут, что он рассматривал реку, они уже ускакали достаточно далеко, а он, должно быть, еще плохо слышал, потому что, хотя лошади мчались галопом, а индейцы размахивали руками, раскрывали рты, видимо, громко крича, он ничего не слышал. Он посмотрел на “Летучую мышь” — самого крупного индейца, у которого на голове развевались перья, он возглавлял атаку, вскидывая ружье над головой, и размахивал им так легко, как будто это было перышко. Потом Календар почувствовал, будто что-то происходит на берегу реки, и он быстро перевел взгляд на убитых.
Ничего. По крайней мере, ему так показалось. Он переводил взгляд с них на линию наступавших индейцев, потом снова на тела вдоль реки. Руки его сжимали ружье.
Некоторые солдаты позади него начали стрелять.
— Нет! — смутно расслышал он голос майора. — Только по моей команде! Убедитесь, что ружья заряжены. Стрелять залпами!
Выстрелы прекратились.
Потом начали стрелять индейцы, сначала несколько человек, потом, по мере приближения, к ним присоединились все остальные.
Один солдат, не удержавшись, выстрелил.
— Только по моей команде! — снова крикнул майор. — Помните, что я сказал! Залпами!
Индейцы, казалось, были совсем рядом. Календару не верилось, что майор подпускает их так близко. Когда же прозвучит приказ? Теперь стали видны их животы, их зубы, и он крепче стиснул ружье, держа палец на курке. А они под топот копыт стреляли — с семидесяти ярдов, потом с пятидесяти.
— Пли! — крикнул майор.
Кавалеристы только этого и ждали. Они начали стрелять, едва успела отзвучать команда. Выстрел за выстрелом перекрывали друг друга, сливаясь в оглушительный грохот, всадники останавливались, лошади переворачивались, те, что скакали впереди, падали. Казалось, упала вся передняя линия нападавших, кроме предводителя.
— Пли! — снова скомандовал майор, и вновь раздались залпы, грохоча и сбивая всадников и лошадей.
И опять то же самое. И снова всадники скакали по упавшим телам, наступали, стреляли, вопили. Календар смотрел на них: вот они уже в двадцати ярдах, вот нависли почти над головой. Внутри его так и обожгло, когда перед ним в траве появилось размалеванное лицо.
Это был один из индейцев, лежавших у реки; он притворялся мертвым и воспользовался наступлением, чтобы пробраться на остров. Они уставились друг на друга, онемев от шока. Календар отпрянул, услышав команду майора “Пли!”, и тут же спустил курок. От лица перед ним ничего не осталось. Он почувствовал что-то мокрое, но не знал, кровь это или вода из реки, потому что индейцы уже переправились через нее и выбирались на остров; с лошадей капала вода, и они уже начали проноситься мимо него. И тут он повернулся и прицелился в того, кто скакал впереди. Как будто он с отцом опять охотился на фазанов: пучок ярких перьев мелькал перед глазами. Почти в упор он выстрелил ему в спину. От силы выстрела упали и лошадь и всадник, скатившись почти к самой воде, где лошадь встала на ноги и поскакала, а индеец остался лежать лицом вниз.
Это случилось так быстро, что Календар даже не сообразил, что сделал. Но теперь он увидел, что это “Летучая мышь” — индеец, возглавлявший наступление. Индейцы замедлили ход, растерялись, загалдели; тут майор снова прокричал “Пли!”, и залп сотряс их, раскидал всадников, перепугал лошадей, разбил их ряды. Они рассеялись по острову и бросились прямо через реку, туда, откуда пришли.
Солдаты быстро перезарядили ружья и прокричали “ура”. Раненые лошади жалобно ржали. Раненые солдаты стонали. По всему острову слышался металлический звон: это вкладывали пули в магазины, щелкали затворами, снова готовили ружья к бою. Над ними плыл пороховой дым. Календар посмотрел на упавших всадников впереди, чтобы убедиться, что никто из них не подползет к нему сквозь траву. Он облизнул губы.
— А лучше сражаться они могут? — услышал он позади голос майора и, обернувшись, увидел, что знакомый ему разведчик покачал головой. Потом он сказал, что за все годы, проведенные здесь, он не видел наступления, равного этому. По всем статьям от колонны должно было остаться мокрое место. Их спасло только то, что “Летучая мышь” сейчас плавает в реке. Если бы он был жив, ничто не сломило и не остановило бы индейцев.
Некоторые солдаты утверждали, что это именно их пули сразили главного врага. Календар не спорил. Он знал точно, чей это был выстрел, и не считал нужным ввязываться из-за этого в ссору. Позже, когда они поднялись и осматривали тела в реке, Календар подошел к “Летучей мыши” и перевернул его, чтобы взглянуть, как прошла пуля: прямо в основание позвоночника, потом вверх и вышла из груди. Не было сомнений, что его убил он. Календар снова перевернул тело в воде лицом вниз: вода покраснела от крови; его головной убор весь промок и почти утонул. Кто-то из солдат чуть позже схватил его. Один раненый индеец рассказывал, что их вождь не собирался участвовать в сражении. А его головной убор обладал какой-то магической силой, которая делала его неуязвимым в бою. Но магия была связана с определенным табу, которое он нарушил.
Чтобы очиститься, “Летучей мыши” нужно было много времени, и он не стал бы сражаться, если бы вождь другого племени, который ему завидовал, не оскорбил его в присутствии соплеменников. Индеец рассказывал долго и интересно, и Календару хотелось поделиться его рассказом с Райерсоном, но он не смог этого сделать. Вскоре после того как наступление было отбито, он овладел собой и чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы поминутно не озираться, он подполз к Райерсону и увидел, что один из кавалеристов склонился над ним, потому что тот был ранен. Рана сильно кровоточила. Возбуждение мигом покинуло Календаря. Он подполз к Райерсону, обнял его и пытался заговорить. Хотя глаза его несколько раз мигнули, и, казалось, он даже узнал его, Райерсон так и не произнес ни слова, а просто потерял сознание. И как бы это ни было несправедливо, умирал весь день и всю ночь. Кален-дар не отходил от него, сжимал его в объятиях и плакал. Поэтому он и не стал разбираться, кто убил индейца. Горе переполнило сердце, где не осталось места ни для злости, ни даже для гордости.
Индейцы не ушли. Но они не стали больше наступать, а начали осаду лагеря. Все лошади кавалеристов были убиты. Второй командир, лейтенант Бичер, тоже погиб, и именно в его честь потом назвали остров. Майора еще дважды ранили — у него была оцарапана голова, и пуля попала в бедро около артерии. Он лежал четыре дня, пока не решил, что нужно извлечь пулю, но их врача тоже убили, а никто не решался делать операцию. Наконец майор велел двоим солдатам подержать его ногу, достал из переметной сумы бритву и вытащил пулю сам. Только в этот миг, глядя на майора, Календар забыл о Райерсоне. Все остальное время он ходил как в тумане, наблюдая, как в ночь после гибели “Летучей мыши” майор отрядил двоих пеших солдат за подкреплением. Они, надев мокасины и идя задом наперед, чтобы их следы были похожи не следы индейцев, крались по острову. Через две ночи майор послал еще двоих, зная, что они будут идти ночью и прятаться днем. Через неделю явилась колонна подкрепления и прорвала осаду, а солдаты к тому времени съели все свои припасы и стали жарить разлагающееся мясо лошадей. Майор сидел, прислонившись к дереву, чтобы дать ноге покой, и читал книгу, которую взял с собой, — “Оливер Твист”. Солдаты закричали “ура”, увидев, как через ущелье движутся первые кавалеристы, и, вскочив на ноги, стали размахивать рубашками и стрелять в воздух. Майор велел им беречь заряды. К тому времени всех убитых похоронили; остров был слишком мал, поэтому пришлось вырыть им братскую могилу; убитых индейцев, лежавших в реке и у реки, оттащили на другой берег и сожгли. А Календар долго сидел у братской могилы, где похоронили Райерсона, сжимая в руках-ружье и пистолет; рядом с ним лежали переметные сумы Райерсона, которые он уже обшарил в поисках имени или адреса, которые помогли бы ему связаться с сестрой погибшего. Но там ничего не было.
Глава 59
— Убери свою задницу.
Поначалу Прентис не понял, к кому это относится. Они остановились на ночь, разбив лагерь под крутой и обрывистой горной грядой. Место было выбрано удачно: с одного фланга они были прикрыты, рядом нашли воду и кусты, чтобы развести костры. Горы находились к востоку от них. На западе садилось солнце, но поскольку открытое место оставалось только там, его лучи еще освещали лагерь. И вечер начался хорошо, все были в благодушном настроении, несмотря на то, что скакали целый день; кавалеристы переговаривались, обхаживали и кормили лошадей, привязывали их. Несколько человек, насвистывая, расстилали одеяла, другие разжигали костры и усаживались перед ними — полюбоваться огнем и пожарить мясо и хлеб.
Календар был наверху, на горе, осматривая местность. Он вернулся, сел у костра, и Прентис присоединился к нему. Они налили себе кофе и стали пить. Старик не брился несколько дней, на лице появилась седая, жесткая щетина, которая сильно старила его; он поставил кружку, свернул себе цигарку и вдруг заговорил, опершись о камень рукой, в которой держал спичку. Прентис не понял, к кому старик обращается. Несколько солдат, которые сели неподалеку от них, тоже удивленно переглянулись. У Прентиса внутри все перевернулось: что, если старик обращался к нему? Все молчали. Он посмотрел на старика, который сидел со спичкой в руке, выпятив челюсть и глядя в огонь. Дело было даже не в том, что он не понял, к кому старик обращается, просто он никогда не слышал, чтобы тот говорил таким тоном. Нет, слова-то были вполне обычными, и каждый при случае произносил их, включая старика. Но он произнес их каким-то нечеловеческим голосом, почти проревел, как будто выталкивал звуки из глубины глотки, выворачивая их из гортани.
— Да-да, ты, — прорычал старик. Желваки у него так и ходили. Он медленно поднял глаза на солдата, сидевшего напротив. — Ты знаешь, что я к тебе обращаюсь. Я сказал тебе: убери свою задницу.
Парень неловко заерзал, подняв руки.
— Послушай, ей-ей…
— Эй, — сказал старик. — Я тебе говорю. Ты что, не слышишь, что я разговариваю с тобой? — Он повернулся. — Что это ты, черт побери?
Там стоял индеец, один из апачей, которых майор взял проводниками, и только теперь, когда Прентис подумал об этом, он понял, что кто-то подошел к ним со спины. Он посмотрел на индейца, который стоял довольно-таки близко, но не настолько, чтобы можно было до него дотронуться. Он был невысокого роста, может быть, пяти футов десяти дюймов, но подтянутый и жилистый, темнолицый, с широкими скулами и длинными волосами, свисающими из-под шапки кавалериста. Одежда на нем была отчасти индейская, отчасти солдатская: мокасины, уставные штаны цвета хаки, песочного цвета пеньковая сорочка, болтающаяся вокруг талии, плетеный пояс, с одного бока автоматический пистолет в кобуре, на шее желтый полотняный платок. Он твердо стоял на ногах, слегка отклячив зад, коротконогий, длиннорукий, вроде бы раскованный, но в то же время державшийся настороже; срезанный подбородок, худое лицо и широкие скулы. Он не двинулся с места и не сказал ни слова, только смотрел на старика, и его глаза были почти неправдоподобно глубокими и темными. Как будто бездонные. “Ну, и что дальше? — казалось, говорят они. — Долго будут длиться эти игры?” Старик отбросил папиросу и спичку и, повернувшись еще больше, встал лицом к парню.
— Я тебя спрашиваю… Ты что, не слышал, что я к тебе обращаюсь? Проваливай.
Индеец не двинулся с места.
— Что ты делаешь за моей спиной? Что ты вынюхиваешь, чего пялишься?
Индеец наклонил голову набок и пожал плечами. Он как будто интересовался, кто еще примет участие в разговоре. Затем пристально взглянул на старика. Лицо у того посерело, исказилось, щетина встала дыбом.
Прентис никогда не видел его таким страшным.
— Ну ладно, — произнес старик. — Больше я ничего говорить не собираюсь. — Он положил руку на кобуру с пистолетом.
И тут что-то произошло. Электрический разряд — именно так Прентис потом назвал случившееся. Как прикосновение к неизолированному проводу. Старик сказал что-то быстрое и резкое на языке, которого Прентис никогда раньше не слышал, очевидно, на языке апачей. Индеец не шелохнулся, но в нем что-то изменилось; он весь подобрался, как будто змея, свернувшаяся кольцами. Основная перемена отразилась в его глазах. Они, казалось, сузились. Не сильно, но заметно. А потом индеец ответил на том же языке, тихо и медленно. Такого красивого мужского голоса Прентис раньше не слышал. Потом снова заговорил старик; он произнес почти ту же фразу, что и вначале, только с каким-то небольшим отличием, и, казалось, говорил он немного дольше. И вдруг индеец кинулся на него. Его движения были быстры, как у гремучей змеи. Прентис и моргнуть не успел, как индеец уже выхватил нож откуда-то из-за спины и чуть не вонзил его старику в живот.
А старик, очевидно, ждал этого. Определенно ждал; он внезапно увернулся вбок, отступил назад и, вытянув здоровую руку, ухватил индейца за запястье. Движения его было таким ловкими, что казались хорошо отрепетированными. Теперь старик изогнулся, вытянул ногу и, подставив ее под лодыжку индейца, попытался свалить его на землю. Наконец тот упал. Старик выкручивал ему запястье все сильнее, так, что индейцу пришлось перевернуться, чтобы заставить его ослабить хватку. Нож выпал, индеец поднялся на ноги, а старик, все еще держа за запястье, рванул его к себе, снова опрокинул на землю и подставил колено под его лицо. От удара о колено голова индейца мотнулась вверх. Глаза у него на миг закатились, кровь потекла изо рта и носа, он упал к ногам старика. Календар отпустил индейца, затем протянул руку, схватил его за горло и потянул вверх. До того мига Прентис не осознавал физической силы и роста старика; с искаженным от усилия лицом он полностью оторвал индейца от земли, вздернул его вверх одной рукой, так что индеец почти стоял, только ноги его не касались земли, ион висел, дрыгая ногами. Старик потащил его вперед, ударил о скалу, прижав его к ней так, что тот не мог шевельнуться. Глаза индейца вылезли из орбит, они уже ничего не видели. А старик не ослаблял хватки; тяжело дыша, он сжимал его горло.
Только тогда другие солдаты начали двигаться: они были так захвачены событиями, что только сейчас отреагировали на происходящее и стали кричать старику, чтобы он отпустил индейца, кинулись к нему, схватили его за руки. Старик продолжал сжимать горло индейца. Как будто он прирос к месту. Его толкали, тянули, старались разжать пальцы, но все напрасно.
— Хватит, черт подери! — сказал кто-то из солдат, и его голос привел Прентиса в чувство. До этого он сидел и широко раскрытыми глазами смотрел, как старик поднимает индейца над головой, держа его за горло, как тот висит в нескольких дюймах от земли и дергается; смотрел, пораженный силой старика, даже восхищенный ею, но сейчас он пришел в себя и испугался, вскочил, подбежал к Календару, сам того не желая, подошел сзади и обхватил старика вокруг груди. Грудная клетка Календара была такой широкой, что руки Прентиса едва сошлись на ней. Сцепив руки, он сжал их что было сил. Ему все время было страшно. Поначалу грудь старика не поддавалась. Потом старик выдохнул воздух, его мышцы расслабились, и Прентис сжал еще сильнее, не давая ему глубоко вздохнуть. Потом старик снова выдохнул, но Прентис не отпускал его, так что тому стало трудно дышать. Он изо всех сил попытался стряхнуть Прентиса. В это время несколько человек тянули старика за руки, пытались разжать его пальцы. Прентису казалось, что вокруг него все кричат. Старик прерывисто дышал, и Прентис попробовал сдавить его еще крепче. Теперь старик вырывался, извивался, задыхался; внезапно он отпустил глотку индейца и, вытянув здоровую руку, расшвырял всех вокруг. Некоторое солдаты попадали. Другие отшатнулись. Прентис продолжал держать его, потом отпустил и повалился на траву. Лежа, он смотрел на старика, который стоял, вытянув одну руку, полусогнув пальцы, словно когти, и злобно оглядывался кругом; его широкая грудь вздымалась, глаза покраснели, казалось, он вконец утратил человеческий облик, а больше был похож на старого загнанного медведя или на великана, отгоняющего слабосильных людишек, которые охотятся за ним. Он стоял так, с диким выражением лица, и озирался вокруг. Внезапно он произнес:
— Не трогайте меня. Попробуйте подойти, убью. Он ни к кому не обращался. Прентис даже не был уверен, знал ли старик, что и он выступил против него. Но он не мог превозмочь страха перед случившимся, он был ошарашен поведением старика, боялся его реакции. Прентис почувствовал к Календару жалость, ему захотелось встать и сказать: “Послушайте, черт возьми, я извиняюсь”, но старик уже удалялся от них. Он прошел сквозь толпу и был уже довольно далеко. Остальные кинулись к индейцу, стали похлопывать его по плечам, поднимать, пытались заставить говорить, дышать, показать, что он жив, и индеец наконец издал хриплый гортанный звук, тяжело задышал, лицо его стало приобретать нормальный цвет. На шее виднелись отметины, но было ясно, что с ним ничего страшного не случилось. Солдаты осторожно усадили его на землю, прислонив спиной к скале, и вот он уже стонал, кивал, моргал глазами. Кто-то отправился за врачом. Они размахивали руками, обсуждали происшедшее, глядели вслед старику, который, повернувшись к ним спиной, шел вдоль подножия хребта, потом снова на индейца рядом с ними. Никто ничего не понимал. Прентис лежал, все еще не поборов страха и прислушиваясь к окружающим звукам. Наконец он встал, отряхнул с себя пыль, снова прислушался, посмотрел туда, куда шел старик, и, приняв решение, двинулся за ним.
Глава 60
— Послушайте, извините меня.
Старик, казалось, не слышал. Он отошел довольно далеко от лагеря и сидел среди валунов, опершись на один из них, и глядел на закат. Прентис стал сбоку, профиль старика вырисовывался на фоне оранжево-синего неба, мышцы лица по-прежнему были напряжены, губы сжаты, глаза горели злобным огнем.
Прентис подождал ответа, подошел поближе и подождал еще. Он сделал глубокий вдох.
— Я сказал, извините.
Старик с отвращением отмахнулся от него, продолжая глядеть в ту же точку.
— За что извинить? Ты сослужил мне службу.
— Вы меня поняли? Я боялся, что не поймете.
— Ну да. Если бы я убил подонка, попал бы под суд. Пусть живет. И так будут неприятности.
— Постойте. Вы думаете, я поэтому бросился к вам? Теперь старик повернулся к нему.
— Нет, не поэтому, — сказал он, злобно глядя на него. — Ты это сделал, потому что не хотел, чтобы я убил его. Сама мысль об этом претила тебе, и ты решил, что как только все кончится и я приду в себя, то почувствую то же, что и ты. Но я не чувствую ничего подобного. Я бы преспокойно убил его. И от этого только стал бы спать лучше.
— …Но почему? Не понимаю. Что он вам сделал?
— Стоял у меня за спиной.
— И все? — спросил Прентис, покачал головой и нахмурился. — Вы с ним повздорили из-за того, что он стоял у вас за спиной, поэтому вы попытались его убить?
— Нет, не повздорил. Я с ним вообще не знаком. И не хочу иметь с ним ничего общего и надеюсь, он чувствует то же самое. Нечего ему было подходить и становиться у меня за спиной.
— Нет, я все-таки не понимаю.
— А я тебя и не прошу понимать. Какая мне разница, нравится ли тебе то, что я делаю. Мне не нужно твое одобрение.
Прентис подошел чуть поближе.
— Причем тут одобрение. Я просто пытаюсь понять вас.
— И не пытайся. Я тебе уже как-то сказал, что ты ни черта не понимаешь.
— Это связано с апачами. Вы с ними воевали и до сих пор их не любите.
— Нет, это не так. Я воевал с сиу и шейеннами.
— Ну, тогда это просто какая-то бессмыслица.
— Вовсе нет. Ничего подобного. Ты что, вообще не соображаешь? Он же засраный индеец.
Прентис в недоумении уставился на него.
— Что, по-твоему, вся это хреновина значит? Думаешь, если ты сражаешься с кем-то, так кидаешься только на тех, против кого поднимаешь оружие? Они все из одной чертовой банды. Когда-то, не знаю, в каком поколении его рода, у этого индейца был родственник, которого убил белый человек. Судя по его возрасту, он и. сам мог быть свидетелем этого. И он помнит. Точно так же у тех мексиканцев, которых мы убили позавчера, есть родственники, и они тоже запомнят. Я не хочу, чтобы этот индеец шнырял вокруг меня. Не хочу, чтобы он на милю ко мне приближался…
— Вы думаете, он что-то замышляет против вас?
— Нет, черт возьми, конечно. Он мне ничего не сделает, во всяком случае, вот так, на людях и наедине тоже ничего не сделает: он ведь индеец среди белых, хотя он наверняка об этом думал, и немало. Но я уверен, что, попади я в беду, он бы мне не помог. Так что я просто не хочу находиться с ним рядом. Неужели это так трудно понять. Послушай, сорок лет назад я воевал с ними и делал это очень добросовестно. Я убедил себя, что они — самые низкие, гнусные твари во всем Божьем мире, и решил убивать каждого, кого только смогу. Я ненавидел их до глубины души, от одного упоминания о них приходя и ярость. Я ничего не забыл — и вдруг должен пожимать им руки только потому, что мы перестали стрелять друг в друга. “Ну-ну, приятель, все в порядке! Мы просто разошлись во мнениях, а теперь будем друзьями”. Так не бывает. Когда ты воюешь против кого-то, это отпечатывается в мозгах навсегда. Только так и можно победить. Забывать ничего нельзя. Я злюсь, достаточно мне посмотреть на этого индейца. Он оскорбляет меня, когда подходит близко, вот я и выпускаю из него кишки.
Прентис почувствовал тошноту.
— Ага, — сказал старик. — Ага, вот именно, теперь до тебя доходит. Что мы, по-твоему, делаем здесь? В игрушки играем? Мы не просто гонимся за шайкой бандитов. Тут все одно к одному. Посмотри на любого мексиканца, идущего по улице, и скажи мне, на чьей он стороне. Он только что разговаривал с Вильей на дороге, в пяти милях отсюда, а теперь он посылает нас в другую сторону. А еще в пяти милях он натыкается на федеральную армию и, может быть, играет им на руку, показывая правильную дорогу. Или нет. Не важно. Он с радостью подложит нам свинью и будет смотреть, как мы подыхаем. Ему никак нельзя доверять. Можно только предположить, что он хитрец, тогда все с ним будет ясно.
— Но если вы так думаете, какой во всем смысл? То есть, что вы тут делаете? В конце концов, не выйдет ничего хорошего.
— Конечно нет. Ничего не изменится. Просто, насколько мне известно, все обстоит именно так. Я хорошо разбираюсь в жизни.
— Но как же мексиканцы, индейцы? Ведь война закончится, а вы никому из них не доверяете, не любите их, не хотите, чтобы они подходили близко. У вас же никого нет.
Старик пронзительно посмотрел на него, склонил набок голову и показал пальцем в сторону.
— Теперь отправляйся туда. Может быть, ты все-таки поймешь.
— Но я не могу быть таким.
— Может, нет. А может, да. Посмотрим.
— Нет. Я не хочу быть таким.
— Тогда тебе здесь нечего делать. Если ты начинаешь относиться к врагу как к человеку, считай, что ты труп.
Они посмотрели друг на друга.
Прентис помедлил минуту и повернулся, чтобы идти. Потом резко обернулся.
— Слушайте, я понимаю то, что вы говорите. Я просто не могу заставить себя зайти так далеко. Вам это ясно?
— Конечно, — ответил старик. — Конечно, я понимаю. Но в таком случае мне больше нечему тебя учить. Прентис немного подумал.
— Возможно.
И они снова посмотрели друг на друга. Прентис попытался придумать, что бы сказать, не придумал, посмотрел на солнце, садящееся за линию горизонта, потом на старика, снова повернулся и пошел вперед не останавливаясь.
Глава 61
— Майор не против, чтобы ты отправился со мной.
Прентис продолжал скакать вместе с колонной. Он был на левом фланге. Это происходило на следующий день около полудня; низкие, обрывистые горы тянулись справа, а с трех остальных сторон расстилалась пустыня: юкка, кактус, мескит, дурман, выжженные солнцем камни и песок.
И пыль. Все время пыль. Казалось, такой жары еще не было. Прентис снял свою кавалерийскую шляпу с круглыми полями и острой тульей, вытер голову. Он и не знал почему. Воздух был сух, он сам так обезвожен, что даже не вспотел. Он сделал это просто так, чтобы, повернувшись к старику, не пялиться на него, а как будто чем-то заниматься.
Они избегали друг друга после вчерашнего вечера. По крайней мере, это он избегал старика, стараясь держаться в группе солдат, спать рядом с ними, вместе с ними седлать лошадь. Время от времени он поглядывал вокруг; старик был почти на границе лагеря, все время один. Он сидел у огня и смотрел в темноту. Утром старик оставался на том же месте, и дело было не в том, что Прентис не одобрял его точку зрения. На самом деле он признавал, что тот прав. Он просто был не в силах представить себе, что сам когда-нибудь смог бы вести себя подобным образов. И в конце концов, Прентис ощутил себя таким наивным и глупым, что не мог отважиться подойти и заговорить с ним как ни в чем не бывало. Солдаты поели, приготовили своих лошадей, сели в седла, а Прентис все еще не позволял себе приблизиться к старику, а тот, в свою очередь, совещался со своими дозорными, послал одного из них передать что-то индейцам, потом поскакал, один впереди колонны и вернулся через три часа. К тому времени отряд прошел почти двадцать миль, и, прислушиваясь к разговорам соседей, Прентис узнал, что из-за индейца-таки у Календара были неприятности. Небольшие, но были. Майор посылал за стариком вчера поздно вечером и сегодня утром, и оба раза они крупно поговорили. Никто не знал, о чем именно, — майор с Календарем каждый раз отъезжали в сторону. Но разговор шел на повышенных тонах, это было ясно, а утром кто-то видел, как майор грозил старику кулаком. “Интересно, как это воспринял старик”, — подумал Прентис. Кое-кто видел майора сразу после разговора со стариком. Лицо у майора было красное, он срывался и рявкал на своих офицеров.
Слушая все это, Прентис наблюдал, как старик скачет во главе колонны рядом с майором. Когда старик развернулся и направился к флангу колонны, Прентис стал сосредоточенно смотреть вперед. Потом он увидел, как старик снова развернулся и оказался рядом с ним. Прентис изо всех сил старался по-прежнему смотреть прямо перед собой. Старик немного подождал, и потом предложил поехать с ним.
— Зачем? — спросил Прентис.
— Хочу тебе кое-что показать.
Прентис ни о чем не спросил. Он чувствовал, как его соседи косятся на него, и ему не хотелось никуда уезжать.
— Что же?
Они проехали рядом еще немного.
— Как хочешь, — сказал старик. Он подстегнул лошадь и поскакал вперед.
Прентис смотрел, как он удаляется. Он понимал, что зря кочевряжится и устраивает представление, доказывая свою самостоятельность. Но чем дальше отъезжал старик, тем больше ему хотелось быть с ним, и, не успев хорошо подумать, Прентис уже скакал рядом.
Старик взглянул на него.
— Ты уверен, что хочешь ехать со мной?
Прентис пожал плечами и ответил:
— Все лучше, чем глотать пыль в общем строю.
— Это уж точно, — согласился старик.
И тут он улыбнулся. Это была неширокая улыбка, зубы едва обнажились, а глаза все же оставались не очень веселыми. Но все-таки это была улыбка, и в первый раз Прентис увидел, как старик улыбается. Улыбка возымела свое действие. Его гордость и напряжение как рукой сняло. Они отделились от всех и поскакали вперед; старик показывал дорогу, Прентис чувствовал благодарность и облегчение.
Они скакали несколько часов. Старик остановился, когда они въехали на холм; колонна скрылась из виду. Старик показал вперед, на ряд рытвин и уступов, и сказал:
— Здесь.
— Не понимаю.
— Очень просто. Найди здесь воду.
— Что? Я же не умею.
— А ты подумай.
Прентис посмотрел на него: старик не шутил. Прентис сделал глубокий вдох и снова осмотрел пустыню. Потом выдохнул, наклонился в седле и стал думать. Он немного волновался из-за испытания, которому подверг его старик. Но все равно, это чем-то напоминало игру, он чувствовал радость, как от разгадывания головоломки, и, хотя в какой-то миг он ощущал на себе взгляд старика, он очень скоро забыл о своих чувствах и сосредоточился на поставленной задаче.
— Ну, посмотрим. Значит, надо подумать. Что ж, там, где есть вода, растут деревья и кусты. Не вижу здесь никаких деревьев. Кустов тут полно, это мескит, но довольно сухой и растет беспорядочно. Вон целые заросли в канаве, в сотне ярдов справа, но, я думаю, это осталось с сезона дождей. Не знаю. Трудно сказать. Надо поискать.
— Ну, что ж, хорошо. А еще что?
— Еще, наверное, должны быть животные. Скорее всего, маленькие. Ящерица, например. А может, и кабан. В крайнем случае, птица. Кстати, о животных. По-моему, там что-то шевелится. Вон там, впереди. Движущаяся точка между утесами.
— И что это, по-твоему?
— Слишком далеко, не видно. Что-то крупное, может быть, олень?
Старик сунул руку в переметную суму и достал оттуда бинокль. Прентис посмотрел в него.
— О Господи, — сказал он.
— Что там?
— Лошадь.
Старик поцокал языком.
— Вы знали?
— Я только что вернулся отсюда. Это-то я и хотел тебе показать.
Он взял бинокль, опустил его в сумку и застегнул ее, потом схватился за поводья и поскакал вниз по склону.
Они довольно долго добирались до лошади, то видели ее, то теряли из виду. Когда они поднимались на утес, она возникала перед их глазами. Поначалу она казалась точкой. Потом стали ясно видны ноги, голова, общие очертания, и теперь уже не было сомнений, что это лошадь.
Прентис ничего не понимал. Они приближались, а лошадь стояла на месте. Они двигались достаточно шумно, она не могла их не услышать. Она должна была испугаться. Или, наоборот, кинуться к ним. Одно из двух. Но эта лошадь, казалось, не обращала на них внимания. Потом он подскакал ближе, пригляделся, и в животе у него все перевернулось.
У лошади не было глаз. Кто-то их выколол, оставив пустые слезящиеся глазницы. Спина выглядела еще хуже: сплошные кровавые раны, белые от гноя, покрывали ту часть спины, где было седло; в них копошились черви; в тех местах, где начиналась гангрена, кожа позеленела. Немудрено, что лошадь не испугалась их и не подбежала к ним. Она столько выстрадала, что ей было ни до чего.
— Боже мой, что с ней случилось?
— Ну, спина, допустим, стерта седлом. Это одна из лошадей Вильи. То есть не его лично, а кого-то из его людей. Они ее заездили чуть ли не до смерти и оставили здесь.
— Но глаза. Что с глазами?
— А вот это самое интересное. Они нашли здесь поблизости воду, поэтому и ослепили ее. Лошадь не уйдет далеко от воды. Когда они вернутся и станут искать воду, то вполне могут заблудиться или перепутать ориентиры; но если они будут внимательно смотреть вокруг, то уж лошадь-то увидят наверняка. Как дорожный знак. Они всегда так делают. — Он взглянул на Прентиса. — Славные ребята.
— Да уж. — У Прентиса из головы не выходило то, что старик говорил ему вчера, хотя он и пытался подумать о чем-нибудь другом. — Ну, а где вода?
— Прямо за тобой.
Он обернулся: под уступом скалы блестело озерцо.
— Для отряда недостаточно, так что нашим здесь делать нечего. Наполним канистры, напоим своих лошадей и поскачем обратно.
Старик вытащил пистолет.
— Постойте. Что вы делаете?
— Хочу пристрелить лошадь.
— Но вы только что сказали, что они будут возвращаться этой дорогой. Может быть, оставить ее здесь, привести отряд и устроить засаду?
— И не думай. Уверен, что за нами следят.
— Как?
— Не в двух шагах, конечно, — сказал он. — Скорее всего, вон оттуда. — Он показал на горы. — Кто-нибудь засел там с биноклем. Они так тоже всегда делают. Если они знают, что будут возвращаться этой же дорогой, они оставляют кого-нибудь поблизости, чтобы убедиться, что вода в безопасности. К тому же лошадь и так скоро свалится. Посмотри на глазницы — они почти пересохли, она тут, наверное, уже пару дней. Если бы они собирались вернуться, они бы уже это сделали. Не рискуя — ведь лошадь могла пасть, и они остались бы без воды. Нет, как ни крути, нам пора возвращаться. Или кто-нибудь видел нас, или они не вернутся. И ни к чему мучить лошадь, ей и так уже досталось.
Старик зарядил пистолет, подошел к лошади сбоку и прицелился ей в голову. Он нажал на спусковой крючок, прогремел выстрел, из отверстия с другой стороны вылетели кусочки кости, мяса и мозга, лошадь упала головой вперед, всхрапнула, вытянула ноги, вздрогнула и затихла.
Календар стоял и смотрел на лошадь; в ушах у него еще отдавалось эхо выстрела; потом он повернулся к Прентису.
— Признайся. Ты уже и сам думал об этом, но не сделал этого. Правда? — Он кивнул.
— Почему?
— Я думал, вы скажете, что это неправильно.
— Послушай-ка. Я знаю, что бываю жестоким. Но подумай головой. Если в этом нет практического смысла, жестокость ни к чему.
Он снова кивнул.
— Вы правы. Просто очень трудно разобраться, когда как поступить.
— Научишься.
— Не знаю. Иногда мне кажется, я не смогу.
— Точно тебе говорю.
— Не знаю. — Прентис вдруг подумал, что они беседуют, как будто вчерашнего разговора совсем не было, как будто уроки продолжаются и старик вовсе не собирается их отменять.
Но это не имело никакого значения.
Он посмотрел на старика, потом на лошадь и жалел, что у него не хватило уверенности поступить так, как он считал нужным, потом пожал плечами и сказал старику:
— Давайте наполним канистры.
“Они могут похоронить лошадь, — подумал он, но ему не хотелось даже заикаться об этом. — Это займет слишком много времени, а так хоть стервятникам будет чем поживиться. И вообще, лошади все равно. Да, так или сяк, лошади все равно”.
Они наполнили канистры, напоили лошадей, огляделись, нет ли поблизости еще озерца, уселись поудобнее в седлах и поскакали назад к колонне. По дороге он спросил старика, как еще можно находить воду, и узнал, что в русле пересохшей реки вода еще может сохраняться во впадинах под песком. Он узнал, как мульчировать кактусы, искать звериные тропы, наблюдать за направлением птичьего полета. Они остановились в канаве, которую он заметил, и проверили заросли мескита — нет ли там воды, но ее не оказалось. Они снова уселись в седла и продолжали путь.
Глава 62
За ними действительно следили. Через много лет кто-то будет по кусочкам восстанавливать те события, читать старые дневники и письма, разговаривать с родственниками тех, кто был непосредственным участником происходящего, и хотя некоторые источники противоречили друг другу, в основном они говорили одно и то же. Да и некоторые другие, касавшиеся последующих событий, вполне согласовывались с ними. После ранения Вильи в Герреро и его хорошо охраняемого отступления его отряд из ста пятидесяти человек начал распадаться. Это не считалось дезертирством, а скорее было расчетливым риском с целью отвлечь от него внимание. Ведь его повозка разбилась вдребезги, соскользнув с узкой дороги и свалившись в пропасть. Тогда процессия замедлила ход; шестнадцать человек несли Вилью на носилках, а всадники, спешившись, вели рядом своих лошадей. Рано или поздно солдаты Першинга должны были напасть на след — цепочка лошадиного помета была достаточно красноречива сама по себе. Так много людей и так медленно идут — Першинг без труда нагонит их.
И тогда они начали разбиваться на группы по пять-шесть человек и расходиться в разных направлениях; время от времени их останавливали люди Першинга, и они выдавали себя за сторонников Каррансы. Перед тем как разойтись, они договорились встретиться через два месяца в городе Сан-Хуан-Баттиста, в провинции Дуранго. В то время люди Вильи, которые теперь состояли только их тех, кто нес носилки, и троих абсолютно надежных друзей, продвигались дальше через горы. Они шли все время на юг, надеясь наконец выйти из пределов досягаемости Першинга; они спускались с гор, чтобы отдохнуть и запастись провизией, — один раз на Асьенде-Сьенгита, а потом в городке Сьерра-дель-Оро, чуть подальше.
Но такая тактика едва ли могла гарантировать успех. Ранчо и маленькие городки привлекали самое большое внимание солдат Першинга; именно там их стали бы искать в первую очередь, и хотя в лучшие дни Вилья рассчитывал на своих дозорных, которые предупреждали его об опасности заблаговременно и он успевал уйти, то теперь из-за раны он слишком медленно передвигался. Она никак не заживала, оставалась черной, распухла и нарывала. Вилья страдал от боли и лихорадки, почти не спал, бредил, боялся, что умрет. Или останется без ноги. Зловоние было тошнотворным, и он и его люди по нескольку раз в день осматривали рану — не началась ли гангрена. Вилья стал совершенно беспомощным, его нужно было перенести в безопасное место. Наконец они решили уйти обратно в горы, прячась днем, совершая переходы на рассвете и в сумерках, чтобы зайти достаточно высоко и найти подходящую пещеру.
Она нашли ее довольно далеко, пещеру прикрывал кустарник. С одной стороны виднелась пустыня, а с другой стороны, вдали — второй горный хребет. Там его носильщики тоже разбились на группы и разошлись, оставив Вилью с тремя друзьями: двое все время не отходили от него, а третий отправился вниз, распространить слух, что Вилья умер, разведать новости и вернуться по возможности с припасами. Рана начала заживать, друзья Вильи перевязывали ее листьями филокактуса, разминали застывшие мышцы, помогали ему становиться на ногу и ковылять с палкой. Оттуда они постоянно наблюдали за пустыней. Все даты сходятся. Прошло шесть дней после Герреро, было 3 апреля. Тринадцатая колонна миновала этот хребет двумя днями раньше, а один из друзей Вильи потом говорил, что вскоре после того, как они там устроились, они видели колонну, нескольких разведчиков, скакавших впереди, и еще двоих людей, которые остановились на холме и пристрелили какое-то животное.
Календар ошибся насчет лошади. Она не была из отряда Вильи, хотя оставлять слепую лошадь около воды было вполне характерно для тактики Вильи. Точно не известно, кто оставил там лошадь, но Календар, по крайней мере, оказался прав в том, что за ними наблюдали. Все равно ничего бы не случилось, если бы отряд остановился у того озерца. Вилья остался в пещере еще и потому, что неподалеку была речка. Все было под рукой. Его люди просто оставались наверху и смотрели, как колонна проскакала по пустыне и скрылась с глаз. Вилья продолжал разрабатывать ногу, заново учился ходить. К десятому числу холод и сырость пещеры стали плохо действовать на него, и они решили снова спуститься вниз. В результате они еще раз наткнулись на 13-ю колонну. Эта встреча для Вильи, не имевшая совершенно никакого значения, сыграла огромную роль для Календара и Прентиса.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава 63
В лагерь заявились три проститутки. Незадолго до того стемнело, и часовой чуть не застрелил их, пока не сообразил, в чем дело. Они были мексиканки, скорее испанской, чем индейской крови, в возрасте от тридцати пяти до пятидесяти лет, толстые, с тупыми лицами и отвисшими грудями. Их длинные волосы, заплетенные в косы, были жирными и пыльными. При них был тощий высокий сутенер с усами в ниточку, в костюме, который был ему на размер мал: рукава коротки, пиджак, застегнутый на все пуговицы, так и трещал у него на груди. Туалет дополнял перекошенный галстук-бабочка, а в петлице болтались видавшие виды часы. Приближаясь к часовому, он непрестанно улыбался, держа в руке шляпу, указывал на шлюх и что-то бормотал о них. Часовой вскинул ружье и велел им остановиться. При свете костров, горевших позади него, он видел гостей достаточно отчетливо. Часовой переводил взгляд с женщин на сутенера, а потом снова на женщин; сутенер был скорее похож на гробовщика, а шлюхи, бессмысленно озиравшиеся по сторонам, казались просто случайными деревенскими бабами, которых он прихватил с собой. Они были одеты в бесформенные ситцевые платья, с нитками ярких бус на шеях. Тем не менее, часовой покачал головой и позвал подмогу.
На его крик пришли двое солдат, потом подоспел сержант. Сержант правильно оценил обстановку. Он пошел на поиски майора, но не нашел его, тогда он подумал, что майор все прекрасно поймет, и принял решение. Солдаты были уже готовы, это ясно: они с каждым днем все больше говорили об этом, иногда даже дрались, подолгу засматривались на крестьянок. Проходя мимо, женщины часто ускоряли шаг, задирали юбки и брызгали грязью, чтобы отразить то, что ясно считали попыткой изнасилования; солдаты злились и ругались. Они, может быть, еще не дошли до мысли об изнасилованиях, но если бы не политика и не запрет общаться с местным населением, они давно уже нашли бы дорожку и к женщинам, и к вину в ближайших поселках; а поскольку у них не было ничего, чтобы развеять скуку, их нервы были на пределе. Строго говоря, это было потакание их слабости, и сержант не должен был так поступать. Но, с другой стороны, почему бы не уступить? Пусть они все время опасаются попасть в какую-нибудь западню, пусть майор, как кажется, склонен повернуть обратно… Ну а в этом сержант не видел никакого вреда.
— Вон за теми валунами, — сказал он сутенеру. — Плата не больше пяти песо или какая-нибудь еда. И под охраной вооруженных часовых.
Сутенер, все еще улыбаясь, чуть не присел в реверансе. Он повернулся к шлюхам и затараторил, обращаясь к ним и показывая на камни. Они пожали плечами и двинулись за ним.
Потом сержант обернулся и очень удивился: там, где только что было трое солдат, теперь толпилось пятнадцать. Улыбаясь про себя, решив, что он их проучит за нетерпение, он сказал:
— Берите ружья. Будете стоять на страже.
Они не противились, а охотно отправились за ружьями и даже не ворчали. Это удивило его. Потом сержант понял, что они собираются насладиться зрелищем, и, когда солдаты вернулись, сообщил им:
— Не хочу, чтобы вы пялились всей бандой. Половина стоит на страже, остальные идут в дозор.
Они проглотили и это, довольные, что удастся подглядеть хоть что-нибудь. Теперь подошли и другие солдаты, и сержант сказал им:
— Не толпитесь.
Если майор действительно не был занят, а нарочно смотрел на происходящее сквозь пальцы, то не было никакого смысла выпендриваться. Они провернут все тихо и незаметно, а то майор подумает, что он разыгрывает комедию, и быстро все прекратит.
Это имело смысл, и весть быстро распространилась по лагерю. Вскоре бросили жребий, а затем все солдаты уселись на своих одеялах и стали чистить оружие, стараясь чем-то заняться в ожидании своей очереди.
Шлюхи зашли за камни, задрали юбки и легли рядышком. Солдаты заходили туда по трое, расстегивали штаны и опускались на колени рядом с ними. Прентис подошел к Календару и спросил его:
— Вы идете?
Старик сидел, облокотившись на камень; он поднял на него глаза и покачал головой.
— Меня это больше не интересует. — Он зажег спичку и закурил. — К тому же не хочу подцепить болезнь. — Прентис остановился.
— Вы думаете?
— Я знаю. Если у тебя есть проблемы, справляйся с ними сам. — Он улыбнулся. — Только руку вымой. Сядь-ка, зачем тебе эта головная боль.
Прентис посмотрел на цепочку камней у края лагеря, потом на старика, пожал плечами и устроился рядом.
Он постарался не показать своего облегчения. Только раз в жизни он имел дело с женщиной, вернее, не с женщиной, а с девчонкой. Ей было шестнадцать, как и ему. Они и не собирались этого делать. Просто начали бороться, потом целоваться. Одно повлекло за собой другое, вот и все. Он кончил, едва начал, и она обзывала его всякими словами.
Это было в Огайо, возле отцовской фермы. Он был таким неловким, а вокруг той девчонки вечно вилось столько парней, что он больше ни разу так и не подошел к ней, да и времени у него не было. Вскоре после этого у отца начались неприятности.
Его мать к тому времени уже год как умерла, отец изо всех сил старался управляться с фермой и вести хозяйство без нее. Потом его здоровье сдало. Город стремился поглотить ферму, и постоянная борьба изнуряла его еще больше. Однажды, сидя на повозке, полной камней, он ехал через поле, поднялся на холм и слишком резко одернул лошадь. Повозка перевернулась, камни посыпались и задавили его.
Прентис так никогда и не узнал, почему это произошло. Отец прекрасно понимал, что можно делать, а что нельзя. Может быть, от слабости он просто забылся. А не исключено, что ему было все равно. Прентис не узнал этого. Он видел похороны отца, видел, как город все-таки захватил их землю. Но на этой ферме, где он потерял столько близких — отца, мать, двоих братьев, умерших в детстве, — он в любом случае не остался бы. Он взял деньги, предложенные городскими властями за землю, которых дали намного меньше, чем должны были дать, немного побродяжничал, решая” чем бы ему заняться, наконец положил деньги в банк и оказался там, где был сейчас.
Почему, он и сам не знал. Из любви к приключениям, как он говорил сам себе. И отчасти это было так. Появилась возможность многому научиться, в чем-то участвовать, побывать в разных местах, приучиться к порядку. Больше всего, как он подозревал, ему хотелось сбежать подальше от такой жизни, какую вел его отец. Прентис как будто каялся, заглаживал вину: ему следовало остаться и бороться за свою землю. Самое смешное, что он думал, будто окажется в Европе, а очутился в Мексике. Все равно он не понимал, почему раньше солгал Календару, сказав, что его отец живет в квартире, в том городе, в Огайо.
Он также не знал, каково ему будет подойти к тем женщинам, как он с этим справится, тем более под взглядами часовых. Не потому, что он не умел, и не потому, что у него не было потребности: по дороге от нечего делать он порой думал о женщинах. Но делать это на людях, когда на тебя смотрят? К тому же грязная потная кожа, пыль, засаленная одежда, чужая сперма — все это его отталкивало; влекло только абстрактное желание и мнение других солдат, не сомневающихся, что он тоже участвует.
Теперь, когда у него была уважительная причина отказаться, он предпочел провести время с Календаром, сел рядом с ним и стал наблюдать, как одни солдаты ждут своей очереди, а другие возвращаются. Теперь он чувствовал облегчение, что ему не надо идти за эти камни, и радость, что он отделался от этой проблемы. Прентис не сразу сообразил, что старик что-то говорит. Он повернулся к нему.
— Вот именно, — сказал старик. Он не понял.
— Завтра.
— Не понимаю. Что завтра?
— Мне исполнится шестьдесят пять. Должно быть, он невольно вытаращил глаза. Старик взглянул на него.
— Ты удивлен? Думал, этого никогда не случится?
— Нет. Просто…
— Просто что?
Он покачал головой.
— Даже не знаю, что сказать.
— Ну еще бы. Сказать-то нечего. Просто еще один день.
— Да, но я, наверное, все равно должен поздравить. То есть, я не представляю, что вы чувствуете. Не знаю, как быть.
— Не представляешь, что я чувствую? — Старик привалился поближе к камню, затянулся своей папиросой, пристально взглянул на него и выдохнул дым. — Ну, примерно вот что. Я чувствую себя так же, как десять или пятнадцать лет назад. У меня стало побольше болячек. Появились неприятности с желудком, я стал хуже спать, но я так же легок на подъем, как всегда, и мозги у меня пока работают. По крайней мере, мне так кажется. Но беда в том, что такой день рождения — это напоминание. — Он отвернулся, вгляделся во тьму, потом снова стал смотреть на Прентиса. — Просто я больше не могу не замечать возраста. Я старею.
Никогда раньше Прентис не слышал, чтобы старик так долго говорил о себе, — даже когда они спорили об индейце, он скорее разъяснял, чем рассказывал. К тому же впервые на памяти Прентиса старик позволил себе какой-то намек на собственную слабость, поэтому он никак не мог прийти в себя, и просто сидел и смотрел на него.
— Хочешь послушать одну историю? Прентис кивнул, благодаря старика за то, что ему не надо ничего говорить.
— Если вы хотите…
— Да, я хочу рассказать. Ты бывал в Вайоминге? — Он покачал головой.
— Только в Огайо и здесь. С остановками в Нью-Йорке и Техасе.
— В общем, тебе бы там понравилось. Я имею в виду север. На юге-то там так же, как здесь, ну может быть, чуть получше. Камни, песок, дурман, пустынная трава. В общем, там есть горная цепь, которая тянется с севера на юг. Если ты приходишь туда с востока, ты сначала идешь через пустыню. Потом натыкаешься на горы, потом опять пустыня, снова горы, пустыня и опять горы, и все эти горные хребты разные, и все очень красивы. Даже названия красивые. “Большие Рога”, “Река Ветра”, Тэтонс.
Впервые я попал туда в 1867 году. Потом началась заваруха с индейцами, и мы с другом записались в кавалерию. Того человека убили… — Он на миг задумался. — В общем, я провел в седле пять лет, в основном в Колорадо, и решил, что сыт по горло, и тогда вернулся в Вайоминг и работал там погонщиком скота и кем угодно. Потом мне это осточертело, и я снова записался в кавалерию, но на этот раз стал дозорным.
Я к тому времени хорошо знал Вайоминг. Семидесятые годы оказались худшим временем за всю войну с индейцами, и я решил, что если мне снова с ними драться, то я, по крайней мере, должен приносить максимум пользы. Это длилось довольно долго. Много было боев, в основном сражались с сиу. Но к 1880 году мы почти разделались с ними. Я не знал, что делать дальше. Кавалерией я был сыт по горло. Перегонять скот мне совершенно не хотелось, хотя я по-прежнему немного занимался этим. К осени 1880-го я сделал выбор. Мне оставалось одно. Когда живешь рядом с такими горами, они пленят тебя. Ты не представляешь, как они действуют на твое сердце и душу. И вот, опоздав на пятьдесят лет, не надеясь получить какую-либо прибыль, я купил несколько ловушек, лошадь, вьючного мула, запасся припасами и еле успел до первого снега.
“Река Ветра”. Я бывал там и раньше, но обычно со стадом и с кучей народа. Как только начинало пахнуть снегом, мы уходили. Или еще с кавалерией, но тогда тоже народу хватало, и если ты нуждался в помощи, ты ее получал. А теперь все было совсем по-другому. Я и не представлял, что из этого получится. Я ухитрился поставить бревенчатую хижину до наступления зимы, но о лошади и муле не позаботился. Не знаю уж, о чем я тогда думал, наверное, что они будут рыть снег и добывать из-под него траву. Сам не знаю. Снег выпал в середине октября. Ночью. Сначала пошел дождь, потом дождь со снегом, потом снег, и когда я утром вышел из хижины, лошадь и мул были мертвы. И не потому, что замерзли. Было холодно, но не до такой степени. Они были покрыты льдом полностью. Насколько я понял, и лошадь и мул просто-напросто задохнулись.
Они лежали на боку, почти занесенные снегом, и меня охватил ужас. Не забывай, одно дело — знать, что делать, когда вокруг много народу, но если ты один — совсем другое. Я стою, падает снег, лошадь и мула почти засыпало, поднимается ветер, тучи низко, снег все гуще и гуще, холодает с каждой минутой. И я думаю: “Бог ты мой, я же тут помру!” Правда, смех и грех? Чего я только не испытал в жизни, а тут стою, насмерть напуганный снежным бураном. Я ведь правда тогда решил, что помру. Как будто кто-то пытался раздавить меня; не будь я один, я бы так себя не чувствовал. Это уж точно. Если бы со мной кто-нибудь был, я бы просто сказал: “Дело дрянь”, и пошел бы приготовить кофе и подождал, пока буран кончится.
Но я мог думать только об одном: надо сматываться. Вниз, в долину. Зря я забрался в горы. Когда лез один наверх, хорохорился, а тут срочно приспичило вниз. Я захватил немного еды, оделся потеплее и пошел. Недалеко была охотничья хижина, и я решил, что доберусь до нее, пока буран не разыграется вовсю, переночую и отправлюсь дальше утром. Я тогда думал, что одолею буран.
Я пустился в путь, пробираясь сквозь снег. Он был глубокий, наверное, дюймов десять, но идти было можно, и я знал путь, которым пришел. Передо мной было что-то вроде лощины, весной там, наверное, течет речка; я добрался до нее и пошел вниз, а там снег был еще глубже, ветер собирал его в хлопья и заметал скалы. Я шел, шел и в конце концов почувствовал — дальше не пройти; пришлось вылезать и искать другую дорогу. Потом снег повалил такой густой, что я уже не видел ничего дальше своего носа, кроме смутных очертаний деревьев и камней. А когда я прошел около мили, снег стал еще гуще, и я оказался в белой пелене. Знаешь, что это такое? Приходилось бывать?
Прентис покачал головой.
— Не можешь отличить земли от неба, все сливается. Снег вокруг такой серый и густой, что не видишь даже дерева в двух шагах. Руки своей и то не видно. И не забывай, что сердце у меня колотилось как бешеное, и если раньше я просто перепугался, то теперь со мной творилось нечто неописуемое. Кошмар и жуть, — сказал он и засмеялся. — Я не понимал, куда иду. Я знал, что мне не найти ни того охотничьего шалаша, ни своей хижины. Но я понимал, что идти вперед нет смысла, тем более я не знал куда. Идти, пока не упаду и не замерзну, мне тоже не светило. И вдруг что-то внутри как будто щелкнуло и я овладел собой. Может быть, я просто обессилел. Когда я увидел первый же намек на укрытие — всего-навсего два валуна с впадиной между ними, я забрался туда, нагреб перед собой снега, чтобы заслониться от ветра, и стал ждать. Я прекрасно понимал, что засыпать нельзя, и принялся есть, чтобы не задремать. К тому же я подумал, что еда — это вроде какая-никакая работа для организма. И вот я сидел в своем укрытии и ел. Черт возьми, я слопал почти все, что взял с собой, а снег все валил, и ветер крепчал, и я, наверное, случайно уснул, потому что вдруг почувствовал, что не могу дышать. Проснулся и не увидел ничего: я весь был завален снегом. Кое-как удалось выбраться из него, и я чуть не ослеп от солнца. Не знаю, сколько я там проторчал, не меньше суток, наверное. Я не имел понятия, где я и как пойду по такому глубокому снегу, но одно было ясно: охотничий шалаш слишком далеко. Значит, надо возвращаться в мою лачугу. Я начал рассматривать знакомые вершины, прикинул, в какой стороне от них моя хижина, и еще целый день пробирался к ней по снегу. Несколько раз свернул не туда, но вообще-то нашел ее довольно легко. Самое трудное было идти по снегу. Ну, я проспал там целый день, а проснувшись, кое-что понял. Во-первых, каким я был дураком, что решился подняться сюда. И прежде всего потому, что пошел один. Я же ни черта в этом деле не смыслил. Во-вторых, потому что решил: раз я столько всего пережил, значит, могу вынести все, что угодно. Подумаешь, зима оказалась суровее, чем я предполагал: если бы я все обдумал, ничего бы не случилось. У меня оставалось полно еды в хижине. Я знал, что вокруг водится дичь. К тому же замерзшие лошадь и мул — дополнительное мясо, если бы только удалось их разрубить. Так что, как ни крути, мои дела не так плохи.
И я начал ставить ловушки, находил поблизости озера и реки, где лед был не слишком толстый, и разбивал его. Потом стал находить следы на земле и выискивать норы. Около них тоже ставил ловушки и еще около кустов, где была обгрызенная кора. Конечно, как и во всем, мне пришлось многому научиться. Мне рассказывали, как ставить ловушки, но одно дело слушать, а другое — делать самому. Иногда я ставил капкан недостаточно хорошо, и зверь убегал как миленький или утаскивал капкан с собой. Но постепенно у меня стало получаться все лучше и лучше, я осваивал науку, ставил капканы в более удачных местах, и вскоре у меня появились бобры, лисы, кролики, даже волки. Я тут же свежевал их, варил мясо бобров и кроликов, каждый вечер выделывал кожи, а по-настоящему тонкую работу оставлял на время, когда налетали бури.
А бури налетали достаточно часто, но мне было тепло, еды хватало, да и работы тоже, так что я не скучал. В ясные дни я вставал с рассветом, весь день охотился, возвращаясь к вечеру. Единственная опасность была отморозить ноги, бродя в воде. Но у меня была одежда, чтобы переодеться, когда я промокал, и к тому же у меня хватило ума испробовать свои снегоступы, так что дела шли совсем неплохо.
До поры до времени. Но я ведь не знал, что такое настоящая зима, и ждал, пока она кончится. А она продолжалась и продолжалась, делалось все холоднее и холоднее, а снег все глубже и глубже. И хорошо, если б так было месяц или два, но прошло три, четыре месяца. Пять. И мне казалось, что конца не будет никогда. Вдруг я заметил, что разговариваю сам с собой, со зверями или с деревьями, а лед стал таким толстым, что пробить его стало невозможно. И было так холодно, что даже звери уже не вылезали из нор, и мне приходилось проводить день за днем в хижине, вставать позже, ложиться раньше, есть меньше, я почти перестал умываться и причесываться и все время разговаривал сам с собой. Проще говоря, сходил с ума из-за отсутствия собеседника. Казалось, я прошел полный круг: сначала ужас, когда я понял, что совсем один, потом попривык к этому, а затем докатился до болтовни с самим собой. И вот снова ужас от одиночества. Потом случилось нечто странное. Я привык. Сам не знаю как. Сила воли тут ни при чем. Просто все как-то сделалось проще. Сначала я доказал себе, что в удобствах не нуждаюсь. Теперь оказалось, что я не нуждаюсь и в людях. Мне было достаточно целыми днями просто сидеть у огня, скрестив ноги, без единой мысли в голове, ничего не видя, ни о чем не думая, слыша только какой-то один бесконечный звук, который мне очень нравился. Я никогда не чувствовал такого покоя и такой ясности. Снег к тому времени уже засыпал мою лачугу по самую крышу, и мне пришлось прорыть туннель вверх, чтобы выбираться на свежий воздух, но я редко выходил, просто сидел у огня, а тяжелый снег, покрывавший хижину, казалось, приглушал все звуки. Наверное, я бы там остался и умер, если бы не оттепель.
Оттепель в тот год наступила рано. Вернее, это потом мне так сказали. Я-то сам не понимал, что рано, а что поздно. В конце концов, я уже потерял счет дням и месяцам. Но оттепель все-таки наступила рано и вернула меня к действительности. Я осознавал происходящее с трудом, мне совсем не хотелось ни о чем думать. Но тут я ничего не мог поделать, жизнь есть жизнь.
Хижина промокла насквозь от таявших снегов, и я осмотрел шкурки и меха. Их оказалось слишком много. Чтобы спустить их вниз, мне понадобилось бы специальное приспособление. Но я охотился на этих зверей, и мне казалось, что нехорошо по отношению к ним просто взять и все бросить. Я соорудил нечто между рюкзаком и носилками, погрузил свое добро и двинулся вниз. Снег был еще очень глубок, и я долго добирался до охотничьего шалаша; там оказалось два ковбоя, но я не знал, как с ними разговаривать. Черт возьми, они тоже не знали, как со мной говорить! Они только поглядели на меня, искренне удивляясь моему появлению. Но они рассказали мне новости. О железной дороге. О том, что в долине зима. Я не хотел ничего слушать. Для меня это был пустой звук. Они мне сообщили, какое было число и месяц, но этого я тоже не хотел знать, и вообще я разговорился с ними лишь потому, что они оказались в шалаше; хотя они предложили мне помощь, я заявил, что ни в чем не нуждаюсь, и по-быстрому ушел.
Я добрался до ближайшего города только через несколько недель. К тому времени снова похолодало; оттаявшая земля замерзла, но я чувствовал себя крайне неуютно, не то что сидя в хижине. Я понял, что снова влип. Мне надо было успокоиться, и теперь я только и ждал, чтобы снова заговорить с людьми. Я стал осматривать город; снег на склонах подтаял, виднелись долина, камни, кусты, коричневая трава, а меня что-то грызло. Я не понимал, что именно, но это имело отношение к тому, что мне сказали ковбои. Что-то связанное с числом. И тут до меня дошло. Второе апреля! Это было несколько недель назад, а за это время, девятого апреля, у меня был день рождения. Я никак не мог успокоиться: надо же настолько перестать соображать, чтобы забыть об этом. Мне отчаянно захотелось отметить день рождения.
А потом меня что-то остановило. До сих пор не знаю что. Какое-то воспоминание, связанное с блаженством в хижине. С самостоятельностью, которой я научился зимой. Не знаю, не уверен. Я знал одно совершенно точно: чтобы отметить день рождения, вовсе не обязательно спускаться вниз. А если мне так захотелось отметить день рождения, то надо сделать это там, где я жил все это время — где я жил, как мне казалось, всегда. И я поднялся в свою хижину, Я очистился от мыслей о горячей еде, о ванне, о постели, о бритье. Лицо у меня чесалось, тело покрыли болячки. От мыслей об этом я тоже очистился. Я лег спать среди шкур, наутро проснулся и решил, что сегодня мой день рождения, и, прежде чем успел что-либо сообразить, уже сидел, скрестив ноги, у огня и слышал знакомый звук. А внизу был город, но я не знал где. Вернее, мне было все равно. Потом это чувство снова оставило меня, но только через два дня. Тогда я опять спустился вниз, в город. Местные жители с удивлением таращились на меня, а я продал меха, наелся до отвала, вымылся в ванне, купил себе новую одежду, стал спать в постели и очень быстро снова развратился.
Но главное не в этом. Я познакомился с необыкновенным чувством, и, хотя часто испытывал нечто похожее впоследствии, это уже было не то. Я бывал потом в этих горах, они уже тоже казались другими. И я часто думаю, что то время и особенно тот день, который я вообразил своим днем рождения, было лучшим в моей жизни.
Весна 1881-го. Мне тогда исполнилось тридцать.
Старик говорил, вглядываясь во тьму, а при этих словах повернулся к Прентису; Прентис не очень-то понимал его, кроме того, что это воспоминание много для него значило. Он не знал, что сказать. Если тот день рождения в 1881-м был лучшим в его жизни, то завтрашний скорее всего будет одним из худших. И совершенно непонятно, как в таком случае подбодрить старика. Сказать, что впереди у него еще много счастливых лет? Но ведь он знал, что это неправда. У старика оставалось мало времени. И не такого, какого ему хотелось. Его тело не сможет долго выдерживать образ жизни, который он для себя выбрал. Еще год. Ну, пять лет. Очень скоро он просто сломается. И у Прентиса не повернулся язык сказать, что все в порядке. Он молча сидел и смотрел на старика, сердцем чувствуя, что происходит у того в душе, а старик снова уставился в темноту. Прентис заметил какую-то тень рядом с ним.
— А я тебя ищу.
И минутное настроение исчезло.
Он медленно поднял глаза на кавалериста, стоявшего рядом.
— Что такое?
— То есть как? Твоя очередь.
— Ах, да. Можешь пойти вместо меня.
— Что? Шутишь, что ли?
— Может быть. Все равно иди.
— Точно? — Он кивнул.
— Ну, тогда ладно.
Солдат повернулся. Прентис не стал даже ждать, пока он уйдет, он снова взглянул на старика, но все было кончено. Выражение его лица изменилось, оно больше не располагало к разговору. И он продолжал сидеть рядом с ним, глядя в темноту. Солдаты по-прежнему ждали своей очереди и возвращались назад. Вскоре ожидающих стало намного меньше, а потом не осталось вовсе. Он посмотрел на старика; глаза у того были закрыты. Прентис подумал, что он, наверное, уснул. Он осторожно встал, взял одеяло и прикрыл его.
Глава 64
Он начал пить вскоре после рассвета. По крайней мере, так потом вычислил Прентис. Сам он проснулся чуть позже, огляделся в поисках старика и увидел, что тот уже ушел. Он все думал, что бы ему подарить, и наконец решился: достал из переметной сумы крошечный, завернутый в тряпочку пакетик, немного подержал его в руке, посмотрел на него и отправился искать Календара. Он нашел его около походной конюшни. Другие солдаты суетились, готовили завтрак, укладывали свои вещи, ухаживали за лошадьми, и Календар как раз покормил и напоил свою лошадь, когда молодой человек подошел к нему.
— Доброе утро.
Старик не ответил. Он умылся, побрился в первый раз за много дней. На нем были чистые штаны и рубашка. Волосы причесаны, в руке шляпа. Прентису он никогда не казался таким моложавым и красивым. Он оперся на повозку, пожал плечами, улыбнулся, и Прентис протянул ему сверток.
— Вам это не пригодится, но лучшего у меня нет. — Старик сразу не понял. Потом внезапно как-то странно посмотрел на него. Затем выпрямился, наморщил лоб, не столько от досады, сколько от удивления, и Прентис вложил сверток ему в руку. Старик стоял, сжимая его.
— Не знаю, что и сказать.
— Ничего не надо говорить. Разверните и посмотрите. Старик помолчал и кивнул. Потом, помедлив, положил на землю шляпу, стянул веревочку, развернул сверток и уставился на сверкающие золотые карманные часы.
Он не шевельнулся, не мигнул, не двинулся с места. Прентису вдруг стало не по себе.
— Это подарок моего отца. И надпись подходящая. — Он произнес это очень быстро.
Старик посмотрел на него, потом своей большой рукой взял часы и открыл верхнюю крышку; она мелодично щелкнула, и Прентис подумал о надписи, которую сейчас читал старик, и о том, как он сам чувствовал себя в день, когда получил их: “С любовью в день рождения”.
Старик внимательно смотрел на него.
— Что ж, с днем рождения.
— Ага. — Старик кивнул. Потом протянул ему руку, и тут Прентис почувствовал запах. Собственно, он уже давно чувствовал его, но думал, что это что-то другое, какой-нибудь гнилой овес. Но теперь ошибиться было невозможно. Первым его побуждением было сказать об этом. И он не удержался, слова буквально сорвались с языка:
— Вы что, пили?
Старик посмотрел на него.
— Это лосьон после бритья. Прентис покачал головой.
— А если пил, так что? У меня день рождения.
— Не понимаю. Где вы берете спиртное?
— Ну, в разных местах. Его не так трудно найти, если поинтересоваться. Только не говори, что тоже хочешь.
— Нет. Мой отец не пил, и я тоже не пью.
— Фундаменталисты или вроде того?
— Вроде того.
— Что ж, очень жаль. То есть нет, наоборот; Очень хорошо.. Мне больше останется.
Прентис снова покачал головой.
— Слушай, не думал же ты, будто я не пью.
— Да нет, я вроде знал, что пьете.
— Ну так в чем же дело? Нельзя пить с утра?
— Наверное.
— Что ж, посмотрим, каким будешь ты в шестьдесят пять. Может быть, и сам запьешь.
— Это не отговорка.
— Нет, вы только послушайте! А мне не нужны никакие отговорки. Хочу повеселиться. Нельзя же быть таким занудой. Вот ты вчера вечером собирался к этим девкам, а сегодня утром я выпил… Что же ты воротишь нос? Как-то странно…
— Вчера — другое дело. Я же не пошел.
— Но собирался. Дело не в выпивке. А во мне. Твой отец не пил, значит, по-твоему, я тоже не должен. Только вот что я тебе скажу. Я — не твой отец. Вот так-то.
Милый легкий разговор после разных непониманий и опасных поворотов превратился в очередную ссору.
После слов старика сказать было нечего. Это был ультиматум, почти удар, и он мог только уйти или же попробовать повернуть разговор в прежнее русло.
Ему хотелось плакать от того, как дурно все обернулось.
— Слушайте, я не собираюсь с вами ругаться. Я просто хочу поздравить вас с днем рождения.
Старик пристально посмотрел на него.
— Честное слово. Мне все равно, пьете вы или нет. То есть, какая мне разница? Это не важно. Вернемся к нашему разговору. С днем рождения.
Старик смотрел на него и постепенно успокаивался. Он пожал плечами.
— Вроде бы ты прав.
— Извините. Я виноват.
— Нет, просто я упрямец. Старею.
И Прентис улыбнулся. Он понимал, что этого делать не следует, но не сдержался.
И старику пришлось улыбнуться в ответ.
— Ну ладно, забудем об этом.
Вроде бы все утряслось.
Он еще раз взглянул на подарок, который держал в руке.
— Насчет часов. Спасибо тебе. Ты прав, они мне не пригодятся, но все равно спасибо. Я все время буду носить их с собой, как будто они мне нужны. И более того, буду дорожить ими. Не помню, чтобы я когда-нибудь так радовался подарку. Спасибо тебе.
Да, определенно все утряслось, и Прентису оставалось только сдержать радость, улыбнуться и кивнуть.
Тут они наконец услышали остальных кавалеристов, которые с шумом занимались своими делами, и обернулись. Прентис сказал:
— Боже, я даже не успел покормить лошадь. Он в спешке поднял руки, покачал головой, рассмеялся и поспешил прочь. Старик стоял у тележки позади него, и Прентис услышал, что он тоже смеется.
Глава 65
Все было напрасно. Неизвестно почему — то ли взвинченный из-за дня рождения, то ли нарочно, чтобы парень не подумал, будто он поддался его нотациям, то ли потому, что это ему нравилось, — так или иначе, к полудню старик был пьян.
Правда, держался он хорошо. Они к тому времени проскакали двадцать миль, медленно, потому что разведчики то и дело останавливались в поисках следов; Календар вернулся, немного поговорил с майором, потом подскакал к Прентису.
— Можешь поехать со мной. Проследишь, чтобы я не свалился с лошади. — Он сказал это так тихо, что никто больше не слышал.
Прентис взглянул на него, старик показался ему в порядке: держался в седле ровно, вел себя непринужденно. Может быть, даже слишком непринужденно. Теперь, когда он приблизился, стало заметно, что лицо у него красное, глаза мутноваты, руки нетвердо держатся за луку седла. Лицо могло покраснеть от солнца. Все остальное могло быть от долгой скачки по жаре. Но говорил он, тщательно выговаривая слова, дышал немного тяжеловато и так прямо сидел в седле, что выглядел как-то неестественно. Если сопоставить все это, да еще знать, что он пил с утра, было ясно: старик пьян. Прентис посмотрел на него и покачал головой.
— Ох, Боже ты мой.
— А что? Поехали, осмотримся немного.
На этот раз Прентис даже не сделал попытки отвертеться, хотя ему очень хотелось. Он снова солгал. Не был его отец ни фундаменталистом, ни трезвенником. Никем он не был, и пил предостаточно. Особенно в последние годы. Жена умерла, на ферму надвигался город, отец с каждым днем привыкал к вы
пивке все больше и больше и наконец пристрастился к ней так, что уже почти не просыхал. Это-то и погубило его, а вовсе не камни, хотя именно камни его задавили. В тот день он тоже напился с утра. Поэтому, наверное, он и ошибся, повернув на склон, вместо того чтобы ехать прямо: просто он ничего не соображал; поэтому он упал, вместо того чтобы спрыгнуть; поэтому, вместо того чтобы откатиться подальше, лежал на месте, пока камни не посыпались на него. К тому же он стал злобным. Нет, не злобным. Но был постоянно на взводе. Его приходилось все время успокаивать, заботиться о нем. Прентис выполнял работу за них двоих, готовил отцу еду, стирал его одежду, укладывал в постель. Поначалу он отдавал должное отцу, потом это превратилось в обязанность и, наконец, в повинность. И после всего этого отец так глупо погиб. Прентис злился, и немного грустил одновременно.
Теперь он чувствовал себя точно так же; старик, напряженно сидя в седле, скакал впереди, он, чуть отставая, сопровождал его. И еще он был разочарован. Старик столько говорил о самодисциплине, но оказалось, что сам он не соблюдал ее. Теперь, когда Прентис задумался об этом, он вспомнил, что у старика нередко слова расходились с делом, как в истории с индейцем, да и вообще разных мелочах, на которые Прентис раньше не обращал внимания: например, он слишком много командует другими, считает себя вправе приходить и уходить, когда ему вздумается, он подвержен резким сменам настроения, капризам, а иногда становится в позы. Может быть, Прентис и ошибался, но теперь он стал подозревать, что другие вовсе не уважали старика, как ему казалось, а просто терпели и даже посмеивались над ним. Старик вдруг представился ему карикатурой, и он почувствовал, что ему как-то неловко рядом с ним.
Это чувство оказалось таким сильным, что ему ничего уже было не надо: просто хотелось ускакать к чертовой матери. “Интересно, — думал он, — что сейчас говорят другие солдаты”. Они со стариком уже скрылись из виду, свернули к песчаному откосу, старик порылся в переметной суме, достал бутылку виски, на три четверти пустую, и отхлебнул из нее. — Эй, иди-ка сюда. Что с тобой, черт возьми? Прентис нарочно оставался чуть позади, ему хотелось держаться подальше от старика, но не было никакого смысла ссориться. Что от этого изменится? Пусть будет так, пусть старик делает, что хочет. И если он сам не хочет приближаться к старику, то это может сделать он. При первой же возможности
Прентис решил, повернуть назад, и постарается отделаться от старика. А пока пусть все будет как есть. Ни к чему давать волю чувствам.
Так что он догнал старика и поскакал с ним бок о бок, делая вид, будто не замечает бутылки в его руках. Потом старик заговорил, и Прентис изо всех сил старался не слушать; но Кален-дар снова рассказывал о прошлом, и как Прентис ни старался, вскоре ему стало по-настоящему интересно.
— Тысяча восемьсот восемьдесят четвертый год, — говорил старик. — Канзас и Додж-Сити. Я покинул горы после той долгой зимы, отправился на юг и работал там батраком, пока не оказался в скотоводческих районах Эбилин и Эллсуорт, Вичита и Додж — каждый из этих городков имел свой период расцвета, после чего времена менялись, 1884-й; через год в Канзас перестанут пускать приезжих. Но тогда никто об этом не знал, и, несмотря на пожелания местных жителей, Додж был все же открытым городом. Улицы с востока на запад пересекала железная дорога, половину города занимали добропорядочные граждане, вторую половину — бары, гостиницы, игорные дома и бордели.
Все городки были очень похожи. В каждом — все тридцать три удовольствия. Всюду азартные игры, выпивка, девки и сплошные драки. Не такие, о каких ты читал, а просто мужики на улице хватаются за пистолеты. В основном стреляют в спину, но иногда и в морду. Например, один мужик открывает дверь и тут же вместо морды у него мокрое место. Лучший дом, который я помню, — Голд-Рум, меблирашки недалеко от Лонг-Бранч, там солнце светило сквозь щели, но в задней части имелся холодильник, а рядом с ним лучшие комнаты. Но чтобы попасть туда, нужно было заплатить за девочку. Так хозяин-сутенер конкурировал с другими, хотя в жаркие дни это стоило того, а иногда можно было и просто переспать. Девки там — нечто невообразимое. Помню, однажды один охотник мне рассказывал, как он пришел в один дом, и первое, что увидел — мужик хватается за пистолет, приставляет его кому-то к уху и разносит ему башку. А на столе — нога на ногу — сидела девка, так вот она вскочила, вымазала руки кровью, что текла по полу, подпрыгнула, завопила “кукареку” и начала хлопать в ладоши и брызгать на себя кровью. Охотник, поглядев на это, повернулся и смылся подальше из этого города Понятно, почему местные были недовольны. Денег имели полно, а на улицу выйти боялись. В городе было семь тысяч жителей, а в сезон — вдвое больше, да к тому же за два месяца через Додж проходило около двухсот тысяч голов скота. Можешь себе представить, что за гвалт там стоял, когда заявлялись погонщики, и какие страсти разгорались в той стороне города. Пытались запретить оружие. Пробовали ограничить часы работы баров. Напустили шерифов, придумали штрафы. Хоть бы хны. Понятно, почему в конце концов они вообще запретили прогонять там скот. Конечно, к тому времени великие имена уже исчезли. Эрп, Холлидей, Мастерсон — каждый из них влипал в особую историю, и остальным оставалось смотреть и учиться уму-разуму. Додж рос. В 1884 году там был каток для катания на роликах. Да что там каток! Там был даже водопровод и телефоны. На кой черт им сдались скотоводы!
Ну, я с несколькими погонщиками двинулся на юг. А перед тем немного поработал ковбоем в Техасе. К 1885-му дошел до Эль-Пасо, где был бар, который мне пришелся по душе. Джем-Салун. И в один прекрасный вечер два парня впервые на моих глазах затеяли настоящую вооруженную потасовку. Уайтт Эрп тоже там был. Я только тогда его и видел. Он принял участие в этой истории, но не такое, как ты думаешь. Я сидел в баре, и вдруг заявилась пара молодчиков и стала пить у стойки. Завелись они с пол-оборота. Пришли уже хорошими. А перед этим повздорили с каким-то типом на улице. Тип ускользнул, вот они его и искали. Потом они поцапались с хозяином салуна, который не хотел отпускать им выпивку. Потом крупно поговорили с банкометом игры в фараон, который, видите ли, пялился на них. Наконец они разошлись: один молодчик двинул в другой бар, а второй остался — осмотреться. Из бара был вход в танцзал, и в конце концов тот, что остался, вошел туда, вытащил пистолет и завопил: “Где этот подонок, что пришел сегодня?” Ну, я сидел себе в баре и видел: военные пригнулись за креслами, штатские в панике рванули назад, музыка прекратилась, наемные танцовщицы сбились в кучу у стенки, а тот тип так и стоял с пистолетом, пока не увидел, что мужика, которого он ищет, там нет. Он сунул на место пистолет, снял шляпу и поклонился. “Прошу у всех прощения. Извините меня”. Улыбнулся, повернулся и вышел.
Тут-то он увидел Эрпа. Тот сидел за перегородкой, и парень узнал его. Я-то был не в курсе, что там Эрп. И никто, видно, не знал, но все мы быстро сообразили, что к чему. Парень подошел к нему, пытаясь затеять ссору. Эрп пришел туда встретиться с приятелем и не хотел шума, так что он просто встал и показал, что безоружен. Потом он снова сел и заявил, что драться не будет. Он был не высокий, с виду очень посредственный. Лицо худое. Длинные, висячие усы, прилизанные волосы, модный костюм, даже часы с цепочкой. Но таких жестких глаз, как у него, я сроду не видел. Он просто смотрел и смотрел на того парня, и малый понял, что лучше отстать.
Да, ума у него хватило, хотя это ему не помогло. Потому что как только он повернулся, то увидел того ковбоя в баре. Ковбой ухмылялся. Потом, правда, срочно решил смыться, но не успел. Тот тип подошел к нему и полез в драку, но у ковбоя не было пистолета, и тогда тип стал его оскорблять. Наконец он устал, отошел в угол, где играли в бильярд, и стал там у стенки, где его было не очень-то видно. Ковбой понял, что тот на него не смотрит, пробормотал, что с него хватит, и подошел к фараонщику. Наверное, решил, что фараонщик ему посочувствует. В конце концов, тот парень ведь и его довел до белого каления. Но когда ковбой попросил пистолет, тот не дал ему. Я запомнил его слова: “Не лезь в бутылку — кати отсюда”. Он как будто плохо выговаривал слова. Значит, он был не мексиканец, скорее всего какой-то европеец. Ну а ковбою это не понравилось. Он обошел вокруг стола в поисках пистолета и нашел — в ящике. Тут-то молодчик в углу посмотрел на него и все понял. Он выскочил, выхватил пистолет, но был пьян в дупелину, а ковбой соображал, что делает. Он встал на колени, взял пистолет обеими руками и выстрелил в того дважды — один раз в плечо, другой в живот, так что тот волчком закрутился, а третья пуля попала в; бильярдный стол. Потом раненый выкатился на улицу и, как видно, угодил под проходящий трамвай. Потом мне сказали, что он помер. А ковбой бросил пистолет и вышел через задние комнаты.
“Ну, вот и все”, — подумали мы. И стали пить дальше. Хозяин начал прибираться. Потом кто-то прибежал и сказал, что возвращается второй молодчик, ну, тот, который с самого начала был с первым. Беда в том, что тот, второй, все перепутал. Он услышал, что его дружка застрелил не ковбой, а фараонщик. Это было не так глупо — ведь они перед тем поругались. Теперь он явился свести счеты. Ну а уж фараонщик — сроду я не видел, чтобы человек так перетрухнул. Он пистолета и в руках не держал. В ящике пистолет оказался только потому, что хозяин его туда положил. Фараонщик не хотел никаких неприятностей, не собирался ни во что влипать, но у него не было выбора. Удрать он не мог. Тот молодчик все равно бы его догнал. Но он был молодцом. Ничего не скажешь. Схватил пистолет, который бросил ковбой, и стал соображать, как быть, и тут вмешался Эрп.
Сначала я думал, что Эрп сам возьмет пистолет и выстрелит. Я почувствовал чуть ли не облегчение. Но не тут-то было. Не знаю почему, но он вдруг стал разговаривать с тем фараонщиком, и я до сих пор точно помню, что он сказал. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так здорово: это была целая лекция о том, как надо стрелять; не чепуха, которую пишут в книжках, а каждое слово по делу.
“Не давай ему шанса. Он сейчас будет стрелять. Держи палец на курке, но не стреляй, пока не будешь уверен, куда стреляешь. Меть в брюхо, пониже. Пистолет даст отдачу, но ты держи его покрепче и подожди, пока он подойдет поближе, тогда не промахнешься. Не волнуйся и не спеши”.
Тут появился в дверях тот молодчик, и Эрп быстренько отошел. Фараонщик упрашивал того прекратить, а он шел к нему и стрелял. Видно было, как пули ударяются в стену. Тут фараонщик схватил пистолет и стал ждать. Господи, он ждал и думал, что теперь уж тот не промахнется. А малый все подходил и уже совсем навис над ним, но тут фараонщик прицелился и дважды выстрелил, оба раза попал, причем вторая пуля — в сердце. Я ничего подобного в жизни не видел. Фараонщик повернулся к Эрпу и стал его благодарить, а Эрп только улыбался. Последнее, что я о них узнал, — что фараонщик куда-то ушел из города вместе с ковбоем.
Так они и ехали: старик пил, правил лошадью, рассказывал истории. Он давно покончил со своей бутылкой, отшвырнул ее, откинувшись назад, пошарил в переметной суме и извлек новую. Даже бутылку он бросил как-то неловко. “Хорошо хоть не стал по ней стрелять”, — подумал Прентис. Он боялся, что старик, подбросив бутылку, выхватит пистолет и пальнет, а это было бы уже слишком. Пьянство, стрельба, и всем будет все ясно. Но старик продолжал говорить, и снова Прентис чувствовал, что бессилен против его чар. Он чувствовал, что в этот день старик как будто вспоминает историю всей своей жизни, каждую ее подробность, выстраивая их, пока цепочка не приведет к сегодняшнему дню. Проверка фактов, совести, всего остального, поиск какого-то смысла; и Прентис не мог оставаться равнодушным. После тех гор и той зимы старик отправился на юг, поближе к теплу, он больше не мог выносить холода и пришел в Техас, а оттуда — в Мексику, и все дальше и дальше продвигался на юг, пока не дошел до самых джунглей и лишь тогда повернул назад. На это ушли годы. Он искал золото. Останавливался в деревнях и помогал крестьянам обрабатывать землю. И снова работал погонщиком скота.
— Там есть один город. Парраль. Я останавливался в нем и по пути туда, и по пути обратно. Тридцать лет назад. Большой город, гостеприимный. Интересно, много ли там изменилось? Майор говорит, мы идем туда. Это вроде как ворота на юг, и если Вилья где-нибудь поблизости, там должны знать.
Теперь он произносил слова невнятно, говорил медленно, односложно — явно утомился. Он еще раз глотнул из бутылки, ослабил поводья и огляделся.
— Мне надо отойти.
Старик произнес эти слова так решительно, как будто это-то он знал наверняка и мог выговорить твердо. Он соскочил с лошади. Его левое колено подогнулось, и он чуть не упал. Потом выпрямился, выпятил грудь, глядя прямо перед собой, указал на камень и двинулся к нему. По пути он пошатывался, затем долго возился со штанами, наконец расстегнул их и, подождав немного, помочился на камень. Камень потемнел от брызг. Он подвигал тазом, целясь в те места, что остались сухими. Наконец осталось только одно сухое пятнышко; но струя иссякла, больше не разбрызгивалась; он напрягся и последняя крошечная струйка мочи окрасила сухое место в темный цвет.
— Во, — сказал он, кивнул и застегнул штаны. Повернулся, улыбнулся, двинулся назад и упал.
Что-то хрустнуло. Он полежал, потом попытался подняться и снова безвольно свалился на землю.
Прентис соскочил с лошади и кинулся к нему.
— Вы в порядке? — Он схватил его. Рубашка старика промокла от пота.
— Устал. Все будет нормально. Прентис помог ему подняться.
— Точно?
— Елки-палки, я же сказал тебе, разве нет? Сказал, все будет нормально.
Прентис оглядел камень, о который старик ударился грудью. Старик стряхнул его руки.
— Повторяю, оставь меня в покое.
— Вы не сказали оставить вас в покое.
— Ну, значит, теперь говорю.
— Дьявол побери, ну ладно.
Прентис не собирался глотать эту пилюлю. Он понимал причину. Старик смутился, что упал, и теперь хотел отыграться. С его отцом тоже такое случалось.
К тому же он понял, что это был за хруст. Он вовсе не боялся, что старик сломал ребро: это было возможно, но маловероятно. Старик упал грудью так, что жилетный карман, в котором лежали часы, оказался прямо на камне. Поднимая его, Прентис услышал легкий металлический звон и нащупал кое-какие части механизма. Он не сказал ни слова. Старик все понял. Когда Прентис потрогал пальцами его карман, взгляд старика изменился. Именно поэтому он не вставал: не от ушиба, а от сознания того, что натворил. И из-за этого же он начал грубить. Он решил, что, если ему удастся нарваться на ссору, проблема будет решена.
Они смотрели друг на друга. Каждый прекрасно понимал, что происходит. Оба были злы и всю дорогу назад не разговаривали. О часах они вообще больше не вспоминали, и Прентис их никогда не видел.
Глава 66
— Хочу сказать, что мы тебе благодарны.
Прентис не понял.
Майор отвел его подальше от лагеря.
— За то, что делаешь для него.
— Для старика?
— Ну да.
Так вот почему майор позвал его, да еще предложил отойти подальше. Ему даже не верилось. После всего, что было, майор еще и благодарит его. Прентис покачал головой.
— Я никогда не видел, чтобы он кем-то интересовался. Правда, я ценю это. Он непростой человек.
— Это мягко сказано. — Майор не сдержал улыбки.
— Я знаю. Уж мне ли не знать. Дело в том, что игра стоит свеч. Люди бывают разные, с этим приходится считаться, и с Календаром в том числе. В нем такое количество всего, столько способностей, он так много знает и делает. Мы довольно долго жили за его счет, и теперь он должен что-то получить взамен.
Прентис промолчал.
— Я понимаю, в это сейчас трудновато поверить. Ты его не видел в расцвете сил. Шестнадцать лет назад на Кубе он штурмовал холм, вокруг него падали солдаты, а он прорывался к пулемету в блокгаузе. Он держал перед собой винтовку и бежал, спотыкаясь на длинной траве того холма; пулемет палил, солдаты вокруг падали, а он все бежал и бежал, оставив всех позади; в винтовке кончились патроны, он ее отшвырнул и стал стрелять из пистолета. Пулемет был прямо перед ним, а ему все нипочем. Он пригнулся и нырнул в окно блокгауза. У пистолета кончились патроны, он схватил другой и стал палить из него и уложил столько народу, что я и сосчитать не успел. А потом, когда я говорил об этом с солдатами, они сказали, что пулеметные пули как будто скользили по нему, царапали, рвали одежду, только не попадали в него, а от его штанов и рубашки остались одни лохмотья. Да будет тебе известно, он мой друг. И пускай он выдергивает тебя из колонны и уводит, как он говорит, учить уму-разуму. Мне все равно, что он делает. Если ему это на пользу, значит, уже хорошо.
— А его работа? Как же его работа? — Майор взглянул на него.
— А вот это пусть тебя не волнует. Когда настанет время, если мы влипнем, тогда ты увидишь, чего он стоит. Ты только смотри на него и набирайся ума.
“Беда в том, — думал Прентис, — что майор прав”. Старик многого стоит. Даже в своей худшей форме он превосходил других, в лучшей форме. При всем их различии у него было чему поучиться. С одной стороны, если человек напился в свой день рождения и начал жалеть себя, чего тут особенного. К сожалению, была еще другая сторона дела, и тут Прентис не знал, как быть. Старик стал раздражать его, и он уже решил, что лучше держаться от него подальше, но теперь Прентис не был в этом уверен. Получалось, что старик ему нравился и не нравился одновременно, а тут еще заявился майор и возложил на него что-то вроде официальной обязанности. О Господи Иисусе, царица небесная!
Глава 67
— Нам бы надо поговорить.
Старик посмотрел на него. Он лежал на одеяле, положив голову на седло, чуть поодаль от других солдат. Его глаза были закрыты, но Прентис все равно заговорил. Старик повернул голову и посмотрел на него.
Потом оба замолчали.
Прентис смотрел на него сверху вниз. Он не знал, с чего начать.
— Я вам наврал. Старик пожал плечами.
— Я вам сказал, что мой отец живет в квартире в городе, а это неправда, он умер.
Старик снова пожал плечами.
— Я знаю.
Прентис не спросил откуда.
— И еще раз я вам соврал. Ну, может быть, не соврал, а просто не возразил. Вы правы. Я думал о вас как о своем отце. Что-то вроде этого, по крайней мере. Вы спасли мне жизнь. Я сначала вообще не понимал, что здесь делаю, я же знаю, что не гожусь для войны. С вами было безопасно. Человек, с которым можно поговорить и который может защитить.
— Это было ясно с самого начала. Какая разница?
— Разница такая, что все получилось не так. Многое в вас мне не нравится. Я все время в вас разочаровываюсь. Нет, даже не так. Испытываю отвращение. И то, чему вы меня учите, мне теперь кажется ненужным. И вообще я здесь не собираюсь оставаться. Когда поход закончится, я уйду. Я просто использовал вас. Знаю, что поступаю плохо, мне стыдно. Но я хотел объясниться и попросить прощения.
— Все? Ты все сказал?
— Еще, хочу добавить, что больше не буду паразитом. Мы достаточно близки и не сможем расстаться, но это уже будет не то, что прежде. А если вы станете поступать неправильно, я не останусь с вами.
— Значит, вот как? Ты уверен? — Прентис взглянул на него и кивнул.
— Ну ладно, тогда я тебе тоже кое-что скажу. У меня когда-то были жена и сын. В 1898-м, в Эль-Пасо. Когда я вернулся из Мексики.
Прентис ошеломленно воззрился на него.
— Да-да, — сказал старик. — Ты не знал, верно? Но это правда. Я не люблю говорить об этом.
— Что же с ними случилось?
— Не знаю. Она забрала мальчика и уехала к себе на родину, на восток. Он был совсем малыш, но я к нему привязался. Сейчас ему примерно столько, сколько тебе, может, чуть побольше. Тебе нужно кого-то уважать. Мне нужно кого-то опекать. Так что мы разочаровались друг в друге.
Прентис почувствовал, что все его напряжение исчезло. Он долго готовился к этому разговору, но сейчас все потеряло смысл. И вообще ничего не имело никакого значения. Он оглянуться не успел, как уже сидел на земле рядом со стариком, рассматривал свои руки, потом глубоко вздохнул и поднял на него глаза.
— Что же теперь будет?
— Ничего не будет. Мы слишком много думали. А теперь все поняли и недовольны. Нужно быть честными. Наверное, если мы перестанем думать о том, кем бы мы могли быть друг другу, и примем обстоятельства как они есть, мы станем друзьями.
Прентис снова стал смотреть на свои руки. Он ожидал не этого. Он долго думал и наконец принял решение. Честно разорвать отношения и подождать, пока все кончится.
Но старик всегда удивлял его. Как раз когда он думал, что все точно рассчитал, старик выдавал что-нибудь новенькое, и он снова терялся. Он никогда не задумывался, почему старик согласился помочь ему. Он-то считал, что причиной был он сам, а не воображаемый образ, который старик себе нарисовал. Ему никогда не приходило в голову, что интерес к нему старика не совсем обычен.
— А вам никогда не хочется увидеть его?
— Конечно, хочется. Но она не сказала, куда едет.
— А почему так получилось?
— Иначе быть не могло. Ребенок не был моим. Она родила его от другого парня, я знал его, мы вместе работали погонщиками. Но он заболел и умер. Я пошел к ней посмотреть, не могу ли чем помочь. И тут же сделал ей предложение.
Старик помолчал и свернул самокрутку.
— Это был, если хочешь, брак по расчету. Я вовсе не обманывал себя. Во мне нет ничего такого, что могло бы привлечь женщину, разве что сила. Но она почти на двадцать пять лет моложе меня, и у нее ребенок, а вокруг было гораздо больше мужчин, чем женщин, и все не прочь воспользоваться моментом. Знаешь, мне кажется, она чем-то напоминала тебя. Видела во мне какую-то защиту. А я-то что? Мне уже под пятьдесят было. Я немало повидал, много где побывал, но так ничего с этого и не имел. Я посмотрел на малыша и призадумался, а потом начал ей помогать. Она очень старалась. Ее ни в чем не обвинишь. Она обращалась со мной так, что лучшего ни один мужчина бы не потребовал. И я тоже очень старался. Я не мог иметь жену и ребенка и продолжать вести такой же образ жизни. Так что я нашел работу в городе — конторщиком в оружейной мастерской. Когда мне это осточертело, стал работать на стройке. Но, понимаешь, не этого мне хотелось. Я не очень-то жаждал бродяжничать, но все-таки почти всю жизнь прожил перекати-полем, и мне казалось, что мне не хватает чего-то жизненно важного. Я знал, что могу отказаться от чего угодно, но это стало утомлять меня, я ничему не был рад, и она, как мне кажется, почувствовала себя виноватой. В конце концов, она меня не любила. Мы обговорили наши отношения с самого начала. А молодые люди, сам понимаешь, они честолюбивы, энергичны, хотят что-то делать, а мне для счастья хватало прийти домой с работы уставшим, как собака, и увидеть, что счета оплачены, в доме полно еды и одежды, и есть крыша над головой.
В один прекрасный день она объявила, что уходит. Я, кажется, ее понял. Ей нужна была помощь, она ее получила, а теперь чувствовала, что этого ей мало. Такая жизнь не подходила ни ей, ни мне, как она считала. Мы много разговаривали об этом. Я был готов на все ради нее. И даже оплатил им дорогу. Ты не представляешь, что со мной было, когда я увидел, как мальчик уезжает.
— И она не сказала вам, куда поехала?
Он покачал головой.
— Я ее в последний раз видел, когда она выглянула в окно отходящего поезда. Я часто думаю, каким вырос мальчик.
— Ну а она? Что вы думаете о ней?
— Она была самой милой женщиной, какую я знал. Не самой красивой, но самой милой. Я не держу на нее зла. Но о мальчике часто думаю. Все это дело длилось около года… После этого я записался в армию. А потом оказался на Кубе.
Он так внезапно сменил тему, что Прентис не пытался вернуть разговор в прежнее русло. Он немного подождал, но старик молчал. Он сидел с ним рядом до темноты. Потом протянул руку, сказал: “Ну, ладно”. Старик поднял на него глаза и пожал ему руку.
Давно у него не было так хорошо на душе.
Глава 68
Все кончилось через два дня около Парраля. Они спешили попасть туда, убежденные, что Вилья притаился именно там. Вполне логично — это ведь ворота на юг. Если он еще не прошел сквозь них, то собирается. Сражение у Герреро и следующее — у Агуа-Кальенте сократили его силы вдвое, а потом еще вдвое. Они узнали это от пленных, которых захватили другие отряды. Если они будут продолжать теснить его, то у Вильи не останется другого выхода — только двинуться на юг и перегруппироваться.
Так что они спешили в Парраль и в дне пути до него наткнулись на ферму. Ферма была маленькая. Майор и старик залегли на холме и рассмотрели ее. Саманный дом, который выглядел двухэтажным. Развалюха-стена, ветхая крыша, веранда, выжженная солнцем и покосившаяся. Майор показал на разрушенную конюшню, на сломанные ворота в кораль. Старик кивнул, разглядывая мелкие постройки. Две стояли за домом, третья немного справа. Их двери были закрыты, стены целы, в отличие от дома и сарая для скота.
— В данном случае может быть все, что угодно, — сказал старик. — Не исключено, что они нарочно все порушили, чтобы создать ощущение заброшенного хозяйства.
Они приняли решение и направились на ферму; лейтенант и старик возглавили первую группу, а майор ждал, пока они рискнут объехать кругом. Когда майор увидит, как они въезжают во двор, он поведет свою группу с другой стороны.
Старику и его людям потребовался час. Бог знает, кому взбрело в голову построить ферму в таком месте. И Бог знает зачем. На этой земле ничего не росло, лошадям было нечем кормиться. Только песок, камни и ссохшаяся земля. Всюду одно и то же. Даже кактусы здесь не росли.
Казалось, они скачут эти две мили целую вечность. Они пустились в путь справа, проскакали по дуге, чтобы не поднимать пыли, держась достаточно далеко, чтобы их не могли заметить. Потом они приостановились напротив холма, с которого начали путь, и въехали на ферму.
Прентису казалось, что он где-то далеко. А вовсе не здесь. Лучи солнца, припекавшие голову, бесплодная желтая почва, однообразные подъемы и спуски песчаной лощины как будто убаюкали его. Он знал, что следует быть настороже. И даже немного нервничал. Но его не отпускало чувство, будто он смотрит на все это со стороны. Он с интересом поглядывал на старика, скакавшего впереди и разговаривавшего с лейтенантом; он говорил тихо, указывая куда-то рукой, когда они приблизились. Остальные солдаты скакали медленно, оглядываясь по сторонам, подпрыгивая в седлах в такт движению лошадей. Потом они подъехали к месту, где перекрещивались песчаные дороги, двинулись к ферме, и его ощущение, будто он тут ни при чем, усилилось. За покатыми склонами было не видно горизонта. Он ничего не видел с обеих сторон, кроме камней, песка и дорог, которые скрещивались с той, по которой они скакали. Как будто это какой-то отдельный мир: всадники медленно движутся, лошади цокают копытами, сбруя позвякивает. И в этом мире есть только они, дорога в лощине, поворот, еще один поворот, лощина стала глубже, шире, она вела к ферме, а он сидел, откинувшись в седле, и скакал туда, куда она вела.
С того вечера ему почти не удавалось поговорить со стариком. Они просто были слишком заняты, старик почти целыми днями находился в дозоре, возвращался поздно вечером, слишком уставший, чтобы что-нибудь делать, и сразу ложился спать. Все равно, им удавалось обменяться несколькими словами, и Прентис был доволен. Ему казалось, старик стал более открытым, более непринужденным. Не то что бы он говорил особенно долго или многозначительно. Но он стал как-то проще в общении, как будто преодолел в себе что-то дурное и теперь чувствовал облегчение.
Прентис чувствовал то же самое. Теперь, когда он понял причину своего поведения, он обнаружил, что способен сдерживать себя. Он ощущал себя повзрослевшим, научился приспосабливаться к лишениям и опасностям. Он смотрел вперед, на старика, который теперь молчал и рассматривал вившуюся перед ним лощину. Приятно было видеть его снова за работой. Сомнений не было: старик знал, что делает. Видно было: он здесь главный, и это ощущение не исчезало ни на секунду. Если на несколько дней он расслабился, то теперь он снова был в своей лучшей форме, и, может быть, поэтому Прентису и казалось, что он здесь ни при чем; скача вместе с колонной, он как будто в то же время и отсутствовал — потому что старик взял дело в свои руки.
Они приблизились к повороту, и лейтенант уже спрыгивал с лошади, как вдруг прогремел выстрел. Никто не шевельнулся, все только натянули поводья, окаменев от изумления. Послышалось еще два выстрела, и все спрыгнули с лошадей. Они кинулись к камням и канавам, старик соскочил с лошади и залег у небольшого возвышения. Прентис нырнул в какую-то впадину; он не мог унять дрожи. Он увидел, что старик первым выхватил пистолет и выстрелил. Потом раздалось еще два выстрела, и лошади рванулись, помчались вниз по лощине и подняли такое облако пыли, что оно полностью прикрыло старика. Он пополз к вершине.
Прентис посмотрел на собственные руки и увидел пистолет. Он и не сообразил, когда успел достать его. Он увидел, как старик пробирается к вершине, сделал глубокий вдох и полез за ним, а следом и остальные кавалеристы. Земля под ними осыпалась. Он полз на коленях, цеплялся руками, наконец почти добрался до вершины, поднял голову и тут же, перепуганный, пригнулся. Равнина была слишком открытой. После узкой лощины ему было не по себе на открытом месте. Он присел на корточки, по-прежнему дрожа, за самой кромкой холма; другие солдаты были внизу и стреляли, грохот казался оглушительным. Несколько человек сидели на корточках позади него, и он с изумлением понял, что они следуют за ним точно так же, как он за стариком; взглянув прямо перед собой, он увидел, что старик уже забрался на самую вершину, ползя по-пластунски. Он ухватился за кромку, скользнул вверх, тоже по-пластунски, и пополз за стариком. Теперь выстрелы казались не такими громкими. Он чувствовал, как песок и камни царапают его грудь и живот под рубашкой. Во рту был вкус пыли. Пот разъедал ему глаза, и он протер их.
Старик остановился. Прентис тоже остановился, не понимая, чего ждет старик. Здесь лощина сужалась, поворачивая направо, и они почти выбрались из нее. Старик махнул рукой вперед, и Прентис понял, что тот знает о его присутствии рядом. Он услышал в лощине какое-то движение. Старик снова помахал, и Прентис подполз к нему поближе. Старик даже не смотрел на него. Он только показал направо, и Прентис пополз в том направлении. Он остановился в десяти футах от него, лицом к кромке лощины. За ним ползли другие солдаты. Старик взглянул на него, кивнул, подтянул колени кверху, поднялся и выстрелил в направлении лощины. Прентис последовал его примеру. Он выстрелил четыре раза, прежде чем сообразил, что там никого нет, почувствовал, что старик пробегает мимо него, тоже побежал, повернул там, где сворачивала лощина, на этот раз налево, еще раз выстрелил, патроны у него кончились, но вокруг по-прежнему никого не было.
Старик продолжал бежать. Прентис поспешил за ним, на ходу перезаряжая винтовку, двигаться стало легче, он догнал старика, лощина снова повернула направо, и на этот раз он заметил какое-то движение. Старик уже стрелял, он тоже трижды нажал на спусковой крючок и увидел падающих людей. Оказалось, что по лощине бежало шесть человек — мексиканцев в сомбреро, с бандольерами, в мешковатых штанах, в башмаках на веревочной подошве и с винтовками. Двое из них уже упали, еще двое падали. Последние увернулись на повороте, и старик кинулся к ним, Прентис следом. Потом он ясно увидел их. Они бежали как сумасшедшие к прямому отрезку лощины, и он остановился, вскинул ружье, прицелился и уже хотел выстрелить, но старик схватил его за запястье и отвел его руку. Потом старик совершенно спокойно принял классическую позицию для стрельбы, чуть откинулся назад, вытянув руку, вторую руку заложил за спину для равновесия; он двумя выстрелами уложил обоих, попав одному в плечо, другому в ногу. Потом он медленно опустил руку и стал смотреть, как они корчатся на земле.
— Я не сомневался, что ты не промажешь, но мне они нужны живыми.
Старик не смотрел на него, он не сводил глаз с мексиканцев, но Прентис понял. Старик уже двигался дальше, по направлению к кромке лощины, спустился вниз и направился к ним, осторожно, с пистолетом в вытянутой руке, не сводя с них глаз.
— Посмотри, как там остальные четверо. Убедись, что они мертвы.
Прентис, не задумываясь, двинулся назад. Быстро же кончился этот бой. Все длилось не больше пятидесяти секунд, но эти секунды стали самыми напряженными в жизни Прентиса. По-прежнему возбужденный, он дошел до впадины, где лежали те четверо. Он должен был держать себя в руках, хорошо подумать, сделать все правильно: отойти от кромки и двигаться по направлению к ним осторожно, не спуская с них глаз. Он ногой отшвырнул их ружья. Потом отступил назад, внимательно наблюдая, не подают ли они признаков жизни. Он увидел: у кого руки вытянуты, а у кого спрятаны. Таких было двое, и он прострелил им головы. Потом он на всякий случай выстрелил и в оставшихся.
Удовлетворенный, он поплелся назад. В ущелье перестали стрелять. Люди стояли на краю и смотрели вниз, на него. Кто-то спускался к нему в лощину. Они окружили мертвые тела, смотрели на него, и он дотронулся до своей щеки. Щека горела. Он не понял, в чем дело. Потом до него дошло. Он находился справа от старика, и одна пуля рикошетом задела его. Он этого и не заметил. Ему было не до того. Он продолжал сидеть, потирал щеку, смотрел на тела, не зная, кого застрелил старик, а кого он сам — ему было совершенно все равно; он сидел, потирал щеку и смотрел, чувствуя теперь тошнотворный запах развороченных черепов и ран. Может быть, из-за возбуждения, может быть, из-за запаха, но внезапно он нагнул голову между колен, и его стало рвать. Его рвало и рвало, казалось, это никогда не закончится.
Глава 69
— Ты сделал неправильно.
— Черт возьми, вы правы. Господи, я прострелил головы всем четверым.
Старик взглянул на него и нахмурился.
— Я не об этом.
— А я об этом. Боже, я стрелял в них. В них вовсе не надо было стрелять. Они были мертвы. Это же было ясно.
— Конечно. А потом ты бы отошел, кто-нибудь из них приподнялся и уложил бы тебя.
— Можно было и по-другому. Я мог подождать подмоги. Господи Иисусе, я пошел один, чтобы доказать себе, что способен на это. Потом перепугался и перестрелял их. Более того, мне это понравилось. Я увидел, как разлетаются у них черепа, и продолжал стрелять. Как будто мне мало было стрельбы там, наверху. Прострелил четыре черепа ради удовольствия.
— Зато теперь они никому не принесут вреда.
— Да какая разница! Неужели не понятно? Мне не нравится то, что я при этом чувствовал!
— Пойди расскажи это тем, кого они убили. Спроси лейтенанта, пусть скажет тебе из могилы, надо ли было тебе делать это.
— Господи, вы так ничего и не поняли. Я вовсе не хотел отомстить. Я это сделал, потому что мне это нравилось!
Старик поднял глаза и ткнул в него пальцем.
— Ладно, теперь послушай меня. Я терпеливо тебя слушал. А теперь скажу тебе вот что. Возьми себя в руки. Мне плевать, почему именно ты так поступил. У тебя это пройдет. Главное — ты сделал так, что вреда от них уже не будет никому. Другое дело, что ты был неосторожен. У тебя осталась пустая обойма. Три выстрела, когда мы их преследовали. Еще четыре, когда ты подошел к ним. Ты остался без патронов и даже не подумал снова сменить обойму. Где, черт возьми, твой запасной пистолет? Откуда ты знал, что никого больше нет поблизости? Ты остался совершенно без защиты — стреляй не хочу. Вот что с тобой будет, если станешь много рассуждать. Помрешь. Ладно, я занят. На твоем месте я бы прекратил копаться в себе и сосредоточился на том, как остаться в живых. А то тебе об этом некогда подумать.
Он бросил на него еще один взгляд и отошел. А Прентис посмотрел ему вслед. В первый раз старик прочел ему такую нотацию вовсе не по-учительски и не по-отцовски. Совсем по-другому. Он поправлял его и поучал не из принципа, а просто от злости, которую у него мог вызвать любой человек, выведший его из терпения. Именно так — старик больше не позировал. Он был самим собой, и Прентис не знал, как к этому отнестись. Он был в полной растерянности. Теперь для старика он ничем не отличался от всех остальных. Теперь он был самостоятельным человеком и должен был сам принимать решения.
А этого, как ему казалось, он не умел, и ему было все равно. Головы. Он не мог унять дрожь в руках, не мог избавиться от тошноты. Головы. Перед глазами у него головы разваливались на части, и кости, мозг, кровь и волосы летели во все стороны.
Глава 70
— Он говорит, что местность захвачена ими. Увидев на холме всадников, они перепугались и побежали назад. Тут они наткнулись на нас. Они снова перепугались и начали стрелять.
Майор покачал головой.
— Понятно. Наверное, он еще кое-что знает, но говорить не желает.
— А вы уверены, что это люди Вильи?
— Никаких сомнений. У них американские винтовки, такие же, какие они захватили в Колумбусе. Они действительно перепугались, но не потому, что приняли нас на налетчиков. Они бежали от американцев.
Майор прикусил губу и отвернулся.
— Ну, а что другой?
— Я его спрашивал, но он вообще не желает разговаривать. Я дам ему еще одну возможность.
Он повернулся к мексиканцу, лежавшему на песке с кровоточащим плечом, и заговорил с ним по-испански. Тот покачал головой. Старик снова спросил его, на этот раз произнося слова медленнее, упоминая Вилью. Тот снова покачал головой.
Старик пожал плечами и повернулся к майору.
— Какого дьявола, мы слишком много от него хотим. Они тут бывают разные. Одних только начнешь допрашивать, и они сразу разболтаются, как негры на поминках. У других есть какое-то чувство чести. Они считают, что все равно им крышка, так что можно и пофасонить немного. Хорошо, что у нас есть второй.
— Ну, так что ты предлагаешь?
— Ну, мы хотим знать, где Вилья, и подозреваем, что он поблизости. По-моему, у нас нет особого выбора. Предоставь их мне.
— Ты не видишь других способов?
— Нет, разве что оставить все, как есть. Чтобы они истекали кровью, пока не свихнутся от боли. На это уйдет еще один день, и все равно они могут упереться рогом. Или просто помрут.
Майор посмотрел на него.
— Ну. Дай им еще одну возможность. Старик заговорил с ними. Один мексиканец покачал головой. Майор закусил губу и ушел.
Глава 71
— Боже милосердный, — сказал Прентис. Он подошел к краю канавы и, взглянув вниз, увидел, что старик режет мексиканца. Тот лежал голый, все тело было покрыто кровью и порезами, он корчился. Его бедро почернело и распухло от рваной ружейной раны, и старик засунул в рану нож и поворачивал его.
Старик, вздрогнув, обернулся. Он стоял на одном колене, опираясь на другое, и орудовал ножом; теперь он замер и уставился на Прентиса.
— Ну-ка, уберите его отсюда.
Он обращался к людям, которые стояли рядом и смотрели. Потом он снова повернулся и принялся за другого раненого мексиканца. Тот тоже лежал голый, как и первый, только ранен он был в плечо, и старик вонзил в рану нож и повернул его.
— Вот-вот, — сказал Прентис. — Попробуйте убрать меня отсюда.
Остальные стояли и смотрели на него. Никто не тронулся с места.
— Валяйте. Пусть кто-нибудь попробует.
Он положил руку на пистолет.
— Ну, пожалуйста. Давайте, кто смелый? Никто не двинулся с места, и, не отпуская пистолета, он спустился в лощину.
— Черт побери, вы правы. Тому, кто попробует меня убрать, я разнесу его чертову башку. Ну-ка, подальше от меня. — Он подошел к старику, который орудовал ножом.
— Что это еще за хреновина? — Старик продолжал резать.
Прентис стоял рядом и ждал.
— Я вас спрашиваю. Вы что, оглохли или как? Что за хреновина тут происходит?
Старик так крепко сжал нож, что костяшки его пальцев побелели. Он встал и, не выпуская ножа из рук, повернулся к нему лицом.
— Не знаю, что ты здесь забыл, но тебе тут явно не место. Убирайся вон.
— Конечно, мне место именно здесь. Вы же мой учитель, правда? Разве вы не должны мне все показать? Разве вы не должны объяснить мне, что здесь за дьявольщина происходит?
Старик не ответил. Прентис прошел мимо него, встал между двумя распростертыми мексиканцами, показал на них.
— Как это делается, а? Начинаете с одного, потом вам надоедает и принимаетесь за другого? И тогда у первого есть шанс задуматься о том, что вы делаете со вторым? Так что страшна не столько боль, сколько то, что еще будет дальше? Так это действует?
Старик покачал головой.
— Примерно так, — ответил он, глядя в одну точку.
— Ага, — продолжал Прентис, — а чтобы семейная традиция не забылась, вы приглашаете посмотреть кучу народа?
Вот что было самое главное, а не сама пытка. Это-то он мог понять. Мексиканец знает что-то важное, так что его надо заставить заговорить. Но одно дело понимать, а другое — смотреть, как это делается. Особенно смотреть вот на это. Когда он подошел к лощине, еще не оправившись от тошноты, первое, что его поразило, — это молчание. Он увидел реакцию собравшихся: старик режет, солдаты стоят и смотрят, мексиканцы корчатся, но не кричат, полная тишина: ни вздоха, ни шепота, ни стона. Ничего. А старик стоит на одном колене, сосредоточенный и в то же время отрешенный, а вид у него такой заинтересованный и спокойный, прямо как будто он рисует узор на песке или делает какой-то эксперимент просто от скуки, а не ради результатов. Но даже не эта несообразность добила Прентиса. Это еще что! Переведя взгляд со старика с ножом на толпу зрителей, надеясь заметить признаки ужаса и сожаления, Прентис увидел индейца.
Индеец. Старик не просто созвал публику. Он даже индейцу позволил смотреть. Прентису казалось, будто он видит, как обижают ребенка, оскверняют алтарь или делают что-то столь же невероятное. Ему хотелось выцарапать старику глаза, схватить его за горло и задушить, вышибить из него мозги и размазать по земле.
Головы. Перед глазами стояли головы.
— Все правильно, — сказал он, повернувшись к нему. — Даже индейца позвали. А теперь вот что я скажу всем. Представление окончено. Все катитесь отсюда. А теперь вот что я скажу вам. Не подходите ко мне и близко. Если вы хоть раз приблизитесь. Бог мне судья, я не знаю, что с вами сделаю. — Он снова повернулся к остальным. — Ну, что вы тут торчите? Катитесь прочь. Дайте человеку насладиться своим делом. — Он потянулся к пистолету, не сводя с них глаз, а они смотрели на него, один за другим начиная расходиться. Тогда он повернулся к старику и сказал, тыча в него пальцем: — Так и запомни, приятель. Держись от меня подальше. — И, едва сдерживая ярость, снова ощутив волну тошноты, он повернулся и полез вверх по склону.
Глава 72
— Слушай, если ты еще раз устроишь что-нибудь подобное, можешь мне не угрожать, я уложу тебя, и все.
Едва старик покончил со своим делом, он забрался на холм в поисках молодого человека и нашел его позади кораля, где тот копал могилы. Старик в ярости кинулся к Прентису: двое солдат пытались заговорить с ним, но он их не слышал. Он бежал к человеку, роющему могилы, тяжело топая, раскидывая ногами комья земли и ломая мескит, задыхаясь и гремя проклятиями. Так что молодой человек услышал его приближение и, когда тот подошел, повернулся к нему, подняв лопату.
— Я сказал, проваливай к чертям, — сказал Прентис, держа лопату наперевес и неотрывно глядя на него. — Не хочу тебя видеть.
— Что с тобой стряслось?
— Что с тобой стряслось, ты хочешь сказать. До тебя что, еще не доперло? Я видел твою рожу, и твои дружки стояли и смотрели. Тебе это нравилось!
— А может быть, я просто делал вид. Мне нужно было дать понять этим мексиканцам, что я на все способен, если они не расколются.
— Какая разница? Господи, ты так долго этим занимался, что уже сам не можешь отличить одно от другого. Тебе это доставляло удовольствие.
— Какое мне дело, чти ты думаешь? Я узнал, что хотел.
— Какая разница? Ты мог это сделать и по-другому.
— Едва ли. И вообще, ты не из-за этого взбесился. А из-за индейца. Я позвал его, потому что пообещал мексиканцам, что потом передам их ему.
Теперь парень был в таком бешенстве, что шагнул вперед, подняв лопату, как будто хотел ударить его, и старик предпочел отойти подальше.
— У тебя и у самого отлично получалось, — закричал Прентис. — Мог обойтись и без него. Тебе просто хотелось выпендриться. Черт, ты так хочешь все делать как надо, что уже сам не понимаешь причин. Ты думал, что подчиняешься необходимости, а на самом деле радовался возможности. Тебе это нравилось.
Вместо того чтобы ударить его, Прентис внезапно опустил лопату и стал швырять в старика землю. Земля попала старику в глаза, в рот, забилась под рубашку, он отшатнулся, поднял руку, чтобы прикрыться, отвернулся, а Прентис кричал:
— Убирайся к черту! Слышишь! Катись! Старик, уворачиваясь от комьев земли, потянулся было к пистолету, но потом спохватился и отошел.
— Ну, ладно, — сказал он. — Ладно! Если ты так считаешь, валяй, рой могилы. Один молодчик там уже помер. Другой на подходе. И раз уж ты этим занимаешься, вырой еще одну. Если так дальше пойдет, она понадобится — для тебя.
— Он отвернулся, сгорбился и ушел, стряхивая с себя землю. Не этого он ожидал. Он пришел осадить его, показать мальчишке, каким он был идиотом, поучить его уму-разуму, а вместо этого уходил, чувствуя полным идиотом себя, весь в земле, с пересохшим ртом, полным пыли. Ему даже было немного неловко, и он не понимал, из-за чего — разве что из-за того, что парнишка бросил ему вызов, а он проиграл. Черт возьми, какая муха укусила парня?
Глава 73
— Слушай, я…
— Пошел вон!
Глава 74
— Слушай, я хочу объяснить. — Прентис повернулся к нему спиной.
— Пошел к черту.
Глава 75
В тот вечер к лагерю подошел отряд каррансистов. Они остановились на ферме, обосновались в доме и сараях, починили кораль, завели туда лошадей, накормили их, и костры их лагеря, наверное, были видны на далекое расстояние. Каррансисты прискакали в лагерь на разведку. Часовые остановили их, они увидели, что это американцы, и держались поодаль, пока их капитан не явился на переговоры.
Его звали Меса, и поскольку все были обеспокоены, он изо всех сил старался разрядить обстановку. Он вел себя исключительно дружелюбно. Как выяснилось потом, даже слишком, но когда они это поняли, было уже поздно. Он сидел у костра вместе с майором. Он объяснял, сколько горя они хлебнули от сторонников Вильи, как им необходима помощь, говорил, что позвонит по телефону в Парраль и их там встретят с распростертыми объятиями. Там, дескать, есть продовольствие, вода, корм для лошадей, место, чтобы разбить лагерь, и достаточно припасов. Там есть даже железная дорога, которой они смогут пользоваться. Поглядывая на майора, он также сообщил, что в городе есть клуб, принадлежащий, по его мнению, канадцам. Он провел в лагере ночь, утром позавтракал, взобрался на лошадь, пожелал им всего наилучшего, сказал, что скачет в ближайший город звонить, и отправился к своему отряду. Солдаты вздохнули с облегчением. Не потому, что он ушел; просто, пережив столько всего, они решили, что теперь, возможно, и вправду наступит облегчение. К тому же майор не сказал об этом, но мексиканцы, которых пытал Календар, наконец рассказали ему то, что он желал узнать. Вилья был поблизости. Может быть, в самом Паррале или немного к югу от него. Значит, отряд сможет прийти в Парраль и прочесать город, а если его там не окажется, то нужно спешить на юг, чтобы отрезать горные пути в Дуранго. И тогда он окажется в ловушке между 13-й и другими колоннами, направляющимися на юг. Как бы то ни было, охота почти закончена.
И вот они сели на лошадей и направились в Парраль; старик, поскакавший вперед, на разведку, попытался взять с собой Прентиса, но не тут-то было. Парень снова сказал ему: “Пошел вон”, и старик уехал один.
Местность стала более приветливой, появились кактусы, пустынная трава и дурман, почва стала менее песчаной, кое-где проглядывала земля, в воздухе чувствовалась прохлада. Они выехали наискосок из пустыни, горы были от них справа, слева расстилалась выгоревшая трава, а впереди — они не поверили своим глазам — небольшой холм, поросший деревьями.
Это были хлопковые деревья, и они уже было разбили около них лагерь, но тут увидели чуть поодаль другие деревья и направили к ним лошадей. Лошади учуяли запах, поскакали быстрее, вернее, ринулись туда, чуть не влетев в реку. И всадникам пришлось сдерживать их; они расседлали лошадей, дали им отдышаться, остыть и наконец позволили попить — сначала немножко, потом побольше; затем снова пустили их шагом.
На это ушло несколько часов, и даже после этого лошади никак не могли напиться. Они выставили заставу, привязали лошадей под деревьями. Потом побежали к реке — пора было подумать и о себе. После этого кавалеристы принялись разбивать лагерь, потом позволили лошадям попить еще. Вскоре пришлось силой оттаскивать их отводы. Кормить лошадей сейчас было нельзя. После такого количества воды от овса их затошнило бы, так что солдаты распаковали свои вещмешки, приготовили себе пищу и только перед сном покормили лошадей, дав им совсем немного овса, чтобы они сохранили силы.
Работы было столько, что у старика не было возможности поговорить с Прентисом. Наконец он нашел его у реки и, сев рядом с ним в темноте, спросил:
— Может быть, как-нибудь поладим? Парень молча посмотрел на него.
Старик продолжал сидеть, и вскоре Прентис встал, чтобы уйти. Он повернулся и посмотрел на него.
— Дело не в вас. А во всем остальном.
И ушел.
Старик не мог этого понять, не мог приспособиться к его быстрой смене настроения. Он уже привык, что мальчик все время рядом. Теперь, без него, ему как будто чего-то не хватало.
Прентис прекрасно все понимал, собственно, старика не в чем было обвинить. Он весь день думал и сказал именно то, что считал нужным. Дело было не в старике. А во всем остальном. Во всей этой проклятой чертовщине. Он ненавидел ее, а старик являлся ее воплощением. Нельзя же обвинить старика в том, что он занимается единственным делом, которое знает. Для него все это было нормально. Но не для Прентиса. Ему было чуждо все то, что приходилось делать. Сражения, ружья, лишения. И это Богом забытое место. Он никогда прежде не понимал, что значит это выражение. А это как раз и была та самая местность. И эта экспедиция тоже — как будто на них лежало проклятие. Даже сейчас, у реки, под деревьями, ему было немного лучше только потому, что это напоминало ему север. Все-таки надо было ему сохранить ферму, остаться там, работать, следить за сменой времен года, ухаживать за посевами. Теперь ему не терпелось покончить со всем этим, вернуться домой, начать все сначала и постараться, чтобы земля хорошо плодоносила.
Он оглянулся на старика и понял, что нужно ему все объяснить. Но Прентис не мог себя заставить. Он поднял такую бучу, что теперь не мог переступить через свою гордость. И не только это. Внутри была какая-то пустота, которая не давала ему ничего делать. Он просто не мог себя заставить. Ему хотелось только дремать, откинувшись на седло, около этой реки или под тем деревом, и ждать, пока пройдет время и он сможет вернуться домой. Он говорил себе, что это просто реакция на сражение, что это естественное чувство, и оно пройдет, но знал, что это неправда. Он получил удовольствие. Потом чары рассеялись, и остались только головы, которые он прострелил, порезы на телах людей, которых пытал Календар, запах тел. И понимание. Теперь он не мог выносить себя самого, не мог выносить старика и всех остальных тоже, не мог выносить того, частью чего он сейчас был. И хотел, чтобы все побыстрее кончилось. Он пытался найти виновных, но не мог. Да, у них были свои цели; но ведь и у Вильи были свои. Свои цели были у старика. И у всех. Ему это казалось концентрическими кругами. Прентис хотел вырваться из них, убежать, отказаться от всего этого, но он знал, что никогда такого не сделает. И это его добило. Именно понимание, что он никогда не вырвется из круга, что, пока на свете живут люди, у них существуют цели; и ему хотелось одного: чтобы его оставили в покое. Он смотрел на старика и не чувствовал к нему ничего, кроме жалости, и точно знал, что об этом он ему никогда не скажет.
Итак, они ехали в Парраль. Утром они немного покормили лошадей, зная, что в городе будет овес. Они также дали им немного попить. Затем поели сами, оседлали лошадей и тронулись в путь, думая о хорошей еде, о ваннах, о холодном питье, и где-то к полудню горная цепь справа от них кончилась. Перед ними расстилалась равнина, поросшая в основном кактусом, там и тут встречались сушеница, кустарники, трава. Начался долгий и легкий подъем, и с вершины холма они увидели город — железную дорогу, бегущую с востока на запад, каменные стены, деревья, саманные дома, поблескивающие на солнце. Похоже, там было не меньше пяти тысяч зданий — город побольше Колумбуса, самый большой из всех, какие они видели после того, как въехали в Мексику. Город простирался во все стороны до самого горизонта, и на миг они испытали потрясение при виде его после пустыни; потом кавалеристы стряхнули пыль с одежды, заправили рубашки, поправили шляпы и застегнули кобуры, чтобы никто не подумал, что они прибыли с дурными намерениями.
Затем кавалеристы начали спускаться. По мере приближения к городу воздух становился теплее. Они вытирали рукавами потные лица, не сводя глаз с города, и подъезжали все ближе; как-никак, триста человек, и кто-то должен был бы их обязательно заметить, но никто не вышел их встречать, так что в сотне ярдов от города майор приказал остановиться. Потом он взял с собой сотню людей, и они направились вперед, остановившись у здания железнодорожной станции. На миг старика охватило чувство, будто он снова в Колумбусе. Потом из караулки возле здания вышел часовой и посмотрел на него, и старик понял, что все совсем не так, как хотелось бы.
Майор сказал, что хочет видеть командующего. Часовой продолжал смотреть на него; потом он повернулся и ушел, затем вернулся, и выражение лица его стало еще хуже, если такое только возможно. Старик огляделся. Ему не нравилось здесь. Им позволили войти в город, как сказал часовой, к это тоже не понравилось старику. Ему не понравилась и тишина, стоявшая в городе; проезжая вдоль железнодорожного, пути и по главной улице, он видел пустоту вокруг, лица, украдкой выглядывающие из дверей, детей, бросавшихся врассыпную, и ему казалось, что он в том самом городе, где был, впервые покидая Мексику: тогда тоже единственным звуком был топот лошадиных копыт по твердой грунтовой дороге, и ему было так же не по себе, как тогда. А может быть, это просто воспоминание. Тогда ведь ему не казалось, что в городе что-то не так. Просто на старое наложились события, которые произошли потом, а на самом деле, может быть, там было неплохо. А может быть, и нет. Он не знал точно. Да и какая разница.
Теперь он здесь, и у него нет выбора, надо двигаться дальше.
На площади хватило места для всех. Майор выстроил кавалеристов в пять линий. Потом он взял с собой старика и еще пятерых и направился к гарнизонному штабу. Дом был точно таким, как все другие дома, двухэтажный, с саманными стенами, но немного шире и из крыши торчали стропила. Они подождали, пока охранник впустит их. Ждать пришлось долго. Потом майор прошел мимо него, а старик и остальные последовали за ним.
Человек за конторкой ошеломленно уставился на них. Он слыхом не слыхал ни про какого Месу, не мог понять, какого дьявола они остановились здесь, и посоветовал им убираться к чертовой матери.
У старика внутри все перевернулось. Слишком поздно он понял, что их обманули. Меса был человеком Вильи.
Потом, выглянув в окно, он увидел, что к площади направляются люди, сначала выходят из домов справа от него, потом из переулков слева. Среди них были женщины, но без детей, но преобладали мужчины, и они так хорошо знали, что делают, что даже не переговаривались. Старик сказал майору о том, что увидел. Майор тоже выглянул из окна; толпа у площади становилась все больше и больше.
Глава 76
Прентис смотрел, как они подходят. Он увидел, как из-за угла вышел первый человек, потом еще трое, потом их стало много. Он огляделся и увидел, что они идут со всех сторон, и опустил руку, чтобы расстегнуть кобуру. Остальные кавалеристы последовали его примеру. “Господи Иисусе”, — сказал кто-то, и все они замерли в напряжении. Прентис не знал, как остальные, но сам он молился.
В первый раз он присутствовал при подготовке к сражению. Прежде бои начинались так быстро, что он не успевал сообразить, что к чему, и сразу хватался за оружие, как в той деревне к северу отсюда. Но сейчас было все по-другому. Вот оно, здесь, надвигается на него, и ему надо действовать. Он видел вокруг злобный блеск темных глаз. Его охватила горячая волна ужаса, ему хотелось одного: вырваться отсюда и убежать подальше. Еще он боролся с желанием сходить по нужде, но, сидя в седле с расставленными бедрами, он вдруг почувствовал что-то теплое и влажное под собой. “Господи Боже”, — сказал он. Теперь он не чувствовал страха, а только ярость. Посмотрев налево, он увидел тележку, запряженную мулом; кто-то подразнил мула, тот напрягся и рванулся по направлению к отряду. Прентису этого было достаточно. Может быть, он и не знал, как себя вести с людьми, толпившимися впереди, но уж в мулах-то он разбирался; кровь у него так и закипела, как будто он только и ждал этой возможности. Он перекинул правую ногу через луку седла, соскочил на землю и двинулся к мулу. Мул был довольно далеко; С лошадью бы он на такое не решился, но другое дело мул, которому к тому же мешает тележка: с ним-то он справится. Он подождал, пока животное не подошло почти вплотную к нему, потом отступил в сторону и изо всей силы бросился на него, схватив за шею. Он толкнул его плечом, схватил поводья и рванул, в то же время вытянув вперед одну ногу и наступив на них. Мул свалился головой вперед. Он запутался в упряжи и начал так ржать, что Прентис испугался, не покалечил ли он животное. Но ноги вроде бы были целы, мул дергался, пытаясь встать, но снова падал. Прентис поднял его и теперь знал, что все будет в порядке. Он выпрямил упряжь, направил мула в другую сторону и оставил в покое. Потом так же быстро он выхватил пистолет и повернулся лицом к толпе. Плечо у него болело, но ему было все равно. Он сделал то, что хотел, и ему было хорошо. Он увидел в толпе парня, который спугнул мула.
— Черт тебя побери, пойди-ка сюда. Посмотрим, как тебе это понравится!
И они остановились.
Потом он услышал шум и, повернувшись к гарнизонному штабу, увидел, что дверь открыта, и из нее выходят старик, майор и еще несколько человек. За ними шел незнакомец в форме, китель застегнут до подбородка, темноглазый, темнолицый, с висячими усами, и, судя по тому, как он дергал головой из стороны в сторону, видно было, что он напуган. Майор повернулся лицом к отряду, как будто хотел что-то сказать, но ему это не удалось. Кто-то начал кричать. Майор повернулся, Прентис тоже. Через площадь скакал маленький человечек. Он был одет в серые бриджи для верховой езды, обут в начищенные ботинки; он даже держал в руке стек; у него была ван-дейковская бородка и четко выраженный немецкий акцент. “Viva! — кричал он. — Todos! Ahora! Viva Mexico!” И толпа зашевелилась. Майор прокричал “Viva Villa!” в ответ, и это было так неожиданно, что все расхохотались.
Может быть, это спасло бы их, дало возможность уйти, но позади немца возникла еще одна фигура — женская, ростом едва ли не шести футов, могучего телосложения, и если можно было понять, откуда взялся немец — кто-то из множества агентов начал формировать второй фронт, — то женщина оставалась загадкой. Она была явно европейского происхождения, но не немка, а скорее скандинавка: светлоглазая, с волевым лицом и зачесанными назад волосами. Она кричала с превосходным испанским произношением. Прентис не понимал слов, но, судя по тому, как злобно женщина выплевывала их, это были ругательства. Судя по виду и по речи, она жила здесь много лет, и, разумеется, ни Прентис, ни старик, на майор, и никто из них не знал того, что стало известным много позже: зовут ее Элиза Гринсен, она уже давно сочувствует Вилье, он сам находится в двух домах отсюда, на улице, с которой она пришла. У нее дома. Она ухаживала за ним, и, может быть, сами горожане и не интересовались, где он, но видно было, что они знают женщину, и начали кричать, вместе с ней, чтобы кавалеристы убирались к чертовой бабушке. Офицер из гарнизонного штаба продолжал дергать головой, вид у него был по-прежнему испуганный. Толпа приблизилась, майор и остальные поспешно вскочили в седла. Прентис тоже.
— Поехали-ка отсюда! — сказал майор, и кавалеристы двинулись прочь от площади.
Позади раздался выстрел. Прентис не был уверен чей, но стреляли слишком далеко, так что это не мог быть кавалерист из их отряда. Потом он услышал другие выстрелы. Пули свистели мимо его головы, он пригнулся и теперь все понял.
Внезапно рядом оказался старик.
— Держись ко мне поближе, — сказал он.
— Черт возьми, уж конечно, — ответил перепуганный Прентис.
И это была первая ошибка старика. Он начал улыбаться еще там, на площади, не из-за того, что майор крикнул немцу, а увидев, как парнишка остановил мула. Он сделал все как надо. Просто молодчина. Мексиканцы остановились как вкопанные, когда он повернулся к ним лицом, и старик не был уверен, что и сам справился бы с этим лучше. То ли сработала его наука, то ли мальчик был очень способным, но старик видел, как он блестяще справляется со всеми делами. И его потянуло к нему, как тянуло уже несколько дней, и ему не хотелось терять Прентиса из вида.
С ружьями наготове они скакали вместе с другими кавалеристами по главной улице, к окраине, и позади раздавались новые и новые выстрелы; из переулков теперь тоже стреляли, и старик поглядывал на верхние этажи домов — не видно ли в окнах ружейных стволов, нет ли там людей, которые могут в них чем-нибудь швыряться. В основном он беспокоился, чтобы парня не зацепили пули. Старику показалось, что он заметил какое-то движение, и он выстрелил. Они миновали это окно, и он продолжал осматривать верхние этажи, при этом стреляя назад, в то время как майор вел их дальше по улице. Он посмотрел вперед, увидел открытое пространство: они уже почти миновали окраины; потом увидел железнодорожное полотно, караульную будку у станционного здания; майор повел отряд через рельсы и повернул налево, где они оказались между двух пологих холмов; караульный выскочил из будки, целясь в них, старик застрелил его и проскакал мимо. Он взглянул туда, куда вел их майор, в долину между двумя пологими холмами, и снова перед ним возникло то ущелье в Колорадо, из которого они спустились к реке и попали в ловушку, расставленную индейцами. Но на этот раз ущелье оказалось больше похожим на другое, к северу отсюда, недалеко от деревни, где их преследовали федеральные войска. Он проскакал сквозь него, увидел новую равнину — настоящий котел, и это было совсем плохо, потому что горы оказались слишком высокими, чтобы оттуда можно было выбраться. Черт побери, они оказались в западне! Они развернулись и двинулись назад. На скаку старик увидел, что на краю города полно солдат и местных жителей. Он увидел, как солдаты вскакивают в седла. Майор повел кавалеристов назад тем же путем, потом свернул на дорогу, по которой они входили в город, скача изо всех сил, чтобы соединиться с той частью отряда, которую он оставил там. Старик не понял этого, не понял, почему майор не поступил так с самого начала, почему он свернул в это ущелье вместо того, чтобы скакать прямо. Может быть, майор не думал, что они окажутся так далеко? Или считал, что все вскоре успокоится и можно будет начать переговоры? Старик не понимал этого, но и не считал, что майору следовало попытаться так сделать. Это не имело значения. Теперь они выехали на открытое место, и старик мог не слишком беспокоиться о парнишке. Парнишка был молодцом, а уж когда дело касалось лошадей, то ему равных не было: он скакал быстро и хорошо, подстегивая лошадь, но не загоняя ее. Старик теперь думал только о себе, стрелял, считал, скольких он уложил. Он посмотрел вперед и увидел остальную часть отряда. Все были на дороге, сбились в кучу, кружились на месте и смотрели в сторону города. Он не понял, что они там делают, почему они не пришли на помощь. Старик и все остальные поравнялись с ними, остановились, повернулись, и. Боже ты мой, все кавалеристы мигом оказались в седлах и направились к ним.
— Убираемся отсюда! — крикнул майор, но им и не нужна была команда.
Не успел он договорить, как они повернули лошадей и кинулись вниз по дороге. Мексиканские солдаты бросились в погоню. Их лошади меньше устали, и они поскакали углом, пытаясь зажать колонну с флангов. Все поле было разделено прямыми каменными стенами, ярдах в пятидесяти друг от друга. Погоня настигала их, солдаты отстреливались. Старик посмотрел вперед и увидел, что один взвод развернулся, как их учили, чтобы попытаться остановить погоню. Он скосил глаза и увидел, что парнишка тоже среди них.
— Не смей! — крикнул он, но парень уже спешивался. Старик резко развернул лошадь и поскакал к ним. Он схватил ружье, спрыгнул на землю, подбежал к парню, который прятался за камнями. Пули так и свистели над головами.
— Черт, ты что, с ума сошел? Но парень не слышал. Вместе с другими он стрелял в солдат. Тут старик допустил ошибку. “Думай о себе, о том, что ты делаешь”. До сих пор он ни разу не нарушил этого правила. Даже сейчас он не понимал, что нарушает его. “Не позволяй никому отвлекать тебя. Сосредоточься на том, что делаешь”. Сам бы он ни за что не остановился. Он понимал, что это глупо, что им нужно более надежное прикрытие. Он должен был быть рядом с парнем. Календар понимал, что это неправильно, но это чувство смешивалось с чувством потрясения и страха, с инстинктом защищать его. Он не обратил на него внимания и вместе с парнем стал стрелять из-за камней в солдат. Мимо пролетали пули, кавалеристы падали, как падали и солдаты по ту сторону. А потом увидел, что солдаты слишком близко, и понял, что надо уходить. Он схватил парня и потащил его назад. Остальные кавалеристы уже отходили. Они вскочили на лошадей, старик втолкнул парня в седло, и вот все уже были верхом и, отстреливаясь, поскакали, чтобы присоединиться к отряду.
Но им это не удалось. Мексиканцы догоняли их, они мчались по полю, валили межевые преграды или обходили их, и вскоре кавалеристам пришлось снова остановиться, соскочить с коней и кинуться к очередной стене, стреляя из-за нее. На этот раз старик чуть было не пролетел мимо, но он не мог оставить парнишку. Теперь все стало слишком сложно — он не обращал внимания на легкие мишени и думал только об одном — как прикрыть мальчика. Он стрелял во всех, кто только в них целился, и то и дело прижимал парня к земле, когда та часть стены, за которой они прятались, попадала под особо сильный обстрел.
Глава 77
Парень, со своей стороны, ничего не замечал. Он как будто отсутствовал, заряжал свой “спрингфилд”, целился, стрелял, снова щелкал затвором, солдаты падали, а если его тянули назад или пригибали к земле, он лишь какой-то частью мозга отмечал это, тут же снова кидался к стене и стрелял, едва замечая, как мимо проносятся другие кавалеристы, как кто-то вталкивает его на лошадь; он едва сообразил, что оказался в седле и скачет вместе с другими по дороге.
Никогда он не чувствовал себя настолько отрешенным от происходящего. Нет, наоборот: никогда он не был так вовлечен в происходящее, так поглощен им. Его ружье, лошадь, стена, кавалеристы и солдаты — все это было единое целое, все казалось ярким, чистым и ясным, и он не знал, сколько времени он скакал по дороге, понимая только, что скачет и что это ему нравится. Он не соображал, что они снова остановились, что спешился вместе с другими; знал только, что очутился у другой стены и снова взводит курок, стреляет, перезаряжает, и снова верхом, и снова у стены, а потом вся эта последовательность смешалась и ему казалось, что все происходит одновременно. На какой-то миг он как будто взглянул на себя со стороны и подумал, что сошел с ума.
Глава 78
Старик никогда не видел ничего подобного: парнишка стреляет, и пот струится у него по лицу, смешиваясь с пылью, солдаты падают под выстрелами, кавалеристы ревут, парень вопит в каком-то исступлении, и он сам участвует в этом — кричит, стреляет, даже не осознавая, что по-прежнему прикрывает его; тут его ранило в плечо, в то самое место, куда ему всадили пулю во время боя возле северной деревни, и он упал лицом вниз. Даже тут он не заметил, что ранен, пока не попробовал опереться на руку, чтобы подняться. Рука не послушалась, и он снова упал. Старик перевернулся на бок и стал рассматривать руку. Рукав стал красным. Пятно растекалось, но боли он не чувствовал. Потом крики и выстрелы привели его в чувство, и он подполз к стене. В конце концов, это левая рука. Стрелять-то он еще может. Но когда он поднялся на колено, вглядываясь вдаль поверх стены, он увидел, что солдаты подошли слишком близко, и тогда он снова схватил парня и поволок к лошади. Он сам не понимал, откуда у него взялись силы и присутствие духа, чтобы успевать делать столько всего одновременно: стрелять, тянуть мальчишку, впихивать его в седло, морщась от боли, садиться на лошадь самому, скакать вниз по дороге вместе с другими кавалеристами.
Они еще трижды останавливались, кавалеристов уже почти не осталось, еще несколько человек присоединились к ним из отряда, и тут они поднялись на высокое место и увидели вдалеке совсем маленький поселок. Это было убежище, и Календар разглядел там колонну — совсем крохотные фигурки, въезжавшие в поселок. Но солдаты слишком приблизились. Они не могли рисковать и открыто скакать всю дорогу, так что они снова соскочили с коней, остановились на высоком месте, рассредоточились по склону, укрылись за валунами, в ложбинах, всюду, где только можно было укрыться, — каменные стены остались далеко позади. Кавалеристы в поселке увидели их, начали садиться на лошадей, чтобы присоединиться к ним, но тут их настигла первая волна наступления. И вдруг старик, бежавший вместе с парнем к укрытию, заметил, что того рядом нет. Он обернулся и увидел, что парень лежит на земле с залитым кровью лицом. Сначала он решил, что мальчик ранен. Потом он увидел камень, около которого тот упал, тоже забрызганный кровью, и понял, что Прентис споткнулся. Он подбежал к нему, поволок его в укрытие. Первая волна атаки накрыла их, когда они присели на корточки за большим валуном. Старик стрелял, целился, снова стрелял. Он уложил двоих солдат, приблизившихся к ним. Остальные кавалеристы продолжали стрелять, и вот первая волна отступила, смешалась с теми, кто оставался позади.
Старик посмотрел на парня — сильно ли тому досталось. Парень оторопело моргал, кровь текла по щеке и волосам. Потом его взгляд стал осмысленным. Он вроде бы впервые увидел старика, как будто раньше не замечал его.
— Долго? — спросил он.
Старик сначала нахмурился, но потом догадался. Долго ли он не помнил себя. Он попытался сказать: “По меньшей мере час”. Но на самом деле прошло около двух часов, но он и сам понятия не имел об этом. И все равно ему ничего не удалось сказать. Вторая волна атаки чуть ли не обрушилась на них. Он подтолкнул парня и сказал:
— Хватай пистолет. Ты втравил меня в это. Теперь заканчивай. — И принялся стрелять.
Парень уронил свой “спрингфилд”, когда упал. Он выхватил пистолет, оттянул затвор, прицелился и принялся стрелять, Старик выстрелил еще дважды, и его ружье сухо защелкало: обойма оказалась пуста. Он выхватил пистолет, взвел курок, стал стрелять. Уложил двух солдат. Потом увидел, как еще один приближается к парню, прицелился, уложил его, но и сам получил пулю, на этот раз в бок.
Парень смотрел, как он падал. Взглянув, он увидел, как Календар корчится, прицелился, сшиб того, кто выстрелил в старика, обернувшись, увидел, что к ним приближается еще один, прицелился, спустил курок и, когда ничего не произошло, опустился на колени, чувствуя себя совершенно беспомощным. Солдат прицелился, выстрелил в него, и снова часть мозга Прентиса отключилась… Он снова оказался на ферме, где разговаривал со стариком и со своим отцом. Он знал, что они подружатся, а потом старик, казалось, начал таять.
Глава 79
Старик не мог дышать. Он пытался привести в движение свою грудную клетку, но ничего не получалось. Он чувствовал, что бок у него горит, плечо ноет, попытался сесть, и тут как будто камень с души свалился, и он задышал. Вокруг было полно верховых кавалеристов, все они стреляли вниз с холма, а он не мог шевельнуть ногой. Потом он увидел, что на его ногах лежит распростертое тело. Оно соскользнуло с его груди. Он пригляделся, увидел парня, пробормотал:
— Господи Иисусе.
Он выкарабкался из-под тела. Мальчик лежал лицом вниз. Он перевернул парня. Потом увидел его голову, и его едва не затошнило. Кость, мозг, кровь.
— Господи Иисусе, — повторял старик. — Господи Иисусе.
— Долго? — спрашивал парень. Он оторопело мигал. Старик не понимал, как он ухитряется говорить.
— Господи Иисусе, что же с тобой случилось? Как ты допустил?
Потом он увидел в руке парня пистолет с пустой обоймой.
— А запасной пистолет? Господи Иисусе, я же тебе говорил о запасном пистолете, ведь правда? Что с тобой стряслось? Ты меня не слушал. Господи Иисусе. — Теперь он плакал, а взгляд парня стекленел, глаза закрывались, он улыбался. Он что-то пробормотал, и старик приложил ухо к его рту. Он попросил его повторить.
— Никуда не годный.
Старик, всхлипывая, ничего не понимал.
— Никуда не годный. Я был никуда не годным учеником.
— Нет, это я. Я был плохим учителем. Но парень только покачал головой. Или попытался покачать. Но так и не сделал того, что хотел.
Старик сидел, обняв его, и безутешно плакал.
Глава 80
Потом ему рассказали, как увидели его: он сидел, обхватив парня руками, и повторял: “Я оказался никуда не годным. Никуда не годным, а кавалеристы скакали мимо и стреляли в солдат. А он сидел и плакал. Потом он осторожно опустил тело на землю, вытер слезы и стал смотреть на солдат; которые спускались с другой стороны холма.
Лицо его приняло жесткое выражение, он вскочил, как будто и не был ранен. Он схватил ружье, принялся палить по солдатам. Опустошил обойму, схватил другое ружье, тоже расстрелял все патроны. Потом поднял упавший пистолет, потом еще один, отчаянно ругаясь, пригнулся на лошади, пришпорил ее и поскакал в сторону солдат. Следом пустились другие кавалеристы, и если, когда они отступали, старик подумал, что никогда не видел такого исступления, в каком был парень, то теперь кавалеристы, следовавшие за ним, дивились ему самому. Говорят, он продвигался вперед, колотя ногами лошадь, пока не подскакал к солдатам почти вплотную, так, чтобы промахнуться было уже невозможно, выхватил один пистолет, прицелился, стал стрелять, патроны кончились, он выкинул пустую обойму, вставил новую и так все время целился, стрелял, пока у него не кончились все обоймы. Тогда он достал запасной пистолет и тоже расстрелял все патроны. Говорят, в тот день он уложил человек тридцать — проверить этого никто так и не смог, но все пришли к выводу, что убитых было больше тридцати. Когда майор услышал об этом, он пожалел, что его там не было, ему припомнилось, как старик когда-то штурмовал холм на Кубе.
Сейчас Календар скакал в пятидесяти ярдах — впереди других, стрелял в солдат, они падали, он был ранен в ногу, потом в руку, потом еще раз в плечо, и только последняя пуля возымела на него действие и свалила его. Он боком сполз с лошади и упал лицом в грязь; ему еще повезло, как считал майор, удар был таким сильным, что он потерял сознание и так и не успел ничего сообразить. Кавалеристы нагнали его, стреляя в приближавшихся солдат. Они соскочили с лошадей, уверенные, что он мертв. К счастью, он остался жив. А может, и к несчастью. Он был человеком сильным, решительным; может быть, ему и не следовало оставаться в живых после таких ран. Его отнесли в поселок, и врач только покачал головой. Но потом он сделал все, что мог, и, несмотря на четыре раны, Календар обманул смерть и остался жить. Все равно, он не сразу пришел в себя — только через трое суток, — он довольно долго лежал, смотрел в потолок и моргал. Он даже не пытался заговорить. Он пролежал так все время, пока кавалеристы были в осаде. Солдаты окружили их. Майор, который послал за помощью, вздохнул свободно к концу первого дня осады. Им на подмогу прислали отряд чернокожих кавалеристов, и майор, вне себя от радости, кричал, что готов расцеловать каждого. Чернокожий командир отряда, которого звали Янг, улыбнулся и сказал, что он может начать с него прямо сейчас.
Но и этого отряда оказалось недостаточно, не хватило и второго негритянского отряда, который появился немного позже. Только на четвертый день осады, когда полковник и майор привели в город новые войска, стало видно, что солдаты на холмах собираются уходить. Кавалеристы оставались там еще неделю. Потом, после приказа Першинга, они двинулись на север. Старик к тому времени был в полном сознании, спрашивал, что произошло, избегая упоминать Прентиса. Он видел, где похоронили парня, но не произнес ни слова. Потом его посадили в повозку и увезли на север вместе с отрядом. Они остановились на полпути в городе, где размещалась база Першинга. Там они и остались, по крайней мере, кавалеристы. Майору не хотелось признавать того, что со стариком все кончено. Его отправили на север, сначала в Колонию Дублан, а потом туда, где все началось, в Колумбус.
Глава 81
Он приехал туда в повозке и едва узнал город. Палатки тянулись во всех направлениях, там, где прежде была пустыня, стояли здания. Календар увидел новые корали и конюшни, новые бары, казармы и склады, несколько тысяч кавалеристов, по меньшей мере тысячу рабочих, вооруженных полицейских — головорезов, которые приглядывали за поведением рабочих. Более того, там была взлетная полоса, автомобильная яма, площадка для испытания авиационных двигателей, где громкое жужжание моторов раздавалось целыми днями. Говорят, он пробыл там довольно долго. По другим сведениям, старик покинул город очень быстро. Все сошлись на том, что, как только он смог ходить, он бродил по лагерю в поисках некогда знакомых мест. Кроме этого, никто ничего не мог сказать, разве что за небольшими исключениями.
Глава 82
Экспедиция не продвинулась дальше Парраля. Подойдя так близко к Вилье и тем не менее не сумев поймать его, они больше не имели такой возможности. Получив от разъяренного мексиканского правительства указание, что они могут отправляться куда им заблагорассудится, только не на юг, не на запад и не на восток, Першинг продолжал продвигаться на север. Местность была слишком обширной и дикой, его подчиненные слишком рассредоточены, линии снабжения чересчур длинными. Когда в июне новый отряд кавалеристов сражался против сил Каррансы, на этот раз в местности под названием Каррисаль, возмущение Каррансы было так велико, что между Америкой и Мексикой чуть не началась война. Экспедиция оказалась загнанной еще дальше на север, и толку от нее уже не было. Все равно она оставалась там еще семь месяцев. Першинг и старший лейтенант Джордж С. Паттон, помня о войне в Европе, вырабатывали методы боевых действий, которые могли бы пригодиться на случай, если США вступят в ту войну, — рыли траншеи, устанавливали проволочные заграждения, осваивали пулеметы. И когда в апреле следующего года Америка объявила о своем вступлении в войну, силы Першин-га, два месяца как вернувшиеся из Мексики, составили ядро американской армии за океаном. Во главе их опять же стоял Першинг; они назывались АЭВ — американские экспедиционные войска, и так же, как Шеридан и Шерман прямо с гражданской войны отправились воевать с индейцами. Паттон попал из Мексики на Первую мировую войну, а потом, конечно, во Францию и на Вторую мировую войну.
Вилья, оправившись от раны, при помощи жителей Парраля ушел в Дуранго и перегруппировал свои силы. Он начал нападать на заставы каррансистов, сначала Сатево, Санта-Исабель, Чиуауа-Сити, потом Парраль, Торреон и Камарго и еще полдесятка других. Похоже было, он снова обрел силу. Но к тому времени это не было важно. Он выполнил свое назначение. Его противник, Сапата, попал в засаду. Карранса, под давлением повстанцев, захватил все имущество, какое только мог, и бежал, но был застрелен на пути в Веракрус. Обрегон, некогда верный ему, а теперь сделавшийся повстанцем, встал на сторону марионеточного правительства, а потом сам взял бразды правления в свои руки, а через несколько лет был застрелен молодым человеком, который, как он заявил, действовал в интересах католической церкви. Между тем Вилья официально раскаялся, получил прощение и несколько тысяч акров земли недалеко от Парраля. Там он прожил несколько лет. Потом, в 1923 году, в результате карточных долгов и спора из-за какой-то мебели, за которую он должен был заплатить, восемь человек подстерегли его на верхнем этаже дома в Паррале. Он подъехал с шестью телохранителями на “додже”, таком же автомобиле, на котором Першинг возглавлял экспедицию — и тут раздалось столько выстрелов, что шансов выжить ни у кого не осталось. Каким-то чудом один человек, державшийся позади, не погиб. Вилью похоронили в Паррале. Через год кто-то разрыл могилу и отрезал ему голову. Никто не знает, что с ней случилось. Сам автомобиль находится в Чиуауа-Сити, ржавеет, пуля была извлечена и лежит в стеклянной коробке в задней части большого розового дома, который прежде был жилищем Вильи, а теперь стал музеем.
Его последнее крупное сражение состоялось в 1919 году в Хуаресе, как раз через границу напротив Эль-Пасо, где пули сыпались градом, где гибли военные и штатские. Эрвин, командир Форт-Блисс, который был вместе с Першингом в Мексике, так разъярился, что приказал артиллерии открыть огонь через границу по скоростному шоссе в Хуаресе, где, как он видел, размещены силы Вильи. Под прикрытием огня кавалерийский отряд пересек Рио-Гранде, подойдя к войскам Вильи с фланга. К ним присоединились солдаты-негры с ружьями и штыками. Они основательно отбросили войска Вильи назад, и более того, на этот раз в последний раз в истории США произошла конная пистолетная схватка. В ней участвовали многие кавалеристы, побывавшие в Мексике с Першингом, и те, что были в 13-й колонне, в том числе и майор, и старик, и впоследствии рассказывали, что при последней атаке многие видели старика, который вместе с ним переправлялся через реку в Мексику, на дорогу, где собрались войска, выгнавшие Вилью из города. Правда, не было единого мнения о том, как он выглядел, что на нем было надето, постарел ли он, замедлились ли его движения. Но все сходились в одном: что видели его, старик скакал с ними рядом, с кобурой на плече, как обычно, с пистолетом в руке; скакал быстро и стрелял без перерыва. И все они были едины еще вот в чем: когда их лошади были загнаны до предела, когда боеприпасы кончились и они вынуждены были остановиться, старик продолжал скакать. Войска Вильи поднялись на горную гряду, спустились с нее, а старик все преследовал их — одинокое пятно на фоне полуденного неба, которое становилось все меньше и меньше, потом превратилось в крошечную точку на вершине и исчезло.


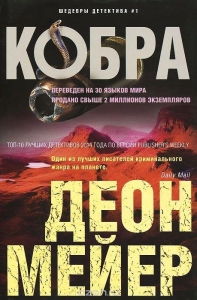
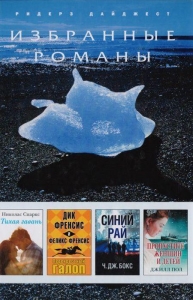
Комментарии к книге «Последняя побудка», Дэвид Моррелл
Всего 0 комментариев