Монс Каллентофт Зимняя жертва
Каллентофт великолепен. Захватывающая история с хитроумно закрученным сюжетом, богатый язык, тщательно проработанные характеры героев и описание окружающей их обстановки. Роман «зимняя жертва» Каллентофта — одно из лучших произведений в детективном жанре.
Svenska DagbladetМонс Каллентофт — мастер своего дела. У него точный глаз и уверенная рука. Роман «Зимняя жертва» выстроен безупречно.
Östgöta CorrespondentenВ некотором смысле книги о Малин Форс — моя попытка прикоснуться к собственному детству, понять, как я стал самим собой. Иногда мне кажется, что всю свою жизнь я только и делал, что убегал от собственного прошлого. Но нам никуда не деться от самих себя, разве не так?
Монс КаллентофтБлагодарности
Хочу поблагодарить тех, кто так или иначе помогал мне в работе над этой книгой.
Бенгта Нурдина и Марию Энберг за поддержку и большой интерес к моему труду.
Нину Ваденшё и Петру Кёниг за прозорливость и усердие. Рольфа Свенссона за его умение работать, в том числе и с бумагами. Мою мать Анну-Марию и отца Бьёрна за важные подробности в описании всего, что касается Линчёпинга.
Я хочу сказать спасибо также Бенгту Эльмстрёму, без разумных советов и интуиции которого не было бы вообще никакой книги.
Говорю огромное спасибо своей супруге Каролине за ее неоценимую помощь. Кем была бы Малин Форс с ее семьей и коллегами, если б не Каролина!
Прежде всего я хотел написать интересный роман. Поэтому позволил себе некоторые вольности, хотя и незначительные, в том, что касается работы полиции, жителей Линчёпинга и описания его окрестностей.
21/3 2007 Монс КаллентофтПролог
Эстергетланд,[1] тридцать первое января, вторник
[В темноте]
Не бейте меня.
Вы слышите?
Оставьте меня в покое.
Нет, нет, впустите меня. Яблоки, запах яблок. Я чувствую его.
Не оставляйте меня на этом белом холоде. Ветер отточил иглы, которые колют мне лицо и руки, и скоро ни заиндевелой кожи, ни мяса, ни жира не останется больше на моих костях.
Неужели не видите, что я исчезаю? Но вам же все равно…
Черви ползают по земляному полу.
Я слышу их. И мышей. Как они сходят с ума от жары и разрывают друг друга в клочья. «Мы должны были умереть, — шепчут они, — но ты затопил свой очаг и сохранил нам жизнь. Мы — твои единственные соседи среди этого холода. Но были ли мы вообще когда-нибудь живы или давно уже умерли в комнате, где так тесно, что нет места любви?»
Я кутаю свое тощее тело во влажную ткань. Вижу огонь в очаге, чувствую, как дым распространяется по моей землянке и просачивается наружу, проникая в спящие сосны, ели, мох, серые камни и лед на озере.
Где оно, тепло? Разве что в кипящей воде. Проснусь ли я, если усну?
Не бейте.
Не оставляйте меня в снегу снаружи.
Я посинею, а потом стану белым, как все вокруг.
Здесь я совсем один.
Сейчас я сплю и во сне опять слышу эти слова: сукин сын, чертово отродье, ты не настоящий, тебя нет.
Но что же я вам такого сделал? Скажите мне только, чем я провинился? Что произошло?
И откуда этот яблочный запах? Яблоки круглые, но они взрываются, исчезают в моих руках.
Крошки печенья у меня под ногами.
А надо мной парит обнаженная женщина, но я не знаю, кто она. Она говорит: «Я позабочусь о тебе, для меня ты существуешь, мы люди, мы вместе». Но вот она исчезает, и крышу моей землянки сносит черным ветром; я слышу, как там, снаружи, кто-то ползет за женщиной по пятам, и она кричит, а потом смолкает. Но вот является снова, теперь совсем другая. Такая, безликая, и нужна была мне всю жизнь. Она исчезла, ударив меня, — кто же она все-таки такая?
Еще одно письмо в переполненной папке «Входящие». Папка «Отправленные» пуста.
Я восполнил свою потерю.
Мне наплевать, дышу ли я.
Когда прекращается дыхание и исчезает чувство утраты, возникает ощущение общности, ведь так?
Я проснулся, став старше на много лет, но моя землянка, мороз, зимняя ночь и лес все те же. Я должен сделать кое-что, что уже делал и раньше.
Откуда кровь на моих руках?
И звуки.
В чем дело?
Ни червей, ни мышей не слышно из-за этого шума.
Твой голос. Я слышу, как стучат в дощатую дверь моей землянки — это ты пришла, это вы, наконец вы здесь.
Стук. Не пейте так много.
Но вы ли это? Или это мертвые?
Кто бы вы ни были там, снаружи, — скажите, что пришли с миром, скажите, что пришли с любовью.
Пообещайте мне это.
Пообещайте мне.
Пообещайте.
Часть 1 Эта мучительная любовь
1
Второе февраля, вторник
Любовь и смерть — соседи, и у них одинаковые лица. Чтобы умереть, человеку вовсе не нужно останавливать дыхание, и ему необязательно дышать для того, чтобы жить.
В любви и в смерти нет никаких гарантий.
Два человека встречаются. Возникает любовь. Они любят друг друга, пока любовь не кончается так же внезапно, как началась. Ее живой источник заглушили обстоятельства, внешние или внутренние.
Любовь продолжается, пока не закончится ее время. А еще бывает, что она невозможна с самого начала, но тем не менее неизбежна.
И пожалуй, именно эта, последняя разновидность любви — самая мучительная.
«Да, именно так», — думает Малин Форс.
Она только что приняла душ и, стоя в халате у мойки, намазывает масло на ломтик хлеба из муки грубого помола, одновременно поднося к губам чашку с крепким кофе.
Часы из магазина «ИКЕА» на белой стене показывают шесть пятнадцать. За окном в свете уличных фонарей сам воздух, кажется, превратился в лед. Мороз окутал серые каменные стены церкви Святого Лаврентия, а белые ветви кленов будто давно сдались и говорят всем своим видом: мы не выдержим еще одной ночи при температуре ниже двадцати! Лучше сломайте нас, дайте нам упасть мертвыми на землю.
Как можно любить в такой холод?
«Этот день, — думает Малин, — не для живых».
Линчёпинг парализован. Расплывчатые очертания улиц как бы висят над землей, а дома с запотевшими окнами кажутся слепыми.
Вчера вечером у людей даже не хватило сил добраться до «Клоетта-центра», чтобы посмотреть игру ЛХК.[2] На стадионе присутствовала всего пара тысяч зрителей, хотя обычно в таких случаях трибуны забиты до отказа.
«Интересно, как дела у Мартина?» — думает Малин.
Мартин — сын ее коллеги Зака, так сказать, продукт собственного производства, бомбардир с видами на национальную сборную и профессиональную карьеру. Сама она не особенно интересуется хоккеем, но, когда живешь в таком городе, как Линчёпинг, совершенно избежать страстей на льду не получится.
На улицах едва ли можно насчитать несколько человек.
Бюро путешествий на углу улицы Святого Лаврентия и Хамнгатан дразнит рекламой туров, один экзотичнее другого. Солнце, пляжи, неправдоподобно синее небо — словно виды какой-то другой планеты. Одинокая мамаша борется с двухместной коляской возле Эстгётабанка; дети похожи на черные кульки, безличные и безвольные, сильные и в то же время бесконечно уязвимые. Женщина скользит на льду, присыпанном снежной пудрой, спотыкается, но движется вперед, как будто не может иначе.
Черт бы подрал эту зиму!
«Плайя де ля Арена», сразу к северу от «Плайя де лас Америкас»,[3] — об этом говорил Малин отец, когда несколько лет назад объяснял, почему покупает трехкомнатное бунгало в округе для пенсионеров на острове Тенерифе.
Как они там сейчас?
Горячий кофе разливается в желудке.
Наверное, еще спят, а когда проснутся, будет тепло и солнечно. А здесь царит мороз.
Стоит ли будить Туве? Тринадцатилетним надо спать дольше, желательно круглые сутки, если есть возможность. А такой зимой, как эта, лучше залечь на несколько месяцев в спячку и вообще не выходить наружу, чтобы потом проснуться отдохнувшим, по другую сторону температурной шкалы.
Туве должна спать. Ее долговязому телу, сильно выросшему за последнее время, нужен отдых.
Первый урок начнется не раньше девяти. Малин ясно видит, как дочь с усилием поднимается в полдевятого, шатаясь, идет в ванную, принимает душ, одевается. Она никогда не красится. Потом Малин представляет, как девочка, несмотря на все увещевания, пренебрегает завтраком, и думает, что, может быть, стоит попробовать новую тактику. «Завтрак вреден для тебя, Туве. Все, что угодно, — только не завтрак!»
Малин допивает кофе.
Если Туве все же встает пораньше, то лишь для того, чтобы на свежую голову почитать одну из тех книг, которые глотает с почти маниакальной одержимостью. Для своих лет у нее довольно развитый вкус. Кто в тринадцать лет, кроме Туве, сейчас читает Джейн Остин? Но с другой стороны, она не совсем такая, как обычные подростки, ей не нужно прилагать усилия, чтобы быть в классе первой. Возможно, было бы все-таки лучше, если бы ей приходилось напрягаться, преодолевать испытания?
Уже пора, и Малин спешит, чтобы не пропустить те полчаса между шестью сорока пятью и семью пятнадцатью, когда в здании полицейского участка почти никогда никого не бывает и она может без помех подготовиться к работе.
В ванной она снимает халат и бросает на желтый линолеум.
Зеркало на стене слегка наклонено, так что отражение ее тела, ростом сто семьдесят сантиметров, выглядит немного сплющенным. Тем не менее она кажется довольно стройной, подтянутой и энергичной, готовой к встрече с любыми возможными неприятностями. Малин уже приходилось сталкиваться с разной дрянью: она давала отпор, становясь от этого сильнее, и шла дальше.
«Неплохо для тридцати трех лет, — думает Малин и чувствует уверенность в своих силах. — Я смогу справиться с чем угодно». Но тут же добавляет с сомнением, рожденным из знания жизни: «Однако в итоге я так никуда и не приду, останусь при своем. И в этом моя ошибка, моя собственная».
Тело.
Она сосредотачивает внимание на нем: хлопает себя по животу, нажимает на ребра, так что маленькие груди поднимаются, смотрит на свои соски, вставшие почти горизонтально, и вдруг спохватывается.
Быстро наклоняется и подбирает халат; сушит феном светлые волосы, позволяя им свободно лечь на четко и в то же время мягко очерченные скулы, на лоб над прямыми бровями, которые, как ей известно, подчеркивают васильковый цвет глаз. Малин надувает губы: может, им следовало бы быть несколько полнее? Хотя, вероятно, это смотрелось бы довольно странно при ее маленьком, слегка вздернутом носе.
В спальне она надевает джинсы, белую блузу и грубый вязаный джемпер черного цвета.
У зеркала в прихожей поправляет волосы, думая о том, что наверняка никто не видит морщин на лбу, потом обувается в ботинки от «Катерпиллар».[4]
Ведь неизвестно, что ей предстоит. Может быть, придется выехать куда-нибудь за город. В объемной черной куртке на искусственном меху, купленной в «Стадиуме»,[5] в торговом центре в Торнбю,[6] за восемьсот семьдесят пять крон, Малин чувствует себя ревматическим дедушкой-одуванчиком, неуклюжим и медлительным.
Ничего не забыла?
Мобильник и кошелек в кармане. Пистолет! Этот ее неотвязный спутник остался висеть в кобуре на спинке стула возле неприбранной кровати.
На матрасе могли бы уместиться двое, и еще хватило бы простора для сна и для чувства одиночества в самое мрачное время. Но как справиться с кем-то еще тому, кто частенько не может справиться с самим собой?
На столике возле кровати — фотография Янне. Каждый раз Малин старается убедить себя, что снимок стоит здесь ради Туве.
На фото Янне загорелый, улыбающийся, но изумрудные глаза смотрят серьезно. Над ним ясное небо, рядом покачивается на ветру пальма, а сзади, должно быть, джунгли. На Янне голубой шлем ООН и камуфляжная хлопковая куртка со значком спасательной службы; он как будто хочет обернуться, посмотреть, не подбирается ли к нему хищник из густых зарослей.
Руанда.
Кигали.
Он рассказывал, как псы пожирали еще живых людей.
Янне все странствует и странствует. Снова и снова он отправляется куда-то добровольцем — такова, по крайней мере, официальная версия.
В джунгли, где темнота такая плотная, что человек слышит, как бьется сердце зла; на Балканы, где грузовики с мешками муки громыхают по заминированным горным дорогам, мокрым от крови, мимо мелких братских могил, едва скрытых от глаз тонким слоем песка и молодой порослью.
Ей было семнадцать, а ему двадцать, когда они встретились на самой обыкновенной дискотеке в самом обыкновенном провинциальном городе — два человека без планов на будущее, такие разные и такие схожие, с одинаковым цветом ауры и взглядами на мир. Два человека, которые подходят друг другу. И через два года случается то, чего не должно было случиться. Где-то там лопается тонкая оболочка — и ребенок начинает расти.
— От него надо избавиться.
— Нет, я всегда этого хотела.
Слово за слово, время подходит, и на свет появляется дочь, маленькое лучистое солнышко. Они играют в семью, но через пару лет что-то разлаживается, идет не так, как было задумано, если что-то было задумано вообще, и тела обретают собственную волю, независимую от сознания и здравого смысла.
И никакой катастрофы не случилось — просто возникла трещина, которая пролегает все дальше и дальше и разделяет их как в душе, так и географически. Малин думает об этом как о крепостном праве любви. В мире есть сладкое и горькое. «Я буду искоренять зло, и, если это у меня получится, ко мне вернется добро», — так рассуждала она, после того как Янне отправился в Боснию, а она, загрузив в машину свои пожитки, — в Стокгольм, в полицейскую школу.
Ведь это так просто. И тогда, наверное, любовь снова станет возможной?
У выхода из квартиры Малин чувствует, как пистолет давит на грудную клетку. Она осторожно открывает дверь в спальню Туве: в темноте смутно видны стены, ряды книг на полке, нескладное тело девочки-подростка под бирюзовым одеялом. С двух лет Туве спит почти беззвучно. До того ее сон был беспокойным, она просыпалась за ночь по многу раз, а потом словно поняла, как необходимы тишина и безмятежность, по крайней мере ночью: инстинкт подсказал ей уже тогда, как нужен иногда человеку сон без сновидений.
Малин покидает квартиру.
Она медленно минует три лестничных пролета вниз, и с каждым шагом мороз становится ближе — в подъезде почти минусовая температура.
Только бы машина завелась. Вполне возможно, что бензин на таком холоде превратился в лед.
Конусы уличных фонарей окутаны морозной дымкой. Малин топчется у двери: хочется взойти обратно по лестнице, вернуться в квартиру, раздеться и снова заползти в постель. Но потом она придет опять — тоска по полицейскому участку. Итак, открыть дверь и бегом к машине. Повозиться с ключами, распахнуть дверцу, прыгнуть в салон, завести и в путь!
На улице мороз мертвой хваткой вцепляется Малин в горло; кажется, она слышит, как при каждом вдохе хрустят волоски в носу, чувствует, как затуманиваются глаза. Тем не менее ей видна надпись на воротах одного из боковых входов в церковь Святого Лаврентия: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Где машина? Серебристая «вольво», модель 2004 года, стоит на своем месте, напротив хоров церкви.
Чертова куртка!
Малин с трудом опускает руку в карман, где, как она полагает, должны быть ключи, но их там нет. Она ощупывает другой карман, третий. Проклятье! Неужели забыла дома? Потом до нее доходит: ключи в джинсах, в переднем кармане.
Окоченевшие пальцы болят, когда она пытается засунуть их в нужный карман, но искомое действительно там.
Открывайся же, проклятая дверь! Замочную скважину мороз пощадил, и вот уже Малин устраивается на переднем сиденье, проклиная всех и вся: холод, мотор, который только кряхтит и отказывается заводиться.
Она пробует снова и снова.
Напрасно.
Малин выползает наружу. Придется ехать на автобусе, но она смутно представляет, где он останавливается.
К дьяволу эту зиму и эту машину!
В это время звонит телефон, и Малин хватает пронзительно визжащую пластмассовую штуку, не озаботившись даже взглянуть, от кого звонок.
— Да, Малин Форс.
— Это Зак.
— Моя проклятая машина не заводится.
— Не беспокойся. Малин, послушай, произошло черт знает что. Я подъеду и расскажу. Буду через десять минут.
Слова Зака будто повисают в воздухе. По голосу Малин поняла, что произошло нечто действительно серьезное — такое, что заставит еще больше возненавидеть эту зиму, самую холодную на памяти людской. Теперь она наконец показала свое истинное лицо.
2
В салоне гремит немецкая хоровая музыка. Закариас, иначе Зак Мартинссон, крепко держит руль, проезжая мимо вилл на окраине района Хьюльсбру. За боковыми окнами мелькают красные и зеленые фасады просторных таунхаусов; крашеные доски покрыты инеем, а деревья, за тридцать с лишним лет существования района успевшие вырасти в стройных великанов, выглядят уставшими от мороза. Тем не менее в целом улицы имеют на удивление теплый, уютный и благополучный вид.
«Медицинское гетто», — вспомнилось Заку. Так называют это место в городе. Район пользуется несомненной популярностью среди докторов местной больницы. Напротив, по другую сторону трассы Стюрефорследен, за парковкой, видны невысокие белые многоквартирные дома района Экхольм — пристанище тысяч иммигрантов и коренных шведов, занимающих нижние ступеньки общественной лестницы.
Голос у Малин был усталый, но не то чтобы заспанный. Может, плохо спала и стоило спросить, не случилось ли что? Впрочем, нет. Ей не нравится, когда спрашивают о самочувствии.
Зак старается не думать о том, куда они поедут, даже знать не хочет, как это все выглядит. Увидят в свое время. Но парни из патрульной машины были, похоже, порядком напуганы, что неудивительно, если все действительно так, как они рассказывают. С годами он привык отодвигать этот проклятый момент как можно дальше, даже если это откровенно вредило делу.
Юханнелунд.
Футбольная площадка юношеского клуба внизу, возле Стонгона,[7] покрыта снегом. Здесь Мартин играл с командой «Сааба», пока не решил целиком посвятить себя хоккею. «Я никогда не был „футбольным папой“, — думает Зак, — и даже теперь, когда у мальчика все так хорошо складывается, почти не утруждаю себя посещением матчей. Вчерашняя игра стала серьезным испытанием, и все же они разбили „Ферьестад“: четыре — три. Не могу полюбить эту игру, как ни стараюсь. Ерунда какая-то…»
«Любовь, — думает Зак. — Она либо есть, либо ее нет. Как моя любовь к хоровому пению».
Вот уже почти десять лет он поет в хоре под названием «Да Капо», и они занимаются два раза в неделю. Примерно раз в месяц устраиваются концерты, а раз в год — поездка на какой-нибудь фестиваль.
Заку нравятся легкие отношения между хористами. Никого не волнует, чем занимаются другие в свободное от музыки время; они встречаются, разговаривают и, конечно, поют. Иногда, стоя среди товарищей в какой-нибудь церкви, пронизанной светом и звуками, он понимает, что, может быть, действительно принадлежит чему-то такому, что больше его собственной незначительной персоны. Как будто в песне живет простая и понятная радость, в которой нет места злу.
Потому что от зла следует держаться на расстоянии, и как можно большем.
Сейчас, когда он едет на встречу со злом, это можно сказать с полной уверенностью.
Фолькунгаваллен.
Следующая ступень в футбольной иерархии. Стадиону не уделяют должного внимания, и он явно нуждается в ремонте. Женская команда ФФ из Линчёпинга одна из лучших в стране и никогда не подводила болельщиков. Многие девушки играют в национальной сборной. Дальше — бассейн, потом новое здание возле гаража. Зак сворачивает на Хамнгатан, мимо торговых центров «Хемчёп» и «Оленс» и наконец видит Малин — она стоит у ворот, наверное, совсем продрогшая. Неужели не догадалась подождать в подъезде?
Малин ежится, хлопает себя руками, но в этих ее движениях чувствуется какая-то решительность. Она крепко стоит на ногах, словно вросла в землю от мороза и осознания того, что это только начало еще одного рабочего дня, который ей предстоит посвятить избранному делу.
«Эта женщина просто создана для работы в полиции, — думает Зак. — Не хотел бы я оказаться на месте преступника, за которым она охотится».
И тут же шепчет: «Черт возьми, Малин, что еще готовит нам этот денек?»
Хоровое пение включено на минимальную громкость. Сотни голосов шепчут в салоне.
«Что значит человеческий голос?» — размышляет Малин.
Его колкость, хрипота. Или это способ приглушить слова на полпути?
У Зака самый хриплый голос из всех, какие Малин приходилось слышать. В нем присутствуют острые, требовательные нотки; они пропадают, когда Зак поет, но сейчас, когда он рассказывает о случившемся, звучат особенно отчетливо.
— Это действительно дьявольское зрелище, — говорит он, и хрипота придает его словам особую резкость. — Парни из машины так и сказали, когда позвонили нам. Хотя разве когда-то бывало иначе?
— Как — иначе?
— Когда-нибудь это зрелище бывает приятным?
Зак сидит рядом с ней, за рулем «вольво», взгляд его неотрывно скользит по глянцу дороги.
Глаза.
Он доверяет им. Глаза дают нам девяносто процентов тех впечатлений, из которых складывается облик окружающего мира. То, чего мы не видим, для нас не существует. Почти. Все, что угодно, можно спрятать в шкаф — и проблема решена. Только так.
— Никогда, — соглашается Малин.
Зак кивает. Его обритая голова на необыкновенно длинной шее существует словно бы отдельно от его короткого жилистого тела. Кожа на скулах стянута.
Со своего места Малин не может видеть его глаза, но полагается на свою память.
Она знает его глаза — глубоко посаженные, как правило — спокойные. Мягкого серо-зеленого цвета, они все время оживлены приглушенным, можно сказать, вечным светом, стойким и нежным одновременно.
Заку сорок пять лет, опыт придает ему уравновешенности, и в то же время с годами он стал более непримиримым, беспокойным. Как-то раз на рождественской вечеринке, после водки, которой Зак выпил слишком много, и нескольких кружек пива он ей признался: «Малин, в нашей борьбе с ними, как это ни печально, иногда мы вынуждены прибегать к их методам. Это единственный язык, который понимают люди такого сорта». Он произнес это без горечи и без удовлетворения. Просто констатировал.
Беспокойства Зака не видно со стороны, но она его чувствует. Как он может не переживать за матчи Мартина?
«…Дьявольское зрелище».
Между звонком Зака и его появлением у дома Малин прошло одиннадцать минут. Его короткие, четкие фразы встряхнули ее, и, усаживаясь в машину, она словно против воли ощутила душевный подъем.
Линчёпинг за окнами автомобиля.
Маленький, но ненасытный город. История, покрытая тонким слоем лака.
Бывший город фабрик, куда крестьяне округи съезжались на рынок, стал университетским центром. Предприятия по большей части закрылись, жители по мере возможности постарались получить образование — и вот на равнине вырос самый тщеславный из городов страны, населенный необычными людьми.
Линчёпинг.
Город поколения сороковых: сомнительных академиков со скелетами в шкафах, которые следует утаить любой ценой; обывателей, которым нравится вести светский образ жизни и по субботам сидеть в кафе, похваляясь костюмами и вечерними платьями.
Линчёпинг.
Отличное место для того, кто болен.
А еще лучше для того, кто пострадал при пожаре, ибо в университетской клинике прекраснейшее в стране ожоговое отделение. Малин была там как-то в связи с расследованием дела, и ей пришлось одеться в белое с головы до пят. Проснувшиеся пациенты кричали или стонали, а усыпленные наркозом видели свое пробуждение в кошмарных снах.
Линчёпинг.
Территория летчиков, родина авиационной промышленности. Каркающие в небе стальные птицы — «туннаны», «дракены», «виггены», «ясы».[8] Все хлещет через край — и вот появляется очередной нувориш, продавший перспективную технологию в Америку.
А вокруг леса и равнины — прибежище тех, кто не способен к таким быстрым изменениям, чей генетический код протестует, отказывается, не принимает. Кому невозможно обосноваться где бы то ни было.
Янне, ты один из них?
Или это наши с тобой коды работают в разных режимах?
Вокруг лежат девственные леса, населенные индейцами — людьми из Укны, Нюкиля, Ледберга.[9] По выходным индейцев в спортивных костюмах и деревянных сабо можно видеть в «ИКЕА» рядом с докторами, инженерами и летчиками-испытателями. Люди живут бок о бок. Но что, если код дает о себе знать и любовь к ближнему становится невозможной? В точке разрыва между «тогда» и «теперь», между «здесь» и «там», «внутри» и «снаружи» рождается насилие как единственная возможность разрешить противоречие.
Они проезжают район под названием Шеггеторп.
Белые стены домов, построенных по программе «Миллион»,[10] высятся вокруг пустынного центра. В этих многоэтажках живут те, кто действительно прибыл издалека. Те, кто знает, каково это, когда каратели в военной форме ломятся ночью в двери; кто слышал свист мачете в воздухе джунглей в час рассвета; в чью честь еще никогда не устраивали праздников в совете по вопросам иммиграции.
— Поедем через монастырь Вреты или по дороге на Ледберг? — спрашивает Зак.
— Это не мой район.
— Решай ты, и как можно скорее.
— Тогда едем прямо, — отвечает она и добавляет, помолчав: — Как вчерашний матч?
— Не будем об этом. Красные сиденья в «Центре» — настоящая пытка для моего мягкого места.
На востоке раскинулось озеро Роксен, сплошь покрытое льдом и похожее на заблудившийся глетчер, а по противоположному берегу взбираются виллы элитного района, расположенного в окрестностях монастыря Вреты. Рядом шлюзы Гёта-канала ожидают летнего сезона, когда здесь появятся прогулочные лодки и сорящие деньгами американские туристы.
Часы на приборной панели показывают 7.22.
«Дьявольское зрелище».
Она хочет попросить Зака поторопиться, но сдерживается и прикрывает глаза.
По обычным дням в это же время в участке уже собираются люди, и Малин приветствует работников розыскной группы отдела уголовных преступлений полиции Линчёпинга, сидя за своим столом в общем офисном помещении. Она угадывает их настроение и в зависимости от него подбирает нужный тон. Она может сказать или подумать:
«Доброе утро, Бёрье Сверд. Опять выгуливал своих собак? Нет такого мороза, который мог бы помешать воздать должное любимым овчаркам, верно? Вижу собачьи шерстинки на твоей куртке, на рубахе и во все редеющих волосах. Эти собаки, должно быть, служат тебе хорошей поддержкой. Действительно, как бы иначе ты справился со всем этим? Как можно каждый день видеть страдания любимого человека, как ты видишь страдания своей жены?
Привет, Юхан Якобссон. Трудно было вчера уложить малышей в постель? Или они больны? Сейчас сезон кишечных вирусов, у многих проблемы со здоровьем. Вы с женой просыпались среди ночи, убирали рвоту? Или вам посчастливилось на этот раз и дети мирно заснули пораньше? Вы всегда успеваете вовремя, даже если этого времени так не хватает. А тревога, Юхан, никогда не исчезает — я вижу ее в твоих глазах, слышу в голосе. Я знаю, что за ней стоит, потому что и сама переживаю это же.
Привет, руководитель группы. Как ты сегодня, комиссар Свен Шёман? Будь осторожен. Твой живот действительно слишком велик, и в нем слишком много жира. Доктора из университетской клиники такие называют „инфарктными животами“. „Вдовий живот“, как шутят они в буфете кардиологического отделения перед коронарным шунтированием. И не надо смотреть на меня с таким вызовом, Свен, ты знаешь, я всегда делаю все возможное. Мне нужно, чтобы в меня верили, потому что так легко усомниться в себе, даже если в тебе заложено гораздо больше, чем ты думаешь».
А вот что он мог бы сказать в ответ. «Малин, у тебя талант к работе. Настоящий талант, береги его. В мире есть множество талантливых людей, но умение пользоваться талантом — редкость. Смотри на то, что перед тобой, однако верь не только глазам своим, но и шестому чувству. Доверяй интуиции. В расследовании всегда раздается множество голосов, чужих и наших собственных. Ты можешь их слышать или не слышать. Стоит прислушаться к голосам без звука, Малин, они открывают нам истину».
«Доброе утро, Карим Акбар. Ты знаешь, что даже самый молодой в стране шеф полиции и любимец СМИ должен ладить с нами, работягами? Ты скользишь по комнате в своем отутюженном, блестящем итальянском костюме, и невозможно угадать, какой путь ты выберешь. Ты никогда не говоришь о Шеггеторпе, об оранжевом доме с фасадом, обитым листовым железом, в Сюндсвалле, в районе Накст. О доме, где ты вырос с мамой и шестью братьями и сестрами, после того как семья уехала из турецкого Курдистана, а твой папа покончил с собой, отчаявшись найти себе достойное место в новой стране».
— О чем думаешь, Малин? Ты, похоже, далеко.
Подобно удару хлыста, слова Зака вырывают Малин из игры в приветствия, возвращают в машину, и снова она мчится навстречу случившемуся, навстречу вспышке насилия в точке разрыва, в измученный зимой ландшафт.
— Так, ничего, — отвечает она. — Я только подумала о том, как тепло и хорошо сейчас в участке.
— Малин, твоя голова проморожена насквозь.
— Что же с этим делать?
— Закаляй себя, и это пройдет.
— Мороз пройдет?
— Нет, мысли о нем.
Они проезжают мимо садоводства в Шёвике. Малин показывает в окно, в сторону заиндевелых теплиц:
— Здесь весной можно купить тюльпаны всех мыслимых расцветок.
— О черт, — отвечает Зак. — Еще немного, и я не выдержу.
На фоне белого поля и неба включенные фары патрульного автомобиля кажутся разноцветными мигающими звездами.
Они медленно подъезжают — машина с трудом, метр за метром, преодолевает этот мороз, это покрытое снегом поле, это вечное одиночество. Метр за метром, кристалл за кристаллом приближаются они к цели. Они — округлое, выпуклое уплотнение в атмосфере, явление, вызванное к жизни другим явлением, а то, в свою очередь, стало следствием предшествующего — того, что находится сейчас в центре внимания.
Ветер метет на лобовое стекло снег.
Колеса «вольво» буксуют на расчищенной от снега дороге. Где-то в полусотне метров от мигающих огоньков вырисовывается одинокий дуб; его очертания размыты на фоне горизонта, бледно-серые сучья напоминают лапы ядовитого паука, взбирающегося на белое небо. Переплетение тонких ветвей — паутина, сотканная из предчувствий и воспоминаний. Самая толстая ветка склонилась к земле. Морозная пелена постепенно исчезает — и видимое обретает вес.
Возле патрульной машины виднеется неясный силуэт, за окном сзади маячат две головы. Впереди через несколько метров стоит зеленый «сааб».
Вокруг дуба ограждение, почти до самой трассы.
И это дерево. Не самое приятное зрелище.
Есть в чем усомниться глазу.
Есть о чем рассказать голосу.
3
И все-таки найдется своя прелесть в том, чтобы висеть здесь, наверху.
Вид отсюда прекрасный, и мне приятно, когда ветер раскачивает мое тело.
Я могу дать своим мыслям свободу. Здесь я обрел покой, которого не знал раньше, да и не думал, что он возможен вообще. У меня новый голос. И новый взгляд. Вероятно, только теперь я стал человеком, каким и не надеялся стать раньше.
Я вижу свет где-то у горизонта, и бледно-серую бесконечность этой равнины Эстергётланда нарушают лишь скопления деревьев возле крохотных хуторов. В полях плещутся снежные волны, и нет больше разницы между летним пастбищем и клочком голой земли. А там, внизу, возле полицейской машины, далеко под моими качающимися ногами, стоит молодой человек в сером комбинезоне. С беспокойством и надеждой, почти с облегчением смотрит он в сторону приближающегося автомобиля, а потом оборачивается ко мне, словно я мог тем временем убежать.
Вдруг хватается за телефон, а потом садится в машину и качает головой.
Бог, как же! Я пробовал когда-то и это, но что Он может дать мне? Я вижу везде одно и то же: эти безутешно взывающие к Нему люди только и ищут возможности вступить в сделку с тем, что есть тьма, как сами же они верят.
Нет, я не одинок, вокруг немало подобных мне. Но нам совсем не тесно, места всем хватает, его здесь много. В моей бесконечно расширяющейся вселенной все одновременно сжимается. Все становится ясным и в то же время неопределенным.
Конечно, мне было больно.
Конечно, мне было страшно.
Конечно, я пытался бежать.
И все же где-то в глубине души я понимал, что моя жизнь уже прожита. Нет, я не испытывал радости, я просто устал, устал ходить кругами вокруг того, что отвергает меня и чего я тем не менее желал, частью чего я где-то в глубине души все же хотел быть.
Суета человеческая.
Не моя суета.
Поэтому мне приятно висеть здесь голым и мертвым, на одиноком дубе посреди равнины, одной из самых плодородных в стране. И я нахожу, что те два огонька приближающегося к нам издалека автомобиля красивы.
Раньше для меня не было красоты.
Может быть, она существует только для нас, мертвых?
Да, это красота, это такая красота — уйти наконец от всех забот жизни!
В морозном воздухе не чувствуется никаких запахов. Голое окровавленное тело медленно раскачивается взад и вперед прямо над головой Малин, превращая дуб в виселицу, чей недовольный скрип мешается с гулом мотора, работающего на холостом ходу. На спине и выпуклом животе кожа содрана и висит клочьями, обнажая промерзшее мясо всевозможных оттенков мутно-красного. Там и здесь на конечностях в беспорядке разбросаны глубокие раны, словно канавы от вырезанных ножом кусков человеческого тела. Половые органы не тронуты. Лицо не имеет контуров — это просто черно-синяя распухшая жировая масса. И только глаза, выпученные, в красных прожилках, с выражением удивления, голода, сомнения и страха, выдают лицо человека.
— В нем как минимум полторы сотни килограммов, — замечает Зак.
— По меньшей мере, — соглашается Малин.
Она и раньше видела такие глаза у убитых и теперь думает: каждый раз, когда мы смотрим в лицо смерти, все возвращается на круги своя и мы узнаем это обновленное состояние, в котором сами уже когда-то были раньше, — этот испуг, голод во взгляде, еще хранящем изумление первых мгновений.
В подобных случаях она всегда делает так: продумывает все заново, опираясь на собственный опыт и прочитанное на эту тему, пытается увязать теорию с тем, что видят ее собственные глаза.
Во взгляде мертвеца она замечает прежде всего гнев. И отчаяние.
Остальные ждут в патрульной машине, где Зак велел оставаться и тому, в форме:
— Тебе нет нужды стоять снаружи и мерзнуть. Он никуда не денется.
— Вы не хотите выслушать того, кто его нашел? — Тот, в форме, кивает через плечо. — Вон он здесь.
— Давайте сначала посмотрим.
Итак, опухшее замерзшее тело на одиноком дубе, словно младенец-переросток, замученный кем-то до смерти.
«Чего ты хочешь от меня? — спрашивает его Малин. — Зачем привел меня сюда в это забытое богом утро? О чем хочешь рассказать?»
На фоне белого болтаются ноги — темно-синие, с черными пальцами.
«Глаза, — думает Малин. — Твое одиночество. Оно словно растекается над городом, над равниной, проникая в меня».
Первое, что привлекает внимание, — ветка находится на высоте пяти метров над землей, но не видно ни одежды, ни крови, никаких следов на снегу возле дерева, кроме свежих отпечатков ботинок.
«Это следы человека в машине, который нашел тебя, — думает Малин. — Одно ясно: ты не мог прийти сюда сам и раны на твоем теле — дело рук кого-то другого. Тебе, очевидно, нанесли их не здесь, потому что тогда земля под тобой была бы покрыта кровью. Нет, ты долго находился где-то в другом месте, так долго, что твоя кровь замерзла».
— Ты видела отметины на ветке? — спрашивает Зак, разглядывая труп.
— Да, — отвечает Малин. — Как будто сдирали кору.
— Могу поклясться, что тот, кто это сделал, при помощи траверсы[11] поднял его на дерево, а потом уже затянул петлю.
— Или те, кто это сделал, — уточняет Малин. — Ведь их могло быть несколько.
— Никаких следов от дороги в эту сторону.
— Нет, однако ночь была ветреной: сперва снег, потом наст, потом все сначала. Как долго след мог сохраняться? Четверть часа, час, не больше.
— Тем не менее техники должны будут расчистить землю.
— Вероятно, для этого им понадобится мощнейший тепловой агрегат.
— У них такой найдется.
— И давно его здесь подвесили, как ты думаешь?
— Трудно сказать, но точно не раньше вчерашнего вечера — днем его бы заметили.
— Вполне возможно, что умер он гораздо раньше, — рассуждает Малин.
— Это вопрос к Юханнисон.
— Что-то по сексуальной части?
— Форс, кто о чем?
Зак называет Малин по фамилии, когда шутит или отвечает на вопрос, который считает плохо сформулированным либо просто глупым.
— И все же?
— Я не думаю, что это как-то связано с сексом.
— Отлично, здесь мы единодушны.
— Тот, кто это сделал, — рассуждает Зак, пока они возвращаются к машине, — обладал дьявольской целеустремленностью. Что бы там ни было, очень непросто притащить сюда такое тело и поднять на дерево. Для этого нужна дьявольская озлобленность, — продолжает он, подумав.
— Или чудовищное отчаяние, — добавляет Малин.
— Садитесь лучше в нашу машину. Она еще теплая.
Те, в форме, выкарабкиваются из патрульного автомобиля.
Средних лет мужчина на заднем сиденье многозначительно смотрит на Малин и делает попытку подняться.
— Сидите там, — говорит она, и мужчина съеживается опять, все такой же напряженный. Его тонкая бровь дергается, и весь облик выражает один вопрос: «Как, черт возьми, мне объяснить все это? Что я делал здесь в такое время?»
Малин усаживается рядом с ним, Зак устраивается на переднем сиденье и говорит:
— Прекрасно! Здесь, внутри, лучше, чем там, снаружи.
— Это не я, — начинает оправдываться мужчина, повернувшись к Малин, и его синие глаза от волнения увлажняются. — Мне не нужно было останавливаться. Какая, черт возьми, глупость! Ехал бы себе дальше!
Малин кладет руку на его плечо, ее пальцы погружаются в красную ткань куртки.
— Вы все сделали правильно.
— Так вот, я был…
— Значит, так. — Зак оборачивается. — Успокойтесь и для начала скажите, как вас зовут.
— Как меня зовут?
— Именно, — кивает Малин.
— Моя любовница…
— Ваше имя?
— Лидберг. Петер Лидберг.
— Спасибо, Петер.
— Теперь можете рассказывать.
— Так вот. Я был у своей любовницы в Буренсберге и этой дорогой возвращался домой. Я живу в Маспелёсе, а это кратчайший путь из тех мест. Это я признаю, но я не имею никакого отношения к тому, что здесь произошло. Вы можете спросить мою подругу. Ее зовут…
— Обязательно спросим, — подхватывает Зак. — Итак, вы возвращались домой после ночного свидания?
— Да, и я выбрал эту дорогу. Она ведь расчищена. И вот я заметил на дереве нечто странное и остановился, и… черт возьми… чертовщина — одно слово… О боже!
«Человеческая суета, — думает Малин. — Свет фар в ночи, мерцающие точки». Помедлив, она спрашивает:
— А здесь никого не было тогда? Вы кого-нибудь видели?
— Пусто, как на кладбище.
— А на трассе вы кого-нибудь встретили?
— На этой — нет, но за несколько километров до поворота мне встретилась машина. Кузов «универсал», а марку не помню.
— Номер? — хрипло спрашивает Зак.
Петер Лидберг качает головой.
— Вы можете расспросить мою любовницу. Ее зовут…
— Мы расспросим ее.
— Вы понимаете, сначала я хотел просто проехать мимо. Но потом… я ведь знаю, что надо делать в таких случаях. Клянусь, я не имею к этому никакого отношения.
— Мы в этом не сомневаемся, — успокаивает его Малин. — Я… то есть мы полагаем, что было бы странно с вашей стороны звонить нам, если бы вы имели к этому какое-то отношение.
— А моя жена? Она все узнает?
— Что именно? — уточняет Малин.
— Я сказал ей, что буду работать. Я работаю в пекарне Карлссона, иногда и по ночам, но тогда возвращаюсь с другой стороны.
— У нас нет необходимости сообщать ей об этом, — отвечает Малин. — Тем не менее не исключено, что она узнает.
— Но что мне ей сказать?
— Скажите, что решили прокатиться. Захотели проветриться.
— Это не пройдет. Я всегда так устаю. И потом, в такой мороз…
Малин и Зак переглядываются.
— Вам есть что сказать нам еще?
Петер Лидберг качает головой.
— Я могу ехать?
— Пока нет, — отвечает Малин. — Техники должны осмотреть вашу машину и взять отпечатки вашей обуви. Мы должны убедиться, что под деревом только ваши следы и никаких других. А теперь нашим коллегам нужны имя и номер телефона вашей любовницы.
— Мне не надо было останавливаться, — твердит Петер Лидберг. — Лучше бы он так и остался висеть. Рано или поздно кто-нибудь другой все равно бы его обнаружил.
Ветер крепчает, проникая сквозь синтетический мех куртки Малин, сквозь кожу, мышцы и далее, вплоть до мельчайших молекул костной ткани. Подключаются гормоны стресса, помогая мускулам посылать болевые сигналы в мозг и распространять по всему телу. Малин размышляет, каково это — замерзнуть насмерть. Смерть в таких случаях наступает не от самого холода, а от стресса, от боли, поражающей тело, которое, будучи уже не в состоянии поддерживать нужную температуру, прибегает к последнему средству — к самообману. Когда холодно по-настоящему, человек чувствует, как по телу растекается тепло. Это блаженство обманчиво. Легкие не могут больше снабжать кровь кислородом, и человек задыхается, одновременно засыпая. Но ему тепло, и те, кому посчастливилось выбраться из этого состояния, рассказывают: ты как будто тонешь, опускаешься все ниже и ниже, чтобы потом подняться куда-то за облака и там погрузиться во что-то мягкое, белое и теплое, отчего страх исчезает. «Это мягкое — физиологический мираж, — думает Малин. — Это смерть ласкает нас, чтобы мы ей доверились».
Издалека приближается автомобиль.
Неужели техники?
Вряд ли.
Скорее, это гиены из «Эстгёта корреспондентен», почуявшие снимок года. «Он?» — успевает подумать Малин, и в это время где-то в вышине раздается угрожающий треск. Она оборачивается и видит, как труп дрожит и раскачивается. Должно быть, висеть там не слишком приятно.
Подожди немного, мы поможем тебе спуститься.
4
— Малин, Малин, у тебя есть для меня что-нибудь?
Ветер глотает слова Даниэля Хёгфельдта, гасит звуковые волны на полпути. На приехавшем пуховик с меховым воротником, но в каждом движении чувствуется естественная элегантность и осознание собственной власти над окружающим.
Их взгляды встречаются, и она видит его насмешливую улыбку. За этой улыбкой целая история, которую, как он знает, она сохранит в глубокой тайне. В его глазах трезвый расчет: ты знаешь, я знаю и буду использовать это, чтобы получить нужное, здесь и сейчас. «Это вымогательство, — думает Малин. — Но меня не проведешь. Выкладывай свои козыри, Даниэль, ну? Почему бы и нет? Прекрасная возможность! Только я не отступлюсь. Оба мы с тобой постарели, но по-прежнему такие разные».
— Малин, это убийство? Как он попал на дерево? Расскажи мне что-нибудь.
Внезапно Даниэль оказывается совсем близко, его прямой нос, кажется, касается ее лица.
— Малин…
— Стой где стоишь! Я ничего тебе не скажу и не должна говорить!
Насмешка становится еще более откровенной, но Даниэль решает отступить.
Женщина-фотограф двигает скрипящую камеру прямо за заграждением, окружающим дерево с трупом.
— Не так близко, черт вас подери! — кричит Зак.
Краешком глаза Малин видит, как двое полицейских в форме ринулись в сторону фотографа и как она, сложив камеру, отступает к своей машине.
— Малин, это убийство, поэтому вы и поставили здесь заграждения. И тебе есть что сказать. Если хочешь знать мое мнение, на самоубийство не похоже.
Она отталкивает Даниэля в сторону, чувствует его локоть, хочет повернуть обратно, передвинуться, но вместо этого просто слушает, что он кричит ей. «Какого черта! — думает она. — Как можно быть такой дурой?»
Потом оборачивается в сторону женщины-фотографа из «Корреспондентен»:
— Ни шагу дальше! Идите назад в машину и оставайтесь там. Или еще лучше — убирайтесь. Здесь страшный мороз и ничего больше. А снимок у вас уже есть.
Даниэль сияет своей тщательно отрепетированной детской улыбкой, которая, в отличие от его слов, проникает даже сквозь морозный воздух:
— Но, Малин, я всего лишь выполняю свою работу.
— Скоро подъедут техники и примутся за дело. Мы должны взять с этого места как можно больше.
— Я готова! — возвещает женщина-фотограф.
Малин думает, что та, вероятно, всего лет на восемь-девять старше Туве и, должно быть, ее голые пальцы болят на морозе.
— Она мерзнет, — говорит Малин.
— Наверное, — соглашается Даниэль, а потом мимо Малин направляется в сторону своей машины, не оборачиваясь.
Когда мне впервые пришло в голову, что она может помочь мне спуститься, висеть здесь стало тоскливо. Потому что таково уж мое положение. Я парю и не двигаюсь. Я здесь и везде. Но это дерево не лучшее место для отдыха. Отдыха, вероятно, никогда не будет. Я не знал его до сих пор.
А все эти люди в своих утепленных одеждах?
Неужели они не понимают, что стараются напрасно?
Или они думают, что можно сдержать мороз?
Разве они не могут спустить меня?
Я начинаю уставать висеть здесь, уставать от ваших игр под моими ногами. Конечно! Мне весело наблюдать, как ваши башмаки оставляют следы на снегу, как вы описываете круг за кругом, будто беспокойные мысли, спрятанные в недоступных нам глубинах мозговых извилин.
— Терпеть его не могу, — взрывается Зак, когда автомобиль «Корреспондентен» исчезает в тумане. — Он противнее, чем накачанная кокаином спидоносная пиявка!
— Это потому, что он так хорошо делает свою работу, — отзывается Малин.
Американские метафоры Зака всплывают, когда их совсем не ждешь, и Малин часто спрашивает себя: откуда? Зак, насколько ей известно, не поклонник американской поп-культуры и едва ли знает, кто такой Филип Марлоу.[12]
— Если он такой чертовски хороший работник, что он делает в провинциальной газете?
— Может, ему здесь нравится?
— Это уж точно.
— Каково ему висеть там, как ты думаешь? — Малин оборачивается в сторону трупа.
Ее слова будто застывают и задерживаются в морозном воздухе.
— Это всего лишь кусок мяса, — отвечает Зак, — а мясо уже ничего не чувствует. Каким бы он ни был человеком, личностью, теперь он уже совсем не то.
— Но он может кое-что рассказать нам, — замечает Малин.
Карин Юханнисон, аналитик, врач-патологоанатом, сотрудник Государственной криминалистической лаборатории, остервенело бьет себя по бокам; в пуховике ее движения неуклюжи, но в то же время не лишены элегантности. Летающий в воздухе пух похож на причудливой формы снежные хлопья, и Малин, глядя на добротную красную ткань, думает о том, что пуховик, должно быть, страшно дорогой.
Даже в меховой шапке, с розовыми от февральского мороза щеками, Карин выглядит слегка постаревшей принцессой с Ривьеры, этакой Франсуазой Саган средних лет, привыкшей к безоблачному небу над головой и слишком нежной для работы, которую ей приходится выполнять. Загар после отпуска в Таиланде на Рождество еще не сошел. «Иногда, — думает Малин, — мне хочется быть такой, как ты, Карин, выйти замуж за деньги и беззаботную жизнь».
Сопровождаемые помощником, специалистом по расследованию места преступления из линчёпингской полиции, они осторожно приближаются к трупу, ступая в чужие следы.
Карин интересуют чисто технические моменты. Она будто не видит голого человека на дереве прямо перед собой, избегает смотреть на его жир, кожу, то, что когда-то было лицом. Подавляет все предчувствия и ощущения, которые, подобно неслышному зловещему шепоту, родившись в распухшем мозгу мертвеца, медленно опускаются на город, поле и лес; этот сдавленный плач, который, пожалуй, можно заглушить одним способом.
А именно, дав ответ на вопрос: кто это сделал?
Карин, что видишь ты?
«Я знаю, — думает Малин, — ты видишь объект. Набор деталей, аппарат, из которого нужно извлечь записанную историю».
— Вряд ли он попал туда без посторонней помощи, — рассуждает Карин, стоя почти под самым трупом.
Она только что фотографировала следы обуви вокруг дерева, прикладывала к ним линейку — даже если это следы их собственные или Петера Лидберга, что наиболее вероятно, они должны быть изучены.
— Как ты думаешь, давно он умер? — вместо ответа спрашивает Малин.
— Трудно сказать, судя только по его внешнему виду. Я стараюсь избегать необоснованных предположений. На такие вопросы можно ответить только в прозекторской.
Этого и следовало ожидать. Малин переключает внимание на солнечный загар Карин, на ее теплый пуховик и на то, как пронизывает ветер ее собственную куртку — дешевку из «Стадиума».
— Мы должны обследовать почву, прежде чем спустим его, — говорит Карин. — Нужен нагреватель, как у военных в Кварне. Натянем тент, так мы избавимся от всего этого снега.
— А болото не получится? — спрашивает Малин.
— Только если нагреватель будет работать слишком долго. Аппарат привезут через несколько часов. Если, конечно, он не задействован в другом месте.
— Но ему нельзя так больше висеть, — беспокоится Малин.
— Сейчас минус тридцать. При таком морозе с телом ничего не произойдет.
Зак оставил мотор работать на холостом ходу, и разница между температурой в салоне и снаружи составляет верных сорок градусов. От тепла человеческого дыхания боковые стекла заиндевели.
Малин садится на пассажирское сиденье, и Зак немедленно шипит:
— Закрой дверь! Фру Юханнисон уже закончила?
— Ей нужно связаться с Кварном и получить оттуда агрегат.
Прибыли еще две патрульные машины, и сквозь морозный узор на стекле Малин видит Карин, дирижирующую одетыми в форму полицейскими.
— Теперь мы можем ехать, — говорит Зак.
Малин кивает.
Когда они снова проезжают садоводство в Шёвике, Малин настраивает радиоприемник на волну Р4. Ежедневно с семи до десяти ее давняя подруга Хелен Анеман ведет там программу.
Часы на приборной панели показывают 8.38.
Сразу же после «А Whiter Shade of Pale»[13] всплывает мягкий женский голос: «Я только что заходила на новостной сайт „Коррен“. Сегодня необычный день, дорогие радиослушатели. И я имею в виду не мороз. На дубе посреди равнины в окрестностях монастыря Вреты полиция обнаружила голого мертвеца».
— Быстро! — Голос Зака перекрывает радио.
— Это Даниэль, — отзывается Малин.
— Даниэль?
«Хотите начать день с чего-нибудь душещипательного? — продолжает бархатный голос. — Зайдите на сайт „Коррен“. Там можно увидеть фотографию странной птицы на дереве».
5
Даниэль Хёгфельд откидывается на спинку стула — и гибкая офисная мебель послушно откликается на его движения.
Покачивается, словно дедовское кресло-качалка в доме на балтийском побережье полуострова Викбуландет; дом сгорел почти сразу после того, как бабушка легла в больницу и там окончила свои дни. Даниэль смотрит в окно на улицу Хамнгатан, потом обводит взглядом коллег, скучающих за своими компьютерами. Большинство из них равнодушны к работе, они довольны тем, что имеют, и очень, очень устали.
«Для журналиста самый страшный яд — это усталость, — думает Даниэль. — Он просто убивает.
Но я не устал.
Нисколько».
Он пишет статью о человеке на дереве, и дело доходит до Малин.
«Малин Форс из полиции Линчёпинга не рассказывает кому попало…»
Кресло качается туда-сюда.
Даниэля охраняют, как и большинство журналистов, пишущих на криминальные темы.
Слышно постукивание по клавиатуре, голоса, в воздухе витает тяжелый запах кофе.
Большинство его старых коллег — циники, такова цена их журналистской плодовитости. Только не он. Он считает нужным сохранять своего рода уважение к людям, чьи истории и несчастья составляют его хлеб насущный.
На дереве висит голый человек.
Просто подарок судьбы: есть чем заполнить газетные страницы, есть что продать.
Но есть и нечто иное.
Город проснется. Это точно.
«Я хорошо умею играть в игру под названием журналистика, — думает Даниэль. — Но кроме того, я знаю, что нужно держать дистанцию, и умею играть в человека».
Цинично?
За окном расстилается Хамнгатан в зимнем уборе.
А всего в двух кварталах отсюда — смятая простыня в квартире Малин Форс.
У Свена Шёмана морщинистый лоб, безжизненно-землистое лицо почти под цвет куртки, а его редкие волосы такие же белые, как бумажный лист на доске, перед которой он стоит. Джинсовая рубашка, втиснутая в коричневые шерстяные брюки, обтягивает круглый живот. Свен предпочитает собирать небольшие группы, а остальных сотрудников информировать по ходу дела. Многолюдные совещания, принятые в других полицейских участках, по его мнению, не столь эффективны.
Начало было обычным для такого рода встреч, на которых запускается новое расследование, распределяются задачи и зоны ответственности. Ответ на вопрос «кто?» должен быть получен, и дело Свена сейчас — поставить этот вопрос, направить его обсуждение в правильное русло, чтобы в конце концов сказать со всей определенностью: это он, она или они.
В комнате висит обманчивая тишина, словно напоенная ядом. Каждый из пяти присутствующих знает, как много может изменить появившийся в этом воздухе знак вопроса.
Помещение расположено на первом этаже здания бывших казарм воинской части, перестроенного под полицейский участок десять лет назад, когда полк расформировали. Военных сменили стражи порядка.
За решетчатыми окнами расстилается покрытая снегом лужайка, метров десять в ширину. Далее видна игровая площадка, пустая и заброшенная, качели и расписные лестницы. Мороз затуманил яркие краски, смешав их со всевозможными оттенками серого. Позади площадки, за большими окнами детского сада, Малин различает ребятишек; они играют, бегают туда-сюда, хлопочут, погруженные в заботы своего особого мира.
Туве.
Когда-то давно и она вот так бегала.
Малин звонила ей из машины, когда Туве как раз выходила из квартиры.
«Конечно, я уже встала».
«Веди себя прилично».
«Что я, маленькая?»
«Подростки! — говорит Зак. — Они похожи на лошадей на ипподроме: никогда не делают то, что нужно».
Иногда, когда расследуются особо тяжкие преступления и на стенах развешиваются снимки, в участке опускают жалюзи, чтобы ребятишки ненароком не увидели того, что, вне всякого сомнения, каждый день видят по телевизору. Когда экран бесцельно мерцает где-то в глубине комнаты и одна картина сменяет другую, дети постепенно привыкают доверять своим глазам.
Перерезанное горло. Обгоревший труп на столбе. Распухшее тело утопленника.
— И с чем мы имеем здесь дело, как вы полагаете? — хриплым голосом говорит Шёман те же слова, что и всегда. — У кого есть идеи? О пропаже человека никто не заявлял. Если бы кто-то его искал, уже бы позвонили. Что вы думаете?
Он бросает этот вопрос в пространство, стоя перед сотрудниками, сидящими за длинным столом, словно нажимает кнопку «play». И слова его, как музыка, в этих четырех стенах кажутся такими хрупкими и такими действенными.
Слово берет Юхан Якобссон, и по всему заметно, как хочет он услышать собственный голос. Он устал молчать и готов говорить что угодно, лишь бы положить конец своей усталости.
— Все это похоже на какой-то ритуал.
— Мы даже не знаем, был ли он убит, — замечает Шёман.
— Нельзя ничего утверждать с полной уверенностью, пока Карин Юханнисон не закончит. Но мы можем исходить из того, что его убили. Это слишком очевидно.
«Нет ничего очевидного, — думает Малин, — пока ты не знаешь наверняка. Помни: неведение есть добродетель».
— Но это похоже на ритуал.
— Мы должны быть совершенно объективны.
— Мы не знаем, кто он, — напоминает Зак. — Хорошо бы для начала это выяснить.
— Может, кто-нибудь еще позвонит. Фотографии уже в газетах, — отвечает Юхан.
— Фотографии? — вздыхает Бёрье Сверд, до сих пор молчавший. — Но там не видно лица.
— А много ли здесь людей с таким весом? Должен же был кто-нибудь поинтересоваться, куда подевался этот толстяк?
— Я бы не слишком на это полагалась, — вставляет Малин. — В городе полным-полно людей, о которых никто не побеспокоится, если они исчезнут.
— Но здесь особый случай, его тело…
— Если нам повезет, — обрывает Юхана Свен, — кто-нибудь позвонит. А пока будем дожидаться результатов обследования места преступления и вскрытия, ходить и стучаться в двери: не видел, не слышал ли кто чего подозрительного, не знает ли что-то такое, что нам следует знать. Перед нами, как вы видите, вопрос, на который нужно искать ответ.
«Свен Шёман, — думает Малин. — Через четыре года ему будет шестьдесят пять. Еще четыре года под угрозой сердечного приступа, четыре года сверхурочной работы, четыре года поедания вкусной, но такой жирной пищи, приготовленной руками заботливой супруги. Еще четыре года малоподвижного образа жизни. „Вдовий живот“. И все-таки Свен остается голосом разума в этих стенах, голосом опыта, независимым, напоминающим о бескорыстии и здравом смысле, голосом порядка».
— Малин и Зак, вы несете главную ответственность за предварительное расследование, — говорит Свен. — Я прослежу, чтобы вы получили необходимую поддержку. Вы двое помогаете им, как можете.
— Охотно займусь этим делом, — отзывается Юхан.
— Юхан, у нас есть чем заняться и кроме этого, — слышится голос Бёрье. — Мы не можем позволить себе роскошь бросить все силы на одно-единственное дело.
— Собрание окончено? — спрашивает Зак, вставая.
Все поднимаются с мест, и в ту же секунду открывается дверь.
— Прошу вас задержаться, — веско произносит Карим Акбар и становится рядом с Шёманом, ожидая, пока четверо полицейских снова займут свои места.
Ему тридцать семь, и он, с его мускулистым телом, выглядит особенно внушительно рядом с располневшим Свеном.
— Все вы понимаете, как это важно, — продолжает Карим. Малин замечает, что он говорит совершенно без акцента, хотя прибыл в Швецию десятилетним ребенком. У него правильный шведский, идеальный и бездушный. — Как это важно, — повторяется он, — внести ясность в данное дело.
Он говорит словно о докладе, который надо хорошенько структурировать перед защитой диссертации.
Усердие и труд.
Тот, кто начинает на минусе и хочет закончить на хорошем плюсе, ничего не должен оставлять на волю случая. Карим писал актуальные статьи в центральных газетах «Свенска дагбладет» и «Дагенс нюхетер» — о том, что иммигрантам следует предъявлять к себе большие требования, что размер пособия должен зависеть от знания шведского языка уже после года пребывания в стране, что чужой может стать своим только ценой высочайшего напряжения сил.
Эти взгляды возмутили многих. Его лицо часто мелькало в теледебатах, внушая зрителю: напрягайся, освобождай скрытые в тебе возможности. Смотри на меня, я — живой пример.
«А как же быть робким?» — мысленно спрашивает Малин.
Как быть сомневающимся?
— Наша работа в том и состоит, чтобы вносить ясность в такие дела, — отвечает Кариму Зак.
Малин видит, как ухмыляются Юхан и Бёрье. Судя по выражению лица Свена, тот хотел бы сказать: «Зак, успокойся. Дай ему закончить речь. То, что ты не идешь на конфликт, еще не делает тебя послушным инструментом в его руках. В конце концов, ты ведь уже не молод».
Карим смотрит на Зака, и в его взгляде читается следующее: «Окажи мне уважение. Не говори со мной таким тоном!»
Но Зак не сдается, и Карим продолжает:
— СМИ очень интересуются этим делом. Мне пришлось ответить на много вопросов. Со всем этим нужно разобраться как можно скорее, мы должны показать эффективность линчёпингской полиции.
Малин кажется, что слова исходят от маски, что Карим говорит не всерьез. Этот крепкий профессионал как будто лишь играет роль профессионала, а на самом деле так хочет расслабиться и обнаружить… что? Свою уязвимость?
— Как вы распределили силы? — Карим оборачивается к Свену.
— Форс и Мартинссон несут главную ответственность, все имеющиеся ресурсы в их распоряжении. Якобссон и Сверд помогают как могут. Андерссон на больничном, а Дегерстад на курсах повышения квалификации в Стокгольме. Так вот…
Карим делает глубокий вдох и долго удерживает воздух в своих могучих легких.
— Значит, сделаем так. Ты, Свен, как руководитель группы предварительного расследования, берешь основную ответственность на себя. А вы четверо будете работать одной командой. Остальное подождет. Это прежде всего.
— Но…
— Именно так, Мартинссон. Я не сомневаюсь в тебе и Форс, но сейчас мы должны направить все силы на главную задачу.
Живот Свена, кажется, стал еще больше, морщины на лбу глубже.
— Следует ли мне обратиться в Управление криминальной полиции? Формально мы не знаем даже, был ли он убит.
Карим делает движение по направлению к двери.
— Никакой государственной криминальной полиции. Будем справляться сами. Докладывай мне о ходе расследования каждые три часа или сразу, как что-нибудь всплывет.
Дверь захлопывается, по комнате разносится эхо.
— Вы слышали, что он сказал. Распределите работу между собой и докладывайте мне о ходе дела.
Ребятни за окнами детского сада больше нет. За клетчатыми гардинами покачиваются желтые «мобили» в стиле Колдера.[14]
Синяя кожа с вкраплениями жира.
Растерзанный и одинокий на ледяном ветру.
«Кем ты был?» — думает Малин.
Вернись и расскажи, кем ты был.
6
А теперь вы растянули под моими ногами тент. В сумерках его зеленый цвет кажется серым. И я знаю, что там, внизу, вы нагреваете землю, но до меня тепло совсем не доходит.
Смогу ли я когда-нибудь еще чувствовать тепло? А мог ли я чувствовать его прежде? Я жил далеко на отшибе и считал себя свободным от вашего мира, но разве это была свобода?
Но больше мне не нужно вашего тепла, того, каким вы его понимаете. Тепло вокруг меня, я не одинок. Точнее, я и есть сейчас само одиночество, его сердце. Или я был им еще при жизни? Теперь во мне сама суть одиночества, его тайна, к разгадке которой мы лишь приближаемся. Может быть, это химическая реакция, в сущности простая, но такая всеобъемлющая, делающая возможными наши восприятия, в свою очередь образующие наше сознание — основу вселенной, которую мы считаем своей. Днем и ночью горят лампы в лабораториях. Когда мы взломаем этот код, мы узнаем все и потом сможем отдыхать, смеяться или кричать. Закончить. А что до этого?
Блуждать, работать, искать ответы на всевозможные вопросы.
Меня не удивляет то, что вы делаете.
Снег тает, стекает ручьями, но вы ничего не найдете. Поэтому уберите навес, возьмите кран и снимите меня. Я чуждый фрукт на этом дереве. Я не должен здесь висеть. Вот уже ветка трещит. Даже дерево протестует, неужели вы не слышите?
Да, именно, вы же глухи! Подумать только, как быстро человек все забывает. И что могут сделать с ним его собственные блуждающие мысли, куда завести?
— Мама, ты не знаешь, где мои тени? — доносится из ванной голос Туве — растерянный, рассерженный, озабоченный и в то же время исполненный упорства, настойчивости и почти пугающей целеустремленности.
Тени? Малин не может вспомнить, когда Туве красилась в последний раз, но это было точно не вчера, и задается вопросом, что же произошло сегодня.
— Тебе нужны тени? — спрашивает Малин с дивана.
Новости уже начались. Человек на дереве у них третий по значимости после инициативы премьер-министра и сообщения какого-то синоптика, утверждающего, что нынешний мороз окончательно доказывает наступление нового ледникового периода, который покроет страну метровой толщей льда, прочного, как гранит.
— А как ты думаешь, зачем я спрашиваю?
— Ты встречаешься с парнем?
В ванной становится тихо, потом слышится: «Черт!» — очевидно, несессер из шкафчика падает на пол.
— Вот они, — раздается затем. — Мама, я их нашла!
— Отлично!
Мужчина-репортер из редакции региональной новостной программы «Эстнютт» передает с места преступления. Оно окутано мраком, и только прожекторы освещают тент на заднем плане. Можно различить и тело на дереве, особенно если знать, что оно там висит.
«Я нахожусь здесь, на продуваемом ледяным ветром поле, в нескольких милях от Линчёпинга. Полиция…»
«Люди по всей стране сидят и смотрят то же, что и я, — размышляет Малин. — И их интересует одно и то же: кем он был? как он попал туда? кто это сделал?
В глазах телезрителей я — носитель истины, и это я должна позаботиться о том, чтобы зло было наказано. Я тот, кто усмиряет беспокойство и утверждает безопасность. Но в действительности все никогда не бывает так просто. Истина всегда лишь набросок, переливающийся всевозможными оттенками, в целом неуловимый. Истина — это все и ничего. Но часы идут — тик-так, — и возрастает нетерпение тех, кто ждет чего-то нового, лучшего, понятного».
— Мама, можно мне взять твои духи?
Духи?
«У нее же свидание, — догадывается Малин. — Первое. — И тут же возникают вопросы: с кем? когда?»
Тысячи вопросов, предчувствий и тревожных мыслей, сотни различных образов успевают промелькнуть в ее голове за долю секунды.
— Кто он, с кем ты встречаешься?
— Никто. Можно взять духи?
— Конечно.
«…Тело все еще висит».
Камера отъезжает в сторону, экран залит мраком, и в этом мраке раскачивается тело: туда-сюда. Малин хочет переключить канал, но не может оторваться. Вечерняя встреча с прессой, Карим Акбар в отутюженном костюме в конференц-зале полицейского участка. Черные волосы тщательно зачесаны назад, лицо серьезное, но во взгляде читается то, чего он не в состоянии скрыть: его любовь к свету софитов, который придает ему сил.
— Мы еще не знаем, было ли это убийством.
На переднем плане микрофон четвертого канала. Вопрос задают несколько журналистов одновременно, Малин различает голос Даниэля Хёгфельдта:
— Почему вы до сих пор не снимете тело?
Даниэль.
Чем ты занят сейчас?
— Потому что нужно обследовать место преступления, — уверенно отвечает Карим. — Нам же толком ничего не известно, но мы стараемся быть объективными.
— Мама, ты не видела мой красный джемпер? — Теперь голос Туве доносится из ее комнаты.
— Ты смотрела в ящике в шкафу?
Проходит несколько секунд, после чего голос торжественно возвещает:
— Да, он здесь!
«Отлично», — думает Малин. Затем она размышляет о том, что должна означать объективность, о которой говорит Карим: что расследующим дело придется обойти все дома и хутора в радиусе трех километров от дерева, стучаться к фермерам, слоняться по электричкам, беспокоить сидящих дома на больничном. И слышать: «Ах это! Нет, я ничего не видел». «Я спал в это время». «В такой мороз я предпочитаю сидеть дома». «Я забочусь о своем здоровье, это прежде всего».
У Юхана и Бёрье будет то же, что и у нее и Зака: никто ничего не знает и не видел, как будто тело весом в полторы сотни килограммов само подлетело к дереву и закрепило себя петлей в надежде привлечь всеобщее внимание.
Снова диктор: «Разумеется, мы продолжаем следить за событиями в Линчёпинге». Пауза. «В Лондоне…»
— Я читала в Интернете, — говорит Туве, появившись в дверях гостиной. — Ты тоже участвуешь в этом?
Но Малин не отвечает, лишь молча смотрит на дочь. Это уже не тот ребенок, который утром лежал в постели, не та маленькая девочка, которая еще четверть часа назад зашла в ванную. Она накрасилась, сделала прическу, и что-то произошло — теперь в ней чувствуется женщина.
— Мама? Мама, ay!
— Какая ты красивая!
— Да, я иду в кино.
— Да, я работаю с этим делом.
— Хорошо, тогда, наверное, лучше, если завтра я побуду у папы, так ты сможешь работать допоздна.
— Туве, милая, не говори так.
— Я пошла. Дома буду около одиннадцати. Последний сеанс как раз закончится, а перед этим нам надо перекусить.
— С кем ты будешь?
— С Анной.
— А если я скажу, что не верю, что ты ответишь?
Туве пожимает плечами:
— Мы будем смотреть новый фильм Тома Круза.
И она называет фильм, о котором Малин ничего не знает. Насколько тщательно подходит Туве к выбору книг, настолько всеядна она в отношении фильмов.
— Впервые слышу.
— Но, мама, что ты вообще понимаешь в таких вещах!
Туве поворачивается и исчезает из поля зрения. Слышно, как она возится в прихожей.
— Тебе нужны деньги? — окликает Малин.
— Нет.
Малин хочется пойти за ней следом, потому что не верит. Но знает, что не должна, не может, не пойдет. Или как раз наоборот, должна?
— Пока.
Тревожно.
Юхан Якобссон, Бёрье Сверд, Зак — все родители знают эту тревогу.
На улице холодно.
— Пока, Туве.
И Малин остается в пустой квартире.
При помощи дистанционного пульта она выключает телевизор, откидывается на спинку дивана и делает глоток текилы, той, что налила себе перед ужином.
Они с Заком уже съездили в Буренсберг и допросили любовницу Лидберга. Женщине около сорока, она не красавица, но и не дурна собой — одна из многих обыкновенных женщин, жаждущих излить на кого-нибудь свои чувства. Предложив гостям кофе с булочками домашней выпечки, она рассказала, как была одинока и не имела работы, как однажды решилась попытать счастья там, где, по ее мнению, был шанс. «Это нелегко, — говорила любовница Петера Лидберга. — Или ты слишком стара, или не имеешь подходящего образования. Но в конце концов все наладилось».
Показания Лидберга женщина подтвердила. Потом покачала головой: «Хорошо, что он выбрал эту дорогу. Иначе кто знает, сколько еще труп провисел бы на морозе».
Малин смотрела на фарфоровые фигурки на подоконнике. Собака, кошка, слон — целый фарфоровый зверинец.
«Вы любите его?» — спросила Малин.
Зак инстинктивно покачал головой.
Но женщина не усмотрела в этом вопросе ничего плохого.
«Кого? Петера Лидберга? Нет, совершенно не люблю, — засмеялась она. — Вы ведь понимаете, это всего лишь женская потребность иметь кого-то рядом».
Малин поудобнее устраивается на диване и вспоминает Янне. Как трудно порой бывает подобрать подходящие для него слова — он словно черный контур, нависающий над ней. За окном она видит башню церкви Святого Лаврентия, ожидает удара часов, вслушивается в темноту, словно пытаясь различить в ней шепчущиеся голоса.
Если вы не оглохли, вы должны сейчас слышать, как трещит ветка. Как разрываются волокна и как мое качающееся тело рассекает замерзший воздух. Ты, стоящий сейчас как раз там, куда я упаду, должен отскочить в сторону. Но ничего подобного не происходит. Все мои килограммы рухнут прямо на тент, ломая алюминиевые трубки, словно тонкие спички, и вся ваша конструкция завалится. А ты, несчастный в полицейской форме, ты сначала почувствуешь, как что-то упадет на тебя, потом ощутишь мой вес, и далее — как глыба моего промороженного тела прижимает тебя к земле и как в тебе что-то ломается — ты не поймешь сразу, что именно. Но тебе повезет, это всего лишь треснет локтевая кость, любой доктор легко справится с этим, и твоя рука снова будет целой. Даже после смерти, как видно, я не могу причинить серьезного вреда.
И поскольку, несмотря на все мои призывы, вы не снимаете меня, я попробую договориться с деревом. По правде сказать, оно порядком устало держать меня на самой старой из своих веток. Ей пора умереть, говорит дуб, так что будь добр, падай, падай на тент, на землю, и устрой там, внизу, небольшую заварушку.
И вот я лежу на вопящем полицейском, среди вороха контактов и ткани. Нагреватель гудит мне в ухо, я не чувствую его тепла, но знаю, что оно есть. Я ощущаю землю под своими руками — вы разогрели ее и сделали влажной. Влажной и приятной на ощупь, словно внутренности живого существа.
Малин пробуждается от голоса Туве.
— Мама, мама, я уже дома. Не лучше ли тебе было перейти на постель?
«Где я? — спохватывается Малин. — Программа уже закончилась? Ты была на улице?»
— Что? — говорит она вслух.
— Ты уснула на диване. Я прямо из кино.
— Ах да, верно.
Малин приходит в себя не сразу, и ею овладевает подозрительность. Когда она сама делала какую-нибудь глупость, то спешила убедить папу, что все в порядке. Но прежде чем она успевает усомниться в словах Туве, та спрашивает:
— Мама, ты пьяна?
Малин трет глаза.
— Нет, просто глотнула немного текилы.
Бутылка стоит перед ней. Пол-литровая бутылка бочковой текилы, которую она купила по дороге домой с работы, пуста на треть.
— Отлично, мама, — продолжает Туве, — тебе помочь перебраться на постель?
Малин качает головой.
— Это первый раз, Туве. Один-единственный раз тебе придется сделать это.
— Второй.
— Второй, — кивает Малин.
— Спокойной ночи, — говорит Туве.
— Спокойной ночи.
Часы на столе показывают без четверти одиннадцать. Краешком глаза Малин замечает, что волосы Туве распущены и она снова выглядит как маленькая девочка.
В стакане осталось чуть-чуть текилы. Зато в бутылке много. Еще глоточек? Нет. Не надо. Малин устало поднимается и, пошатываясь, уходит в спальню, где и падает на постель, не в силах раздеться. Чтобы видеть сны, которых лучше бы не видеть.
7
Третье февраля, пятница
Ночью джунгли гуще.
Влажность, ползающие твари всевозможных мастей — острые лезвия змей, пауки, многоножки. И плесень, за ночь покрывающая изнутри спальный мешок.
Они приземляются на аэродроме; бесконечное множество горящих на нем крохотных огоньков кажется звездным небом, опрокинутым на землю. Русский «Туполев» с потрепанными крыльями ныряет вертикально, как вертолет. Душа дрожит в тесной комнате, где дети и мама стоят вокруг. Туве, маленькая Туве: «Папа, что ты здесь делаешь? Ты должен быть со мной, дома». Я приду, приду… Они выгружаются, вырываются из нутра самолета. Ступай к выгребным ямам, и они выйдут тебе навстречу из темноты. Можно будет видеть их глаза — только глаза, тысячи глаз во тьме, которым нужно верить. Испуганное голодное бормотание, залпы кишечных газов… Назад — иначе мы сделаем с вами то, чего не сделают и хуту.[15] Назад — и многоножки ползут по моей ноге, а плесень растет. Кигали, Кигали, Кигали — неизбежная мантра сна.
— Убери эту проклятую сороконожку, Янне, — зовет кто-то.
Туве? Малин? Мелинда? Пер?
Убери…
Кто-то отрезает ногу у еще живого человека, бросает в котел с кипящей водой и наедается сам, а потом детям позволят разделить объедки. И никому нет до этого дела. Но если украсть молоко у того, кто еще полон жизни, это карается смертью.
Не стреляйте в него, говорю я, не стреляйте.
Он голоден, ему десять лет, у него большие желто-белые глаза, зрачки расширяются по мере осознания того, что все это закончится здесь и сейчас. И тебя я тоже не смогу спасти.
Но вы стреляете.
«Пес, пес, пес, хуту, хуту, хуту!» — вопите вы, и ваша ненасытность, ваша сатанинская натура порождает во мне желание топить вас в отхожих ямах, которые мы вырыли здесь, как только явились, чтобы холера, тиф, другая зараза не убивали вас в количестве большем, чем могут убить даже хуту.
Янне. Папа, возвращайся домой.
Или это навес разбило вдребезги?
Здесь чертовски мокро. Может, сороконожки помогут высушить эти капли?
Дьявол, как жжет! Чертовы негры!
Не поднимай на меня это мачете, не бей, не бей, нет, нет, нет… — и крик врывается в комнату, пересекая границу сна, границу грезы, в его спальню, в его одиночество на простыне, влажной от приснившейся воды.
Он садится в постели.
Крик отдается эхом в четырех стенах.
Он трогает руками ткань.
Все мокрое. Как бы ни было холодно там, снаружи, здесь, внутри, оказывается, достаточно тепло для того, чтобы пропотеть насквозь.
Что-то ползет по ноге.
«Это остатки сна», — думает Ян Эрик Форс, а потом поднимается и идет к бельевому шкафу в прихожей за новой простыней. Этот шкаф достался ему по наследству. Уединенный дом в рощице, что в нескольких километрах от Линчёпинга в сторону Мальмслетта, они с Малин купили сразу после рождения Туве.
Половицы скрипят, когда Янне выходит из спальни в прихожую.
У ног Бёрье Сверда лают собаки.
Овчаркам не страшен мороз, пусть даже и в пять утра. Они просто рады видеть хозяина, предвкушают беготню в саду, наперегонки за палками, которые он будет бросать им то в одну, то в другую сторону.
Ничем не озабоченный.
Ничего не ведающий о голых и насмерть замученных, которых развешивают на деревьях. Вчерашние разговоры с жителями окрестных районов оказались безрезультатны. Все немы и слепы. И как будто рады этому.
Валла.
Район, построенный в сороковые-пятидесятые годы. Деревянные дома с разукрашенными пристройками, свидетельствующими о постепенном росте благосостояния жителей. Когда-то это был город простых тружеников, потом уже фабричных рабочих заставили сдавать университетские экзамены, чтобы управляться с роботами.
Но кое-что осталось, как прежде.
Там, в доме, они все возятся с ней. Работники социальной службы приходят поздно ночью, переворачивают ее и потом остаются у них с Анной, в доме, весь день с утра до вечера. Их присутствие здесь более естественно, чем мебель, обои и пол, и в то же время совершенно неестественно.
Рассеянный склероз. Спустя несколько лет после свадьбы у Анны стал заплетаться язык. Дальше больше. А сейчас? Лекарства, приостанавливающие развитие болезни, дошли до нее слишком поздно. Ни один мускул теперь не слушается, и только Бёрье понимает, что она хочет сказать.
Милая Анна.
Собственно говоря, собаки — чистое сумасшествие. Но должен же быть хоть какой-то просвет, хоть что-нибудь собственное, свое, и в то же время несложное и радостное? Чистое. Соседи жалуются на его псарню, на лай.
Пусть жалуются.
А дети? Микаэль улетел в Австралию лет десять назад. Карин в Германию. Чтобы не видеть этого всего? Конечно. У кого хватит сил смотреть на свою мать в таком положении? Как это мне хватает?
Но я могу.
Любовь.
Разумеется, они сказали: она останется дома, если ты хочешь.
Если я хочу?
Собаки, пистолеты. Сосредоточиться на самом центре мишени. В тире очищаешься.
Но, Анна, ты для меня все та же. И пока ты останешься собой для меня, может быть, сумеешь оставаться таковой и для себя.
— Ну а сейчас мы откроем гараж…
Ложка с кашей никак не может попасть в рот годовалому малышу. На какое-то мгновение Юханом Якобссоном овладевает ярость; он берет ребенка за голову, просовывает ложку между непослушными губами, и малыш глотает.
Так…
Их таунхаус находится в Лингхеме, в десяти километрах к востоку от Линчёпинга. Такое жилье им по средствам. По сравнению со спальными районами города не самый плохой вариант. Провинциальный средний класс. Ничего особо примечательного и в то же время все довольно пристойно.
— Ту-ту — сейчас проедет грузовик.
Он слышит, как в ванной жена чистит зубы трехлетней дочери, как девочка кричит и упирается, а по голосу жены заметно, что терпение ее на пределе.
Вчера она спросила его, работает ли он с тем человеком на дубе. И что он должен был ответить? Солгать и сказать «нет», чтобы успокоить ее, или ответить как есть: «Конечно, я работаю с этим делом».
— Кажется, ему так одиноко там, на дереве, — сказала жена.
Одиноко? У Юхана не было сил прокомментировать ее слова.
Потому что, конечно же, большего одиночества невозможно себе представить.
— Вжжж… Это едет «пассат».
Жена обиделась, что он не хотел разговаривать. Дети устали и шумели, пока окончательно не выбились из сил.
Дети.
С ними я чувствую себя опустошенным, их всепоглощающая энергия меня утомляет. И в то же время я ощущаю себя живым и взрослым. Сама жизнь как будто проходит где-то рядом с семьей. Кажется, что преступления и расследования не имеют к детям никакого отношения, однако это не так. Дети — тоже члены единого общественного организма, где все это происходит.
— Открывай!..
Где-то на заднем плане — утренняя программа. Первый выпуск новостей. Нашего случая они коснулись лишь мимоходом.
«Когда я выйду на пенсию, мне будет не хватать этих часов, — думает Свен Шёман, прерывая шлифовку в столярной мастерской, расположенной в подвале дома в районе Хакефорс, что в южной части Линчёпинга. — Запаха дерева по утрам. Разумеется, я смогу чувствовать этот запах и тогда. Но это будет совсем не то, что вдыхать его, когда у тебя впереди целый день работы в полиции. Я знаю это. И нахожу смысл в том, чтобы помогать другим. Мне приятно работать с молодыми, еще не сформировавшимися полицейскими, такими как Юхан или Малин. Я чувствую, что могу влиять на них. Особенно на Малин, которая принимает к сведению и делает некоторые вещи из того, что я ей говорю».
Обычно он пробирается в мастерскую по утрам, пока Элизабет спит, — слегка отшлифовать ножки стула, покрыть лаком. Сделать что-нибудь незначительное и несложное, а уже потом выпить первую чашку кофе и начать новый день.
Дерево — простая и понятная материя. У Свена хорошие руки, и он может сотворить ими что заблагорассудится. Если б и все остальное было так просто!
Человек на дереве. Изуродованный труп, упавший на коллегу Свена. Такое впечатление, что с каждым днем становится все хуже; что граница, очерчивающая насилие, постепенно сдвигается; что в отчаянии, страхе и гневе люди могут делать друг с другом все. А таких, кто так или иначе ощущает себя не принадлежащим ни обществу, ни самому себе, становится все больше.
«Ожесточиться легко, — думает Свен. — Стоит только решить для себя, к своему собственному огорчению, что порядочность и честность давно стали достоянием исторического прошлого.
Но здесь не о чем печалиться. Скорее это повод радоваться каждому новому дню, тому, что благодаря чьим-то заботам, чьей-то сплоченности все еще иногда сдерживаются проявления самой циничной злобы».
Маски.
Все эти маски я должен примерить на себя.
Карим Акбар, свежевыбритый, стоит перед зеркалом в ванной. Его жена, как обычно, повела в школу их восьмилетнего мальчика.
«Я могу быть кем угодно, — думает Карим, — смотря чего потребует ситуация».
Он пробует разные гримасы: примеряет выражение гнева, улыбается, выглядит удивленным, внимательным, полным ожидания, заинтересованным, бдительным.
«Какой же я, собственно, на самом деле?
Ведь так легко упустить из вида самого себя тому, кому иногда кажется, что он может быть кем угодно.
Я могу быть жестким полицейским шефом, удачливым иммигрантом, укротителем журналистов, добрым папой, мужем, который хочет залезть в постель к своей жене, чтобы ощутить под простыней ее теплое тело.
Почувствовать любовь вместо холода.
Я могу сделать вид, будто никакого толстяка на дереве никогда не существовало, но сейчас моя задача другая: воздать ему по справедливости. Даже мертвому».
— Ну и что вы придумали?
Вопрос, обращенный к Янне и Туве, эхом отдается в голове Малин.
Восемь часов. День вступил в свои права.
Из участка еще не звонили, но Малин ждет звонка с минуты на минуту. Вчерашняя катастрофа на месте преступления, когда труп упал на тент, — на первой странице «Корреспондентен». «Все это похоже на фарс», — думает Малин. Четверть часа назад она пробежала глазами газету, совершенно не в силах вчитываться в текст.
Янне стоит в прихожей рядом с Туве. Он выглядит усталым, все его мускулистое тело похоже на куклу, подвешенную на веревочках, кожа натянута на резко очерченные скулы. Он похудел? А это что? Как много мертвых вкраплений седины в его волосах, некогда сиявших, будто янтарь.
Туве сегодня свободна — у них время самоподготовки. Первая половина пятницы вместо второй — расписание поменяли.
Она написала письмо Янне в Боснию, когда упаковала вещи, свои и Туве, и переехала в маленькую квартирку в городе, ставшую перевалочной станцией на пути в Стокгольм.
Дом твой. Он подходит тебе больше, чем мне, там хватит места на все твои автомобили. Собственно говоря, я никогда не была особенно расположена к деревенской жизни.
Надеюсь, с тобой все будет хорошо, ты не увидишь ничего ужасного и избежишь неприятностей. Остальное мы решим.
Ответ он написал на открытке:
Спасибо. Я получу деньги, когда вернусь домой, и мы с тобой рассчитаемся. Делай как хочешь.
Делай как хочешь.
Я хотела, чтобы все было как раньше. Как вначале. Пока еще не стало повседневностью.
Потому что бывают такие события и дни, которые раскалывают человека надвое. Когда все доходит до критической точки. Мы были молоды, так молоды. Время — что мы знали о нем тогда? Кроме того, что оно наше.
Малин прокручивает в голове его сны, о которых он говорит каждый раз, когда их видит, но у нее никогда не хватает сил выслушать его до конца. А когда она все-таки слушает его, он не может толком ничего рассказать.
Но сейчас Янне говорит о другом.
— Ты выглядишь усталой, Малин. Конечно, виновата Туве.
Туве кивает.
— Слишком много работы, — отвечает Малин.
— Тот, на дереве?
— Ммм…
— Тогда тебе есть чем заняться на выходные.
— Ты приехал на «саабе»?
— Нет, на «вольво». На нем шипованные шины. На остальных так и не сменил.
Большинство мужчин сходят с ума от автомобилей, но Янне особенно. В гараже у него четыре машины — на разных стадиях развала или ремонта, как он сам говорит. Она их терпеть не могла, даже совсем новенькие. Что было тому виной — инерция, недостаток воображения, безразличие? Системное мышление топорно. Любовь требует совершенно иного подхода.
— Что вы придумали?
— Не знаю, — отвечает Янне. — При таком морозе вариантов не много. Что скажешь, Туве? Может, возьмем несколько фильмов, накупим сладостей и выбросим ключи за окошко? Или ты хочешь читать?
— Фильмы — звучит отлично. Но у меня есть парочка замечательных книг.
— В любом случае вам неплохо было бы прогуляться, — вмешивается Малин.
— Мама, мы решим это сами.
— Можем прокатиться до станции, — подает идею Янне, — поиграть во флорбол[16] с пожарной командой. Как ты, Туве?
Туве закатывает глаза, медлит, словно оценивая, насколько серьезен ее отец.
— Никогда в жизни.
— Тогда решено. Остаются фильмы.
Малин устало смотрит на Янне, и он не отводит карих глаз, он никогда не делал этого. Когда он исчезает, то всем своим великолепным телом, всей душой устремляется в те места, где, вполне возможно, нуждаются в помощи, не оказав которую он не сможет жить дальше.
Помощь.
Вот то слово, которое он пускает в оборот, когда дом, квартира становятся слишком тесными. А потом все сначала.
Когда Янне пришел сегодня, она обняла его, крепко прижала к себе, и он ответил на ее ласку. Он всегда делает так, а она хотела его удержать, не выпускать из объятий, просить переждать мороз с ней, дома, просить его остаться, подождать.
Но вместо всего этого она пришла в себя и нашла способ избавиться от него, чем привела его в смущение, как будто это он первый обнял ее. Это тоже способ задать вопрос при помощи мускулов: «Что ты делаешь? Мы ведь давно уже не муж и жена, и ты не хуже меня знаешь, что это невозможно».
— Ты хорошо спал?
Янне кивает, но Малин видит, что скрывается за этим кивком — ложь.
— Только страшно вспотел.
— Несмотря на такой холод?
— Несмотря на холод.
— Ты готова, Туве?
— Готова.
— Тогда пошли.
— Пока, мама.
Они ушли. Вернутся завтра, в субботу вечером. Воскресенье проведем вместе.
Чем мне заняться?
Ждать телефонного звонка? Читать газету? Думать?
Нет. Мысли быстро превращаются в лес, в котором легко заблудиться.
8
— Он умер от ударов по голове. Преступник наносил удары тупым предметом, как будто в ярости, по разным частям черепа, по лицу, пока оно не превратилось в сплошное месиво, как сейчас. Он был жив, когда его били, но, по всей вероятности, почти сразу потерял сознание. Преступник или преступники, скорее всего, использовали также нож.
Карин Юханнисон стоит возле синего тела, покоящегося на стальной поверхности секционного стола. Руки, ноги и голова неуклюже торчат в разные стороны. Живот разорван, куски кожи и жира с разных частей тела завернуты в четыре чехла, кишечник превратился в кашу. Череп надпилен, как и надлежит, в затылочной части.
«Как будто довольно методично и в то же время спонтанно, — думает Малин. — Словно все было спланировано заранее, но потом преступник потерял над собой контроль».
Звонка судмедэксперта ждали с утра и до вечера. «Он должен был оттаять, прежде чем я смогла начать, — объяснила Карин по телефону. — Но когда начала, дело прояснилось быстро».
Зак молча стоит возле Малин, внешне невозмутимый. Он видел смерть много раз и усвоил, что вникнуть в это невозможно.
Карин работает со смертью, но не понимает ее. Вероятно, еще ни один человек не уразумел этого, но многие из нас все-таки чувствуют, что такое смерть. «Карин, — думает Малин, — не понимает многого из того, что связано с этой подвальной комнатой. Она трудолюбива и приносит много пользы, совсем как инструменты, при помощи которых работает, совсем как это помещение».
Это самый функциональный из ликов смерти.
Белые стены, маленькие окна под потолком, шкафы из нержавеющей стали и полки, где хранится собранная в папки специальная литература, марля, хирургические перчатки и другое. На полу линолеум неопределенных оттенков синего — легко моющийся, практичный и недорогой. Малин никак не может привыкнуть к этой комнате и ее назначению, хотя возвращается сюда снова и снова.
— Он умер не в петле, — говорит Карин. — Он был уже мертв, когда его повесили на дерево. Если бы он умер от удушения, кровь не пошла бы в головной мозг: у повешенных сосуды затыкаются, если говорить непрофессиональным языком. Здесь, наоборот, удары по голове заставили сердце работать в бешеном темпе, отсюда и ненормальный объем крови.
— Как давно перед этим он умер?
— Что ты имеешь в виду? Как давно вообще?
— Нет, перед тем, как его повесили.
— Полагаю, не меньше пяти часов. Или даже чуть больше. Учитывая, что у висящего тела кровь не скопилась в ногах.
— А что с ударами по телу? — спрашивает Зак.
— С ударами?
— Что ты можешь сказать об этом?
— Безусловно, удары причиняли бы боль, если он был в сознании, но не смертельные. Рваные раны на ногах указывают, что его перемещали — кто-то волок тело по мокрой земле, поскольку в ранах почва, частицы ткани. Его раздели после того, как избили, а потом волочили тело. Я так думаю. Собственно, причиной смерти были ножевые ранения.
— А отпечатки зубов? — спрашивает Зак.
— Зубов у него меньше, чем нужно. В основном были выбиты. Видите? — Карин берет мертвеца за запястье.
Малин кивает.
— Здесь были кандалы. Таким образом они повесили его на дерево.
— Они?
— Я не знаю. Вы полагаете, что это мог сделать один человек? Здесь ведь нужна немалая физическая сила.
— Не исключено, — отвечает Малин.
Зак качает головой:
— Этого мы пока не знаем.
Под снегом ничего не обнаружили — если не считать нескольких окурков, бумаги из-под кексов и мороженого, но старой, вряд ли этого года производства. А окурки, похоже, еще старше и пролежали здесь несколько лет. Они, или он, или она не оставили после себя никаких следов.
— Что-нибудь еще?
— Под ногтями ничего нет. Никаких следов борьбы — это подтверждает, что его застали врасплох. А у вас есть что-нибудь? Никто ничего не сообщал?
— Полная тишина, — отвечает Малин. — Никто ничего.
— То есть его никто не ищет.
— Этого мы пока не знаем, — уточняет Зак.
Если бы я еще мог выражаться на вашем языке, если бы я мог подняться и говорить с вами, вылечить вашу глухоту, я сказал бы вам: хватит задавать вопросы.
Что в них проку?
Что случилось, то случилось, и ничего уже не изменишь. Я знаю, кто сделал это, успел увидеть краешком глаза, заметить, как ко мне приблизилась смерть, медленная и мгновенная одновременно. И черная.
Потом она, смерть, стала белой.
Как только что выпавший снег. Белый — это цвет, который гасит наш мозг. Многообещающий фейерверк, короче вдоха. А потом, когда сознание вернулось ко мне, я увидел все это, свободный и несвободный в то же время.
Вы действительно хотите это знать?
Вы действительно хотите, чтобы я рассказал вам эту историю? Я так не думаю. Все гораздо хуже, страшнее, мрачнее, немилосерднее, чем вы можете себе представить. Ступайте же и выберите тропу, что приведет вас прямо в сердце того мира, где только тела, но не души могут жить и дышать, где мы только химия, генетический код. Того мира, вне которого, может быть, и ваши слова не имеют смысла.
И в конце той тропы, в темноте, пропитанной запахом яблок и одетой в белое, вы встретитесь с такими чудовищными порождениями сна наяву, что и эта зима покажется вам уютной и теплой. И я знаю, вы уже ступили на эту тропу.
Потому что вы люди. И этим сказано все.
— Сколько понадобится времени, чтобы привести его в порядок?
— Привести в порядок? О чем ты?
— Мы должны привести в порядок его лицо, — объясняет Малин. — Чтобы дать фотографию в газетах. Может быть, кто-то действительно его ищет. Или, по крайней мере, узнает.
— Понимаю. Могу позвонить Скуглунду в бюро ритуальных услуг «Фонус». Может, он сумеет побыстрее восстановить его. Во всяком случае, должно получиться вполне приемлемо.
— Звони Скуглунду. Чем скорее у нас будет снимок, тем лучше.
— Ну, мы пойдем, — объявляет Зак, и по тону его хриплого голоса Малин понимает, что с него довольно — и этого трупа, и этой стерильной комнаты, но прежде всего Карин Юханнисон.
Малин знает: Зак считает, что Карин корчит из себя значительную изящную особу. Может быть, его несколько раздражает то, что она никогда не спрашивает о Мартине, в то время как другие делают это постоянно. Отсутствие у Карин интереса к восходящей хоккейной звезде, то есть его сыну, является в глазах Зака доказательством ее надменности. Без сомнения, он устал от вопросов о Мартине, но все же недоволен, если их совсем не задают.
— Принимаешь солнечные ванны? — спрашивает Зак Карин по выходе из прозекторской.
— Нет, загорала в Таиланде на Рождество. Солярий использую, только чтобы поддерживать загар. Здесь есть одно место на Дроттнинггатан, где можно принимать солнечные ванны, но я не знаю… Это так вульгарно, по-моему. Разве только лицо?
— Таиланд? Ты была там на Рождество? — спрашивает Зак. — Говорят, в эту пору там все особенно дорого. Знающие люди предпочитают ездить в другое время.
9
— Малин, ты поливаешь цветы? Иначе они не переживут зимы.
«Вопрос настолько естественный, — думает Малин, — что не нуждается в постановке. Плюс одно излишнее утверждение: он предпочитает добиваться своего педагогическими методами».
— Именно за этим я и направляюсь сейчас в вашу квартиру.
— А раньше ты не поливала?
— Нет, с тех пор, как мы разговаривали последний раз.
Она только что покинула полицейский участок и ждала, когда загорится зеленый свет на углу у кладбища и старой пожарной станции. Сегодня «вольво» изволила завестись, хотя мороз все тот же.
Лишь только раздался звонок, она словно услышала папин голос. Злой, любящий, требовательный, эгоистичный, милый: все внимание на меня, я не перестану мешать тебе, пока не ответишь, я не помешал?
Собрание розыскной группы в полицейском участке зависло в режиме ожидания.
Ждали опаздывающего Бёрье Сверда: что-то случилось с его женой.
Ждали разговора о руке Нюсверда — он сломал ее, когда на него с дерева упало тело.
— Две с половиной недели на больничном, — сказал Свен Шёман. — Он как будто был в хорошем настроении, когда я говорил с ним, хотя пока не полностью отошел от потрясения.
— Еще бы — на него свалился промороженный труп весом в полторы сотни килограммов. Жуть! Могло быть и хуже, — заметил Юхан Якобссон.
Потом ждали, когда кто-нибудь скажет то, что и так все знают: расследование застопорилось. Приходилось терпеть, пока сотрудник похоронного бюро Скуглунд закончит свою работу, сделает фото и позвонит.
— Что я говорил! — заявляет Бёрье. — Никто не узнает его на этих снимках.
Ожидание новых ожиданий, выжимающее последние соки из усталых полицейских, которые понимают, что надо спешить, но которым мало что остается, кроме как только восклицать, всплескивая руками: «Мы еще себя покажем! Мы выясним, что же произошло и кто преступник, и каждый гражданин, каждый журналист узнает об этом!»
Ждали Карима Акбара, но даже он опоздал. Точнее, ждали, когда он подойдет к телефону в своем доме в районе Ламбухов. Ждали, пока смолкнет стереомагнитофон его сына на заднем плане, потом ждали, когда смолкнет голос Карима в динамике.
— Вы понимаете, что так дело не пойдет. Свен, собери завтра утром новую пресс-конференцию, мы объявим, что уже знаем, и успокоим их.
«А у тебя будет лишняя возможность покрасоваться, — подумала Малин, и тут же ей пришло в голову другое. — Ты возьмешь на себя их вопросы, их агрессию, а мы будем работать в тишине и покое. Ты тоже чего-то стоишь, Карим! Ты понимаешь: сила группы в том, что каждый играет строго определенную роль».
— Нам нужен свой специальный руководитель информационной службы, — звучит усталый голос Свена, когда Карим кладет трубку. — Как в Стокгольме.
— Тебя ведь учили обращаться с журналистами, — говорит Зак. — Тебе и карты в руки.
В зале раздался смех, все немного расслабились.
— Скоро на пенсию, а ты хочешь бросить меня на растерзание гиенам? — отвечает Свен. — Мило.
Красный свет сменился зеленым. «Вольво» медлит, но потом все-таки продолжает движение вниз по Дроттнинггатан.
— Папа, как там мама? С цветами все будет в порядке, обещаю.
— Она спала после обеда. Здесь плюс двадцать пять и солнечно. Как у вас?
— Не будем об этом.
— Но я хочу знать!
— Не надо, папа.
— Здесь, на Тенерифе, во всяком случае, солнечно. Как Туве?
— Она у Яна Эрика.
— Малин, я кладу трубку, иначе выйдет дорого. Не забывай про цветы!
«Цветы, — думает Малин, останавливаясь возле дома рубежа прошлого века, цвета охры, на улице Эльзы Брэннстрём, в котором находится четырехкомнатная квартира ее родителей. — Цветы прежде всего».
Малин блуждает по квартире родителей, как призрак своего собственного прошлого. Здесь мебель, с которой она выросла.
Неужели я такая старая?
Запахи, цвета, контуры — здесь все должно действовать на меня, пробуждать воспоминания, заставляющие, в свою очередь, вспоминать что-то другое.
Четыре комнаты: гостиная, столовая, зал и спальня. Не предусмотрено ни малейшей возможности оставить на ночь собственных внуков.
Они заключили контракт на эту квартиру тринадцать лет назад, когда продали дом в Стюрефорсе, неподалеку отсюда. Тогда на рынке недвижимости в Линчёпинге все было по-другому. Если доходы позволяли, арендовать приличное жилье было нетрудно. Теперь иначе: получить контракт можно только взятками или имея очень хорошие связи.
Малин смотрит в окно гостиной.
С третьего этажа открывается прекрасный вид на Инфекционный парк, названный так в честь клиники, которая раньше располагалась в тех многоквартирных домах. Сейчас они сдаются под жилье.
Диван, на котором ей не разрешалось сидеть.
Кожа на нем коричневая, блестящая, до сих пор как новая. Стол — когда-то он казался шикарным, а теперь выглядит претенциозно. Полка, на корешках названия «хороших книг»: Майя Ангелу, Ларс Йерлестад, Ларс Виддинг, Анне Тюлер.
Обеденный стол и стулья. Друзья, дети, которым полагается в это время есть на кухне. Ничего удивительного. Так было у всех: дети не сидели за общим столом.
Папа — сварщик, назначен руководителем, а потом стал сотрудником фирмы, занимающейся укладкой кровельного железа. Мама — секретарь в управлении лена.[17]
Так пахнет старость. Даже когда Малин открывала окно, запах не развеивался. Может, думает она, хоть мороз очистит здесь воздух.
Цветы поникли, но ни один не погиб. Этого она не допустит. Она разглядывает фотографии в рамках на бюро. Здесь нет ни ее самой, ни Туве, только родители в разных видах: на берегу, в городе, в горах, в джунглях.
«Ты поливаешь?»
Разумеется, я поливаю.
«Приходите и живите, если будет нужно».
На какие деньги?
Кресло в зале. Она усаживается, и тело сразу вспоминает тугие пружины. Ей снова пять лет, она болтает ногами, обутыми в сандалии. За спиной она слышит голоса мамы и папы. Они не ругаются, но, слушая их, она будто бы проваливается в пропасть. В промежутках между словами мелькает что-то такое, что причиняет ей боль, чему пятилетняя девочка не может найти названия, хотя и ощущает.
Невозможная любовь. Бывают такие холодные браки.
Как можно назвать это чувство?
Она приходит в себя.
В руке кувшин с водой.
Она методично поливает цветок за цветком — папа-руководитель оценил бы.
«Я здесь не пылесосила», — думает Малин. На полу комки пыли. Если ей и давали немного попылесосить — это была часть еженедельной работы, за которую в субботу полагались деньги, — мама следовала за ней по всему дому, глядя, чтобы она не задела плинтусы или дверные косяки. А когда Малин заканчивала, мама пылесосила еще раз, по ее следам, как будто это была самая естественная вещь на свете.
Что ребенок может?
Что он знает?
Ребенок только формируется.
Это было ясно.
Все цветы политы. Теперь поживут еще немного.
Малин садится на кровать родителей.
Производство дорогой фирмы «Дукс». Они пользовались этой кроватью не один десяток лет. Как могли они спать на ней, зная, что именно здесь она потеряла невинность или, лучше сказать, избавилась от нее?
Это был не Янне.
Другой.
И это случилось гораздо раньше. Ей исполнилось четырнадцать, и она осталась дома одна, а родители уехали на вечеринку с ночевкой к знакомым в Турсхеллу.
И все-таки — что там бы ни произошло в этой кровати, это в прошлом. И Малин не может бродить по этой квартире, одна или с кем-нибудь, не испытывая чувства утраты. Она поднимается с кровати, пробиваясь сквозь тяжелые пласты тоски и воспоминаний, которые, как кажется, накрепко спаяны с этим воздухом. Чего же ей, собственно, недостает?
Родители на фото в рамочках.
В шезлонгах возле дома на Тенерифе. Три года назад они купили его, но ни она, ни Туве ни разу там не были.
«Ты хорошо полила?»
Разумеется, я полила.
Она жила вместе с этими людьми, они произвели ее на свет, тем не менее лица на снимках чужие. Особенно у мамы.
Малин выливает воду из кувшина в мойку на кухне.
В каплях прячется тайна. В зеленом стекле на кухонной двери, в гудящей морозильной камере, которая хранит лисички с прошлого сезона.
Можно мне взять один пакет?
Нет.
Последнее, что видит она, закрывая за собой дверь родительской квартиры, — толстый дорогой ковер на полу гостиной. Она смотрит на него сквозь открытую двойную дверь зала: он довольно среднего качества, не такой роскошный, за какой мама всегда его выдавала. Вся комната, вся квартира полна вещей, которые на самом деле не то, чем должны быть. Слой лака, а под ним скрывается еще один.
«Здесь витает такое чувство, — думает Малин, — будто ты ни на что толком не годен и тебе не хватает какого-то изящества, утонченности».
Даже сейчас Малин чувствует себя неуклюжей перед настоящей утонченностью, перед людьми, которые должны действительно обладать ею, а не просто быть богатыми, как Карин Юханнисон, — перед врачами, адвокатами, разными дворянскими отпрысками. Рядом с такими людьми дают о себе знать ее предрассудки и появляется чувство собственной неполноценности. Она будто знает заранее, что подобного сорта личности всегда смотрят свысока на таких, как она, и занимает оборонительную позицию.
Зачем?
Чтобы избежать разочарования?
На работе еще ничего, но личные отношения становятся от этого напряженными.
Мысли проносятся в голове Малин, пока она сбегает вниз по лестнице в неуютные ранние сумерки. Пятница.
10
Третье февраля, пятница, вечер.
Четвертое февраля, суббота
«Еще одну маленькую, еще немного пива, я заслужила это, я хочу увидеть капли на запотевшем стекле, пока они не превратились в лед. Машина подождет. Заберу ее завтра».
Малин ненавидит этот голос. В таких случаях она говорит себе, будто хочет заглушить его: «Нет ничего хуже похмелья».
Самый простой способ.
Но иногда она уступает.
Еще чуть-чуть, чуть-чуть…
Я хочу выжать себя, как тряпку. Для этого нужен алкоголь.
Ресторан «Гамлет» открыт. Это далеко? Черт, как холодно!
Три минуты, если пробежаться трусцой.
Малин открывает дверь.
Внутри шумно, в лицо ей ударяют клубы пара с запахом жареного мяса. Но лучше всего — обещание покоя.
Звонит телефон.
Или это что-то другое? Телевизор? Церковный колокол? Ветер?
Помогите! Моя голова! Что-то засело в ее передней части и звенит, звенит… А рот! Как я буду говорить с таким сухим ртом? Где я?
Я не в постели, здесь нет простыни. Диван? Здесь нет дивана? Где же я? Газета? Нет, только не это.
Наконец звон прекратился.
Слава богу.
А теперь снова…
Я уж достаточно проснулась, чтобы узнать звонок мобильника. Я на полу в прихожей. Тряпичный коврик. Как я сюда попала? Куртка лежит рядом, под почтовой щелью. Или это шарф? Куртка. Карман. Мобильник. Губы как наждачная бумага. Пульс, пульсирующая киста, наэлектризованный шар в передней части головы.
Малин шарит в кармане. Вот, вот он. Придерживая другой рукой голову, ощупью в темноте подносит трубку к уху, произносит чуть слышно:
— Форс. Малин Форс.
— Это Шёман. Мы знаем, кто он.
Кто он? Туве, Янне, человек на дереве… которого никто не ищет.
— Малин, это ты?
Да. Вполне возможно. Но точно не знаю, хочу ли я…
— С тобой все в порядке?
Нет. Не в порядке. Вчера немного расслабилась.
— Да, это я, Свен, это я. Только немного спросонья. Подожди минутку.
Она с усилием принимает сидячее положение.
— У тебя похмелье?
Голова теперь поднята вертикально, черный туман перед глазами то исчезает, то появляется вновь, словно что-то вибрирующее давит на лоб.
— У меня похмелье? Я просто немного перебрала вчера. По утрам в воскресенье люди бывают такими.
— Сегодня суббота, Малин. И мы знаем, кто он.
— Который час?
— Половина восьмого.
— Черт возьми, Свен, черт… Ну и?
— Вчера снимок был готов. Этот из похоронного бюро, Скуглунд, свое дело знает. Мы послали фотографии на сайт «Коррен» и в ТТ.[18] Около одиннадцати фото появилось в Интернете, и вчера был один звонок, а сегодня с утра уже звонили многие. Все называют одно и то же имя, так что ошибки быть не должно. Его звали Бенгт. А фамилия Андерссон. Но что самое смешное, все знали только его прозвище, лишь одному человеку было известно настоящее имя.
Голова. Пульс. Что бы ни случилось, не зажигайте лампу! Сконцентрируйся на чужой боли вместо своей, говорят, это помогает. Групповая терапия. Или как там ее? Боль каждый раз новая и всегда своя. Личная?
— Мяченосец. Его называли Мяченосец. И, судя по тому, что нам рассказывали, его жизнь была такой же печальной, как и смерть. Ты можешь приехать через полчаса?
— Дай мне сорок пять минут, — отвечает Малин.
Четверть часа спустя, воскресшая после душа, переодетая, с урчащим в желудке парацетамолом Малин садится за компьютер. Жалюзи она оставляет опущенными, хотя за окном еще темно. Компьютер стоит в спальне на столе, на клавиатуре валяется ворох несвежих трусов и маек, оплаченных и неоплаченных счетов, ведомостей о заработной плате со смешными цифрами. Она ждет, вводит пароль, снова ждет, запускает браузер, потом — адрес новостного сайта.
Экран мерцает, голова гудит.
Даниэль Хёгфельдт сделал свое дело.
Человек с дерева. Бенгт Андерссон, Мяченосец. Его лицо крупным планом на сайте, на самом виду. На черно-белом снимке серая ретушь на месте синяков и припухлостей выглядит так, будто скрывает под собой лишь сыпь, а не следы смертельных ударов. Кто бы ты ни был, Скуглунд, поистине ты способен воскресить мертвого! Контуры полного лица кажутся размытыми, подбородок, щеки и лоб нависают мягкими складками вокруг костей черепа, образуя плотную жировую массу. Глаза прикрыты, рот словно маленький вопросительный знак, верхняя губа толстая, в отличие от нижней. Только нос торчит, жесткий, прямой, благородный, — единственный выигрышный билет Мяченосца в генетической лотерее.
Хватит ли у меня сил прочитать?
Язык Даниэля Хёгфельдта — броский, напыщенный. Не для тех, кого тошнит и у кого раскалывается голова.
Вероятно, он знает больше, чем мы. Люди в первую очередь звонят в газеты. Там деньги. Их запах вызывает особые чувства. Но кто я такая, чтобы осуждать?
«И сегодня „Эстгёта корреспондентен“ может показать лицо человека, который…»
Буквы пронзают ее мозг, словно раскаленные стрелы.
Бенгт Андерссон, 46 лет, имел прозвище Мяченосец и был известен в поселке Юнгсбру, где проживал как отшельник и большой оригинал. Его квартира находилась в районе Хэрна. Он жил там один в течение многих лет на пособие по нетрудоспособности. Его прозвали Мяченосец, потому что он имел обыкновение во время домашних матчей футбольного клуба «Юнгсбру ИФ» стоять у стадиона «Клоеттаваллен» со стороны улицы Клоеттавеген в ожидании, пока какая-нибудь из команд не перекинет мяч через ограду.
«Мячи, — думает Малин, — в голове у меня мячи».
«Я могу ударить, папа, так, что мяч долетит до яблони!» Мамин голос: «Никаких мячей в саду, Малин. Ты сломаешь розовые кусты».
Туве не интересуется футболом.
Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сказала «Корреспондентен» следующее: «Он был из тех, которых все видели и никто не знает. Такие есть везде».
Бенгт Андерссон был найден в пятницу…
Прямые цитаты, без редактуры. Эффект присутствия. Даниэль умеет пощекотать нервы.
Сбивчивая речь. Повторения.
Когда же это закончится?
Малин выходит из ворот. На улице так же холодно. Где-то далеко маячит призрак длинной церковной стены.
Но сегодня она рада морозу. Он подергивает ее мысли своей дымкой, смягчая, окутывает туманом.
Машины нет на месте.
«Угнали», — первое, что приходит в голову.
Потом Малин вспоминает: квартира родителей.
«Ты хорошо полила?»
«Гамлет».
Еще пива? Незнакомец. Пожилая публика. И она.
Такси? Нет, слишком дорого.
Если поторопиться, через десять минут буду в участке.
Малин пускается в путь.
«Прогулка пойдет мне на пользу», — думает она. На расчищенном от снега тротуаре под ногами скрипит гравий, а она видит жуков. Гравий — это жуки, нашествие насекомых, которых она давит ботинками от «Катерпиллар».
Теперь у человека с дерева есть имя. Отныне работа действительно сдвинется с места, и ко всему этому надо подойти с осторожностью. То, с чем они столкнулись там, на равнине, не обычное насилие. Это что-то иное, более страшное.
От мороза резь в глазах — острая, колющая.
«Или это кузнечики танцуют на моей сетчатке? — думает она. — Или мороз превратил слезы в моих глазах в лед? Совсем как в твоих, Мяченосец. Кем бы ты теперь ни был».
11
Что творит этот мир с людьми, Туве?
Мне было двадцать.
И мы были счастливы, твой папа и я. Молоды, счастливы и любили друг друга. Так любят молодые, чисто и просто, понятно и естественно. А потом появилась ты, маленькое солнышко.
На свете не существовало ничего, кроме нас.
Я не знала, чем мне еще заниматься в жизни, кроме как любить его. Я могла закрыть глаза и на его автомобили, и на его медлительность, и на всю нашу несхожесть. Эта любовь была мне дана, Туве. И не было никаких сомнений, никаких ожиданий, хотя все вокруг именно это и говорили: жди, будь спокойна, не выходи, живи внутри. Но я почувствовала запах жизни, ее запах был в любви к тебе, к Янне, во всем нашем существовании. Я хотела, возможно напрасно, большего, чем это, и думала, что оно дано мне навсегда. Видишь ли, Туве, я верила в любовь, и я верю в нее до сих пор, как ни странно. Но тогда я верила в любовь в ее самой простой, самой чистой форме; вероятно, это можно назвать семейной любовью, пещерной любовью, потому что мы просто жили вместе и согревали друг друга. Такая первоначальная любовь.
Конечно, мы ссорились. Конечно, я тосковала. Конечно, мы и представления не имели о том, куда заведут нас наши дороги. И конечно же, я понимала его, когда он говорил, что чувствует себя словно запертым в погребе, даже если этот погреб в раю. И вот он пришел домой с бумагой из Службы спасения, где значилось, что завтра утром он должен прибыть в аэропорт Арланда для дальнейшей отправки в Сараево.
Я разозлилась на него, твоего папу. Сказала, что если он уедет, то уже не найдет нас здесь по возвращении. Сказала, что нельзя бросать семью бог знает ради чего.
И я задаю тебе вопрос, Туве.
Понимаешь ли ты, почему мы с твоим папой не справились с собственной жизнью?
Мы знали слишком много и в то же время слишком мало.
12
В субботу в детском саду нет ребятишек.
Пустые качели. Ни саней, ни мячей. Темные окна.
В этот день не играют.
— Малин, вся в заботах? Выглядишь измотанной.
Прекрати ныть, Свен.
Я здесь работаю или как?
Зак ухмыляется мне через стол. Бёрье Сверд и Юхан Якобссон выглядят вполне довольными жизнью. Люди не должны иметь такой вид в субботу в восемь часов утра, находясь на работе.
— Со мной все в порядке. Вчера немного расслабилась.
— А я расслаблялся с сырными палочками, чипсами и «Пеппи Длинныйчулок» на DVD, — говорит Юхан.
Бёрье молчит.
— Здесь у меня список… — Свен размахивает листком бумаги. Сегодня он не стоит во главе стола, а сидит на стуле. — Список тех, кто звонил нам, чтобы сообщить имя Бенгта Андерссона или его прозвище. Мы можем начать с них. Посмотрим, что они сумеют о нем рассказать. Всего девять человек, все из Юнгсбру или окрестностей. Бёрье и Юхан возьмут первых пятерых. Вы, Малин и Зак, оставшихся четверых.
— А квартира? Его квартира?
— Техники уже там. Невооруженным глазом они не увидели ничего особенного. К вечеру закончат. Тогда и поезжайте туда, если хотите, но не раньше. Когда управитесь с теми, кто в списке, поговорите с его соседями. Он получал пособие, значит, должен быть какой-нибудь секретарь социальной службы, с которым тоже стоит пообщаться. Но с ним вряд ли удастся связаться раньше понедельника.
— А быстрее это устроить никак нельзя? — нетерпеливо спрашивает Зак.
— Бенгт Андерссон еще не опознан официально и не объявлен умершим. Значит, мы должны получить разрешение на доступ к тем документам, которыми располагают имевшие с ним дело доктора и работники социальной службы. А все эти формальности мы сможем уладить только в понедельник.
— Тогда к делу, — говорит Юхан и поднимается.
«Я хочу уснуть, — думает Малин, — сном, крепче которого не бывает».
Здесь темно, тесно. Тем не менее мне все видно.
Тут, внутри, довольно холодно, но все же не так, как там, на дереве посреди равнины. Но что мне холод! Здесь нет ни ветра, ни бури, ни снега. Я скучаю по ветру и снегу, но предпочитаю ясность видения, которая появляется в том состоянии, в котором я пребываю сейчас. Что я знаю, что я могу? И как это получается, что я сейчас сразу нахожу нужные слова? Раньше этого не было.
И разве не весело наблюдать, как все обо мне теперь хлопочут? Как, увидев мое лицо, спешат засвидетельствовать, что знали меня раньше? А ведь тогда, в прошлом, они отворачивались, завидев меня в поселке. Обходили стороной, чтобы случайно не встретиться со мной взглядом, чтобы не коснуться моего тела, моей грязной, как они считали, одежды, пропитанной запахом пота и мочи.
Омерзительной, отталкивающей.
А дети, которые не давали мне покоя? Донимали и мучили, без устали издевались? Тысячи и тысячи цветов зла пышно расцвели при попустительстве их мам и пап.
Над тем, что я умер, можно разве что посмеяться. Еще при жизни я был сама скорбь.
Трубы шоколадной фабрики «Клоетта».
Их не видно с кольцевой транспортной развязки возле древнего монастыря Вреты, но можно заметить дым. Белый, как снег, поднимается он к небу, только притворяющемуся голубым. Там скользят продолговатые утренние облака, и воздух синеет, а ртутный столбик опускается все ниже — вот цена, которую приходится платить за этот свет.
— Нам здесь надо повернуть?
На щите надпись «Юнгсбру» — и стрелки в обе стороны.
— Не знаю.
— Мы повернем, — говорит Зак и крутит руль. — Нужно будет включить навигатор GPS, когда приедем в поселок.
Малин и Зак проезжают по территории монастыря Вреты — мимо дремлющих шлюзов, пустых бассейнов, закрытых на зиму кафе. Домов, где за окнами движутся люди. Деревьев, выросших на свободе. Продуктового магазина сети «Иса». Никакой музыки в машине — Зак не настаивает, а Малин наслаждается относительной тишиной.
После автобусной остановки слева появляется поселок, а справа дома уходят в низину, и за ними расстилается озеро Роксен. Автомобиль катится по спуску, по лесистой местности, и вскоре справа открывается поле, а в нескольких сотнях метров от него еще больше домов карабкаются на крутой склон.
— Сливки общества, — говорит Зак. — Медики.
— Завидуешь?
— Да не то чтобы…
«Кюнгсбру», а на другом указателе — «Шернорп», «Юнгсбру».
Они сворачивают к конюшне, выкрашенной в традиционный кирпично-красный цвет и стоящей посреди мощеного двора, на котором, однако, не видно ни одной лошади. Несколько девочек-подростков в стеганых куртках и дутых сапогах носят тюки с сеном из одной боковой пристройки в другую. Автомобиль приближается к фешенебельным домам. Поднимается на холм — и вот уже мелькают трубы «Клоетты».
— А знаешь, — говорит Зак, — я чувствую сейчас запах шоколада. Со стороны фабрики.
— Я перехожу на GPS. Так мы найдем то, что ищем. Итак, первое имя в списке.
Она не хочет их впускать.
Памела Карлссон, тридцати шести лет, блондинка со стрижкой «паж», одинокая, продавщица в бутике «Н&М». Она живет в доме сразу за уродливым белым зданием универсального магазина «Хемчёп». Это деревянное строение, выкрашенное в серый цвет, в нем всего четыре квартиры. Она говорит с ними через страховочную цепочку, мерзнет в трусах и белом топике: очевидно, они разбудили ее, когда позвонили в дверь.
— Вам нужно войти? У меня не убрано.
— В подъезде холодно, — отвечает Малин, а в голове проносится: «Человека убили, подвесили на дерево, а она беспокоится, что у нее не убрано. Однако…»
Тем не менее она позвонила.
— Вчера у меня была вечеринка.
«Еще одна», — бурчит Зак.
— Что?
— Ничего, — отвечает Малин. — Нам совершенно неважно, убрано у вас или нет. Мы не отнимем у вас много времени.
— В таком случае…
Дверь закрывается, слышится лязг, потом открывается снова.
— Входите.
Квартира однокомнатная: диван-кровать, маленький столик, кухонный угол. Мебель из «ИКЕА», тюлевые занавески и скамейка в деревенском стиле, вероятно доставшаяся по наследству. Везде валяются коробки из-под пиццы, пивные банки, стоит ящик с белым вином. На подоконнике пепельница, полная окурков.
Хозяйка заметила, что Малин смотрит на пепельницу.
— Обычно я не разрешаю курить здесь, но вчера не могла выгнать их на улицу.
— Кто они?
— Мои приятели. Вчера мы заходили в Интернет, в самый разгар нашей вечеринки, и вот увидели его фотографию и просьбу звонить. Я позвонила сразу. Или почти сразу.
Она села на кровать. Ее не назовешь толстой, но под топиком обозначились небольшие складки.
Зак уселся в кресло.
— Что вы знаете о нем?
— Не много. То, что он жил здесь, в поселке, и как его называли. Ничего больше. Это он?
— Да, мы почти уверены.
— Черт! Об этом вчера говорили весь вечер.
«Вот что она запомнила! — думает Малин. — То, что на вечеринке было о чем поговорить. Еще бы, такая тема! Послушайте, что я вам сейчас расскажу: значит, так, приятель моего приятеля…»
— То есть вы не знаете, кем он был?
— Он точно получал пособие по нетрудоспособности. И его называли Мяченосец. Я думала, потому что он был такой невероятно толстый, но пишут, что совсем не поэтому.
Оставив Памелу Карлссон с ее беспорядком и головной болью, они направляются на улицу Угглебувеген, в четырехэтажную виллу оригинальной архитектуры, где, как кажется, из всех комнат открывается вид на поле с расстилающимся вдали озером Роксен. Страховой агент с ввалившимися глазами, по имени Стиг Уннинг, открывает дверь, в которую они постучали золотой львиной лапой.
— Звонил мой сын. Вы можете поговорить с ним. Он в подвале.
Его сын Фредрик занят видеоигрой. Ему около тринадцати; это тощий прыщавый подросток, одетый в слишком большие джинсы и оранжевую футболку. Гномы и эльфы на экране мрут один за другим.
— Ты нам звонил, — начинает Зак.
— Да, — отвечает Фредрик, не сводя глаз с экрана.
— Зачем?
— Потому что я узнал человека на снимке. Думал, полагается вознаграждение. Это правда?
— Нет, к сожалению, — отвечает Малин. — За опознание жертвы убийства вознаграждения не полагается.
Гну разорвало в клочья, а тролль лишился конечностей.
— Лучше бы я позвонил в «Афтонбладет».[19]
Бабах!
— Готов, готов, готов…
Фредрик Уннинг смотрит на них.
— Ты знал его? — спрашивает Малин.
— Нет. Совершенно. Ничего, кроме его прозвища и того, что он вонял мочой.
— Больше тебе нечего сказать нам?
Фредрик Уннинг колеблется. И перед тем как он снова обращает взгляд на экран, бешено дергая джойстик взад-вперед, Малин вдруг замечает испуг, мелькнувший в его глазах.
— Нет, — отвечает Фредрик Уннинг.
«Ты что-то знаешь, — догадывается Малин, — о том, зачем мы здесь, о том, что произошло».
— Ты уверен, что больше ничего не хочешь нам сказать?
Фредрик Уннинг качает головой:
— Нет, бабок не дают, ни черта…
Красная ящерица роняет гигантский серый камень на голову монстра, похожего на доктора Халка.[20]
Третий в списке — пастор общины пятидесятников Свен Гарплёв, сорока семи лет. Проживает в типовой новостройке на другом берегу реки Мутала, на окраине Юнгсбру. Белый кирпич, белые деревья, белые углы. Белое на белом, словно этот цвет может отпугнуть греховные помыслы. По дороге сюда они проезжали шоколадную фабрику, гофрированная крыша которой была похожа на неуклюжего сахарного змея, а труба так и источала обещания сладкой жизни.
— Там, внутри, делают шоколадное печенье, — сказал Зак.
— Ради этого возвращаться сюда не стоит, — ответила Малин.
Они торопятся, и все же Ингрид, жена пастора, предлагает им кофе. И вот они сидят вчетвером на зеленом кожаном диване в белой гостиной и угощаются печеньем домашнего приготовления, семи сортов.
Жирная выпечка — как раз то, что нужно Малин.
Хозяйка сидит молча, говорит ее муж:
— Вчера у меня была служба, но прихожанам пришлось подождать. Этим делом надо было заняться в первую очередь. Ожидание молитвы никогда не бывает слишком долгим. Ингрид, ты согласна?
Женщина наклоняет голову, потом кивает на блюдце с печеньем.
Малин и Зак берут еще по одному.
— Это была беспокойная душа, вне всякого сомнения. Господь любит таких по-своему. Как-то раз мы говорили о нем с прихожанами, и кто-то, не помню кто, назвал его имя. Он очень одинок, решили мы. Он должен прийти к Иисусу.
— Вы когда-нибудь говорили с ним?
— Простите?
— Вы приглашали его в церковь?
— Нет, это, я думаю, никому не приходило в голову. Наши двери открыты для всех, но для таких, как мне кажется, чуточку шире. Так я вам скажу.
А теперь они стоят перед дверью некоего Конни Дюренеса, тридцати девяти лет, проживающего в квартире на Клоеттавеген, сразу за футбольным полем. Дверь открывается спустя пару секунд после звонка.
— Я слышал, как вы пришли.
В квартире полно игрушек, они повсюду. Пластмасса ярких расцветок.
— Дети, — говорит Конни Дюренес. — В эти выходные они у своей мамы. Мы в разводе. Но в другое время они всегда со мной. Даже удивительно, как мне их не хватает. Я пытался подольше поспать сегодня утром, но проснулся как обычно. Я был в Сети. Хотите кофе?
— Мы уже пили, не надо. Тем не менее спасибо, — отвечает Малин. — Вы уверены, что на снимке именно Бенгт?
— Да, несомненно.
— Вы знали его? — спрашивает Зак.
— Нет, однако он все же был частью моей жизни.
Конни Дюренес идет к балконной двери, кивает, приглашая их за собой:
— Видите заграждение и вон ту ленточку? Он часто караулил там во время домашних матчей «Юнгсбру ИФ», ждал мячей. В проливной дождь, холод или летнюю жару — не имело значения. Он был там всегда, иногда и зимой. И смотрел на пустую площадку. Он тосковал, конечно. Это выглядело так, будто он нашел в жизни свое дело, свое место на земле. Если мяч перелетал через ограду, он бежал за ним. Так вот бежал и бежал, значит… трусил, скорее. А потом бросал мяч обратно. А люди на трибунах смеялись. Без сомнения, это выглядело смешно. Только у меня смех застревал в горле.
Малин смотрит на ограду, белую от изморози, крытые трибуны и здание клуба на заднем плане.
— Как-то раз мне пришло в голову, не пригласить ли его на чашку кофе, — продолжает Конни Дюренес. — Да что теперь вспоминать…
— Похоже, он был очень одинок. Было бы хорошо, если бы вы его пригласили, — говорит Малин.
Конни Дюренес кивает, как будто хочет что-то добавить, но молчит.
— Больше вы ничего о нем не знаете? — спрашивает Малин.
— И да и нет. Ходили разные слухи.
— Слухи?
— Да, что его отец был сумасшедшим. Что у них был дом и как-то раз Бенгт рубанул своего отца топором по голове.
— Топором по голове?
— Да, как будто.
Вот за что ухватился бы Даниэль Хёгфельдт!
— Мало ли что болтали? Это будто бы произошло лет двадцать назад или даже больше. Он был не таким. У него были добрые глаза, я замечал это даже отсюда. Хотя на фотографиях на сайте этого не видно.
13
Малин стоит у ограды и смотрит на футбольное поле. Перед ней серо-белый квадрат, а за ним совсем серое здание школы. Слева клуб — вытянутая постройка все того же кирпично-красного цвета, с бетонной лестницей перед зеленой дверью. Ларек со сладостями с логотипом «Клоетты».
Малин принюхивается — как будто слегка пахнет какао.
За ларьком теннисный зал — храм благородного спорта.
Она держится за ограду. Сквозь тонкие шерстяные перчатки ощущает не холод металла, а угловатую, безжизненную проволоку. Малин дергает ее, закрывает глаза и видит зелень, вдыхает запах свежескошенной травы. Чувствует повисшее в воздухе нетерпение: когда же наконец первый состав команды выйдет на поле, подбадриваемый криками восьми-, девяти- и десятилетних болельщиков и пенсионеров, запасшихся термосами с кофе. И вот ты, Мяченосец, одинокий за этой оградой, снаружи…
Откуда это одиночество?
Топором по голове.
Мы отыщем твое имя в старых архивах, оно, конечно же, всплывет где-нибудь. В архивах работают такие аккуратные, старательные дамы, мы обязательно найдем тебя и познакомимся поближе. Будь уверен.
Малин поднимает руки. Она стоит так, будто ловит мяч, пока наконец не делается тяжелой и неуклюжей, так что ее начинает клонить куда-то вбок. «Они смеялись над тобой, — думает она. — Над твоими неуклюжими попытками поймать мяч, стать частью тех незначительных событий, переживаний, происшествий, которые и зовутся жизнью в таком маленьком поселке. Едва ли они понимали, что ты один из них, что это ты делаешь этот поселок тем, что он есть. Ты постоянно присутствовал в жизни многих, видимый и невидимый, знакомый и незнакомый, ходячая печальная шутка, придающая изюминку их беспросветной повседневности.
Им будет не хватать тебя весной. Они о тебе еще вспомнят. Когда мяч перелетит через ограду, они поймут, как ты им нужен. И может быть, почувствуют, как это бывает, когда вдруг что-то неприятно сжимается внутри.
Можно ли быть более одиноким, чем ты? Предмет насмешек при жизни, неосознанной тоски после смерти».
В кармане звонит телефон.
— Это, конечно, Шёман, — раздается за спиной голос Зака.
И это действительно он.
— Больше никто не звонил, хотя Мяченосец был своего рода местной знаменитостью. А что у вас?
— Ходят слухи об ударе топором по голове.
— Что за чушь?
— Как будто он двадцать лет назад ударил своего отца топором по голове.
— Надо проверить, — говорит Шёман. И добавляет: — Можете съездить в его квартиру, если хотите, техники уже закончили. И утверждают со всей уверенностью, что он был убит не в квартире. В таком случае там остались бы следы крови, если учесть все, что с ним сделали. Но тест на люминол[21] дал отрицательный результат. Эдхольм и еще несколько человек ходят по соседям. Адрес: Хэрнавеген, двадцать один-Б, первый этаж.
Четыре скугахольмских батона,[22] уже нарезанные, лежат на ламинированном кухонном столе серого цвета. В свете люминесцентной лампы пластиковая упаковка кажется влажной, ядовитой, а ее содержимое — опасным для жизни.
Малин открывает холодильник. Там по меньшей мере двадцать упаковок копченой колбасы, молоко с высоким содержанием жира и много несоленого сливочного масла.
Зак смотрит через ее плечо.
— Настоящий гурман!
— Ты думаешь, он этим питался?
— Да, не исключено. В этот хлеб кладут только очищенный сахар, а колбаса жирная — одно к одному. Диета настоящего парня.
Малин закрывает холодильник. За спущенными жалюзи она различает силуэты детей, которые, бросая вызов морозу, пытаются соорудить что-то из снега. Все это выглядит безнадежно — твердая холодная масса противится любым попыткам придать ей форму. Дети иммигрантов. Они живут в тех вытянутых домах, каждый на две квартиры, из белого бетона и дерева, покрытого отслаивающейся коричневой краской, — на изнаночной стороне поселка Юнгсбру.
За окном слышится смех — сдавленный и в то же время радостный, будто им мороз не страшен.
А может, нет никакой изнаночной стороны? Люди живут своей жизнью, и радость иногда прорывается на поверхность, как раскаленная магма.
У стены пестрый диван — такой узор был в моде в семидесятые. Желто-коричневые обои в крапинку. Игровой стол, крытый зеленым сукном. Несколько простых стульев, в углу провалившаяся кровать, опрятно заправленная оранжевым покрывалом.
Обстановка спартанская, но везде прибрано: нет ни коробок из-под пиццы, ни окурков, ни куч мусора. Чистота и порядок.
На одном из окон гостиной видны три небольших отверстия в стекле, заклеенные скотчем. Лента аккуратно наложена на расходящиеся трещины.
— Выглядит так, будто кто-то бросал в окно маленькие камешки, — замечает Зак.
— Похоже.
— Думаешь, это важно?
— В таких районах обычно много детей, и они постоянно озорничают. Может, бросались галькой.
— Или таким образом его вызывали на любовные свидания.
— Конечно, Зак. Мы должны попросить техников тщательно обследовать окно, если они до сих пор этого не сделали, — говорит Малин. — Может, они смогут определить, что это за отверстия.
— Странно, если они не занимались окном, — рассуждает Зак. — Но здесь, конечно, была Юханнисон, а это не по ее части.
— Если бы здесь была Карин, стекло уже уехало бы в лабораторию, — отвечает Малин, направляясь к гардеробу в спальной нише.
Габардиновые брюки огромных размеров, все приглушенно-земляных оттенков, аккуратно развешаны, выстираны и выглажены.
— Как-то не согласуется, — говорит Зак, — весь этот порядок, выстиранная одежда с разговорами о том, что он вонял мочой и потом.
— Не согласуется, — соглашается Малин. — Но кто знает, действительно ли он вонял? Может, они только думали, что он должен вонять? Кто-то сказал кому-то другому, а тот, в свою очередь, следующему, и это стало общеизвестной истиной. Мяченосец воняет мочой, Мяченосец не моется.
Зак кивает.
— А может, кто-то был здесь после его смерти и прибрался?
— Техники заметили бы.
— Ты уверена?
Малин потирает лоб.
— Нет, это не всегда можно установить.
— А соседи? Они ничего особенного не заметили?
— Эдхольм, который обходил квартиры, говорит, что ничего.
Головная боль отступила, но Малин все еще чувствует себя какой-то опухшей и несвежей, как бывает, когда алкоголь выветривается из организма.
— Как давно он умер, по мнению Карин? Часов шестнадцать-двадцать назад? Могли здесь кто-нибудь побывать за это время? Или же вся его нечистоплотность — выдумка?
На плите индийский котелок с цыпленком карри, по квартире распространяется запах чеснока, имбиря и куркумы. Малин чувствует голод, всем телом.
Нарубить, нарезать, разлить. Нажарить и наварить.
Пиво налито. Нет ничего лучше к пиву, чем карри.
Только что звонил Янне. Четверть восьмого. Они в пути. Вот она слышит, как ключ поворачивается в замочной скважине, и спешит им навстречу. Туве слишком возбуждена и как будто специально для нее демонстрирует свою радость.
— Мама, мама! Мы посмотрели пять фильмов за выходные! Пять, и все, кроме одного, хорошие!
Янне стоит в зале за спиной радостной Туве. Вид у него виноватый, но довольно самоуверенный, словно говорящий: «Когда она со мной, решения принимаю я. И дискуссии на эту тему мы давно уже прекратили».
— И что это были за фильмы?
— Все Ингмара Бергмана.
Немая сцена. Один из тех маленьких спектаклей, которые они так любят для нее устраивать.
— Вот как! — Малин не может сдержать смех.
— И они были замечательные.
— Ты приготовила карри? — спрашивает Янне. — После мороза — самое то.
— Разумеется, Туве. Мама верит тебе. Но все-таки что за фильмы?
— Мы смотрели «Клубничную страну».
— Туве, фильм называется «Земляничная поляна». Но его мы не видели.
— Хорошо. Мы смотрели «Ночь живых мертвецов».
Что? Янне, ты с ума сошел? «Живые мертвецы» — так и крутится в голове.
— Мы были и на станции тоже, — добавляет Янне. — И занимались бодибилдингом.
— Бодибилдингом?
— Да, я попробовала, — продолжает Туве. — Мама, ты не представляешь, как это здорово!
— Из этого котелка чертовски вкусно пахнет.
Беговая дорожка в тренажерном зале полицейского участка. Жим лежа. Над штангой склоняется Юхан Якобссон:
— Еще разок, Малин. Давай, неженка…
Пропотеть. Отжаться. Стать простой и естественной. Если хочешь получить заряд энергии, ничего нет лучше физических упражнений.
— А ты, мама, чем занималась?
— А как думаешь? Работала.
— Сегодня вечером ты тоже будешь работать?
— Пока не знаю, поэтому и приготовила еду.
— Что?
— А ты не чувствуешь запаха?
— Карри. И цыпленок? — Туве не скрывает своего энтузиазма.
— Ну, теперь я пойду, — говорит Янне, опуская руки. — Созвонимся на неделе.
— Созвонимся, — отзывается Малин.
Янне открывает дверь.
— Не хочешь остаться на карри? — добавляет она, когда он уже на пороге. — Там и на тебя хватит.
14
Шестое февраля, понедельник
Малин спросонья протирает глаза.
Надо начинать день.
Мюсли, фрукты и простокваша. И кофе, кофе, кофе.
— Мама, доброе утро.
Туве, уже одетая, стоит в прихожей — раньше обычного. Малин, наоборот, встает позже. Вчера они целый день провели дома: готовили, читали. Туве разрешила матери поработать, если хочет, но Малин подавила в себе желание съездить в полицейский участок.
— Доброе утро. Ты будешь дома вечером, когда я вернусь?
— Может быть.
Дверь закрывается. Вчера девушка с четвертого канала объявила прогноз: «Итак, опустится еще более холодный — да, это так, — более холодный циклон с Баренцева моря, который накроет страну, словно крышкой, вплоть до Сконе.[23] И если уж вам непременно нужно на улицу, одевайтесь как следует».
Нужно на улицу?
Я хочу на улицу. Хочу и дальше разбираться с этим.
Мяченосец.
Кем же ты все-таки был?
Малин держит холодный руль одной рукой, в мобильнике звучит голос Шёмана.
Люди спешат на работу, дрожат на автобусной остановке возле площади Тредгордсторгет. Пар от их дыхания, смешиваясь с воздухом, вьется дальше вокруг пестрых домов на площади: зданий постройки тридцатых годов, с квартирами, о которых можно мечтать, зданий пятидесятых с магазинами на первых этажах и претенциозного дома начала века на углу, где когда-то был музыкальный магазин — теперь его закрыли.
— Звонили из дома престарелых в Юнгсбру, он называется «Вреталиден», — рассказывает по телефону Шёман. — Там есть какой-то старик девяноста шести лет, который якобы поведал одной из сотрудниц массу разных вещей о Мяченосце и его семье. Они читали ему газету — сам он, конечно, плохо видит, — и вот он пустился в воспоминания. Медсестра его отделения позвонила, полагая, что будет лучше, если мы его выслушаем. Можете сразу заняться этим.
— А сам старик не против встречи?
— Видимо, нет.
— Как его зовут?
— Готфрид Карлссон. Фамилия медсестры — Херманссон.
— А имя?
— Она представилась просто как сестра Херманссон. Думаю, тебе лучше действовать через нее.
— Так говоришь, «Вреталиден»? Я еду туда немедленно.
— Возьмешь с собой Зака?
— Нет, поеду одна.
Малин тормозит, разворачивается, успевая прошмыгнуть прямо под носом у двести одиннадцатого автобуса, направляющегося в сторону университетской клиники.
Шофер сигналит, грозит кулаком.
«Sorry», — извиняется про себя Малин.
— А в архивах что-нибудь нашли?
— Они только начали. Его ведь нет в компьютере. Но мы ищем другое, будем заниматься этим в течение дня. Позвони сразу же, как только что-нибудь появится.
Звучит еще несколько вежливых фраз, потом наступает тишина. Теперь только мотор гудит, когда Малин переключает скорость.
«Вреталиден».
Это дом престарелых гостиничного типа, достраивался и перестраивался в течение многих лет и теперь представляет собой странное сочетание строгой архитектуры пятидесятых с постмодернистскими формами восьмидесятых.
Комплекс расположен в низине, в сотне метров от школы — между ними всего пара переулков да жилой дом из красного кирпича. С другой стороны простираются владения садового предприятия «Вестер», где выращивают клубнику, тепличные постройки обозначают их границу с юга.
Но сейчас все белым-бело.
«Зима не имеет запаха», — думает Малин, когда, съежившись, совершает короткую пробежку от автостоянки до входа в заведение. В стеклянной клетке неторопливо вращается дверь-«вертушка». Малин медлит. Летом того года, когда ей исполнилось шестнадцать, за год до знакомства с Янне, она работала в больнице и ей там не нравилось. Позже она объясняла себе это тем, что была слишком молода и не могла вынести недуги и беспомощность старости и ей не хватало опыта, чтобы ухаживать за пожилыми людьми. Многое из того, что приходилось делать, казалось ей отталкивающим, но зато нравилось говорить со стариками. Когда позволяло время, она брала на себя роль компаньонки и слушала их рассказы о жизни. Многие любили рассказывать, погружаться в воспоминания — те, кто еще был в состоянии говорить. Один вопрос для затравки — и они окунались в прошлое, а ей оставалось только оживлять беседу, вставляя отдельные реплики.
Белая регистрационная стойка.
Несколько дядюшек в инвалидных колясках, похожих на кресла. Инсульт?
Альцгеймер на последних стадиях? «Ты хорошо поливаешь цветы?»
— Здравствуйте, я из полиции Линчёпинга, мне нужна сестра Херманссон.
У старости крепкий химический запах моющих средств. Молодая сотрудница с жирно блестящей кожей и свежевымытыми волосами мышиного цвета смотрит на Малин с сочувствием.
— Третье отделение. Поднимитесь на лифте. Она должна быть в комнате для медсестер.
— Спасибо.
В ожидании лифта Малин разглядывает старичков в инвалидных колясках. У одного из них из угла рта стекает струйка слюны. Они что, так и будут здесь сидеть?
Малин направляется к инвалидным коляскам, вынимая одноразовый платок из внутреннего кармана куртки. Подносит руку к лицу старика и вытирает слюну со рта и подбородка.
Служительница за стойкой наблюдает, но без недовольства, а потом улыбается.
Приезжает лифт.
— Вот так, — шепчет Малин старику на ухо, — так будет лучше.
У него в горле что-то булькает, словно он пытается ответить.
Она кладет руку на его плечо, а потом бежит к лифту.
Но дверь захлопывается. Вот черт! — теперь придется ждать, когда он приедет снова.
У сестры Херманссон короткие волосы с химической завивкой, и кудри лежат вокруг угловатых скул, словно стальные завитки. Сквозь бутылочного цвета очки в черной оправе виден жесткий взгляд.
Сколько ей, пятьдесят пять или шестьдесят?
Комната для медсестер — маленькое помещение между двумя коридорами и залом. Одетая в белый халат, сестра Херманссон стоит на середине, расставив ноги и скрестив руки на груди, словно говоря: «Это моя территория!»
— Так вы женщина, — говорит Херманссон. — Я ждала мужчину.
— Теперь и женщины работают в полиции.
— Я думала, большинство носит форму. Разве не нужно иметь более высокий чин, чтобы работать в штатском?
— Как там Готфрид Карлссон?
— Собственно говоря, я была категорически против. Он слишком стар. Сейчас, при такой экстремальной погоде, хватит любой малости, чтобы лишить их покоя. А беспокоиться пожилым людям очень вредно.
— Мы благодарны вам за ту помощь, которую вы готовы оказать. Ему, по-видимому, есть что рассказать нам?
— Я так не думаю. Но сотрудница, которая читала ему сегодняшние новости, настаивала.
Херманссон протискивается за спину Малин и идет по коридору. Гостья следует за ней, пока Херманссон не останавливается возле какой-то двери — так резко, что скрипят пробковые подошвы ее сандалий.
— Это здесь.
Херманссон стучит.
— Войдите, — раздается в ответ слабый, но ясный голос.
— Только так и можно ступить на территорию Карлссона. — Медсестра указывает на дверь.
— Вы не войдете со мной?
— Нет, мы с Карлссоном не особенно ладим. И это его проблема. Не моя.
15
Как это приятно — просто лежать и ждать. Не тосковать, а просто пережидать время, быть таким тяжелым, как я, и в то же время уметь парить.
Итак, я поднимаюсь и через подвальное окно вылетаю из этого тесного ящика в морге в комнату (предпочитаю этот путь, хотя и стена для меня не преграда).
А другие?
Я могу видеть другого, только когда мы оба хотим этого, поэтому я почти всегда один. Но я чувствую остальных, они словно молекулы в гигантском расплывающемся теле.
Я хочу видеть маму. Но знает ли она, что я уже здесь? Я хочу видеть папу. Хочу поговорить с ними, объяснить, что я понимаю: все не так просто. Рассказать им о моих штанах, о моей квартире, о том, как там чисто, о лжи, о том, что я все-таки что-то представлял собой при жизни.
Моя сестра?
У нее своя жизнь. Я понимал и понимаю это.
Итак, я лечу над полем, над Роксеном, оставляю в стороне бассейн и кемпинг в Сандвике, далее над замком Шернорп, чьи руины вспыхивают белыми искрами в лучах солнца.
Я парю, как песня, та, которую немка Николь пела на музыкальном фестивале: «Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, das wunsch’ ich mir».[24]
Вот я над лесом, густым и темным, полным самых кошмарных тайн.
Все еще там?
Я предупреждал вас. По ногам женщины ползали змеи, их ядовитые зубы до крови вгрызались в ее тело.
Теплица, цветочная ферма, гигантская клубничная страна, где я прятался, словно маленький щенок.
Вот я планирую вниз, мимо домов тех злобных мальчишек. Не хочу здесь задерживаться, лучше полечу дальше, к Готфриду Карлссону, в угловую комнату на третьем этаже самого старого здания комплекса «Вреталиден».
Он, Готфрид, сидит там в своем инвалидном кресле, старый и довольный жизнью, как уже прожитой, так и той, несколько лет которой ему еще предстоит.
Малин Форс сидит напротив на простом деревянном стуле, по другую сторону стола. Ей немного неловко, она не знает, достанет ли у дедушки остроты зрения, чтобы встретиться с ней взглядом.
Не верь тому, что скажет Готфрид. Хотя по большей части в вашем измерении это вполне сойдет за правду.
Человек сидит напротив Малин.
Старость изменила его лицо, нос сделался широким, мясистым и красным, землистые щеки ввалились. Он одет в бежевого цвета больничные штаны из плотной хлопчатобумажной ткани, не скрывающие худобы его ног. Белая рубашка тщательно выглажена.
Глаза.
Как он видит? Ведь он слеп.
Вероятно, благодаря старческому инстинкту. Только жизнь может научить нас чему-нибудь. Когда Малин смотрит на него, она снова вспоминает лето, проведенное в больнице. Почему-то одни пожилые люди могут примириться с фактом, что большая часть их жизни уже позади, и воспринимают старость как отдых, а другие яростно возмущаются тем, что скоро все закончится.
— Не беспокойтесь, фрекен Форс, — ведь вы фрекен, не так ли? Теперь я различаю только свет и темноту, так что вам нет необходимости смотреть мне в глаза.
«Этот из спокойных», — думает Малин и наклоняется вперед, стараясь говорить четко и громко:
— То есть вы знаете, зачем я здесь?
— Со слухом у меня все в порядке, фрекен Форс.
— Простите.
— Мне читали о том кошмаре, который случился с сынком Калле-с-Поворота.
— Калле-с-Поворота?
— Да, так звали отца Бенгта Андерссона. Дурная кровь в этой семье, дурная кровь. Мальчик ни в чем не виноват, но что можно поделать с этой кровью, с этой дьявольской неугомонностью?
— Вас не затруднит поподробнее рассказать о Калле-с-Поворота?
— О Калле? Не затруднит, фрекен Форс. Рассказывать — единственное, что мне теперь осталось.
— Прошу вас.
— Калле-с-Поворота считался легендой этого места. Говорят, предки его были из тех бродяг, что селились на пустыре по другую сторону Муталы, за поселком, вблизи поместья. Но я не знаю. Ходят слухи, что родители его приходились друг другу братом и сестрой, но жили в поместье как муж и жена. И что они платили бродягам, чтобы те воспитывали его. Поэтому Калле-с-Поворота стал тем, чем он стал.
— Когда это было?
— Я думаю, Калле появился здесь в двадцатые годы или в начале тридцатых. Тогда все было по-другому. Имелась фабрика, и фермы, и поместье. Но ничего больше. С самого начала Калле держался особняком. Он был, как бы это объяснить… словно насквозь черным. Не только с лица, но и внутри. Он был точно приговорен к сомнению, к вечной неопределенности, от которой впадал в тоску и лишался рассудка, порой даже не понимал, где находится. Говорили, что это он поджег амбары в поместье, но никто не знает. Когда ему было тринадцать, он не умел ни читать, ни писать: учитель выгнал его из школы в Юнгсбру. И тут впервые попал в руки ленсмана,[25] потому что украл яйца из курятника крестьянина Тюремана.
— Тринадцать лет?
— Да, фрекен Форс. Вероятно, он был голоден. Может, бродяги устали возиться с ним? А может, господам из поместья надоело платить за него бродягам? Со всем этим не так-то просто разобраться, вот единственное, что я знаю.
— С чем?
— С отношениями родителей и детей.
— Ну а потом?
— Он исчез, Калле, и не появлялся много лет. Говорили, что он ушел в море, говорили о Лонгхольме,[26] о разных страшных делах: убийстве, изнасиловании детей. Но что мы знаем? На море он точно не был, это я могу сказать наверняка.
— Почему?
— В войну я оттрубил свое в торговом флоте и знаю, каковы моряки. И Калле-с-Поворота не был моряком.
— Кем же он был?
— Прежде всего, бабником и пьяницей.
— Когда он вернулся сюда?
— Примерно в середине пятидесятых. Одно время работал механиком в гараже при фабрике, но долго не продержался. Потом помогал на фермах. Когда был трезв, то работал за двоих, а потом его снова тянуло…
— Тянуло к чему?
— К девочкам и спиртному. Кто из тамошних работниц, служанок или крестьянок не знал Калле-с-Поворота! Он был королем танцев в Народном парке. Даром что ему не давались буквы и цифры! На танцплощадке отбивал, словно копытами. Обворожительный, как дьявол! И всегда получал то, что хотел.
— А как он выглядел?
— В этом как раз и была его тайна, фрекен Форс. Женщины не могли ему противостоять, а выглядел он как хищник в человеческом обличье, как сама звериная ненасытность: грубый, плотный, с близко посаженными черными глазами, с мордой, словно высеченной из черного мрамора.
Готфрид Карлссон смолк, будто давая возможность юной гостье представить себе этот образ воплощенной мужественности.
— Таких сейчас нет, фрекен Форс. Хотя здесь по-прежнему полным-полно неотесанного народа.
— А почему его прозвали «с поворота»?
Готфрид кладет свои дряблые, в пигментных пятнах руки на подлокотник инвалидного кресла и отвечает:
— Это случилось в конце пятидесятых или начале шестидесятых. Я работал тогда мастером на «Клоетте». Калле каким-то образом удалось раздобыть денег, и он купил участок земли со старым деревянным домом, крашенным в красный. Это внизу, у Вестерса, всего в нескольких сотнях метров отсюда, у поворота в туннель под большой автотрассой, которая сейчас называется «Андерс Вег». Туннеля тогда не было, а на месте дороги находилась роща. Я бывал там, он приглашал меня к себе, так что я знаю. Для того времени он заплатил большую сумму. Тогда в Стокгольме ограбили банк, и ходили слухи, что деньги оттуда.
И вот он встретил женщину, мать Бенгта, Элизабет Теодорссон. Крепкая, будто укорененная в этой земле, она, казалось, должна жить вечно. Однако на самом деле все вышло иначе.
Старик напротив Малин несколько раз вздохнул и прикрыл глаза.
Рассказ уже закончился или он перенапрягся, устал копаться в памяти? Или ему надоел этот разговор? Но Готфрид снова открыл глаза, мутные зрачки заблестели:
— И с тех самых пор, как он купил этот дом, он и стал зваться Калле-с-Поворота. Если и раньше все знали, кто такой Калле, то теперь у него появилось прозвище. И я думаю, что этот дом и стал началом конца Калле. Он не был создан для того, что называется нормальной человеческой жизнью.
— А потом родился Бенгт?
— Да, в шестьдесят первом, насколько я помню, но еще до того Калле-с-Поворота попал за решетку.
Готфрид Карлссон снова прикрывает глаза.
— Вы устали?
— Нисколько, фрекен Форс. Устану не раньше, чем кончу рассказывать.
На обратном пути Малин заходит в комнату медсестер.
Сестра Херманссон сидит на привинченной к стене скамье и выводит синими чернилами буквы на какой-то диаграмме.
— Ну? — Она поднимает глаза.
— Все хорошо, — отвечает Малин. — Хорошо.
— Набрались мудрости?
— Причем оба.
— Готфрид Карлссон учился на этих курсах в университете, после того как вышел на пенсию. Они сделали его странным. Представляю, какую чушь он вам впаривал! Ведь он говорил о курсах?
— Нет. Ни слова.
— Ну, тогда я умолкаю, — говорит Херманссон и возвращается к своей диаграмме.
Внизу, у входа, больше нет стариков в инвалидных креслах.
На улице, куда Малин выходит через «вертушку», мороз внезапно обжигает ей лицо, и на память вновь приходят последние слова Готфрида Карлссона. Она знает — эти слова будут возвращаться к ней опять и опять. Когда она уже собиралась уходить, он вдруг положил руку на ее плечо и сказал:
— Будьте осторожны, фрекен Форс.
— Простите?
— Запомните одну вещь, фрекен Форс. Убивает только страсть.
16
Вот участок земли, на котором когда-то стоял тот дом у поворота.
Первое впечатление: тоскливая типовая застройка, средний класс. Когда мог быть построен этот розовый деревянный дом с фабричными резными украшениями?
Восемьдесят четвертый год? Девяностый? Где-то около того. Тот, кто купил участок у Мяченосца, знал, что делает. Приобрел, конечно, по дешевке, выждал подходящий момент, снес здание, построил новую стандартную виллу и продал.
Можно ли сказать, что он уничтожил отпечаток чьей-то жизни?
Нет.
Потому что дом — всего лишь собственность, а собственность не более чем обуза. Мантра убежденных нищих.
Малин вышла из машины на воздух, которым трудно дышать. Позади застывших крон берез она различает пешеходный туннель под трассой Линчёпипгсвеген — черную дыру, сквозь которую склон на другой стороне кажется непроницаемой стеной.
Дом напротив — перестроенная вилла пятидесятых годов, как и соседний слева. Кто живет здесь сейчас? Нет, не пьяница Калле-с-Поворота. Какой-нибудь бабник? Или одинокий толстяк — вечный ребенок?
Вряд ли.
Торговцы, врачи, архитекторы — вот какого рода эта публика.
Малин бродит туда-сюда возле машины.
Ей снова вспоминается голос Готфрида Карлссона: «Калле-с-Поворота напал на одного парня в Народном парке. Он частенько занимался этим, потому что жить не мог без драки. Но на этот раз парень ослеп на один глаз, и Калле получил шесть лет».
Малин поднимается в сторону туннеля и дороги, карабкается на склон по нерасчищенной велосипедной дорожке. В отдалении показался акведук — тогда его там не было. Автомобили то исчезают, то появляются в снежной дымке. Малин видит зелень, великолепие лета, лодки, скользящие по глади канала. Так возникает целый мир! Но он не твой. Твоим миром станет тот поселок, одиночество и смех, который будет преследовать тебя, бегающего за ускакавшими мячами.
«Элизабет зарабатывала шитьем и оказывала влияние на дамскую и мужскую моду здесь, в замке, и в городе, на Васагатан. Каждое утро с Бенгтом на руках садилась в автобус и забирала платья, а вечером назад. Водители не брали с нее денег. Он был толстым уже тогда. Говорили, она дает мальчику масло и сахар, только бы не мешал ей шить».
Стоя у перил над туннелем, Малин смотрит вниз, на дом, и видит красную избушку, что когда-то находилась на его месте. Такая маленькая, она была для мальчика целой вселенной. И звезды на ночном небе напоминали о бренности жизни.
«Элизабет забеременела через несколько недель после того, как Калле вышел на свободу. Он рано состарился, лишился зубов и был вечно пьян. Поговаривают, что его избили в тюрьме за какие-то его дела в Стокгольме — вроде где-то проболтался. Но женщины, как и раньше, были без ума от него. Его видели в парке по субботам. Драки, волокитство…»
Черная черепица. Дым из трубы. Камин, конечно.
«Потом родилась девочка, Лотта. Так оно и продолжалось. Калле пил и дрался, бил жену, мальчика и девочку, если та не переставала плакать. Но что-то удерживало их вместе… Калле имел обыкновение стоять внизу, возле кондитерской, и задевать прохожих. Полиция не трогала его, ведь он был старик».
Малин возвращается к дому, но медлит, прежде чем войти в гараж. В дальнем углу участка виден древний дуб — ведь он уже был здесь при тебе, да, Мяченосец?
Да, он стоял здесь при мне.
Я бегал под дубом и вокруг него вместе со своей сестрой.
Мы бегали, чтобы быть подальше от папы. Чтобы отпугивать его своим хохотом, шумом, криками.
И потому же я ел.
Пока я ел, была надежда; пока была еда, была вера; пока я ел, не существовало другой реальности, кроме еды; пока я ел, молчало мое горе, причиняемое тем, что никак не хотело оставаться в своей мрачной берлоге.
Но что было толку в беготне и обжорстве?
В итоге мама исчезла. Рак сначала забрал ее печень, а потом ее всю, через месяц она покинула нас. И наступила вечная ночь.
«Когда Элизабет умерла, фрекен Форс, социальной службе следовало забрать детей, но они ничего не смогли поделать. Калле хотел, чтобы дети остались с ним, и нашел поддержку в законах. Бенгту исполнилось двенадцать, малышке Лотте шесть. Он уже тогда был безнадежен — порченый товар, готовый к утилизации. Мальчик с поворота, одинокий среди одиноких, чудовище, от которого все предпочитали держаться на расстоянии. Как можно разговаривать с людьми, если они смотрят на тебя как на чудовище? Я наблюдал это со стороны и если в чем и согрешил, так это в том, что просто прошел мимо него тогда, когда он в некотором смысле еще существовал в человеческом мире, — если вы понимаете, фрекен Форс, что я имею в виду. Когда он еще нуждался в моем и вообще в нашем, человеческом обществе».
Но мама? Элизабет? Что делать, когда ее сил остается лишь на то, чтобы отвести руку, занесенную для удара? Когда пальцы искалечены настолько, что больше не могут шить?
Малин обходит вокруг дома и пытается представить, что там внутри. Как обитатели глазеют на нее, гадают, кто она такая. Что ж, смотрите. Недавно посаженные яблони, идиллия среди цветов. Знаете ли вы, как легко все это разлетается на куски, исчезает навсегда?
Мама, даже если ты не можешь, вернись.
Ты об этом просил, Бенгт?
Я больше не могу говорить.
Даже наши, мои силы ограниченны.
Сейчас я хочу только парить.
Парить и гореть.
Но я очень тосковал по ней. И боялся за свою сестру. Может, поэтому я и ударил, я не знаю. Чтобы каким-то образом все собрать.
Ты сама видишь дома вокруг. Я тоже видел, как должно и как может быть.
Я любил его, моего папу, поэтому я и поднял топор в тот вечер.
Грязнули, вонючки. Запуганные, взвинченные дети. Дети-которые-не-ходят-в-школу. Дети пьяницы.
Девочка, малышка Лотта, которая разучилась говорить, пахнущая нечистотами и бедностью, — ей нет места в начищенном до блеска социал-демократическом обществе.
Пара ботинок от «Катерпиллар» прокладывает глубокие следы в снегу на заднем дворе по направлению к вилле мечты. Дверь открывается, звучит подозрительный мужской голос:
— Простите, чем могу быть вам полезен?
У молодой женщины-полицейского удостоверение наготове:
— Полиция. Я всего лишь хочу осмотреть участок. Много лет назад здесь жил один человек, в отношении которого ведется расследование.
— Когда же? Мы живем здесь с девяносто девятого года.
— Не беспокойтесь. Это было давно, до того как построили этот дом.
— Могу я запереть дверь? Холодно!
Менеджер по продажам, что-то типа того. Мелированные волосы, хотя ему верные сорок.
— Запирайтесь. Я почти закончила.
Мать медленно умирает от рака. Отец разрушает все, что попадается ему под руку. Страсти, кипевшие в избушке, долго будут отдаваться эхом в окрестных домах, в лесу, в полях.
Снова вспоминается голос Готфрида: «И вот он взял топор, фрекен Форс. Ему не было тогда и пятнадцати. Дождался, когда Калле-с-Поворота вернется с очередной попойки. И когда старик открыл дверь, он ударил. Парень наточил лезвие, но промахнулся. Удар пришелся по уху и снес его почти начисто. И оно висело, как лоскут, на одной жилке, так говорят. Калле выскочил из избы; кровь хлестала из раны и ручьями стекала по шее. В ту ночь его вопли были слышны по всему поселку».
Снег бел, но Малин чувствует, как пахнет алкоголем кровь Калле-с-Поворота, чувствует отчаяние четырнадцатилетнего Мяченосца, видит в кроватке малышку Лотту, описавшуюся, с открытым ротиком и глазами, полными ужаса, который не пройдет никогда.
«Ее он не трогал. Что бы там ни говорили».
«Кто не трогал?»
«Ни старик, ни Бенгт. В этом я уверен, хотя ни тот ни другой не избежали подозрений».
Кровавый след тянется через всю эту историю.
Девочку удочерили. Бенгт несколько лет прожил в семье приемных родителей, а потом вернулся к Калле. Одноухий, тот теперь носил повязку вокруг головы и пластырь на месте раны.
Старик умер в начале лета. В эти кошмарные годы он и Бенгт глаз не спускали друг с друга, и вот наконец сердце сдало. Когда же добрались до Мяченосца, ему было не больше восемнадцати. Он целый месяц жил с трупом в доме и выходил, казалось, только чтобы купить хлеба.
«А потом?»
«Социальные службы организовали продажу дома. Он рушился, фрекен Форс. А Бенгта запихнули в квартиру в Хэрне. Хотели, чтобы он все забыл».
«Откуда вы все это знаете, Готфрид?»
«Я не так много знаю, фрекен Форс. То, что я вам рассказал, знали тогда все в поселке, но большинство из нас уже умерли или ничего не помнят. Кому охота вспоминать плохое? Сумасшедшим? Такие люди и события — как заметки на полях жизни. Конечно, мы видим их, но вспоминаем редко или же вовсе никогда».
«Ну а потом — после того, как он переехал в квартиру?»
«Чего не знаю, того не знаю. Последние несколько десятков лет я интересовался только своими собственными делами. Он ловил мячи. Когда мне доводилось видеть его, он выглядел благополучным и чистым. Должно быть, кто-то заботился о нем».
Малин садится в машину, поворачивает ключ зажигания.
Пешеходный туннель в зеркале заднего вида быстро сжимается до маленькой черной дырочки.
Малин тяжело дышит.
Должно быть, кто-то заботился о нем, но кто?
Я закрываю глаза. Мне три года. Я чувствую теплые мамины руки на своем теле. Она щупает мою пухлую грудь, теребит меня за нос, трогает мой круглый живот. Так тепло и щекотно, и хочется, чтобы это никогда не кончалось.
Ищи дальше, Малин, ищи…
17
На входе в полицейский участок ее встречает холодный, раздраженный взгляд Зака. Он кричит на нее, пока она идет к своему столу в открытом офисном помещении. Юхан Якобссон кивает со своего места. Бёрье Сверда нет.
— Малин, ты знаешь мое отношение к твоим самостоятельным рейдам. Я пытался звонить, но твой мобильный все время выключен.
— Это было срочно.
— Малин, заехать и забрать меня из участка заняло бы не больше времени, чем подцепить шлюху на Реепербан. Сколько бы времени ты потеряла, если бы завернула сюда? Пять? Десять минут?
— Шлюху на Реепербан… Что может ответить на это женщина, Зак! Хватит дуться. Лучше сядь и выслушай меня. Не пожалеешь!
— Ладно, Малин. Что ты хочешь сказать?
Выслушав рассказ об отце Бенгта Андерссона и той жизни, которую он создал своим домашним, Зак качает головой:
— Человек — то еще животное, а?
— В архивах нашли что-нибудь?
— Нет пока. Но теперь все проще — они будут знать, что искать. У него не было судимостей, но это понятно: ему было только четырнадцать, когда это случилось. Нам нужно всего лишь подтвердить сказанное стариком. Дело пойдет быстрее. К тому же сегодня утром его официально объявили умершим, и я узнал имя работника социальной службы в Юнгсбру. Это некая Рита Сантессон.
— Ты говорил с ней?
— Очень коротко, по телефону.
— Собираешься туда? Подвези меня, мне опять надо в Юнгсбру.
— Какого черта, Малин, ты опять хочешь отколоться? Ведь мы работаем вместе, и прокатиться в Юнгсбру было бы весело.
— А остальные?
— Они закончили с обходом квартир и помогают отделу краж. В эти выходные ограбили виллу директора «Сааба», как будто украли картину какого-то художника… американского… Харвул, что ли. Стоит миллионы.
— Уорхол.[27] Так значит, ограбление директорской виллы важнее всего этого?
— Ты ведь понимаешь: он был просто одинокий толстяк, живший на пособие. Вот будь он хотя бы министром иностранных дел…
— А Карим?
— Журналисты успокоились, успокоился и он. А украденный Уорхол, глядишь, попадет в «Дагенс нюхетер».
— Поедем поговорим с Ритой Сантессон.
Вид у Риты Сантессон такой, будто она вот-вот развалится у них на глазах. Вязаный светло-зеленый свитер висит на ее тощем теле, а ноги как две палки, вставленные в бежевые вельветовые брюки. Щеки ввалились, глаза влажно блестят в свете люминесцентной лампы, а волосы давно утратили всякий цвет. На стенах желтые тканые обои и репродукции картин Бруно Лильефорса:[28] косуля в снегу, лиса охотится за вороном. Жалюзи опущены, как будто хозяйка кабинета хочет отгородиться от реальности.
Рита Сантессон кашляет, тем не менее когда она бросает перед ними на потертую сосновую столешницу черную папку с именем и персональным номером Бенгта Андерссона, в этом движении чувствуется физическая сила.
— Это все, что я способна вам дать.
— Вы разрешите нам снять копию?
— Нет, но перепишите от руки то, что вам надо.
— Мы не помешаем здесь?
— В этой комнате я принимаю клиентов, вы можете посидеть в буфете.
— Но потом нам нужно будет с вами поговорить.
— Тогда давайте сейчас. Собственно говоря, мне почти нечего рассказывать.
Рита Сандерссон опускается на свой мягкий стул и указывает на пластмассовые оранжевые стулья для посетителей. Она кашляет — глубоко, легкими.
Малин и Зак садятся.
— Ну и что же вы хотите знать?
— Каким он был? — спрашивает Малин.
— Этого я не знаю. Он бывал у меня несколько раз, всегда с отсутствующим выражением лица. Принимал антидепрессанты. Говорил не много и производил впечатление очень замкнутого человека. Мы хотели дать ему пенсию по инвалидности, но он категорически отказался. Думал найти свое место в жизни. Вы же понимаете, за надежду человек держится до последнего.
— Это все? Были ли у него враги, недоброжелатели?
— Нет, ничего такого. Он не имел ни врагов, ни друзей. Так сказать…
— Ничего? Постарайтесь вспомнить, — настаивает Зак.
— Да, он спрашивал про свою сестру. Но это не в нашей компетенции — я имею в виду поиски родственников. Не думаю, что он решился бы обратиться к ней лично.
— Где живет его сестра сейчас?
— Здесь все есть. — Рита Сантессон указывает на папку.
Потом она поднимается и кивает на дверь.
— С минуты на минуту жду клиента. Буфет вниз по коридору, если у вас больше нет вопросов.
Малин смотрит на Зака. Он качает головой:
— Тогда все.
— Вы уверены, что вам больше нечего нам сказать? — спрашивает Малин, вставая.
— Мне не хотелось бы больше говорить об этом.
Внезапно в ее облике появляется сила. Даже больной тигр — хозяин в своей клетке.
— Не хотите говорить об этом? — с трудом произносит Зак, будто выдавливая из себя слова. — Он был убит. Повешен на дереве, будто негр, которого линчевали. А вы не хотите говорить…
— Не то слово, простите.
Рита Сантессон кривит рот, пожимает плечами, вздрагивая всем телом.
«Похоже, ты ненавидишь мужчин», — думает Малин. А потом спрашивает:
— Кто занимался им до вас?
— Не знаю, но это тоже должно быть в бумагах. В учреждении нас трое, и все работают не больше года.
— Вы можете дать нам телефоны тех, кто уволился?
— Спросите в регистратуре. Там наверняка смогут вам помочь.
В буфете стоит удушливый запах пережаренного кофе и разогреваемой в микроволновке еды. Стол в форме эллипса покрыт клеенкой в цветочек.
Читать эти бумаги нелегко. Малин и Зак передают их друг другу, изучают по очереди, делают выписки.
Итак, Бенгт Андерссон. Психдиспансеры, депрессии. Отшельник. Секретари менялись, и для каждого он был лишь перевалочной станцией, ступенькой карьерной лестницы. Так продолжалось где-то до девяносто седьмого года.
Потом тон записей становится иным. Появляются слова: «одинок», «замкнут», «неконтактен». В этот период работал один секретарь — Мария Мюрвалль. Тут же всплывает сестра Бенгта. Мария Мюрвалль пишет:
«Бенгт спрашивает о своей сестре. Я навела справки в архивах. Его сестра Лотта сначала содержалась в Доме ребенка, потом ее удочерила семья из Йончёпинга. Ее новое имя — Ребекка Стенлунд».
«Лотта Андерссон стала Ребеккой Стенлунд, — думает Малин. — Сменила имя, как кошка, которую отдали в другой дом, потому что она надоела своему хозяину».
Больше ничего, кроме одной фразы: «Бенгт боится контакта со своей сестрой». Номер телефона и адрес в Йончёпинге записаны от руки на полях.
Затем неожиданное признание: «Для чего я так стараюсь?»
Мария Мюрвалль.
Я припоминаю это имя.
Я слышала его раньше.
— Зак, послушай. Мария Мюрвалль — тебе это ни о чем не говорит?
— Звучит знакомо. Безусловно.
Читаем дальше.
«Клиент в хорошем настроении. Мои визиты и упорное нытье дали результаты: он следит за личной гигиеной и убирается в квартире. Теперь везде образцовый порядок».
Потом записи внезапно обрываются.
Сначала Марию Мюрвалль сменила некая София Свенесон, потом Инга Кюльбурн, а после нее Рита Сантессон.
У всех одно и то же заключение: «Замкнут, неактивен, неконтактен».
Последняя встреча состоялась три месяца назад. Ничего нового не дала.
Они возвращают папку в регистратуру, где сидит молодая девушка с кольцом в носу и волосами цвета воронова крыла. В ответ на их просьбу дать телефоны секретарей социальной службы, опекавших Бенгта Андерссона, она улыбается и отвечает: «Конечно».
И через десять минут уже протягивает список, состоящий из пяти фамилий:
— Пожалуйста. Надеюсь, это вам поможет.
Прежде чем выйти, Зак и Малин застегивают куртки, надевают перчатки, шапки и шарфы.
Малин смотрит на стенные часы, обычные для учреждений — черные стрелки на белом циферблате.
Пятнадцать пятнадцать.
В это время звонит телефон Зака.
«Да… да… да…» — отвечает тот в трубку, а потом, все еще с телефоном в руках, сообщает:
— Это Шёман. Хочет собрать нас сегодня без четверти пять.
— Что-нибудь случилось?
— Звонил какой-то старичок с исторического факультета университета. Вроде у него есть теория по поводу того, что могло вдохновить человека на это убийство.
18
Свен Шёман делает глубокий вдох, глядя при этом на Карима, стоящего рядом, на фоне белого листа на подставке в зале заседаний.
— Мидвинтерблот, — проговаривает он и делает долгую паузу, прежде чем продолжить. — Как объяснил нам Юханнес Сёдерквист, профессор истории из университета, в глубокой древности был такой ритуал, когда в жертву богам приносили животных. Поскольку жертву подвешивали на дерево, связь с нашим случаем очевидна.
— Но здесь все-таки человек, — замечает Юхан Якобссон.
— Я дойду до этого. Были и человеческие жертвы.
— Таким образом, мы, возможно, имеем дело с ритуальным убийством, совершенным некой современной сектой почитателей асов, — подводит итог Карим. — Мы должны проработать и эту версию.
«Версию?» — спрашивает про себя Малин и представляет газетные заголовки: «Ритуальное убийство!», «Неоязычество как оно есть!».
— Ну а я что говорил, — вставляет Юхан. — Что это все ритуал.
В его голосе нет никакого триумфа, лишь сухая констатация.
— Вам известны подобные секты? Асатру,[29] например?
Вопрос Бёрье Сверда повисает в воздухе.
Зак откидывается назад, всем видом выражая скептицизм.
— Никаких таких сект на данный момент мы не знаем, — отвечает Свен. — Но ведь это же не означает, что их нет.
— Если они есть, — произносит Юхан, — они обязательно должны быть в Сети.
— Но зайти так далеко! — восклицает Бёрье. — Это кажется невероятным!
— В этом обществе есть немало вещей, которые кажутся нам невероятными, — замечает Карим. — Хотя у меня такое чувство, что большинство из них я уже видел.
— Юхан и Бёрье, — говорит Свен, — вы начинайте разбираться со всеми этими жертвами и сектами в Сети. А Малин и Зак поговорят с профессором Сёдерквистом, посмотрим, что он скажет. Его можно будет найти сегодня вечером на кафедре.
— Мы займемся этим, — отвечает Юхан. — Я могу посидеть сегодня вечером. Думаю, многое можно узнать, если хорошенько порыться в Сети. Но тогда мы должны бросить дело с кражей произведений искусства.
— Бросайте, — соглашается Карим. — Это важнее.
— Действовать без предубеждений — вот что здесь самое важное, — напоминает Свен.
— Что еще есть?
В голосе Карима вызов, почти насмешка.
— Оконное стекло из его квартиры отправлено на анализ в ГКЛ, — говорит Малин. — Возможно, выяснится происхождение тех отверстий. Как говорит Карин Юханнисон, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно обследовать их края.
— Хорошо. — Карим кивает. — Мы должны заглянуть под каждый камень. Что еще?
Малин сообщает, что им с Заком удалось узнать за день, прибавив под конец, что на обратном пути из социальной службы Юнгсбру звонила по трем телефонам из списка, но ей нигде не ответили.
— Мы должны поговорить и с его сестрой, которую сейчас зовут Ребекка Стенлунд.
— Поезжайте завтра в Йончёпинг и попробуйте с ней встретиться.
— Только не ждите слишком многого, — предупреждает Свен. — При таком дьявольски неудачном старте, как у нее, кто знает, что могло случиться с ней в жизни.
— Жми же, черт возьми!
Юхан Якобссон стоит над ней и поправляет штангу.
Семьдесят кило — столько же весит она сама.
Спина намертво прижата к скамье, штанга опускается все ниже, ниже, и Малин кажется, что сейчас она будет раздавлена тяжелым снарядом. Пот льет с нее ручьем.
— Жми же, неженка.
Она сама просила его называть ее неженкой, иначе он ни за что не сказал бы так. Малин замечала, что поначалу ему это давалось с трудом, а теперь звучит вполне естественно.
…три раза, четыре, пять, жим, и так шестой, седьмой, восьмой…
Сила, которая еще несколько секунд назад, казалось, переполняла ее, иссякла.
Круглая арматура под потолком прямо над ней взрывается, комната становится белой, и мускулы тоже белыми, мягкими. Слышится голос Юхана:
— Жми!
И Малин жмет. Но как она ни старается, штанга ползет вниз, к шее.
И вот давление ослабевает, вес, прижимавший ее к полу, исчезает, голубые тканые обои снова проявляются на стенах, а потом и потолок становится желтым. Она различает тренажеры, которыми уставлен спортзал — подвальное помещение без окон. В воздухе чувствуется запах пота.
Малин встает. В зале никого нет, кроме них двоих. Большинство полицейских предпочитают тренироваться в городе, считая, что там тренажеры лучше.
— Восьмой оказался не под силу, — усмехается Юхан.
— Не надо было помогать мне, — отвечает Малин, — я бы сама справилась.
— Еще немножко — и у тебя бы лопнула гортань.
— Твой черед.
— Хватит на сегодня. — Юхан срывает с себя потную, застиранную голубую майку с надписью «Адидас». — Дети.
— Дети виноваты?
— Малин, это ведь всего лишь тренировка, — смеется Юхан, выходя из зала. — Не более.
Оставшись одна, Малин становится на беговую дорожку. Выставляет почти максимальную скорость. Бежит, бежит — и в глазах снова белым-бело, мир исчезает.
Теплые струи стекают вдоль тела.
Закрывает глаза — вокруг все чернеет.
Несколько часов назад она говорила с Туве.
— Ты достанешь что-нибудь из морозилки? Или вот, еще осталось немного карри с выходных. Папа не доел.
— Все будет в порядке, мама. Я что-нибудь приготовлю.
— Ты будешь дома, когда я вернусь?
— Может быть, пойду к Лизе зубрить. В четверг контрольная по географии.
«Зубри, — думает Малин. — С каких пор ты этим занимаешься?»
— Я могу потом проверить тебя, если хочешь.
— Нет, не надо.
Шампунь на волосы, мыло на тело и грудь, которой давно никто не касался.
Малин выключает душ, вытирается, бросает полотенце в корзину для грязного белья, потом принимается перебирать одежду в шкафу. Она одевается, застегивает желтые с голубым часы марки «Свотч» — подарок от Туве на Рождество. Они показывают полвосьмого. Зак, должно быть, уже ожидает в машине на парковке. Лучше поторопиться. Профессор, который должен рассказать о ритуалах, вероятно, не будет дожидаться их весь вечер.
19
Быстрым шагом они минуют фасады, обитые листовым железом и крашенные под розовый мрамор. Хрустящая под подошвами галька тщательно отшлифована, но местами покрыта льдом. Проход между мрачными длинными строениями превратился в туннель, продуваемый всеми ветрами, где холод, как кажется, собрал все свои силы, чтобы обрушиться на их тела. Раскачивающиеся конусы уличных фонарей похожи на языки пламени.
Университет.
Словно город в городе, каменный ящик, брошенный между Валлой, площадкой для гольфа и научным центром Мьердеви.
— Не думал, что мир науки такой мрачный, — говорит Зак.
— Он не мрачный, — отвечает Малин. — Всего лишь тоскливый.
Сама она два года занималась на заочных юридических курсах. Туве под ногами, Янне в джунглях или бог знает на каких минированных дорогах; патрулирование, ночные дежурства, детский сад с ночевкой — все одна, одна с тобой, Туве.
— Так ты говоришь, корпус «Цэ»?
Литера «С» светится на ближайшей двери.
— Прошу прощения, нам нужен корпус «Эф», — поправляет Зак.
— Черт бы подрал этот мороз!
— Который так дурно пахнет.
— И при этом как будто не имеет запаха.
На втором этаже корпуса «F» горит одно-единственное окно — как огромная звезда на неприветливом небе.
— Он сказал, что мы должны набрать код «В-три-два-шесть-семь» на двери. Тогда он нам откроет.
— Сними перчатки, — советует Зак.
Минуту спустя они уже поднимаются в лифте.
— Это полиция? — прозвучал в микрофоне невнятный, исчезающий голос профессора Юханнеса Сёдерквиста.
— Да, инспекторы Форс и Мартинссон.
Раздался щелчок — и наконец стало тепло.
«Чего я, собственно, жду?» — думает Малин, усаживаясь на неудобный стул в профессорском кабинете. Хозяин — ворчливый дядюшка в вязаной кофте. Профессора истории не из тех утонченных натур, перед которыми она робеет. Но каков он?
Молод, не больше сорока. Приятной внешности, подбородок, может быть, слабоват, но скулы, синие холодные глаза безупречны.
Здравствуйте, профессор!
Он сидит, слегка откинувшись в кресле, по другую сторону стола, тщательно прибранного, если не считать небрежно открытого пакета с пирожными.
Комната площадью около десяти квадратных метров, множество книжных полок вдоль стен и возле окна, выходящего на площадку для гольфа в стороне от дороги, тихую и пустынную.
Хозяин улыбается, но только ртом и мускулами щек, глаза серьезны. «Он прячет одну руку, — замечает про себя Малин, — не ту, которую протянул нам. Он держит ее под столом. Почему, профессор Сёдерквист?»
— Вы хотели о чем-то рассказать нам? — спрашивает Зак.
В комнате висит запах моющих средств.
— Мидвинтерблот, — произносит профессор. — Вам знакомо это слово?
— Слышали, — отвечает Малин.
Зак качает головой, а затем кивает профессору, который продолжает говорить:
— Так называется языческий ритуал — обряд, который совершали, так сказать, викинги один раз в году и примерно в это время.[30] Приносили жертву богам, чтобы те послали удачу и благополучие, или пытаясь искупить совершенное преступление, очиститься кровью и так примириться с мертвыми. Мы не знаем наверняка. Документов, достоверно свидетельствующих о ритуале, не много, но можно с уверенностью утверждать, что в жертву приносили как животных, так и людей.
— То есть были и человеческие жертвы?
— Были. И жертву подвешивали на дерево. Часто на открытом месте, чтобы боги хорошо могли ее видеть. Так, во всяком случае, мы думаем.
— И вы полагаете, что человек, повешенный на дереве посреди Эстергётландской равнины, мог быть жертвой современных язычников? — спрашивает Малин.
— Нет, я так не полагаю. — Профессор улыбается. — Я просто нахожу несомненное сходство в сценариях. Позвольте мне заметить одну вещь. В это время года в этой стране многие отели и конференц-центры организуют безобидный Мидвинтерблот: читают лекции о культуре той эпохи и предлагают блюда, как они утверждают, древнескандинавской кухни, оставляя в стороне мрачную, кровавую сущность праздника. Это просто коммерческое шоу. Но и есть те, кто питает к истории менее здоровый интерес.
— Что вы имеете в виду?
— Я сталкивался иногда с такими людьми во время своих публичных лекций. Им неуютно жить в наше время, и они идентифицируют себя с историческим прошлым.
— То есть они живут в прошлом?
— Что-то вроде того.
— Вы говорите о последователях Асатру?
— Я бы не стал это так называть. Скорее, мы говорим сейчас о древнескандинавской истории.
— Вы знаете, где можно найти этих людей?
— Я не знаю никаких конкретных сообществ. Они меня никогда не интересовали. Но безусловно, они есть, и такие ненормальные приходили меня слушать. На вашем месте я начал бы с поисков в Интернете. Чем глубже они погружены в историю, тем больше технически продвинуты.
— И вы уверены, что никого не знаете?
— Никого конкретно. На моих публичных лекциях не составляется списков слушателей. Это как кино или концерт. Люди приходят, смотрят, слушают и уходят.
— Но вы знаете, что они технически продвинуты?
— Разве не все подобные люди таковы?
— А среди ваших студентов здесь, в университете?
— Здесь таких нет. И Мидвинтерблот — лишь отдельный эпизод в общей картине.
С этими словами профессор поднимает руку, которую до сих пор прятал под столом, и проводит ею по щеке. Малин видит страшные зигзагообразные раны, покрывающие тыльную сторону кисти.
Профессор, будто придя в себя, снова опускает руку.
— Вас кто-то поранил?
— Да, у нас дома кошки. Одна из них играла весь день, пока мы занимались друг другом. Мы отвезли ее к ветеринару. У нее в мозгу обнаружили опухоль.
— Сочувствую, — вздыхает Малин.
— Спасибо. Кошки как дети для нас с Магнусом.
— Думаешь, он соврал насчет руки?
Голос Зака еле слышен в продуваемом ветром туннеле между домами.
— Я не знаю! — кричит Малин.
— Думаешь, нужно проверить?
— Можем подрядить кого-нибудь быстро навести справки.
Звонок мобильника заглушает ее голос.
— Черт!
— Оставь, пусть звонит. Перезвонишь из машины.
Она перезванивает Юхану Якобссону, когда они проезжают мимо «Макдоналдса» у кольцевой транспортной развязки в районе Рюд. Ей наплевать, что жена Юхана, вероятно, укладывает детей и звонок может помешать им уснуть.
— Юхан Якобссон.
Дети шумят где-то на заднем плане.
— Это Малин. Звоню из машины Зака.
— Да, — говорит Юхан. — Я не нашел никаких конкретных сект, но слово «Мидвинтерблот» мелькает на многих сайтах. В основном на форумах, где…
— Мы все это знаем, что-нибудь еще?
— Именно это я и хотел сообщить. Кроме форумов, я вышел на сайт — его владелец называет себя шаманом, — посвященный сейду.[31] Это что-то вроде древнескандинавского колдовства, и Мидвинтерблот значится там как ежегодный обряд, который сейд предписывает совершать в феврале…
— Я слушаю.
— Далее я вышел на одно дискуссионное сообщество в Сети, посвященное сейду.
— О’кей.
— Там не так много членов, но модератор сообщества, который указал свой домашний адрес, живет тут неподалеку, возле поселка Маспелёса.
— Маспелёса?
— Именно, Форс. Всего в нескольких милях от места преступления.
— Думаешь, нам следует его сегодня вечером допросить?
— Всего лишь потому, что у него есть страница в Интернете? Полагаю, это может подождать до завтра.
— Ты уверен?
— Уверен или нет… Ты хочешь направиться в Маспелёсу прямо сейчас?
— Можем съездить.
— Малин, ты с ума сошла! Поезжай домой, к Туве.
— Ты прав, Юхан. Это может подождать. Займемся этим завтра.
Поверхность кухонного стола холоднее ее ладони, но Малин чувствует тепло.
Сейд.
Древнескандинавская магия.
Отверстия на стекле, до сих пор неясно откуда.
Есть ли какая-то связь?
Асатру.
Зак сначала смеялся, а потом на его лице появилось выражение неуверенности. До него словно дошло, что, если можно вывесить голого человека на дереве в трескучий мороз, значит, могут существовать и «чокнутые», строящие свою жизнь по канонам древней мифологии.
Но необходимо пройти по всем следам, заглянуть под каждый камень, который может скрывать под собой нечто, имеющее отношение к делу. Сколько расследований зашло в тупик оттого, что полицейские замыкались в рамках одной, своей собственной теории. Или, что еще хуже, влюблялись в нее.
Малин съедает несколько хрустящих хлебцев с нежирным сыром, потом садится за письменный стол и начинает обзванивать бывших сотрудников социальной службы в Юнгсбру.
Часы на мониторе показывают двенадцать минут десятого, еще не поздно.
В зале записка от Туве:
Я у Филиппы, готовлюсь к завтрашней контрольной по математике. Дома буду не позднее десяти.
По математике? Разве не по географии? У Филиппы?
По телефонам никто не отвечает. Она оставляет сообщения — имя, номер и по какому делу. «Позвоните мне сегодня или завтра рано утром, сразу же, как получите это сообщение». Чем может быть так занят народ в понедельник вечером?
Хотя почему бы и нет? Театр, кино, какой-нибудь концерт в консерватории, кружки, тренировки. Все те вещи, к которым прибегают люди, чтобы отогнать скуку.
По номеру Марии Мюрвалль отвечает автомат: «Обслуживание этого абонента прекращено». Никакого другого в списке нет. Половина десятого.
После тренировки Малин чувствует усталость. Когда мускулы растут, они протестуют и вибрируют. А после встречи в университете мозг словно в тумане.
Может, хоть ночь будет спокойной? Ничто так не отгоняет кошмары, как физические нагрузки и умственные усилия. Тем не менее покоя нет, на душе тревожно. Она чувствует, что не может больше находиться в квартире, несмотря на холод снаружи.
Малин вскакивает, надевает куртку, по привычке застегивает кобуру и снова покидает дом. Она идет вверх по Хамнгатан, к площади Фильбютерторгет, и далее в сторону замка, кладбища, где покрытые снегом монументы охраняют тайны своих владельцев. Малин смотрит в сторону кладбищенской рощи. Иногда она ходит туда, чтобы любоваться цветами. Пытается ощутить присутствие мертвых, услышать их голоса, представляет себя супергероем, наделенным фантастической силой, преодолевающим власть трех измерений.
Свист ветра.
Тяжелое дыхание мороза.
Малин замирает.
Обвисшие дубы. Мерзлые ветви застыли в воздухе, как черный дождь.
У ее ног горит несколько свечей. Венок серым кольцом лежит на снегу.
«Вы здесь?» — мысленно спрашивает она.
Но все тихо, пусто и неподвижно.
«Малин, я здесь», — слышится ей.
Мяченосец?
А вечер убийственно холоден и суров. Покинув рощу, она идет вдоль кладбищенской стены и далее, через Валлавеген, вниз, в сторону водонапорной башни и инфекционной клиники.
Мимо квартиры родителей.
«Ты хорошо поливаешь…»
Там что-то не так. В окне квартиры виден красноватый свет. В чем дело?
Я никогда не забываю потушить.
20
Она входит в подъезд и включает свет.
Достает мобильный, набирает домашний номер родителей — кто бы ни был там, наверху, звонок собьет его с толку. Но, собираясь нажать кнопку вызова, она вспоминает, что родители отключили телефон.
Не вызывая лифта, Малин как можно осторожнее ступает в своих ботинках от «Катерпиллар». Три пролета вверх. Она чувствует, как потеет спина.
Дверь не взломана, ничего подозрительного.
Но через глазок сочится свет.
Малин прикладывает ухо к двери и прислушивается — тишина. Она заглядывает в щель почтового ящика: кажется, свет идет с кухни.
Она берется за дверную ручку.
Вытащить пистолет?
Нет.
Дверь скрипит, когда она тянет ее на себя. Из родительской спальни доносятся приглушенные голоса.
Потом все смолкает, но она различает, как там кто-то шевелится. Они ее слышали?
Малин резко открывает дверь в спальню.
Туве на зеленом покрывале возится с джинсами, пытаясь застегнуться, но пальцы не слушаются.
— Мама…
На другом конце кровати тощий длинноволосый парень натягивает черную футболку с эмблемой тяжелого рока. У него неправдоподобно белая кожа, как будто никогда не знавшая солнца.
— Мама, я…
— Ни слова, Туве, ни слова.
— Я… — вторит парень ломающимся голосом. — Я…
— И ты тоже молчи. Молчите оба. Одевайтесь.
— Но мы одеты, мама.
— Туве, я тебя предупредила.
Малин выходит из спальни, кричит, закрывая за собой дверь:
— Выходите оба, когда оденетесь!
Хочется кричать и кричать, но зачем? Нельзя же сказать: «Туве! Ты появилась на свет случайно — просто порвался презерватив. Хочешь повторить мою ошибку? Ты думаешь, это весело — стать матерью в твоем возрасте, даже если ты любишь своего мальчика?»
В спальне шепот, хихиканье.
Через пару минут они выходят. Стоя посреди зала, Малин указывает на диваны.
— Туве, садись сюда. А ты кто такой?
«Симпатичный, — думает Малин, — но бледный. Но боже мой, ему же не больше четырнадцати, а Туве, Туве, ты еще совсем маленькая девочка!»
— Я Маркус, — отвечает бледнолицый, отбрасывая со лба волосы.
— Мой друг, — поясняет Туве с дивана.
— Это я поняла, — говорит Малин. — Я умнее, чем ты думаешь.
— Я учусь в школе в Онестаде, — добавляет Маркус. — Мы познакомились несколько недель назад на вечеринке.
Что за вечеринка? Туве была на вечеринке?
— Маркус, у тебя есть фамилия?
— Стенвинкель.
— Можешь идти, Маркус.
— Можно мне попрощаться с Туве?
— Надевай свою куртку и иди.
— Мама, я правда его люблю! — заявляет Туве, но хлопок входной двери заглушает ее слова.
— Звучит весьма решительно.
Малин садится на диван напротив дочери. В комнате темно, она закрывает глаза, вздыхает. Но потом ее снова охватывает негодование:
— Какое «люблю»? Туве, тебе тринадцать. Что ты понимаешь в таких вещах?
— Очевидно, ровно столько же, сколько и ты.
Негодование исчезает так же внезапно, как и появилось.
— Вот так ты занимаешься с Филиппой? Туве, зачем нужно было лгать?
— Я думала, ты разозлишься.
— На что? Что у тебя есть приятель?
— Нет, на то, что я ничего тебе не сказала. И что мы пришли сюда. И что у меня есть то, чего нет у тебя.
Последние слова больно задели Малин. Это было неожиданно, и она поспешила отмахнуться от них и переключилась на другое.
— Будь осторожна. Со всем этим ты можешь нажить себе кучу проблем.
— Мама, это как раз то, чего я боялась, — ты видишь одни проблемы. Думаешь, я глупа и не понимаю, что вы с папой произвели меня на свет по оплошности? Кто сознательно обзаводится детьми в таком возрасте? Но я буду осторожнее.
— Туве, что ты говоришь? Ты не была оплошностью! Кто тебе такое сказал?
— Я знаю, мама, но мне тринадцать, а в тринадцать у девушек уже есть парни.
— Кино с Сарой, уроки с Филиппой… Какой же надо быть дурой! И как давно вы вместе?
— Скоро месяц.
— Месяц?
— Неудивительно, что ты ничего не замечала.
— Это почему же?
— А ты как думаешь, мама?
— Я не знаю, подскажи мне.
— Стенвинкель. Его зовут Маркус Стенвинкель, — с важностью выговаривает Туве.
Потом обе умолкают.
За окном неистовствует зимняя ночь.
— Так значит, Маркус Стенвинкель! — смеется наконец Малин. — Такой бледный! Ты знаешь, чем занимаются его родители?
— Они врачи.
«Элита», — невольно приходит в голову Малин.
— Прекрасно, — говорит она.
— Не волнуйся, мама. Кстати, я хочу есть.
— Пицца, — предлагает Малин, хлопнув себя по коленке. — Я сама ничего не ела за сегодняшний вечер, кроме пары бутербродов.
«Шалом» на Трэдсгордсгатан — самая большая пиццерия в городе. Лучший томатный соус и самые уродливые интерьеры: любительские изображения нимф из гипса на стенах и дешевые пластмассовые столы вроде тех, что стоят на дачах.
Они выбирают «Кальцоне».
— А папа знает?
— Нет.
— Хорошо.
— Почему?
Малин отпивает куба-колы.
Снова звонит телефон, на дисплее появляется номер Даниэля Хёгфельдта. Но Малин без колебаний решает не отвечать.
— Так что там с папой?
— Для меня важно, что ты ничего не сказала не только мне, но и ему.
Туве выглядит задумчивой.
— Странно, — говорит она, взяв в рот кусочек пиццы.
Над их головами мигают люминесцентные лампы.
Любовь — это борьба, Туве. Борьба, в которой можно потерять все.
21
Седьмое февраля, вторник
Только что миновала полночь.
На выходе из редакции «Корреспондентен» Даниэль Хёгфельдт нажимает кнопку, и дверь с маниакальным скрежетом открывается. Он доволен: хорошо поработал.
Вдыхая ледяной воздух, Даниэль озирает Хамнгатан.
Он звонил Малин — по делу и так… да, собственно, что он хотел у нее спросить?
Хотя теплая куртка застегнута до самой шеи, морозу достаточно нескольких секунд, чтобы проникнуть сквозь ткань.
Он быстро шагает по Линнегатан.
Возле церкви Святого Лаврентия глядит на темные окна квартиры Малин. Вспоминает ее лицо и глаза, думает о том, как, в сущности, мало ее знает и каким он должен казаться ей — чертов журналист, нахал, наделенный какой-то непреодолимой сексуальностью и шармом. Тело, вполне годное к использованию, когда собственное тело хочет получить свое.
Секс.
Так или иначе, но он нужен.
Он проходит магазин «Н&М», размышляя над этим. Нужен кому? Секс безличен, это не то, чем занимаемся ты или я, словно в это время от человека отделяется какое-то постороннее существо.
Сегодня звонили из Стокгольма.
Расточали лесть и обещания.
Даниэль нисколько не удивился.
Что я, собственно, делаю в этой дыре?
Последний номер «Корреспондентен» смотрит на Малин с пола прихожей: она едва успела одеться и на негнущихся со сна ногах ковыляет из душа на кухню. Несмотря на полумрак, она различает заголовок на первой странице, безошибочно узнавая стиль Даниэля Хёгфельдта.
«Полиция подозревает ритуальное убийство».
Ты первый, Даниэль. Теперь ты доволен.
Серьезный Карим на фото из архива. Заявление, сделанное по телефону поздно вечером: «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что в настоящее время мы разыскиваем тайную секту языческого движения Асатру».
Тайную секту? Асатру?
Интервью Даниэля с профессором Сёдерквистом, подтвердившим, что был допрошен полицией, которую сам ранее проинформировал о языческом ритуале.
Потом скриншот сайта об Асатру, паспортного формата фото Рикарда Скуглёфа, проживающего в Маспелёсе, — якобы центральной фигуры в этих кругах. «Вчера вечером нам так и не удалось выйти на связь с Рикардом Скуглёфом для получения каких-либо комментариев».
Вставка о ритуале зимнего жертвоприношения.
Это все.
Малин сворачивает газету, кладет на кухонный стол и ставит на нее чашку с кофе.
Тело. Мускулы и сухожилия, кости и суставы. Все болит. От подъезда сигналят. Зак, ты уже здесь?
«Йончёпинг, выезжаем рано», — последнее, что сказал ей Зак при прощании у дверей квартиры.
Часы из «ИКЕА» на стене показывают без пятнадцати семь.
Это я припозднилась.
Что делает со мной эта зима!
Вот Зак снова за рулем зеленой «вольво». Усталые плечи, опущенные руки. Немецкая хоровая музыка в миноре переполняет салон. Они оба утомлены.
Трасса Е4 пролегает через белые поля и промерзшие пространства равнины.
«Мобилиа» возле поселка Манторп, торговый центр, любимое место прогулок Туве и кошмар Малин. Городки Мьёльбю и Грэнна, озеро Веттерн — как проблеск надежды вдали у горизонта, где разные оттенки серого, сливаясь, образуют непроницаемый для света клубок мрака и холода.
Голос Зака словно освобождает ее от мыслей.
— Что ты думаешь обо всех этих древностях? — спрашивает он достаточно громко, чтобы заглушить музыку.
— Карим выглядел вполне убедительно.
— Мистер Акбар? Что может знать о таких вещах полицейский бройлер вроде него?
— Зак, он не такой уж плохой.
— Да нет, я понимаю. Мистеру Акбару нужно было создать иллюзию, будто мы на что-то вышли. А отверстия в стекле? Как тебе это на свежую голову?
— Не имею ни малейшего представления, что они могут означать. Вполне возможно, это дверь… я не знаю куда.
И Малин подумалось, что и здесь все так же, как и в любом крупном расследовании: очевидное прячется где-то совсем рядом, недосягаемое и насмешливое.
— Когда Карин закончит с обследованием стекла?
— Сегодня или завтра.
— Замечу одну вещь, — говорит Зак, помедлив. — Чем больше думаю я об этом Мяченосце с дерева, тем крепче во мне чувство, что мы имеем дело с каким-то заклятием.
— И у меня тоже, — отвечает Малин. — В таком случае нам только и остается, что эта связь с Валгаллой… и всем прочим.
Малин звонит в дверь квартиры Ребекки Стенлунд. Та живет на втором этаже желтого кирпичного дома на возвышенности в южной части Йончёпинга.
Должно быть, из окна квартиры открывается чудесный вид, а летом вся округа утопает в пышной зелени берез. Даже гараж неподалеку от дороги выглядит мило, с выкрашенными оранжевой краской воротами, окруженный низким ухоженным кустарником.
Дом Ребекки Стенлунд стоит в районе, который можно назвать середнячком — без роскоши, но уютном. Из тех, где у ребенка есть возможность вырасти порядочным человеком. Не то что кварталы иммигрантов и других обитателей социальных низов! Здесь люди живут своей жизнью, не привлекая внимания и не вызывая особого интереса, но вполне благополучно. Существование в точке разрыва, здоровая ветвь на больном дереве. Попадая в эту среду, Малин каждый раз удивляется тому, что подобное до сих пор существует — простое человеческое счастье, места, где на каждого ребенка приходится две целых и три десятых качелей и горки.
На звонок никто не открывает.
Сейчас чуть больше девяти утра. Вероятно, им следовало бы позвонить и предупредить о визите, но знает ли хозяйка, что случилось с ее братом?
«Поедем так» — это были слова Зака.
«Ведь может выйти, что именно мы принесем ей страшное известие».
«Неужели ей никто не сообщил, прежде чем об этом узнали все?»
«Но ведь никто не знал об этой сестре, да и газеты давно уже перестали обращать внимание на такие мелочи».
Малин звонит еще раз.
От соседней двери доносится скрежет замка, и появляется приветливое, улыбающееся лицо пожилой женщины.
— Ищете Ребекку?
— Да, мы из полиции Линчёпинга, — отвечает Малин, а Зак протягивает удостоверение.
— Из полиции? Да, конечно. — Старушка испуганно щурится. — Надеюсь, с ней ничего плохого не случилось? Мне трудно себе это представить…
— Ничего не случилось, — отвечает Зак как можно спокойнее. — Мы просто хотели поговорить с ней.
— Она работает внизу, в магазине «Иса». Спросите там. Она заведующая. Лучшего магазина «Иса» я в жизни не видела, готова поклясться в этом любому инспектору. Может быть, вы там застанете и ее сына. Замечательный мальчик, каких больше нет. Часто помогает мне.
Когда они приближаются к автоматическим дверям магазина «Иса», у Зака звонит телефон.
Малин стоит в стороне, но слышит, что он говорит, и видит, как он морщит лоб.
— Да-да, все сходится.
Потом Зак нажимает отбой и говорит:
— Они нашли дело об ударе топором. Старик рассказал чистую правду. Лотта-Ребекка все видела. Ей тогда было восемь лет.
В магазине фрукты и овощи разложены аккуратными рядами, и от запаха еды у Малин пробуждается голод. Красивые вывески, каждый угол освещен, словно для демонстрации: здесь чисто.
«Эта тетя была права, — думает Малин. — Здесь все свежее. И во всем видно одно желание — сделать жизнь окружающих чуточку приятнее, чуточку поднапрячься ради другого. Забота — хороший товар. В такие магазины возвращаются».
На кассе устроилась женщина средних лет — полная, с жесткой химической завивкой на обесцвеченных волосах.
Это она?
— Простите, мы ищем Ребекку Стенлунд, — говорит Зак.
— Это заведующая. Спросите в мясном отделе, она маркирует товар.
У мясного прилавка сидит на корточках худенькая женщина в белом халате с красным логотипом магазина, черные волосы убраны под сетку. «Этим халатом она будто защищается от мира, ждет, что кто-то вот-вот набросится на нее со спины, — думает Малин. — Словно все вокруг желают ей зла и потому нужно всегда быть начеку».
— Ребекка Стенлунд? — обращается она к женщине.
Та поворачивается на деревянной подошве своих сабо, озираясь. Малин видит приятное лицо: мягкие черты, карие глаза, искрящиеся дружелюбием, слегка загорелая кожа, щеки, излучающие здоровье.
Ребекка Стенлунд смотрит на Малин.
У нее слегка подрагивает бровь, отчего один глаз будто бы мерцает чистым, ясным светом.
— Я знала, что вы придете, — говорит она, помедлив.
22
— Думаешь, он ждет нас?
Слова Юхана Якобссона повисают в воздухе. Машина заворачивает во двор.
— Несомненно, — отвечает Бёрье Сверд и раздувает ноздри так, что каштановые усы начинают вибрировать. — Он знает, что мы приедем.
Три каменных дома посреди Эстергётландской равнины, в нескольких километрах от дремлющей в утренних сумерках Маспелёсы. Они, кажется, задыхаются, сдавленные сугробами, достающими почти до крохотных окошек. Соломенная крыша прогнулась под тяжестью снега, в левом из домов свет. Недавно построенный гараж с кустарниками по обе стороны зажат между двумя огромными дубами.
«Одно плохо: Маспелёса никогда не просыпается», — думает Юхан.
В открытом пространстве разбросаны несколько крестьянских дворов, с полсотни вилл да небольшие многоквартирные дома. Они из тех обитателей равнины, кого жизнь, как кажется, обходит стороной.
Машина останавливается. Бёрье и Юхан выходят, стучат в дверь.
Из дома напротив слышится мычание, а потом раздается звук, как будто кто-то бьет по металлу. Бёрье оборачивается.
И вот открывается низенькая косая дверь.
Высовывается голова с торчащими в разные стороны волосами.
— Кто вы, черт вас дери?
Борода тоже всклокочена и, кажется, растет по всему лицу, на котором, однако, выделяются живые синие глаза и острый нос.
— Юхан Якобссон и Бёрье Сверд из полиции Линчёпинга. Можно войти? Вы, я полагаю, Рикард Скуглёф?
Голова кивает.
— Сначала удостоверения.
Они роются в карманах, нехотя снимают перчатки и расстегивают куртки, чтобы достать документы.
— Теперь довольны?
Рикард Скуглёф машет рукой, одновременно открывая дверь.
— С даром рождаются. Он воплощается в человеческом теле, чтобы войти в наше измерение.
Голос Рикарда Скуглёфа ясен и чист.
Юхан трет глаза, озирая помещение, которое выполняет в доме роль кухни. Низкий потолок. Мойка завалена грязными тарелками и коробками из-под пиццы. На стенах изображения Стоунхенджа, языческие символы, руны. На Скуглёфе штаны из черной холстины, очевидно домашнего пошива, и еще более черная накидка, ниспадающая наподобие рясы на его толстый живот.
— Дар? — с сомнением переспрашивает Бёрье.
— Да, сила, чтобы видеть и воздействовать.
— То есть сейд?
В доме холодно. Это старая ферма восемнадцатого века, которую Рикард Скуглёф, по его собственным словам, отремонтировал. «Обошлась недорого, зато продувается насквозь».
— Сейд — это название магической техники. Но силу нужно применять осторожно. Она отнимает ровно столько жизни, сколько дает.
— А зачем вам сайт о сейде?
— Для них. Мы утратили истинные корни своей культуры. Но остались мои товарищи…
Рикард Скуглёф, будто крадучись, переходит в другую комнату. Они следуют за ним.
Потертый диван у стены и гигантский черный монитор, установленный на блестящей поверхности покрытого стеклом стола, два жужжащих системных блока на полу, рядом современный офисный стул, обтянутый черной кожей.
— Товарищи? — переспрашивает Юхан.
— Есть люди, которых интересует и сейд, и наши древние пращуры.
— И вы встречаетесь?
— Несколько раз в году. Между встречами мы общаемся на форумах и по электронной почте.
— И много вас?
Рикард Скуглёф вздыхает, останавливается и смотрит на гостей.
— Если хотите поговорить еще, пойдемте со мной в хлев. Я должен накормить Сехримнира[32] и остальных.
Куры кудахчут, бегая из угла в угол. В хлеву еще холодней, чем в доме, стены плохо оштукатурены, в углу прислонена пара беговых лыж.
— Любите ходить на лыжах? — спрашивает Юхан.
— Нет, не люблю.
— Тем не менее у вас пара новых лыж.
Рикард Скуглёф не отвечает, направляясь к животным.
— Здесь черт знает сколько градусов ниже нуля! — возмущается Бёрье. — Ваше зверье замерзнет насмерть.
— Ничего подобного, — отвечает Рикард Скуглёф, бросая курам корм из ведра.
Вдоль стен расположены два стойла — в одном упитанный черный поросенок, в другом бурая с белыми пятнами корова. Оба едят, поросенок довольно хрумкает зимними яблоками, которые только что получил.
— Если вы думаете, что я назову имена товарищей, которые бывают на наших встречах, то ошибаетесь. Вы сами должны найти их. Хотя это ничего вам не даст.
— Откуда вы знаете? — спрашивает Юхан.
— Такими вещами интересуются только безобидные юнцы да одинокие старики, у кого больше ничего не осталось в жизни.
— А вы сами? У вас в жизни есть еще что-нибудь?
Рикард Скуглёф показывает в сторону животных:
— Хозяйство да эти проказники, быть может, дают мне в жизни больше, чем имеют другие.
— Я не это имел в виду.
— У меня дар, — поясняет Рикард Скуглёф.
— Что за дар? Расскажите подробнее.
Бёрье вопросительно смотрит на стоящего перед ним человека в холщовой одежде. Рикард Скуглёф отставляет в сторону ведро с кормом, взирает на них, и лицо его искажает презрительная гримаса. Он отмахивается, явно не желая отвечать на вопрос.
— Значит, сила сейда дает и отнимает жизнь, — говорит Юхан. — И поэтому вы приносите жертвы?
Взгляд Рикарда Скуглёфа становится еще более усталым.
— А-а-а, — отвечает он, — вы полагаете, что это я повесил на дереве Бенгта Андерссона. В это, кажется, не поверил даже журналист, который побывал здесь до вас.
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Приношу ли я жертвы? Да, приношу. Но не так, как вы думаете.
— А как мы думаем?
— Что я убиваю животных и, возможно, людей. Но здесь важна воля жертвующего, само желание что-то отдать. Жертвой может быть даже время, или плоды, или совокупление.
— Совокупление?
— Да, половой акт тоже может быть жертвой. Если совершается открыто.
«То же, чем мы с женой занимаемся один раз в три недели? — думает Юхан. — Ты это имеешь в виду?» И говорит:
— А что вы делали в ночь со среды на четверг?
— Об этом спросите мою подругу, — отвечает Рикард Скуглёф. — Ну что ж, теперь они немного подкрепились. Животные не боятся мороза, они не такие нежные, как некоторые.
Они выходят и видят во дворе молодую женщину. Босоногая, она стоит, подняв руки чуть под углом к телу и, похоже, совершенно не замечая мороза, хотя на ней только трусы и топик. Лицо с закрытыми глазами обращено к небу, волосы лежат черной тенью на белой спине.
— Это Валькирия, — говорит Рикард Скуглёф. — Валькирия Карлссон. У нее утренняя медитация.
Юхан видит, что Бёрье начинает терять самообладание.
— Валькирия! — кричит он. — Пора кончать с «мумбо-юмбо», мы хотим поговорить с вами.
— Бёрье, какого черта!
— Кричи не кричи, это не поможет, — подает голос Рикард Скуглёф. — Она закончит через десять минут. Не нужно мешать ей, подождем на кухне.
Они проходят мимо Валькирии.
Ее карие глаза открыты, но ничего не видят. «Она далеко отсюда», — думает Юхан. Но потом его снова одолевают мысли о деле, о том, что надо сосредоточиться на другом.
Кожа Валькирии Карлссон порозовела от мороза, а пальцы прозрачны, как стекло. Она вдыхает аромат горячего чая, держа чашку у самого носа. Рикард Скуглёф сидит за столом, усмехаясь, довольный, что заставил их ждать.
— Что вы делали вчера вечером? — повторяет вопрос Бёрье.
— Мы были в кино, — отвечает Рикард Скуглёф.
— Новый «Гарри Поттер», — мягким голосом говорит Валькирия Карлссон, опуская чашку. — Чушь, но забавно.
— Кто-нибудь из вас знал Бенгта Андерссона?
Валькирия качает головой, потом смотрит на Рикарда.
— Я не слышал о нем ничего до того, как прочитал в газете. У меня дар. Этим сказано все.
— А в среду вечером? Что вы делали тогда?
— Мы приносили жертву.
— Здесь, дома, — шепчет Валькирия Карлссон, и Юхан смотрит на ее грудь, тяжелую и невесомую одновременно, как бы парящую под тканью, в нарушение законов гравитации.
— Вы не знаете никого в ваших кругах, кто мог бы сделать это? — спрашивает Бёрье. — Язычников, я имею в виду.
Рикард Скуглёф смеется:
— Я думаю, вам пора.
23
Помещение буфета в магазине «Иса», освещенное оранжевым плафоном, выглядит уютным и гостеприимным. Пахнет свежесваренным кофе, а кусочки тосканского торта приятно липнут к зубам.
Ребекка Стенлунд сидит напротив Малин и Зака, по другую сторону стола, покрытого серым ламинатом.
«При таком освещении она выглядит старше, чем есть», — думает Малин. Игра света и тени как будто добавляет Ребекке лет, выделяя почти незаметные морщины. Хотя, может быть, пережитое накладывает отпечаток на ее внешность — ведь такое не проходит бесследно.
— Это не мой магазин, — говорит Ребекка, — хотя владелец и позволяет мне делать все так, как я хочу. Среди магазинов такого типа наш самый доходный в Швеции.
— Retail is detail,[33] — замечает Зак.
— Именно, — отвечает она, и Малин опускает глаза.
Ребекка выдерживает паузу.
«Теперь ты собираешься с духом, — думает Малин, — делаешь глубокий вдох, чтобы начать рассказывать. Ты ведь никогда не отступаешь от задуманного, правда, Ребекка? Как тебе это удается? Как ты ухитряешься держаться намеченного курса?»
— Я решила для себя, что все связанное с родителями и моим братом Бенгтом осталось в прошлом. Что я выше этого. Я ненавидела своего отца, но однажды, сразу как мне исполнилось двадцать два, поняла, что не принадлежу ему и он не имеет права вмешиваться в мою жизнь. Тогда я бросалась в объятия любого парня, пила, курила, нюхала травку, слишком много ела, как будто нарочно изматывала свой организм. Конечно, я бы попробовала и героин, если бы не одумалась вовремя. Мне надоело быть злой, запуганной и недовольной. Это убивало меня.
— Вы решили для себя. Так просто?
Малин сама удивилась, как произнесла эти слова, точно в гневе или приступе зависти, и добавила, увидев, как смутилась Ребекка:
— Извините. Не думала, что это прозвучит так резко.
Ребекка сжимает челюсти, но потом осмеливается продолжить:
— Мне казалось, другого пути нет. Я решила для себя. Если вы меня об этом спрашиваете, другого выхода не было.
— А ваши приемные родители? — интересуется Зак.
— Я порвала с ними. Они — часть прошлого.
«Куда еще заведет нас это дело? — размышляет Малин. — Предстоит ли снова столкнуться с извращенной логикой чувства, по которой можно насмерть замучить человека и повесить его голым на дерево посреди равнины в мороз?»
Ребекка снова стискивает зубы, потом ее лицо расслабляется.
— Это несправедливо, я знаю. Они ни в чем не виноваты, но речь шла о жизни и смерти, и мне надо было идти вперед.
«Только так, — думает Малин. — Что там писал об этом Томас Стернз Элиот? „Not with a bang but a whimper“».[34]
— У вас есть семья?
«Хороший вопрос, — думает Малин. — Но в плохом контексте».
— Сын. Я поздно родила ребенка, мальчику сейчас восемь, и я живу ради него. А у вас есть дети?
— Дочь. — Малин кивает.
— Тогда вы понимаете. Что бы ни случилось, мы должны жить ради них.
— А как его отец?
— Мы в разводе. Как-то раз он поднял на меня руку. Думаю, это вышло случайно, дело было после праздника раков.[35] Но этого хватило.
— Вы поддерживали связь с Бенгтом?
— С братом? Нет, мы совсем не общались.
— А он пытался связаться с вами?
— Да, звонил как-то раз. Но я положила трубку, лишь только узнала его голос. «Тогда» и «сейчас» не должны больше встречаться. Вы не согласны?
— Не совсем, — отвечает Малин.
— А через неделю позвонила какая-то женщина, секретарь социальной службы, Мария, так звали ее, по-моему. И просила меня хотя бы поговорить с Бенгтом, если уж я не хочу с ним видеться. Она рассказывала о его депрессии, об одиночестве. По-видимому, она всерьез заботилась о нем.
— И что из этого вышло?
— Я попросила ее никогда мне больше не звонить.
— Один вопрос, и он тяжелый, — предупреждает Малин. — Ваш отец или Бенгт никогда к вам не приставали?
Ребекка Стенлунд становится на удивление спокойной.
— Нет, ничего такого не было. Иногда мне казалось, будто я что-то забыла, но нет, никогда…
Повисает долгая пауза.
— Хотя что я, собственно, знаю?
Зак поджимает губы.
— Вам неизвестно, были ли у Бенгта враги, такие, о которых нам следовало бы знать?
Ребекка Стенлунд качает головой.
— Я видела снимок в газете. Такое чувство, будто произошедшее имеет отношение ко мне, хочу я того или не хочу. От этого нельзя убежать, да? Как бы ты ни старался, прошлое тебя настигнет, правда? Словно ты привязан к столбу и способен двигаться, но никогда не сможешь освободиться.
— Кажется, вы все прекрасно понимаете, — вздыхает Малин.
— Он ведь был моим братом. Слышали бы вы его голос, когда он звонил! Это был голос самого одинокого человека на земле. И я захлопнула последнюю дверь.
— Ребекка, на кассу! Ребекка, на кассу! — раздается из микрофона.
— Что вы делали в среду вечером?
— Я была в Египте с моим мальчиком. В Хургаде.
«Загар оттуда», — догадывается Малин.
— Решились в последнюю минуту, этот мороз сводит меня с ума. Домой мы вернулись в пятницу.
Допив кофе, Малин встает.
— Думаю, это все, — бормочет она. — Нам пора.
24
Простил ли я тебя, сестра?
Все это началось не с тебя и закончилось не тобой, так есть ли мне что прощать?
Раскладывай же свои яблоки и дай своему ребенку такое воспитание, которого мы с тобой не получили. Дари ему любовь. Он плоть от плоти твоей.
Я не могу позаботиться о тебе, но я могу видеть тебя с высоты своего полета, куда бы ты ни направилась.
Я поглощал доброту Марии Мюрвалль, как скугахольмские бутерброды, копченую колбасу или несоленое масло. Я мылся, как она велела, гладил свои брюки, слушал, чему она учила меня, верил тому, что она говорила о человеческом достоинстве. Но о каком достоинстве можно вести речь после того, что случилось в лесу?
О какой чистоте?
О какой ясности?
Ты должна парить здесь со мной, Мария, а не сидеть там, где ты сидишь.
Разве я не прав?
Не должны ли мы все парить, лететь вперед, как та зеленая «вольво» там, внизу, на шоссе.
Пригород Хюскварна.
Здесь производятся газонокосилки, винтовки на лося и дробовики для всех видов охоты. Спичечный тролль[36] глядит на озеро Веттерн. Здесь утонул Йон Бауэр,[37] когда паром потерпел крушение. И никакой тролль не спас его.
Не в этих ли дремучих лесах обрел покой его дух?
В салоне никакой музыки — Малин запретила. Двигатель заикается, напоминая ей, что пора зарядить мобильник.
Снова голосовая почта.
«У вас новое сообщение».
«Это Эбба Нильссон, секретарь социальной службы. Вы искали меня вчера вечером. Сегодня я дома в первой половине дня. Перезвоните мне, если вам не трудно».
Используйте информацию, перезвоните по номеру…
Один, два, три сигнала.
Опять никого? Нет…
— Да. С кем я говорю?
Писклявый голос, словно между связками отложился жир. Малин представляет себе Эббу Нильссон: низенькая полная дама пенсионного возраста.
— Это Малин Форс из полиции Линчёпинга. Мы пытались связаться с вами.
Пауза.
— И чего вы хотите?
— Речь идет о Бенгте Андерссоне. Одно время вы опекали его?
— Да, это так.
— И вы знаете, что случилось?
— Конечно, это не обошло меня стороной.
— Вы можете рассказать о Бенгте?
— Боюсь, совсем немного. К сожалению. Когда я работала в Юнгсбру, он приходил только один раз. Невероятно застенчивый, но это неудивительно, ему ведь приходилось непросто, потому он и был таким… каким был.
— Вам нечего сообщить нам?
— Нет, думаю, совершенно нечего. Но девушка, которая сменила меня, хорошо с ним ладила, как я слышала.
— Мария Мюрвалль?
— Да.
— Мы пытались на нее выйти, но по номеру, который нам дали, постоянно включен автоответчик. Вы знаете, где она сейчас?
Молчание.
— Милая моя… — выговаривает наконец Эбба Нильссон.
— Простите?
Зак отрывает взгляд от дороги, смотрит на Малин.
— Вы хотели что-то сказать?
— Мария Мюрвалль была изнасилована в лесу возле озера Хюльтшён несколько лет назад. Вы не знали этого?
Рита Сантессон: «Мне не хотелось бы больше говорить об этом».
Мария.
Мюрвалль.
Знакомое имя.
Дело, которым занималась полиция Муталы. «Теперь я припоминаю, — думает Малин. — Надо собраться с мыслями».
Мария Мюрвалль.
И она была единственной, кто заботился о тебе, Бенгт?
Даже твоя сестра отвернулась от тебя.
Логика чувств.
Трасса подернута снежной дымкой.
Она была единственной, кто заботился о тебе, Бенгт?
И ее изнасиловали.
25
Лес в окрестностях озера Хюльтшён.
Поздняя осень 2001 года
Что ты делаешь в лесу одна?
Молодая девушка, так поздно?
Сейчас нет грибов, и ягодный сезон закончился.
Смеркается.
Стволы деревьев, ветки, побеги, кроны, листва, мох и черви — здесь все готово к нападению. Детоубийцы. Насильники. Это мужчина? Или их несколько? Или это женщина, женщины?
Они выслеживают тебя, пока ты бредешь по лесу, свистят. Глаза. Они видят тебя. Но не ты их.
Или эти глаза выжидают?
Сейчас темнеет быстро, но тебе не страшно. Ты можешь пройти по этой тропинке не глядя, ориентируясь лишь по запахам.
Змеи, пауки, тлен.
Лось?
Косуля?
Ты оборачиваешься. Тишина и покой опускаются на лес.
Ты продолжаешь путь. Твоя машина ждет в стороне, на дороге.
Скоро перед тобой в последних лучах заката откроется озеро Хюльтшён — во всей своей красе.
А потом наступит тьма.
Ты слышишь шаги за спиной.
Кто-то сбивает тебя с ног, прижимает к мокрой земле. Ты чувствуешь на своей шее его сладковатое теплое дыхание. Как много рук, какая сила…
Неважно, что ты делаешь. Змееподобные пальцы, паучьи лапы, они проникают под твою одежду, черные корни деревьев душат твой крик, навсегда погружая тебя в тишину земли.
Черви ползут по внутренней стороне твоих бедер, выставляют свои щупальца, разрывают твою кожу и внутренности.
Как тверд и груб древесный ствол?
Мясо, кожа и кровь могут быть так же тверды?
Нет.
Не так.
Никто не слышит твоего крика в царстве черных растений. И если бы даже кто-то слышал, пришел бы он?
Никто и не слушает.
И нет никакого спасения.
Только сырость, холод и боль, и что-то неотвратимое, твердое, что словно горит в тебе, разрывая в клочья все то, что есть ты.
Тишина навеки.
Спи и смотри сны, просыпайся.
Сладковатое дыхание — это воздух, который вдыхаешь ты в ночном лесу. Голое тело, кровоточащее тело, обреченное блуждать на поляне вокруг озера Хюльтшён.
Ты так далеко забрела…
Огни растут, ослепляют, разъедают.
Или это смерть пришла? Или зло?
Снова?
Оно ведь являлось вчера, оно бежало вперед на своих быстрых ногах, потаенное, как то, что прячется за покрытым шрамами кустарником.
26
— Мария Мюрвалль…
Зак трет пальцами руль.
— Я знал, что слышал это имя раньше. Черт возьми! Это же она была изнасилована возле Хюльтшёна четыре года назад. Действительно кошмар…
— Этим занималась полиция Муталы.
— Все случилось как раз на границе, но они взяли дело. Ее нашли на дороге, в нескольких милях от места преступления. Нашел водитель грузовика, он вез гравий на стройку в поселок Челльму. Она была совершенно разбита, разодрана.
— Преступника так и не нашли?
— Нет. По-моему, об этом говорили даже в программе «Разыскивается». Нашли только ее одежду и место, где все это случилось.
Малин закрывает глаза и слушает гул мотора.
Человек повешен на дереве.
Опекавшая его сотрудница социальной службы изнасилована четыре года назад — в лесу.
Калле-с-Поворота. Развратный, сумасшедший отец. Мужчина-что-надо.
Все они всплывают в расследовании один за другим, но без всякой видимой связи.
Случайность?
Опробуем теорию на Заке.
— Бенгт Андерссон. Он должен был как-то отметиться в том деле, если она так сильно заботилась о нем, как все говорят.
— Конечно, — кивает Зак и указывает пальцем в сторону встречного автомобиля. — Вот такой «сеат» я хотел бы иметь. Сейчас компанией владеет «Фольксваген».
«Я знаю, — думает Малин. — Янне тысячу раз говорил мне об этом, когда заводил речь про свои автомобили».
— Тебе не нравится твоя машина?
— Мюрвалль, — продолжает Зак. — Не знакомо ли тебе это имя по какому-нибудь другому делу?
Малин качает головой.
— Мюрвалль, Мюрвалль… — в задумчивости бормочет Зак.
— Я позвоню Шёману и попрошу его взять бумаги того расследования у полиции Муталы. Нордстрём организует все в мгновение ока.
Как раз когда они заворачивают на подъездную дорогу к полицейскому участку, звонит третий по списку секретарь социальной службы — женщина, которая пришла после Марии Мюрвалль.
— Это было ужасно. Просто кошмар! Бенгт Андерссон был подавлен, молчалив, на встрече со мной он бормотал только: «Чистота? Какое это имеет значение? Какое это имеет значение?» Если честно, я никогда не связывала это с изнасилованием. Но если связь все-таки есть? Насильник? Бенгт Андерссон? Он был не такой. Женщины чувствуют это.
Малин выходит из машины и невольно морщится, когда мороз всеми своими градусами впивается ей в кожу.
— В любом случае, я никогда не была ему так близка, как Мария Мюрвалль. По-видимому, она занималась им больше, чем того требовали служебные обязанности. Можно сказать, она сделала из него человека. Она была для него как сестра родная, насколько я понимаю.
Они входят в здание полицейского участка.
Шёман стоит у стола Малин, размахивая кипой факсов. Коллега из Муталы, очевидно, не стал откладывать дело в долгий ящик.
По голосу Свена Шёмана чувствуется, что он сильно взволнован. Малин и Зак стоят рядом. Малин хочется сказать Свену, чтобы он успокоился, подумал о сердце.
— Бенгт Андерссон значится среди тех, кого полиция Муталы допрашивала по делу об изнасиловании Марии Мюрвалль. У него не было алиби на ту ночь. Но ничто из найденного на месте преступления не указывало на него. Да и ничто другое тоже. Он был всего лишь одним из двадцати пяти клиентов Марии Мюрвалль, которых допрашивали.
— Действительно кошмарное чтение. — Шёман протягивает бумаги Заку.
— Реальность всегда превосходит любой вымысел, — отвечает тот.
— Она, насколько я понимаю, сестра братьев Мюрвалль, — продолжает Шёман. — Банда придурков с равнины, с которыми было немало проблем. Хотя это старая история.
— Мюрвалли! Знаю, как же! — вспоминает Зак.
— Это, наверное, было до меня, — говорит Малин.
— Крутые парни, — продолжает Зак. — Настоящие негодяи.
— Вроде в лесу нашли одежду и на ней следы ДНК, но недостаточно для идентификации.
— А на ее теле?
— Той ночью шел дождь, — отвечает Шёман. — Все было смыто. По-видимому, использовали ветку. Она была вся исколота, изранена внутри… как здесь написано. Неизвестно, была ли она изнасилована и каким-нибудь другим способом. Это так и не установили.
Малин чувствует боль.
Она поднимает ладонь, останавливая Шёмана.
Это значит: достаточно.
Мария Мюрвалль.
Одинокий ангел.
Вот каким было твое любовное свидание…
Малин слушает свой внутренний голос. Хочет исхлестать саму себя до посинения. Не будь циничной, Форс, не будь циничной, никогда не будь ци… или я уже такая? Циничная?
— Мария так и не пришла в себя по-настоящему, — продолжает Шёман. — Согласно последним записям, еще до того, как дело сдали в архив, она впала в какое-то психотическое состояние и сейчас, видимо, находится в закрытом отделении больницы Вадстены. Здесь записан адрес.
— Уже проверяли? — спрашивает Малин.
— Пока нет, но это легко сделать, — отвечает Зак.
— Сошлитесь на срочное полицейское расследование, если какой-нибудь врач упрется.
— И мы получили сообщение от Карин, — добавляет Зак. — Ближе к вечеру у нее может что-то выясниться относительно отверстий в стекле.
— Отлично. Она, конечно, позвонит, как будет готова. Ну а как со скандинавскими древностями? — спрашивает Малин, выдержав паузу.
— Бёрье и Юхан все еще работают. Они допрашивали Рикарда Скуглёфа и его подругу Валькирию Карлссон, пока вы были в Йончёпинге. Продолжают сбор информации.
— Допрос что-нибудь дал?
— Никогда нет уверенности в том, — говорит Шёман, — что ты слушаешь достаточно внимательно. Потому что люди иногда говорят больше, чем знают. Сейчас мы устроим им более тщательную проверку.
На другом конце провода отвечает женщина-врач.
— Да, Мария Мюрвалль находится здесь, у нас. Да, вы можете встретиться с ней, но никаких мужчин. И чем меньше людей, тем лучше. Конечно, если вы придете одна, это будет лучше всего.
Потом долгая пауза.
— Только не стоит ждать, что Мария вам что-нибудь скажет.
27
Звонок от Карин Юханнисон раздался в тот момент, когда Малин села в машину и уже успела повернуть ключ зажигания.
— Малин? Это Карин. Кажется, теперь я знаю, что это за отверстия в стекле.
Малин откидывается на промерзшую спинку сиденья. Всего за несколько секунд она успевает почувствовать, как холодный воздух распространяется по салону, и ее охватывает непреодолимое желание снова оказаться в тепле.
— Извини, мне надо только завести автомобиль. Ну и что ты выяснила?
— Я могу со всей уверенностью сказать, что это не камень и не галька, для этого края отверстий слишком ровные. Кроме того, образовавшиеся трещины слишком велики для таких маленьких отверстий; такого, мне кажется, не могло бы быть, если бы кто-то кидал камни через окно.
— И что же это, по-твоему?
— Это пулевые отверстия.
Дырочки в стекле.
Еще одна дверь.
— Ты уверена?
— Как никогда. Настоящее мелкокалиберное оружие. На стекле не осталось ни пороха, ни сажи, но они остаются далеко не всегда. Это могло быть и пневматическое ружье.
Малин молчит, в голове крутятся мысли.
Мелкокалиберное оружие.
Кто-то пытался застрелить Бенгта Андерссона?
Пневматическое ружье.
Детская шалость.
Но техники не обнаружили в квартире ничего необычного. На его теле нет пулевых отверстий.
— Ну а если это были резиновые пули, могли бы они стать причиной каких-либо травм на теле Бенгта Андерссона?
— Нет, они вызывают очень специфические кровотечения, я бы заметила.
Слышен гул мотора.
Малин, одна в машине, едет к утратившей дар речи, изнасилованной женщине.
— Малин, что ты молчишь? — доносится из трубки голос Карин. — Ты не сошла с дороги?
— Только в мыслях, — отвечает Малин. — Ты не могла бы вернуться в квартиру Бенгта Андерссона и поискать там еще? Возьми с собой Зака.
— Я знаю, что нужно искать, — со вздохом отвечает Карин. — Положись на меня.
— Ты сообщила Свену Шёману?
— Он уже получил письмо по электронной почте.
«Что же это такое, чего мы никак не можем увидеть?» — спрашивает себя Малин, нажимая на педаль газа.
«Эта женщина из полиции, — думает главврач Шарлотта Ниима, — вероятно, лет на десять моложе меня. И как она смотрит — у нее пронизывающий, внимательный и в то же время усталый взгляд, как будто она хочет надолго уйти в отпуск, чтобы отдохнуть от всего, что связано с этим морозом. То же самое и внешне: тело ее подтянутое, но движения тяжеловаты, в них есть какая-то неуверенность, что ли. И эта деловитость, за которой она прячется.
Она симпатичная, хотя, наверное, ненавидит это слово. И что за этим пронизывающим взглядом, что я вижу там? Она печальна? Но это, должно быть, связано с ее работой. С чем только ей не приходится сталкиваться! Совсем как мне. А ведь все эти гадости могут опрокинуть и наш собственный мир, сломать его, будто какой-нибудь прибор».
Очки в черной оправе придают ей строгий вид, однако в их сочетании с пышной шевелюрой красных волос, завитых при помощи перманента, есть что-то безумное. «Вероятно, нужно и самой быть сумасшедшей, чтобы работать с сумасшедшими», — думает Малин.
В главвраче Ниима есть что-то маниакальное, как будто она использует недуги пациентов, чтобы держать под контролем свои собственные, скрытые.
Или это предубеждение?
Больница занимает три белых здания за оградой, построенных на окраине Вадстены в пятидесятые годы. Из окон кабинета доктора Ниима Малин видит покрытое льдом озеро Веттерн, промерзшее почти до самого дна. Застывшие рыбы словно задыхаются подо льдом, пытаясь пробиться сквозь неподатливую коварную массу. «Скоро мы не сможем здесь дышать!» — словно взывают они. Слева, за забором, Малин различает красные кирпичные стены женского монастыря Святой Биргитты, который стоит здесь с 1346 года и до сих пор действует.
Биргитта. Молитвы. Святые. Монастырская жизнь.
Она поехала одна. Как женщина к женщине. На этот раз Зак не протестовал.
Старый сумасшедший дом, хорошо известный на равнине как своего рода свалка для отбросов человеческого общества, перестроен в кондоминиум. На пути в город Малин проезжала мимо белых зданий в стиле модерн. Белый фасад сумасшедшего дома казался серым, а деревья парка вокруг клонили черные ветви, слышавшие по ночам крики стольких безумцев.
Как можно жить в таком доме?
— Мария здесь почти пять лет. Все это время она не говорила.
В голосе доктора Ниима слышится сочувствие и притом некая отстраненность.
Итак, Мария — бессловесная, безголосая.
— Она не выражает абсолютно никаких желаний.
— Она может себя обслуживать?
— Да, она моется и ест. Посещает туалет. Но не говорит и отказывается выходить из своей комнаты. Первый год мы следили за ней: она несколько раз пыталась повеситься на батарее. Но сейчас, как нам кажется, не суицидальна.
— Смогла бы она жить за пределами больницы, если бы кто-то ухаживал за ней?
— При любых попытках вывести ее из комнаты у нее начинались судороги. Я никогда не видела ничего подобного. Она совершенно не в состоянии, насколько мы можем судить, находиться в обществе. Все ее тело сейчас словно протез, заменяющий то, что было утрачено. Что касается личной гигиены, здесь она аккуратна. Надевает одежду, которую мы ей даем.
Доктор Ниима делает паузу, прежде чем продолжить:
— Она ест три раза в день, но не так много, чтобы прибавлять в весе. За ней ведется тотальный контроль, но контакта с нею у нас нет. Наших слов она как будто не слышит. Такой симптом можно наблюдать у людей, страдающих тяжелыми формами аутизма.
— Ей дают какие-то лекарства?
— Мы пробовали. Но ни один из наших химических ключей не подошел к замку на душе Марии Мюрвалль.
— А почему «никаких мужчин»?
— При виде мужчины у нее тоже начинаются судороги. Не всегда, но иногда. Время от времени ее посещают братья. Встречи с ними она переносит нормально. Братья — не мужчины.
— Еще кто-то ее посещает?
— Мать отстранилась. — Доктор Ниима качает головой. — А отец давно умер.
— У нее есть телесные повреждения?
— Все зажило. Но ей пришлось удалить матку. Штуки, которые запихивали в нее там, в лесу, оставили серьезные раны.
— Она испытывает боль?
— Физически? Нет, не думаю.
— С ней проводится какая-то терапия?
— Вы должны понять одну вещь, фрекен Форс: проводить терапию с человеком, который не говорит, практически невозможно. Молчание — мощнейшее оружие души.
— То есть вы полагаете, при помощи молчания ей удается как бы оставаться в себе?
— Стоит ей заговорить — и она окажется вне себя.
— Мария живет здесь.
Служительница осторожно открывает дверь, третью из семи по коридору на втором этаже. Линолеум блестит в свете люминесцентных ламп; из комнаты слышен тихий стон. В отличие от дома престарелых здесь используют парфюмированные моющие средства. Лимонник — совсем как на курорте в линчёпингском отеле «Экуксен».
— Если не возражаете, я войду первой и предупрежу о вашем визите.
Через приоткрытую дверь Малин слышит голос служительницы; та словно разговаривает с ребенком.
— Здесь девушка из полиции, она хочет побеседовать с тобой. Ты не против?
Никакого ответа.
— Теперь можете войти, — говорит служительница, вернувшись.
Малин распахивает дверь на всю ширину и проходит через маленькую прихожую. Дверь в туалет и душ приоткрыта.
На столе поднос с обедом, съеденным наполовину. Телевизор на табуретке, на полу сине-зеленый тряпичный коврик, на стенах плакаты с изображениями мотоциклов и гоночных машин.
В углу на постели сидит Мария Мюрвалль. Она кажется неким бесплотным существом, тщательно расчесанные светлые пряди заслоняют лицо.
«Ты похожа на меня, — думает Малин, — слишком похожа».
Женщина на постели не обращает на Малин никакого внимания. Она сидит неподвижно, свесив ноги в желтых гетрах на пол и опустив голову. Ее глаза открыты, пустой и в то же время удивительно ясный взгляд устремлен в пространство.
За окном густо идет снег. Опять. Может, наконец потеплеет на несколько градусов.
— Меня зовут Малин Форс. Я инспектор из полиции Линчёпинга.
Никакой реакции.
Тело Марии — сама тишина и покой.
— На улице холодно, — продолжает Малин. — И ветрено.
«Идиотка», — упрекает она себя мысленно.
Губы Марии Мюрвалль беззвучно шевелятся.
Лучше сразу к делу — пан или пропал.
— Один из ваших клиентов в социальной службе Юнгсбру найден убитым.
Мария Мюрвалль моргает, но не двигается.
— Это Бенгт Андерссон. Его нашли повешенным на дереве. Голого.
Мария дышит, снова моргает — только это и показывает, что она жива.
— Это с Бенгтом ты столкнулась тогда, в лесу?
Движение ногой, чуть заметное через желтую хлопчатобумажную ткань.
— Я знаю, ты помогала Бенгту. Старалась, чтобы с ним все было хорошо. Ведь так?
За окном все идет снег.
— Почему ты так о нем заботилась? Почему он не был таким, как все? Или ты тоже была против всех?
Что значит это молчание?
Уходи же и не приходи сюда со своими вопросами. Разве ты не понимаешь, что я умираю, когда слышу об этом, или, наоборот, я буду вынуждена жить, если отвечу тебе. Я дышу — только и всего. Но что значит дышать?
— Ты знаешь о Бенгте Андерссоне что-нибудь такое, что могло бы помочь нам?
Зачем я продолжаю? Потому что ты знаешь…
Мария Мюрвалль отрывает одну ногу от кровати, переводя свое худенькое тело в лежачее положение, взгляд ее перемещается вместе с телом.
Совсем как у животного.
Расскажи, что ты знаешь, Мария. Воспользуйся даром речи.
Черный хищник в лесу. Это он, человек с заснеженной, продуваемой всеми ветрами равнины?
Возможно ли?
Нет.
Или?
Вместо этого Малин спрашивает:
— Зачем, как ты думаешь, кому-то понадобилось вешать Бенгта Андерссона на дереве посреди Эстергётландской равнины в самую холодную из зим на памяти людской?
Зачем, Мария? Или он получил недостаточно?
И кто стрелял в его окно?
Мария закрывает глаза, потом открывает снова. Она дышит, безропотно, словно дышать или не дышать давно уже для нее не важно. Словно все это не имеет никакого значения.
Ты пытаешься меня утешить?
Что видишь ты, Мария, чего не видят другие? Что ты слышишь?
— Красивые плакаты, — говорит Малин и выходит из комнаты.
В коридоре она останавливает служительницу со стопкой оранжевых махровых полотенец в руках.
— Плакаты на стенах, похоже, не ее. Их повесил кто-то из братьев?
— Да. Вероятно, они думали, что это напомнит ей о доме.
— И часто к ней ходят братья?
— Только один — Адам, младший. То и дело появляется, словно мучается угрызениями совести, что она здесь.
— Доктор Ниима говорила, что приходили и другие.
— Нет, только один. Я уверена.
— Они были особенно дружны?
— Этого я не знаю, но, наверное, да, коли приходит именно он. Как-то раз явился и другой, но так и не смог войти в комнату. Сказал, что там слишком душно, а он не выносит этого. Что там как в шкафу — вот что он сказал. Да и ушел.
28
— Это ты, Бенгт?
— Я здесь, Мария. Ты видишь меня?
— Нет, я не могу тебя видеть, но я слышу, как ты летаешь.
— Я всегда думал, что делаю это бесшумно.
— Это так. Но ты же знаешь, я слышу то, чего не слышат другие.
— Ты испугалась тогда?
— А ты?
— Думаю, да, но вскоре я понял, что страх бесполезен, и он исчез. Ведь это так?
— Да.
— Тебе еще не поздно, Мария. С тобой все не так, как со мной.
— Не говори этого.
— Но это так.
— Кто из нас пахнет одиночеством? Ты или я?
— Ты имеешь в виду запах яблок? Это не ты и не я, это кто-то другой.
— Кто же?
— Они, она, он — все мы.
— И тот, кто стрелял в твое окно?
— Я помню, как вернулся домой и обнаружил отверстия. Я знал, что они от пуль.
— Но кто стрелял?
— Я думаю, все стреляли.
— Их было много?
— Если все мы одно, нас всегда много, ведь так, Мария?
Зак стоит в трех метрах от Карин Юханнисон, в дверях между кухней и гостиной в квартире Бенгта Андерссона. Куртка на Заке застегнута, квартира отапливается, но слабо — только чтобы не замерзла вода и трубы не лопнули. Такое часто случается в эту зиму, особенно под Рождество, когда богачи отправляются в Таиланд и в другие привычные им места, бросая котлы на произвол судьбы, а потом — бах! — и затопление.
«Теперь мне наверняка поднимут страховую премию», — думает Зак.
Карин на коленях ползает по полу, нагибается к дивану, ковыряет пинцетом дырку в обивке.
Зак ничем не может ей помочь. Но когда она наклоняется вперед или откидывается назад, то так, то этак, она очень даже ничего. Ладно скроена и способна будить желания.
Сюда они ехали молча — он всем видом дал ей понять, что обойдется без болтовни. И Карин сосредоточилась на дороге, но все же как будто хотела заговорить, словно и раньше ожидала возможности остаться с ним наедине.
Дырка, в которой копается Карин, находится как раз напротив окна, но она может быть от чего угодно.
Карин возится, ковыряет рукой и вдруг с торжествующим видом вытаскивает пинцет.
— Если поискать еще немного, даю слово, обнаружится пара таких штучек, — говорит она, протягивая к нему руку с пинцетом.
Малин в своей квартире, на кухне. Пытается выкинуть из головы образ Марии Мюрвалль, сидящей на постели в мрачной комнате.
— Вы с Заком продолжайте работать по линии Мюрваллей. Но если линия Асатру потребует новых ресурсов, мы переместим фокус туда, — сказал на летучке Карим Акбар.
Можно подумать, что вся цепочка вплоть до Марии Мюрвалль — его идея. Хорошо, однако, что можно сконцентрироваться на чем-то одном.
— Мы должны поднять дела братьев Мюрвалль, — говорит Свен Шёман. — А ты, Юхан, вместе с Бёрье продолжай работать с Асатру. Загляните под каждый рунический камень. Мы снова должны допросить соседей Бенгта Андерссона: не видели ли они или не слышали чего необычного. Теперь ведь мы знаем, что окно было прострелено.
Пули оказались резиновыми.
Три такие зеленые штуки Карин и Зак нашли в диване. Очевидно, по одной на каждое отверстие. Размер подходящий для мелкокалиберного оружия; предположительно это было легкое охотничье ружье, называемое «салонным».
Резиновые пули.
Это слишком для детской шалости, и все-таки не всерьез. Так нельзя убить, но можно причинить боль, помучить. Как мучили тебя, Бенгт.
Резиновые пули.
По утверждению Карин, невозможно установить, из оружия какого типа они были выпущены.
— Рельеф ствола отпечатался недостаточно четко — резина эластичнее металла.
Малин подливает немного красного вина в кипящую кастрюлю.
— Сегодня мы допросили нескольких фанатиков Асатру в районе Чиндатрактен, — рассказывал Юхан Якобссон. — Насколько можно судить, все из числа безобидных, так сказать интересующихся историей. Университетский профессор, пожалуй, один из самых тщеславных людей, с какими я когда-либо сталкивался, но, похоже, совершенно чист. Приятель, с которым он живет, Магнус Юпхольм, подтвердил инцидент с кошками.
Тщеславный?
При этих словах Карим невольно вскинул бровь, точно упомянули заболевание, которое он подозревает у себя.
А Малин мысленно рассмеялась.
Юхан принес «Афтонбладет» и «Экспрессен». Ничего по делу. Только теперь целые страницы с большим портретом профессора, «эксперта по древнескандинавским ритуалам», посвящены описанию Мидвинтерблота и намекам на то, что старинный обряд мог быть проведен вновь.
Свен молчал почти все заседание.
Малин помешивает жаркое, вдыхает запах белого перца и лаврового листа.
Это убийство скоро выветрится из общественного сознания. Новое преступление, очередной скандал с участием телезвезд, игры политиков, смертоносные бактерии в Таиланде.
Чего стоит труп, повешенный на дереве, если он уже «не нов»? Мяченосец, ты больше не актуален.
Тщеславие.
Дверь в прихожей открывается.
Это пришла Туве.
— Мама, ты дома?
— Я на кухне.
— Ты готовишь? Я ужасно голодна.
— Будет жаркое.
На щеках у Туве яркий румянец. Самый красивый в мире.
— Я встречалась с Маркусом. Мы перекусили у него дома.
Просторная вилла медицинских работников в престижном районе Рамсхэлл. Папа — хирург, один из тех, кто носит зеленое с белым, мама — врач в отоларингологической клинике. Чета медиков — обычное явление в этом городе.
Звонит телефон.
— Ответь ты, — говорит Малин.
— Нет, лучше ты.
Малин вынимает трубку из настенного держателя.
— Малин, это папа. Как вы?
— Хорошо. Только холодно. Я полила цветы.
— Я звоню не поэтому. Все хорошо?
— Я же сказала. Все хорошо.
— У вас холодно? Я смотрел шведское телевидение, в Стокгольме в квартирах лопаются батареи.
— Тут такое тоже случается.
«У него есть что-то на уме, — думает Малин. — Интересно, он скажет?»
— Ты что-то хотел?
— Я всего лишь хотел… ну ладно, об этом в другой раз.
Хватит вилять хвостом, хватит.
— Как хочешь, папа.
— Туве там?
— Как раз пошла в туалет.
— Ну ладно, это не важно. До следующего раза, пока.
Малин стоит с телефонной трубкой в руке. Никто не прерывает разговор так внезапно, как папа. Только что он был — и вот его нет.
Туве возвращается на кухню.
— Кто это был?
— Дедушка. Немного странный.
Туве садится за стол, смотрит в окно.
— Одежда, которую носят в это время года, уродует людей, — размышляет она. — Они выглядят толстыми.
— Знаешь, — говорит Малин, — еды хватит и на Янне. Может, позвоним ему и спросим, не хочет ли он прийти?
Внезапно возникает желание увидеть его. С чего-то начать. Просто почувствовать его рядом.
Туве сияет.
— Позвони ты, — предлагает Малин, и улыбка исчезает с лица дочери так же быстро, как появилась.
— Нет, мама, ты должна сделать это сама.
Один, два, три, четыре, пять сигналов. Ответа нет.
Вероятно, он дежурит на пожарной станции.
— У него сегодня выходной, — отвечает телефонистка со станции.
Мобильный.
Говорит автоответчик: «Привет, вы позвонили Янне. Оставьте сообщение после сигнала, я вам перезвоню».
Оставлять сообщение Малин не стала.
— Не дозвонилась?
— Нет.
— Тогда поедим вдвоем.
Туве спит в своей постели.
На часах чуть больше половины двенадцатого. Малин лежит на диване, сна ни в одном глазу.
Она поднимается, заглядывает в комнату Туве. Смотрит на совершенное девичье тело под одеялом — грудная клетка ходит вверх-вниз.
Братья — не мужчины.
Жизнь переполняет ее.
Теплый, теплый кровоток. Другое тело, в другой постели.
«Янне, Янне, где ты? Приезжай сюда. Возвращайся. На плите жаркое».
«Я не могу. Я везу мешки с мукой по горам в Боснии, дорога под нами заминирована. Им здесь нужна моя помощь».
«Ты нужен нам».
Малин уходит в свою спальню. Она сидит на краю постели, когда раздается звонок мобильника.
Она бросается в зал, находит телефон в кармане куртки.
— Это Даниэль Хёгфельдт.
Гнев сменяется отчаянием, отчаяние надеждой.
— У тебя есть что-нибудь для меня?
— Да нет, ничего нового. А что ты имел в виду?
— Я имел в виду, что всегда рад видеть тебя, когда тебе это удобно.
— Ты дома?
— Да. Ты придешь?
Малин смотрится в зеркало в прихожей, и чем дольше она смотрит, тем сильнее расплываются контуры лица.
Почему она должна отказывать себе?
Она шепчет в трубку: «Я приду, приду, приду».
Прежде чем выйти из квартиры, выпивает стакан текилы.
На полу в прихожей записка:
Туве!
Звонили с работы, я доступна по мобильному.
МамаЧасть 2 Братья
[В темноте]
Это вы?
С любовью?
Эскизы, рисунки, моя маленькая черная книжка с маленькими черными словами, снимки: сегодняшнего дня, будущего, прошлого, крови.
Я не сумасшедший. Это всего лишь часть меня не выдержала и трещит по швам. Что толку говорить с психологами? Там, дома, в гардеробе, лежит дневник, там крошки печенья, яблоки, полный почтовый ящик, и там то, что нужно сделать, то, что уже сделано, и то, что нужно сделать еще раз.
Впустите меня, послушайте, здесь, снаружи, холодно. Впустите меня.
Почему вы смеетесь? Ваш смех разрывает меня на части.
Здесь холодно и сыро.
Я хочу домой. Но теперь мой дом здесь.
Я только хочу играть с вами.
Хочу вашей любви.
Только и всего.
29
Восьмое февраля, четверг
Спальня Даниэля Хёгфельдта.
Что я здесь делаю?
Это его руки на моем теле? Он полон энергии, решителен, обнимает, щекочет, шлепает. Он бьет меня? Пусть бьет. Пусть немного поцарапает, ведь это приятно — причинить кому-то немного боли.
Я поддаюсь. Будь что будет. У него крепкое тело — этого достаточно, мне плевать, кто он.
Серые стены. Мои руки у хромированного изголовья кровати, он кусает мне губы, его язык у меня во рту, и он ходит, ходит.
Пот. Тридцать четыре градуса ниже нуля.
Туве, Янне, папа, мама, Мяченосец, Мария Мюрвалль.
Даниэль Хёгфельдт на мне. Ты решил, ты думаешь, я твоя, Даниэль? Мы можем сделать вид, что это так, если хочешь.
Это причиняет боль. И это прекрасно.
Она перенимает инициативу, откатывается от него, прижимает его к матрасу. Залезает сверху.
Давай, Даниэль, давай.
Я исчезаю в этой приятной боли. И это чудесно.
Что еще нужно человеку?
Малин лежит рядом с Даниэлем, потом разворачивается, садится. Смотрит на мускулистое тело спящего. Поднимается, одевается и выходит из квартиры.
Пять часов. Линчёпинг пуст.
Она направляется в полицейский участок.
«Малин, я слышал, что ты уходишь, я не спал, но ты не заметила.
Я хотел остановить тебя, там ведь, на улице, такой дьявольский холод, я хотел сказать: хочу, чтобы ты осталась. Даже самым жестким, самым суровым на вид нужно тепло. Оно нужно всем.
В тепле нет ничего необычного.
Тем не менее оно — все.
Я копаю, я роюсь в жизни людей, пытаясь раскрыть их тайны.
В этой суете нет тепла, но тем не менее я люблю ее.
Как я стал таким?»
Братья Мюрвалль.
Адам, Якоб, Элиас.
Их документы лежат перед Малин на письменном столе. Она рассеянно листает бумаги, читает, пьет кофе.
Три человека. Одного поля ягоды.
Список преступлений братьев Мюрвалль читается как протокол боксерского поединка.
Первый раунд. Мелкие кражи в магазинах, гашиш, угнанные мопеды, вождение без прав, воспрепятствование исполнению должностных обязанностей, взлом киоска, ограбление грузовиков фабрики «Клоетта».
Второй раунд. Нанесение телесных повреждений, драка в пивной.
Третий раунд. Браконьерство, вымогательство, кража лодки, незаконное хранение оружия.
«Салонное» ружье, Хюскварна.
Такое впечатление, что на этом матч закончился.
Последние записи в делах — десятилетней давности.
Так что же случилось с братьями Мюрвалль? Успокоились? Создали семьи? Встали на путь исправления? Поумнели? Во всяком случае, не последнее. Такого не бывает. Гангстеры всегда остаются гангстерами. Кто из них хуже?
Младший брат, Адам. Курильщик гашиша и склонный к насилию любитель техники, если верить бумагам. До крови избил гонщика в Манторпе, не оправдавшего его надежд и не выигравшего заезд.
Ставка? Конечно. Три месяца в исправительном учреждении города Шеннинге. В феврале убил двух лосей. Месяц в Шеннинге. Избиение подруги. Предполагается попытка изнасилования. Шесть месяцев.
Средний брат, Якоб. Неграмотный, если верить бумагам — страдает дислексией.[38] Склонен к буйству.
Что же натворил этот? Ударил врача в седьмом классе, повалил на землю своего ровесника возле киоска в Юнгсбру. Специализированная школа. Курил гашиш на школьном дворе по возвращении, сломал челюсть полицейскому при попытке его задержать. Шесть месяцев в Норрчёпинге, вымогательство у торговцев в Буренсберге, вождение в нетрезвом состоянии. Год в Норрчёпинге. Потом ничего. Как отрезало.
Старший брат, Элиас. Тот еще экземпляр! Имел что-то вроде таланта к футболу, в тринадцать лет играл во втором составе, пока не был исключен из клуба за ограбление киоска «Юнгсбру ИФ». Совершил непредумышленное убийство, когда, будучи пьяным, врезался в дерево. Шесть месяцев в Шеннинге. Нанесение тяжких телесных повреждений в ресторане «Гамлет»: бросил пивную кружку в голову одного из посетителей, человек ослеп на один глаз. «Медленно соображает, легко подвержен внушению, неуверен» — замечания психолога. Медленно соображает? Неуверен? Разве так пишут?
Младшая сестра, Мария.
Так вот каковы твои братья, Мария? Те, которые украсили картинками стены твоей комнаты? Это сделал Адам? На их языке, полагаю, это означало проявление заботы.
Синее тело Бенгта на дереве.
Была ли это месть трех братьев?
Четвертый раунд. Убийство?
Малин протирает глаза, потягивая кофе уже из третьей чашки. Она слышит, как дверь открывается, чувствует порыв холодного ветра. Доносится голос Зака, скрипучий и усталый:
— Что, Форс, пришла с утра пораньше? Или это ночь так затянулась?
Зак включает радио — на минимальную громкость.
— Захватывающее чтение, правда?
— Они, похоже, успокоились, — говорит Малин.
— Или просто стали хитрее.
Зак хочет сказать что-то еще, но его слова заглушает голос из радиоприемника. Пронзительный скрип, перебивающий последние аккорды только что отзвучавшей песни, а потом мягкий голос подруги Малин: «Это был…»
Хелен.
«Она выросла там, — думает Малин. — И почти ровесница братьев Мюрвалль. Может, она их знает? Стоит позвонить ей. Позвоню».
— Привет, Малин.
Голос такой же ласковый, такой же сексуальный, как и в радиоприемнике.
— Можешь говорить?
— У нас три минуты и двадцать две секунды до того, как закончится эта песня. Потом я смогу дать тебе столько же времени, когда закончу говорить.
— Тогда я сразу перехожу к делу. Знавала ли ты неких братьев по фамилии Мюрвалль, когда жила в районе монастыря Вреты?
— Зачем тебе?
— Ты знаешь, я не могу объяснить.
— Братья Мюрвалль? Конечно. Все их знали.
— Они пользовались дурной славой?
— Можно сказать и так. Их еще называли «сумасшедшие братья Мюрвалль». Было в них что-то жуткое и в то же время тоскливое. Понимаешь, они были из тех, про которых все знают, что ничего путного из них не выйдет, и которые открыто выступают против существующего порядка. Такие с самого начала стоят в стороне от всех, как будто они… я не знаю… обречены вечно стучаться в ворота нормального человеческого общества без всякой надежды, что им откроют. Они словно меченые. Семья Мюрвалль жила в Блосведрете — это адский угол, самый продуваемый участок равнины. Не удивлюсь, если они живут там до сих пор.
— Ты помнишь Марию Мюрвалль?
— Да, но с ней все было иначе. Училась в параллельном классе.
— Вы общались?
— Нет, она держалась немного в стороне. Словно тоже была меченая, и ее хорошие оценки мало помогали, как бы ужасно это ни звучало. Братья защищали ее. Один парень ее обижал, не помню почему, так они натерли ему щеки наждачной бумагой. Получились две большие раны, но он так и не решился сказать, кто это сделал.
— А кто отец?
— Он был разнорабочим. У него была обычная светлая кожа, но его называли Черный. С ним произошло какое-то несчастье — сломал позвоночник и оказался в инвалидном кресле. Потом пил до смерти, хотя и до этого прикладывался к бутылке. А шею он вроде сломал у себя же дома, спускаясь по лестнице.
— А их мать?
— Ходили слухи, что она ведьма или нечто в этом роде. Но я думаю, она была самая обыкновенная домохозяйка.
— Ведьма?
— Малин, это слухи. В такой паршивой дыре, как Юнгсбру, жизнь держится на слухах и сплетнях.
Из радиоприемника доносится голос: «А следующую песню я посвящаю моей подруге Малин Форс, самой яркой звезде линчёпингской полиции».
Зак ухмыляется.
«Малин, улыбнись! Теперь ты мировая знаменитость. Как раз сейчас она расследует дело Бенгта Андерссона, которым так заинтригован весь наш город. Если вам есть что сообщить ей, звоните в полицию Линчёпинга. Любая информация представляет интерес».
Зак ухмыляется еще шире.
— Ну, теперь жди шквала звонков!
Звучит музыка.
«Это моя песня о любви. Это мое время на Земле…»
Голос певца Плуры,[39] дрожащий от сентиментальной тоски.
«…Я то, что я есть… мальчик из провинции, зовите меня мальчик из провинции…»
«Совсем как я», — думает Малин.
Девочка из провинции?
Не по любви. Вероятно, по необходимости.
30
Лишь только закончилась песня, как на столе Малин зазвонил телефон.
— Черт знает что! — возмущается Зак.
— Это может быть кто угодно, — говорит Малин. — Не стоит чертыхаться.
Трубка вибрирует на следующем сигнале, не на шутку требуя, чтобы ее подняли.
— Малин Форс, полиция Линчёпинга.
В трубке тишина.
Слышно только, как кто-то дышит.
Малин делает предупреждающий жест в сторону Зака, застывая с поднятой рукой.
Потом раздается невнятный ломающийся голос:
— Это я, с видеоигрой.
С видеоигрой?
Малин лихорадочно роется в памяти.
— «Воины гну».
— Простите?
— Вы допрашивали меня.
— Теперь припоминаю. — Малин снова видит Фредрика Уннинга с джойстиком в руке в подвале зажиточного дома и безучастный взгляд его папы, брошенный в сторону сына.
— Я спрашивала, есть ли тебе что сообщить нам.
— Да, именно так. Я слушал радио.
В голосе тот же испуг, что был во взгляде. Быстро вспыхивающее и так же быстро исчезающее чувство.
— А ты что-нибудь знаешь?
— Вы могли бы приехать сюда — вы и тот, другой?
— Сегодня мы будем в ваших краях. Может, задержимся, но попозже приедем.
— И никто не узнает, что вы здесь были, правда?
— Ну да, все останется между нами, — обещает Малин, а сама думает: «Это, конечно, зависит от того, что ты скажешь».
И сама поражается тому, с какой легкостью лжет молодому человеку, когда дело касается расследования, ее главной цели. Самой бы ей страшно не понравилось, если бы кто-нибудь так обошелся с нею. Тем не менее она повторяет:
— Это останется между нами.
— О’кей.
В трубке раздается щелчок. Она ловит вопросительный взгляд Зака, сидящего по другую сторону стола.
— Кто это?
— Помнишь Фредрика Уннинга? Подростка за видеоигрой в той богатой хибаре?
— Он?
— Да, он хочет что-то рассказать, но сначала братья Мюрвалль. Или как ты думаешь?
— Семейка Мюрвалль, — соглашается Зак и кивает на дверь. — Интересно, что это такое на сердце у молодого Уннинга?
— Стоит перейти через дорогу, и цены на жилье падают на тридцать процентов, — говорит Зак, поворачивая возле пустынной автозаправочной станции на дорогу к группе домов, известной под названием Блосведрет.
Снаружи яростно трещит мороз, мечется во всеоружии своих градусов в порывах ветра, вздымая снег на мертвых сугробах; белая пыль прозрачными волнами омывает ветровое стекло.
— Черт, как дует! — говорит Малин.
— Даже небо белое.
— Зак, помолчи, закрой рот.
— Малин, я люблю, когда ты ругаешься, мне это нравится.
Жуткое место. Таково первое впечатление.
Все-таки хорошо иметь под боком Зака. Случись что — он сориентируется за доли секунды. Когда тот наркоман из Ламбухова вытащил свой шприц и приставил к ее горлу, она и глазом моргнуть не успела, как Зак ударил его по руке так, что тот выронил свое оружие. А потом Зак повалил наркомана и продолжил бить в живот.
Ей пришлось тогда схватить коллегу за руку, чтобы он остановился.
«Форс, не волнуйся, это будет выглядеть как пара обычных тумаков. С его стороны все серьезнее. Он хотел, черт возьми, убить тебя, а этого мы не могли допустить».
Новый порыв ветра, еще сильнее прежнего.
— Удивительно, ведь по дороге сюда почти не дуло. Что случилось?
— Блосведрет — Бермудский треугольник. Здесь может случиться что угодно.
Одна-единственная улица — Блосстиген.
По одну сторону дороги — красный деревянный дом, по другую — гараж и мастерская. Еще один дом — кирпичный, жалюзи подняты. Большое белое здание впереди, в самом конце улицы, почти не видно сквозь метель.
В домах, не принадлежащих семье Мюрвалль, тихо: очевидно, все на работе. Часы на инструментальной панели показывают половину двенадцатого, скоро время обеда, и Малин чувствует, как сжимается желудок.
Еды, но, пожалуйста, только не кофе.
Братья Мюрвалль живут по соседству, в двух последних деревянных домах и кирпичном. Белая вилла принадлежит их матери. В окнах деревянных домов темно, возле них валяются разбитые автомобили, наполовину обледенелые и припорошенные снегом. Но в кирпичном доме за шторами свет. Черная железная ограда, ветхая и гнутая, качается под порывами ветра. Напротив тяжелые ржавые железные двери мастерской, перед которой стоит «рейнджровер», старая модель.
Зак останавливает машину.
— Дом Адама.
— Позвоним.
Они застегивают куртки, выходят из машины. Здесь разбитых автомобилей еще больше, но они не такие, как у Янне. Эти брошены на произвол судьбы, и нет любящей руки, которая могла бы о них позаботиться. У входа в гараж зеленая «шкода»-пикап. Зак заглядывает в погрузочную платформу, разгребает снег перчаткой, качая головой.
Порывы ветра, не поддающиеся никакому описанию — озлобленные, мощные, дышат арктическим холодом, который легко и словно с насмешкой проникает сквозь ткань куртки и шерстяное полотно свитера.
Песок на бетонной лестнице. Звонок не работает. Зак барабанит в дверь, но все тихо.
Малин заглядывает в дом сквозь зеленое стекло и различает слабые контуры предметов в прихожей, детскую одежду, игрушки, оружие. Кругом беспорядок.
— Никого нет дома.
— Должно быть, они на работе, — предполагает Малин.
— Вероятно, стали честными людьми, — кивает Зак.
— Странно, — замечает Малин. — Тебе не кажется, что дома каким-то образом связаны друг с другом?
— Все они — одно целое. Даже не в материальном смысле. Если у домов бывают души, то у всех у них душа общая.
— Пойдем к жилищу матери.
Деревянная вилла находится в каких-нибудь семидесяти пяти метрах вниз по дороге, но невозможно что-то различить, кроме контуров фасада и белого дерева, тут и там мерцающего в окружающей белизне.
Приближаясь, они видят сквозь слабеющую пургу и морозную дымку целый яблоневый сад. Черные ветви высоких деревьев качаются на ветру, топорщась в разные стороны, и Малин втягивает в себя воздух, пытаясь почувствовать весенний запах цветущих деревьев и аромат яблок позднего лета.
Но этот мир не имеет запаха.
Она открывает глаза.
Фасад дома осел, и кривое дерево, кажущееся изможденным, решительно сопротивляется смерти. Из окна льется свет.
— Мать семейства, похоже, дома, — говорит Зак.
— Да, — отвечает Малин, но больше сказать ничего не успевает.
Дверь белой виллы открывается, и появляется высокий мужчина — со щетиной по крайней мере недельной давности вокруг четко очерченного рта, одетый в зеленый рабочий комбинезон. Он стоит на крыльце и пристально смотрит на них.
— Кто вы, черт возьми? Попробуйте подойдите к дому — и я прострелю вам головы!
— Добро пожаловать в Блосведрет. — В улыбке Зака сквозит нетерпение.
— Мы из полиции.
Малин приближается к человеку на крыльце, протягивая удостоверение.
— Можно войти?
Теперь она их видит — семью, которая разглядывает гостей в окна белого дома: усталых женщин, детей разного возраста, закутанную в шаль даму с черными глазами, острым носом и прямыми прядями белых волос, падающими на прозрачные, словно стеклянные, щеки. Малин смотрит на лица за окном, и ей кажется, будто все эти люди срослись нижними частями своих тел, скрытыми сейчас от ее глаз, в одно целое. Что их бедра, колени, икры и ступни ног слиты, неотделимы друг от друга и все они есть нечто иное, отличное от нее и осознающее свое превосходство.
— Что вам нужно? — бросает им в лицо человек с крыльца.
— А с кем мы имеем честь говорить? — решительно уточняет Зак.
— Элиас Мюрвалль.
— Тогда, Элиас, впустите нас и не заставляйте стоять на этом морозе.
— Мы никого сюда не впускаем.
Из дома раздается резкий женский голос, обладательница которого, как видно, привыкла во всем добиваться своего:
— Впусти же полицейских, мальчик.
Элиас Мюрвалль отступает в сторону, следует за ними в прихожую, где в нос им ударяет запах тушеной капусты.
— А обувь вам придется снять, — говорит тот же женский голос.
Прихожая завалена зимней одеждой: детскими куртками всевозможных расцветок, дешевыми пуховиками, камуфляжем. Отсюда Малин видит и прихожую: стильная мебель на коврах «вильтон», репродукции пейзажей Юхана Крутена с изображениями эстергётландских пастбищ, купающихся в лучах солнца, неуместный здесь тонкоэкранный монитор последней модели.
Малин снимает ботинки от «Катерпиллар», в одних носках чувствуя себя беззащитной среди этих людей.
Кухня.
За гигантским раскладным столом посередине, накрытым к обеду, сидит в напряженном молчании, должно быть, семья Мюрвалль в полном составе. Их больше, чем она видела в окне, и вовсе они не срослись между собой. Малин успевает насчитать трех женщин с младенцами на руках; дети самых разных возрастов сидят вокруг стола на стульях. Разве некоторые из них не должны быть в школе? Надомное обучение? Или они еще слишком малы?
Мужчин здесь двое: один гладко выбрит, у другого короткая ухоженная борода. Они одеты в такие же рабочие комбинезоны, что и Элиас Мюрвалль, и имеют такой же решительный вид. Выбритый кажется моложе — должно быть, это Адам. Он постукивает по поверхности стола, словно это дверь, у него синие глаза такого темного оттенка, что кажутся черными, как у матери. Средний брат, Якоб, лысеющий, с заметным под комбинезоном брюшком, сидит у камина и смотрит затуманенным взглядом, словно ему уже тысячу раз приходилось сталкиваться с полицейскими и он тысячу раз посылал их ко всем чертям.
Мать семейства стоит у камина — худенькая невысокая женщина в красной юбке и серой кофте.
— По средам у нас на обед капустный пудинг, — обращается она к Малин.
— Отлично, — отзывается Зак.
— А вам-то откуда знать? — удивляется хозяйка. — Или вы уже ели мой капустный пудинг?
Одновременно она жестом приглашает Элиаса сесть наконец за стол.
Несколько детей, потеряв терпение, спрыгивают со стульев и убегают из кухни в гостиную, откуда устремляются по лестнице на второй этаж.
— Ну?
Старушка смотрит на Малин, потом на Зака.
Нисколько не смутившись, даже слегка улыбаясь, Зак переходит к делу:
— Мы здесь в связи с убийством Бенгта Андерссона, который фигурировал в деле об изнасиловании вашей дочери Марии Мюрвалль.
И Малин, несмотря на эти неприятные слова, ненадолго ощутила внутри себя тепло. «Именно так все и должно быть, — подумала она. — Явившись в это осиное гнездо, Зак бесстрашен и держится с достоинством. Иногда я об этом забываю, но знаю, что меня в нем восхищает».
Ни малейшей реакции со стороны хозяев.
Якоб Мюрвалль лениво тянется через стол, достает сигарету из желтой пачки «Бленда» и закуривает. Младенец на руках молодой женщины начинает хныкать.
— Мы ничего не знаем об этом, — отвечает хозяйка. — Или как, мальчики?
Братья за столом качают головами.
— Ничего, — ухмыляется Элиас, — ничего.
— Вашу сестру изнасиловали. И один из тех, кто фигурировал в этом деле, найден убитым, — говорит Зак.
— Что вы делали в ночь со среды на четверг? — задает вопрос Малин.
— Мы ни черта не должны им рассказывать, — говорит Элиас подчеркнуто напористо, как кажется Малин, словно боится выглядеть слабаком.
— Нет, вы должны, обязаны даже, — говорит Зак. — Ваша сестра…
Адам Мюрвалль поднимается со своего места, вытягивая руки, и кричит через стол:
— Очень даже может быть, что этот дьявол изнасиловал Марию! А теперь он мертв — и это только к лучшему!
Цвет его глаз меняется от темно-синего до черного.
— Может, теперь она успокоится.
— Мальчик, сядь, — доносится голос матери со стороны камина.
Теперь дети начинают кричать, женщины пытаются их успокоить, а Элиас Мюрвалль прижимает брата к стулу.
— Ладно, — произносит хозяйка, когда все утихает. — Теперь, я думаю, пудинг готов. И картошка тоже.
— Асатру, — говорит Малин. — Вы имеете какое-то отношение к этой организации?
Комната оглашается дружным хохотом.
— Мы нормальные парни, — говорит Якоб Мюрвалль. — Не викинги.
— Вы храните дома оружие?
— Охотничьи ружья есть у нас у всех, — отвечает Элиас Мюрвалль.
— Как вам удалось получить на него лицензию? С вашим прошлым?
— Вы о наших детских шалостях? Это было так давно…
— У вас есть «салонное» ружье?
— Какое вам дело!
— Так это не вы стреляли в окно Бенгта Андерссона? — спрашивает Малин.
— Если кто и стрелял в его окно, — отвечает Элиас Мюрвалль, — то сейчас ему это уже без разницы.
— Мы хотели бы взглянуть на ваш оружейный сейф, — говорит Зак. — Ведь у вас есть такой? У нас много вопросов, и мы хотели бы поговорить с каждым из вас по отдельности. Здесь и сейчас или в участке, выбирайте сами.
«Женщины, — думает Малин. — Они смотрят на меня, их глаза пытаются понять, чего я хочу. Как будто я должна забрать у них нечто такое, что они готовы защищать до последнего вздоха, даже если в глубине души вовсе не хотят этого».
— Вы можете вызвать моих мальчиков на допрос. И мы дадим вам осмотреть сейф, если придете с ордером на обыск, — говорит женщина. — Ну а сейчас мальчикам Мюрвалль пора есть, сами видите.
— Мы хотели бы поговорить и с вами, фру Мюрвалль, — обращается к ней Зак.
Ракель Мюрвалль задирает нос к потолку.
— Элиас, проводи полицейских.
И вот Малин и Зак снова стоят на морозе, смотрят на фасад, на очертания предметов за мутнеющими стеклами. Малин чувствует, как это приятно — снова быть в обуви.
— И так можно жить в Швеции сегодня! — восклицает она. — Вне всяких норм. Странный анахронизм…
— Я так не думаю, — отвечает Зак и затем выдвигает первое попавшееся объяснение, которое ему приходит в голову: — Это все пособия. Чертовы пособия! Слово даю, вся эта шайка получает и по безработице, и социалку, и весь полный комплект. И детские на такую ораву наверняка составляют в месяц целый капитал.
— Насчет пособий не уверена, — возражает Малин. — Скорее всего, здесь не только это. И тем не менее… Третье тысячелетие. Швеция. Семья, которая, как кажется, живет исключительно по своим внутренним законам.
— Пока мы вкалываем, они охотятся, рыбачат и возятся с техникой. Ты хочешь пробудить во мне симпатию к ним?
— К детям, может быть. Кто знает, каково им?
Зак молчит, похоже погрузившись в размышления.
— Жить вне общества — не такая уж редкость. В этом нет никакого анахронизма. Стоит вспомнить подобные банды в Бурленге, Кнутбю, Шейке и доброй половине чертова Норрланда. Да, они живут среди нас. И их никто не трогает до тех пор, пока они не нарушают общественного порядка. Пусть живут своей жалкой жизнью, чтобы обычные люди могли жить своей. Нищие, чокнутые, иммигранты, инвалиды. Они никого не волнуют, Малин. Другое дело — уверенность в том, что именно твое существование нормально. Кто мы такие в самом деле, чтобы решать, как должны жить другие люди? Может быть, им веселей, чем нам.
— Я так не думаю, — возражает Малин. — А что касается Бенгта Андерссона, здесь налицо мотив.
Они направляются к машине.
— Как бы то ни было, Мюрвалли — милая семейка, — говорит Зак, поворачивая ключ зажигания.
— Ты видел, с какой злобой смотрел Адам? — вспоминает Малин.
— И потом, их много, они могли сделать это вместе. А прострелить окно резиновыми пулями — пустяк для этих господ. Мы должны получить ордер на обыск и осмотреть их оружие. Но у них может быть и оружие без лицензии. Оснований, чтобы привязать это дело к самим пулям, более чем достаточно.
— Ты действительно думаешь, что этого хватит для ордера? Ведь с юридической точки зрения нет никаких конкретных свидетельств, что они каким-то образом в этом замешаны.
— Может, и нет. Посмотрим, что скажет Шёман.
— Как же был он зол, Адам Мюрвалль!
— Малин, представь, что это была твоя сестра. Ты бы не злилась?
— У меня нет ни братьев, ни сестер, — отвечает Малин и добавляет: — Я была бы вне себя.
31
На расстоянии, с возвышенности, озеро Роксен выглядит как расстеленное серо-белое пуховое одеяло. Деревья и кустарники, словно измученные, прижатые к земле по берегам и по краям поля, истерзанные, ждущие тепла, в наступление которого верится с трудом, топорщатся «ежиками».
Белый кирпич, коричневая отделка. Коробка к коробке — в лучших традициях семидесятых. На вершине холма с крутым склоном стоят четыре комфортабельных особняка.
Малин и Зак стучат в дверь львиной головой, между отполированными челюстями косяков открывается дверная щель, словно пасть.
При прошлой встрече с Фредриком Уннингом Малин была уверена: ему есть что сказать, но его удерживает страх. Теперь она это знала точно, и по мере приближения к дому ее нетерпение возрастало с каждым шагом.
Что ждет их там, внутри?
Они должны быть осторожны. Зак рядом с ней взволнован, изо рта идет пар, непокрытая голова беззащитна перед морозом и его тупыми инфекционными крючьями.
Слышится скрежет.
Дверная щель увеличивается, и в ней появляется лицо тринадцатилетнего Фредрика Уннинга, его вялое малоподвижное тело, одетое в голубую спортивную майку от «Кархартт» и серые армейские штаны.
— Вот и вы наконец, — говорит он. — Долго пришлось вас ждать. Я думал, приедете сразу.
«Если б ты только знал, Фредрик, — думает Малин, — как часто встречают полицейских такими словами!»
— Можно войти? — спрашивает Зак.
Комната Фредрика Уннинга находится на третьем этаже, ее стены увешаны плакатами с изображениями скейтбордистов. Вот Бэм Марджера из сериала «Чудаки» высоко парит над бетонной площадкой, а на новой винтажной афише юный американский актер Тони Алва скользит по закоулкам Лос-Анджелеса. Вид из окон размером во всю стену заслонен легкими белыми гардинами, и розовый ковер на полу весь в солнечных бликах. В углу новый с виду стереомагнитофон, плоский телеэкран верных сорока пяти дюймов в ширину вмонтирован в пол.
Фредрик Уннинг сидит на краю кровати и неотрывно смотрит на гостей. От развязности прошлой встречи не осталось и следа. Родителей нет дома: папа, страховой агент, увез свою жену, владелицу бутика, в небольшое турне по Парижу. «Они иногда ездят туда. Маме там нравятся магазины, папе — еда. Хорошо остаться одному».
На кухне пустые коробки из-под пиццы, недоеденные пироги, бутылки из-под прохладительных напитков и переполненные мусорные мешки.
Малин сидит на кровати возле Фредрика Уннинга, Зак маячит черным контуром на фоне самого большого в комнате окна.
— Ты знаешь о Бенгте Андерссоне что-то такое, что могло бы быть нам интересно?
— И никто не узнает, что именно я сказал вам это?
— Никто, — отвечает Малин, и Зак согласно кивает:
— Это останется между нами, никто не будет знать, откуда эта информация.
— Они никак не могли оставить его в покое, — начинает Фредрик Уннинг и смотрит на гардины. — Донимали его постоянно. Как одержимые.
— Бенгта Андерссона?
— Кто его донимал? — раздается голос Зака со стороны окна.
И Фредрик Уннинг снова испуган, он сжимается в комок, отодвигается от Малин. А она думает о том, как привыкает с годами к этому страху вокруг себя, к тому, что люди, один за другим, словно убеждаются в том, что самая надежная вещь на свете — молчание, ибо любое высказанное слово несет опасность. А может быть, они не так уж не правы?
— Бенгта, — произносит наконец Фредрик Уннинг.
— Кто? Все в порядке, — успокаивает Малин. — Ну, смелее.
При этих словах Фредрик Уннинг, как кажется, собирается с духом.
— Йоке и Йимми. Они постоянно издевались над ним, над Мяченосцем.
— Йоке и Йимми?
— Да.
— А как их зовут по-настоящему, Йоке и Йимми?
На лице подростка снова сомнения, страх.
— Мы должны знать.
— Иоаким Свенссон и Йимми Кальмвик, — уверенным голосом называет Фредрик Уннинг.
— И кто они?
— Учатся в школе, в девятом классе. Настоящие свиньи, большие и мерзкие.
«А разве ты сам не должен быть сейчас в школе?» — задается вопросом Малин, но вслух спрашивает:
— И что они делали с Мяченосцем?
— Преследовали его, дразнили, выкрикивали вслед разное. И мне кажется, это они сломали его велосипед, бросали в него пакеты с водой, камни. Я даже думаю, они лили всякие помои в его почтовый ящик.
— Помои? — переспрашивает Зак.
— Молоко, грязь, воду, кетчуп — все, что угодно…
— А откуда ты знаешь?
— Они и меня заставляли в этом участвовать. Иначе грозились задать трепку.
— И тебе от них доставалось?
В глазах Фредрика Уннинга отражаются стыд и страх:
— Ведь никто не узнает, что это я вам сказал? Они и кошек мучили тоже.
— Кошек? Как?
— Поймают кошку и намажут ей горчицей под хвостом.
«Мужественные парни», — думает Малин.
— Ты сам это видел?
— Нет, но я слышал от людей.
— А может, это они стреляли в его окно из ружья? — снова раздается со стороны окна голос Зака, хлесткий, словно удар плетки. — Тебя тогда с ними не было?
— Нет, ни в чем подобном я не участвовал. — Фредрик Уннинг качает головой.
Да и где бы они взяли ружье?
Снаружи облачная пелена редеет, и серая с белым земля искрится и светится в робких лучах показавшегося в просветах солнца. Малин представляет себе, как должен Роксен выглядеть отсюда летом, когда жаркие лучи свободно играют на его совершенно гладкой поверхности. К сожалению, такой зимой, как эта, трудно представить себе летний зной.
— Черт возьми! — взрывается Зак. — Ну и ребята, должно быть, эти Йоке и Йимми. Первый сорт!
— Мне жаль Фредрика Уннинга, — отвечает Малин.
— Жаль?
— Неужели ты не видишь, как он одинок? Готов делать что угодно, лишь бы только быть с этими крутыми парнями.
— То есть они его не принуждали?
— Разумеется, принуждали. Но это не так просто…
— Однако дома у них как будто все прилично.
«Папа Йимми работает на нефтяной платформе, а мама домохозяйка. — Малин вспоминается голос Фредрика Уннинга. — У Йоке папа умер, а мама работает секретаршей».
Звонит телефон Малин, на дисплее высвечивается номер Свена Шёмана.
— Слушаю, — говорит она, потом вкратце рассказывает о визите к Мюрваллям и о том, что им поведал Фредрик Уннинг.
— Мы хотим немедленно допросить Йимми Кальмвика и Иоакима Свенссона.
— Нам надо собраться, — отвечает Свен. — А они могут подождать час-другой.
— Но…
— Малин, встреча розыскной группы через тридцать минут.
Дети не сдаются. На игровой площадке под окном зала заседаний полным-полно неуклюжих человечков в утепленных комбинезончиках. Синие, красные и один оранжевый. Цвет словно предостерегает: я маленький, будьте осторожны со мной. У девушек в серо-синих флисовых брюках изо ртов струится густой пар. Они прыгают на месте, поднимают споткнувшихся малышей, хлопают руками по телу.
Если мороз не уходит, человек приучается жить с ним. Как со сломанным позвоночником.
Сначала рассказ Бёрье Сверда — обо всем, что касается Рикарда Скуглёфа. Беседы с молодыми людьми, которые, кажется, всю свою жизнь проводят перед компьютером или в качестве участников некой ролевой игры. Их интересует что угодно, кроме собственной жизни.
Во всем облике Бёрье сквозит неуверенность, Малин ее чувствует. Словно из всего своего опыта он вынес одно-единственное убеждение: ничего нельзя принимать на веру.
Искать ответ.
Рикард Скуглёф. Похоже, его детство в городе Отвидаберге прошло вполне благополучно. Отец работал на предприятии «Фасите», производящем вычислительную технику, пока оно в 1997 году не закрылось, потом в садоводстве «Адельснес», где и сын помогал ему во время летних каникул, когда учился в старших классах. Два года гимназии — и это все. Валькирия Карлссон выросла в семье фермеров в Дальсланде. Набрала 120 баллов по антропологии в Лунде после гимназии в городе Дальс Эде.
— Линия Асатру, — с сомнением говорит Карим Акбар, словно старается убедить себя и окружающих. — Продолжайте работать в этом направлении, там что-то есть.
У Юхана Якобссона видны темные круги под глазами. Кишечные вирусы, бессонные ночи, смена пеленок. Новые морщины на лбу, с каждым днем все глубже. «Папа, ты где? Я не хочу, не хочу!»
Малин закрывает глаза.
Когда же закончится это собрание? Я хочу работать. Допросить этих «крутых парней» из Юнгсбру, посмотрим, что они скажут. Быть может, они поведут нас дальше; не исключено, что им удалось раздобыть оружие и это они стреляли в окно квартиры Мяченосца. Одна из их дьявольских шуток зашла слишком далеко: кто знает, на что способна пара неугомонных пятнадцатилетних.
Туве и Маркус в квартире ее родителей.
В постели.
Малин видит их.
— А теперь у нас есть и эти подростки, которые донимали Бенгта Андерссона, — говорит Свен Шёман. — Вы с Заком допросите их. Поезжайте после собрания в школу, в это время они должны быть там.
«Конечно, Свен, конечно», — думает Малин и говорит:
— Если их нет в школе, мы узнаем их адреса и телефоны.
После мальчишек она хотела бы вызвать на допрос Мюрваллей, вытащить их старуху, нажать на нее. Выслушать жен.
Братья.
Взгляды женщин.
Ни намека на дружелюбие, только подозрительность по отношению к чужим. Они одиноки, хотя и держатся вместе.
Что значит это одиночество? В чем его причины? В жестокости внешнего мира, который на все твои просьбы отвечает словом «нет»? Или это одиночество просто дано нам? Быть может, оно есть во всех нас, и когда ему предоставляется возможность, оно начинает расти и постепенно делается невыносимым?
Осознание этого одиночества — причина страха.
Когда я впервые увидела его в глазах Туве? Когда я впервые встретила в ее взгляде нечто иное, чем просто радость и дружелюбие? По-моему, ей было два с половиной года, когда вдруг кроме детской невинности и очарования я заметила в ней расчет. И страх. В конце концов, ребенку не чуждо ничто человеческое.
Многим удается сохранить что-то от детской радости. Оставаться непосредственными в отношениях с другими людьми, сохранить нечто общее с ними. Может быть, побороть в себе данное нам одиночество, как сегодня попытался Фредрик Уннинг. Протянуть руку, понять, что ты стоишь большего, чем быть брошенным на произвол судьбы своими родителями или становиться подельником парней, которые на самом деле знать тебя не хотят.
Радость — это возможно.
Так же и с Туве. И с Янне, несмотря ни на что. Так же, как и со мной.
Но женщины за столом семьи Мюрвалль? Куда подевалась их чистая радость? Где она? Или от нее совсем ничего не осталось? «Если это так, — думает Малин, в то время как Свен обобщает положение дел, — то в человеке тем больше этой радости, чем меньше лукавства. И она постепенно исчезает навсегда, заменяясь немотой и отстраненностью.
А что, если человека принуждают к одиночеству? Что за насилие может родиться тогда в точке разрыва, в абсолютной изоляции?»
Ребенок протягивает руки маме, воспитательнице:
— Позаботься обо мне, возьми меня на руки.
— Я не брошу тебя на произвол судьбы.
«Мама, я переночую сегодня у папы, ладно?»
Сообщение от Туве по голосовой почте. Малин слушает его, проходя через общее офисное помещение. Звонит:
— Это мама.
— Ты получила сообщение?
— Да, я получила. Хорошо. Как ты туда доберешься?
— Я буду ждать на станции, в шесть у него заканчивается смена, оттуда мы поедем вместе.
— Хорошо. Я, вероятно, буду работать допоздна.
Ей вспоминается голос Шёмана на собрании:
— Я уже вызвал их на допрос. Если семья Мюрвалль не явится сюда утром в полном составе, мы сами поедем за ними. Но что касается оружия, оснований для обыска у нас недостаточно.
Закончив разговор с Туве, Малин звонит Янне.
— Туве сегодня ночует у тебя, это правда? Хочу убедиться.
Потом садится за стол и ждет. В другом конце комнаты Бёрье Сверд в нетерпении крутит свои усы.
32
Фасад главного здания школы в Юнгсбру матово-серый, красная черепица на крышах корпусов покрыта тонким слоем снега. Ветер то и дело вздымает маленькие вихри, на открытых пространствах гуляет метель.
Они находят место для парковки возле мастерских — это ряд прозрачных одноэтажных аквариумов вдоль дороги, ведущей в поселок.
Малин смотрит в пустые залы, уставленные пилами, токарными станками, оборудованием для обжига и пайки. Они проходят мимо того, что должно быть залом техники: траверсы и цепи, свисающие с потолков, словно скучают, ожидая своего часа. Если посмотреть в другую сторону, можно различить очертания больницы «Вреталиден». Малин представляет себе, как Готфрид Карлссон, сидя на постели с оранжевым больничным покрывалом, обращается к ней с безмолвным вопросом: «Ну так что случилось с Бенгтом Андерссоном? Кто убил его?»
Минуя школьную столовую, они проходят к главному зданию. За замерзшими стеклами служители драят котлы и стойки. Зак толкает дверь, не скрывая нетерпения поскорее оказаться в тепле.
В просторном помещении с запотевшими окнами, выходящими на школьный двор, несколько пятнадцатилетних подростков увлеченно болтают. На Малин и Зака никто не обращает внимания.
Это мир Туве.
Именно так он выглядит.
Малин смотрит на тощего парня с длинными черными волосами, болтающего с миловидной светловолосой девушкой.
На стеклянной двери по другую сторону комнаты табличка: «Ректорат».
— Солидно, — замечает Зак, глядя на надпись.
Бритта Сведлунд, ректор школы в Юнгсбру, впустила их сразу. Вероятно, это первый визит полицейских за время ее работы.
А может, и нет.
Школа известна как проблемная. Каждый год несколько учеников попадают в расположенный где-то в сельской местности интернат для трудных подростков, чтобы там совершенствоваться в науке мелких преступлений.
А сейчас Бритта Сведлунд положила ногу на ногу, так что юбка задралась, несколько больше положенного обнажая бедро, обтянутое черными нейлоновыми колготками. Малин замечает, с каким трудом удается Заку сохранять невозмутимый вид. Хотя, возможно, он вовсе не считает эту много курящую, седую, измотанную женщину красивой.
«Проклятие всех мужчин», — думает Малин, устраиваясь на неудобном стуле для посетителей.
Стены кабинета завешаны книжными полками и репродукциями картин Бруно Лильефорса. На столе возвышается старый компьютер. Выслушав, зачем пожаловали к ней Малин и Зак, Бритта Сведлунд говорит:
— Они выпускники, Йимми Кальмвик и Иоаким Свенссон, Йимми и Йоке. Через пару месяцев, весной, я буду рада от них избавиться. Каждый год у нас появляется несколько таких негодяев. От некоторых удается отделаться, но Иоаким и Йимми хитрее. Мы стараемся сделать из них людей, насколько это возможно.
Как будто читая вопрос на лицах посетителей, Бритта Сведлунд продолжает:
— Эти двое не совершают ничего противозаконного, а если когда и было, то они не попадались. Живут в нормальной домашней обстановке, что можно сказать далеко не обо всех в этой школе. Нет, они обижают учеников, донимают преподавателей. Увлекаются борьбой, и могу поклясться, что каждая разбитая лампа в этом здании — их рук дело.
— Нам нужны телефоны и адреса их родителей, — говорит Зак.
Бритта Сведлунд стучит по клавиатуре, потом записывает нужные сведения.
— Вот. — Она протягивает Малин листок бумаги.
— Спасибо.
— А Бенгт Андерссон? — спрашивает Зак. — Знаете ли вы что-нибудь о том, что они с ним вытворяли?
Бритта Сведлунд внезапно настораживается.
— Собственно говоря, откуда у вас эта информация? Я не сомневаюсь, что это правда, но как вы узнали?
— Мы не можем это сказать, — отвечает Малин.
— По правде говоря, я не имею привычки обсуждать их проделки во внеучебное время и за стенами школы. Если я буду думать о том, чем ученики занимаются в свободное время, я сойду с ума.
— То есть вы не знаете, — уточняет Зак.
— Именно так. Все, что я могу сказать: они прогуливают не больше, чем допустимо для получения вполне приличных оценок. Которые действительно на удивление хороши.
— А сейчас они в школе?
Бритта Сведлунд клацает по клавиатуре.
— Вам повезло. Как раз сейчас у них начался урок ремесла. Его они обычно не пропускают.
В мастерской пахнет свежей стружкой и жженым деревом, откуда-то из глубины зала доходит запах краски и растворителя. Завидев Малин и Зака, учитель, мужчина лет шестидесяти, с лицом, наполовину скрытым седой, под цвет его кофты, бородой, оставляет ученика за токарным станком и направляется к ним.
Он протягивает руку, покрытую пылью и опилками, но потом убирает ее. Малин обращает внимание на его теплые синие глаза, не теряющие, как видно, с возрастом своего блеска. Не подавая руки, мужчина поднимает ее в знак приветствия.
— Ух! — выдыхает он, и Малин чувствует крепкий запах кофеина и табака — классический учительский запах. — Поприветствуем друг друга, как индейцы. Матс Бергман, преподаватель ремесла. А это девятый «Б». Вы из полиции, полагаю? Бритта звонила и предупредила меня.
— Точно так, — подтверждает Малин.
— Тогда вы знаете, кто нам нужен. Они здесь? — спрашивает Зак.
Матс Бергман кивает.
— В дальнем конце зала, в покрасочной комнате. Покрывают лаком бензобак мопеда.
За спиной учителя Малин видит покрасочную комнату, зажатую в углу между серо-зелеными банками с краской на полках, отгороженную исцарапанными стеклянными стенами. В ней двое подростков. Они сидят, так что Малин видит только их светлые шевелюры.
— У вас с ними есть проблемы? — спрашивает Малин.
— У меня нет, — отвечает Матс Бергман и снова улыбается. — Я знаю, какими они бывают буйными, но здесь они держат себя в руках.
Малин дергает дверь стеклянной комнаты. Сидящие на скамьях парни сначала лениво смотрят на нее, но потом настораживаются, выражая обеспокоенность и тревогу, а она смотрит на них сверху вниз со всей возможной строгостью.
На черном бензобаке нарисован красный череп.
Хулиганы?
Да.
Мучители?
Вероятно.
Убийцы?
Кто они? Вот в чем вопрос.
Мальчишки поднимаются — оба мускулистые, на голову выше ее. Одеты в просторные джинсы модели «хип-хоп» и куртки «монах» с логотипом «We».[40]
Прыщавые подростковые физиономии. Парни похожи, как два щенка: угловатые скулы, слишком крупные носы. Оба полны пробуждающегося желания и буквально исходят тестостероном.
— Ну и кто вы такие? — спрашивает один, поднимаясь.
— Сядь, — шипит Зак за спиной Малин. — Немедленно.
И как будто врезавшись в облупленный потолок, тот снова опускается на скамейку, покрытую пятнами краски. Зак закрывает за собой дверь, после чего Малин, выдержав паузу, представляется:
— Я Малин Форс из полиции, а это мой коллега Закариас.
И вытаскивает удостоверение из заднего кармана джинсов.
Она держит его перед глазами мальчишек, которые теперь выглядят еще более напуганными, как будто ожидают, что вот-вот на них обрушится поток несправедливых обвинений.
— Бенгт Андерссон. Я знаю, что вы издевались над ним, дразнили и донимали его. Сейчас мы хотим знать об этом все, а также где вы были в ночь со среды на четверг.
В глазах мальчишек отражается ужас.
— Кто из вас кто? Йимми?
Тот, на ком синяя куртка «монах», кивает.
— Давай, — обращается к нему Малин, — рассказывай.
Другой, Иоаким Свенссон, начинает оправдываться:
— Какого черта, мы только шутили с ним немного. Дразнили, потому что он был такой толстый. Ничего особенного.
— Он был совсем помешан на своих мячах. И вонял мочой.
— И это давало вам право издеваться над ним?
Малин не может скрыть свою злобу.
— Ну да, — ухмыляется Йимми Кальмвик.
— У нас есть свидетель, который подтвердил, что вы нападали на его квартиру, бросали в него камни и пакеты с водой. А теперь он найден убитым. Я немедленно заберу вас в участок, если вы не будете говорить, — угрожает Малин.
— Речь идет об убийстве, поймите наконец, безмозглые головы! — продолжает Зак, когда она умолкает.
— Ладно, ладно…
Свенссон кивает.
— Издевались? Мы бросали вслед ему камни, отключали электричество в его квартире, выливали дерьмо в почтовый ящик, это правда. Но теперь, когда он мертв, какое это все имеет значение?
— Это может иметь очень большое значение, — спокойно отвечает Зак. — Что, если однажды вы зашли слишком далеко? Или, наоборот, подошли слишком близко и произошла ссора? И вы убили его? Постарайтесь взглянуть на это дело нашими глазами, ребята. Итак, что вы делали вечером в среду и в ночь со среды на четверг?
— А как бы мы затащили его туда? — спрашивает Иоаким Свенссон. — Мы были дома у Йимми и смотрели DVD.
— Да, моя мама была у своего парня. Папа умер, и теперь у нее есть другой. Толковый тип.
— Может кто-нибудь подтвердить это? — спрашивает Малин.
— Да, мы, — отвечает Иоаким Свенссон.
— А кто-нибудь еще?
— Это нужно?
«Подростки, — думает Малин. — Один шаг от высокомерия до страха. Опасное сочетание грандиозного самомнения и неуверенности в себе. Что бы подумала Туве об этой парочке? Джентльмены совершенно не в стиле Джейн Остин».
— Послушай ты, маленький зазнайка, — говорит Малин. — Произошло убийство. Ты понял? Это вам не кошек мучить. Здесь потребуется подтверждение, подумай об этом. Что вы смотрели?
— «Королей Догтауна», — отвечают оба в один голос.
— Классный фильм, — продолжает Йимми Кальмвик. — Про таких же крутых парней, как мы.
Иоаким Свенссон усмехается.
— Мы никогда не мучили кошек, если вы так думаете.
Малин оборачивается. Там, снаружи, как ни в чем не бывало работают токарные и шлифовальные станки, пилы. Кто-то лихорадочно вбивает гвоздь в нечто похожее на ящик. Она снова поворачивается к мальчикам.
— Вы когда-нибудь стреляли в окно квартиры Бенгта Андерссона?
— Мы? Стреляли? Откуда нам взять оружие?
Невинные ягнята.
— Вы интересуетесь Асатру? — спрашивает Зак.
У обоих недоумевающий вид — глупый или виноватый, понять невозможно.
— Интересуемся… чем?
— Асатру.
— Это что за черт? — спрашивает Йимми Кальмвик. — От английского asses?[41] Да, это интересно.
Не доросли до мужских штанов, а уже законченные свиньи, наглые, буйные. Насколько они опасны?
— Мучили кошек? Так это он проболтался, Уннинг, — догадывается Йимми Кальмвик. — Маленький поганец. Не может держать язык за зубами.
Зак приближается к нему, глядя в глаза пристально, как змея. Малин знает, как он делает это. Она слышит его голос, хриплый, холодный, как лед, как вечер, как ночь, что опускается сейчас за окнами мастерской.
— Если вы тронете Фредрика Уннинга, я лично заставлю вас съесть ваши собственные тушеные потроха. Вместе с испражнениями и всем прочим. Так и знайте.
33
«Да, она переночует здесь».
Сообщение от Янне пришло в двадцать пятнадцать. Усталая Малин едет домой после тренировки в спортзале полицейского участка. Нужно было слегка прочистить мозги, слишком много дерьма за один день она перевидала.
На обратном пути после разговора с «крутыми парнями» из Юнгсбру она еще раз коротко подводила для себя итоги.
Бенгт Андерссон подвергался издевательствам и преследованиям, вероятно, не только со стороны истекающих тестостероном озлобленных юнцов. Завтра мы допросим их родителей. Посмотрим, что нам это даст. Собственно говоря, сейчас нет никаких оснований для задержания подростков. Что касается оскорблений Бенгта Андерссона, в которых они сознались, это дело закрыто и прекращено с его смертью. Но что, если были и другие шалости?
Выстрел в окно гостиной.
Чокнутые язычники там, на равнине. Убийство слишком похоже на ритуал.
И семейство Мюрвалль — как огромная тень, накрывшая все расследование.
И оружие в сейфе.
Мария Мюрвалль, бессловесная, изнасилованная. Кем? Бенгтом?
В ответ на этот вопрос Малин хочется сказать «нет». Но она знает: ни одну из дверей не следует закрывать раньше времени. Вместо этого она пытается охватить взглядом необозримое. Прислушивается к разным голосам. Кто еще выйдет из мрака?
«Да…»
Она смотрит на первое слово в сообщении.
На несколько мгновений отрывает взгляд от дороги.
Да.
Однажды мы сказали это слово друг другу, Янне, но мы не видели того, что нам предстоит. Какими же самоуверенными мы тогда были!
Поставив машину на парковку, Малин спешит в квартиру. Поджаривает себе пару яиц, опускается на диван и включает телевизор. Она останавливается на программе, в которой какие-то психически неуравновешенные американцы соревнуются в конструировании самого красивого и удобного мопеда. Программа поднимает ей настроение, и через несколько рекламных пауз она понимает почему.
Янне мог бы находиться среди этих американцев! Как был бы он счастлив, оторвавшись от будней, от всех воспоминаний, предаться тому, что в действительности составляет его единственную страсть.
Малин смотрит на бутылку текилы на столе.
Как это сюда попало?
Это ты поставила, Малин, как только убрала со стола тарелку с остатками яичницы.
Жидкость янтарного цвета.
Не выпить ли немного?
Нет.
Программа о мотоциклах закончилась.
В дверь звонят. Первое, что приходит в голову Малин, — это Даниэль Хёгфельдт, перешедший все границы и явившийся к ней без предупреждения, как будто их отношения узаконены официально.
Вряд ли это Даниэль. Но возможно.
Малин идет в прихожую и открывает дверь, не взглянув в глазок.
— Даниэль, черт тебя…
Нет.
Это не Даниэль.
Это мужчина с темно-синими глазами, пропахший машинным маслом, жиром, потом и лосьоном для бритья. Его глаза горят. Они кричат, почти в ярости глядя на нее.
Он стоит напротив двери. Малин смотрит на него, и что она видит? Злобу, отчаяние, бешенство? Он невероятно велик, намного больше, чем казался тогда, на кухне. Какого дьявола он тут делает? Зак, ты должен быть сейчас здесь. Или он хочет войти?
Внутри все сжимается от ужаса, а через доли секунды начинает незаметно трястись. Его глаза. Дверь надо закрыть, он настроен решительно.
Она пытается захлопнуть дверь — но нет. Огромный черный сапог мешает. Проклятый сапог! Она бьет его, пинает, топчется на нем, но это причиняет боль только ей самой. Потому что он словно стальной, а ее ноги в одних чулках такие слабые, беззащитные…
Мужчина силен — он кладет руки на дверь и снова распахивает ее.
Противостоять ему бессмысленно.
Мария Мюрвалль. Или будет то, что было с тобой?
Страх.
Сейчас он скорее мысль, чем чувство.
Адам Мюрвалль.
Это ты причинил боль своей сестре? Оттуда этот взгляд? Не потому ли ты так рассердился сегодня?
Только страх. Перебори его.
И где куртка с моим пистолетом? Но он только смотрит на меня, улыбается, ухмыляется, а потом глядит растерянно и отодвигает ногу. Он не рвется внутрь. Он убирает руки, поворачивается и уходит так же быстро, как, должно быть, пришел.
Черт.
Руки дрожат, в теле мощный выброс адреналина, сердце стучит как сумасшедшее.
Малин озирает лестничную площадку. На каменном полу бумажка. Неровный, прыгающий почерк.
Оставь семью Мюрвалль в покое.
Это не твое дело.
Вот так, просто. Даже с угрозой. Не твое дело…
И тут Малин начинает чувствовать его снова, этот страх. Он закипает, разгоняя по телу адреналин, а потом переходит в ужас, и она захлебывается собственным дыханием. А если бы Туве была дома?
Потом ужас сменяется гневом.
Как, черт возьми, можно быть таким глупцом!
Мужчина за дверью.
Он мог бы взять меня, разорвать на части.
Я ведь совсем одна.
Она возвращается на диван. Садится, одолевая искушение выпить текилы. Проходит пять минут, десять, может, полчаса, прежде чем она собирается с духом, чтобы позвонить Заку.
— Он только что был здесь.
— Кто?
Внезапно его имя вылетает у Малин из головы.
— Тот, с темно-синими глазами.
— Адам Мюрвалль? Прислать к тебе кого-нибудь?
— Нет, к черту. Он уже ушел.
— Проклятье, Малин, проклятье… Что он сделал?
— Думаю, можно сказать, что он угрожал мне.
— Мы заберем его немедленно. Приезжай, как только будешь готова. Или мне заехать за тобой?
— Спасибо, я справлюсь сама.
Три машины с голубыми мигалками — на две больше, чем приезжало несколько часов назад. Адам Мюрвалль видит их в окно: они остановились перед его домом. Он готов, он знает, зачем они здесь и зачем он сделал то, что сделал.
— Нужно высказаться.
Тысяча разных вещей: и младшая сестра, и старший брат, и то, что произошло в лесу. Но ведь если человек вбил себе что-то в голову, ничего другого для него не существует.
— Поезжай к этой полицейской девке, Адам. Отдай ей записку и уходи.
— Мама, я…
— Поезжай.
В дверь звонят. Наверху спят Анна и дети, братья спят в своих домах. На пороге четверо полицейских в форме.
— Можно, я надену куртку?
— Будешь препираться с нами, дьявол?
И вот полицейские сидят на нем, а он, лежа на полу, с трудом глотает воздух. Они прижимают его к полу, а Анна с детьми стоит на лестнице, и дети кричат: «Папа, папа, папа…»
Во дворе полицейские удерживают братьев на расстоянии, а его ведут, словно пойманную бродячую собаку, к машинам.
А где-то там, в освещенном окне, стоит мать и смотрит на него, пытаясь выпрямить свою скрюченную спину.
34
На морозе тревога развеивается и страх исчезает, сходит на нет эффект адреналина. По мере приближения к зданию полицейского участка Малин все больше настраивается на сегодняшнюю встречу с Адамом Мюрваллем и завтрашнюю с остальными братьями. Ведь как бы ни желали они оставаться вне общества, сейчас они вмешались в его дела, и обратного пути нет, даже если такая жизнь и была возможна раньше.
Проходя мимо старой пожарной станции, Малин, сама не зная почему, вдруг вспоминает о родителях. О кирпичном доме в Стюрефорсе, где выросла. Лишь потом она поняла: мама всегда хотела, чтобы их дом казался шикарнее, чем был на самом деле. Но немногие понимающие люди, переступавшие его порог, конечно, видели, что «роскошные» ковры на полу довольно среднего качества, литографии на стенах из тех, что штампуются большими тиражами, а в целом все это жилище — не более чем попытка пустить пыль в глаза. Или все было совсем не так?
Быть может, я спрошу тебя об этом, мама, когда мы увидимся в следующий раз. Но ты, конечно, отмахнешься от моего вопроса, даже если поймешь, что я имею в виду.
— Вот ведь дурак! — возмущается Зак.
Малин снимает куртку и вешает на свой стул. Весь участок в ожидании, и даже запах свежесваренного кофе кажется другим, не таким, как по утрам.
— Не слишком умно, правда?
— Не знаю, не знаю… — отвечает Малин.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Они из тех, кто управляет эволюцией. Ты об этом не думал?
— Не усложняй. — Зак качает головой. — С тобой все в порядке?
— Да, более-менее.
Двое полицейских в форме, с красными от горячего кофе щеками, выходят из буфета.
— Мартинссон! — кричит один из них. — Сколько голов забил твой парень в матче против «Модо»?
— Он был чертовски хорош против «Ферьестада», — замечает другой.
Зак игнорирует реплики коллег, делает вид, что занят и не слышит.
На помощь приходит Карим Акбар.
— Мы взяли Мюрвалля, — говорит он, встав рядом с Заком и Малин. — Шёман проследил, чтобы пикет забрал его прямо сейчас. Доставят с минуты на минуту.
— На каком основании его задержали? — спрашивает Малин.
— Преследование полицейского у него дома.
— Он позвонил в мою дверь и оставил записку.
— Она при тебе?
— Конечно.
Малин роется в кармане куртки, достает свернутый листок, протягивает Кариму, который осторожно разворачивает его и читает.
— Ясно как божий день, — провозглашает он. — Воспрепятствование осуществлению уголовного расследования, граничащее с преследованием и запугиванием.
— Все так и есть, — соглашается Зак.
— Малин, почему именно ты, как думаешь?
— Все просто — потому что я женщина, — вздыхает Малин. — А женщину легко запугать. Так скучно…
— Предрассудки — это всегда скучно, — говорит Карим. — И больше ничего?
— Ничего другого мне не приходит в голову.
— Где Шёман? — спрашивает Зак.
— Едет сюда.
Что за возня у входа?
Они уже здесь? Нет, на площадке нет синих мигалок.
И тут она видит его.
Даниэль Хёгфельдт жестикулирует, возбужденно говорит, но сквозь пуленепробиваемое звуконепроницаемое стекло между офисным помещением и вестибюлем ничего не слышно. Она может лишь видеть это хорошо знакомое лицо, фигуру в кожаной куртке. Он чего-то хочет, он что-то знает, выглядит серьезно и в то же время как будто играет.
Рядом с Даниэлем юная девушка-фотограф увлеченно снимает Эббу — сотрудницу за регистрационной стойкой, и Малин задается вопросом: что будет, если вдетое в нос кольцо застрянет в камере или растаманские косички запутаются вокруг объектива?
Бёрье Сверд пытается успокоить Даниэля, но потом удаляется, безнадежно качая головой.
Даниэль бросает взгляд в сторону Малин. Выражение самодовольства так и разливается по его лицу. А может быть, это тоска? Игривость? Трудно определить.
«Фиксирует взгляд», — думает Малин.
— Встречаем прессу! — объявляет Карим, улыбаясь Малин, в то время как сама кожа на его лице вдруг становится какой-то другой.
— Итак, Малин, — обращается он к ней, — ты выглядишь усталой. Все в порядке?
«Усталой? Ты никогда не скажешь такого коллеге мужского пола», — думает Малин, поворачиваясь к своему компьютеру и делая вид, что занята.
Карим улыбается снова.
— Но, Форс, я только спросил, из самых лучших побуждений.
К ним выходит Бёрье Сверд. Взгляд его слегка возбужден, как у человека, получившего нечто такое, что бы очень хотелось иметь всем остальным.
— Профессиональная журналистская гордость. Он хотел узнать, подозреваем ли мы Адама Мюрвалля в убийстве или задержали его по какой-то другой причине, и разозлился, когда я ответил «без комментариев».
— Не раздражай прессу без необходимости, — делает замечание Карим. — Эти журналисты несносны не более, чем обычно. Собственно, как он узнал, что у нас здесь происшествие?
— Восемь полицейских, восемь мобильных телефонов, — отвечает Зак.
— Плюс еще трое, — добавляет Малин.
— Плюс смешные заработки, — уточняет Карим и направляется к Даниэлю.
— Что это было? — спрашивает Бёрье. — Попытка заигрывания с работягами?
— Кто знает, — отвечает Зак. — Может, и у него бывают неподконтрольные порывы.
— С ним все в порядке, — заступается за Карима Малин. — Хватить болтать вздор.
Снаружи яростно замигали синие огни — и вот уже мускулистые коллеги распахивают двери белых автомобилей пикета.
Мускулы.
Они вцепились в руки Адама Мюрвалля железной хваткой, жмут его так и этак — и вот уже наручники режут ему запястья. Рывок — и тело в инстинктивной попытке защититься наклоняется вперед, голова свешивается, и в таком положении они ведут его. Мелькают их синие брюки, черные ботинки, а магнетический синий свет делает покрытую снегом асфальтированную площадку похожей на звездное небо. Вспышки фотокамер. Вот разъезжаются автоматические двери. Холод снаружи сменяется холодом внутри.
Резкий голос — это мужчина или женщина?
— Адам Мюрвалль, вы знаете, за что вас задержали?
«Ты считаешь меня дураком?»
Потом еще одна дверь, синяя, под ногами узор цвета беж, голоса, лица, молодые девицы, пара усачей.
— Ведите его в комнату для допросов. Немедленно.
— В какую?
— Первую.
— Кто?
— Ждем Шёмана, — произносит решительный мужской голос.
«Он думает, что акцента не слышно. Но так или иначе, он всего лишь чертов чурка».
Через окошко в комнате допросов Малин видит, как Свен Шёман включает магнитофон, слышит, как он начитывает время и дату, свое имя и имя допрашиваемого, а также номер дела.
Она видит, как Шёман устраивается на покрытом черным лаком металлическом стуле.
Комната четыре на четыре метра.
На серых стенах перфорированные акустические панели. Большое зеркало, которое не обманешь. За ним окошко. «Через него за мной наблюдают». В черный потолок вмонтированы галогеновые лампы. Здесь доверие должно возникнуть и укрепиться, вина — подтвердиться, преступник — признаться. Правда должна выйти наружу, а она требует покоя и тишины.
Нет человека спокойнее Свена.
Это его дар.
Это нужно для того, чтобы человек доверился, чтобы из врага стал другом.
Он действует примерно так: «Расскажи мне о доме, где ты живешь. Как он выглядит? Детали, мне нужны детали».
По другую сторону сидит Адам Мюрвалль.
Он спокоен.
Руки в наручниках на блестящей поверхности покрытого черным лаком стола, свежие синяки чуть выше металлических колец. В полумраке цвет его глаз выравнивается, и Малин в первый раз обращает внимание на его нос, неуверенный, с острым кончиком и аккуратными, словно точеными ноздрями.
Не совсем крестьянский нос.
И не кран, как говорят на равнине.
— Что, Адам, — обращается к нему Свен, — не мог сдержаться?
Лицо Адама Мюрвалля неподвижно, он только крутит руками, отчего слышится режущий звук металла, трущегося о металл.
— Мы не будем говорить об этом сейчас. И о твоей сестре тоже. Мы поговорим об автомобилях, если тебе это больше нравится.
— Нам вообще не о чем разговаривать, — обрывает его Адам Мюрвалль.
Свен нагибается через стол. Его голос — квинтэссенция дружелюбия и доверительности:
— Расскажи мне о тех автомобилях в вашем саду. Думаю, разбирая их, вы зарабатываете хорошие деньги?
35
Тщеславие, Малин. Управляй ими при помощи тщеславия. Тогда они раскроются. А когда они раскроются, все встанет на свои места.
Свен Шёман.
Мастер вытягивать, дать высказаться.
Адам Мюрвалль думает, что этот человек работает в полиции давно, хотя и не так давно в этом городе — иначе бы он его помнил. Потому что не мог забыть. Они никогда не забывают. «Или он притворяется? Сейчас они стоят за зеркалом, пялятся на меня. Пяльтесь, что мне с того! Думаете, я проболтаюсь? Как вы только могли подумать! Не волнуйся за автомобили, но, конечно, если тебя интересуют автомобили, я всегда готов говорить о них. Что в них секретного, в автомобилях?»
Адам чувствует, что немного расслабился, сам того не желая.
— Тебя не было здесь десять лет назад, — говорит он. — Где ты был тогда?
— Поверь, моя карьера сложилась не слишком удачно, — отвечает Свен. — Десять лет назад я был криминальным инспектором в Карлстаде, но потом жена получила здесь работу, и мне ничего не оставалось, как немного подвинуться.
Адам Мюрвалль кивает, и Малин видит, что он доволен ответом. Почему его заботит послужной список Шёмана? И тут Малин осеняет: если бы Шёман был в городе давно, он встречался бы с братьями и раньше.
Тщеславие, Малин, тщеславие.
— Ну так что с автомобилями?
— Да, мы этим занимаемся.
Голос Адама Мюрвалля звучит как только что смазанный мотор. Он доволен собой.
— Мы их разбираем и продаем годные части.
— И на это живете?
— Кроме того у нас есть бензоколонка. Возле дороги, в сторону акведука. Заправочная станция.
— И так сводите концы с концами?
— Сводим, похоже, или как?
— Ты знал Бенгта Андерссона?
— Я знал, кто он был. Все это знали.
— Он имеет какое-то отношение к изнасилованию твоей сестры, как думаешь?
— Черт с ним, не будем об этом.
— Я должен был спросить, Адам, ты знаешь.
— Не хрюкай тут ничего о Марии. Незачем трепать ее имя.
Свен поудобнее устраивается на стуле, ни единым движением не выдавая, что обиделся.
— Ты хорошо ладишь с сестрой? Я слышал, что именно ты навещаешь ее чаще других братьев.
— Не говори о Марии. Оставь ее в покое.
— Так ты поэтому написал записку?
— Это не ваше дело, мы разберемся сами.
— А что ты делал в ночь со среды на четверг?
— Мы ужинали у мамы. А потом я со своей семьей пошел домой.
— Значит, вот как ты проводил время. Значит, это не вы повесили Бенгта на дерево? Или вы и с этим разобрались сами?
— Свинья. — Адам качает головой.
— Кто? Я или Бенгт? А может, это ты или кто-то из твоих братьев стрелял в окно его гостиной? Может, вы проникли к нему однажды вечером, как сегодня к инспектору Форс? Чтобы оставить сообщение?
— Я ничего не знаю ни о каких выстрелах в какое-то чертово окно. Больше я ничего не скажу. Ты можешь продержать меня здесь хоть всю ночь. Отныне и навсегда я нем.
— Как твоя сестра?
— Что ты знаешь о моей сестре?
— Что у нее доброе сердце. Это все говорят.
Мышцы на лице Адама Мюрвалля немного расслабляются.
— Ты знаешь, что ты на плохом счету, ведь так? Угроза должностному лицу, ожесточенное сопротивление, воспрепятствование судопроизводству. С твоим прошлым это серьезные вещи.
— Я никому не угрожал. Я передал письмо.
— Я знаю, каким злым ты можешь быть, Адам. Ты был зол на отвратительного, жирного Бенгта, который изнасиловал твою сестру и разбил ее доброе сердце? Так, Адам? Это ты повесил…
— Я должен был сделать это.
— Так это ты…
— Ты думаешь, что знаешь все.
— Чего же я не знаю?
— Иди к черту, — шепотом отвечает Адам Мюрвалль и медленно прикладывает указательный палец ко рту.
Свен выключает магнитофон и поднимается. Потом выходит из комнаты, оставляя Адама Мюрвалля одного.
Тот сидит с неправдоподобно прямой спиной, как будто его позвоночник представляет собой стальную балку, которую невозможно сломать никаким усилием.
— Что вы об этом думаете? — Свен Шёман смотрит на коллег.
Карим Акбар, весь в ожидании, застыл у двери.
— Здесь что-то не стыкуется, — говорит Малин, но сама не может понять, что именно.
— Он не отрицает, — замечает Юхан Якобссон.
— Они — крутые парни, — говорит Зак. — Отрицать или признаться, им все равно, лишь бы не уступить. С ними не все так просто.
— Свен решил задержать Адама. На ночь мы посадим его в самую холодную камеру, может, тогда он станет сговорчивее, — заявляет Карим.
Все замолкают, недоумевая, в шутку это сказано или всерьез.
— Я шучу, — поясняет Карим, выдержав паузу. — Уж не думаете ли вы, что я собираюсь устроить здесь курдскую тюрьму?
Карим смеется, на лицах остальных появляются улыбки.
Черные стрелки часов на стене показывают двадцать минут двенадцатого.
— Я думаю, имеет смысл поговорить со всей семьей Мюрвалль, — предлагает Малин. — Завтра.
— Мы можем держать его здесь неделю. Братьев и мать вызовем на завтра. Жен тоже надо прихватить, — поддерживает Карим.
Малин видит сквозь звуконепроницаемое стекло, как двое полицейских в форме — бройлеры из пикета — выводят Адама Мюрвалля из комнаты для допросов, чтобы поместить в тюремную камеру.
Небо усеяно звездами.
Млечный Путь словно улыбается людям. Звезды смотрят строго и в то же время тепло, умиротворяюще.
Малин и Зак стоят на парковке возле черного «мерседеса» Карима Акбара.
Скоро полночь.
Зак курит, что делает редко. Пальцы посинели от мороза, но ему все нипочем.
— Не стоит так переживать, Форс.
Звезды смотрят холоднее.
— Переживать по поводу чего?
— По поводу всего.
— Всего?
— Сбавь обороты, не суетись.
Малин молчит, ждет, что небо снова потеплеет, но оно все так же холодно. Оно не потеплеет никогда.
Зак тушит сигарету, роется в поисках ключей от машины.
— Поедешь со мной?
— Нет, пройдусь, — отвечает Малин. — Немного прогуляться мне не помешает.
Адам Мюрвалль лежит на тюремной койке. Он натягивает одеяло на свое мускулистое тело и вспоминает слова Черного, которые тот опять и опять повторял, до головокружения, как мантру, когда сидел на кухне, уже полностью прикованный к своему инвалидному креслу:
— День, когда ты уступишь, будет началом твоего конца. Конца, ты понял?
Черный уступил. Хотя сам так и не понял этого.
Потом Адам Мюрвалль думает о матери, о том, что она может положиться на него так, как он никогда не мог положиться на нее. Она всегда стояла как стена между ними и всеми остальными.
Адам не из тех, кто много болтает. Дети теперь, конечно, спят, хотя Анне, вероятно, было нелегко успокоить их.
Адам Мюрвалль представляет себе, как ходит вверх-вниз хрупкая грудная клетка семилетней Аннели, светлые кудри трехлетнего Тобиаса на простыне с маленькими голубыми парусниками, видит восьмимесячного малыша, лежащего на спинке в детской кроватке.
Потом Адам засыпает, и ему снится собака, стоящая зимой за дверями дома. Ночь ясная, звездная, и собака воет так громко, что трясутся ржавые гвозди, на которых держится дверь. Адам видит самого себя, сидящего за накрытым столом на кухне в большом белом доме. Он видит, как чья-то рука, покрытая тонкими изящными жилками, отламывает ножку от запеченного в духовке цыпленка и бросает в окно собаке, которая все мнется и воет в снегу.
Получив еду, собака умолкает. Но потом вой раздается снова, теперь в нем слышится иное.
Впустите меня.
Не оставляйте стоять снаружи.
Мне холодно.
36
Девятое февраля, четверг
В этом нет ничего кошмарного.
Это всего лишь сон.
Янне меряет шагами гостиную своего дома. Мальчики из лагеря для беженцев в Кигали снова являлись к нему этой ночью, опять и опять. Они подходили к его кровати, неся в руках свои отрубленные ноги. Темно-красная кровь капала на его простыню. Кровь была совсем свежей и пахла железом.
Он проснулся оттого, что промок насквозь.
Но это всего лишь пот.
Как обычно.
Похоже, тело помнит влажные ночи в джунглях и воспринимает прошлое острее, чем настоящее. Он взбегает вверх по лестнице, приоткрывает дверь в комнату Туве. Там она спит, в тепле и безопасности.
В комнате для гостей лежит Маркус. Нормальный парень, насколько успел разглядеть Янне за коротким ужином, прежде чем те двое исчезли в комнате Туве.
Он ничего не сказал Малин о том, что с ними будет ночевать и Маркус. Она не интересовалась, и он мог бы оправдаться тем, что думал, будто ей это известно. «Конечно, Малин станет возмущаться, но ведь все в порядке, — думает Янне, спускаясь вниз. — Все же лучше, когда они у нас на виду, в квартире отца невесты.
Отца невесты?
Как я мог такое подумать?
Разумеется, я позвонил папе Маркуса и сообщил, что все хорошо.
Он был приветлив. Не такая важная птица, как большинство докторов, с которыми я сталкивался в больнице, когда приезжал туда с машиной „скорой помощи“».
Наутро в полицейском участке появилась семья Мюрвалль. Они прибыли на зеленом «рейнджровере» и миниавтобусе «пежо» уже в восемь часов.
Лакированная краска на машинах, извергающих — именно так выразилась про себя Малин — людей, переливается на солнце всеми цветами радуги.
Клан Мюрвалль: мужчины, женщины и дети, один за другим, осаждают фойе полицейского участка.
Болтают не умолкая.
Люди в точке разрыва.
Они замолчат именно в тот момент, когда потребуется, чтобы они говорили. На каждом лице, в каждом движении, взгляде — сознательное смешение упрямства и растерянности. Невероятная пестрота одежд: потертые джинсы, рубашки и куртки кричащих расцветок в самых немыслимых комбинациях; грязь, пятна и детские сопли, словно склеивающие их в одно целое.
— Цыгане, — шепчет Бёрье Сверд в ухо Малин, наблюдая сцену из окна в офисе, — цыганский табор.
В центре группы сидит мать.
Одинокая в этой толпе.
— У вас прекрасная семья, — обращается к ней Бёрье Сверд, барабаня пальцами по столу в комнате для допросов.
— Мы держимся вместе, — твердо отвечает она, — как в старые времена.
— Сегодня такое редко увидишь.
— Да, но мы держимся вместе.
— У вас, фру Мюрвалль, так много замечательных внуков!
— Девять в общей сложности.
— Вероятно, могло быть и больше. Если б Мария…
— Мария? Чего вам от нее надо?
— Что вы делали в ночь со среды на четверг на прошлой неделе?
— Спала. Что еще делать пожилой женщине ночью?
— А ваши сыновья?
— Мальчики? Тоже спали, насколько мне известно.
— Вы были знакомы с Бенгтом Андерссоном?
— Бенгтом… как, инспектор? Я читала о нем в газете, если вы имеете в виду того, которого они повесили на дереве.
— Они?
— Да, я как будто читала, что их было несколько.
— Столько же, сколько у вас сыновей?
— Инспектор, и вам не стыдно?
Малин смотрит в глаза Софии Мюрвалль. Мешки под ними почти опускаются на щеки, но каштановые волосы как будто свежевымыты и собраны в аккуратный хвост на затылке.
В зале заседаний, который используется как вторая комната для допросов, сидят Якоб, средний брат, его жена и четверо детей. Старшему десять лет, младшему семь месяцев.
Измученные, невыспавшиеся, они буквально валятся от усталости.
— Четверо детей, — говорит Малин, — вы должны считать себя счастливой. У меня только один.
— Здесь можно курить?
— Нет, к сожалению, с этим строго. Но я могу сделать исключение, — отвечает Малин, подвигая ей чашку из-под кофе. — Это вместо пепельницы.
София Мюрвалль роется в карманах зеленой куртки-«монах», достает пачку «Бленда» с ментолом и зажигалку с рекламой какого-то транспортного предприятия.
Она закуривает, Малин начинает тошнить от сладковатого мятного запаха, и ей стоит труда сохранять на лице улыбку.
— Должно быть, непросто жить там, на равнине?
— Временами бывает невесело, — отвечает София Мюрвалль, — но кто сказал, что должно быть легко?
— Как вы познакомились с Якобом?
София оборачивается назад, делает затяжку.
— Это вас не касается.
— Вы счастливы?
— Обалдеть как счастливы…
— И даже после того, что случилось с Марией?
— Это ничего не изменило.
— Трудно в это поверить, — сомневается Малин. — Якоб и его братья, должно быть, сильно переживали?
— Они заботились о своей сестре, если вы это хотите знать, и продолжают до сих пор.
— Это заботясь о своей сестре, я полагаю, они повесили Бенгта Андерссона на дереве?
В дверь стучат.
— Войдите!
В комнату заглядывает недавно назначенная ассистент полиции по имени Сара.
— Там плачет мальчик. Говорят, его надо покормить. Можно?
На лице Софии Мюрвалль не отражается ничего.
Малин кивает.
Женщина, должно быть жена Адама Мюрвалля, вносит толстого орущего младенца и передает Софии. Малыш разевает рот, ищет грудь. София Мюрвалль, затушив сигарету, распахивает куртку-«монах». Ребенок жадно хватает розовый сосок.
Понимаешь ли ты, в чем твое счастье?
Знаешь ли ты, что это такое?
София гладит ребенка по головке.
— Проголодался, мой дорогой?
Потом говорит:
— Якоб не может иметь к этому никакого отношения. Это невозможно. Он спит дома каждую ночь, а днями пропадает в мастерской. Я вижу его там из окна кухни.
— А свекровь? У вас с ней все хорошо?
— Да, — отвечает София Мюрвалль. — Она самый замечательный человек из всех, кого я знаю.
Элиас Мюрвалль молчит. Его память подобна раковине с жемчужиной внутри.
— Я ничего не скажу. Все разговоры с полицией я прекратил пятнадцать лет назад.
— Мы не такие страшные, — подает голос Свен Шёман. — Уж точно не страшнее крутых парней вроде тебя.
— А если я ничего не скажу, то как вы узнаете, что я делал и чего не делал? Или вы считаете, что я слабак и поддамся на ваши уговоры?
— То-то и оно, — отвечает Свен Шёман, — что мы не считаем тебя слабаком. Но если ты ничего не скажешь, у нас будут трудности. Ты хочешь, чтобы у нас были трудности?
— Что ты имеешь в виду?
— Это ты стрелял…
Но рот Элиаса Мюрвалля сшит невидимой хирургической нитью, а язык парализован и неподвижно лежит во рту. Мертвую тишину нарушает только гудение вентиляторов.
Со своего места Малин не слышит звука. Но она знает, что он есть: глухое механическое жужжание. Людям нужен свежий воздух.
Якоб Мюрвалль смеется в ответ Шёману.
— Какое мы можем иметь к этому отношение, вы с ума сошли! Мы теперь законопослушные граждане, живем тихо. Механики хоть куда!
— Хорошо, — говорит Бёрье Сверд. — Но ходят слухи, что вы угрожали человеку, который хотел купить в Блосведрете дом, выставленный на продажу, агенту по недвижимости. Что ты на это скажешь?
— Брехня. Это наша территория, и если мы предлагаем более высокую цену, то покупаем мы.
— В ночь со среды на четверг? Я спал в постели рядом со своей женой. Да, не всю ночь, но я был там, в постели со своей женой.
— Мария? Ты недостоин произносить ее имя. Слышишь ты, полицейское рыло? Бенгт Андерссон… Мария… Мяченосец — выродок, ей надо было послать его ко всем чертям.
Якоб Мюрвалль вскакивает, но затем опять оседает на стул, словно мускулы теряют свою силу.
— Она заботилась о нем. Она была самым добрым, самым теплым человеком. Божьим подарком этой проклятой планете. Она всего лишь заботилась о нем, можешь ты это понять, полицейское рыло? Она была такой. И никто не мог помешать ей. И если он отблагодарил ее тем, что сделал в лесу, то он заслужил смерть и дорога ему в преисподнюю.
— Но вы ему не помогали туда попасть?
— А ты как думаешь, полицейское рыло, как ты думаешь?
37
«Армия отступает», — замечает про себя Малин.
Клан Мюрвалль покидает фойе полицейского участка, дрожит на морозе, занимает места в своих машинах.
Элиас и Якоб усаживают мать на переднее сиденье автобуса — разве она не справилась бы сама?
Она только что стояла в вестибюле, с шалью на голове, ее широко открытые глаза, казалось, были готовы выскочить из орбит.
Она кричала на Карима Акбара:
— Я должна забрать моего Адама домой!
— Руководитель предварительного расследования…
Карим, в котором с детства воспитывали уважение к старшим, был обескуражен внезапным приступом гнева пожилой женщины.
— Ему надо домой. Немедленно!
Остальные члены семьи стояли за ней стеной, впереди жена Адама, дети, вьющиеся у нее под ногами, всхлипывающие.
— Но…
— Тогда я должна, по крайней мере, увидеть его.
— Фру Мюрвалль, ваш сын… он не может принимать посетителей. Руководитель предварительного расследования Свен Шёман…
— По мне, хоть сам дьявол руководитель предварительного расследования! Я должна увидеть моего мальчика, и все.
Улыбка быстро превращается в гримасу, обнажаются невероятно белые зубные протезы.
Это возмущение — спектакль, игра.
— Я посмотрю, что можно…
— Да ничего ты не можешь сделать.
С этими словами Ракель Мюрвалль поворачивается, поднимая руку, и командует отступление.
Часы на стене в вестибюле показывают 14.50.
Зал заседаний. Слишком холодно для проветривания, поэтому здесь все еще пахнет сигаретами с ментолом.
— Лисбет Мюрвалль обеспечила алиби своему мужу Элиасу, — говорит Малин.
— Все они так или иначе обеспечат друг другу алиби, — отвечает Зак.
— Похоже, они никак не связаны с Бенгтом Андерссоном, если не считать того, что он был клиентом их сестры и проходил по делу об изнасиловании, — замечает Юхан Якобссон.
— Тем не менее мы должны провести обыск в Блосведрете, — добавляет Свен Шёман. — Я хочу знать, что есть в тех домах.
— Достаточно ли у нас оснований? — сомневается Карим Акбар. — Мотив, несколько улик — и больше мы ничего не имеем.
— Я знаю, что мы имеем. Этого достаточно.
— Мы только посмотрим немного, — успокаивает его Бёрье Сверд. — Это не так уж страшно.
«Всего лишь перевернем все вверх дном, — думает Малин, — остальное не страшно». И говорит Кариму:
— Выпиши ордер.
— О’кей, — соглашается Карим.
— Я хочу поговорить с родителями Иоакима Свенссона и Йимми Кальмвика, — напоминает Малин. — Кто-то должен подтвердить, чем они занимались в среду вечером. Возможно, мы больше узнаем и о том, как они преследовали Бенгта Андерссона.
— Выстрел, — напоминает Зак. — Мы по-прежнему не знаем, кто стрелял.
— Делаем так, — объявляет Свен. — Сначала обыск. Потом можете поговорить с родителями парней.
Малин кивает и думает о том, что в операции в Блосведрете должны быть задействованы все силы. Кто знает, что может прийти в голову этим безумцам.
Потом ей вспоминаются слова испуганного Фредрика Уннинга: «Ведь это останется между нами, правда?» И она понимает, что теперь просто обязана провести эту линию расследования как можно дальше.
— На Блосведрет! — провозглашает Юхан, вставая.
— Если замутить воду в болоте, что-нибудь всплывет обязательно, — замечает Бёрье.
Болото. Ты знаешь кое-что о нем, Бёрье, ведь так?
Ты побывал в болоте, когда бессонными ночами лежал рядом со своей женой и слышал, как ей трудно дышать, потому что ее атрофировавшаяся диафрагма еле-еле удерживает легкие.
Ты чувствовал влагу, слизь на своих пальцах, ночью, в слабо освещенной спальне, когда она хотела, чтобы за ней ухаживал ты, а не безымянный социальный работник.
Да, ты знаешь кое-что о болоте, Бёрье, но есть и то, чего ты не знаешь.
Ты тоже по-своему ловил за оградой мячи, но никто не смеялся над тем, как ты это делал.
Ты никогда, никогда не был по-настоящему голоден, Бёрье.
По-настоящему одинок. Опасно одинок. Одинок настолько, чтобы остро отточенным топором отрубить ухо своему отцу.
Я парю над равниной, приближаясь к Блосведрету. Отсюда, сверху, строения этого крохотного поселка похожи на черные точки на бесконечном белом покрывале, а дерево, где я висел, напоминает частичку пепла в нескольких милях к западу.
Я опускаюсь, вижу автомобили, мерзнущих полицейских и Мюрваллей, собравшихся на кухне дома Ракели. Слышу их проклятия, вижу злобу, которую они не могут скрыть.
Если реактор не охлаждать, он взорвется. Или вы не понимаете принципа скороварки?
Насилие можно запереть, не более. А сейчас вы находитесь у его границы. Или вы думаете, что четыре человека в полицейской форме за дверями этого дома смогут удержать насилие внутри?
В мастерской, в самом большом или просто большом белом кирпичном доме?
Малин и тот, кого зовут Закариас, откройте двери одной из дальних комнат. Там, внутри, холодно, всего десять градусов, но вы почувствуете запах.
Тщеславие приведет вас туда.
Или любопытство?
Или, может, раскаяние, Малин?
Вам станет интересно, почему Мюрвалли не убираются как следует у себя дома, и этот интерес перерастет в подозрительность. Что же это такое? Что за зверь, который вечно лезет на рожон?
И вы увидите цепи высоко под сводом, траверсы, которые помогают людям поднимать тяжелые вещи к самому потолку, а то и к небу.
Вы увидите следы запекшейся крови.
И почувствуете запах.
И тогда вы поймете…
— Зак, посмотри!
— Я вижу. И чувствую.
Запах моторного масла, заполнявший первый, большой зал мастерской, во внутренней комнате словно выветривается.
— Света, надо больше света.
Тотчас легко разъезжаются хорошо смазанные огромные железные двери, разделяющие комнаты.
«Как невесомые», — замечает про себя Малин и видит следы колес, ведущие к выходу.
Здесь предметы теряют вес, как хорошо смазанная раздвижная дверь.
В этой комнате нет окон. Бетонный пол весь в пятнах. Цепи, закрепленные на балках, висят под потолком неподвижно и в то же время, кажется, издают скрежещущий звук, как гремучие змеи. На самом верху траверсы, словно маленькие черные планеты. Вдоль стен — стальные скамьи, матово блестящие в темноте. И этот запах смерти и крови.
— Там.
Зак указывает в сторону выключателя на стене.
Спустя несколько секунд комнату заливает свет.
Зак и Малин видят запекшуюся кровь на полу, на цепях, на ножах, аккуратно разложенных рядами на сверкающих стальных скамьях.
— Что за черт?
— Зови техников.
— А мы сейчас же осторожно выходим отсюда.
Малин, Зак и Юхан Якобссон стоят на кухне дома Адама Мюрвалля. Полицейские в форме вытряхивают содержимое ящиков в гостиной; пол завален газетами, фотографиями, скатертями и столовыми приборами.
— Внутренняя комната мастерской похожа на бойню? Может, там они и сделали все это? — спрашивает Юхан.
Зак кивает.
— А вы что нашли? — интересуется Малин.
— Весь подвал завален мясом. Огромные белые морозильные камеры. В них пакеты, на которых год и название продукта: «фарш две тысячи один», «стейк две тысячи четыре», «косуля две тысячи пять». Такие подвалы есть во всех домах. И в мамином, конечно, тоже.
— Что-нибудь еще?
— Невероятные кучи разного хлама, но бумаги не так много. Как видно, они не из тех, кто придает большое значение документации.
Их беседу прерывает крик из четырехместного гаража возле дома Элиаса Мюрвалля.
— У нас здесь есть кое-что! — возвещает радостный петушиный голосок.
«Неужели и у меня был такой же девять лет назад? — спрашивает себя Малин. — Когда я сразу после экзаменов в полицейской школе вернулась в родной город и отправилась в свой первый рейд в качестве патрульного? Вернулась… навсегда?»
Малин, Зак и Юхан выбегают из кухни Адама Мюрвалля, пересекают двор, дорогу и направляются к гаражу.
— Здесь! — кивает в угол один из самых молодых в форме.
Его глаза блестят от возбуждения, он указывает на погрузочную платформу «шкоды»-пикап.
— Невероятно! — восклицает он. — Похоже, эту чертову платформу просто мыли кровью.
«Едва ли», — думает Малин и предупреждает:
— Ничего не трогайте.
Она не замечает, как лицо молодого человека, только что счастливое и самодовольное, вдруг омрачает та ноющая, свербящая злоба, которую может вызвать только высокомерный начальник.
Мускулы живота Бёрье Сверда напряжены, он чувствует, как его тело буквально излучает силу.
Надо отдать должное этим придуркам: бензоколонка в приличном состоянии. Ничего необычного ни в магазине, ни в мастерских. Везде порядок и чувствуется знание дела. Здесь он и сам бы, пожалуй, оставил машину.
За магазином небольшой кабинет. Папки с бумагами на полке, факс. И еще одна дверь. Два крепких висячих замка на задвижке. Такие ли уж они крепкие?
В мастерской Бёрье находит лом. Возвращается в кабинет и просовывает его за задвижку, повисая на нем всей тяжестью. Вскоре замок поддается, Бёрье еще раз налегает на лом грудью — металл гнется, и задвижка отлетает.
Он заглядывает в комнату и сразу чувствует хорошо знакомый запах оружия. А потом видит ряды стволов, выстроившиеся вдоль стен. «Что за черт?» — думает он. И тут ему приходит в голову, что все это время комната не была достаточно хорошо защищена от взлома. Если человек хранит оружие на бензоколонке, то он не слишком опасается кражи, иначе держал бы его где-нибудь в другом месте.
Бёрье усмехается, представляя себе разговор в мини-автобусе: «Что бы вы ни делали, не трогайте бензоколонку в Блосведрете. Братья Мюрвалль совершенно сумасшедшие, имейте в виду».
Темнота сгущается у горизонта. Все смешалось в голове Малин: люди в форме и без, кровь, оружие, замороженное мясо. Вся семья собралась на кухне Адама Мюрвалля и теперь следит за ними из окна старухиного дома.
Малин кажется, что здесь кого-то не хватает. Кого? Ну конечно же, Даниэля Хёгфельдта. Ему полагалось бы уже подоспеть.
Но вместо него явился какой-то другой газетный писака, имени которого она не знает. Девица-фотограф все та же, с кольцом в носу и прочим.
Малин ловит себя на том, что ей очень хочется спросить про Даниэля. Но это совершенно невозможно, с какой стати?
Звонит телефон.
— Привет, мама.
— Туве, милая, я скоро буду дома. Сегодня у нас на работе так много всего случилось.
— Ты не хочешь спросить, хорошо ли мне было этой ночью у папы?
— Разумеется, тебе было…
— Да!
— Ты дома сейчас?
— Дома. Правда, я думала, не сесть ли мне на автобус и не поехать ли к Маркусу.
Сквозь шум доносится голос Юхана:
— Бёрье нашел на бензоколонке много оружия.
Малин глубоко вдыхает холодный воздух.
— К Маркусу? Было бы… может, ты там и перекусишь заодно?
38
Щеки Карин Юханнисон сияют, словно отражая свет фар. Ее коричневый загар оттенен блестящей тканью гламурного пуховика винно-красного цвета. Это уже не тот, что был на ней в прошлый раз, под деревом, другой.
«Бордо», — думает Малин. Именно так, должно быть, сама Карин обозначает этот цвет.
Карин качает головой, приближаясь к Малин, которая топчется у входа в мастерскую.
— Насколько мы можем судить, здесь кровь исключительно животных, но потребуется не один день, чтобы обследовать каждый квадратный сантиметр помещения. Если хочешь знать мое мнение, здесь они забивали животных.
— Давно?
— В последний раз несколько дней назад.
— На многих из них сейчас охота закрыта.
— Это я определить не могу, — говорит Карин.
— Однако это не мешает кое-кому охотиться круглый год, — продолжает Малин.
— Браконьерство?
Карин морщит лоб, словно ей неприятна сама мысль о том, что можно бродить по лесу в тридцатиградусный мороз с винтовкой за плечами.
— Вполне возможно, — отвечает Малин. — Ведь это деньги. Когда я жила в Стокгольме, то часто спрашивала себя, откуда в магазинах свежая лосятина круглый год.
Карин направляет взгляд в сторону гаража.
— Похоже, то же самое и с машиной. Насколько можно судить сейчас.
— Кровь животных?
— Да.
— Спасибо, Карин, — говорит Малин, улыбаясь сама не зная чему.
Карин смущена.
Она поправляет шапку так, что показываются мочки ушей, в каждой из которых мерцает по маленькой сережке с тремя бриллиантами.
— С каких это пор, — спрашивает она, — мы стали благодарить друг друга за выполнение служебных обязанностей?
На полу магазина при бензоколонке выстроились черные мешки для мусора, наполненные оружием. «Это не обычный магазин, — думает Малин, — с горячей колбасой и хот-догами, а просто центр бензоколонки». Несколько обязательных плиток шоколада да гудящий в углу ржавый холодильник для напитков, остальное — моторные масла, запчасти, автомобильные аксессуары.
Янне бы здесь понравилось.
Винтовки из Хюскварны.
Гравюры с изображениями косуль и лосей, мужчин, пробирающихся сквозь лесную чащу, цветов.
Охотничьи ружья «смит-и-вессон».
Пистолеты «люгер», кольт и «ЗИГ-Зауэр Р-225» — штатное оружие полиции.
Ни маузеров, ни пневматических ружей. Насколько может судить Малин, здесь нет оружия, из которого могло быть прострелено окно Бенгта Андерссона.
В домах нашлись только охотничьи дробовики и ружья. Может, у братьев есть тайник в другом месте? Или же, несмотря на весь этот арсенал, они не имеют никакого отношения к выстрелу в окно, как и утверждают?
Самое интересное: два армейских автомата «Карл-Густав М/45» и ручная граната. «Похожа на яблоко, — замечает про себя Малин, — на неправильной формы яблоко нездорового зеленого цвета».
— Слово даю, что эти пистолеты и граната с оружейного склада в Кварне, который был ограблен пять лет назад, — говорит Бёрье. — Тогда было украдено десять таких пистолетов и ящик гранат. Черт меня возьми, если это не оттуда.
Он кашляет, бродит взад-вперед по комнате.
— Со всем этим они могли бы начать войну, — говорит Зак.
— А может, уже начали, — отвечает Бёрье, — когда повесили Бенгта Андерссона на дереве.
Якоб и Элиас Мюрвалли сидят по обе стороны от своей матери за кухонным столом в ее доме. На заднем плане — выдвинутые ящики, на тряпичном ковре на полу груды фарфоровой посуды.
Братья напряжены, словно в ожидании приказа, который надо будет выполнить любой ценой. «Совсем как на войне, — думает Малин, вспоминая слова Бёрье, — готовые вот-вот подняться из окопа и ринуться на врага».
Ракель Мюрвалль, почтенная матрона, сидит между ними: нижняя челюсть слегка выдвинута, голова откинута.
— Вы, Малин и Зак, берите этих, — сказал Свен Шёман. — Надавите на них, припугните.
Полицейские в форме ждут за дверью, в гостиной — на всякий случай.
Зак и Малин сидят напротив этой троицы. Все давно расписано, ход допроса — рутина. Все старо как мир: есть зло и есть добро. У Зака глаза волка, почуявшего запах крови посреди замерзшей равнины.
— Хоть самого черта.
— О’кей. А ты выдержишь?
— Рядом с тобой я спокойна, как слон.
Малин нагибается через стол, смотрит сначала на Якоба, потом на Элиаса и их мать.
— Вы нажили себе кучу неприятностей.
На лицах никакой реакции. Все трое глубоко и ровно дышат, как будто их сердца и легкие работают в одном ритме.
— По пять лет каждому. Как минимум, — продолжает Зак. — Кража со взломом, незаконное хранение оружия, браконьерство, а если мы найдем человеческую кровь, речь будет идти об убийстве.
— Кража? Какая кража? — недоумевает Элиас Мюрвалль.
— Тсс… Ни слова больше, — шипит их мать.
— Или вы думаете, мы не можем взять вас за армейские пистолеты?
— Никогда, — шепчет Элиас. — Никогда.
Малин видит, как что-то в голосе Элиаса Мюрвалля выводит Зака из себя. Такое бывало и раньше — когда он, словно выдернув из себя предохранители, вдруг превращается в сгусток энергии, клубок мускулов и адреналина. Единым движением он огибает стол, хватает Элиаса Мюрвалля за шею и давит, прижимая его голову к деревянной столешнице так сильно, что у того белеют щеки.
— Проклятый индеец, — шепчет Зак. — Я повыдергиваю перья из твоей задницы и запихаю их тебе в глотку.
— Тихо, Якоб, — говорит мать. — Тихо.
— Это вы убили его, черт, вы сделали это? Там, в мастерской? Как паршивую собаку. А потом вывесили на дереве на всеобщее обозрение, чтобы вся проклятая равнина знала, как тягаться с Мюрваллями. Вы сделали это?
— Пусти, — шипит Элиас Мюрвалль, а Зак давит все сильнее. — Пусти меня, — скулит тот, и Зак убирает руку.
«Железная хватка, — думает Малин. — Ты и один бы справился с братьями, если бы потребовалось».
— Я понимаю, — спокойно говорит Малин, когда Зак возвращается на место, — вы не могли избавиться от мысли, что это Бенгт изнасиловал вашу сестру, и захотели отомстить ему так, чтобы это видели все.
— Какое нам дело до всех? — подает голос Якоб Мюрвалль.
Хозяйка откидывается на спинку стула, сложив на груди руки.
— Ни слова, мать, — говорит Элиас Мюрвалль.
— Разве этого не достаточно? — спрашивает Зак. — Мы, конечно, найдем кровь Бенгта на пикапе, и у нас будут все основания, чтобы предъявить обвинение.
— Вы не найдете там его крови.
— Вы должны были сильно разозлиться. В прошлый четверг вы поддались злобе. Это был день мести? — У Малин мягкий голос, в глазах сочувствие.
— Берите мальчиков за браконьерство и хранение оружия, — говорит мать. — Об остальном они ничего не знают.
«А ты знаешь?» — думает Малин.
— А вы знаете?
— Я? Я не знаю ничего. Расскажите ей об охоте, мальчики, и об избушке у озера, расскажите, и отделаемся наконец от этого.
39
Избушка, Малин.
Лес.
Нечто крадется между стволами там, на морозе.
Братья и мать.
Малин, это они причинили мне боль? Это они стреляли в мое окно, а потом повесили меня на дереве? Они покрыли ранами мое тело?
Они упираются. Пытаются сохранить то, что принадлежит им.
Или это были подростки?
Или язычники?
Вопросам нет конца.
Малин, поговори с родителями мальчиков, я знаю, что сейчас нужно делать вам с Закариасом. Внеси ясность. Подойди еще ближе к той правде, которую ищешь.
Где-то там, снаружи, есть ответ.
Где-то там, Малин.
Действуй по плану.
Не нарушай данной тебе схемы.
Ничего не оставляй, пока не будешь знать наверняка.
Объективность, Малин.
Любимое слово Свена Шёмана.
Перед ней двери, приоткрытые и закрытые, как эта.
Палец Зака на кнопке звонка. Над входом небольшой красный козырек, свет в окне рядом с дверью. Там кухня, но в ней никого нет.
Улица Палласвеген.
Около тридцати домов, построенных, судя по архитектуре, в конце семидесятых, разбросаны на забытом клочке земли сразу же за муниципальным пляжем Юнгсбру. По краям обледенелых, но тщательно посыпанных гравием дорожек выстроились мертвые белые кустарники, перед каждым подъездом расстилается небольшой, покрытый снегом газон.
«На виллу не тянет, — думает Малин. — Жилье ни то ни се, для тех, у кого нет средств на большее. Интересно, люди в этих домах тоже превращаются в ни то ни се? Даже гаражи за окруженной кустарником парковкой имеют какой-то расхлябанный вид».
Мама Иоакима Свенссона — Маргарета.
«Она дома, — думает Малин. — Почему же не открывает?»
Зак звонит снова, из его рта струится пар, белый в сгущающихся вечерних сумерках.
Когда они припарковались, часы в машине показывали 17.15. Вечер, или, может, ночь, будет долгим.
Братья сидят в камерах.
Где-то в лесу стоит избушка.
Потом Малин слышит шаги на лестнице. Скрип замка — и дверь приоткрывается.
«Ох уж все эти люди, — думает Малин, — те, что смотрят на мир сквозь щелку своей двери. Чего они боятся?»
Перед глазами возникает висящее на дереве тело Бенгта Андерссона.
Братья Мюрвалль. Ракель. «А пожалуй, хорошо, что ты, Маргарета, держишь дверь на замке».
— Маргарета Свенссон? Мы из полиции Линчёпинга, и у нас есть несколько вопросов, касающихся вашего сына. Можно нам войти?
Женщина кивает и открывает дверь. Она завернута в белое полотенце, со светлых вьющихся волос капает на пол. Следуют приветствия и рукопожатия.
— Я лежала в ванной, — говорит она. — А тут пришли вы. Посидите на кухне, пока я что-нибудь накину.
— Иоаким дома?
— Нет, Йоке где-то гуляет.
Кухня требует ремонта. Белая краска на окнах отслаивается, а плита потерта. Тем не менее здесь уютно. Покрытый черным лаком обеденный стол и необычной формы деревянные стулья оставляют впечатление полной достоинства простоты, и когда нос Малин после мороза вновь обретает чувствительность, она ясно ощущает аромат душистого перца. Они снимают куртки, опускаются за кухонный стол и ждут. На столике возле мойки стоит бутылка оливкового масла, в вазе для фруктов — пакеты с печеньем разных сортов.
Проходит пять минут.
Десять.
Потом Маргарета Свенссон возвращается, одетая в красную тренировочную куртку и белые брюки. Она накрашена, и ей не дашь больше тридцати восьми — максимум сорока, будто она всего на несколько лет старше Малин. Маргарета миловидна, с хорошей фигурой, очевидно, посещает спортзал.
Она садится за стол и вопросительно смотрит на гостей.
— Звонила ректор, говорила, что вы приходили в школу.
— Да, как вы, наверное, знаете, ваш сын преследовал убитого Бенгта Андерссона, — произносит Малин.
Маргарета Свенссон на мгновение задумывается.
— Да, ректор упоминала об этом. Я ничего не знала, хотя нахожу это вполне вероятным. Когда они вместе, им может взбрести в голову что угодно.
— А они держатся вместе? — спрашивает Зак.
— Да, как братья.
— И вы ничего не можете сказать об их отношениях с Бенгтом Андерссоном?
Маргарета Свенссон качает головой.
— Могли они где-нибудь раздобыть оружие?
— Вы имеете в виду ножи и все такое? В ящиках на кухне их сколько угодно.
— Огнестрельное оружие, — уточняет Малин.
Маргарета Свенссон смотрит на них с изумлением.
— Не могу представить, где им взять такое. Совершенно.
— Асатру, — говорит Зак. — Иоаким когда-нибудь интересовался чем-то подобным?
— Уверена, они не знают, что это такое. Вот насчет тэйквандо и скейтбординга им известно все.
— Он водит машину? — спрашивает Малин.
Маргарета Свенссон делает глубокий вдох и проводит рукой по мокрым волосам.
— Ему всего пятнадцать. Хотя кто знает, чем они занимаются вдвоем.
— Они говорили нам, что смотрели здесь фильм в прошлый четверг, но вас не было дома.
— Когда я около семи уходила, они сидели здесь. Когда я вернулась, Йоке спал, а фильм еще не кончился. Тот самый, про скейтбордистов, они его постоянно смотрят.
— Где вы были?
— Сначала я занималась водной аэробикой в бассейне, потом пошла в гости к моему другу. Я дам вам телефон, если хотите. Дома я была около половины двенадцатого.
— К другу?
— Мой любовник. Его зовут Никлас Нюрен. Я дам вам его телефон.
— Отлично, — говорит Зак. — Он общается с вашим сыном?
— Пытается. Думает, что мальчику нужен мужской пример.
— Папа Иоакима умер, ведь так? — спрашивает Малин.
— Погиб в автомобильной катастрофе, когда Иоакиму было три года.
Маргарета Свенссон распрямляет спину.
— Я сделала все, что могла, чтобы воспитать мальчика собственными силами. Целыми днями вкалывала помощником экономиста в чертовой строительной компании, старалась сделать из него порядочного человека.
«В этом ты не преуспела, — замечает про себя Малин. — Он больше похож на садиста и бандита».
И, словно читая мысли Малин, Маргарета Свенссон добавляет:
— Я знаю, что он не подарочек. Но он парень с характером, и таким его воспитала я. Учила его не позволять никому садиться себе на шею, он усвоил это. И достаточно хорошо подготовлен к тому, чтобы дать отпор любому, кто встанет на его пути.
— Мы можем взглянуть на его комнату?
— Вверх по лестнице, прямо напротив.
Зак остается сидеть за столом на кухне, а Малин поднимается на второй этаж.
В комнате душно. Ощущение одиночества. Плакаты с изображениями скейтбордистов, звезд хип-хопа.
Голубой ковер на полу, голубые стены. Кровать заправлена. Малин выдвигает ящики письменного стола — там ручки, бумага, чистая записная книжка.
Она заглядывает под кровать, но видит только комочки пыли в углу.
«Место ночевки», — думает Малин.
И мысленно благодарит судьбу за то, что Туве не встретила такого парня, как Иоаким Свенссон. Докторский сынок — просто мечта по сравнению с «крутыми парнями» с равнины.
Другой дом — другой мир, пусть он и находится всего в пятистах метрах от жилища Маргареты Свенссон.
Большая кирпичная вилла семидесятых годов, двухместный гараж у самого спуска к Гёта-каналу — один из десятка крупногабаритных домов вокруг благоустроенной детской площадки. Черный внедорожник «субару» припаркован у дороги рядом с кустами.
Малин нажимает кнопку звонка распространенной черно-белой модели. Ниже щитка с кнопкой закреплена табличка под стеклом, на которой неровным почерком написана фамилия — Кальмвик.
Темно и холодно. На Юнгсбру уже опустился вечер, и со временем он перейдет в ночь, пронизанную еще более убийственным холодом.
Иоаким Свенссон и Йимми Кальмвик были в квартире одни с семи до половины двенадцатого. Но кто знает, находились ли они там на самом деле? Не прошмыгнули ли они наружу, чтобы выкинуть очередную дьявольскую шутку? Они могли успеть замучить Бенгта Андерссона и вывезти его к дереву. Или Иоаким Свенссон выскользнул на улицу после того, как его мама вернулась домой?
«Нет ничего невозможного, — думает Малин. — Кто знает, сколько фильмов им потребовалось посмотреть, чтобы вдохновиться на это дело? Или все это мальчишеская шалость, вышедшая из-под контроля и зашедшая слишком далеко?»
Хенриетта Кальмвик без колебаний распахивает дверь во всю ширину.
— Вы из полиции, так?
У нее пышные рыжие волосы, зеленые глаза, острые черты лица. Одета в элегантную белую блузу и темно-синие брюки. Это женщина лет сорока пяти, которая знает, что ей к лицу.
— Ваша машина, — спрашивает Малин, — там, на улице?
— Именно так. Симпатичная, правда?
Вслед за хозяйкой они проходят в дом. Хенриетта Кальмвик указывает, что куртки надо повесить во внутреннем из двух вестибюлей. Стянув пуховик, Малин видит, как Хенриетта шествует по паркету в гостиную с двумя белыми кожаными креслами возле стола; его толстые ножки из красного мрамора сделаны в форме львиных лап.
Хенриетта Кальмвик садится на меньший из диванов и ожидает гостей.
На полу розовый китайский ковер. Стену над большим из диванов украшает картина в оранжевых тонах, изображающая обнаженную пару на берегу в лучах закатного солнца. За окном в свете прожекторов ждет своего часа припорошенный снегом бассейн, и Малин думает, как хорошо, должно быть, плавать в нем по утрам в теплое время года.
— Присаживайтесь.
Малин и Зак устраиваются рядом на большем из диванов. Кожа прогибается — и они чувствуют, как утопают в мягкой обивке. Малин обращает внимание на точеную деревянную вазу на столе, с лаково блестящими зелеными яблоками.
— Ректор вам уже звонила, полагаю? — начинает разговор Зак.
— Да.
Далее следуют те же вопросы, что и Маргарете Свенссон. Те же ответы. Почти.
Зеленые глаза Хенриетты Кальмвик прикованы к бассейну за окном.
— Я давно уже оставила попытки воспитывать Йимми, — говорит она. — Он совершенно невозможен, и я предоставляю ему полную свободу действий, пока он не выходит за рамки закона. У него своя комната в подвале с отдельным входом, он может приходить и уходить когда хочет. И если вы скажете мне, что он преследовал Бенгта Андерссона, я отвечу вам: да, конечно. Оружие? И это возможно. Он перестал слушать меня в девять лет. Называл меня чертовой бабой, когда не получал что хотел. И в конце концов я сдалась. Сейчас он приходит домой только поесть, не более. Я занимаюсь другим: работаю в «Лионе» и джаз-клубе в городе.
Хенриетта умолкает, как будто давая понять, что сказала все.
— Вы, наверное, хотите взглянуть на его комнату?
Она поднимается и идет к лестнице, ведущей в подвал.
Они опять следуют за ней.
Внизу, в подвале, они проходят через прачечную, баню, мимо большой ванны-джакузи, пока наконец не достигают двери, перед которой Хенриетта останавливается.
— Его логово.
И отходит в сторону, предоставляя Заку открыть дверь.
Внутри беспорядок. В глаза бросается кровать посредине, одежда, разбросанная по каменному полу цвета травы, вперемешку с журналами, пакетами из-под сладостей, бутылками. Белые стены пусты, и Малин думает о том, что сюда снаружи проникает слишком мало света.
— Хотите верьте, хотите нет, — говорит Хенриетта, — но ему здесь нравится.
Они заглядывают в ящики бюро — единственного здесь предмета мебели, кроме кровати, роются в вещах на полу.
— Здесь ничего интересного, — подводит итог Зак. — Вы знаете, где Йимми сейчас?
— Не имею понятия. Вероятно, где-то бродит с Йоке. Они ведь как братья, эти двое.
— А отец Йимми? Можно с ним поговорить?
— Он работает на нефтяной платформе в Северном море, возле Нарвика. Три недели работает, две дома.
— Должно быть, вам одиноко? — интересуется Зак, закрывая дверь в комнату Йимми Кальмвика.
— Все хорошо, — отвечает Хенриетта Кальмвик. — Мы предпочитаем не надоедать друг другу. И потом, он зарабатывает очень неплохие деньги.
— Можно позвонить ему туда на мобильный?
— Нет, но можно позвонить на платформу, если что-то срочное.
— Когда он вернется?
— В субботу утренним поездом из Осло. Позвоните ему, если дело не терпит отлагательства.
40
Голос на другом конце провода, нереальный, будто во сне, отвечает в тот момент, когда Зак выруливает из ворот дома Кальмвиков. Малин с трудом разбирает норвежские фразы.
— Алло, вы спрашивали Йорана Кальмвика? Его нет здесь больше недели. Он закончил смену в прошлый четверг и ожидается не раньше чем через две недели. Я слышу вас очень плохо, очень… Где он может быть? Дома… если не там… Я не знаю… да, он работает две недели через три.
— Что за черт, — говорит Малин, заканчивая разговор. — Кальмвика-старшего нет на платформе. И нет уже больше недели.
— Похоже, Хенриетта ничего не знает об этом, — говорит Зак. — Что бы это значило, по-твоему?
— Это может означать массу разных вещей. Что он был дома на прошлой неделе, когда убили Бенгта Андерссона, и, возможно, помог мальчикам, слишком далеко зашедшим в своих жестоких забавах. Или он водит свою супругу за нос и у него есть любовница или еще что-нибудь похуже на стороне. Или он просто взял маленький отпуск за свой счет.
— Он вернется в субботу?
— Да.
— Раньше мы вряд ли на него выйдем. А может, врет Хенриетта? Разыгрывает неведение, чтобы выгородить его и сына?
— Не похоже, — отвечает Малин, — не похоже.
— Оставим Кальмвика, Форс. Сейчас, невзирая на мороз и холод, мы едем смотреть лесную хижину Мюрваллей. Самое время заняться этим.
«Самое время», — повторяет про себя Малин, закрывая глаза. Она отдыхает, позволяя образам в голове свободно сменять друг друга.
Туве на диване дома.
Обнаженный торс Даниэля Хёгфельдта.
Фотография Янне возле кровати.
И затем картина, вытесняющая остальные, заполняющая собой все, словно выжженная в сознании. Картина, которую невозможно выбросить из головы: Мария Мюрвалль на постели в своей больничной комнате; Мария Мюрвалль между черных древесных стволов в сыром, холодном лесу.
Автомобильные фары освещают лесную дорогу. Деревья — как замерзшие чудовища вокруг, черные контуры пустых загородных домов — окаменевшие мечты о золотых днях у воды, серое пятно которой мерцает в бледном лунном свете, просочившемся сквозь пелену облаков.
Так рассказывал Элиас Мюрвалль еще в доме своей матери: «Озеро Хюльтшён. Из Юнгсбру поезжайте в сторону поселка Ульсторп, а потом мимо площадки для гольфа по дороге Чьемувеген. В миле оттуда оно и будет. Тропа к избушке расчищена, вы пройдете. Мы ухаживаем за ней. Но вы там ничего не найдете».
А до этого Якоб Мюрвалль, во внезапном приступе откровенности, словно мать нажала кнопку «воспроизведение», рассказывал, как они организовывали охоту, как продавали мясо и шкуры косуль, и о русских миллионерах, буквально помешанных на мехах.
— Мы выезжаем сегодня вечером. Шёман похлопочет об ордере.
— Разве это не может подождать до завтра? — сомневается Зак. — Братья в тюрьме, они ничего не смогут сделать.
— Сегодня.
— Форс, но сегодня вечером у меня репетиция хора.
— Что?
— Хорошо, хорошо. Но сначала родители Иоакима Свенссона и Йимми Кальмвика.
На этот раз хрипота в его голосе выдает уверенность, что Малин будет дуться на него несколько месяцев, если он предпочтет репетицию с хором «Да Капо» этому совершенно новому направлению в расследовании.
Свен Шёман звонил и подтвердил, что с ордером все в порядке.
А сейчас Зак держит руки на руле, в то время как некий хоровой коллектив под управлением Чьелля Лённо во весь голос выводит «Свинг, учитель!» из одноименного фильма. Хоровое пение — непременное условие их дальнейшего продвижения к избушке. Зак борется с гололедицей, толкает машину вперед, нажимая на газ, тормозит, делает новый рывок. Овраг по обочине — словно окантованная белым бездна, и Малин замечает по сторонам горящие глаза животных. Это косуля, лось или олень, которым приспичило перейти дорогу как раз в тот момент, когда на ней появился автомобиль. Не многие умеют водить так, как Зак: без свойственного профессионалам самоуверенного лихачества, но с осторожностью и неуклонной целеустремленностью. Только вперед.
Они огибают озеро, но, кажется, линия замерзшей воды продолжается в лесу и дальше — что-то похожее на полоску реки, протянувшуюся в темноту, к самому сердцу ночи.
Часы на инструментальной панели показывают 22.34. Ужасное время для таких дел.
Туве дома, она не поехала к Маркусу.
— Я разогрела остатки жаркого. Мне хватило, мама.
— Как только на работе все более-менее успокоится, мы с тобой придумаем что-нибудь веселое.
«Веселое?» — думает Малин, глядя на снежные валы, громоздящиеся по обочине дороги, на кем-то расчищенный проход в снегу, на отблески света, мерцающего, точно звезды, на деревьях в исчезающей перспективе.
Веселое? А что мы можем придумать, Туве, как по-твоему? Пока ты не так выросла, было проще. Тогда мы обычно отправлялись в бассейн. Ты любила ходить в кино, с удовольствием посещала магазины, но не с той одержимостью, как многие девочки твоего возраста. Может, нам съездить в Стокгольм на концерт? Это должно тебе понравиться. Мы с тобой уже говорили об этом, но так и не собрались. Или отправиться на книжную ярмарку в Гётеборг? Хотя она, кажется, бывает осенью.
— Похоже, все верно, — говорит Зак, выключая мотор. — Надеюсь, идти не слишком долго. Чертова ночь все холоднее.
География зла.
Что она собой представляет? Как составить его карты?
Не так далеко отсюда, в пяти километрах к западу, были обнаружены следы нападения на Марию Мюрвалль. Никто из братьев не знал, что она делала в лесу, никто не рассказывал тогда об избушке. Этот участок земли достался им бесплатно от крестьянина Кварнстрёма, но никто из них толком не объяснил, зачем он им.
«Мы поддерживаем там порядок, не более…»
Мария в лесу.
Страшные внутренние повреждения.
Холодной осенней ночью.
Мир, исполненный ужаса.
Мяченосец на дереве.
Мороз на равнине.
Ветви как змеи, листва и гниющие грибы, словно пауки, и черви под твоими ногами, и острые иглы, впивающиеся в пятки. Кто там висит на дереве? Летучая мышь, сова, новое зло?
А все эти кочки и колдобины — непременная часть ландшафта?
Низкорослый лес. И женщина, чье тело прикрыто черными лохмотьями, бредет куда-то в сумерках по пустынной просеке.
Есть ли в этом лесу звери?
Вот о чем думает Малин, пробираясь вместе с Заком по снегу к избушке братьев Мюрвалль. Они освещают деревья карманными фонариками, свет отражается, играет на черной коре в мертвой тишине ночи. Кристаллы снега на земле блестят, словно глаза бесчисленного множества пугливых леммингов, словно маяки на пути в неизвестное.
— Форс, ты как? Здесь как минимум минус пятнадцать, тем не менее я весь взмок.
Зак идет первым, пробираясь с трудом. Здесь никто не был со времени прошедшего снегопада, хотя след, по которому нужно идти, все еще виден. След снегохода.
«Животные, — думает Малин. — Должно быть, так они и охотятся на них, со снегохода».
— Чертовски тяжело, — говорит она, чтобы поддержать Зака и засвидетельствовать, что разделяет его мучения. — Мы, наверное, уже километр протопали.
— Как далеко это может быть?
— Братья не сказали.
Они останавливаются, тяжело дыша.
— Может, нам стоит отдохнуть, — предлагает Малин.
— Пошли дальше, — отвечает Зак.
После тридцатиминутной борьбы с морозом и снегом они входят в рощицу, в центре которой стоит домик, похожий на дачный. Он выглядит так, будто ему не одна сотня лет, и завален снегом по самые окна.
Она направляют на дом фонарики, световые конусы отбрасывают длинные тени, играющие на древесных стволах позади избушки всевозможными оттенками черного.
— Войдем, пожалуй, — предлагает Зак.
Ключ висит там, где и говорили братья: на крючке под ставнями.
Раздается лязг промороженного замка.
— Вряд ли здесь есть электричество, — говорит Зак, — выключатель можно не искать.
Световые конусы пляшут по пустой промерзшей комнате. «Прибрано», — замечает про себя Малин. Газовая плита на простой деревянной табуретке, на полу тряпичный коврик, стол для кемпинга посредине, четыре стула, стеариновая свеча. Ни одной лампы и три двуспальные кровати вдоль стен без окон.
Малин подходит к столу.
Его поверхность в светлых маслянистых пятнах.
— Оружейное масло, — говорит она.
— Угу, — кивает Зак.
В буфете рядом с газовой плитой хранятся консервные банки с гороховым супом, равиоли и фрикадельки. Рядом в ящике бутылки со спиртным.
— Все это странным образом напоминает раздевалку, — замечает Зак.
— Бездушная комната. Никакая.
— А чего ты ждала? Они же сказали, что мы ничего здесь не найдем.
— Не знаю. Это просто мои ощущения.
Комната без чувств.
Что стоит за ней?
Что за зло вы сотворили, Мюрвалли, если у вас такие недобрые сердца?
Внезапно Зак шикает, Малин оборачивается и видит, как он сначала прикладывает перчатку ко рту, а затем показывает на дверь. Тотчас оба прикрывают фонарики ладонями.
Теперь их окружает беспросветная тьма.
— Ты слышишь что-нибудь? — шепчет Малин.
Зак кивает, и они замирают в молчании. Доносится звук, словно кто-то ползет по снегу, приближается к дому. Кто это? Раненый зверь, добравшийся до лесной прогалины? Потом все снова умолкает. Может, зверь остановился? Братья Мюрвалль в тюрьме. Старуха? Только не она. Или у нее много обличий? Бродяги, хулиганы? Но что им здесь делать?
Прошмыгнув к открытой двери, Малин и Зак замирают по обе ее стороны и смотрят друг на друга. Звук возобновляется, но теперь уже в отдалении, и они бросаются наружу, направляя фонарики к тому месту, откуда он исходит.
За поляной мелькает черная тень, совершая медленные медитативные движения. Человек?
Женщина?
Подросток? Двое подростков?
— Стоять! — кричит Зак. — Стоять!
Малин бросается туда, куда ведет черный след, но наст ломается под ее ботинками, она спотыкается, поднимается снова, падает, встает и кричит, кричит:
— Стой! Стой! Стой! Вернись!
— Стой, стрелять буду! — звучит за спиной решительный голос Зака.
Малин оборачивается. Она видит Зака, стоящего на пороге лесной избушки с пистолетом в руке и целящегося в пустую темноту.
— Бесполезно, — говорит она. — Кто бы там ни был, теперь он далеко.
Зак опускает оружие и кивает, указывая фонариком на узкие полоски следов в снегу:
— Он пришел на лыжах.
41
Десятое февраля, пятница
Малин держит на руках Туве.
Сколько же ты сейчас весишь?
Сорок пять килограммов?
Все-таки хорошо, что мама время от времени ходит в тренажерный зал.
Ноги болят, но, во всяком случае, согрелись.
Они с Заком прошли по следу два километра. Тем временем в лесах у озера Хюльтшён разыгралась буря, и когда Малин и Зак достигли того места, где след обрывался, он был уже почти незаметен под покровом снега. Лыжня закончилась у дороги, и определить, ожидал ли здесь вышедшего припаркованный автомобиль, было невозможно. Следов бензина на земле незаметно. Отпечатки колес занесены снегом.
— Его поглотил лес, — сказал Зак, а потом стал выяснять их местонахождение при помощи мобильника.
— До нашей машины всего полмили — дойти до нее займет меньше времени, чем дождаться той, которую пришлют из участка.
Когда Малин вернулась домой, Туве спала на диване перед включенным телевизором. Первой мыслью Малин было разбудить ее и отправить в постель. Однако потом, глядя на вытянутое на покрывале тело дочери, слишком худое и длинное для ее возраста, на тонкие светлые волосы на подушке, прикрытые глаза и безмятежный рот, Малин вдруг захотела почувствовать вес этой живой, любимой ноши.
Она собрала все силы, чтобы сдвинуть это тело с места, застыла с ним на руках посреди погруженной в тишину и полумрак гостиной, ожидая, что Туве проснется, а потом, пошатываясь, побрела через прихожую в спальню дочери, толкнув дверь ногой.
И вот Туве лежит на постели.
Малин теряет равновесие, чувствуя, как безвольная теплая ноша выскальзывает из ее объятий и с глухим звуком опускается на матрас.
Туве открывает глаза.
— Мама?
— Да.
— Что ты делаешь?
— Всего лишь донесла тебя до постели.
— Вот как? — Туве закрывает глаза и снова засыпает.
Малин выходит на кухню, становится у мойки и смотрит на холодильник. Он гудит, устало роняя капли.
Сколько же ты весила, Туве?
Три тысячи двести пятьдесят четыре грамма.
Четыре кило, пять и так далее. И с каждым килограммом ты становилась все менее зависимой от меня. Более взрослой.
«Может быть, это был последний раз, когда я носила тебя на руках», — думает Малин, закрывая глаза и вслушиваясь в звуки ночи.
Это во сне звонит телефон или в комнате за границей сна?
В любом случае, он звонит. И Малин протягивает руку к ночному столику, шаря там, где должна быть трубка, по другую сторону вакуума, в котором она сейчас пребывает, нейтральной территории между сном и явью, где все может случиться, где, кажется, ничего невозможно предугадать.
— Малин Форс.
Ее голос звучит четко, но хрипло.
Вероятно, ночная прогулка сказалась на бронхах, но в остальном она чувствует себя прекрасно, тело на месте, голова тоже.
— Малин, я тебя разбудила?
Голос знакомый, но она не может сразу определить чей. Малин часто слышала этот голос, но не в телефонной трубке.
— Малин, это ты? Я звоню тебе в промежутке между песнями, и у нас не так много времени.
Радиодиджей Хелен.
— Это я. Не совсем еще проснулась.
— Тогда я сразу перехожу к делу. Помнишь, ты спрашивала насчет братьев Мюрвалль? Я забыла тебе кое о чем рассказать, что, вероятно, тебе будет интересно. Утром я прочитала в газете, что вы задержали троих братьев и пока не вполне ясно, имеют ли они какое-либо отношение к убийству. И тут я вспомнила: был еще четвертый брат, сводный, я думаю, постарше их. Он казался настоящим отшельником. Отец его вроде бы был моряком и утонул. Ну вот. Я помню, что остальные братья всегда ходили вместе, но его с ними не было.
У них есть четвертый брат, сводный.
А их молчание стоит непроницаемой стеной.
— Ты знаешь, как его звали?
— Не знаю. Он был немного старше их. Поэтому, я думаю, он не очень дружил с остальными. Его редко видели. Это было давно и, может, совсем не так. Я могла и напутать.
— Ты мне очень помогла, — говорит Малин. — Не встретиться ли нам за кружечкой пива?
— Было бы чудесно, но когда? Похоже, мы обе слишком много работаем.
Они кладут трубки. Малин слышит, что Туве уже на кухне, и поднимается с постели, ощутив внезапное желание увидеть дочь.
Туве сидит за кухонным столом — ест простоквашу и читает «Корреспондентен».
— Эти братья, мама, похоже, совсем чокнутые, — говорит она, хмуря бровь. — Это они все сделали?
«Не черное, так белое, — думает Малин. — Либо сделали, либо нет».
В каком-то смысле Туве права: все действительно просто, но в то же время бесконечно сложно, неясно и неоднозначно.
— Мы не знаем.
— Ну вот. Я правильно поняла, что они сидят в тюрьме из-за оружия и охоты? А кровь, там была только кровь животных, как говорит здесь эта медицинская тетя?
— И этого мы тоже не знаем. Над этим работают в лаборатории.
— А здесь написано, что вы допрашивали каких-то подростков. Кто они?
— Этого я тебе тоже не могу сказать, Туве. Как ты провела вчерашний вечер у папы?
— Но я же говорила тебе по телефону, ты не помнишь?
— Чем вы занимались?
— Мы с Маркусом и папой ужинали. Потом смотрели телевизор, потом легли спать.
Малин чувствует, как у нее внутри что-то сжимается.
— И Маркус там был?
— Да, он остался ночевать.
— Ночевать, ты сказала?
— Да, но мы не спали с ним вместе в одной постели и все такое, если ты об этом.
Оба они, Туве и Янне, говорили с ней вечером. И никто не упоминал о Маркусе. Ни что он останется ночевать, ни что будет ужинать у Янне, ни того, что Янне вообще знает о его существовании.
— Я думала, папа не знает о Маркусе.
— Почему он не должен знать?
— Ты ведь говорила, что не знает.
— Теперь знает.
— Почему мне никто об этом не сказал? Почему вы молчали?
Малин сама слышит, как смешно звучат ее слова.
— Но ведь ты не спрашивала, — парирует Туве.
Малин качает головой.
— Мама, — говорит Туве, — иногда ты совсем как ребенок.
42
Итак, есть еще один брат.
Завидев Малин, только что переступившую порог офисного помещения в полицейском участке, Юхан Якобссон принимается размахивать листком бумаги со своего стола. А в голове у нее еще прокручивается последний разговор с Янне по мобильному.
— Ты должен был сказать, что он останется ночевать.
Янне сонный — как раз лег после ночной смены. Тем не менее говорит ясно и отчетливо.
— Малин, то, что происходит в моем доме, касается только меня. И если ты недостаточно хорошо следишь за Туве и она может скрывать такие вещи, тебе стоит задуматься над своими жизненными приоритетами.
— Ты читаешь мне мораль?
— Я сейчас же положу трубку, ты слышишь?
— То есть ты полагаешь, что в этом виновата только Туве, но не ты?
— Нет, Малин. Ты виновата, но хочешь переложить все на Туве. Пока. Позвони мне, когда успокоишься.
— Я получил выписку из Национального регистра, — объявляет Юхан, — согласно которой у Ракель Мюрвалль четыре сына, включая первенца по имени Карл Мюрвалль. Вероятно, остальным он приходится сводным братом: здесь указано, что отец его неизвестен. Имя Карла есть в телефонном справочнике, он проживает на улице Таннефорсвеген.
— Я знаю о нем, — отвечает Малин. — Сообщили буквально только что.
— Собираемся через три минуты, — говорит Юхан и показывает на дверь зала заседаний.
Малин интересно, выйдут ли сегодня дети на улицу. Можно надеяться, ведь как будто стало на несколько градусов теплее.
Но на игровой площадке детского сада никого нет. Пустые качели, горки, лестницы и песочницы.
На собрании присутствует Карим Акбар. Он сидит во главе стола рядом со Свеном Шёманом.
— До сих пор обнаружена только кровь лосей и косуль, — объявляет Свен. — Но в лаборатории работают не покладая рук. Пока они не закончили, у нас нет полной ясности в том, что касается братьев Мюрвалль. Если ничего не найдут, можете считать, что мы сели в лужу.
— Армейские автоматы и ручная граната — это тоже кое-что, — замечает Бёрье Сверд.
— Что касается оружия, — продолжает Свен, — согласно заключению специалистов государственной криминалистической лаборатории, выстрел резиновой пулей в окно квартиры Бенгта Андерссона не мог быть сделан из того оружия, что мы нашли у Мюрваллей.
— Армейские автоматы и ручная граната — это кое-что, — соглашается Карим. — Но это не наш профиль. Мы занимаемся уголовными преступлениями.
— Вопрос еще в том, кого вы видели в лесу, — говорит Свен.
— Мы не знаем, — отвечает Малин.
— Кто бы он ни был, он имеет к нашему делу самое прямое отношение, — добавляет Зак.
— Юхан, расскажи о четвертом брате, — просит Свен.
Пока Юхан рассказывает о том, что известно, за столом воцаряется тишина. В воздухе повисает вопрос. Наконец слышится голос Зака:
— Ни один из Мюрваллей ни единым словом не помянул сводного брата. Он вырос с ними?
— Похоже на то, — отвечает Малин. — Так думает Хелен.
— Вероятно, он оторвался от них, — предполагает Зак.
— Захотел жить другой жизнью, — добавляет Бёрье.
— Что мы еще знаем об этом Карле Мюрвалле? — спрашивает Карим. — Известно ли, к примеру, где он работает?
— Пока нет, — отвечает Малин, — но мы узнаем это в течение дня.
— Мы можем расспросить об этом братьев и их милую мамочку, — усмехается Зак.
— Могу попробовать, — смеется Свен.
— А что с Асатру? — Карим с вызовом оглядывает розыскную группу. — Учитывая, как выглядело место преступления, нельзя упускать это из виду.
— Честно говоря, — отвечает Юхан, — мы были заняты другим. Но собираемся вплотную поработать с этой линией.
— Продолжайте, насколько это возможно, — говорит Свен. — Малин и Зак, как прошла беседа с родителями Иоакима Свенссона и Йимми Кальмвика?
— С их мамами, — уточняет Малин. — Отец Иоакима Свенссона умер, а папа Йимми, Йоран Кальмвик, работает на нефтяной платформе. Собственно говоря, мы не узнали ничего нового. До сих пор до конца неясно, есть ли у мальчиков алиби. Некоторая неопределенность и с тем, был ли тогда дома отец Кальмвика.
— Неопределенность? — переспрашивает Свен. — Ты знаешь, что я думаю об этом.
И Малин объясняет, почему сомневается в алиби мальчиков, а также в том, что они были в квартире одни и что Йорана Кальмвика не застали на нефтяной платформе в Северном море, в то время как его жена была уверена, что он находится там.
— Но он возвращается завтра рано утром. Мы думаем допросить его сразу.
— А любовник Маргареты Свенссон? Может ли он что-либо рассказать о делах ее сына? Ведь он пытался наладить с парнем контакт?
— Мы допросим Никласа Нюрена в течение дня. Вчера вечером мы предпочли избушку Мюрваллей.
— Отлично. Но сегодня на первом месте четвертый брат. Я побеседую с этой семьей, — обещает Свен.
— То есть Карл? — говорит в трубку Ракель Мюрвалль. — Но он же переехал в город.
«Переехал в город? Ведь это всего в какой-нибудь миле отсюда, а звучит, как будто на другой стороне земного шара», — думает Свен Шёман.
— Тут не о чем говорить, — заключает Ракель Мюрвалль и кладет трубку.
— Это здесь. — Зак останавливает машину перед ослепительно-белым трехэтажным домом на Таннефорсвеген возле завода «Сааб». По всей видимости, дом построен в сороковые годы, когда «Сааб» шел в гору и сотнями выпускал истребители. Пиццерия на первом этаже обещает «Каприччиозу» за тридцать девять крон, а в буфете «Иса» напротив снижены цены на кофе «Классик». Желтая краска на вывеске пиццерии отслаивается, и Малин с трудом может прочитать название: «Кониа».
Они перебегают широкий тротуар. Дрожа от холода перед незапертой дверью, читают на табличке: Андерссон, Рюдгрен, Мюрвалль. Три квартиры.
Лифта нет.
На лестничной площадке второго этажа Малин начинает задыхаться и чувствует сильное сердцебиение. Когда они подходят к дверям третьей квартиры, она дышит с трудом. Рядом сопит Зак.
— Как же тяжело с этими лестницами! — говорит он, задыхаясь. — Каждый раз этому поражаюсь.
— Да, вчерашний снег — пустяк по сравнению с этим, — соглашается Малин.
Мюрвалль.
Они нажимают кнопку. За дверью квартиры раздается звонок, потом наступает тишина. Должно быть, внутри никого нет. Они звонят снова, но никто не открывает.
— Наверное, он на работе, — говорит Зак.
— Может, позвоним к его соседям?
Рюдгрен.
После двух сигналов им открывает пожилой мужчина с огромным носом и низким лбом. Он глядит на них подозрительно.
Малин показывает удостоверение.
— Мы ищем Карла Мюрвалля. Его нет дома. Может, вы знаете, где он работает?
— Я ничего не знаю об этом.
Мужчина ждет.
— Вы знаете…
— Нет.
Он закрывает дверь.
Кроме него во всем подъезде обнаружился еще только один человек — пожилая дама. Она решила, что они из службы помощи на дому и принесли ей обед.
Один за другим братья выходят из своих камер и занимают место в комнате для допросов, где их ждет Свен Шёман.
— У меня нет брата по имени Карл, — говорит Адам Мюрвалль, проводя рукой по лбу. — Вы утверждаете, что мы родственники, и, с вашей точки зрения, так оно и есть. Но не с моей. Он выбрал свою дорогу, мы свою.
— Ты знаешь, где он работает?
— Я ведь не обязан отвечать на этот вопрос?
— Как думаешь, Малин, может, подождем его в пиццерии и пообедаем? Потом посмотрим, не зайдет ли он домой перекусить.
Они стоят возле машины, Зак возится с ключами.
— К тому же я страшно давно не ел пиццы.
— Не возражаю. Может, там знают, где он работает.
В пиццерии пахнет сухим орегано и дрожжами. На стенах не обычные тканые обои, а пестрые гобелены в розовых и зеленых тонах, стулья в стиле «баухаус» и лакированные дубовые столы. Смуглый мужчина с неправдоподобно чистыми руками принимает у них заказ.
«Интересно, это его заведение? — думает Малин. — Ведь это не миф, что иммигранты вынуждены начинать свое дело, чтобы прокормиться. Что бы сказал на это Карим? Вероятно, он поставил бы тебя в пример. Человека, который не перекладывает заботу о себе на чужие плечи, а рассчитывает только на собственные силы. Будем надеяться, что тебе воздастся по заслугам и твои сыновья, — мысленно обращается к мужчине Малин, — войдут в число лучших на своих курсах в университете. Будем надеяться на это».
— Что предпочитаете из напитков? Это входит в стоимость обеда.
— Колу, — отвечает Малин.
— То же самое, — присоединяется Зак и вытаскивает вместе с бумажником, из которого собирается расплатиться, полицейское удостоверение.
— Вы знаете некоего Карла Мюрвалля, проживающего в этом доме?
— Нет. Я такого не знаю. Он сделал какую-нибудь глупость?
— У нас нет оснований так думать, — отвечает Зак. — Мы просто хотели поговорить с ним.
— Увы.
— Это ваше заведение? — спрашивает Малин.
— Да, а что?
— Я просто спросила.
Они занимают места за столиком, откуда просматривается подъезд к дому. Через пять минут хозяин заведения ставит перед ними две пиццы. Лужицы расплавленного сливочного сыра в томатном соусе, ветчина, шампиньоны.
— Приятного аппетита.
— Спасибо, — говорит Зак.
Они обедают, поглядывая в сторону Таннефорсвеген, на проезжающие мимо автомобили, на серо-белые клубы ядовитого газа, тяжело стелющиеся по земле.
«Откуда эта пропасть между людьми одной крови?» — спрашивает себя Свен Шёман, только что закончивший допрос Якоба Мюрвалля, чьи слова засели у него в голове.
— Он выбрал свою дорогу, мы свою.
— Но вы же братья!
— Братья не всегда братья, или как?
Что может произойти между людьми, которые должны радоваться друг другу, помогать и подставлять плечо, а вместо этого сделались врагами? Многое способно встать между людьми: деньги, любовь, вера — что угодно. Но семья! Внутри семьи! Ведь если мы не можем найти общий язык в малом, как нам навести порядок в большом?
На часах половина второго.
Пицца бетонным комком лежит в желудке, и они откидываются на спинки стульев, оплетенных тростником.
— Он не вернется, — говорит Малин. — Лучше нам заехать вечером.
Зак соглашается.
— Я думаю двинуть в участок, написать полный отчет за вчерашний день. Ты можешь съездить в Юнгсбру одна и побеседовать с Никласом Нюреном?
— Хорошо, у меня там есть еще кое-какие дела, — отвечает Малин.
— Тебе нужна помощь?
— Нет, будет лучше, если я займусь этим сама.
— Как тогда, с Готфридом Карлссоном?
— Гм…
Уходя, они кивают владельцу пиццерии в знак благодарности.
— Неплохая пицца, — замечает Зак.
Карл Мюрвалль — человек, в лучшем случае не представляющий никакого интереса для своей семьи. Это точно.
— Карл? — Элиас Мюрвалль тоскливо смотрит на Свена Шёмана. — Не говори мне об этом заносчивом слизняке.
— Он сделал что-то не так?
Элиас Мюрвалль задумывается, потом на мгновение смягчается.
— Он всегда был другой, не такой, как мы, — отвечает он.
43
Малин приближается к дереву, и с глаз ее словно спадает пелена.
Она отказывается верить тому, что видит.
Одинокое дерево вовсе не так одиноко. Зеленый автомобиль-универсал с крытым багажником припаркован у дороги, а на снегу, как раз в том месте, где упало тело Бенгта Андерссона, стоит женщина, завернутая в белое. Или нет, на ней совсем ничего нет. Руки женщины подняты, глаза прикрыты.
Она не открывает их, когда Малин подъезжает ближе. Ее лицо неподвижно, а кожа белее снега, волосы между ног неправдоподобно черные. Малин останавливает машину, но женщина по-прежнему ни на что не реагирует.
Или она замерзла?
Мертва?
Она стоит прямо, но Малин видит, как вздымается ее грудная клетка и как вся она слегка покачивается на ветру.
Середина зимы — Малин ощущает это всем телом, выбираясь из автомобиля. Зима берет под контроль чувства, словно возвращая их в некое исходное положение, стирая границы между впечатлением, мыслью и действием. Голая женщина посреди поля. Час от часу безумнее и безумнее.
Щелчок захлопнувшейся дверцы автомобиля — но Малин кажется, будто не ее собственное усилие стало причиной этого звука.
Женщина, должно быть, мерзнет, и Малин молча идет к ней. Все ближе и ближе, теперь их разделяет всего несколько метров. Но глаза женщины по-прежнему прикрыты, и она дышит, подняв руки над головой. Ее лицо совершенно спокойно, а волосы цвета воронова крыла заплетены в косу, свисающую вдоль спины.
Вокруг нее равнина.
Всего лишь чуть больше недели тому назад здесь обнаружили Мяченосца, но заградительная лента убрана, и нападавший с того времени снег не может скрыть мусор, оставленный любопытными: окурки, бутылки, обертки из-под сладостей, коробки из-под гамбургеров.
— Эй!
Никакой реакции.
— Эй!
Тишина.
Эта игра начинает надоедать Малин. Помня рассказ Бёрье Сверда об их с Юханом посещении Рикарда Скуглёфа, она догадывается, кто перед ней.
Но что она здесь делает?
Малин снимает перчатку и с силой щелкает женщину по носу. Один, два раза. Женщина вздрагивает, отскакивает назад и кричит:
— Что вы делаете, черт возьми!
— Валькирия? Я Малин Форс из полиции Линчёпинга. Чем вы здесь занимаетесь?
— Медитирую. И вы помешали мне закончить. Понимаете ли вы, как это чертовски неприятно?
Кажется, до Валькирии Карлссон только сейчас доходит, на каком морозе она стоит. Она огибает Малин и идет к своей машине. Малин следует за ней.
— Почему именно здесь, Валькирия?
— Потому что здесь он был найден убитым, потому что у этого места особая энергетика. Вы тоже должны это чувствовать.
— Немного странно, не правда ли, Валькирия? Вы должны со мной согласиться.
— Нет. В этом нет ничего странного, — отвечает Валькирия Карлссон, усаживаясь в свой зеленый универсал «пежо» и кутая в длинную дубленку голое тело.
— Имеете ли вы или ваш парень какое-нибудь отношение к тому, что случилось с Бенгтом Андерссоном?
«Глупый вопрос, — думает Малин. — Но и глупый вопрос может спровоцировать стоящий ответ».
— Если мы и имеем к этому какое-нибудь отношение, едва ли я стану вам об этом рассказывать.
Валькирия Карлссон захлопывает дверцу, и скоро Малин видит лишь дым, поднимающийся к небу из выхлопной трубы исчезающего у горизонта автомобиля.
Малин поворачивается к дереву.
До него тридцать пять метров.
Она старается выбросить из головы образ обнаженной Валькирии. Ею можно заняться позже, а сейчас надо делать то, зачем она приехала.
Ты там, Бенгт?
И она видит его тело. Синее, раздутое, растерзанное, одиноко раскачивающееся на ветру.
Что надеялись увидеть здесь все эти любопытные?
Парящий дух?
Труп? Почувствовать запах насилия, смерти, такой, какой представляли ее в своих самых кошмарных снах?
Туристы в комнате страха.
Она осторожно приближается к дереву. Пульс ее успокаивается, смолкают звуки вокруг, и жизнь исчезает перед лицом того, что случилось здесь однажды. Она пытается запечатлеть эту сцену где-то в глубине своей души: безликий некто, тело, закованное в цепи, ноги, траверсы, как маленькие луны на звездном небе.
Малин стоит там, где обломилась ветка, где только что медитировала Валькирия Карлссон. Кто-то оставил на земле букет цветов с прикрепленной маленькой открыткой в пластиковой обертке.
Малин поднимает цветы, серые от мороза, читает надпись: «Что мы будем делать теперь, когда некому больше ловить наши мячи. Футбольная команда „Юнгсбру ИФ“, первый состав».
Теперь им его не хватает.
Со смертью приходит благодарность. А после благодарности? Огонь?
Малин закрывает глаза.
Что произошло, Бенгт? Где ты умер? Отчего? Кто возненавидел тебя так сильно, если это была ненависть?
Как бы я ни кричал, ты меня не слышишь, Малин Форс, поэтому не буду и пытаться. Но я стою здесь, рядом с тобой, слышу твои слова, и я благодарен тебе за все усилия и работу.
Но так ли уж это важно, собственно говоря?
Или это самое лучшее из того, чему ты можешь посвятить свое время?
Ее голое белое тело.
Вероятно, она выработала в себе невосприимчивость к холоду. Мне это никогда не удавалось.
Я знаю того, кто возненавидел так сильно.
Но была ли это ненависть?
Вот хороший вопрос.
Может, это было отчаяние? Одиночество? Или злоба? Любопытство? Жертва? Ошибка?
Или что-то совсем другое, худшее?
Есть ли у меня возможность донести свои слова до тебя? Одно-единственное коротенькое слово? В таком случае я бы хотел, чтобы это было слово «тьма».
Тьма, которая возникает в душе, когда та не желает видеть свет в другом человеке, когда она атрофируется и под конец пытается спасти себя собственными силами.
Малин раскачивается вместе с ветром, тянется к сломанной ветке, к той ее части, что зацепилась за дерево, но не достает. И в этот момент, в промежутке, в пространстве между возможностью и желанием, наступает прозрение.
Ведь не все еще кончено для тебя? Или для вас?
Ты чего-то хочешь, тебе что-то нужно, и таким способом ты заявляешь об этом.
Что же это такое, чего ты хочешь? Или чего хотите вы?
Что надеетесь вы получить от голого тела на дереве посреди измученной зимой равнины?
Что же это такое, чего человек может хотеть так сильно?
Прямо напротив шоколадного рая — ослепительно-желтого мощного фасада фабрики «Клоетта», по другую сторону маленького парка стоит ряд домов, построенных в тридцатые годы. Виллы вперемешку с низенькими белыми многоквартирными домами, где каждая квартира имеет отдельный вход. Дом Никласа Нюрена стоит в самом конце улицы, его подъезд — средний из трех.
Малин нажимает на кнопку. Один раз, второй, третий — никто не открывает.
Она звонила ему из машины, и на мобильный, и домой. Не получила ответа, но все же решила попытаться.
Бесполезно.
Его нет дома.
Маргарета Свенссон говорила, что он работает коммивояжером. Представляет продукцию компании «Клоетта», продает печенье. «Вероятно, он у клиента, — думает Малин, — и поэтому отключил мобильник». Она оставляет сообщение: «Здравствуйте, это Малин Форс из полиции Линчёпинга. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, перезвоните мне: ноль семьдесят — триста четырнадцать — двадцать — двадцать два, как только получите это сообщение».
На обратном пути в город Малин слушает волну Р-3.
Телезвезда Агнета Шёдин написала еще одну книгу о каком-то индийском гуру, который так много для нее значил.
— В его обществе, — рассказывает Агнета Шёдин, — я становилась целостным человеком. Встретиться с ним значило открыть дверь и получить возможность войти к самой себе.
Репортер, судя по голосу агрессивный самец, насмехается над Агнетой, но она этого не понимает.
— И что ты нашла там, в пропитанной благовониями комнате, Агнета? Индийский ответ рунам, быть может?
Потом музыка.
Перед Малин — Линчёпинг, он как будто тонет в ранних сумерках. Мерцающий теплый свет у горизонта обещает покой и защиту. Надежное место, чтобы вырастить своих детей.
«Есть худшие места и худшие города, — думает Малин. — Этот достаточно мал, чтобы человек мог чувствовать себя в безопасности, и в то же время достаточно велик и развит, чтобы дать возможность уловить ритм дыхания большого мира».
Она чувствовала этот ритм. Думала остаться в Стокгольме. Вероятно, когда-нибудь этот размер пришелся бы мне впору. Но одинокая мама-полицейский в Стокгольме? Без родителей, без друзей, в то время как отец ребенка и его родители живут за двадцать миль?
Корпуса торгового центра «ИКЕА». «Бебиланд», «Бильтема», «BR-игрушки», вывеска «Шеггеторп». Свет, который надолго привязался ко мне. Свет, который против моей воли превращается в чувство дома.
Сразу же после семи Малин и Зак звонят Карлу Мюрваллю.
В участке она рассказала Юхану Якобссону и Бёрье Сверду о своей поездке на место преступления и о том, как Валькирия Карлссон медитировала на морозе.
Потом позвонила Туве.
— Сегодня я опять буду поздно.
— Можно Маркусу приехать?
— Разумеется, если хочет.
«Я не хочу стоять под этой дверью, — думает Малин. — Я хочу домой, встретиться с другом моей дочери. Осмелится ли он явиться к нам? Я видела его единственный раз, в квартире родителей, и была не слишком приветлива. А теперь он, вероятно, знаком с мнением Янне о моей персоне. Интересно, как оно звучало?»
Внутри квартиры все так же тихо. И нет ни номера мобильного в Интернете, ни даже автоответчика на домашнем телефоне.
Свен Шёман подводит итоги допроса:
— Они как будто отрицают само его существование. И что бы ни было тому причиной, это и есть самое худшее в Мюрваллях. Я думаю, что могло заставить мать отказаться от своего сына? Ведь это противоречит самой природе.
— Он может быть где угодно, — говорит Зак на лестнице перед дверью.
— В отпуске?
Зак разводит руками.
Они уже собираются уходить, когда слышат, как у входа останавливается автомобиль.
Малин наклоняется, смотрит через окно на лестничной площадке. Темно-зеленая «вольво-универсал» с ящиком для лыж в свете уличного фонаря кажется неправдоподобно розовой. Лысеющий человек в черной куртке открывает дверь, выбирается наружу и спешит в дом.
Дверь закрывается, и мужчина быстрым шагом поднимается по лестнице. Первый этаж, второй — и вот они видят его, а он смотрит на них, останавливается, как бы собираясь повернуть назад, а потом идет им навстречу.
— Карл Мюрвалль, — обращается к нему Зак, предъявляя удостоверение, — мы из полиции и хотели бы поговорить с вами, если вы не против.
Мужчина останавливается рядом с ними. Улыбается.
— Карл Мюрвалль — это я, — подтверждает он. — Конечно, только войдите сначала.
У Карла Мюрвалля такой же мощный нос, как и у его сводных братьев, только острее.
Он невысок, с намечающимся животом. Выглядит так, словно готов вот-вот провалиться сквозь каменный пол лестничной площадки, и в то же время от него исходит какая-то странная первобытная сила.
Карл Мюрвалль вставляет ключ в замочную скважину и открывает дверь.
— Я читал о братьях в газете, — говорит он, — и понял, что рано или поздно вы захотите побеседовать со мной.
— А о самом себе вам не хотелось бы побеседовать? — спрашивает его Зак, но Карл Мюрвалль игнорирует вопрос.
— Подождите, сейчас я вас впущу, — повторяет он вместо ответа. — Теперь входите.
44
Квартира Карла Мюрвалля. Две комнаты.
Невероятно чистая. Скромно меблирована.
«Похоже на жилище Бенгта Андерссона, — замечает про себя Малин. — Так же функционально: с книжным шкафом, диваном и письменным столом возле окна».
Никаких безделушек, цветов или украшений — ничего, что могло бы нарушить эту простоту, или, может быть, пустоту, кроме вазы с душистыми желто-красными зимними яблоками на письменном столе.
Книги по программированию, математике, Стивен Кинг — книжный шкаф инженера.
— Кофе? — спрашивает Карл Мюрвалль.
Малин замечает, что голос у него более высокий, чем у братьев, и что в целом он оставляет впечатление более мягкого и в то же время более жесткого человека. Закаленного, много повидавшего в жизни. Почти как Янне, когда он хвастает тем, что ему пришлось пережить там, в горах, и его взгляд выражает одновременно презрение и сочувствие: мол, радуйтесь, что вы не знаете, о чем болтаете.
— Для меня слишком поздно, — отвечает Зак. — Но инспектор Форс охотно выпьет чашечку.
— В самом деле.
— Присаживайтесь пока.
Карл Мюрвалль указывает на диван, и они садятся. Слышат, как он возится на кухне. Минут через пять Карл Мюрвалль возвращается, держа поднос с дымящимся кофе.
— Третью чашку я взял на всякий случай, — говорит он и ставит поднос на столик у дивана, а сам усаживается на офисный стул возле письменного стола.
— Хорошая квартира, — замечает Малин.
— Чем я могу вам помочь?
— Вы работаете целый день?
Карл Мюрвалль кивает.
— Вы искали меня раньше?
— Да, — отвечает Малин.
— Я работаю много. Отвечаю за все компьютерное обеспечение фабрики «Коллинз» в Викингстаде. Триста пятьдесят сотрудников, а компьютеризации не видно конца.
— Хорошая работа.
— Да. Я учился на инженера по компьютерам в университете, теперь это приносит дивиденды.
— Вы могли бы позволить себе больше.
— Меня не интересует материальное благополучие. Собственность — это обуза. Мне больше ничего не нужно.
Карл Мюрвалль делает глоток кофе.
— Но ведь вы пришли сюда не за этим?
— Бенгт Андерссон, — отвечает Зак.
— На дереве, — продолжает Карл Мюрвалль, понизив голос. — Ужасно.
— Вы знали его?
— Я вырос в Юнгсбру, поэтому знал, кто он такой. Там знали и его, и эту семью.
— Но не более того?
— Нет.
— А то, что он фигурировал в деле об изнасиловании вашей сестры?
— Да, это было, естественно. — Тон голоса Карла Мюрвалля нисколько не меняется. — Ведь он был ее клиентом, а она заботилась обо всех своих клиентах. Она научила его соблюдать личную гигиену.
— Вы близки со своей сестрой?
— Трудно быть ей близким.
— Но раньше?
Карл Мюрвалль отводит взгляд.
— Вы ее навещаете?
Снова молчание.
— Похоже, у вас с братьями натянутые отношения, — замечает Зак.
— Мои сводные братья? — переспрашивает Карл Мюрвалль. — Мы с ними не общаемся. Вот так.
— Почему же? — интересуется Малин.
— Я получил образование, у меня хорошая работа, я плачу налоги. Все это не во вкусе моих братьев. Полагаю, их это раздражает и они думают, что я ставлю себя выше их.
— И ваша мама тоже? — продолжает Зак.
— Может быть, моя мама в первую очередь.
— В вашем свидетельстве о рождении записано, что ваш отец неизвестен.
— Я первенец Ракели Мюрвалль. Мой отец был моряком и пропал во время кораблекрушения, когда она была беременна. Это все, что я знаю. Потом она встретила их отца, Черного.
— Каким он был?
— Сначала пьяница. Потом пьяница-инвалид. Потом мертвый пьяница.
— Но он заботился о вас?
— Я не понимаю, какое отношение имеет мое детство к этому делу, инспектор Форс, совершенно не понимаю.
Малин видит, как взгляд Карла Мюрвалля из спокойного и деловитого становится сначала печальным, а потом озлобленным.
— Вам, вероятно, больше подошло бы работать психотерапевтом. Все эти люди на равнине живут своей жизнью, я своей. Так сложилось, вот и все. Понимаете?
Зак наклоняется вперед.
— Один обязательный вопрос: что вы делали в ночь со среды на четверг на прошлой неделе?
— Работал. Ночью мне пришлось заниматься серьезным обновлением системы. Охрана «Коллинз» может подтвердить, если это действительно нужно.
— Мы пока не знаем. Хотя нет, в этом нет необходимости.
— Вы работали один?
— Да, над сложными проектами я всегда работаю один. Больше никто не справляется, по правде говоря — только мешают. Но охрана может подтвердить, что я был на месте целую ночь.
— Что вы знаете о том, чем занимаются ваши братья?
— Ничего. А если бы и знал, не стал бы вам рассказывать. Все-таки мы родственники. И если мы не постоим друг за друга, кто еще это сделает?
Они уже надевают куртки и собираются выходить из квартиры, когда Малин обращается к Карлу Мюрваллю:
— Я видела ящик на крыше автомобиля. Ходите на лыжах?
— Я использую его для перевозки грузов. На лыжах я не хожу, спортом не увлекаюсь.
— Спасибо за кофе, — говорит Малин.
— Спасибо, — присоединяется Зак.
— Но вы ведь его не пили, — замечает Карл Мюрвалль.
— За гостеприимство все равно спасибо.
Малин и Зак стоят возле «универсала» Карла Мюрвалля. Багажник укутан покрывалами, поверх которых стоит большой ящик для инструментов.
— Похоже, у него было совсем не радостное детство там, на равнине, — говорит Малин.
— Да, мне представляются кошмары, когда я думаю обо всей этой дряни.
— Поедем к Никласу Нюрену?
— Малин, мы же звонили ему по меньшей мере раз десять. Он может подождать до завтра. А сейчас отправляйся домой, к Туве, и отдыхай.
45
Одиннадцатое февраля, суббота
Поезд идет.
Йоран Кальмвик лежит, вытянувшись на диванчике в своем купе и предоставив мыслям полную свободу.
«Осталось ли хоть что-нибудь, ради чего стоило бы возвращаться домой? — думает он. — Если очень долго прожить на чужбине, то чужбина станет домом. И я, во всяком случае, кое-что подобрал по дороге».
За окнами поезда темно, но он не может спать, несмотря на монотонный стук состава по рельсам, и на то, что он один в купе первого класса, и на хрустящие простыни, теплые и мягкие, самой своей свежестью навевающие сон.
Билет оплачивает энергетическая компания «Статойл».
Он спрашивает себя, сколько еще можно так выдержать.
Пришло время что-то менять. Ему сорок восемь, и десять из них он живет двойной жизнью, лжет Хенриетте прямо в лицо каждый раз, когда возвращается.
Но она, как видно, ничего не подозревает.
Ей нравится, похоже, что у нее всегда есть деньги, что можно не работать и ни в чем себе не отказывать.
С парнем хуже.
С каждым разом он все больше отдаляется.
А все эти истории в школе? Неужели он действительно такой?
«Чертенок, — думает Йоран Кальмвик, поворачиваясь на другой бок. — Разве так трудно вести себя по-человечески? Ему ведь уже пятнадцать, и он всегда получал то, что хотел».
Может, было бы лучше собрать вещи и уехать? Перебраться в Осло наконец? Попробовать.
Работать в это время года — просто ужас. На буровой под ледяным ветром промерзаешь насквозь. Между сменами не успеваешь согреться, членам бригады не хватает сил даже на разговоры.
Зато мне хорошо платят.
Им выгодно иметь опытных людей на платформе, это окупается. Представить себе только, сколько они потеряют, если производство остановится! А шланги словно холодные черные змеи, дышащие кошмарами.
Скоро Норрчёпинг. Потом Линчёпинг.
И я дома.
Без пятнадцати шесть.
Хенриетта не встретит его у поезда. Она давно уже перестала это делать.
Дома.
Если это можно назвать домом.
46
Спальный вагон из Осло проследует далее через Стокгольм до Копенгагена. Неторопливый поезд с людьми, спящими и бодрствующими.
Шесть пятнадцать. Через шестнадцать минут поезд прибывает, а утро едва-едва дает о себе знать. Похоже, похолодало. Но Малин нашла в себе силы подняться: хотела увидеть, действительно ли Йоран Кальмвик приедет этим поездом, как ей сказали, и если это так, выяснить, что у него за секреты.
Она звонила охранникам фабрики «Коллинз». Они проверили свои журналы: Карл Мюрвалль находился на территории предприятия с девятнадцати пятнадцати среды до семи тридцати утра следующего дня. Работал сверхурочно над серьезным обновлением системы, которое проводилось согласно плану. Она спросила, нет ли другого выхода с территории и не мог ли он каким-нибудь образом проскочить. Но охранник отвечал в полной уверенности: «Он был на месте всю ночь. Никакого другого выхода, кроме как через главные ворота, не существует. Ограда оснащена датчиками, за которыми мы следим из своей будки. Любое повреждение заметили бы немедленно. И потом, когда мы обходили территорию, он был наверху, в серверной комнате».
Вчера Малин и Туве ужинали вместе, говорили о Маркусе. Потом смотрели фильм про розовую пантеру, и через десять минут Малин уснула.
Она представляет себе, как в эту минуту поезд проезжает по мосту через Стонгон.
«Клоетта-центр» как космический корабль по левую сторону, а трубы энергетических предприятий «Текниска веркен» тяжело пыхтят, выпуская дым, и буквы на логотипе горят красным, будто глаза на неудачной фотографии.
Поезд приближается, увеличиваясь в размерах, вот уже локомотив достиг перрона — огромный снаряд, произведение инженерной мысли.
Малин одна на станции. Она хлопает руками по своему пуховику, натягивает шапку поглубже.
«Никакой Хенриетты Кальмвик, — думает она. — Из встречающих одна я, и то потому, что охочусь за убийцей».
В поезде открывается одна-единственная дверь, через два вагона, и Малин спешит туда, чувствуя, как холодный воздух врывается в легкие. На перрон выходит один-единственный человек с двумя большими красными дорожными сумками в руках.
Обветренное лицо, тяжелое и в то же время мускулистое тело. Во всем его облике чувствуется привычка к морозу и лишениям. Синее пальто даже не застегнуто.
— Йоран Кальмвик?
— Да, а вы кто? — Мужчина смотрит удивленно.
Дверь вагона закрывается, и свисток кондуктора почти заглушает голос Малин, называющей свое имя и должность.
Когда свист смолкает и поезд покидает перрон, она быстро излагает суть дела.
— То есть вы пытались со мной связаться?
— Да, — отвечает Малин, — чтобы кое-что выяснить.
— Стало быть, вы знаете, что меня не было на платформе?
Малин кивает.
— Мы можем поговорить в моей машине, — предлагает она. — Там тепло. Я оставила мотор работать на холостом ходу.
Йоран Кальмвик соглашается. Он смотрит с облегчением и в то же время виновато. Через минуту он уже сидит рядом с ней в машине, на пассажирском сиденье. В его дыхании чувствуется сильный запах кофе и зубной пасты. Он говорит, так что у нее нет необходимости задавать вопросы.
— У меня есть женщина в Осло, уже почти десять лет. Вот уже десять лет я лгу Хенриетте, а она по-прежнему верит, будто я работаю три недели и две отдыхаю, в то время как на самом деле все наоборот. Эту лишнюю неделю я провожу в Осло, с Норой и мальчиком. Мне нравится ее сын, с ним проще, чем с Йимми. Я никогда не понимал этого парня.
«Потому что ты никогда не бываешь дома», — думает Малин.
— А оружие? У вас есть какие-нибудь мысли по поводу того, где Йимми мог взять оружие?
— Нет. Я никогда не интересовался ничем подобным.
— И вы ничего не знаете о том, что он вытворял с Бенгтом Андерссоном?
— Увы.
«Потому что ты никогда не бываешь дома», — снова думает Малин.
— Мне нужен телефон вашей женщины в Осло.
— Хенриетте обязательно знать? Я не решил, хочу ли этого. Я пытался ей рассказать, но вы же понимаете, как бывает. А теперь она может узнать…
Малин качает головой. Это ответ, и обещание молчать, и реакция на эту, как кажется, неизлечимую слабость противоположного пола.
Малин остается в машине и смотрит, как такси Йорана Кальмвика исчезает в направлении Юнгсбру, минуя печальное кирпичное здание продовольственного магазина.
Она думает.
Различные варианты действий один за другим непроизвольно возникают в ее голове. Она хватает мобильный, звонит Никласу Нюрену на всевозможные номера. Но он не отвечает, как не перезванивал раньше, и ей приходит в голову, что он, вероятно, у Маргареты Свенссон. Малин выбирает номер из адресной книги, но останавливается, взглянув на часы.
5.59.
Придется подождать.
Нельзя забывать о приличиях, даже когда расследуешь убийство.
Дай поспать матери-одиночке, измотанной непосильной работой.
Малин едет домой. Заглянув к Туве, ложится в постель.
И перед тем как заснуть, снова представляет себе Валькирию Карлссон посреди поля. Голую, похожую на ангела. Падшего ангела?
47
Когда расследование становится кошмарным сном?
Когда поиск истины превращается в хождение по кругу. Когда полицейские впервые начинают сомневаться и возникает чувство: нет, мы никогда этого не раскроем, на этот раз нам не докопаться до правды.
Малин знает.
Рано или поздно это возникнет, словно предчувствие первого за день телефонного звонка. Это может случиться внезапно или нарастать постепенно. Ранним субботним утром, когда пятеро измотанных полицейских, которым в это время полагается спать, а не попивать черный сивушный кофе в зале заседаний, вдруг начинают рабочий день с получения неприятного известия.
— Только что пришло заключение техников относительно Мюрваллей. Работали круглые сутки, и что толку? — Свен Шёман стоит во главе стола, и вид у него удрученный. — Ничего. Только кровь животных: лосей, косуль, диких кабанов и зайцев. И шерсть животных, больше ничего.
«Проклятье», — думает Малин, хотя в глубине души знала об этом с самого начала.
— Значит, мы здорово увязли, — заключает Юхан Якобссон.
Зак кивает.
— Как в бетоне, я бы сказал.
— У нас есть другая линия — Асатру. Бёрье, — спрашивает Свен, — что нового? Вы допросили Валькирию Карлссон после того, как Малин столкнулась с ней возле дуба?
— Пытались связаться с ней по телефону и сегодня попробуем опять, — отвечает Бёрье Сверд. — Допросили двадцать человек, связанных с Рикардом Скуглёфом, но, похоже, ни один из них не имеет отношения к Бенгту Андерссону. Но мы можем задаться вопросом: что она, собственно говоря, делала на месте преступления да еще в таком виде? И зачем?
— Возмутительное поведение, — замечает Юхан. — Как еще можно назвать публичную медитацию в чем мать родила?
— Она никому не мешала, — говорит Малин. — Я звонила любовнице Йорана Кальмвика в Осло, и та все подтвердила. А сегодня я попытаюсь поговорить с Никласом Нюреном. Похоже, это последний камень, под который нужно заглянуть на этой линии расследования.
— Нам остается только бороться, — говорит Бёрье, и как раз в этот момент в дверь стучат.
Не дожидаясь приглашения, ассистент Марика Грувберг просовывает голову внутрь комнаты.
— Извините, если помешала. Но некий фермер обнаружил мертвых животных, повешенных на дереве в поле. Сообщение поступило только что.
«Круги», — думает Малин.
Семь кругов.
Все глубже и глубже.
Оттенки серого и белого меняются местами, сливаются, так что глазу становится трудно провести границу между небом и землей.
Животные висят на одной из трех елей в маленькой рощице посреди поля между Гёта-каналом и церковью. Вдали, возле канала, черные деревья без листьев застыли, словно группа солдат, вытянувшихся по стойке «смирно». Белая, напоминающая гроб церковная стена на расстоянии около восьми сотен метров растворяется в атмосфере, словно ее удерживают на земле лишь расплывшиеся краски окружающих строений — охряного здания школы и желтого, будто лютик, учительского дома.
Похоже, туши были обескровлены, прежде чем их подвесили за шеи на нижней ветке самой маленькой из елей. На снегу пятна запекшейся крови, как видно вылившейся из порезов. Доберман, поросенок и ягненок, которому самое большее год от роду. Пасть собаки обмотана черно-желтым скотчем.
Под деревом, на перепачканном кровью снегу, валяются окурки и мусор, Малин замечает следы лестницы.
Рядом с ней стоит фермер, некий Матс Кнутсон, одетый в утепленный зеленый комбинезон.
— Я объезжал свои земли на машине, как обычно делаю в это время года, чтобы посмотреть, что и как, и тут увидел это на дереве. Довольно странная картина.
— И вы ничего здесь не трогали?
— Даже не приближался.
Зак становится все более подозрительным ко всему живому на равнине.
«Все они одним миром мазаны», — говорил он в машине на пути к месту преступления.
— Что бы это значило?
— Да, и это уже не братья Мюрвалль.
— Нет, они сидят в тюрьме.
— Может, Йимми Кальмвик и Иоаким Свенссон?
— Возможно. Ведь они мучили кошек, если верить Фредрику Уннингу.
— Надо снова их допросить.
— То же со Скуглёфом и Валькирией Карлссон.
В нескольких метрах от ветки с повешенными животными на снегу виднеется надпись, сделанная неровными буквами: МИДВИНТЕРБЛОТ.
Но использовалась не кровь, а красная краска-спрей, насколько Малин может видеть невооруженным глазом. Только что подъехавшая Карин Юханнисон обследует землю, сидя на корточках. Ей помогает коллега, которую Малин никогда не видела раньше: молодая девица с крупными веснушками и копной рыжих волос под бирюзовой шапкой.
В стороне от красного слова кто-то вывел мочой три буквы — ВАЛ. На большее, по-видимому, его не хватило.
Зак стоит рядом с деревом, указывая на животных.
— Им перерезали горло и выпустили кровь.
— Думаешь, они еще были живы, когда их вешали?
— Разве что собака. Когда срабатывают инстинкты, эти создания бывают чертовски живучи.
— Следы лестницы, — говорит Малин. — Наверное, металлической, судя по этим потертостям на дереве. А дырки в снегу от ее концов.
Бёрье Сверд ходит взад-вперед, беседуя по мобильному телефону.
— Посмотрите на эту собаку на дереве, — предлагает он потом, закончив разговор. — Какой же беспомощной была она под конец! И даже пасть эти мерзавцы не оставили в покое. Судя по всему, она была украшением своей породы, а значит, куплена в питомнике и, конечно, это отмечено в бумагах. Мы сможем установить владельца по налоговому регистру. Снимите же ее, ну!
— Сначала мы должны закончить, — отвечает Карин и смотрит на них, улыбаясь.
— Так заканчивайте скорей! — возмущается Бёрье. — Она не должна здесь висеть.
— Нужен ли агрегат на этот раз? — спрашивает Карин.
— Какой, к черту, агрегат! — кричит Бёрье.
— Не для животных, — отвечает Зак. — Или как ты думаешь, Малин?
Малин качает головой.
— Кажется, у нас есть все, что нужно.
Они слышат звук приближающегося автомобиля, полицейской сирены и оборачиваются. Из машины выходит Карим Акбар и кричит:
— Я знал, я знал, это все Асатру, то, о чем говорил профессор. Это язычники!
Кто-то хлопает Малин по спине, и она оборачивается.
Это фермер Кнутсон, остающийся, похоже, в стороне от всеобщей суеты.
— Я еще нужен вам здесь или могу ехать? Коровы…
— Поезжайте, — отпускает его Малин. — Мы позвоним, если еще что-нибудь потребуется.
— А животные?
Фермер указывает на дерево.
— Мы снимем их.
Не успевает она договорить, как видит приближающийся автомобиль «Корреспондентен».
«Даниэль, — думает она. — Где ты был до сих пор?»
Но нет, из машины выходит не Даниэль. Это девушка-фотограф с кольцом в носу и прокуренный седой журналист, которого, насколько Малин известно, зовут Бенгтссон. Это бывалый тип с неизменной трубкой в зубах и неистребимым презрением к компьютерам и текстовым редакторам.
«Им, — думает Малин, — должен заняться Карим, раз уж он сюда выбрался».
«Не спросить ли мне про Даниэля, — вот следующая мысль, которая приходит в голову Малин, но она тут же отгоняет ее прочь. — И как это будет выглядеть? Какое мне, собственно, дело?»
— Снимите же пса немедленно, — повторяет Бёрье.
Он весь — гнев и отчаяние, не может думать ни о чем, кроме трупа собаки на дереве.
Малин хочется сказать: успокойся, Бёрье, она уже ничего не чувствует. Но молчит и только думает: «Все ее мучения уже позади».
— Теперь мы готовы, — объявляет Карин.
За спиной Малин слышит щелканье фотокамеры и хриплый голос Бенгтссона, который берет интервью у Карима.
— Что вы…
— Группы… связанные… подростки.
Вдруг Бёрье бросается в сторону животных и пытается с разбегу допрыгнуть до собаки, однако не достает до ее безжизненно висящих лап с комками запекшейся крови.
— Бёрье, какого черта! — кричит Малин.
Но он прыгает и прыгает снова, упорно борясь с гравитацией, опять и опять пытаясь вызволить собаку из ее жалкого положения.
— Бёрье! — кричит Зак. — Ты с ума сошел? Сейчас принесут лестницу, и мы снимем ее.
— Закрой рот.
В конце концов Бёрье хватает пса за задние лапы, его руки словно приклеиваются к трупу, и он соскальзывает вниз, увлекая собаку тяжестью своего тела. Ветка выгибается в дугу, и ледяная короста, удерживающая собаку на ней, трещит. Бёрье кричит и стонет, падая на окрашенный кровью снег.
Рядом приземляется собака с безжизненно открытыми глазами.
— Эта зима всех нас сделает безумцами, — шепчет Зак. — Законченными чертовыми сумасшедшими.
48
С этого поля Малин может рассмотреть лес, где изнасиловали Марию Мюрвалль. Край его кажется черной полосой на фоне белого неба. Малин не видит воды, но знает, что там, вдалеке, течет река Мутала, журчит, как огромный ручей под покровом льда.
На карте эти леса не представляют собой ничего особенного: пояс шириной три-четыре мили, тянущийся вверх от Роксена в направлении Чьелльму и Финспонга по другую сторону Муталы. Но там, внутри, можно исчезнуть, заблудиться, встретиться с тем, что непостижимо для человеческого рассудка. Можно навсегда затеряться в поросли и гниющей листве, среди грибов, которые никто не собирает, стать частью таинственного лесного мира. Раньше народ в этих краях верил в троллей и эльфов, в непонятных козлоногих существ, шныряющих между корнями и заманивающих людей, чтобы уничтожить.
«Во что верит народ теперь? — спрашивает себя Малин и отводит взгляд в сторону церковных башен. — В хоккей и музыкальные фестивали?»
Бёрье Сверд в наушниках. Записывает какой-то номер на клочке бумаги, потом звонит по мобильному.
Рядом Зак, тоже с телефоном.
Фермер Деннис Хамберг, проживающий неподалеку от Клокрике, сообщил о краже на своем скотном дворе. Он был в отчаянии: «Похищены два животных, поросенок и годовалый ягненок. Я переехал сюда из Стокгольма, чтобы серьезно заниматься сельским хозяйством, и вот меня обокрали».
Лес.
Черный и полный тайн.
Девушка с картины Йона Бауэра любуется своим отражением в озере. А что за ее спиной?
Они сидят в патрульной машине. Слышен звук мотора, работающего на холостом ходу, распространяется предательское тепло, заставляющее их расстегнуть куртки, оттаять, раскрыться. Летучка в полевых условиях. Присутствуют Малин, Зак, Юхан, Бёрье и Карим. Свен Шёман в участке, занят бумагами.
— Ну? — спрашивает Карим. — Что делаем дальше?
— Я возьму на себя собаку, — отвечает Бёрье. — Это не займет много времени.
— Кто в форме, пойдут по квартирам расспрашивать людей, — предлагает Зак. — А я и Малин заглянем к этому фермеру, а потом выясним, чем занимались Кальмвик и Свенссон вчера вечером. Пока нельзя ничего упускать из виду.
— Однако связь, кажется, очевидна, — говорит Карим с водительского сиденья. — Ритуал. Час от часу они становятся все беспечнее и больше обнаруживают себя.
— В таких случаях обычно все идет по восходящей, — замечает Малин. — Так показывает опыт. Но здесь сначала человек, а потом животные, едва ли можно говорить об эскалации.
— Возможно, — соглашается Зак. — Но кто знает, что на уме у таких типов.
— Не упускайте из виду Рикарда Скуглёфа и Валькирию Карлссон, — напоминает Карим. — Связь с Асатру очевидна.
По окончании совещания Малин снова глядит на лес. Закрывает глаза, видит голое тело на колючем мху.
Она поднимает веки, пытаясь отогнать видение.
Мимо проходит Карин Юханнисон с огромной желтой спортивной сумкой. Малин ее останавливает.
— Карин, в последние годы появились новые методы анализа ДНК из следов крови. Вы их практикуете?
— Малин, ты все про это знаешь, и тебе незачем льстить мне своей неосведомленностью. В Бирмингеме, главной британской лаборатории, зашли невероятно далеко. Ты и не представляешь, что они могут извлечь буквально из ничего.
— А мы?
— У нас нет их ресурсов. Но случается, мы посылаем им материал для анализа.
— Если я сделаю пробу, ты можешь организовать это?
— Конечно. У меня есть там контакты. Интендант Джон Стюард, мы встречались с ним на конференции в Кёльне.
— Тогда я обращусь к тебе, — предупреждает Малин.
— Пожалуйста.
Карин тащит свою сумку дальше по покрытой снегом неровной земле. Несмотря на тяжесть груза, она элегантна, как парижская модель на подиуме.
Малин отходит в сторону, достает телефон и набирает номер диспетчерской.
— Можете соединить меня со Свеном Нордстрёмом из полиции Муталы?
— Да, сейчас, — отвечает телефонистка.
Раздаются три сигнала, затем звучит голос:
— Нордстрём.
— Это Форс из Линчёпинга.
— Привет, Малин. Давненько не общались.
— Да, нужна твоя помощь. Речь идет об изнасиловании Марии Мюрвалль, сестры братьев Мюрвалль, что всплыло в нашем расследовании. Сохранились ли на ней какие-нибудь остатки одежды, когда вы ее нашли?
— Да. Но пятна крови были такие грязные, что из них ничего невозможно было извлечь.
— Наша Юханнисон говорит, что есть новые технологии. И у нее знакомые в Бирмингеме, которые могут творить чудеса.
— Ты хочешь послать образцы одежды в Англию?
— Да. Ты можешь проследить, чтобы они попали к Карин Юханнисон в ГКЛ?
— Вероятно, все это надо оформить официально.
— Скажи это Марии Мюрвалль.
— У нас есть образцы в архиве. Карин получит их сегодня.
— Спасибо, Свен.
Как раз когда Малин заканчивает разговор, мимо проезжает Карин в своем автомобиле. Малин останавливает ее.
Карин опускает стекло.
— Сегодня ты получишь материал от Нордстрёма из Муталы. Пошли его в Бирмингем, чем скорей, тем лучше. Это срочно.
— Что это?
— Одежда Марии Мюрвалль. Остатки.
Дверь открывает усталая Маргарета Свенссон. Из кухни пахнет кофе, и хозяйка, похоже, ничуть не удивлена вторичному появлению Малин и Зака. Жестом приглашает их войти и занять места за столом на кухне.
«Здесь ли Никлас Нюрен? — спрашивает себя Малин. — Но если бы он был здесь, то сидел бы за этим столом, во всяком случае в гостиной. Он бы уже показался».
— Хотите кофе?
Закрыв за собой входную дверь, Малин и Зак стоят в прихожей.
— Нет, спасибо, — отвечает Малин. — У нас к вам пара вопросов.
— Спрашивайте.
— Вы знаете, что ваш сын делал вчера вечером и ночью?
— Да, он был дома. Я, он и Никлас вместе ужинали, а потом смотрели телевизор допоздна.
— И он не выходил?
— Нет, я в этом совершенно уверена. Он спит там, наверху. Вы можете разбудить его и расспросить.
— В этом нет необходимости, — говорит Зак. — А Никлас здесь?
— Он у себя дома. Уехал поздно вечером.
— Я просила его перезвонить мне, оставляла сообщение.
— Он говорил. Но у него так много работы!
«Расследование убийства, — думает Малин. — Чертово расследование убийства, а человеку трудно даже перезвонить. А потом они жалуются, что полиция не справляется».
Иногда Малин хочется донести до людей одну вещь: полиция — всего лишь одна ветка в кроне дерева, называемого обществом, в котором все вместе и каждый в отдельности должны следить за порядком и поддерживать его. Но все считают, что каждый должен делать свое дело. И в итоге не делается ничего. НМП, так называется это в книге «Жизнь, Вселенная и все остальное».[42] Не Мои Проблемы.
— Что ты думаешь об этом? — спрашивает Зак, когда они возвращаются к машине.
— Она говорит правду. Он был вчера дома. И Йимми Кальмвик едва смог бы справиться в одиночку. Теперь фермер.
Группа строений в поле, в километре от Клокрике, утопает в снегу. Березовая рощица вокруг да красивая каменная стена — какое-никакое прикрытие от ветра для плодовых деревьев возле нового жилого дома.
Вилла с зелеными ставнями выстроена из песчаника. У крыльца цвета средиземноморской волны припаркован «рейнджровер».
Здесь должно пахнуть лавандой, тимьяном и розмарином, а пахнет снегом. На воротах в аллею, ведущую к дому, висит щит с надписью: «Finca de Hambergo».[43]
Зеленая дверь открывается, и из нее показывается голова мужчины, крашеного блондина лет сорока.
— Хорошо, что вы так быстро приехали. Входите.
Весь нижний этаж дома — одна большая комната, где размещается и прихожая, и кухня, и гостиная. Малин глядит на каменные стены, выложенные узорной плиткой, открытые форточки на кухне и терракотовый пол. Все эти живые краски словно случайно попали сюда из Тосканы или с Майорки. Или, может, из Прованса?
Она была только на Майорке, и дома там выглядят совсем не так. Дешевый отель, где жили они с Туве, больше походил на многоквартирный дом в Шеггеторпе. Тем не менее из журналов по дизайну Малин знает, что именно такой колорит в воображении большинства ассоциируется с южными странами.
Деннис Хамберг замечает ее интерес.
— Мы хотели, чтобы это выглядело как своего рода сочетание андалузской финки и сельского дома в Умбрии. Мы переехали из Стокгольма, чтобы организовать экологически чистое фермерское хозяйство. Собственно говоря, хотели уехать еще дальше, но дети должны ходить в шведскую школу. Сейчас они старшеклассники, учатся в Юнгсбру. А жена получила хорошую работу менеджера по связям в модном магазине «Нюгордс Анна» в Линчёпинге. В девяностые годы я страшно много путешествовал, теперь хочу пожить в покое и безопасности.
— Где сейчас ваша семья?
— В городе, делают покупки.
«А ты стал болтуном посреди пустынной зимней равнины», — думает Малин.
— Ну так что с ограблением?
— Да. Идемте.
Деннис Хамберг надевает пуховик «канадский гусь» и ведет их через двор к сараю.
— Так они вошли. — Он указывает на следы лома на дверной коробке.
— Их было много?
— Да, там, внутри, полно следов.
— Тогда мы попробуем не затоптать их, — говорит Зак.
Отпечатки спортивной обуви и тяжелых ботинок. «Армейские?» — спрашивает себя Малин.
В сарае несколько клеток с кроликами, одинокий ягненок в яслях, в прямоугольном загоне с бетонным полом черная свиноматка и с десяток поросят.
— Иберико. Пата негро.[44] Из Саламанки. Я буду делать ветчину.
— Это здесь они взяли поросенка?
— Да, они забрали одного поросенка и ягненка тоже.
— И вы ничего не слышали?
— Ни звука.
Малин и Зак озираются, потом в сопровождении Денниса Хамберга выходят во двор.
— Как вы думаете, можно вернуть животных? — спрашивает он.
— Нет, — отвечает Зак. — Сегодня утром их нашли повешенными на дереве возле Юнга.
Кажется, мышцы на лице Денниса Хамберга в мгновение ока омертвели. Он вздрагивает всем телом, как будто пытаясь сосредоточиться и вникнуть в то, что находится за пределами всякого понимания.
— Что вы сказали?
Зак повторяет.
— Разве здесь возможно такое?
— И не такое еще, — отвечает Малин.
— Мы послали туда наших техников, они проведут обследование.
Деннис Хамберг смотрит на поле, натягивает капюшон.
— Пока мы не переехали сюда, — говорит он, — я не знал, как может дуть. Конечно, дуло и в Египте, и на Канарских островах, и в Тарифе, но не так, как здесь.
— А у вас есть собака? — спрашивает Малин.
— Нет, но летом мы заведем кошку. А животные, — спрашивает Деннис Хамберг, немного подумав, — я должен опознать их?
Малин смотрит в сторону, на поле, и слышит голос Зака, как будто давящегося от смеха.
— Успокойтесь, Деннис. Мы нисколько не сомневаемся, что животные ваши. Но если вы хотите, то, конечно, можно это организовать.
49
Бёрье Сверд сжимает кулаки в карманах, чувствуя приближение чего-то непостижимого. Он ощущает его присутствие в воздухе, которым дышит. Что-то должно случиться — какое-то событие, имеющее для него большое значение и находящееся за границами его понимания.
Окна в машине запотевают, с каждым выдохом все больше.
Владельца добермана, согласно налоговому регистру, зовут Сиверт Нурлинг, он проживает по улице Ульсторпсвеген, 39, в Юнгсбру, на той стороне реки, откуда дороги ведут в леса, к озеру Хюльтшён. Узнать имя владельца собаки удалось всего за несколько минут, в стокгольмской администрации народ услужлив.
Начнем с этого.
Он чувствует всем своим полицейским инстинктом: теплее, еще теплее. Скуглёф и Валькирия Карлссон подождут.
А теперь он и Юхан Якобссон на месте. Он только хочет взглянуть на этого дьявола, если постарался сам владелец собаки. В любом случае, тот должен был следить за своим питомцем, чтобы пес не попал в руки каким-то психам.
Белая деревянная вилла зажата между двумя подобными постройками семидесятых годов. Яблоневые и грушевые деревья уже выросли. Летом здесь, конечно, живые изгороди достаточно высоки и надежно защищают двор от посторонних глаз.
— Нечего ждать, — говорит Бёрье. — Предугадать что-либо тут невозможно. Быть может, мы у цели.
— Что будем делать? — спрашивает Юхан.
— Звонить.
— Хорошо. Думаю, так будет лучше.
Они вылезают из машины, проходят в калитку и поднимаются по лестнице.
Звонят — три, четыре раза, прежде чем изнутри слышатся усталые шаги.
Дверь открывает парень, еще подросток. На нем черные кожаные штаны, такие же черные длинные волосы свисают на грудь, доставая до пирсингованных сосков. Кожа его бела, как снег в саду, и холод, похоже, ему нипочем.
— Ну? — произносит он и вяло смотрит на Бёрье и Юхана.
— Ну? — повторяет Бёрье. — Это ты Сиверт Нурлинг? — спрашивает он, доставая полицейское удостоверение.
— Нет, это мой папа.
— А тебя как зовут?
— Андреас.
— Мы можем войти? Здесь холодно.
— Нет.
— Нет?
— Чего вы хотите?
— Собака. Доберман. Она убежала?
— У меня нет собаки.
— Если верить налоговому регистру, она у тебя есть.
— Это собака отца.
— Но ведь ты сейчас сказал, что у вас вообще нет никакой собаки.
Юхан смотрит на руки мальчика. Они в красных брызгах.
— Я думаю, тебе придется пойти с нами, — говорит он наконец.
— Могу я надеть куртку?
— Да…
Неожиданно мальчик отступает на шаг назад и со всей силы захлопывает дверь.
— Черт! — кричит Бёрье и рвет дверь на себя.
— Ты сзади, я спереди.
Они вытаскивают оружие, расходятся и движутся, прижимаясь к стенам дома.
Их куртки трутся о шероховатые доски.
Юхан на корточках пробирается под окном на террасу. Пропитанные зеленой краской половицы скрипят под его ногами. Он вытягивает руки, нащупывая ручку двери.
Заперто.
Проходит пять минут, десять. Тишина внутри дома, не слышно, чтобы там кто-то двигался.
Бёрье вытягивает шею, пытается заглянуть в окно, туда, где, должно быть, находится спальня. Но внутри темно.
И тут слышится скрежет двери у входа в гараж, Бёрье видит, как она открывается и мальчик устремляется наружу. В руке у него что-то черное. «Я должен его завалить?» — проносится в голове у Бёрье, но он не стреляет, а бежит вслед за мальчишкой, мелькающим впереди между домами.
Бёрье гонится за мальчиком вниз по поселку, по берегу Муталы, затем они сворачивают куда-то налево. Дети в комбинезонах играют в саду. Сердце готово выпрыгнуть из груди, но с каждым шагом мальчик все ближе. Он увеличивается в размерах. Сады и виллы по обе стороны улицы возникают и исчезают вновь. Ботинки стучат по посыпанным песком улицам. Налево, направо, налево… Мальчик, должно быть, знает эти кварталы как свои пять пальцев.
Устали.
Теперь оба бегут медленнее.
Потом мальчик останавливается.
Оборачивается.
Целится из чего-то черного в Бёрье, который падает на землю, в сторону, в сугроб.
«Какого черта он делает, дурак? Или он не знает, к чему вынуждает меня?»
Снег в сугробе холодный и колючий.
Бёрье Сверд представляет себе жену, неподвижную в постели, своих собак, радующихся его появлению на псарне, дом и своих детей, там, в дальних странах.
Он видит перед собой мальчика. С оружием, нацеленным на него.
Мучитель собак. Ребенок. Пасть добермана, обмотанная скотчем.
Пальцы смыкаются вокруг курка. Их обоих — и мальчика, и его собственные пальцы. Целиться в ногу — в голень, тогда он упадет. Только бы не задеть артерию, чтобы не истек кровью.
Бёрье жмет на курок. Раздается отрывистый, мощный звук, и мальчик падает, будто кто-то выбивает из-под него ноги.
Юхан слышит шум впереди и несется туда.
Куда они побежали?
Две стороны.
Юхан бежит вперед и сворачивает налево. Это за поворотом?
Он тяжело дышит.
Он слышит выстрел и чувствует, как холодеет в легких.
Проклятье.
Он спешит на звук.
И тут видит, как Бёрье бросается к телу, лежащему на присыпанной гравием улице. Кровь хлещет из ноги, рука ковыряет снег. Он склоняется над раной. Черные волосы мальчика веером раскинуты на белом.
Бёрье поднимается, отбрасывает в сторону что-то черное, лежавшее на теле.
Потом тело издает звук — крик боли, отчаяния и страха, а может, и растерянности прорезает тишину переулков.
Юхан бежит к Бёрье.
— Он остановился и стал целиться в меня, — шепчет, задыхаясь, Бёрье.
Потом указывает на оружие в снегу.
— Проклятая бутафория. Такие штуки можно найти где угодно. Но как, черт возьми, я мог это разглядеть?
Бёрье опускается рядом с мальчиком.
— Успокойся. Это заживет.
Но тот продолжает кричать, держась за ногу.
— Надо вызвать «скорую», — говорит Юхан.
Малин смотрит на пустую игровую площадку.
«Что же такое словно поднимается из этой земли? Почему именно сейчас?» — думает она и не находит ответа. Может быть, достигнута какая-то точка разрыва и что-то взорвалось именно сейчас, рухнуло в бездну насилия и отчаяния.
Дети.
Толпы растерянных детей.
Они неотделимы друг от друга.
— Его прооперировали. Мы допросим его позже, — звучит усталый голос Свена Шёмана. — Отец подтвердил, что это была их собака, которую он купил для сына.
— Что еще сказал отец? — спрашивает Зак.
— Что мальчика не было дома вчера ночью, что последние годы он живет в мире компьютерных игр, Интернета, хеви-метал и прочего, что его папа назвал «интересом ко всему оккультному».
— Бедный отец, — вздыхает Зак.
Малин представляет себе, о чем он сейчас думает. Вероятно, о том, что его перспективы все-таки оставляют больше надежды, а терзания по поводу матчей Мартина просто смешны и он однажды должен покончить с ними раз и навсегда. Тысячи и тысячи отцов в Линчёпинге могут только мечтать о таком сыне, как Мартин. Да, и когда же следующий домашний матч?
Вероятно, Зак понятия об этом не имеет.
Для него одна только мысль о «Клоетта-центре» отдается болью в мягком месте.
— Отец — менеджер по продажам на «Саабе», — добавляет Свен. — Верных три сотни командировочных дней за год. В такие места, как Пакистан или Южная Африка.
— А приятели? — спрашивает Малин.
— Папа не может назвать никого.
— А как Бёрье? — с тревогой спрашивает Юхан Якобссон.
— Вы знаете, как это бывает. Отстранен от расследования до выяснения обстоятельств стрельбы.
— Но здесь все ясно как божий день, — говорит Малин. — Он стрелял в целях самообороны. Эту бутафорию не отличить от настоящего пистолета.
— Я знаю, — соглашается Свен. — Но, Форс, когда все было так просто?
В десятой палате пятого отделения университетской клиники темно, если не считать светильника над кроватью больного.
Сиверт Нурлинг сидит в полумраке в зеленом кресле возле окна. Это высокий, стройный мужчина, и даже при слабом освещении Малин замечает, с какой твердостью смотрят его синие глаза. Волосы стрижены ежиком, брюки кажутся слишком короткими. Рядом его жена Биргитта — блондинка в джинсах и красной блузе, из-за которой ее заплаканное лицо выглядит еще более опухшим.
В постели лежит мальчик, Андреас Нурлинг.
Его лицо кажется Малин знакомым, но она не может понять откуда.
Одна его нога поднята на вытяжке, а взгляд затуманен анальгетиками и наркозом. Тем не менее врачи разрешили короткий допрос.
Зак и Малин стоят рядом с кроватью, полицейский в форме несет вахту на стуле за дверью.
Мальчик не ответил на приветствие, когда они вошли, и сейчас демонстративно отвернулся. Его черные волосы напоминают нервные штрихи тушью на белой подушке.
— Тебе есть что рассказать нам, — начинает Малин.
Мальчик молчит.
— Мы расследуем убийство. Мы не утверждаем, что его совершил ты, но мы должны знать, что происходило у дерева ночью.
— Я не был ни у какого дерева.
Отец Андреаса встает и начинает кричать:
— Ну, сейчас ты будешь хорошим мальчиком и расскажешь, что знаешь. Это серьезно! Не какая-нибудь дурацкая игра!
— Твой отец прав, — тихо говорит Малин. — Ты нажил себе кучу неприятностей, но если все расскажешь, можешь облегчить свое положение.
Мальчик смотрит на Малин. Она пытается успокоить его взглядом, внушить, что все образуется, и он почти верит ей или решает для себя, что вся эта дрянь уже не имеет никакого значения.
И начинает рассказывать.
О том, как прочитал в газете о трупе на дереве и о Мидвинтерблоте. Как здорово получилось, что он был дома с мамой в тот вечер, когда произошло убийство, и не имеет к этому ни малейшего отношения, потому что это все-таки убийство. О том, как устал от своей вонючей собаки и как его подруга Сара Хамберг предложила стащить поросят у ее родителей. Что у приятеля Хенкана Андерссона оказался в распоряжении простой в управлении грузовой автомобиль, и как он нашел в Сети сайт того самого Рикарда Скуглёфа, о котором читал в газете, посвященный сейду и с описанием обряда Мидвинтерблот. Он рассказывал, как вдруг стал одержим идеями Асатру, и как получал множество странных подстрекательских писем по электронной почте, и как одно шло к другому, так что это уже нельзя было остановить, словно какая-то неведомая сила владела им.
— Мы выпили пива и взяли с собой ножи. Я не думал, что вытечет так много крови. Просто ужас сколько крови! Это было офигенно, правда, чертовски холодно.
Его мама снова ударяется в слезы.
А у папы вид такой, словно он готов наброситься на сына с кулаками.
За окнами больничной палаты беспросветная ночь.
— А Рикард Скуглёф был с вами?
Мальчик качает головой:
— Нет, только те чокнутые, с которыми я переписывался по электронной почте.
— А Валькирия Карлссон?
— Кто это?
— Почему ты побежал? — спрашивает Малин. — И зачем целился в инспектора Сверда?
— Не знаю, — отвечает мальчик. — Я не хотел, чтоб меня схватили, ведь так оно делается в таких случаях?
— Голливуд надо взорвать, — бурчит Зак.
— Что вы сказали? — Мальчик проявляет неожиданный интерес.
— Ничего. Просто мысли вслух.
— Еще один вопрос, — говорит Малин. — Ты знаком с Йимми Кальмвиком и Иоакимом Свенссоном?
— Знаком? С Йоке и Йимми? Нет, но я слишком хорошо знаю, кто это. Две порядочные свиньи.
— Они принимали в этом какое-нибудь участие?
— Ни малейшего. Я никогда бы не стал добровольно иметь с ними дело.
— Будем брать Скуглёфа? — спрашивает Малин Зака на пути к лифту по выходе из отделения.
— За что? За подстрекательство к насилию над животными?
— Ты прав. Оставим его пока. Но вероятно, в свое время нам надо будет снова поговорить с ним и Валькирией Карлссон. Кто знает, к чему еще они могли подстрекать.
— Да, а Юхан допросит остальных детей, которые были в поле.
— Ага. Но на сегодня у нас еще одно дело.
— Какое же?
— Мы должны навестить Бёрье.
Белые лакированные окошки на кухне так и сверкают чистотой, на обеденном столе финская скатерть от «Маримекко» в оранжевых и черных тонах, под потолком РН-лампа.[45]
Все на кухне Бёрье Сверда дышит покоем, а эстетический уровень далеко за пределами возможностей самой Малин.
И такой весь дом — ухоженный, уютный, красивый.
Бёрье сидит во главе стола. Его жена Анна в инвалидном кресле рядом; она мертвой хваткой вцепилась в подлокотники, лицо как застывшая маска. Ее тяжелое дыхание, упорное, мучительное, заполняет комнату.
— И что я должен был делать? — спрашивает Бёрье.
— Ты все сделал правильно, — отвечает Зак.
— Абсолютно, — соглашается Малин.
— И никаких «но»?
— Никаких, Бёрье, пуля попала туда, куда было нужно.
— Черт бы его подрал, — ругается Бёрье. — Будет знать, как мучить животных.
Малин качает головой:
— Это безумие.
— Теперь меня, вероятно, не будет пару недель, — говорит Бёрье. — Обычно это требует времени.
Из инвалидного кресла доносится бульканье, а потом несколько членораздельных звуков.
Неужели это речь?
Снова слышатся звуки, в которых чувствуются упорные попытки сформировать какие-то слова.
— Она говорит, — переводит Бёрье, — что пора положить конец всем этим ужасам.
— Да, действительно пора, — соглашается Малин.
— Что было на работе, мама? — спрашивает Туве и тянется за кастрюлей с картофельным пюре, стоящей на кухонном столе. — Ты выглядишь усталой.
— Что случилось? Некие подростки, чуть постарше тебя, натворили кучу глупостей.
— Что за глупости?
— Очень большие. — Малин прожевывает пюре и продолжает: — Пообещай мне, Туве, что никогда не будешь делать глупостей.
Туве кивает.
— И что с ними теперь станется?
— Сначала вызовут на допрос, а потом ими займутся социальные службы.
— Как это?
— Не знаю, Туве, но, думаю, о них позаботятся.
50
Двенадцатое февраля, суббота
Часы на колокольне бьют одиннадцать раз, потом начинают звонить. Они звонят по мне, они объявляют во всеуслышание, что сегодня Мяченосец Андерссон будет наконец похоронен. В этом звоне слышится рассказ о моей жизни, о моем на первый взгляд бессмысленном существовании. Но вы ошибаетесь, как вы ошибаетесь! Я знал любовь, по крайней мере однажды, даже если не чувствовал в себе решимости признаться в этом.
Тем не менее это правда. Я был одинок, но не настолько.
Сейчас имеет смысл поговорить обо мне. Потом я сгорю. Раз и навсегда однажды в субботу! Они сделали исключение для меня, ради моей ужасной смерти.
Но все это не имеет никакого значения, отчасти меня уже нет, осталась только загадка, ради которой кое-что еще сохраняется. Я группа крови, генетический код, я то, что лежит в белом сосновом ящике в часовне Воскресения Господня с оранжевыми стенами, где-то под Ламбуховом, если ехать в сторону городка под названием Слака.
В нескольких сотнях метров, в подземном коридоре, ждут печи. Но я не боюсь огня, в нем нет ни вечности, ни тепла, только дань моде.
Я давно уже ни на кого не в обиде, просто желаю Марии немного покоя. Она была добра ко мне, а это кое-что значит.
Вы сидите на своих скамьях с такими серьезными лицами. Вас только двое: Малин Форс и представитель похоронного агентства «Фонус», тот самый Скуглунд, что готовил мое лицо для фотографии в «Корреспондентен». У гроба стоит женщина, шею ей трет пасторский воротник, и ей бы хотелось поскорее покончить с этим. Смерть и одиночество в моем лице пугают ее, как бы ни уповала она на своего Бога и Его милосердие.
Так начинайте же и заканчивайте поскорее.
И я полечу дальше.
Боль еще не оставила меня, она так же своенравна, как и прежде. Но я усвоил одну вещь.
Мертвый, я могу говорить.
Я могу шептать сотни слов, выкрикивать тысячи и тысячи. Я могу выбрать молчание. В конце концов, есть только мои слова, ваше бормотание ничего не значит.
Поэтому прекратите его.
У входа в часовню Малин приветствовала представителя похоронного агентства Конни Скуглунда. Под аркадами песочного цвета они сказали друг другу «добрый день» и, обменявшись вежливыми фразами, остались стоять рядом в понимающем молчании, пока часы не начали бить; тогда они прошли в просторный зал. Количество света здесь почти нарушало торжественность момента. Проникая через окна, он заполнял собой всю комнату, от потолка до пола, как бы заботясь о том, чтобы в сторону парка открывался приятный вид. «Как здесь должно быть красиво, когда вокруг полно зелени, — думает Малин. — А сейчас неправдоподобно светло».
Они усаживаются по обе стороны от гроба, как будто для того, чтобы каким-то образом заполнить пустое помещение.
Одиночество в жизни.
Еще большее — после смерти.
Почти неделя прошла с тех пор, как нашли тело Бенгта Андерссона, теперь его надо похоронить. Суббота. Одинокий венок на гробе — от общины Юнгсбру. Должно быть, футбольный клуб решил ограничиться тем, что принес на место убийства. У Малин в руке белая гвоздика, а часы все звонят и звонят, и ей кажется, что, если это продлится еще чуть-чуть, они с представителем похоронного агентства Скуглундом оба оглохнут. И пастор тоже. Женщине-пастору около тридцати пяти, она рыжеволосая, коренастая и веснушчатая. Но вот звон прекратился, и зазвучал псалом, а потом пастор начала говорить. Она говорила то, что полагается в таких случаях, а когда решила сказать что-то от себя лично и произнесла фразу «Бенгт Андерссон был самый обыкновенный необыкновенный человек…», Малин захотелось вскочить и зажать ей рот, чтобы остановить поток банальностей. Но она сдержалась и, сама не замечая как, положила белую гвоздику на гроб Мяченосца. «Мы найдем его, мы до него доберемся, и ты обретешь покой», — подумалось ей.
Малин Форс, если ты полагаешь, что для обретения покоя мне нужна «правда», ты ошибаешься. Ты ищешь ее, потому что она нужна тебе самой.
Это тебе нужно обрести мир и покой, а не мне.
Хорошо, но будем честны друг с другом, к чему вся эта суета?
Сейчас он везет меня по коридору, в гробу темно и жарко, а скоро будет еще жарче.
Его зовут Давид Сандстрём, ему сорок семь лет, и все удивляются, как он может здесь работать. Сжигать трупы — не такая уж престижная профессия. Заниматься этим делом немногим лучше, чем быть толстяком, ударившим своего собственного отца топором по голове. Но ему нравится его работа. Он всегда один и мало общается с живыми. Его профессия дает ему кучу разных преимуществ, но не будем об этом.
Сейчас мы внутри крематория. Эта просторная комната со стенами небесно-голубого цвета находится под землей, только маленькие окошки под потолком смотрят наружу. Все полностью автоматизировано, ему нужно будет только поставить гроб на конвейер. Далее откроется окошко в печи, огонь в которой зажигается нажатием кнопки.
Потом я сгорю.
Но не сейчас.
Сначала Давид Сандстрём должен втащить гроб на конвейер, и ему придется очень нелегко.
«Какой тяжелый, черт». С тележки на конвейер он вынужден толкать гроб сам, и обычно это нетрудно. Но на этот раз — дьявольски тяжело.
Бенгт Андерссон.
Давид знает, как тот умер, и оставляет мертвеца в гробу под крышкой, не хочет даже взглянуть. Предпочитает смотреть на более молодых, тех, что дарят ему ощущение покоя.
Вот так.
Гроб на ленте.
Он нажимает кнопку на панели управления — и окошко в печи открывается. Он нажимает другую кнопку — и пламя жадно лижет древесину, а потом намертво вцепляется в нее.
Еще, еще немножко.
Огонь подтачивает дерево и за какие-нибудь десять секунд полностью окружает гроб, а крышка на окошке медленно возвращается в исходное положение.
Давид Сандстрём вытаскивает блокнот из внутреннего кармана джинсов, достает свою специальную ручку и аккуратно записывает на одной из последних страниц: «Бенгт Андерссон, 61 10 15–1923. № 12.349».
Я чувствую огонь.
И сейчас это мое единственное ощущение. Я исчезаю. Я испаряюсь, превращаясь в дым, поднимающийся из трубы крематория, в частички пепла, летающие над Линчёпингом, в воздух, который жадно вдыхает Малин Форс, направляющаяся к парковке возле здания полицейского участка.
Останется пепел, который закопают в старой кладбищенской роще у часовни.
Весь наш пепел — это ориентир для памяти. И мой пепел там будет находиться, чтобы людям, вопреки всем ожиданиям пожелавшим вспомнить меня, было куда прийти.
Мы возвращаемся к собственной памяти, навещаем нашу жизнь.
И бываем безутешны.
Впрочем, все это привычки живых.
Часть 3 Привычки живых
51
Цветы, которые должны быть политы; почта, которая должна быть рассортирована; краны, из которых надо выпускать воду. Пыль, которая должна быть вытерта; морозилка, которую надо размораживать; покрывало, которое надо расправлять; события, о которых надо забыть; предчувствия, которым не надо верить; лживые обещания, которые надо простить; и любовь, о которой будешь помнить вечно.
Возможно ли все это?
Тринадцать сорок пять. Спустя несколько часов после похорон Бенгта Андерссона.
Малин бродит по квартире своих родителей. Вспоминает, когда последний раз была здесь. Туве, совсем как она сама когда-то, на постели родителей; такая же ни о чем не подозревающая целеустремленность, такое же наивное доверие к своему телу.
И все-таки.
Малин смеется про себя. Она дает Туве и Маркусу возможность проявить изобретательность в поисках места для любовного свидания в такой холод. Сейчас они на вечернем киносеансе. Какая-то драма-экшн, созданная на основе давно забытого комикса. Приключения эпохи пятидесятых, подновленные в соответствии со вкусами сегодняшнего дня: больше насилия, больше ужасов, секса, а конец более определенный и счастливый. Двусмысленность — враг надежности, а надежность — необходимое условие кассовых сборов.
«Наше время, — думает Малин, — имеет те сюжеты, которые заслуживает».
Запах в родительской квартире.
Здесь пахнет тайнами.
Так же, как в охотничьей избушке, хотя в лесу было холоднее и запах тайны определеннее. Не так непроницаемо, не так личностно, как здесь. «Нужно повернуться вокруг своей оси, — думает Малин, — если слишком долго задерживаешься на прошлом. Но можно погибнуть, если так и не осмелишься прикоснуться к нему».
Психотерапевты знают об этом все.
Малин опускается на диван в гостиной.
Она чувствует себя измотанной и усталой. Папа хранит спиртные напитки на кухне, в шкафчике на холодильнике.
Вывернуть душу.
Изящная мебель, которая вовсе не так изящна.
«Ты хорошо поливаешь цветы?»
Я уже полила их.
Цветы. Запах капустного пудинга.
Запах лжи. Что, и здесь? Совсем как в доме Ракели Мюрвалль в Блосведрете.
Хотя здесь не так определенно, слабее. «Туда нужно вернуться, — думает Малин. — Вернуться и вытащить на свет все их тайны из-за стен и из-под половиц».
В прихожей звонит мобильник.
Он лежит в кармане куртки, и Малин вскакивает с дивана, бежит, спотыкается.
Международный звонок.
— Да, слушаю.
— Малин, это папа.
— Привет, я в квартире и только что полила цветы.
— Я нисколько в этом не сомневаюсь. Но звоню не поэтому.
Он чего-то хочет, но не решается высказаться — такое же чувство, как и во время прошлого разговора. Потом папа делает глубокий вдох и продолжает, с шумом выдохнув:
— Знаешь, мы здесь поговорили и решили, что Туве может приехать к нам, ведь скоро у нее февральские каникулы? Неплохо было бы, а?
Малин отводит трубку от уха, держит телефон перед собой и качает головой.
Потом приходит в себя. Прикладывает трубку к уху.
— Через две недели.
— Через две недели?
— Да, каникулы начинаются через две недели. Но есть одна проблема.
— Какая?
— У нас нет денег на билет на самолет. У меня ни кроны лишней, а Янне накануне Рождества поставил новый котел на жидком топливе.
— Да, и об этом мы с мамой тоже говорили. Мы можем оплатить ей билет. Были сегодня в турагентстве, есть дешевый рейс через Лондон. Может, и ты возьмешь отпуск?
— Это невозможно, — отвечает Малин. — Слишком мало времени. К тому же именно сейчас у нас проблемы.
— Так что ты об этом думаешь?
— Звучит заманчиво. Но тебе стоит сначала поговорить с Туве.
— Она сможет здесь плавать и ездить верхом.
— Она сама знает, чего ей хочется, а чего не хочется. Будь в этом уверен.
— Ты поговоришь с ней?
— Позвони сам. Она сейчас в кино, но будет дома около десяти.
— Малин, ты не могла бы поговорить…
— Хорошо, хорошо. Я поговорю с ней, а потом перезвоню. До завтра.
— Не откладывай. Билеты могут закончиться.
52
Голоса.
Пусть летают.
Слушай их все, когда ведешь расследование.
Ничего не упускай. Они приведут тебя к цели.
В прихожей Никласа Нюрена стоят прозрачные банки с печеньем, круглые бежевые пирожные «Малина мечты» в пластиковых упаковках, шоколадные пирамидки и шарики, а зеленый ковер усыпан сладкими крошками. У входа темно-синий «вольво-универсал», припаркованный почти впритык к почтовому ящику.
«Будь осторожна, — говорит себе Малин, нажимая на кнопку звонка. — Если это сделали мальчики, он мог помочь им перетащить тело».
Никлас Нюрен ведет ее в квартиру, в прибранную гостиную, в центре которой стоит красный диван перед вмонтированным в стену плоским экраном телевизора.
Все указывает на то, что Никлас Нюрен — самый заурядный мужчина средних лет, не более.
На нем джинсы и зеленый джемпер, лицо круглое, а живот выступает над поясом, выдавая сидячий образ жизни. Слишком много ездит в автомобиле и слишком часто пробует рекламируемую продукцию.
— Я собирался звонить вам, — говорит Никлас Нюрен.
Голос у него неожиданно низкий для такого полного человека и немного хриплый.
Малин не отвечает. Опускается на стул модели «мюран»[46] возле небольшого обеденного столика у окна, выходящего на фабрику «Клоетта».
— У вас есть ко мне вопросы? — начинает Никлас Нюрен и занимает место на диване.
— Как вы, наверное, уже знаете, имя Иоакима Свенссона всплыло в расследовании убийства Бенгта Андерссона…
Никлас Нюрен кивает.
— Мне трудно представить себе, чтобы мальчик оказался замешан в такое. Ему нужно учиться хорошим манерам, только и всего. И иметь перед глазами достойный мужской пример.
— Вы с ним ладите?
— Пытаюсь поладить. У меня у самого было жуткое детство, и я хочу помочь мальчику. У него есть ключи от моей квартиры.
— Что значит — жуткое?
— Мне не хотелось бы вдаваться в это. Но отец крепко пил, вот что я могу сказать. Да и мама не была особенно ласкова.
Малин кивает.
— А что вы делали в ночь со среды на четверг на прошлой неделе?
— Маргарета была здесь, и я уверен, что Йоке вместе с Йимми смотрел тот самый фильм, про который он говорил.
— Йимми? Вы знаете Йимми Кальмвика?
Никлас Нюрен поднимается, подходит к окну и смотрит на фабрику.
— Они не разлей вода, эти двое. Если хочешь выстроить хорошие отношения с одним, то приходится действовать во всех направлениях. Я постоянно пытаюсь придумывать для них что-нибудь такое, что могло бы им понравиться.
— А что им нравится?
— Что нравится мальчикам? Я возил их на выступления скейтбордистов в Норрчёпинг. Мы были в Манторп-парке. Я позволил им вести свою машину. Черт! Как-то раз летом я даже возил их на стрельбище!
«Малин, тебе можно, наверное, расслабиться. Весь вид Никласа Нюрена прямо-таки излучает невинность. Или он только притворяется, будто ни о чем не подозревает?»
— Вы охотитесь?
— Нет, но одно время занимался спортивной стрельбой. У меня было «салонное» ружье, так это называется?
— Вас не затруднит его показать?
Никлас Нюрен роется в шкафу своей спальни, стены которой окрашены в белый цвет.
— Ведь для «салонного» ружья не нужен оружейный сейф?
— Пожалуй, нет, — соглашается Малин.
— Вот оно.
Никлас Нюрен протягивает Малин тонкое, почти изящное черное ружье. А ей внезапно приходит в голову: «Не прикасаться, ничего не трогать раньше, чем оно попадет в ГКЛ».
— Положите на кровать, — говорит она, и озадаченный Никлас Нюрен кладет оружие.
— У вас есть мешки для мусора? — спрашивает Малин.
— Да, на кухне. Там же и боеприпасы.
— Отлично, — говорит Малин. — Захватите и то и другое. Я подожду здесь.
Малин сидит на постели рядом с ружьем. Вдыхает спертый воздух, смотрит на постеры на стенах: изображения разных рыб от «ИКЕА» в дешевых рамах.
Малин закрывает глаза и вздыхает.
У Иоакима Свенссона есть ключи от квартиры.
Он мог взять ружье, когда Никлас Нюрен был в одной из своих командировок, пойти к дому Бенгта Андерссона и выстрелить, чтобы напугать. Черт бы его подрал!
«Вот свинята!» — думает Малин, но сдерживает эмоции. Тестостерон и стечение обстоятельств могут сыграть роковую роль в жизни подростков, а тот, кто чувствует себя брошенным, тот, кого топчут ногами, когда-нибудь будет топтать сам.
Малин открывает глаза и видит Никласа Нюрена, возвращающегося с кухни.
В одной руке у него пара мешков, в другой ящик с боеприпасами.
— Обычно я использую резиновые пули, — говорит он. — Черт! Я был совершенно уверен, что не открывал этого ящика. Но его явно кто-то открывал. И здесь не хватает трех пуль.
Гримаса разочарования делает лицо Никласа Нюрена похожим на маску.
Теперь стоит нажать на «крутых парней» из Юнгсбру и добиться признания, что это они стреляли в окно квартиры Бенгта Андерссона? Или подождать еще немножко и заставить их сказать больше?
Если им есть что еще сказать.
«Как бы мне ни хотелось форсировать это направление, еще не время», — думает Малин.
Она нажимает на газ, двигаясь вдоль покрытой снегом равнины в сторону Маспелёсы. Она уже решила подождать, посмотреть, что за отпечатки найдет Карин на ружье, которое лежит в багажнике, завернутое в покрывало. Но одна мысль все-таки не дает ей покоя: «Не завернуть ли мне к Йимми Кальмвику домой, не прижать ли его сейчас? Это я могу сделать сама, это детская игра, достойная Мюрваллей. Нет, лучше дать Карин возможность сделать свое дело, установить, что резиновые пули из квартиры Бенгта Андерссона были действительно выпущены из ружья Никласа Нюрена, и поставить мальчишек перед фактом. Пусть несколько полицейских в форме возьмут у них отпечатки пальцев, тогда Карин сможет сравнить их с теми, что будут на ружье».
Адрес Рикарда Скуглёфа забит в мобильном телефоне. Дом отыскать не так-то просто, и Малин приходится покружить по полю, прежде чем она находит маленькую ферму.
Мерзлые серые стены из камня, снег на крытых соломой крышах, в окне самого большого дома горит свет.
«Чокнутые язычники, — вспоминает Малин, прежде чем постучать. — С ними я тоже справлюсь сама».
Проходит несколько секунд, и дверь открывает мужчина, должно быть сам Рикард Скуглёф. На нем кафтан, сливающийся с его волосами и длинной бородой в одно целое. Сзади одетая в белое женщина, вероятно Валькирия Карлссон.
— Малин Форс, полиция Линчёпинга.
— А тот, другой, должно быть, отстранен за стрельбу, — улыбается Рикард Скуглёф, впуская ее в дом.
Влажное тепло ударяет в лицо Малин, и она слышит, как потрескивает огонь в открытом очаге где-то внутри дома.
— Проходите туда. — Рикард Скуглёф указывает налево, где в глубине комнаты на блестящей поверхности письменного стола мерцает огромный монитор.
Валькирия Карлссон сидит на диване, поджав под себя ноги. На ней белая ночная сорочка.
— Это ты, — говорит она, увидев Малин, — помешала мне.
Рикард Скуглёф направляется к ним с тремя дымящимися чашками на подносе.
— Травяной чай, — предлагает он. — Хорошо для нервов, если с ними проблемы.
Малин молча берет чашку и опускается на черный офисный стул возле компьютера. Рикард Скуглёф, протянув чашку Валькирии, остается стоять.
— Приятно, наверное, — говорит она, — толкать молодых людей на идиотские поступки.
— Что вы имеете в виду? — смеется Рикард Скуглёф.
Малин удается подавить в себе желание плеснуть горячим чаем в его ухмыляющуюся физиономию.
— Не стройте из себя дурака. Это вы посылали письма на электронный адрес Андреаса Нурлинга, и кто знает, чем вы еще занимались.
— Конечно, я читал об этом на новостном сайте. Но мне в голову не приходило, что они способны сделать такое.
— У вас есть связь с Йимми Кальмвиком? Некий Иоаким…
— Я не знаю такого. Я полагаю, речь идет об одном из подростков, преследовавших Бенгта Андерссона, о которых писали в новостях. Я хочу сказать раз и навсегда, что я… Что мы оба не имеем к этому никакого отношения.
— Никакого, — повторяет Валькирия и вытягивает ноги вдоль дивана.
Малин замечает, что ногти на ногах у нее окрашены в необычный оранжевый цвет.
— Я намерена прямо сейчас конфисковать ваш жесткий диск, — говорит Малин. — В случае протеста я немедленно организую ордер на обыск.
Усмешка пропадает с лица Рикарда Скуглёфа, теперь он смотрит испуганно.
Валькирия прямо-таки впивается в Малин глазами.
— Ух, ух… Тебе никогда не удастся нас взять, полицейская сука.
На часах шесть — и в квартиру входит Туве. Хлопает дверью, от радостного ли возбуждения или от злости — невозможно понять.
«Неплохое воскресенье», — думает Малин, ожидая ее появления в гостиной.
Ружье передано в ГКЛ. Завтра утром Карин с коллегами первым делом его проверят.
Жесткий диск Рикарда Скуглёфа хранится в участке. Юхан Якобссон и компьютерные техники займутся им и выяснят, склонял ли чертов проповедник Асатру кого-нибудь совершить такую страшную глупость, как убийство Бенгта Андерссона.
В этом случае в его компьютере должны сохраниться копии электронных писем и тому подобное.
Кто знает, сколько еще сюрпризов преподнесет этот край нынешней зимой?
Туве стоит перед Малин в гостиной, она улыбается, ее лицо и глаза не выражают ни восторга, ни беспокойства.
— Хороший был фильм? — спрашивает Малин с дивана.
— Ничего особенного, — отвечает Туве.
— Но ты выглядишь счастливой.
— Ничего, если Маркус поужинает с нами завтра?
Туве усаживается на диван и берет чипсы из вазы на столе.
— Милости просим.
— Что ты смотришь?
— Какой-то документальный фильм об Израиле, Палестине и двойных агентах.
— А другого ничего нет?
— Поищи, если хочешь.
Малин протягивает пульт, и Туве переключает каналы, останавливаясь на местном телевидении. Клуб «Линчёпинг ХК» разбил команду «Модо», и Мартин Мартинссон забил три гола. Ходят слухи, что на матче присутствовали скауты из НХЛ.
— Вчера я была в квартире бабушки и дедушки.
Туве кивает.
— Звонил дедушка. Он спрашивает, не хочешь ли ты навестить их на февральских каникулах?
Малин ждет реакции. Однако вместо счастливой улыбки на лице Туве появляется беспокойство.
— Но ведь у нас, наверное, нет денег на билет.
— Они оплатят.
Беспокойство Туве растет.
— Не знаю, хочу ли я этого, мама. Их очень огорчит, если я откажусь?
— Все будет, как ты хочешь, Туве. Только так, как ты хочешь.
— Но я не знаю.
— Успокойся, старушка. У тебя есть время подумать до завтра, в крайнем случае до вторника.
— Там ведь тепло, правда?
— Плюс двадцать как минимум, — отвечает Малин. — Как летом.
На дереве висят яблоки, и мальчик — два, три, четыре мальчика бегают в зеленом саду. Они падают, и трава окрашивает их колени в зеленый цвет. Потом остается только один мальчик, и он падает, но поднимается и снова бежит. Он выбегает на поляну посреди леса и на некоторое время останавливается в нерешительности, прежде чем вступить в темноту.
Он бегает между стволами деревьев, и острые ветви на земле режут в кровь его ноги, но он, кажется, не чувствует боли и не останавливается, чтобы сразиться с чудовищами, роющимися в сплетении корней.
А потом мальчик стоит у постели Малин. Он ритмично давит ей на грудь, помогая дышать желтым утренним воздухом.
И шепчет ей в ухо сквозь сон:
Как мое имя? Откуда я?
53
Тринадцатое февраля, понедельник
Угрюмая утренняя дымка висит над городом и полями.
В расследовании наступил период затишья.
Нужно обследовать оружие.
Информация на жестком диске будет проверена завтра утром.
В пустынном заснеженном поле ни ветерка. В мире царит бездействие, усталые полицейские частью спят, частью бодрствуют. Бёрье Сверд в одиночестве лежит в постели, под застиранной простыней в голубой цветочек. По обе стороны кровати сидят овчарки, взятые из псарни в квартиру. Внизу, в зале, двое из социальной службы переворачивают его жену, и он старается не замечать доносящихся оттуда звуков.
Юхан Якобссон в своем таунхаусе в Лингхеме сидит на диване и клюет носом. На руках у него трехлетняя дочь в наушниках, на экране «Лоранга и Мазарин».[47] Когда же ты наконец поймешь, как это прекрасно — спать? День прошел в разговорах с подростками, которые участвовали в убийстве животных, там, в поле. У них алиби на ту ночь, когда погиб Бенгт Андерссон, они были просто сбиты с толку, как это случается с молодыми людьми. Еще один день работы, еще один день, когда он бросил семью на произвол судьбы.
Закариас Мартинссон спит, прижавшись к своей мерзнущей жене. Окно в спальне приоткрыто, сквозняк обещает простуду. Свен Шёман храпит на своей вилле, звучно и громко, лежа на спине. Его жена на кухне с интересом читает «Свенска дагбладет» и пьет кофе. Иногда она встает раньше Свена, хотя это случается нечасто.
Даже Карим спит в своей постели, он лежит с краю, кашляет и на ощупь ищет рядом свою жену. Но ее нет в кровати, она сидит на унитазе, закрыв лицо ладонями. Она спрашивает себя, как ей со всем этим справиться и что произойдет, если Карим узнает.
Инспектор Карин Юханнисон уже проснулась. Она сидит на своем муже, волосы ее так и летают из стороны в сторону. Она наслаждается его телом, смакует его, оно сейчас больше принадлежит ей, чем ему самому. Что еще, собственно говоря, ей от него нужно?
И Малин Форс тоже не спит.
Она сидит за рулем автомобиля.
Она одержима.
Третья линия в расследовании убийства Бенгта Андерссона должна быть пройдена, освежевана и вывернута наизнанку.
Малин мерзнет. Машина так и не прогрелась как следует.
В окне она видит вытянутую башню монастыря Вреты. Где-то там, вдали, Блосведрет, где Ракель Мюрвалль на своей кухне в одиночестве пьет кофе и смотрит на улицу. Она улыбается и мечтает о том, чтобы мальчики поскорей вернулись домой. Мастерские не должны пустовать.
Малин припарковывается возле дома Ракели Мюрвалль. Белая деревянная вилла выглядит на этот раз более потрепанной, как будто начинает уставать и от мороза, и от людей внутри. Проход к дому так тщательно расчищен, что, кажется, не хватает только развернуть здесь красную ковровую дорожку.
«Она, конечно, наверху, — думает Малин. — Нужно застать ее врасплох. Прийти, когда она этого меньше всего ожидает».
Выходя из автомобиля, Малин хлопает дверью, совсем как Туве сегодня дома. Но она знает почему: ей надо казаться решительной и агрессивной, напустить на себя то выражение превосходства, которое сделает хозяйку более сговорчивой и заставит ее выложить все свои истории. Малин уверена: этой женщине есть что рассказать.
Она стучит и воображает, будто Зак стоит рядом.
Изнутри раздаются легкие и в то же время внушительные шаги — и мать семейства открывает дверь. У нее впалые землистые щеки и глаза, возможно, самые острые из тех, которые Малин когда-либо приходилось видеть на человеческом лице. Их взгляд словно забирает силу у Малин, делая ее слабой, безвольной и пугливой.
«Ей уже за семьдесят, что она может мне сделать?» — думает Малин и понимает: старуха может что угодно.
— Инспектор Форс, — приветливо говорит Ракель Мюрвалль, — чем я могу вам помочь?
— Будьте добры, впустите меня, на улице так холодно. Хочу задать несколько вопросов.
— И вы полагаете, я знаю ответы на них?
Малин кивает:
— Я полагаю, у вас есть ответ на любой вопрос.
Ракель Мюрвалль делает шаг в сторону, и Малин проходит в дом.
Кофе горячий и в меру крепкий.
— Ваши мальчики вовсе не такие уж невинные голубки, — говорит Малин, опускаясь на деревянный стул.
Она видит, как заносчивость в глазах Ракели Мюрвалль сменяется злобой.
— Что вы знаете о моих мальчиках?
— Собственно, я пришла, чтобы поговорить о вашем четвертом мальчике.
Малин отодвигает чашку с кофе и смотрит на Ракель Мюрвалль, словно пытаясь взглядом приковать ее к месту.
— О Карле.
— О ком, вы сказали?
— О Карле.
— Он нечасто дает о себе знать.
— Кто был его отец? Ведь у него другой отец, не тот, что у остальных мальчиков, насколько я знаю.
— Я слышала, вы говорили с ним.
— Я беседовала с ним, и он сказал, что его отец был моряком и пропал без вести во время кораблекрушения, когда вы были беременны.
— Все верно, — отвечает Ракель Мюрвалль. — Восемнадцатого августа тысяча девятьсот шестьдесят первого года у побережья Островов Зеленого Мыса теплоход «Дориан» пошел ко дну вместе со всем, что на нем было.
— Мне кажется, вы лжете, — говорит Малин, но Ракель Мюрвалль только улыбается.
— Того моряка звали Педер Пальмквист.
Малин встает.
— Это все, что я хотела узнать на сегодня, — говорит она и снова видит в глазах старухи твердое намерение взять инициативу на себя.
— Если вы еще раз здесь покажетесь, я напишу заявление о том, что вы преследуете меня.
— Я всего лишь пытаюсь делать свою работу, фру Мюрвалль. И только.
— Судно потонуло, — повторяет Ракель Мюрвалль. — И все они пошли ко дну, как камни.
Малин проезжает мимо бензоколонки Мюрваллей. Вывеска не горит, окна магазина зияют чернотой, а обветшавшая мастерская во дворе будто просит, чтобы ее снесли.
Она проезжает районы Бруннбю и Хэрна, хочет взглянуть на дом, где жил Мяченосец. С дороги видна только крыша, но она знает, как выглядит это здание.
«Конечно, домовладелец уже навел там порядок. Твои вещи, те немногие, которые можно было продать, уже поступили на аукцион; средства от него пойдут в благотворительный фонд. Ребекка Стенлунд, твоя сестра по крови, но не по закону, не унаследует и малой толики того, что принадлежало тебе.
Кто поселится в твоей квартире, Мяченосец? Или она останется пустовать и ждать твоего возвращения? А может, ты сейчас дома? Пыль скапливается на подоконниках, и краны ржавеют все больше и больше».
Проезжая под акведуком, мимо школы, она достает телефон, думая о том, что вполне может проигнорировать утреннее совещание.
— Юхан? Это Малин.
— Малин?
Голос у Юхана Якобссона сонный, он, вероятно, только что пришел на летучку.
— Можешь ли ты выяснить для меня одну вещь, прежде чем возьмешься за жесткий диск Рикарда Скуглёфа?
Малин просит Юхана разузнать насчет кораблекрушения и моряка по имени Педер Пальмквист.
— Слишком старо, чтобы попасть в списки управления торгового флота.
— А если поискать в Интернете? Нет ли каких-нибудь заинтересованных типов?
— Уверен, что есть. У героев торгового флота свои поклонники, и они тщательно следят за тем, чтобы никто не был забыт. В Морском обществе тоже могут иметь какую-нибудь информацию.
— Спасибо, Юхан. Я буду очень благодарна тебе за помощь.
— Подожди благодарить, сначала я должен найти что-нибудь. Ну а потом придет время жесткого диска.
Малин кладет трубку, поворачивая в сторону дома престарелых «Вреталиден».
Не приближаясь к регистрационной стойке, она быстро проходит через вестибюль. В воздухе висит знакомый запах непарфюмированных моющих средств, искусственный химический запах, по вине которого это место производит такое удручающее впечатление. «У себя дома, — думает она, — они используют другие средства, с запахом лимона или цветов. А ведь здесь тоже живут люди, и они действительно заслужили что-то получше».
Она поднимается на лифте в третье отделение и идет по коридору к комнате Готфрида Карлссона.
Стучится.
— Да, войдите, — доносится изнутри слабый и в то же время уверенный голос.
Малин открывает дверь и осторожно заходит. Она видит на постели худое тело, накрытое желтым одеялом. И прежде чем успевает открыть рот, старик произносит:
— Фрекен Форс. Я ждал, что ты вернешься.
«Каждый ждет, что правда скажется сама, — думает Малин. — И при этом никто не приходит с готовой истиной и даже добровольно не удосужится помочь ей. Но такова уж, видно, природа правды: она скорее череда ускользающих, неуловимых явлений, чем уверенное утверждение, и в основе ее всегда лежит некое „может быть“».
Малин подходит к кровати Готфрида Карлссона и похлопывает его по боку.
— Сядь сюда, фрекен Форс, рядом со стариком.
— Спасибо, — отвечает Малин и садится.
— Мне читали о вашем расследовании, — говорит Готфрид Карлссон и обращает к Малин свои почти слепые глаза. — Какие ужасы! И эти братья Мюрвалль, как видно, еще те фрукты. Должно быть, я пропустил их, прежде чем попасть сюда. Разумеется, я знаю их мать и отца.
— И что вы скажете об их матери?
— Она не особенно выставляет себя напоказ. Но я помню ее глаза. Когда я видел их, то понимал: это идет Ракель Карлссон, женщина, с которой шутки плохи.
— Карлссон?
— У нее та же фамилия, что и у меня. Карлссоны, пожалуй, самая распространенная фамилия на равнине. Да, так звали ее до того, как она вышла за Черного Мюрвалля.
— А что за человек был Черный?
— Пьяница и хвастун, но в глубине души трус. Не то что Калле-с-Поворота. Совсем другого сорта.
— А сын, у нее же был сын до брака с Черным?
— Был, насколько я помню, хотя его имя вылетело у меня из головы. Я думаю, его звали… Ну что ж, кое-какие имена исчезли из моей памяти. Время стерло их, словно ластиком. Но одно я помню точно: отец мальчика погиб во время кораблекрушения, когда она была еще беременна.
— И каково ей приходилось с ребенком? Должно быть, тяжело…
— Никто никогда его не видел.
— Не видели?
— Все знали, что он есть, но никто его не видел. Она ни разу не показывалась с ним в поселке.
— А потом?
— Ему было года два, когда она вышла за Черного Мюрвалля. Но видишь ли, фрекен Форс, ходили разные слухи…
— Какие слухи?
— Об этом надо говорить не со мной, а с Вейне Андерссоном.
Готфрид Карлссон берет ее руку в свою, жилистую.
— Он живет в больнице в Шернорпе. Он был на «Дориане», когда тот затонул, и точно расскажет, что и как.
Дверь в комнату открывается, и Малин оборачивается.
На пороге стоит сестра Херманссон.
Короткие завитые волосы, кажется, поднялись дыбом. И сегодня, сменив очки с толстыми стеклами на контактные линзы, она выглядит моложе по крайней мере на десять лет.
— Инспектор Форс, — говорит она. — Как вы посмели?
54
— Никто, даже полиция, не приходит без предупреждения к моим жильцам.
— Но…
— Никто, инспектор Форс, никто. И вы не исключение.
Сестра Херманссон увлекает Малин за собой в маленькую комнату медсестер в коридоре и там продолжает:
— Они кажутся сильнее, чем есть на самом деле. Большинство из них слабы, и в это время года, в такой сильный мороз, мы теряем их одного за другим, и все это причиняет беспокойство моим…
Сначала Малин разозлилась. Жильцы? Разве это не означает, что здесь их дом и они могут делать, чего им хочется? Но потом поняла, что Херманссон права. Кто позаботится о стариках, кто защитит их, если не она?
Малин извиняется, прежде чем выйти.
— Извинения принимаются, — отвечает Херманссон, которая теперь выглядит довольной.
— И смените моющие средства, — добавляет Малин.
Херманссон смотрит на нее задумчиво.
— Да, мы используем непарфюмированные. Есть парфюмированные средства, не вызывающие аллергии и с куда более приятным запахом. Да и стоят они не намного дороже.
Херманссон погружается в раздумья.
— Хорошая идея, — говорит она и принимается рыться в бумагах, как бы показывая этим, что разговор окончен.
А Малин проходит через ворота и направляется на парковку, к своей машине.
И тут звонит телефон.
Она спешит обратно в вестибюль и, снова погрузившись в тепло, источающее неестественный химический запах, достает трубку.
— Все правильно. Соответствует спискам на сайте Морского общества. — Голос у Юхана Якобссона довольный.
— То есть теплоход «Дориан» потерпел крушение и на его борту находился некий Пальмквист, который потонул?
— Именно. Его не было среди тех, кто спасся на шлюпках.
— То есть часть людей спаслась?
— Да, похоже, так.
— Спасибо, Юхан. Ты меня очень выручил.
Руины.
И озеро, как кажется навсегда скрытое подо льдом.
На несколько секунд Малин отрывает взгляд от трассы и смотрит на Роксен. Машины на расчищенной дороге поверх метровой толщи льда скользят в относительной безопасности, а на другом берегу, вдали, струится дымок из труб миниатюрных, словно на почтовых марках, домов.
Замок Шернорп.
Он горел в восемнадцатом веке, был восстановлен и по сей день является резиденцией семьи Дуглас. И по сей день здесь пахнет большими деньгами.
Нет замка мрачнее. Серое оштукатуренное строение из камня с как будто ссохшимися окнами и почти пустой площадкой на заднем плане с флангов прикрыто непритязательными зданиями складских помещений. Дремлющие неподалеку руины старого замка — словно вечное напоминание о том, что может быть хуже.
Дом престарелых расположен на границе замковых угодий, сразу за поворотом, где дорога наконец выходит из леса, на простор с видом на озеро.
Малин думает о том, что в этом трехэтажном белом здании живет, по всей вероятности, не более трех десятков стариков, и о том, как здесь, должно быть, тихо — только редкие автомобили, проезжающие по шоссе.
Она припарковывается у входа.
С какой Херманссон придется столкнуться на этот раз?
Потом она вспоминает о сегодняшнем вечере и о том, что Туве пригласила Маркуса на ужин. Она надеется освободиться к тому времени, но, глядя в сторону здания, ловит себя на мысли: «Вейне Андерссон. Сегодняшний ужин под угрозой».
Вейне Андерссон сидит в инвалидном кресле у окна с видом на Роксен.
Пожилая медсестра у регистрационной стойки была, кажется, рада приходу Малин и как будто не обратила никакого внимания или совершенно не была обеспокоена тем, что гостья из полиции и пришла по делу.
— Вейне будет рад, — сказала она. — Его так редко навещают. И он любит общаться с молодежью, — добавила она, сделав паузу.
«С молодежью? — подумала Малин. — Считаю ли я по-прежнему себя принадлежащей к этому племени? Туве — вот молодежь. Но не я».
— Он парализован на правую сторону. Последствие инсульта. Это не повлияло на способность говорить, но его очень легко расстроить.
Малин кивает и входит в комнату.
У сидящего перед ней лысого мужчины морские татуировки на обеих руках. Парализованную руку, на которую наложена шина, украшают грубые чернильные линии, изображающие якорь. Его лицо изрезано морщинами, кожа в родимых пятнах, один глаз слепой, но другой, как кажется, видит за двоих.
— Да, — рассказывает он, уставившись здоровым глазом на Малин. — Я был на борту того судна и жил в одной каюте с Пальмквистом. Не то чтобы мы дружили, но были земляки, и хотя бы поэтому нас тянуло друг к другу.
— Он утонул?
— У Островов Зеленого Мыса мы попали в шторм — не страшней, чем другие, но судно накрыла гигантская волна. Оно накренилось и пошло ко дну в какие-нибудь полчаса. Я выплыл и добрался до спасательной шлюпки. Мы четыре дня боролись со штормом, прежде чем нас подобрал теплоход «Франциска». Спасались дождевой водой.
— Вы мерзли?
— Холодно не было. Темно — да. Даже вода оставалась теплой.
— А Пальмквист?
— Я больше его не видел. Думаю, он оказался заперт в камбузе после первого волнового удара. Уже тогда там было полно воды. Я нес вахту на мостике.
Малин представляет себе эту картину.
Молодого человека, разбуженного ударом волны. Как все вокруг него вдруг потемнело, как прибывала вода, приближаясь во тьме, словно щупальца тысяч каракатиц. Как дверь блокировало снаружи, как сжало рот, нос, голову. Как в конце концов он сдался. Вдохнул воды и позволил окутать себя ее мягкому дурману, навевающему сон и блаженство, как постепенно погружался во что-то еще более мягкое и теплое, чем вода.
— Знал ли Пальмквист, что станет отцом?
Вейне Андерссон не может сдержать презрительную усмешку.
— Я слышал эту историю по возвращении домой. Все, что я могу вам сказать, — Пальмквист не был отцом мальчика Ракели Карлссон. Женщины совершенно не интересовали его в этом смысле.
— Он не хотел иметь ребенка?
— Моряк, инспектор Форс. Знаете, какие раньше были моряки!
Малин кивает и снова спрашивает после небольшого промедления:
— А если не Пальмквист, тогда кто мог быть отцом мальчика?
— Я сошел на берег после этого. На третью ночь шторма, как раз когда мы ждали, что все вот-вот закончится, буря разыгралась с новой силой. Я пытался удержать Хуана, но он выскользнул у меня из рук. Была беспросветная ночь, и дуло, как зимой. Море под нами разевало свою пасть и выло, словно от голода, желая добраться до нас, норовя поглотить…
Голос Вейне Андерссона обрывается. Он подносит здоровую руку к лицу, закрывает его ладонью и плачет.
— …и хотя я держал его крепко, как мог, он выскользнул у меня из рук, и я видел, каким ужасом наполнились его глаза, как он исчез в черноте… я ничего не мог сделать…
Малин молчит.
Она ждет, пока Вейне Андерссон придет в себя, и как раз тогда, когда ей кажется, что он готов к следующему вопросу, старик снова ударяется в слезы.
— …я жил… — всхлипывает он, — один после этого… для меня… по-другому не могло быть… думаю я…
Малин ждет.
Она видит, как скорбь постепенно отпускает его. Не дожидаясь вопроса, старик продолжает:
— Пальмквисту не нравились эти слухи насчет Ракели Карлссон. Они ходили уже до нашего отплытия. Но я уверен, многие знали, кто отец ребенка, которого она ждала.
— Кто? Скажите, кто?
— Слышали ли вы что-нибудь о человеке по прозвищу Калле-с-Поворота? Это он был отцом мальчика, и говорили, что именно он так ударил Черного, что тот оказался в инвалидном кресле.
Малин чувствует, как где-то внутри растекается поток тепла. И от этого тепла ее начинает знобить.
55
Народный парк поселка Юнгсбру. Начало лета 1958 года
Надо видеть, как он двигается.
У него темные глаза, и мускулы его напряжены.
Как все расступаются перед ним, как, словно повинуясь инстинкту, отходят в сторону, когда он приближается с одной, другой, третьей или четвертой.
Он неотразим, Калле.
Сладкие летние ароматы мешаются с запахом пота, который распространяют тела танцующих. Прочь, недельная усталость. Тело жаждало этого, и кровь быстрее движется в жилах, заставляя его ныть от желания.
Он увидел меня.
Но он ждет.
Он танцует один, готовится. Подтянись, Ракель, подтянись. Оркестр на сцене, пахнет колбасой, водкой и страстью. Раз, два, три… Все они толстые от шоколада, который засовывают в рот прямо с конвейера, но только не ты, Ракель, не ты. У тебя все на месте, так что подтянись, бюст вперед, только для него, когда он пройдет мимо в танце с той или с другой.
Он — животное.
Он — дикая страсть.
Он — насилие. Необузданный, первобытный тип. Такие не отступают, сопротивляются до конца, у них нет ни голоса, ни места в шоколадной стране.
И сегодня Калле будет танцевать с тобой, Ракель. Только подумать — ты и он… Сегодня Ракель танцует последний танец с Калле, сегодня она дышит запахом его пота.
Итак, перерыв. Людской поток устремляется в вечерний парк. Цветные фонари и очереди за колбасками. Опустошаемые «чертвертинки» и мотоциклы у входа. Суровые взгляды, девчонки — и Калле. Он проходит мимо них, слизывая горчицу с колбаски и глотая, а шоколадная толстушка рядом с ним подпрыгивает. И вот он смотрит на меня, отделяется от нее и идет ко мне, но нет, еще нет. Я поворачиваюсь, направляюсь в сторону туалетов, проталкиваюсь в женский и все время чувствую его шаги, его быструю походку и дыхание зверя за спиной.
Еще нет, Калле.
Моя красота не для всех.
На щите загорается надпись «Белый танец».
И женщины толпятся вокруг него, вокруг мужчины. Единственного здесь, кто заслуживает этого титула.
Но он отказывает им.
Смотрит на меня.
Должна ли я? Никогда. Моя красота не для всех. И вот он танцует снова, теперь в его объятиях другое тело, но это меня он ведет сейчас по паркету.
Кавалеры.
Я отказываю одному, другому и третьему.
И вот подходит Калле.
Я прижимаюсь к деревянной панели.
Он берет мою руку. Он ни о чем не спрашивает, просто берет ее, но я отрицательно качаю головой.
Он тянет меня за собой.
Нет же.
— Танцуй, Калле, — говорю я, — занимайся этим с обычными шоколадными девками.
И он отпускает мою руку, хватает какую-то девку, что стоит рядом, и кружит, кружит ее, пока музыка не смолкает. И вот я стою у выхода в парк и смотрю, как он приближается ко мне, как держит под руку ту, или другую, или третью, или четвертую.
«Калле», — почти беззвучно шепчу я.
Я жду, медлю на месте. Звук удаляющихся мотоциклов, шум опьянения, которое постепенно перейдет в сон и завтрашнюю головную боль. Фонари гаснут, музыканты несут свои инструменты в автобус.
Я знаю, что ты вернешься, Калле.
Тихо журчит канал. Сегодня такая темная ночь и ни единой звездочки. Облачная пелена — словно завеса на небе, затянувшая и звезды, и луну.
Как долго мне ждать?
Час?
Ты идешь.
Калле, ты уже закончил с нею?
Там, где ты сейчас проходишь, дорога делает поворот, и ты кажешься таким маленьким на фоне желтого фасада деревянной сторожки.
Но ты не мальчик.
Не потому ли я жду тебя этой влажной прохладной июньской ночью, не потому ли мне жарко, так жарко, что ты становишься выше ростом в моих глазах.
Твоя рубашка расстегнута.
Я вижу волосы у тебя на груди, твои черные глаза. И вся сила, что есть в тебе, направлена сейчас на меня.
— Так ты еще ждешь?
— Я просто здесь стою.
И ты берешь меня за руку и ведешь по дороге, мимо маленьких, недавно построенных вилл. Мы сворачиваем налево, на лесную тропку.
Что же будет?
Чего я жду?
Твоя рука.
Внезапно она становится чужой. Твой запах, твоя тень становятся чужими.
Я не хочу сюда. В лес. С тобой. Я хочу, чтобы ты отпустил мою руку.
Пусти.
Но ты сжимаешь ее все крепче, и я иду за тобой в темноту, Калле, хотя уже не знаю, хочу ли этого.
Ты бурчишь себе под нос.
Говоришь о водке, бормочешь что-то, и твой запах сливается с запахом леса. В нем есть сила новой жизни, но есть и что-то гнилостное, неуловимое.
Пусти, пусти.
Сейчас я говорю это вслух. Но ты тянешь меня дальше, ты тащишь меня силой. Я ждала от тебя именно такой грубости.
Ты лев? Леопард? Крокодил? Медведь?
Я хочу ускользнуть.
Я Ракель.
Дерзкая.
Слышится бормотание.
И вот ты останавливаешься. Черные полосы вокруг нас. Ты поворачиваешься, и я хочу ускользнуть, но ты ловишь мою другую руку, поднимаешь меня. Сейчас в тебе нет ничего человеческого. Свет остался позади, мечты далеко.
Тихо, сука. Тихо.
И вот я лежу на земле, нет, нет, не здесь, и ты закрываешь мне рот, и я кричу, но чувствую только привкус железа и что-то сильное и длинное, поднимающееся внутри.
Так, так, теперь тихо, Калле пришел.
Земля вгрызается в меня, жжет.
Неужели я хотела этого? Желала?
Ведь я Ракель, и моя красота не для всех.
Калле.
Я буду такой, как ты, только хитрее.
Ты разрываешь меня, но я больше не протестую, лежу спокойно. Удивительно, как я могла так сжаться за несколько мгновений, превратиться в ничто.
Я разрываюсь на части, я взрываюсь, я не могу дышать под тяжестью твоего тела, и все-таки тебя здесь нет.
А теперь ты готов.
Ты поднимаешься. Я вижу, как ты застегиваешь брюки, слышу твое бормотание: «Сука, сука, суки они все».
Ломаются ветки, ты спотыкаешься, бурчишь, а потом наступает тишина, и она говорит мне, что ты уже далеко.
Но ведь ночь только началась.
Темнота сжимается где-то в центре моей диафрагмы, две протянутые руки, пробираясь сквозь светлую, сверкающую пелену, определяют, что здесь, вот здесь должна быть жизнь.
Я чувствовала это еще тогда.
Как растет во мне вся моя боль и мука, а это значит, что растет человек.
Я ползу по мокрой земле.
Ветви обвиваются, древесные стволы словно смеются надо мной, хвоя, листва, мох пожирают меня.
Я сворачиваюсь в комок. Но потом поднимаюсь.
Встаю.
Распрямляю спину.
56
Тринадцатое февраля, понедельник, вечер.
Четырнадцатое февраля, вторник
— Пожмем друг другу руки?
Маркус протягивает ладонь, и Малин берет ее. У него крепкое, решительное рукопожатие, «с душой», хотя и не до боли.
«Отработанное», — думает Малин и представляет себе, как мужчина в белом халате учит того, из которого должен получиться идеальный сын, пожимать руку.
— Добро пожаловать.
— Приятно быть вашим гостем.
— Может, мы живем не так богато, как твоя семья, — почти невольно произносит Малин и разводит руками в маленькой прихожей, удивляясь самой себе. Что это ей вздумалось извиняться перед другом Туве?
— Здесь очень мило, — говорит он. — Я тоже хотел бы жить в центре.
— Ты должен извинить…
Малин прикусывает губу и замолкает, однако чувствует, что надо закончить мысль.
— …что я была немного сердита, когда мы виделись последний раз.
— Я тоже был сердит, — улыбается Маркус.
Туве выходит из кухни.
— Мама приготовила спагетти с домашним песто. Ты любишь чеснок?
— Прошлым летом мы арендовали дом в Провансе. Там в саду был свежий чеснок.
— Летом мы обычно делаем вылазки на один день, — говорит Малин и быстро добавляет: — Сядем за стол прямо сейчас или ты для начала хочешь чего-нибудь выпить? Колы, может быть?
— Я голоден, — отвечает Маркус. — Лучше чего-нибудь пожевать.
Малин поглядывает, как он наворачивает за двоих. Он пытается сдерживаться, вести себя так, как его, конечно, учили родители, но шаг за шагом проигрывает битву с подростковым голодом, Малин видит это.
— Может, там многовато пармезана…
— Все хорошо, — перебивает Маркус. — В самый раз.
Туве прокашливается.
— Мама, я подумала над тем, что говорил дедушка. Это звучит классно, лучше и быть не может. Но нельзя ли Маркусу поехать со мной? Мы говорили с его родителями, они могут купить ему билет.
Подожди-ка.
Что это значит?
Малин представляет шестнадцатилетнего Янне и себя, четырнадцатилетнюю. Как они лежат в какой-то постели, расстегивая друг на друге пуговицы. «Могли ли мы разлучиться больше чем на пару часов?» То же чувство читает она сейчас в глазах Туве.
Это обнадеживает, однако время ограниченно.
— Хорошая идея, — отвечает Малин. — У них как раз есть две лишние спальни.
Она улыбается.
Пара влюбленных подростков. С родителями. На Тенерифе.
— Мне это нравится, — добавляет она спустя некоторое время. — Но мы должны спросить дедушку.
И тут подает голос Маркус:
— Мама и папа хотят пригласить вас на ужин в ближайшее время.
Помогите!
Нет, нет.
Белые халаты и надменная дама за одним столом. Отработка рукопожатия. Извинения.
— Очень приятно, — отвечает Малин. — Передай своим родителям, что я с удовольствием приду.
После ухода Маркуса Малин и Туве сидят за кухонным столом. Их фигуры черными контурами отражаются в окне, выходящем на церковь.
— Правда, он милый?
— Он хорошо воспитан.
— Хотя и не чересчур.
— Нет, Туве, не чересчур. Но достаточно хорошо для тебя. Ведь именно хорошо воспитанные умеют, как никто, причинять боль, если уж на то пошло.
— Что ты имеешь в виду, мама?
— Ничего, просто рассуждаю вслух.
— Я позвоню дедушке утром.
Срабатывает внутренний будильник, и Малин просыпается. Сна ни в одном глазу, хотя часы на ночном столике показывают 2.34 и телу так хочется покоя.
Малин ворочается, пытается заснуть. Ей удается отогнать от себя мысли о расследовании, о Туве, Янне и остальных, но сон все равно не идет.
Надо спать, надо спать…
Повторение мантры окончательно отгоняет сон. Наконец она встает, проходит на кухню и пьет молоко прямо из пакета, вспоминая, как злилась на Янне, когда он делал то же самое, как находила это отвратительным и неприличным сверх всякой меры.
А в другом доме, за городом, в своей постели проснулся Янне. Он спрашивает себя, как долго еще будут его мучить эти сны, и чтобы отогнать воспоминания о джунглях и горных дорогах, вызывает в своем воображении лица Малин и Туве, и на душе его становится спокойно, радостно и притом тоскливо. Он думает, что только по-настоящему любимые люди могут вызывать такие противоречивые чувства. Потом он встает, направляется в комнату Туве, смотрит на пустую кровать и представляет себе, что там лежит его дочь. Он думает о том, что скоро она перерастет их, и ему страшно не хочется с ней расставаться.
А в городской квартире в это же самое время Малин стоит возле кровати Туве и спрашивает себя, может ли что-нибудь основательно поменяться в ее жизни или все уже каким-то образом определилось.
Она хочет погладить Туве по голове.
Но не разбудит ли она ее? «Я не хочу будить тебя, Туве, но я так хочу удержать тебя».
Вчера было первое за неделю совещание. «Форс, плохо, если тебя не будет на месте», — так сказал по телефону Свен Шёман.
От дыхания собравшихся воздух зала заседаний стал спертым, и все вокруг, кажется, пребывают в более радостном и возбужденном, чем у Малин, настроении.
Может, потому что пришел ответ из ГКЛ?
Резиновые пули из квартиры Бенгта Андерссона были выпущены из «салонного» ружья, найденного у Никласа Нюрена. На нем же обнаружены отпечатки пальцев Иоакима Свенссона и Йимми Кальмвика.
— И теперь, — говорит Свен, — нам известно, кто стрелял в окно квартиры Бенгта Андерссона. Малин и Зак смогут надавить на юных хулиганов как следует и узнать, не скрывают ли они еще что-нибудь. Займитесь этим немедленно. Сейчас они должны быть в школе.
Малин рассказывает, что ей удалось выяснить по линии Мюрваллей.
Когда она доходит до связи между Калле-с-Поворота и этой семьей, то замечает скепсис в глазах Карима Акбара. «Даже если он и отец Карла Мюрвалля, какое это имеет значение? Что дает это нам в добавление к тому, что мы уже имеем и знаем?»
— С Мюрваллями все ясно. Сейчас стоит переключиться на другие направления. Займитесь линией Асатру, что-то должно быть и на жестком диске. Юхан, как обстоят дела с этим? Ага… вам удалось обойти пароль… Ага, там масса закрытых папок…
— Однако это значит, что Карл Мюрвалль приходится братом Бенгту Андерссону, — настаивает Малин, — о чем, вероятно, и сам не подозревает.
— Если старик из Шернорпа сказал правду, — уточняет Карим.
— Но это легко установить. У нас есть ДНК Бенгта, мы можем взять пробу у Карла Мюрвалля и получим подтверждение.
— Поосторожней на поворотах, — предупреждает Карим. — Мы не можем сломя голову бегать за какими-то пробами, нарушающими неприкосновенность личности, только на том основании, что какой-то старик что-то такое сказал. Тем более что значение этого открытия для расследования не совсем понятно.
Вчера после обеда Малин звонила Свену и передала разговор с Вейне Андерссоном.
Свен слушал внимательно. Малин сначала не поняла, был ли он доволен или раздосадован тем, что она по собственной инициативе работала в воскресенье. Но потом Свен сказал: «Хорошо, Форс. Мы еще не закончили с этой линией расследования. И братья Мюрвалль все еще сидят в камерах в связи с другими преступлениями».
И может, поэтому он сейчас говорит:
— Малин, и ты, Зак, допросите Карла Мюрвалля снова. Для информации. У него алиби на тот вечер, когда было совершено убийство, но постарайтесь выяснить, что он еще знает обо всей этой истории. Может, он солгал вам в прошлый раз. Попробуйте снова, а потом надавите на Кальмвика и Свенссона.
— А тест на ДНК?
— Малин, не все сразу. Поезжайте к нему, потом посмотрим. А все остальные, загляните под каждый камень, обыщите все углы и закоулки, куда мы еще не заглянули. Время идет, и все вы знаете, что чем больше его уходит, тем меньше у нас остается шансов найти преступника.
Зак подходит к столу. Он зол, его зрачки сжались и стали острыми. Он снова возмущен тем, что я вчера обошлась без него. Когда же он наконец привыкнет?
— Малин, ты могла бы позвонить мне. Как по-твоему, Карл Мюрвалль знает об этих делах? О Калле-с-Поворота?
— Я думала об этом. Вероятно, знает, но не наверняка, если ты понимаешь, что я имею в виду.
— Форс, ты непостижима. Сейчас мы поедем в «Коллинз» и поговорим с ним. Сегодня вторник, он должен быть на месте.
57
Акционерное предприятие «Коллинз меканика» неподалеку от Викингстада.
Асфальтированная парковка протянулась от лесной опушки до караульной будки на добрую сотню метров, а единственный просвет в десятиметровом заборе, увенчанном колючей проволокой, свернутой в тугую спираль, прегражден шлагбаумом.
Предприятие, которое является поставщиком «Сааб дженерал моторс», — одна из немногих успешных компаний на равнине. Триста человек занимаются здесь автоматизированной сборкой автомобилей. Еще несколько лет назад их было семьсот, но конкурировать с Китаем невозможно. «Эрикссон», НАФ АБ, «Сааб», «БТ-Тракс», «Принтком» — все они сократили производство или исчезли вовсе. Малин видит, как меняется обстановка в крае с падением промышленного производства. Растет преступность, связанная с насилием, в том числе и в семье. Отчаяние, как мог бы сказать кое-кто из политиков, приводит к рукоприкладству.
Через некоторое время все каким-то странным образом возвращается на круги своя. Кто-то находит новую работу. Остальные действуют каждый как может: одни получают образование, других уговаривают или вынуждают досрочно выйти на пенсию.
Но остаются особо нуждающиеся или особо ловкие. Они оказываются в точке разрыва, на границе того самого общества, в делах которого семья Мюрвалль не хочет участвовать ни на каких условиях, кроме своих собственных.
«Как можно понять, что с тобой все кончено? — думает Малин. — Я даже представить себе не могу, каково терзаться этой мыслью. Что ты никому не нужен, не востребован».
За непроницаемой стеной с колючей проволокой находится белое здание без окон, похожее на ангар. Это фабрика.
«Напоминает тюрьму», — думает Малин.
Охранник в будке одет в голубую униформу. На его лице трудно установить границу между щеками и подбородком, равно как и сказать, где кончается лицо и начинается шея. Где-то посредине этой покрытой кожей массы вставлены серые водянистые глаза, и они скептически смотрят на Малин, протягивающую полицейское удостоверение.
— Мы ищем Карла Мюрвалля. Он возглавляет здесь компьютерный отдел.
— По какому поводу?
— Это не имеет значения, — замечает Зак.
— Вы должны сообщить…
— В связи с расследованием, — отвечает Малин.
Охранник отводит от нее взгляд, набирает номер, кивает несколько раз, потом кладет трубку.
— Идите к главной регистрационной стойке, — говорит он.
Малин и Зак направляются к парадному входу. Им приходится совершить променад в несколько сотен метров. Они минуют закрытые монтажные цеха, на полпути через распахнутые двери видят сотни потрепанных траверс, подвешенных к балкам на потолке, как будто давно находящихся в бездействии и с нетерпением ожидающих своего часа. Вращающаяся дверь из травленого стекла держится на прикрепленных к потолку стальных балках. Она ведет к регистрационной стойке.
За столом красного дерева сидят две женщины. Ни одна из них не обращает на вошедших никакого внимания. Слева широкая мраморная лестница. Пахнет полированной кожей и моющими средствами с ароматом лимона.
Они подходят к стойке.
Одна из женщин поднимает глаза.
— Карл Мюрвалль сейчас спустится. Вы можете подождать его на тех стульях возле окна.
Малин оборачивается и видит три красных мягких кресла-«яйца» на коричневом ковре.
— Он скоро будет?
— Через несколько минут.
Карл Мюрвалль появляется двадцать пять минут спустя. На нем серая куртка, желтая рубашка и коротковатые темно-синие джинсы. Завидев его, Малин и Зак поднимаются и идут навстречу. Карл Мюрвалль протягивает руку, его лицо ничего не выражает.
— Инспекторы? Чем обязан?
— Нам надо поговорить с глазу на глаз, — отвечает Малин.
Карл указывает в сторону стульев:
— Может, здесь?
— Лучше в какой-нибудь комнате для совещаний, — говорит Малин.
Карл Мюрвалль поворачивается и начинает подниматься по лестнице. Бросает взгляд через плечо, как бы желая убедиться, что Малин и Зак следуют за ним.
Он набирает код на замке стеклянной двери, и та отъезжает в сторону, открывая длинный коридор.
В одной из комнат, мимо которых они проходят, слышно жужжание мощного вентилятора. За матовым стеклом мелькает едва различимая тень.
— Серверная комната. Сердце производства.
— И вы за это отвечаете?
— Это моя территория, — говорит Карл Мюрвалль. — Я контролирую здесь все.
— Здесь вы работали, когда был убит Бенгт Андерссон?
— Именно так.
Карл останавливается возле очередной стеклянной двери, набирает еще один код. За дверью вокруг десятиметрового дубового стола стоят двенадцать черных стульев. На столе блюдо с огненно-красными зимними яблоками.
— Кабинет правления, — говорит Карл. — Должен подойти. Итак?
Карл Мюрвалль сидит напротив них, откинувшись на спинку.
Зак крутится на своем стуле.
Малин наклоняется вперед.
— Ваш отец не был моряком.
Лицо Карла Мюрвалля остается неподвижно: ни один мускул не напрягается, глаза не выражают никакого беспокойства.
— Ваш отец — легенда поселка Юнгсбру, человек по имени Карл Андерссон, Калле-с-Поворота. Вы знали об этом?
Карл Мюрвалль улыбается Малин, и в его улыбке нет насмешки, только пустота и одиночество.
— Абсурд, — говорит он наконец.
— И если наши сведения верны, то вы и Бенгт Андерссон — сводные братья.
— Я и он?
Зак кивает.
— Вы и он. Неужели мать вам не рассказывала?
Карл Мюрвалль стискивает зубы и повторяет:
— Абсурд.
— И вы ничего не знали об этом? Что у вашей матери была связь с Калле-с…
— Мне наплевать, кто был моим отцом. Все это в прошлом. Вы должны понять. Должны понять, как мне приходилось бороться за то, чтобы стать, кем я стал.
— Можем ли мы взять у вас пробу ДНК, чтобы сравнить с ДНК Бенгта Андерссона? Тогда мы будем знать наверняка.
Карл Мюрвалль качает головой:
— Мне это совершенно неинтересно.
— Почему?
— Потому что я знаю. Вам не нужно брать никакую пробу. Мама все рассказала. Но поскольку я решил оставить всех моих сводных братьев и их жизнь в прошлом, мне нет до этого никакого дела.
— Итак, вы сводный брат Бенгта Андерссона? — уточняет Зак.
— Был. Ведь сейчас он мертв, так? У вас еще что-нибудь? Я тороплюсь на следующую встречу.
На обратном пути к машине Малин смотрит в сторону темной лесной опушки. Карл Мюрвалль не хотел говорить о своем отчиме, о том, как он рос в Блосведрете, о своих отношениях с братьями и сестрой.
— Ни слова больше. Вы узнали то, что вам было нужно. Представляете ли вы, каково мне сейчас приходится? Если больше у вас ничего ко мне нет, меня ждут мои должностные обязанности.
— Но Мария?
— Что Мария?
— Была ли она добра с вами, как с Мяченосцем? Добрей, чем Элиас, Адам или Якоб? Мы знаем, она хорошо относилась к Бенгту. Знала ли она, что он ваш сводный брат?
Молчание.
У Карла Мюрвалля землисто-бледные щеки. И уголки рта чуть заметно подрагивают.
Шлагбаум возле сторожевой будки поднимается, и они выезжают.
«Прощай, тюрьма», — думает Малин.
Должностные обязанности.
Каким же мрачным может сделать человека его работа.
Карл Мюрвалль приходится сводным братом и Ребекке Стенлунд.
«Но это не мои должностные обязанности, — думает Малин. — До этого они должны дойти сами, если до сих пор не знают. Ведь Ребекка Стенлунд тоже хочет, чтобы ее оставили в покое».
58
— Как ты думаешь, знала ли Мария Мюрвалль, что у Бенгта Андерссона и ее сводного брата общий отец? Не потому ли она так опекала его?
Зак говорит с набитым ртом, и поэтому речь его невнятна.
Малин откусывает от своей «чоризо».[48]
Закусочная возле кольцевой развязки Валларонделлен. Здесь лучшая колбаса в городе.
Автомобиль греется на холостом ходу, а за ним застыли в молчании безликие желтые многоэтажки и студенческие общежития в Рюде, тихие, словно осознающие свое место в иерархии жилых домов. Здесь ютятся те, у кого нет средств на большее, временно или всю жизнь, если удача окончательно отвернулась.
По другую сторону шоссе, за редкими рощицами, раскинулись корпуса университета. «Для многих проживающих в Рюде это как насмешка судьбы, — думает Малин. — Каждый день видеть перед собой олицетворение несбыточной мечты, упущенных возможностей, неправильного выбора, положенного предела. Архитектура отчаяния, можно сказать. Но не для всех. Далеко не для всех».
— Ты не ответила на мой вопрос.
— Я не знаю, — говорит Малин. — Быть может, она чувствовала эту связь. Инстинктивно. Или просто знала.
— Женская интуиция? — хихикает Зак.
— В любом случае, мы не можем спросить ее, — отвечает Малин.
Не играй со скорпионом — укусит. И барсук схватит за руку, просунутую в нору. Не зли гремучую змею, бойся жала. То же самое и с тьмой: если загонишь ее в угол, она набросится на тебя.
Но правда?
Что это такое?
Она шепчет про себя это слово, пересекая вместе с Заком двор в направлении дома Ракели Мюрвалль. Позади них солнце садится за горизонт. Светлое время суток быстро сменяется темным. Холодно.
Они стучат в дверь.
Хозяйка, конечно, видела их. «Господи, опять!» — пронеслось у нее, должно быть, в голове.
Тем не менее она открывает.
— Вы?
— Хотелось бы попасть в дом, — говорит Зак.
— Вы бывали здесь уже неоднократно.
Хрупкое тело Ракели Мюрвалль приходит в движение. Она пятится, но остается стоять в прихожей, уперев руки в бока и как бы демонстративно преграждая им путь: здесь и не далее.
— Я сразу перейду к делу, — начинает Малин. — Калле-с-Поворота. Он был отцом вашего сына Карла.
Глаза Ракели становятся еще чернее и как будто наполняются сиянием.
— Откуда вам это известно?
— Есть тесты, — отвечает Малин. — Мы знаем наверняка.
— И это значит, что Карл приходится сводным братом убитому, — добавляет Зак.
— Что вы хотите знать? Что я сочинила всю эту историю про моряка-содомита, когда он потонул во время кораблекрушения? Что однажды вечером в парке я отдалась Калле-с-Поворота? Я не одна была такая!
Ракель Мюрвалль смотрит на Зака с чуть заметным презрением во взгляде. Потом поворачивается и проходит в комнату. Они следуют за ней. А она говорит, словно хлещет плеткой:
— Калле так и не узнал, что он отец мальчика. Но я крестила ребенка под этим именем — Карл, чтобы никогда не забывать, откуда он у меня.
«Ты, — думает Малин, — и ему не дала забыть об этом. Нашла способ».
Глаза ее сейчас холодны.
— И как, вы думаете, мне приходилось с ним здесь? А сын моряка — это сын моряка. Они проглотили это, шоколадные сплетницы из поселка.
— А как Карл узнал об этом? — спрашивает Зак. — Черный и мальчики плохо обращались с ним?
— На мой семидесятый день рождения он явился с каким-то чудным ожерельем на шее. Думал, будто теперь что-то собой представляет. И тут я сказала ему все как есть. «Твой отец Калле-с-Поворота, — так я сказала. — Инженер ты! И что с того?» Он стоял там, где вы сейчас.
Старуха отступает назад, делает движение рукой в сторону Малин и Зака, размахивает ею, как бы отпугивая их: «Прочь… прочь…»
— Но если вы что-нибудь расскажете мальчикам, я вам устрою такую жизнь, что лучше бы вам на свет не родиться.
«Она не боится угрожать полиции, — думает Малин. — Призраков надо отогнать любой ценой. И все-таки ты из тех, кто движет эволюцию, Ракель. Что бы это значило?»
Из окна своей кухни Ракель Мюрвалль видит, как двое полицейских возвращаются к автомобилю, ступая в собственные следы. Она чувствует, что злоба ее улеглась и уступила место способности рассуждать здраво. И вот она выходит в прихожую и берет со столика телефон.
59
Бритта Сведлунд поднимается, впиваясь глазами в Иоакима Свенссона и Йимми Кальмвика, только переступивших порог ее ректорского кабинета в школе поселка Юнгсбру. Комната, пропитанная запахом кофе и никотина, вибрирует от ее гнева.
«Должно быть, время от времени она здесь курит», — подумала Малин, как только вошла.
Завидев Малин и Зака, мальчики тут же попятились и хотели убежать, но остановились как прикованные под строгим взглядом ректора.
А еще раньше, пока Малин и Зак ожидали появления Иоакима и Йимми, вызванных с урока английского языка, Бритта Сведлунд излагала им свою педагогическую философию: «Вы должны понять, что помочь можно не всем. Я фокусирую внимание, может быть, и не на самых одаренных, но на тех, кто действительно хочет учиться. И можно заставить человека захотеть большего, чем то, на что он рассчитывает. Но есть и безнадежные, и я решила раз и навсегда, что на них не стоит тратить силы».
«Но ведь ты еще тратишь силы на Иоакима и Йимми, — думает Малин, глядя, как Бритта Сведлунд управляет мальчиками только при помощи взгляда. — Хотя они и заканчивают школу весной. И уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно отвечать за свои поступки».
— Садитесь, — говорит Бритта, и оба подростка, сжимаясь под действием ее голоса, опускаются каждый на свой стул.
— Я покрывала вас, а вы что учинили?
Малин поворачивается так, чтобы мальчики видели ее глаза.
— Смотрите на меня, — говорит она ледяным голосом. — Ну, теперь с вашей ложью покончено. Мы знаем, что это вы стреляли в окно квартиры Бенгта Андерссона.
— Мы не…
Голос Бритты Сведлунд по другую сторону стола:
— Ведите же себя как следует!
И Йимми Кальмвик начинает говорить — высоким испуганным голосом, словно возвращаясь из своего переходного возраста в более невинный.
— Да, мы стреляли из этого ружья в квартиру. Но его не было дома. Мы взяли ружье, сели на велосипеды, а потом стреляли. Было темно. И его не было дома, я клянусь! Мы сразу смылись. Было ужасно страшно.
— Это правда, — спокойно подтверждает Иоаким Свенссон. — И мы не имеем никакого отношения ко всему тому кошмару, что случился с Мяченосцем потом.
— И когда вы стреляли? — задает вопрос Малин.
— Это было в четверг, сразу после Рождества.
— Нас теперь посадят в тюрьму? Нам же всего пятнадцать.
Бритта Сведлунд устало качает головой.
— Все зависит от того, как вы будете нам помогать, — говорит Зак. — Расскажите все, что, по вашему мнению, может оказаться важным для нас. Я имею в виду действительно все.
— Но мы больше ничего не знаем.
— Без дураков.
— И после этого вы оставили Бенгта в покое? Или однажды вечером ваши шутки зашли слишком далеко?
— Говорите как есть, — советует Малин. — Мы должны все выяснить.
— Но мы больше ничего не делали.
— А в ночь со среды на четверг на прошлой неделе, накануне того, как Мяченосца нашли мертвым?
— Мы ведь говорили, что смотрели «Королей Догтауна». Это чистая правда! — В голосе Иоакима Свенссона слышится отчаяние.
— Можете идти, — говорит Зак, и Малин кивает в знак согласия.
— Это значит, мы свободны? — раздается наивный голос Йимми Кальмвика.
— Это значит, — объясняет Зак, — что в свое время мы допросим вас опять. Стрельба по чужим окнам не обходится без последствий.
Бритта Сведлунд выглядит усталой и, кажется, мечтает о рюмочке виски с сигаретой. Она рада, что мальчики покинули ее кабинет.
— Господь свидетель, чего я только не перепробовала с этой парочкой!
— Быть может, это послужит им уроком, — говорит Малин.
— Будем надеяться. Вы близки к тому, чтобы схватить убийцу?
Зак качает головой.
— Мы ведем расследование в нескольких направлениях, — отвечает Малин, — и должны проработать любой вариант, каким бы маловероятным или невероятным он ни был.
Бритта Сведлунд смотрит в окно.
— Что теперь будет с мальчиками?
— Их вызовут на допрос повесткой, если руководитель предварительного расследования сочтет это нужным.
— Будем надеяться, — повторяет Бритта Сведлунд. — Они должны почувствовать, что совершили ошибку.
У регистрационной стойки полицейского участка их встречает Карим Акбар.
Он прямо-таки источает гнев.
— Чем это вы там занимались, вы двое?
— Мы…
— Знаю. Ходили к Ракели Мюрвалль и донимали ее расспросами по поводу того, с кем у нее был секс сорок лет назад.
— Мы никого не донимали, — оправдывается Зак.
— Однако она утверждает обратное. Звонила и подала официальную жалобу. А теперь она сообщит «в газету», как она сказала.
— Но она не…
— Форс, как, по-твоему, это все будет выглядеть? Ее представят беззащитной старушкой, а нас монстрами.
— Но…
— Никаких «но». У нас нет причин вдаваться в это. Мы должны оставить Мюрваллей в покое. И если ты, то есть вы оба не отступитесь от них, я передам дело Якобссону.
— Проклятье, — шепчет Малин.
Карим приближается к ней.
— Немного покоя, Форс, вот все, чего я хочу.
— Проклятье.
— Предчувствий больше недостаточно. Прошло почти две недели. У нас должно быть что-то конкретное, а не сплетни по поводу того, кто кому брат. Нельзя давать им думать, что мы донимаем старую женщину за неимением лучших версий.
Дверь офисного помещения открывается, появляется Свен Шёман. В его взгляде отчаяние.
— За недостатком улик мы не можем больше держать братьев Мюрвалль в тюрьме по подозрению в ограблении оружейного склада в Кварне. Их придется выпустить.
— Но черт, у них же дома нашли ручную гранату! Гранату!
— Разумеется, но кто сказал, что они не приобрели ее у кого-нибудь из-под полы? Браконьерства и незаконного хранения оружия недостаточно, чтобы и дальше содержать их под стражей. А в этом они признались.
Голос из-за регистрационной стойки:
— Малин, тебя к телефону!
Она подходит к аппарату на своем столе. Трубка в руке кажется холодной и тяжелой.
— Да, Форс.
— Это Карин Юханнисон.
— Привет, Карин.
— Только что получила письмо из Бирмингема. Им ничего не удалось извлечь из пробы с одежды Марии Мюрвалль, она действительно слишком грязная. Но они хотят попробовать еще один тест. Нечто совершенно новое.
— Ничего? Будем надеяться на новый тест.
— У тебя усталый голос. Вам чем-нибудь помогли наши выводы относительно «салонного» ружья?
— Да, в принципе эту линию мы можем закрыть.
— И?
— Карин, что я могу сказать? Дети, подростки, брошенные на произвол судьбы. Из этого никогда не выходит ничего хорошего.
60
— Мама, мама!
Малин слышит доносящийся с кухни голос Туве. Это значит, что она закончила домашнюю работу по математике. «Математика, — вспоминает Малин. — Тьфу! Очень может быть, что это язык природы, но моим языком она не была никогда».
— Иди сюда, мама.
Подросток.
Ребенок.
Почти взрослый.
Взрослый.
Четыре человека в одном. И желание найти свое место в жизни — в той, которая никого не ждет и очень неохотно предоставляет стоячие места. Даже если ты не получишь образования, ты должна найти работу. Стань врачом — это надежно. Хотя что в этом мире надежно? Следуй зову своего сердца. Будь кем угодно, лишь бы ты действительно этого хотела. «Я не знаю», — так до сих пор отвечала ты на этот вопрос… Может, писать книги? Хотя это так несовременно! Пиши лучше сценарии для компьютерных игр, Туве. Делай что хочешь, только не спеши. Осмотрись. И подожди заводить ребенка.
Но ты ведь так или иначе знаешь все это. Ты понятливей, чем я была когда-то.
— Туве, что такое?
Малин поудобнее устраивается на диване и приглушает телевизор, так что ведущий выпуска новостей лишь беззвучно открывает рот.
— Ты звонила дедушке?
Черт!
— Разве мы не договаривались, что позвонишь ты?
— Ты не будешь звонить?
— Я не знаю, но, как бы то ни было, мы должны сделать это сейчас.
— Я позвоню, — отзывается Туве с кухни.
И Малин слышит, как она поднимает трубку, набирает номер и наконец говорит:
— Дедушка, это Туве… Да, да, звучит великолепно… Билеты… Когда?… Двадцать шестого?.. И еще, тут такое дело… У меня есть парень… Маркус, на два года старше… И я подумала, что он может присоединиться… Да… к вам… на Тенерифе… Его родители согласны… Ой, ну… Будет лучше, если ты поговоришь с мамой… Мама, мама, дедушка хочет поговорить с тобой.
Малин поднимается и проходит на кухню. Запах вчерашнего ужина еще не выветрился.
Она берет трубку у Туве и прикладывает к уху.
— Малин, это ты? — Голос у отца злой, срывающийся на фальцет. — Как ты себе это представляешь? Какой-то Маркус присоединится? Это твоя выдумка? Стоит оказать тебе малейшее доверие, как ты обязательно должна злоупотребить им. Или ты не понимаешь, что сейчас, когда мы хотели дать Туве возможность увидеть Тенерифе, ты все испортила…
Малин отрывает трубку от уха и ждет. Туве в нетерпении топчется рядом, и Малин качает головой, готовя ее к неизбежному. Она видит, как все тело Туве выражает разочарование, как опускаются ее плечи. Малин снова подносит трубку к уху — тишина.
— Папа? Ты здесь? Ты закончил?
— Малин, что заставило тебя вбить в голову Туве подобную чушь?
— Папа, ей тринадцать. У тринадцатилетних девочек есть парни, с которыми они хотят общаться во время каникул.
Малин слышит щелчок и вешает трубку.
Шепчет, положив руку на плечо Туве:
— Не расстраивайся, старушка, но, похоже, дедушка не в восторге от идеи насчет Маркуса.
— Тогда я останусь дома, — говорит Туве, и Малин чувствует в ее голосе решительное и бескомпромиссное упрямство, напоминающее ее собственное.
Бывают ночи, когда кровать кажется бесконечно широкой. Они вмещают в себя все одиночество вселенной. Бывают ночи, когда кровать мягкая и много обещает, а ожидание сна — лучшее время суток. Наконец, бывают ночи, как эта. Когда кровать жесткая и матрас тебе враг, который старается даже мысли в голове у тебя перепутать и как будто хочет посмеяться над твоим одиночеством.
Малин вытягивает руки вперед. Пустое пространство холодно, как ночь за окном. И его здесь намного больше. Она знает, что стоит только протянуть руки — и они встретят пустое пространство.
Янне.
Она думает о Янне.
О том, как он начинает стареть, как они оба стареют.
Она хочет подняться, позвонить ему. Но ведь он спит, или сейчас на станции, или… Даниэль Хёгфельдт. Нет, только не это ночное одиночество, оно хуже всего. Настоящее одиночество.
Малин отбрасывает одеяло.
Поднимается с постели.
В спальне темно, бессмысленно пусто.
Она нащупывает на письменном столе свой переносной проигрыватель. Она знает, какой там сейчас стоит диск, и надевает наушники. Потом ложится снова, и скоро мягкий голос Марго Тимминс уже струится ей в уши.
Канадская группа «Cowboy Junkies». Еще пока они не стали такими скучными.
Тоска одинокой женщины разрешается триумфом последней строки: «…I kind of like the few extra feet in my bed…»[49]
Малин снимает наушники, нащупывает телефон и набирает номер Янне. Он отвечает после четвертого сигнала.
Она молчит.
— Малин, я знаю, что это ты.
Молчание.
— Малин, я знаю, что это ты, — повторяет он.
Это единственный голос, который ей нужен, — мягкий, спокойный и надежный.
Его голос — как объятие.
— Я тебя разбудила?
— Ничего страшного. Ты знаешь, что я плохо сплю.
— Я тоже.
— С каждой ночью все холоднее. Это самая холодная из тех, что до сих пор были. Ты согласна?
— Да.
— Как хорошо, что у меня новый котел.
— Это здорово. Туве спит. С Маркусом и Тенерифе ничего не получится.
— Он рассердился?
— Да.
— Они никогда не поймут.
— А мы, мы поймем?
— Этой зимой я, наверное, израсходую массу бензина, — говорит Янне вместо ответа.
Потом вздыхает в трубку:
— Давай спать, Малин. Спокойной ночи.
61
Пятнадцатое февраля, среда
Церковь как будто уже привыкла к холоду. Ее штукатурка словно поседела под тонким покровом инея. Но деревья все еще сопротивляются, а пляжи и голубое небо на плакатах в окне бюро путешествий по-прежнему выглядят как насмешка.
Пахнет свежей выпечкой. Малин поднялась рано и успела поставить в духовку замороженные багеты. Она уже съела пару штук, с абрикосовым повидлом и вестерботтенским сыром, и сейчас любуется видом из окна.
На столе за ее спиной лежит свежий номер «Корреспондентен». У нее не хватает сил даже листать его. Все та же первая страница.
«Полиции предъявлено обвинение в преследовании».
«Издевательство, а не заголовок», — думает Малин, попивая кофе и разглядывая рекламные объявления универмага «Оленс» с пуховиками и шапками.
Однако еще большее издевательство — сам текст. Глупая шутка, ложь.
Несмотря на то что у полицейских нет никаких доказательств связи семьи Мюрвалль с убийством Бенгта Андерссона, они уже по меньшей мере семь раз допрашивали семидесятидвухлетнюю Ракель Мюрвалль в ее доме. Не далее как год назад Ракель Мюрвалль перенесла мини-инсульт… Похоже, мы имеем дело с откровенным преследованием со стороны полиции…
Подпись Даниэля Хёгфельдга. Так что он снова здесь. Во всей своей красе. Жесткости. Где он был?
Рядом короткая заметка о том, что ситуация с выстрелами в окно квартиры Бенгта Андерссона прояснилась. Однако полиция не связывает их с самим убийством. Реплика Карима Акбара: «Связь здесь в высшей степени маловероятна».
А Малин сидит за кухонным столом.
Листает газету.
Ракель Мюрвалль упомянула и Зака, и ее саму.
«Они были здесь семь раз и ломились в дом. У полицейских нет ни малейшего уважения к пожилой женщине. Но теперь мои мальчики опять дома…»
Под мальчиками фру Мюрвалль подразумевает сыновей Элиаса, Адама и Якоба, которые вчера были освобождены, так как предъявленных им обвинений явно недостаточно для дальнейшего содержания под стражей.
Фото Карима.
Его застали с несколько искаженным выражением лица. Глаза пристально смотрят в камеру. «Разумеется, обвинение в преследовании мы рассмотрим самым тщательным образом».
«Ему не понравится этот снимок», — думает Малин.
В общем и целом представляется, что полиция увязла в этом деле. Начальник участка Карим Акбар не хочет комментировать работу розыскной группы, он утверждает, что не может обсуждать сейчас подробности расследования из-за сложившийся «щекотливой ситуации». Однако источники информации «Корреспондентен» в полицейском участке сообщают, что расследование зашло в тупик и полиция понятия не имеет, в каком направлении вести его дальше.
Малин допивает свой кофе.
Источники информации? Кто? Их даже несколько?
Она подавляет в себе желание скомкать газету, зная, что Туве захочет ее почитать. На столике у мойки противень с багетами. Два для Туве. Она обрадуется, когда их найдет.
Местная утренняя газета, любимая почти всем городом. Сотрудники знают это из читательских опросов и массового выражения недовольства в те редкие дни, когда газета не выходит по утрам из-за проблем в типографии. Иногда кажется, что народ просто душит «Корреспондентен» в объятиях, будучи не в состоянии ни посмотреть на нее критическим взглядом, ни понять того, что она никак не является их домашним печатным органом.
Даниэль Хёгфельдт сидит у своего компьютера в редакции.
Любовь, читательские отклики — это всегда приятно. Стоит ему написать что-нибудь приличное, как он немедленно получает по электронной почте с десяток хвалебных писем.
Он доволен статьей в сегодняшнем номере и порадовал себя свежими булочками с корицей из пекарни «Шелинс» на площади Тредгордсторгет. Старикашка Бенгтссон пишет вяло, ему не хватает энергии, которая требуется для такого случая, как убийство Бенгта Андерссона. Нужен хорошо сбалансированный заряд, усиливающий драматичность события.
Город, похоже, впал в депрессию, онемел от мороза. Но в откликах на статью Даниэль Хёгфельдт чувствует беспокойство. Страх пробудился в Линчёпинге, а вместе с ним и недовольство полицией, которая топчется на месте.
«Мы отчисляем пятьдесят процентов на налоги, а полиция не выполняет своих…»
Два дня Даниэль провел в Стокгольме. Жил в новом отеле «Англе» на площади Стюреплан, в номере с видом на всевозможные красоты этого бестолково разросшегося гриба.
Центральная газета «Экспрессен».
Он встретился даже с главным редактором, этим льстивым психопатом. Но в целом дело не показалось Даниэлю стоящим: да, крупная газета, высокие заработки. А дальше что?
«Экспрессен».
Стокгольм.
Не сейчас. Не время.
Сначала сделать то, что сделала та женщина из «Мутала тиднинг»: раскопать скандал в мэрии и получить Большую журналистскую премию.
В Стокгольме я бы был королем или, во всяком случае, принцем.
Почти как здесь.
Интересно, чем сейчас занимается Малин Форс?
Могу себе представить.
Конечно, она измотана, сердита и полна желания. Совсем как я, когда слишком много работаю и мало сплю. Таков человек.
«Экспрессен».
Сегодня я должен написать главному редактору. Поблагодарить и отказаться.
Юхан Якобссон пытается уговорить трехлетнюю малышку открыть рот, та упирается. Голубой кафель ванной мутнеет в его глазах.
— Мы должны чистить зубы, — убеждает он. — Иначе придет зубной тролль.
Он пытается говорить строго и в то же время ласково, но чувствует, что получается занудно и устало.
— Открой рот.
Девочка хочет убежать, но он крепко держит, разжимая, хотя и несильно, ее челюсти пальцами. Но все-таки она вырывается и выбегает из ванной, а Юхан обессиленно опускается на унитаз. К черту зубного тролля!
Работа. Когда расследование сдвинется с места? Когда наконец хоть что-нибудь всплывет? Они прочесали жесткий диск Рикарда Скуглёфа вдоль и поперек и ничегошеньки не нашли. Конечно, есть письма тем, кто повесил животных на дереве, и другим чокнутым язычникам, но в них ничего противозаконного. И это все. Осталось еще проверить пару закрытых папок.
И вся его жизнь — словно эта попытка разжать закрытый рот. А Малин и Зак, похоже, еще больше разочарованы. И Бёрье, которого отстранили. Но он, должно быть, проводит время со своей женой, с собаками или на стрельбище. Хотя, понятное дело, стрелять — последнее, чего ему сейчас хочется.
Карим Акбар протягивает пятисотенную купюру приемщику в прачечной. Он пользуется химчисткой в универмаге «Рюд сентрум» по двум причинам: они рано открываются и лучше стирают.
За его спиной — помещение «Сентрума», тесное и обшарпанное. Кооперативный магазин, газетный киоск, изготовление ключей и ремонт обуви, а также сувенирная лавка, либо еще не открывшаяся, либо уже прогоревшая.
Три костюма в пластиковых пакетах на шаткой вешалке, один от Корнелиани, два от Хьюго Босса. Десять белых рубашек сложены в стопку.
Мужчина за стойкой берет купюру, благодарит и отсчитывает сдачу.
— Спасибо, — говорит Карим.
Ему известно, что хозяин прачечной — иммигрант из Ирана, бежал со своей семьей во времена Саддама.
Кто знает, через что ему пришлось пройти?
Однажды, когда Карим сдавал костюмы, мужчина хотел рассказать о себе: о том, что по образованию он инженер, и о том, что пережил. Но Карим сделал вид, будто очень спешит. Как бы он ни восхищался человеком, борющимся за свою семью, этот человек лишь часть общей проблемы. А она состоит в том, что и в нем самом, и во всех людях иностранного происхождения видят граждан второго сорта, которые должны работать в сфере обслуживания, мало прельщающей шведов. «Следовало бы запретить иммигрантам держать пиццерии или химчистки, — думает Карим. — Так мы разрушим этот стереотип. Будут протесты из соображений политкорректности, но такова действительность. Хотя, конечно, это невозможно. А я сам? Я ничем не лучше его, кто бы там что ни думал».
Отчуждение порождает изоляцию.
Изоляция порождает насилие.
Насилие порождает… что?
Бездонную пропасть между людьми. Между семьей Мюрвалль, которая только и желает того, чтобы ее оставили в покое, и теми, кто стремится жить в обществе и быть его частью. Хотя мечты и действительность редко идут рука об руку.
«Вот мой отец, — думает Карим, покидая прачечную. — Это пассивное насилие толкнуло его на самоубийство. Но я никогда ни с кем не говорил о нем. Даже со своей женой».
Мороз ударяет в лицо Кариму, когда он открывает дверь.
Черный «мерседес» сверкает даже при скудном зимнем освещении.
И вот он думает об убийцах или убийце, за которым они охотятся.
Чего он, собственно, добивается? К чему стремится?
Зак открывает дверь полицейского участка.
Подходит к регистрационной стойке, где пахнет потом и перегретыми батареями. Его окликает коллега в форме, спускающийся по лестнице в подвал:
— Как дела у Мартина, он играет в следующем матче? Или у него что-то с коленом?
Папа хоккеиста — так они меня воспринимают?
— Насколько я знаю, он играет.
Мартин получил предложение из НХЛ, но что-то там не складывается, они, похоже, пока не желают считать его своим. Зак знает: хоккей рано или поздно сделает парня богатым. Таким богатым, что трудно себе представить.
Но и все сокровища мира не заставят Зака уважать эту игру. Панцирь, защитное снаряжение — все это несерьезно.
Вот Бенгт Андерссон — это серьезно. Как и все зло там, снаружи.
«И никакая броня не спасет, когда приходится иметь дело с худшим, что есть в человеке, — думает Зак. — То, чем мы здесь занимаемся, — не игра».
— Ты видела меня здесь? — Карим Акбар возле стойки в буфете тычет в свой снимок в газете. — Они не могли выбрать другое фото?
— Не так уж и плохо, — отвечает Малин. — Могло быть хуже.
— То есть? Ты что, не знаешь, как я выгляжу? Они выбрали эту фотографию, чтобы продемонстрировать наше отчаяние.
— Карим, забудь об этом. Завтра ты опять будешь в газете, обязательно. И мы ведь не отчаялись, или как?
— Малин, никогда нельзя отчаиваться, ни за что.
Малин заходит в свою электронную почту. Обычные административные рассылки, немного спама и вот — письмо от Юхана Якобссона.
«До сих пор на жестком диске ничего не нашли. Осталось проверить всего несколько папок».
А вот письмо, помеченное красным: «Позвони мне».
От Карин Юханнисон.
Разве она не может позвонить сама?
Но Малин знает, как это бывает. Иногда почему-то легче отправить письмо.
Она пишет ответ: «Что-нибудь новое?»
Кликает на «отправить». Проходит не более минуты, и в папке «входящие» появляется новое сообщение от Карин: «Ты можешь ко мне подъехать?»
Ответ: «Буду в лаборатории через десять минут».
В кабинете Карин Юханнисон в ГКЛ нет окон. За исключением стеклянной перегородки, отделяющей комнату от коридора, стены от пола до потолка увешаны простыми книжными полками, а на письменном столе кучи папок. Бросается в глаза толстый ковер на желтом линолеуме — красный в крапинку, настоящий дорогой ковер, который, насколько известно Малин, принесла сюда сама Карин. Он придает комнате, несмотря на царящий здесь беспорядок, благородный и уютный вид.
Карин сидит за письменным столом, такая же неправдоподобно свежая, как всегда.
Она приглашает Малин сесть, и та опускается на маленькую скамеечку прямо у двери.
— Я получила ответ из Бирмингема, — говорит Карин, — и сверила их результат с данными Бенгта Андерссона. Они не совпадают. Это не он изнасиловал свою сводную сестру в лесу.
— Кто это был, мужчина или женщина?
— Это мы не можем определить. Но знаем, что это был не он. Ты так и думала?
Малин качает головой.
— Нет, но теперь мы знаем.
— Теперь мы знаем, — повторяет Карин, — и братья Мюрвалль могут узнать. Ты думаешь, что кто-то из них убил Бенгта Андерссона? И может, он признается теперь, когда поймет, что совершил ошибку?
Малин улыбается.
— Чему ты улыбаешься?
— Ты сильна в химии, Карин, — отвечает Малин, — но в людях ты разбираешься гораздо хуже.
Обе женщины замолкают.
— Почему ты не могла сказать это по телефону? — спрашивает Малин.
— Я хотела сообщить с глазу на глаз. Мне показалось, так будет лучше.
— Почему?
— Малин, ты бываешь такая замкнутая, такая напряженная. И мы часто сталкиваемся с тобой на работе. Разве не приятно один раз увидеться вот так, в спокойной обстановке?
На обратном пути из ГКЛ звонит телефон.
Малин отвечает, пересекая парковку — она идет мимо закрытых ворот гаража, в сторону кустарников, где стоит ее «вольво», припаркованная рядом с глянцево-серым «лексусом» Карин.
Это Туве.
— Привет, дорогая.
— Привет, мама.
— Ты в школе?
— Сейчас перемена между математикой и английским. Мама, ты помнишь, что родители Маркуса собирались пригласить тебя на ужин?
— Помню.
— Можешь сегодня? Они хотят сегодня вечером.
Врачи. Элита.
Они хотят.
Нынешним же вечером.
Или они не знают, что у других тоже бывает плотный график?
— Разумеется, Туве, я могу. Но не раньше семи. Передай Маркусу, что это будет здорово.
Она кладет трубку.
Открывая дверь машины, Малин думает: «Что происходит, когда взрослые лгут своим детям или причиняют им боль? Неужели каждый раз на небе гаснет звезда?»
62
— Остался ли хоть один камень, под который мы еще не заглянули? — спрашивает Зак.
— Не знаю, — отвечает Малин. — Я не вижу картину в целом. Только отдельные куски, которые не складываются.
Стрелка часов на кирпичной стене медленно приближается к двенадцати.
В офисном помещении участка почти пусто. Зак сидит за своим столом, Малин на стуле рядом.
В отчаянии? Мы?
Мы всего лишь в сомнениях.
Бесконечное заседание, посвященное состоянию расследования, началось сразу после того, как Малин вернулась из ГКЛ.
И сразу с плохих новостей.
С места по длинную сторону стола доносится невеселый голос Юхана Якобссона:
— Последние папки в компьютере Рикарда Скуглёфа содержат самые обычные порнографические снимки. Впечатляет, но ничего особенного. Как в журналах. Осталась еще одна с чертовски заумной системой кодирования, но мы работаем над этим.
— Будем надеяться, что она раскроет нам тайну, — сказал Зак, и в его голосе Малин послышалась слабая надежда на то, что теперь-то все закончится.
Они двигаются на ощупь. Пытаются найти тот один-единственный ракурс, который выявит наконец связь. Но как они ни стараются, снова возвращаются к тому, с чего начали. Человек на дереве и люди вокруг него: Мюрвалли, Мария, Ракель, Ребекка. Ритуал, язычество. Валькирия Карлссон, Рикард Скуглёф и некоторая неопределенность в отношении Йимми Кальмвика и Иоакима Свенссона. Какую глупость могли они еще сделать за те несколько часов, на которые обеспечили друг другу алиби?
— Все это мы знаем, — сказал Свен Шёман. — Вопрос в том, можем ли мы извлечь из этого нечто большее? Есть ли нам куда двигаться? Видим ли мы какие-нибудь следы?
Тишина в зале — долгая, мучительная.
Потом заговорила Малин:
— Может, нам стоит все-таки рассказать братьям, что Бенгт Андерссон не насиловал их сестру? И когда они это узнают, всплывет что-нибудь новое?
— Сомнительно. Малин, ты сама-то в это веришь? — спросил Свен.
Малин пожала плечами.
— Мы отпустили их, — напомнил Карим. — И не можем задержать снова только ради этого. А если мы приедем к ним поговорить, не имея ничего другого, новые обвинения в преследовании семьи Мюрвалль гарантированы. Скандал нам сейчас совершенно не нужен.
— И ничего нового? Никаких звонков? — с надеждой спросил Юхан.
— Ничего, — ответил Свен. — Все тихо.
— Мы можем снова попросить о помощи, — предложил Юхан. — Кто-нибудь должен что-нибудь знать.
— СМИ сожрут нас с потрохами, — отозвался Карим. — Теперь мы должны выпутываться сами, без посторонней помощи. Нас ославят в прессе — вот все, что из этого получится.
— Управление криминальной полиции? — предложил Свен. — Может, пришло время обратиться к ним? Мы должны признать, что топчемся на месте.
— Не сейчас, не сейчас. — Несмотря на все, голос Карима звучал уверенно.
Они покинули зал заседаний с чувством, будто что-то должно случиться, а им остается только следить за развитием событий, выжидать. Тот или те, кто повесил Бенгта Андерссона на дереве, каким-то образом обнаружат себя снова.
Но что, если он или они навсегда останутся в тени? Что, если это один-единственный случай?
Тогда они увязли.
И все голоса в расследовании уже смолкли.
Но Малин помнит, что чувствовала там, у дерева: не все пока стихло, что-то еще движется там, в лесах и на измученной морозом равнине.
Тем временем стрелка на часах незаметно подошла к двенадцати.
— Обед? — тут же предлагает Малин.
— Нет, — быстро отвечает Зак. — У меня репетиция с хором.
— Сейчас? В обеденное время?
— Да, через несколько недель у нас концерт в кафедральном соборе, и мы решили устроить несколько дополнительных встреч.
— Концерт? Ты об этом ничего не говорил. Дополнительных встреч? Звучит как в хоккее.
— Не дай бог! — восклицает Зак.
— А мне можно прийти?
— На репетицию?
— Да.
— Конечно. — Зак явно озадачен. — Разумеется, можно.
В конференц-зале городского музея душно, но хористам, похоже, комфортно в этом просторном помещении. Сегодня их двадцать два. Малин подсчитала: тринадцать женщин и девять мужчин. Большинству за пятьдесят. Все они тщательно причесаны и одеты в нарядные национальные костюмы местного типа: цветные рубашки и блузы, жакеты и юбки.
Они выстроились на сцене в три ряда. Позади них, подвешенное к сводам потолка, красуется огромное полотнище с вышитыми птицами, будто готовыми вот-вот взлететь и устремиться в зал. Малин сидит в заднем ряду, рядом с дубовой панелью, и слушает, как хористы распеваются, болтая и пересмеиваясь. Зак оживленно беседует с женщиной его возраста, высокой блондинкой в синем платье.
«Очаровательна, — замечает про себя Малин. — Как и ее платье».
Но вот женский голос объявляет:
— Итак, начинаем. «People get ready…»[50]
Словно по команде, ряды хористов выравниваются. Они прокашливаются в последний раз, и на лицах появляется сосредоточенное выражение.
— Раз, два, три…
И вот зал наполняется пением, гармонией звуков. Малин удивляется их спокойствию и силе и тому, как это красиво получается, когда двадцать два голоса сливаются в один.
«You don’t need no ticket, you just get on board…»[51]
Малин откидывается на спинку стула, прикрывает глаза, позволяя музыке захватить себя. А когда она снова смотрит на сцену, начинается новая песня.
Она видит, что Заку и другим хористам по-настоящему хорошо там, на сцене, где они просто соединяются в песне в одно целое.
Внезапно Малин пронизывает острое чувство собственного одиночества. Она не принадлежит этому целому, но знает, что это единение важно, а причина ее собственной отчужденности находится за пределами этого зала.
Где-то там есть дверь.
И она заперта.
63
Преступления.
Малин, когда это все началось? Когда закончится? Или это движение по кругу? Становится ли зла больше с течением времени или его количество постоянно? Распределяется ли оно заново с рождением каждого человека или его накапливается все больше?
Вот над чем стоит мне поразмыслить, летая над этой землей.
Я вижу дуб, на котором меня подвесили.
Здесь так одиноко. Вероятно, дереву нравилось мое общество.
Мячи. Я ловил их и бросал обратно, а они возвращались снова и снова.
Мария?
Ты знала?
В этом ли была причина твоей доброты? Родственная связь между нами сыграла здесь роль? Я так не думаю.
Воздух надо мной и воздух подо мной, я отдыхаю в своей собственной пустоте. И мертвые вокруг меня шепчут: «Продолжай, Малин, продолжай».
Это еще не конец.
И я опять чувствую страх.
Должен же быть какой-нибудь выход?
Должен быть.
Просто спроси женщину там, внизу. Женщину, к которой сзади подкрадывается человек, одетый в черное, прячась за рядами кустарников.
Ранний вечер тих и холоден. Темно. Ворота гаража никак не хотят открываться. Они скрипят и щелкают, и звук будто застревает в стынущем воздухе. Она снова нажимает кнопку на стене. Ключ на месте, и электричество, во всяком случае, есть.
Позади нее жилые дома, мерзлая растительность. В большинстве окон горит свет, почти все вернулись с работы. Ворота гаража не поддаются. Придется открывать вручную. Как-то раз она уже делала это. Тяжело, но получается, а ей надо спешить.
Шорох в кустах за спиной. Птица? В это время года? Может, кошка? Но и они в такой холод не гуляют.
Она оборачивается и тут видит его, черную тень, которая устремляется к ней, делает два-три шага — и потом набрасывается. Она машет руками, кричит, но никто не слышит. Ощутив во рту какой-то неестественный химический привкус, она рвется и отбивается, но варежки смягчают удары, делая ее борьбу похожей скорее на любовную ласку.
А вы глядите из своих окон.
Смотрите, что происходит.
У него — ведь это наверняка он — черный капюшон. Она видит темно-карие глаза, наполненные злобой и болью. Но сейчас ее мозг пропитан химическим запахом. Сознание живое, ясное, но она исчезает, мышцы расслабляются, и она больше не чувствует своего тела.
Она может видеть, но у нее двоится в глазах.
Она видит человека, людей, стоящих вокруг. Вас несколько?
Нет, постойте, только не здесь.
Бороться бесполезно. Как будто все уже случилось и она побеждена.
Глаза.
Его, ее, их?
«Они не здесь, — думает она. — Глаза где-то там, далеко, в другом месте».
Сладковатое и жаркое дыхание. Оно должно казаться чужим, но это не так.
Потом химические испарения добираются до зрения и слуха. Звуки и образы исчезают, мир исчезает, и она не знает, просто спит или уже умерла.
«Не сейчас, не сейчас, — думает она. — Ведь я все еще нужна. Его лицо там, дома, мое лицо. Не сейчас, не сейчас».
Она не спит.
Она знает это. Потому что глаза открыты, а голова болит, хотя все вокруг как в тумане. Или все же это сон? Мысли спутались.
Я мертва?
И это моя могила?
Я не хочу оставаться здесь. Хочу домой, к своим. Но не боюсь. Почему я не боюсь?
Это, должно быть, гудит мотор. Мотор в хорошем состоянии делает свою работу с радостью, несмотря на мороз. Она чувствует жжение на запястьях и в ногах. Ими не получается пошевелить, зато можно лягаться, выгибая тело дугой, биться о четыре стены, ограничивающие это тесное пространство.
Или мне закричать?
Конечно. Но кто-то — он, она или они — залепил ей рот скотчем, и тряпка упирается в небо. Какой у нее вкус? Печенье? Яблоко? Масло? Сухо, суше, совсем сухо.
Я могу бороться.
Я всегда это делала.
И я не мертва. Я лежу в багажнике автомобиля и мерзну, лягаюсь, протестую.
Тук-тук-тук.
Слышит ли меня кто-нибудь? Я еще существую?
Я тебя слышу.
Я твой друг. Но ничего не могу сделать. Во всяком случае, не так много.
Возможно, мы увидимся потом, когда все это закончится. Мы будем парить рядом, бок о бок. Сможем любить друг друга. И бегать, бегать вокруг яблонь, источающих аромат, в то время года, которое, вероятно, и называют вечный летом.
Но это потом. А сейчас…
…автомобиль мчится вперед, и ты лежишь в багажнике. Вот он останавливается на пустынной стоянке, и ты получаешь новую порцию «химии». Слишком активно работаешь ногами, а автомобиль пересекает поле, все дальше и дальше погружаясь в непроницаемую темноту.
64
Рамсхелль.
Самая светлая, парадная сторона Линчёпинга.
Вероятно, это лучшая часть города, куда закрыта дверь для большинства, и здесь живут самые известные люди.
«Потому что таков человек, — думает Малин. — Сознательно или бессознательно, при каждом удобном случае он напускает на себя важный вид, будь то в большом или в малом».
Смотрите, мы живем здесь!
У нас есть средства, мы короли округа 0–13.
Дом родителей Маркуса находится в Рамсхелле. Среди домов директоров «Сааба», удачливых предпринимателей, хорошо обеспеченных докторов и успешных деятелей малого бизнеса.
Эти дома расположены неподалеку от центра Рамсхелля, они поднимаются по склону холма с видом на стадионы «Фолькунгаваллен» и «Тиннис». Большой муниципальный бассейн на открытом воздухе, на который бросают жадные взгляды торговцы недвижимостью со всех концов страны. У подножия склона строения пропадают в лесу или сворачивают на маленькие улочки внизу, где струится река Тиннербекен и начинаются грязно-желтые коробки больничных корпусов. Лучше всего жить на склоне, ближе к городу и с видом на него, и именно там стоит дом родителей Маркуса.
Малин и Туве идут бок о бок, в свете уличных фонарей отбрасывая длинные тени на аккуратно присыпанные гравием тротуары. Конечно, местным жителям хотелось бы выстроить забор вокруг своего района, может, даже с колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток, и охранником у ворот. Идея закрытых районов не чужда кое-кому из консерваторов в городском совете, и забор вокруг Рамсхелля не так уж немыслим, как может показаться.
Стоп. Здесь и не далее. Мы и они. Мы против них. Мы.
От их дома до Рамсхелля идти пешком не более пятнадцати минут, и поэтому Малин решила пройтись по морозу, несмотря на заявление Туве: «Я пойду за тобой. И мы будем вместе».
— Я помню, ты говорила, что это должно быть здорово?
— Это будет здорово, Туве.
Они проходят мимо виллы Карин Юханнисон — желтого здания постройки тридцатых годов с деревянным фасадом и верандой.
— Холодно, — жалуется Туве.
— Свежо, — уточняет Малин.
С каждым шагом она чувствует, как беспокойство проходит и крепнет уверенность, что все пройдет хорошо.
— Мама, ты нервничаешь, — вдруг замечает Туве.
— Нервничаю?
— Да, из-за этого.
— Нет, почему я должна нервничать?
— Ты всегда нервничаешь в таких случаях, когда мы идем к кому-нибудь. А ведь это доктора.
— Какая разница кто.
— Там. — Туве показывает вперед по улице. — Третий дом слева.
Малин видит двухэтажное здание из белого кирпича с подстриженными кустами в саду, окруженное невысокой оградой.
Но сейчас ей представляется не дом, а укрепленный тосканский город, который не под силу взять одинокому пехотинцу.
Внутри тепло, пахнет лавровым листом и такая чистота, какую может навести только старательная польская горничная.
Чета Стенвинкель стоит в прихожей. Они пожали Малин руку так, что теперь ее, не готовую к столь безудержному излиянию дружелюбия, качает из стороны в сторону.
Мама Биргитта — главврач отоларингологической клиники, хочет, чтобы ее называли Бигган, «ей та-а-ак приятно на-а-аконец познакомиться с Малин, о которой они столько читали в „Корреспондентен“». Папа Ханс — хирург, хочет, чтобы его называли Хассе: «Надеюсь, вы ничего не имеете против фазана? Я раздобыл пару превосходных экземпляров внизу, у „Лукуллуса“».
«Стокгольмцы, верхушка среднего класса, — отмечает про себя Малин. — Переехали сюда, в глушь, чтобы делать карьеру».
— Вы не из Стокгольма? — спрашивает она.
— Из Стокгольма? Что, похоже? Нет, я из Буроса, — отвечает Бигган. — А Хассе из Энчёпинга. Мы познакомились во время учебы в Лунде.
«Я уже знаю их историю, — думает Малин, — а мы еще не вышли из прихожей».
Маркус и Туве скрылись где-то в глубине дома, а Хассе ведет Малин на кухню.
На стойке из сверкающей нержавеющей стали виден запотевший шейкер, и Малин капитулирует, отказавшись от всякой мысли о сопротивлении.
— Бокал мартини? — спрашивает Хассе, а Бигган добавляет:
— Только будьте осторожны. Он делает его very dry.[52]
— Добавить «Танкерей»?[53]
— С удовольствием, — соглашается Малин.
Минуту спустя они чокаются. Мартини чистый и прозрачный, и она стоит с бокалом в руке, думая, что он, Хассе, во всяком случае, понимает толк в напитках.
— Аперитив мы обычно пьем на кухне, — говорит Бигган. — Здесь так уютно.
Хассе стоит у плиты. Жестом он подзывает к себе Малин, другой рукой одновременно снимая крышку с черного, видавшего виды чугунного котелка.
Запах ударяет Малин в лицо.
— Смотрите сюда, — показывает Хассе. — Где вы еще видели такие лакомые кусочки?
Два фазана плавают в булькающем желтом соусе, и у Малин тут же желудок сжимается от голода.
— Ну что?
— Выглядит просто фантастически.
— О-о-опс — и все кончено! — говорит Бигган, и Малин сначала не понимает, что она имеет в виду, но потом видит пустой бокал в ее руке.
— Я сделаю еще. — И Хассе трясет шейкером.
— У Маркуса есть брат или сестра? — спрашивает Малин.
Хассе резко опускает шейкер, Бигган улыбается:
— Нет. Мы долго пытались, но в конце концов пришлось сдаться.
Хассе снова гремит кусочками льда в шейкере.
65
Ее голова.
Она тяжела, и такая боль, словно кто-то разделывает мозговые полушария фруктовым ножом. Такую боль нельзя чувствовать, когда спишь. Во сне нет физической боли. За это мы и любим его так, сон.
Нет, нет, нет.
Теперь она припоминает.
Но где мотор? Автомобиль? Она больше не в автомобиле.
Стоп. Пусти меня. Кое-кому я еще нужна.
Сними повязку с моих глаз. Сними ее. Может быть, нам стоит поговорить? Почему именно я?
Здесь пахнет яблоками? Что это у меня на пальцах, земля? Что-то жесткое и в то же время теплое. Крошки печенья?
Трещит огонь в очаге.
Она бьет ногой в ту сторону, откуда идет тепло, но там пусто. Она упирается во что-то спиной, но не может сдвинуть это с места. Только глухой звук и вибрация по всему телу.
Я… я… где я?
Я лежу на холодной земле. Это могила? Значит, я все-таки мертва? Помогите, помогите…
Но мне тепло, и если бы я лежала в гробу, вокруг бы было дерево.
К черту эти веревки.
И тряпку изо рта.
Может, они лопнут, веревки? Если подергать туда-сюда…
И повязка падает с ее глаз.
Дрожащий свет. Подземные своды? Земляные стены? Где я? Это пауки и змеи роются вокруг меня?
Лицо. Лица?
На них лыжные маски.
Глаза. Но взглядов не уловить.
Теперь они снова пропали, лица.
Тело болит. Но это только начало, ведь так?
Если бы я мог что-нибудь сделать.
Но я бессилен.
Я могу только наблюдать, и я должен это делать — может, мой взгляд хоть чуть утешит тебя.
Я останусь, хотя предпочел бы повернуться и исчезнуть в любом из множества мест, куда я могу уйти.
Но я останусь — с любовью и страхом, со всеми чувствами. Ты еще не закончил, но надо ли тебе продолжать? Ты думаешь, это произведет на них впечатление?
Это больно, я знаю, я сам прошел через это. Остановись, остановись, говорю я тебе. Но знаю, ты не можешь слышать мой голос. Или ты думаешь, ее боль должна заглушить другую боль? Или надеешься, что ее боль откроет двери?
Я так не думаю.
И поэтому взываю к тебе:
Остановись, остановись, остановись…
Это я сказала «остановись»?
Но как мог звук вырваться из моего рта, заклеенного скотчем, с куском ткани, плотно прижатым к небу?
Теперь она голая. Некто сорвал с нее одежду, распоров швы ножом, а теперь подносит стеариновую свечу к ее плечам. Ей страшно, а голос шепчет: «Это должно, должно, должно произойти».
Она пытается кричать, но словно не умеет.
Некто подносит свечу все ближе и ближе, и жар становится нестерпимым. Шипение ее тлеющей кожи — вот крик ее боли. Она дергается туда и сюда, но не в силах сдвинуться с места.
— Может, мне сжечь тебе лицо?
Это говорит тот невнятный голос?
— Думаю, этого будет достаточно и мне уже не потребуется убивать тебя. Ведь без лица ты будешь не совсем ты, так?
Она кричит, кричит. Беззвучно.
Другая щека. Горит скула. Круговыми движениями. Красный, черный, красный — цвета боли. Запах жженой кожи, ее кожи.
— Может, лучше ножом? Подожди минутку. Только не падай в обморок, не спи, — бормочет голос, но она уже далеко.
Лезвие горит, боль исчезла, в теле пульсирует адреналин, и остается лишь одно — страх, что ей никогда больше не вырваться отсюда.
Я хочу домой, к своим.
Он, должно быть, беспокоится, где я. Как долго я здесь? Они должны уже хватиться меня.
Нож холоден и притом горяч. Что это такое теплое струится у меня по бедрам? Как будто дятел стальным клювом стучит мне в грудь, добирается до бедер, клюет меня. Дай мне исчезнуть, у меня горит лицо, когда по нему бьют, напрасно пытаясь вернуть мне сознание.
Ничего не получается.
Я все-таки исчезаю.
Хотите вы того или не хотите.
Сколько же времени прошло? Я не знаю.
Что это гремит, цепи?
А теперь я стою у столба.
И вокруг меня лес.
Я одна.
Где ты, вы? Исчезли? Не оставляйте меня здесь одну.
Я плачу.
Я слышу это.
Но я не мерзну и удивляюсь, когда это мороз перестал действовать? Когда это боль перестала мучить?
Как долго я уже вишу здесь?
Вокруг меня густой лес, темный и в то же время белый от снега, небольшая просека и дверь, ведущая вниз, в землянку.
У меня нет ног. Ни рук, ни пальцев, ни щек.
Мои щеки — две прожженные дыры, и все вокруг меня лишено запаха.
У меня больше нет воспоминаний, никаких других людей не существует, нет ни будущего, ни прошлого. Есть только настоящее, и здесь у меня только одна задача.
Прочь.
Прочь отсюда.
Это все, что остается.
Прочь, прочь, прочь.
Любой ценой. Но как же мне убежать, если у меня нет ног?
Кто-то приближается снова.
Или это ангел?
Только не в этой темноте.
Нет, приближается некто черный.
— То, что я делал…
Это он сказал?
— Я должен сделать это, — так говорит черный.
Она пытается посмотреть вперед, но ничего не выходит. Она собирается с силами и медленно, медленно поднимает голову, а черный теперь близко, и он держит за спиной котелок. Ей слышится, будто кто-то ревет, когда он плещет ей в лицо кипятком.
Но нет, никакого кипятка. Лишь несколько теплых капель долетает до нее.
Но вот черный появляется снова.
С веткой в руке?
Что он будет делать?
Мне закричать?
Я кричу.
Но не для того, чтобы меня слышали.
66
В столовой горят свечи, а на стене, за спиной Хассе и Туве, висит большое полотно художника по имени Йокум Нордстрём, ставшего, по словам Бигган, важной шишкой в Нью-Йорке. Картина представляет чернокожего мужчину в одежде мальчика на синем фоне. Малин она кажется наивной и серьезной одновременно. Мужчина одинок, и в то же время там, на синем фоне, он как бы на своем месте. А в небе парят гитары и бильярдные кии.
Фазаны хороши, но вино еще лучше — красное, из какой-то неизвестной Малин области Испании. Малин собирает в кулак всю силу воли, чтобы не выпить его залпом, такое оно вкусное.
— Еще фазана? — Хассе показывает на котелок.
— Возьмите еще, — советует Маркус, — папа будет счастлив.
За вечер успели поговорить обо всем: от работы Малин до тренировок в спортивном зале, о реорганизации больницы, о коммунальной политике и у-у-ужасно скучных мероприятиях в городском концертном зале.
Хассе и Бигган вежливы и искренне интересуются всем. Как Малин ни прислушивалась, так и не смогла уловить ни одной фальшивой нотки. «Похоже, они рады нам и мы не мешаем им, — думает Малин и делает глоток вина. — И они знают, как заставить меня расслабиться».
— Хорошая идея насчет Тенерифе, — говорит Хассе, и Малин смотрит на Туве через стол.
Та опускает глаза.
— Билеты уже забронировали? — спрашивает Хассе. — Нам нужен номер счета, чтобы перечислить деньги. Напомните мне, хорошо?
— Я… — начинает Туве.
Малин прокашливается.
Бигган и Хассе смотрят на нее с беспокойством, а Маркус поворачивается к Туве.
— Мой пана передумал, — говорит Малин. — К сожалению, у них будут другие гости.
— Но это их собственная внучка! — восклицает Бигган.
— Почему ты ничего не сказала? — обращается Маркус к Туве.
Малин качает головой:
— Мои родители — люди со странностями.
Туве облегченно вздыхает. Но Малин замечает: ей стыдно за то, что она так и не смогла сказать простой правды, что именно Маркус на Тенерифе нежеланный гость.
«Почему я лгу? — спрашивает себя Малин. — Чтобы кого-то не разочаровать? Потому что мне стыдно за моих невоспитанных родителей? Потому что правда горька?»
— Интересно, — спрашивает Хассе, — кого это можно предпочесть собственной внучке, да еще с приятелем?
— Это какой-то старый партнер по бизнесу.
— Ну, не беда! — говорит Бигган. — Тогда вы оба можете поехать с нами в Оре,[54] как предлагалось с самого начала. Тенерифе — это прекрасно, но зимой надо кататься на лыжах!
Малин и Туве бредут домой по освещенным улицам.
Рюмка коньяка в довершение ужина развязала Малин язык. Бигган пила, а вот Хассе отказался: ему завтра работать. «Немного мартини, стакан вина — но не более, завтра мне держать в руках нож».
— Ты должна была сразу рассказать обо всем Маркусу.
— Может быть, но я…
— А теперь ты заставила меня солгать. Ты знаешь, что я об этом думаю. А Оре? О том, что они пригласили тебя на Оре, ты не могла сказать? В конце концов, я тебе кто…
— Мама, ты можешь просто помолчать?
— Почему? Я говорю все как есть.
— Ты говоришь глупости.
— Почему ты ничего не сказала насчет Оре?
— Но, мама, ты ведь сама все прекрасно понимаешь. Когда я должна была рассказать? Тебя ведь никогда не бывает дома, ты постоянно работаешь.
«Нет! — хочется крикнуть Малин. — Нет! Ты не права!» Но она берет себя в руки. «Разве все так уж плохо?» — думает она.
Они шагают мимо стадиона «Тиннис» и отеля «Экуксен».
— Ты что-то хотела сказать, мама? — спрашивает Туве, когда они проходят блошиный рынок городской миссии.
— Они приятные люди, — говорит Малин. — Совсем не такие, как я думала.
— Ты, мама, вечно думаешь о людях бог знает что.
67
Я истекаю кровью.
Но некто поднимает меня, снимает со столба и укладывает в мягкую, пушистую постель.
Я живу.
И сердце во мне бьется.
А черные — они повсюду, они укутывают мое тело тканью, шерстяным покрывалом, и я чувствую тепло и слышу его, их голоса.
— Она умерла слишком рано. Но ты должен повесить ее, как было задумано.
И вот надо мной деревья, я еду через лес. Лежу в санях, и это полозья скрипят по насту? Я устала, так устала, и мне тепло.
Это настоящее тепло.
Оно есть и во сне, и наяву.
Но мне не нужно этого тепла.
Оно убивает.
А я не хочу умирать.
И снова звук мотора. Я опять в машине.
И под это неустанное гудение я снова чувствую: мое тело еще кое на что способно, с ним пока не все кончено.
Я дышу.
И я приветствую боль каждой истерзанной частью своего тела, разодранного и кровоточащего изнутри.
Только в боли я сейчас существую, и она поможет мне выжить.
Я парю здесь.
Подо мной раскинулось поле. Между Маспелёсой, Фурносой и Банкебергом, за нерасчищенной дорогой, покрытой лишь тонким слоем снега, стоит одинокое дерево, похожее на то, на котором меня подвесили.
Там останавливается автомобиль с женщиной в багажнике.
Я хотел бы сейчас помочь ей.
В том, что она сделает сама.
Черный откроет багажник и поможет мне выбраться наружу. А потом я стану как мотор. Я взорвусь, убегу, я буду жить.
Черный открывает крышку, переваливает мое тело через край багажника и кладет на снег рядом с выхлопной трубой.
И там оставляет.
Толстый ствол дерева, до него метров десять.
Камень припорошило снегом, но я его вижу. А это мои руки, и они свободны? Но неужели этот распухший красный комок слева — моя рука?
А черный сейчас стоит рядом. Он шепчет что-то про кровь и жертву.
И если я сейчас повернусь влево, схвачу камень и брошу туда, где должна быть его голова, у меня может получиться. И потом я уйду.
Я мотор, и кто-то сейчас повернул ключ зажигания.
Взрываюсь.
Я снова существую, хватаю камень. Шепот прекращается. Сейчас ударю его, я должна уйти, и я выберусь отсюда — не пытайся мне помешать. Моя воля, та, что сидит глубоко внутри, светлее тех темных дел, на которые способен черный.
Не пытайся…
Я бью черного, и мы с ним катаемся по снегу. Мороза больше нет, черный крепко вцепился в меня, но я взрываюсь еще раз, а потом бью. Камнем по черепу. Черный слабеет и сползает с меня в снег.
Встаю на колени.
Вокруг меня поле, распахнутое во все стороны.
Поднимаюсь.
В темноте, в той, где я была.
Спотыкаясь, бреду к далекому горизонту.
Ухожу.
Я парю здесь, рядом с тобой, блуждающей по равнине. Ты когда-нибудь остановишься, и куда бы ты ни пришла, я буду ждать тебя там.
68
Шестнадцатое февраля, четверг
Юнни Аксельссон положил руки на руль. Он чувствует вибрацию машины: мороз мешает двигателю работать как следует.
Раннее утро.
С полей и лугов метет то в одну, то в другую сторону, дороги почти не видно за клубами снега.
Путь от Муталы до Линчёпинга занимает около пятидесяти минут, и в это время года он, ко всему прочему, опасен: к плохому состоянию трассы добавляется гололедица, как бы дорогу ни посыпали солью.
Нет, надо быть осторожным. Он всегда едет через Фурносу, поскольку считает, что там трасса лучше, чем через Буренсберг.
Никогда ведь не знаешь, кто может выскочить из лесу. Как-то раз он чуть не наехал на косулю, потом на лося.
Во всяком случае, дороги здесь прямые. Это для того, чтобы в случае войны они могли служить взлетно-посадочными полосами.
Война? Разве такое возможно?
Или она уже идет?
Мутала — столица шведской наркомании.
Для тех, кто ищет законный способ заработать, вариантов не много.
Но в Мутале Юнни Аксельссон вырос и не хочет отсюда уезжать. Что значит пара часов в электричке? Эту цену он охотно платит за то, чтобы жить там, где чувствует себя дома. И когда он увидел в газете объявление о вакансии в «ИКЕА», ни минуты не колебался. И когда ему предложили место — тоже. Не быть ни для кого обузой. Работать, приносить пользу. Сколько его старых приятелей живут на подачки? Получают пособие по безработице, хотя потеряли свою работу десять лет назад. Боже мой, нам всего по тридцать пять, как можно даже думать об этом!
Иди и лови рыбу.
Займись охотой, наконец.
Делай ставки на бегах. Плотничай помаленьку.
Юнни Аксельссон проезжает мимо красного жилого дома. Тот стоит недалеко от дороги, и Юнни может разглядеть в окне пожилую пару. Они завтракают, и свет лампы окрашивает их кожу в золотисто-желтый цвет. Они похожи на двух рыб в аквариуме посреди равнины.
«Смотри вперед, — говорит себе Юнни. — Дорога — вот на чем ты должен сейчас сосредоточиться».
Переступив порог полицейского участка, Малин сразу же направляется в буфет. Свежий кофе из автомата.
Она садится за стол возле окна, выходящего во внутренний двор.
Небольшая асфальтированная площадка в это время года всегда завалена снегом. Весной, летом и осенью ее украшают неказистые цветочные клумбы.
Рядом на столе лежит журнал.
Малин протягивает к нему руку.
«Амелия».
Старый номер.
Заголовок: «Ты хорош, каков ты есть».
На следующей странице: «Специальная липосакция от Амелии».
Малин закрывает журнал, поднимается и идет к своему рабочему месту.
Ей бросается в глаза желтый листок на столе, словно восклицательный знак посреди вороха бумаг.
Записка от Эббы с регистрационной стойки.
Малин, позвони по этому номеру. Она сказала, что это важно. 013–173–928.
Больше ничего.
Малин берет записку и идет к регистрационной стойке. Эббы нет на месте, работает одна София.
— Ты не видела Эббу?
— Она на кухне. Пошла выпить кофе.
Малин находит Эббу на кухне. Та сидит за круглым столиком и листает какой-то журнал. Малин показывает записку:
— Что это?
— Звонила какая-то дама.
— Это я и сама вижу.
Эбба морщит нос.
— Она не захотела рассказывать о своем деле, но, насколько я поняла, это важно.
— Когда она звонила?
— Сразу перед тем, как ты пришла.
— И больше ничего?
— Да! — вспоминает Эбба. — Она словно чего-то боялась: говорила неуверенно и все время шепотом.
Малин ищет номер в «Желтых страницах».
Закрытый.
Он защищен, и до него не доберешься без формальностей, которые займут кучу времени.
Малин берет трубку, но никто не подходит, даже автоответчика нет.
Однако минуту спустя раздается звонок.
— Да, это Малин Форс.
— Это Даниэль. Есть что-нибудь новенькое для меня?
Малин охватывает злоба, но потом она становится на удивление спокойной, как будто хотела слышать его голос, и старается не обращать внимания на свои чувства.
— Нет.
— Как ты прокомментируешь обвинения в преследовании?
— Ты спятил, Даниэль?
— Меня не было несколько дней. Ты не хочешь спросить, где я пропадал?
— Нет.
Хочу спросить, хочу не хотеть спрашивать.
— Я был в Стокгольме, в «Экспрессен». Они предлагали мне работу. Но я поблагодарил и сказал «нет».
— Почему?
Вопрос вылетел сам собой.
— Так тебя это все-таки волнует? Никогда не делай того, чего все от тебя ждут, Малин. Никогда.
— Пока, Даниэль.
Она кладет трубку, но тут же раздается новый звонок. Даниэль? Нет.
На дисплее неизвестный номер. На другом конце провода молчание.
— Форс. С кем я говорю?
Вздохи, в которых чувствуется нерешительность. Может, страх. Наконец раздается женский голос, мягкий, но беспокойный, как будто сообщающий что-то запретное:
— Да…
Малин ждет.
— Мое имя Вивека Крафурд.
— Вивека, я…
— Я работаю психоаналитиком здесь, в Линчёпинге. Речь пойдет об одном из моих пациентов.
Малин инстинктивно хочет попросить женщину замолчать. Она ничего не желает знать об этом пациенте, так же как и женщина не желает о нем рассказывать.
— Я читала, — продолжает голос, — о том деле, которым вы сейчас занимаетесь, об убийстве Бенгта Андерссона.
— Вы сказали…
— Я думаю, что один из моих пациентов… я должна кое о чем вам рассказать.
— Что за пациент?
— Вы понимаете, этого я сказать не могу.
— Тем не менее нам стоит поговорить?
— Не уверена. Но приходите ко мне в кабинет сегодня к одиннадцати часам. Дроттнинггатан, дом три, напротив «Макдоналдса». Код подъезда девяносто четыре девяносто.
Вивека Крафурд кладет трубку.
Малин смотрит на монитор. Часы показывают 07.44. Еще три часа с четвертью.
Мартини, вино и коньяк. Она чувствует себя какой-то опухшей.
Поднявшись, Малин направляется к лестнице в спортзал.
Сколько я уже так иду?
Рассвело, но все-таки еще не день. Я бреду через поле, совершенно не представляя, где сейчас нахожусь.
Вся я — сплошная рана, но благодаря морозу не чувствую своего тела.
Я с трудом передвигаю ноги и не могла далеко уйти. За мной гонятся? Черный очнулся? Может, он близко?
И этот цвет, это черный едет в своем автомобиле? Это мотор темноты?
Выключите свет.
Он ослепляет меня. Подумайте о моих глазах. Может быть, это последнее, что у меня осталось.
«Глаза на дороге, — думает Юнни Аксельссон. — Глаза. Мне бы такие — доехал бы точно».
Прямо из леса.
Хорошо, что здесь открытое поле, но ветер и мороз затрудняют видимость, как будто дыхание земли, встречаясь с холодной атмосферой, превращается в пар.
Глаза.
Косуля.
Нет.
Но…
Но что же это, черт возьми?
Юнни Аксельссон снижает скорость, мигает фарами, чтобы отпугнуть выскочившую из кювета косулю. Но это не косуля, это, это…
Что это?
Человек? Голый человек? И, черт, черт возьми, как он выглядит…
И что он здесь делает? На равнине. Вот так. Утром.
Юнни Аксельссон проезжает мимо, останавливается и смотрит в зеркальце заднего вида. Это женщина. И она не обращает на машину никакого внимания, просто движется вперед.
«Подожди», — думает он.
Юнни торопится на работу, на склад «ИКЕА». Но женщину нельзя оставлять здесь. Это совершенно неправильно.
Он открывает дверцу. Тело еще помнит, каково там, снаружи, и поэтому он медлит, прежде чем броситься вдогонку за женщиной.
Он кладет руки ей на плечи. Она останавливается и оборачивается. Ее щеки. Они обгорели или отморожены? Есть ли у нее кожа на животе и как она вообще может идти своими ногами, черными, как виноград у него дома в саду?
Она смотрит куда-то мимо.
А потом прямо ему в глаза.
Она улыбается.
В ее глазах свет.
А потом падает ему на руки.
Двенадцатикилограммовые гантели упорно тянутся к полу, как ни пытается она поднять их.
Черт, какие тяжелые. Но нужно выдержать и повторить упражнение хотя бы десять раз.
Рядом Юхан Якобссон, он пришел сразу после Малин и сейчас подбадривает ее, будто желает, как и она, отогнать грустные мысли.
Юхану удалось вчера открыть последнюю папку из компьютера Рикарда Скуглёфа. Дома, когда дети уснули. В ней не оказалось ничего, кроме фотографий самого Рикарда Скуглёфа и Валькирии Карлссон в разных видах. Их тела были украшены узорами, напоминающими татуировку.
— Давай, Малин.
Она поднимает гантели, отжимается.
— Давай же, черт.
Но сил больше нет.
Она роняет их на пол.
Раздается глухой стук.
— Я немного побегаю, — говорит Малин Юхану.
Пот стекает у нее со лба. Последствий вчерашнего ужина как не бывало. Она делает шаг за шагом по беговой дорожке.
Малин смотрит в зеркало на себя, бегущую. Видит, какая она бледная, как струится по лицу пот и как раскраснелись щеки от напряжения.
Лицо тридцатитрехлетней женщины. И губы как будто полнее, чем обычно.
Кажется, за последние несколько лет ее лицо обрело наконец свою форму и кожа легла на скулах так, как надо. Все девчоночье, что было в ней раньше, пропало навсегда, исчезло без остатка за несколько последних напряженных недель. Она смотрит на часы на стене. 09.24.
Юхан только ушел.
Пора и ей под душ, а потом ехать к Вивеке Крафурд.
Звонит внутренний телефон.
Малин бегом пересекает комнату и берет трубку.
Это Зак. Он взволнован.
— Звонили из отделения скорой помощи в больнице. Некто Юнни Аксельссон приехал с женщиной, которую нашел на равнине голой и искалеченной.
— Я сейчас буду.
— Она в тяжелом состоянии и, по словам врача, с которым я говорил, как будто шептала твое имя.
— Что ты сказал?
— Малин, женщина шептала твое имя.
69
Вивека Крафурд подождет.
Все подождут.
Кроме троих.
Бенгта Андерссона.
Марии Мюрвалль.
И теперь еще этой женщины, которую нашли примерно в таком же виде.
Жертва бежала из черных лесов в белые поля.
Так где же источник насилия?
Скорость — семьдесят километров в час, на сорок больше допустимой. Магнитофон молчит, слышится только нервное, раздражающее гудение мотора. Они едут окружным путем: на дороге ведутся работы, кажется, лопнула труба. Улица Юргордсгатан. Деревья на территории садоводческого товарищества ощетинились серыми ветками и искрятся на солнце. Ласареттсгатан и розовые многоэтажки постройки восьмидесятых.
Постмодернизм.
Малин читала серию статей об архитектуре города в «Корреспондентен». Это слово показалось ей смешным, но она поняла, что автор имел в виду.
Они сворачивают к зданию больницы. Желтые панели фасада административного корпуса выгорели на солнце, но деньги, выделяемые ландстингом,[55] нужны на другое.
Автомобиль сворачивает на островок безопасности. Малин и Зак знают, что так нельзя, что его следовало бы обогнуть, но именно сейчас на это нет времени.
И вот они у подъезда корпуса скорой помощи. Тормозят, поворачивая на кольцо. Паркуются и бегут в приемный покой.
Их встречает медсестра — низенькая, коренастая женщина с близко посаженными глазами и острым носом.
— Доктор хочет встретиться с вами, — говорит она, ведя их по коридору мимо пустых больничных палат.
— Что за доктор? — спрашивает Зак.
— Доктор Стенвинкель, хирург, который будет ее оперировать.
«Хассе», — думает Малин.
Первое, что она чувствует, — нежелание встречаться с отцом Маркуса на службе. Но потом понимает, что теперь это не важно.
— Я знаю его, — шепчет она Заку, следуя вместе с ним за медсестрой.
— Кого?
— Врача. Так что будь готов. Это отец приятеля Туве.
— Все в порядке.
Медсестра останавливается перед закрытой дверью.
— Вы можете войти. Стучаться не надо.
Сегодня Ханс Стенвинкель совсем не похож на себя вчерашнего. Куда подевались его легкость и общительность? Он сидит перед ними, одетый во все зеленое, строгий, серьезный и собранный. Он весь — профессионализм и компетентность.
Сухо здоровается с Малин, хотя и называет ее по имени. «Да, мы друг друга знаем, но нам предстоит важная работа» — таков подтекст его приветствия.
Зак ерзает на стуле. Очевидно, вид этого помещения производит на него впечатление. Какое достоинство придает человек в зеленом этим стенам с белыми ткаными обоями, книжным полкам из дубовой фанеры, простому письменному столу с потертой поверхностью.
«Вот так оно было раньше, — думает Малин, — когда люди испытывали к врачу особое уважение. А потом Интернет сделал всех экспертами по всем недугам».
— Она только что поступила, — говорит Хассе. — В сознании, но ей надо скорее дать наркоз, тогда мы сможем посмотреть ее раны. Потребуется пересадка кожи. Здесь такое возможно. Мы лучшее ожоговое отделение в стране.
— А обморожения? — спрашивает Зак.
— Да, и обморожения. Но с медицинской точки зрения это почти одно и то же. Она не могла попасть в лучшие руки, чем наши, поверьте.
— Кто она?
— Этого мы не знаем. Но она говорит, что хочет видеть вас, Малин, значит, вы, наверное, знаете, кто она.
Малин кивает.
— Тогда мне лучше с ней увидеться. Если можно. Мы должны узнать, кто это.
— Я думаю, она выдержит короткий разговор.
— У нее сильные повреждения?
— Да, — отвечает Ханс. — Совершенно точно, она не могла изувечить себя так сама. Она потеряла много крови. Мы сделаем переливание. У нее адреналиновый шок. Ожоги, обморожения, колотые, резаные раны, насколько я успел разглядеть, дробления, сильные повреждения во влагалище. Это чудо, что она не потеряла сознание и кто-то вовремя ее нашел. Остается вопрос, что за монстр разгуливает по равнине?
— Как долго она находилась на морозе?
— Как минимум всю ночь. Обморожения тяжелые. Но думаю, нам удастся спасти большую часть пальцев на руках и ногах.
— Повреждения задокументированы?
— Да, все так, как вам нужно.
По голосу Ханса чувствуется, что он делал это и раньше. С Марией Мюрвалль?
— Хорошо, — говорит Зак.
— А что за мужчина ее привез?
— Он оставил свой телефон. Работает в «ИКЕА». Мы хотели задержать его, но он сказал: «Дух Ингвара не любит, когда опаздывают». Мы не могли помешать ему уйти.
Ханс смотрит Малин в глаза.
— Предупреждаю вас: она выглядит, будто прошла через чистилище. Это страшно. Надо иметь невероятную силу воли, чтобы пережить то, что пережила она.
— В человеке просыпается нечеловеческая воля, когда ему нужно выжить, — говорит Зак.
— Не всегда, не всегда, — возражает Ханс, голос его звучит задумчиво и печально.
Малин кивает, как бы в подтверждение: она знает, что он имеет в виду. «Но знаю ли я?» — спрашивает она себя.
«Кто она?» Малин открывает дверь в палату, Зак остается ждать снаружи.
Единственная кровать у стены. Слабый свет, пробивающийся сквозь жалюзи, тонкими полосками ложится на серо-коричневый пол. Осциллограф мигает беззвучно и ритмично. На его дисплее два маленьких огонька, словно барсучьи глаза, глядящие из темноты. Капельницы с кровью и физраствором, трубка катетера. И фигура под тонким желтым покрывалом. Голова покоится на подушке.
Кто это?
Щека скрыта под слоем бинтов.
Но кто она?
Малин осторожно приближается, и фигура на постели издает стон, поворачивая к ней голову. Малин кажется, что в просвете между бинтами мелькает улыбка.
Руки, завернутые в марлю.
Глаза.
Она узнает их.
Но кто?
Улыбка исчезает. Малин смотрит на ее нос, глаза, волосы и вдруг вспоминает.
Ребекка Стенлунд.
Сестра Бенгта Андерссона.
Она поднимает забинтованную руку, делает жест в сторону Малин.
И этим жестом, полным невероятного напряжения, она говорит все. К нему больше нечего добавить, словно это последнее, что она хочет сказать.
— Ты должна позаботиться о моем мальчике, если я не выберусь. Проследи, чтобы с ним все было хорошо.
— Ты выберешься.
— Я постараюсь, уж поверь мне.
— Что случилось? Ты можешь рассказать, как все было?
— Автомобиль.
— Автомобиль?
— Он забрал меня.
Ребекка Стенлунд крутит головой, пытаясь поудобнее расположить свою забинтованную щеку на подушке.
— Потом землянка. В лесу. И столб.
— Землянка? Где?
— В темноте.
— Где в темноте?
Ребекка закрывает глаза, как бы пытаясь сказать этим: «Я не знаю».
— Потом?
— Сани и автомобиль. Снова.
— Кто?
Ребекка Стенлунд чуть заметно качает головой.
— Ты не видела?
То же движение.
— Меня хотели повесить, как Бенгта.
— Их было несколько?
Ребекка снова качает головой.
— Не знаю, я не уверена.
— А тот, кто привез тебя сюда?
— Он помог мне.
— То есть ты ничего не видела…
— Я ударила черного, я ударила черного, я…
Ребекка закрывает глаза, продолжая бормотать:
— Мама, мама, можно нам побегать среди яблонь?
Малин склоняется ухом к самому ее рту.
— Что ты сказала?
— Останься, мама, останься, ты не больна…
— Ты слышишь меня?
— Мальчик, возьми…
Ребекка замолкает. Но она дышит, ее грудная клетка движется.
Спит она или бредит? «Может, это ей снится?» — думает Малин. Она надеется, что еще много ночей Ребекка не будет видеть сны, хотя знает, что эта надежда напрасна.
Рядом мигает осциллограф.
Его глаза горят.
Малин поднимается.
Некоторое время она стоит у постели, потом покидает комнату.
70
Зак на пути в «ИКЕА», а Малин поднимается по лестнице дома номер три по улице Дроттнинггатан. В камень ступеней вмурованы ископаемые животные, которым миллионы лет.
В доме четыре этажа, кабинет Вивеки Крафурд на третьем. Лифта нет.
«Психотерапевт Крафурд» — гласит витиеватая надпись на медной табличке, прикрепленной к коричневой двери.
Малин нажимает на ручку. Заперто.
Она звонит.
Один раз. Два. Три.
Дверь открывается, и показывается женщина лет сорока, с вьющимися черными волосами и круглым и в то же время угловатым лицом.
В ее взгляде светится интеллект, хотя карие глаза плохо видны за стеклами роговых очков.
— Вивека Крафурд?
— Вы опоздали на час.
Она открывает дверь чуть шире, и Малин обращает внимание на ее одежду. Кожаная жилетка поверх пышной синей блузы с лиловым отливом, плюшевая юбка в зеленую клетку достает до щиколоток.
— Можно войти?
— Нет.
— Но вы…
— Я жду клиента. Спуститесь в «Макдоналдс», я позвоню вам через полчаса.
— Я могу подождать здесь?
— Я не хочу, чтобы вас здесь видели.
— У вас есть…
Дверь кабинета закрывается.
— …номер моего мобильного?..
Последний вопрос Малин повисает в воздухе. Но тут ей приходит в голову, что подошло время обеда и сейчас у нее есть прекрасная возможность поддержать монстра американского фастфуда.
Она действительно не любит «Макдоналдс» и твердо решила никогда не ходить туда с Туве.
Мини-морковь и сок.
Мы в ответе за желудки своих детей.
Тогда давайте прекратим продавать картофель фри и газировку. Иначе чего стоит эта наша ответственность?
Сахар и жир.
Малин с отвращением толкает дверь.
Сзади нее автобус поворачивает на площадь Тредгордсторгет.
Бигмак и чизбургер — этого достаточно, чтобы тошнота подступила к самому горлу. Кричащие краски и навязчивый запах кипящего масла лишь усугубляют ее состояние.
Звони же!
Двадцать минут. Тридцать. Сорок.
Звонок.
— Малин?
Папа? Только не сейчас!
— Папа, я занята.
— Мы здесь обдумали все еще раз…
— Папа…
— Разумеется, мы будем рады, если Туве приедет к нам вместе со своим другом.
— Что? Я сказала, что я…
— …если они по-прежнему хотят…
Еще один входящий.
Малин откладывает разговор с Тенерифе и принимает следующий звонок.
— Да.
— Теперь вы можете подойти.
Кабинет Вивеки Крафурд напоминает библиотеку в богатом доме рубежа прошлого века. Книги. Множество томов Фрейда в блестящих кожаных переплетах. Черно-белая фотография Юнга в широкой золоченой раме. Дорогие ковры, письменный стол красного дерева и кресло с восточным орнаментом возле кожаного дивана цвета бычьей крови.
Малин садится на диван, отклонив предложение Вивеки растянуться на нем. Она думает, что Туве наверняка понравилось бы в этой комнате, воссоздающей по-своему, на современный лад, обстановку эпохи Джейн Остин.
Вивека сидит в кресле, скрестив ноги.
— То, что я расскажу, останется между нами, — предупреждает она. — Вы никому не должны говорить об этом, это не попадет ни в полицейский рапорт, ни в какие-либо другие документы. Этой встречи не было. О’кей?
Малин кивает.
— Наша профессиональная честь будет поставлена под угрозу, если что-то выйдет наружу. Или если узнают, что об этом рассказала я.
— Вероятно, мне придется сослаться на свою интуицию, если я воспользуюсь вашей информацией.
Вивека Крафурд улыбается.
Через силу.
Потом ее лицо снова принимает серьезное выражение, и она начинает рассказывать.
— Восемь лет назад ко мне пришел человек — тогда ему было тридцать семь — и сказал, что хочет избавиться от своих детских страхов. В этом не было ничего необычного, однако удивительным оказалось то, что за первые пять лет он не достиг в этом совершенно никакого прогресса. Он имел хорошую работу, был обеспечен. Приходил раз в неделю, говорил, что хочет побеседовать со мной о своем детстве, однако речь заводил совсем о другом. Мне приходилось выслушивать его монологи о компьютерных программах, о лыжных прогулках, об уходе за яблонями, о каких-то религиозных сектах. О чем угодно, только не о том, о чем он намеревался рассказывать.
— Как его звали?
— Я дойду до этого, если будет необходимость.
— Я думаю, будет.
— Однако четыре года тому назад что-то произошло. Он не говорил, что именно, но, кажется, одна его родственница стала жертвой преступления, ее изнасиловали. И это событие каким-то образом изменило все.
— Изменило все?
— Да, он начал рассказывать. Сперва я не верила, но потом… поняла, что там могло быть и не такое.
— Потом?
— Да, после того, как он упорно твердил одно и то же.
Вивека Крафурд качает головой.
— Иногда, — продолжает она, — я задаю себе вопрос: зачем некоторые люди заводят детей?
— Я спрашиваю себя о том же.
— Его отец был моряком и погиб, когда ребенок еще находился в чреве матери.
«Это не так, — думает Малин. — Его отец не был моряком». Но продолжает слушать дальше.
— Самое первое воспоминание, до которого нам с ним удалось добраться, было о том, как мать запирает его в гардероб. Ему было тогда около двух лет, и она не хотела показываться с ребенком на улице. Потом мать вышла замуж за человека с буйным характером, появились новые дети. Три брата и сестра. Муж и его сыновья считали своим долгом мучить моего пациента, а мать всячески поощряла это. Зимой они голым оставляли его на улице, и он стоял на морозе, в то время как они ели на кухне. А когда он возмущался, его били. Больше, чем обычно. Его колотили, царапали ножами, обливали горячей водой, забрасывали крошками печенья. Подбадриваемые папой, братья перешли все границы. Дети могут быть очень жестокими, если жестокость поощряется. Они не понимают, что это плохо. Избирательное насилие. В конце концов, то же самое в сектах. Он был их старший брат, но какое это имело значение? Взрослые и дети против одного ребенка. Братья тоже должны были пострадать в такой ситуации. Запутаться, ожесточиться, сплотиться вокруг того, что каждый в глубине души считал несправедливостью. Решительность и неуверенность одновременно.
«Ты веришь в добро», — замечает про себя Малин.
— И что помогло ему выжить?
— Фантазии. Собственная вселенная. Землянка в лесу, которой, как он сказал, никогда не было. Компьютерные программы, религиозные секты — все то, за что мы, люди, цепляемся, пытаясь взять свою жизнь под контроль. Образование. Он выбрал свой путь и выжил. Для этого надо иметь сильную волю. И потом, сестра, которая, кажется, заботилась о нем, хотя и не могла защитить. Он говорил о ней, большей частью несвязно, о том, что в лесу случилось нечто… Он как будто жил в параллельных мирах и научился разделять их. Но с каждой нашей встречей он все острее переживал свои детские кошмары, в нем просыпалась злоба.
— И жажда насилия?
— По отношению ко мне — никогда. Но возможно, к другим. Они жгли его свечой. Он описывал избушку в лесу, где они привязывали его к дереву, а потом жгли. И плескали в него горячей водой.
— Как они могли?
— Люди могут сотворить что угодно с себе подобным, когда перестают считать его человеком. История знает тому немало примеров. Ничего особенного.
— А как это начинается?
— Я не знаю, — отвечает Вивека Крафурд. — В данном случае, вероятно, все пошло от матери. Или даже раньше. Она не любила его и в то же время нуждалась в нем, я так думаю. Почему она не отказалась от него? Не знаю. Может, ей нужно было ненавидеть кого-то, чтобы давать выход своей злобе. А то презрение, которое ее муж и сыновья питали к моему пациенту, выросло именно на почве ее ненависти.
— Почему она не любила его?
— Не знаю. Вероятно, что-то произошло.
Вивека замолкает.
— В последние годы он приходил и ложился на тот диван, на котором сейчас сидите вы. Он то впадал в ярость, то рыдал. И все шептал: «Впустите меня, впустите. Я мерзну».
— А вы?
— Я старалась его утешить.
— А теперь?
— Год назад он перестал ко мне ходить. Во время последнего сеанса выбежал вон из комнаты. Не вынес. Кричал, что словами тут не поможешь, что надо действовать, что теперь он знает, теперь он знает, он кое-что узнал. Дескать, теперь он знает, что нужно делать.
— И вы больше не пытались с ним связаться?
Вивека Крафурд смотрит удивленно.
— Лечение — дело добровольное. Пациенты могут приходить ко мне, если хотят. Но я вижу, вы заинтересовались этим.
— Как вы думаете, что произошло?
— Чаша переполнилась, его миры столкнулись. Могло случиться все, что угодно.
— Спасибо, — говорит Малин.
— Вы хотите услышать его имя?
— Это лишнее.
— Как я и думала, — кивает Вивека Крафурд и отворачивается к окну.
Малин поднимается, чтобы выйти.
— Сами-то вы как себя чувствуете? — задает вопрос Вивека Крафурд, не глядя на нее.
— А что?
— Все написано у вас на лице. Вас что-то тяготит, вам чего-то не хватает. Редко это читается с такой очевидностью.
— Честно говоря, не понимаю, что вы имеете в виду.
— Я всегда к вашим услугам, если что.
За окном падают огромные снежинки. «Как частички звезд, которые миллиарды лет назад где-то в космосе рассыпались в порошок», — думает Малин.
71
Юнгсбру, 1961 год
Маленький чертенок.
Я надела на него подгузник.
Я обила гардероб тряпками изнутри. Может, бросить ему яблоко или сухую корку? Но он больше не кричит. Стоит несколько раз дать малышу по носу, и он начинает понимать, что плач — это только боль.
Итак, я его запираю.
В два с половиной года он плакал беззвучно, когда я сажала его в гардероб.
Послеродовой психоз?
Спасибо, нет.
Детское пособие?
Спасибо, да.
Отец погиб. Тысяча шестьсот восемьдесят пять крон в месяц. И правительство платит эти деньги из жалости ко мне. Безотцовщина. Нет, я не расстанусь с ним и уж тем более с этими деньгами.
И моя ложь не ложь вовсе, потому что я лгу самой себе. Я создала свой собственный мир. И чертенок в гардеробе придает ему реальности.
Запираю его.
И ухожу.
На фабрике мне дали отставку, лишь только увидели мой живот. Таким не место у шоколадного конвейера, сказали они.
И теперь, когда я запираю гардероб, а он плачет, мне хочется открыть дверцу и сказать ему: «Ты здесь ради того, чтобы тебя не было. Подавись яблоком, перестань дышать — тогда ты освободишься. Чертов сын».
Но нет. Тысяча шестьсот восемьдесят пять риксдалеров — это кое-что.
И вот я шагаю по поселку в бакалейную лавку и высоко держу голову. Я знаю, о чем они там шепчутся: где ее ребенок, куда она дела мальчика? Ведь они знают, что ты есть. И мне хочется остановиться, сделать дамам книксен и объяснить, что мальчика, сына моряка, я держу в темном, мокром, обитом тряпками гардеробе. Я даже дырочки сделала, совсем как в том ящике, где держали похищенного сына Линдберга, — вы, конечно, читали репортаж в «Еженедельном журнале».
Я не разговариваю с ним. Но каким-то образом в его голову проникло это слово.
Мама, мама.
Мама.
Мама.
Я ненавижу его. Эти звуки — как холодные змеи на влажной лесной почве.
Иногда я вижу Калле. Я назвала его в честь Калле.
И Калле глядит на меня.
Он неуклюже смотрится на велосипеде. Сейчас он окончательно спился, и та хорошенькая женщина родила ему сына. Но что с того? Что можно поделать, если у человека дурная кровь? Я видела ее мальчика. Он раздут, как шар.
Тайна — вот моя месть, мой воздушный поцелуй.
И не думай, что ты вернешься ко мне, Калле. Не вернешься. Никто еще не возвращался к Ракель.
Никто, никто, никто.
Открываю гардероб.
Он улыбается.
Маленький чертенок.
И я даю ему оплеуху, чтобы согнать улыбку с его губ.
72
Я лечу сквозь мороз. И дни подо мной такие же белые, как эти поля. Мимо острого шпиля монастыря Вреты я направляюсь в сторону Блосведрета и Хюльтшёскугена.
Голоса повсюду. Все, что было сказано за долгие годы, сплетается в страшную и прекрасную сеть.
Я научился различать голоса, которые слышу. И понимаю все, даже то, что далеко не очевидно.
Итак, кого же я слышу?
Слышу братьев: Элиаса, Якоба и Адама. Они не решаются, тем не менее хотят рассказать. Начну с тебя, Элиас. Подслушаю то, что ты мог бы сказать.
Ты никогда не покажешь своей слабости.
Никогда.
Ты не сделаешь того, что этот выродок. Он старше меня, Якоба и Адама, но он скулил в снегу, как баба, как неженка.
Не показывай свою слабость, иначе они возьмутся и за тебя.
Кто они?
Дьяволы. Там, снаружи.
Иногда я спрашиваю себя: что же он, собственно говоря, сделал плохого? Но никогда не задам этого вопроса матери или братьям. Почему мать так ненавидела его? Почему мы должны были его бить? Я смотрю на своих детей и думаю: что они могли бы сделать такого? Что мог сделать Карл?
На что толкала нас мать?
Или можно заставить детей совершить какую угодно жестокость?
Нет, я так не думаю.
Знаю, что я не слабак. Мне было девять лет, и я стоял у входа в новенькое, свежевыбеленное здание школы поселка Юнгсбру. Было начало сентября, светило солнце, и учитель ремесла Бруман ждал снаружи и курил.
Раздался звонок, все дети ринулись к дверям, и я впереди всех. Но стоило мне приблизиться, как Бруман одной рукой преградил мне путь, а другую поднял и закричал: «Стоп! Здесь не место засранцам!» Он закричал это громко, и вся толпа детей разом остановилась как парализованная. Он усмехался, и все думали, что засранцы — это они. А потом он добавил: «Здесь воняет дерьмом! Элиас Мюрвалль — вот кто воняет дерьмом!» И вот раздались смешки, которые переросли в хохот, и снова послышался крик Брумана: «Засранец!», а потом он оттолкнул меня в сторону и крепко прижал одной рукой к стеклу закрытой половины двери, в то же время распахивая другую и пропуская остальных детей. И они смеялись и шептали: «Засранец, дерьмо, здесь воняет». И я не выдержал, я взорвался. Я открыл рот и захлопнул его. Я укусил, глубоко вонзил свои клыки в руку Брумана, ощутив на своих зубах его мясо, и в тот момент, когда он взвыл, я почувствовал привкус железа во рту. Так кто же из нас кричал, ты, дьявол? Чей это был голос?
Я разжал зубы.
Они хотели вызвать в школу мою мать, чтобы поговорить об этом случае.
«Что за дерьмо, — говорила она, обнимая меня на кухне. — Мы с Элиасом не будем связываться с этим дерьмом».
А я продолжаю летать и слушать.
Сейчас я высоко, воздух здесь слишком разрежен и мороза почти нет. Но я хорошо слышу тебя, Якоб. Твой голос прозрачен и чист, как оконная рама без стекол.
«Бей его, Якоб!» — кричит папа.
Бей его!
Он не наш, что бы он там о себе ни думал. Он был такой тощий, и хотя почти вдвое выше меня, я ударил его в живот, пока Адам держал. Адам на четыре года младше, но был крепче и сильнее.
Папа в инвалидном кресле на крыльце.
Как это случилось?
Я не знаю.
Однажды ночью его нашли в парке.
Спина сломана, челюсть тоже.
Мать говорила, что он, должно быть, встретил в парке настоящего парня и что теперь Черному пришел конец.
Она налила ему грога — пусть упьется до смерти, теперь самое время.
Мы возили его вокруг дома, а он бушевал, пьяный, и все пытался подняться.
Это я нашел его, когда он упал с лестницы. Мне было тринадцать. Я только что вернулся из сада, где кидался незрелыми яблоками в проезжавшие по дороге автомобили.
Глаза.
Они смотрели на меня, белые и мертвые, и кожа была серой, а не розовой, как обычно.
Я испугался. Хотел закричать, но вместо этого закрыл ему глаза.
Мать спускалась с лестницы. Только что из ванной.
Она перешагнула через тело и потянулась ко мне. Ее волосы были мокрыми и теплыми и пахли цветами и листьями. Она прошептала мне прямо в ухо: «Якоб, мой Якоб».
А потом сказала: «Когда что-то надо сделать, ты не медлишь, ведь так? Ты сделал то, что было нужно, правда?» И крепко обняла меня.
Помню, как звонили колокола и одетые в черное люди собрались на лужайке возле церкви монастыря Вреты.
Лужайка.
Стены вокруг нее помнят двенадцатый век.
Сейчас я там, и я вижу то, что должен был видеть ты тогда, Якоб. Что же ты видел?
Все, вероятно, случилось задолго до этого. И я думаю, ты сделал все верно, совсем как я сейчас.
Но теперь я слышу другой голос. Это Адам, и то, что он говорит, в равной степени умно и безумно, сомнительно и ясно, как зимний морозный день.
«Что наше, то наше, Адам. И этого у нас никто не отнимет».
Голос матери не оставлял места для возражений.
Мне было года два, когда я впервые понял, что отец бьет его и он нужен здесь только для того, чтобы его били.
В насилии есть своя определенность, как ни в каком другом деле.
Напиться до смерти, забить до смерти, раскроить череп на кусочки.
Только так.
Я бил.
Мать.
Она тоже не терпела неопределенности.
«Сомнения, — говорила она, — это не для нас».
Новенький был чужаком.
Он не знал этого.
Турок. Пришел к нам в пятом классе. Из Стокгольма. Его родители нашли себе работу в шоколадном раю. Он думал, что меня можно дразнить, ведь я был такой маленький и ходил в грязной одежде. И он решил, будто со мной можно делать что угодно ради укрепления своих позиций на новом месте.
Итак, он ударил меня.
Или попытался.
Он применил какой-то прием дзюдо, повалил меня и ударил так, что из носа хлынула кровь. А потом, когда я собирался дать ему сдачи, подошла фрекен со сторожем и учителем физкультуры Бьёрклундом.
Я рассказал обо всем братьям.
Турок жил в Хэрне. Мы ждали его на берегу канала, под березами у самой воды, спрятавшись на склоне за стволом дерева.
Обычно Йонсен возвращался домой этой дорогой.
Братья все рассчитали верно.
Они набросились и свалили его с велосипеда. И он лежал на покрытом гравием берегу канала и кричал, показывая на дырку на своих новых джинсах.
Якоб и Элиас смотрели на него, а я стоял за стволом березы. Помню, я спрашивал себя тогда, что же сейчас произойдет. Хотя все прекрасно знал.
Элиас толкнул его велосипед, а когда турок попытался встать, Якоб ударил его в живот, потом в зубы. Турок ревел, и кровь текла у него изо рта.
А потом я согнул раму его велосипеда и швырнул прямо в канал. Я подбежал и тоже принялся бить турка.
Я пинал его.
Пинал.
Пинал.
Его родители заявили в полицию.
Они уехали спустя несколько недель. В школе говорили, что вернулись в Турцию, но я не верил. Они же курды, черта с два!
А когда мы возвращались домой, я сидел за спиной Элиаса на его «дакоте». Я держался за него, и все его большое тело вздрагивало. А рядом с нами на своем грузовом мопеде ехал Якоб.
Он улыбался мне. И я чувствовал тепло Элиаса.
Мы братья навсегда.
Один за всех и все за одного.
И ничего странного в этом нет.
73
Здесь тепло и никто не найдет меня.
Земляная крыша над головой — мой небесный свод. Подо мной крошки печенья.
Это она ударила меня?
Она висит?
Если нет, я должен попробовать еще, еще и еще раз. Потому что если я пущу кровь, они примут меня. Я смогу войти, если принесу жертву.
С ним было проще, с Мяченосцем. Он был тяжел, но не слишком. Я усыпил его на парковке в Хэрне, когда он проходил мимо. У меня был тогда другой автомобиль, с обычным багажником. А потом, как и ее, привез сюда на санях.
Но он умер слишком рано.
Траверсы я взял на фабрике. Вырезал дыру в заборе, а датчики отключил из своей серверной комнаты. Это было непросто. Пальто на вешалке — вот что видели охранники через замерзшее стекло.
Я привез его туда, в лес, ночью. Выпустил из него кровь. Теперь они должны принять меня, я сделал все как надо.
Цепи, петля.
Я поднял его на дерево, толстого выродка.
Жертву.
Я принес им жертву.
Но что же случилось с ней, с женщиной?
Помню, как очнулся в поле. Ее не было, и я пополз к своему автомобилю. Забрался внутрь, и мне удалось завести его. Вернулся сюда.
Но где она сейчас? На дереве?
Или где-то в другом месте?
Наверное, она висит. Я все исправил, я принес жертву.
И скоро вы придете сюда, чтобы открыть мне дверь.
Вы придете с любовью?
Что случилось, что я сделал?
В моей землянке пахнет яблоками. Яблоками, крошками и дымом.
Как горят среди бела дня буквы на вывеске филадельфийской церкви,[56] словно реклама: «Бог здесь! Войди — и встретишься с Ним!» Здание церкви находится рядом с «Макдоналдсом», по другую сторону улицы Дроттнинггатан. Там надежная и обеспеченная публика. Кто такие сектанты, Малин знает еще с гимназических времен. Эти люди вежливы, одеты по моде, и все-таки они чокнутые. Во всяком случае, так ей неизменно кажется, когда она их видит. Им как будто чего-то не хватает. Во всей их мягкости, податливости чувствуется непонятная жесткость. Это напоминает сахарную вату с гвоздями.
Малин озирает улицу.
Где Зак?
Она только что звонила ему и просила подобрать ее возле церкви: им надо съездить на «Коллинз» и задержать Карла Мюрвалля.
Вот наконец и «вольво».
Она притормаживает, но Малин открывает дверцу и прыгает на переднее сиденье, не дожидаясь, пока машина остановится.
— Что сказала психолог? — нетерпеливо спрашивает Зак.
— Я обещала молчать.
— Ах, Малин, — вздыхает Зак.
— Но это Карл Мюрвалль убил Бенгта Андерссона, и он же пытался убить Ребекку Стенлунд. В этом нет никаких сомнений.
— Откуда ты знаешь? Разве у него нет алиби?
Зак едет вперед по Дроттнинггатан.
— Женская интуиция. И кто сказал, что той ночью он не мог отключить датчики при помощи компьютерной системы, вырезать дырку в заборе «Коллинза» и улизнуть? Что он не закончил свою работу по обновлению системы раньше?
Зак жмет на газ.
— Да, почему бы и нет, датчиками наверняка можно управлять из серверной, — соглашается Зак. — Но его же видели?
— Через замерзшее стекло, я полагаю, — уточняет Малин.
Зак кивает.
— Семейные проблемы самые тяжелые, верно?
Ворота фабрики «Коллинз», похоже, выросли с прошлого раза, а лес возле парковки как будто стал гуще и замкнулся в себе. Производственные корпуса за оградой имеют депрессивный вид, словно готовы в любую минуту переместиться куда-нибудь в Китай, чтобы набрать там рабочих, готовых трудиться за сотую долю того, что получают нынешние.
«Опять они, — думает, должно быть, охранник в будке. — Мало они заставляли меня открывать им окошко и мерзнуть».
— Мы ищем Карла Мюрвалля, — обращается к охраннику Малин.
Тот улыбается и качает головой:
— Тогда вы приехали напрасно. Карла Мюрвалля позавчера уволили.
— Он уволен? — переспрашивает Зак. — И вы, конечно, не знаете почему, ведь вы не интересуетесь такими вещами?
— За что людей увольняют? — Охранник выглядит оскорбленным.
— Откуда я знаю? Расскажите.
— В его случае — за странное поведение в отношении коллег, за угрозы в их адрес. Вы хотите знать больше?
— Достаточно, — обрывает его Малин.
У нее нет сил расспрашивать о ночи убийства и дырке в заборе. Ведь каким-то образом Карл Мюрвалль той ночью покинул территорию завода.
— Мы можем объявить его в розыск? — спрашивает Малин у Зака, когда они покидают парковку «Коллинза» и направляются к главной трассе.
Им навстречу движется грузовик, чей кузов угрожающе кренится в сторону проезжей части.
— Нет. Для этого надо иметь что-то конкретное.
— Но у меня есть.
— То, о чем ты не можешь рассказать.
— Это он.
— Придумай что-нибудь другое. Ты всегда можешь вызвать его на допрос.
Они сворачивают на главную трассу, уступая дорогу черному мотоциклу «БМВ-круизер», превысившему скорость по крайней мере на сорок километров в час.
— Но тогда нам нужно найти его.
— Ты думаешь, он дома?
— Во всяком случае, можно попытаться.
— Ничего, если я включу музыку?
— Как хочешь.
И через несколько секунд салон наполняется сотнями голосов. «Немного мира, немного солнца…» — поют они.
— Хоровая версия классического шлягера, — поясняет Зак. — Поднимает настроение, правда?
Часы показывают половину четвертого. Малин и Зак звонят в квартиру Карла Мюрвалля на Таннефорсвеген. Краска на двери отслаивается, и Малин вдруг замечает, что вся лестница давно нуждается в ремонте. Однако, похоже, никому нет дела до мест общественного пользования.
И никто не открывает.
Малин смотрит в почтовую щель. Газеты и конверты лежат на полу нетронутыми.
— Как быть с ордером? — рассуждает она. — Я не могу сослаться на то, что говорила мне Вивека Крафурд, а нападение на Ребекку Стенлунд само по себе не основание входить сюда, когда нам вздумается.
— Где он может быть? — громко спрашивает Зак.
— Ребекка Стенлунд говорила о какой-то землянке в лесу.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что нам снова нужно ехать в лес?
— Иначе кого же мы видели той ночью… Он должен быть там.
— Думаешь, он прячется в охотничьей избушке?
— Вряд ли. Но там, в лесу, кто-то есть. Я чувствую.
— Тогда нечего ждать, — обрывает ее Зак.
На морозе мир сжимается до размеров темной комнаты, вмещающей все, что было в атмосфере. До тугого и вязкого вещества «черной дыры».
«Ты стережешь свои тайны, — думает Малин. — Ты, темный лес Эстергётланда».
Сегодня снег промерз лучше, чем в прошлый раз, и они идут по насту. Или это мороз постепенно превращает снег в лед? И ледниковый период, начавшийся несколько месяцев тому назад, навсегда преображает все: растительность, пейзаж, звуки в лесу? Деревья вокруг похожи на мощные колонны античных руин.
След в след.
Среди всех брошенных детей, которых никто не видит, о которых не заботятся ни отцы, ни матери и от которых отказался весь мир, всегда найдется несколько таких. Они покажут себя. И мир, бросивший их на произвол судьбы, пожнет плоды своей бессердечности.
В Таиланде.
В Руанде и Боснии.
В Стокгольме.
В Линчёпинге.
В Юнгсбру, в Блосведрете.
«Нет ничего проще, — думает Малин. — Заботься о маленьких и слабых. Дари им любовь. Зло не дано нам изначально, оно нами создается. Однако существует изначальное добро, я так полагаю. Но только не в этом лесу. Добро давно покинуло это место, осталась только борьба за выживание».
Пальцы болят в перчатках, неспособных защитить от стужи.
— Черт, как холодно! — возмущается Зак, и Малин кажется, что за последние месяцы она слышала от него эти слова тысячи раз.
Ноги не слушаются. А тьма опускается все ниже, и мороз все глубже проникает в тело. Пальцев как будто нет ни на руках, ни на ногах. Осталась только боль.
Избушка Мюрваллей холодная и пустая. Снег снова засыпал следы лыж.
Малин и Зак молча стоят у двери.
Они прислушиваются, но кругом тихо. Только зимний лес, лишенный запахов, окружает их.
Но я чувствую, чувствую: ты сейчас где-то здесь.
Должно быть, я заснул. Очаг погас, в нем нет дров. Я мерзну, я должен затопить его снова. И когда они придут, чтобы впустить меня, здесь будет тепло.
Моя землянка — это мой дом.
Она всегда была моим домом, а вовсе не квартира на Таннефорсвеген. Это было единственное место, где я спал, думал и пытался все понять.
Вот я подкладываю дрова, хочу зажечь, но спичка соскальзывает.
Я мерзну.
Но здесь должно быть тепло, когда они придут, чтобы впустить меня, когда они вернутся с любовью.
— Здесь никого нет. Форс, ты слышишь, что я говорю?
Перед избушкой поляна — совершенно безмолвное место, окруженное деревьями, лесом и непроницаемой темнотой.
— Зак, ты ошибаешься.
Здесь кто-то есть. Кто-то шевелится. Или это зло? Дьявол? И я чувствую запах…
— Через пять минут совсем стемнеет. Я возвращаюсь.
— Пойдем дальше, — говорит Малин и шагает вперед.
Она метров на четыреста успевает углубиться в темноту леса, но потом слышит сердитый голос Зака:
— Возвращаемся!
— Еще чуть-чуть.
— Нет.
Тогда Малин разворачивается и идет обратно. Она так и не заметила рощицу в пятидесяти метрах впереди, где из маленького отверстия в земляной крыше только что показался серый дымок.
Мотор гудит, и машина набирает скорость. Они проезжают мимо площадки гольф-клуба монастыря Вреты.
«Удивительно, — замечает про себя Малин, — они оставляют флажки зимовать на поле. Раньше я не обращала на это внимания. Выглядит так, как будто хотят о чем-то предупредить».
— Едем к Ракели Мюрвалль, она знает, где Карл.
— Ты с ума сошла, Малин. Ты не подойдешь к этой тетке ближе чем на полкилометра. Уж я-то за этим прослежу.
— Она знает, где он.
— Это не имеет значения.
— Нет.
— Да. Она подала на тебя официальную жалобу. Ехать туда сейчас значит поставить крест на своей карьере.
— Черт.
Она бьет рукой по приборной панели.
— Вези меня к моей машине. Она стоит на парковке у «Макдоналдса».
— Ты выглядишь веселой, — говорит Туве с дивана, поднимая глаза от книги.
— Что ты читаешь?
— «Дикую утку» Ибсена. Пьеса.
— Разве не скучно читать пьесу? Ее лучше смотреть.
— Нужно лишь подключить воображение.
Телевизор включен. «Джеопарди».[57] Толстый Адам Альсинг,[58] втиснутый в желтый костюм. Как может Туве читать серьезную литературу под такое сопровождение?
— Мама, ты была на улице?
— Да, даже в лесу.
— Что ты там делала?
— Мы с Заком искали одну вещь.
Туве кивает. Она не спрашивает, успешны ли были поиски, и снова погружается в свою книгу.
Он убил Бенгта Андерссона. Пытался убить Ребекку Стенлунд.
Кто же он, Карл Мюрвалль? И где он?
Черт бы подрал Ракель Мюрвалль.
Это ее сын.
У Туве на столе лежит открытый учебник по обществознанию. Параграф под названием «Формы правления» проиллюстрирован фотографиями премьер-министра Йорана Перссона и неизвестного Малин имама. Людей можно изучать как угодно. Это так.
— Туве, сегодня звонил дедушка. Он приглашает вас обоих, тебя и Маркуса, на Тенерифе.
— Я больше туда не хочу, — отвечает Туве, оторвав взгляд от экрана. — К тому же дедушке будет трудно объяснить всю эту нашу ложь насчет других гостей.
— Да, боже мой, — вздыхает Малин, — как порой усложняются самые простые вещи.
— Я не поеду. Мне сказать Маркусу, что дедушка передумал?
— Нет.
— Но может быть, мы поедем в другой раз. А то дедушка будет говорить, что мы не захотели, хотя он и приглашал нас.
Малин вздыхает.
— Почему бы не сказать Маркусу все как есть?
— Что сказать?
— Что дедушка передумал, но ты не хочешь.
— А как быть тогда с нашей ложью? Это очень страшно?
— Не знаю, Туве. Может, такая маленькая ложь и не слишком опасна.
— Но если так, мы можем поехать.
— Но ты ведь уже не хочешь?
— Нет, но я могла бы, если бы хотела. Даже лучше, если дедушка немного огорчится. Может, это научит его кое-чему.
— А как быть с Оре?
— Ну-у…
Туве отворачивается и тянется за пультом телевизора.
Дождавшись, пока Туве уснет, Малин некоторое время сидит одна на диване, а потом поднимается и направляется в прихожую. Надевает кобуру с пистолетом и куртку. Прежде чем выйти из квартиры, она роется в верхнем ящике шкафа в прихожей. Отыскав то, что нужно, Малин запихивает это в передний карман джинсов.
74
Семнадцатое февраля, пятница
Линчёпинг в ночь с четверга на пятницу в самый холодный из февралей. Рекламные щиты состязаются с уличными фонарями в попытках создать хотя бы иллюзию тепла на улицах, где одинокие, мучимые жаждой и ищущие наслаждений шныряют туда-сюда между ресторанами и барами. Неуклюжие полярники в поисках родственных душ.
И нигде никаких очередей.
Для этого слишком холодно.
Малин держит руль.
Город за окнами автомобиля.
Красные и оранжевые автобусы на холостом ходу на площади Тредгордсторгет. В них подростки, возвращающиеся домой. Розовощекие, усталые, с ожиданием чего-то во взгляде.
Она крутит руль, поворачивая на Дроттнинггатан в сторону Стонгона, проезжает мимо офиса агентства недвижимости.
Сны о доме.
О пробуждении.
В этом городе все еще видят сны, как бы ни было холодно, что бы ни случалось.
«О чем мои сны? — задает себе вопрос Малин. — О Туве. О Янне. О Даниэле. Это мое тело грезит им.
Но чего хочу от жизни я сама? И какие мои желания делают меня похожей на тех девочек в автобусе?»
Дверь многоэтажки ходит туда-сюда, даже не запирается на ночь.
Малин осторожно поднимается по лестнице — она не хочет, чтобы ее здесь видели.
И вот она перед дверью Карла Мюрвалля.
Прислушивается.
Но внутри тихо, и на полу под почтовой щелью все еще лежат нетронутые газеты.
Она стучит.
Ждет.
Потом вставляет отмычку в замочную скважину. Крутит ею туда-сюда. Наконец звучит легкий щелчок, и замок поддается.
Внутри несвежий запах и спертый воздух, однако тепло — отопление включено, чтобы вода в трубах не замерзла.
Инженерное мышление победило здравый смысл, который, должно быть, говорил Карлу Мюрваллю: «Ты никогда не вернешься сюда, так что за беда, если вода в батареях замерзнет?»
И все-таки он может быть здесь. Вероятность есть, хотя и небольшая.
Малин замирает.
Вслушивается.
Вытащить оружие?
Нет.
Зажечь свет?
Это надо сделать.
Малин нажимает кнопку выключателя на двери ванной — и прихожую заливает свет.
Куртки и пальто аккуратно развешаны в ряд под полкой для шляп.
Она вслушивается.
Все тихо.
Она быстро проходит комнату за комнатой и возвращается в прихожую.
«Пусто», — думает она.
Потом озирается и начинает выдвигать ящики в шкафу. Рукавицы, шапка, бумаги.
Квитанция на зарплату.
Пятьдесят семь тысяч крон.
Виртуальная реальность. И немного денег в придачу?
Малин выходит на кухню. Роется в ящиках, осматривает стены. Они пусты, если не считать часов с кукушкой.
Скоро час ночи, стало быть, кукушка закричит. Главное — не испугаться. Гостиная. В ящиках полно бумаг: банковские счета, рекламные листовки, но ничего такого, что могло бы ее заинтересовать.
Внезапно Малин поражает мысль: в квартире нет гардероба. В прихожей, где они обычно стоят, его нет.
Малин возвращается в прихожую.
Углы в том месте, где должен стоять гардероб, обведены краской.
…она запирала его в…
Малин проходит в спальню. Нажимает кнопку выключателя, но свет не загорается. На столе у окна стоит лампа. Окно выходит во двор, и слабый сероватый свет фонаря из сада падает на стены.
Малин зажигает лампу.
Тусклый световой конус ложится на поверхность стола, на которой что-то вырезано ножом.
Она оборачивается.
Слышит звук останавливающегося у дома автомобиля, стук захлопнувшейся дверцы.
Малин нащупывает кобуру. Вот пистолет, который она так ненавидит носить на себе. Какое счастье, что сейчас он при ней! Внизу, в подъезде, кто-то хлопает дверью. Малин пробирается в прихожую, прислушиваясь к шагам на лестнице. В двери этажом ниже поворачивается ключ. Потом она осторожно захлопывается.
Малин облегченно вздыхает.
Возвращается в спальню и тут видит его — гардероб. Он стоит у кровати. Она зажигает вмонтированный в стену ночник, чтобы было больше света, и замечает: он расположен так, чтобы свет падал прямо на гардероб.
На ручке висячий замок.
Там кто-то заперт.
Зверь?
Уверенной рукой Малин вставляет в замок отмычку. Механизм сопротивляется, и через три минуты Малин чувствует, что ее прошиб пот. Наконец щелчок — и замок поддается. Она открывает дверь и смотрит вовнутрь.
Я вижу тебя, Малин. Ты наконец добралась до правды? Стало ли у тебя спокойнее на душе или ты испугалась того, что открылось твоим глазам? Будешь ли ты теперь лучше спать по ночам?
Смотри на него, смотри на меня, на Ребекку, которая в моей памяти навсегда останется Лоттой. Мы одиноки.
Может ли твоя правда избавить нас от одиночества?
Малин осматривает гардероб. Изнутри он оклеен обоями со стилизованным изображением дерева, усыпанного зелеными яблоками. На полу, рядом с пачкой печенья «Мария», книги по психоанализу и Асатру, Библия, коран и черная записная книжка.
Малин листает ее.
Это дневник.
Почерк аккуратный, но буквы такие мелкие, что читается с трудом.
О работе на «Коллинзе».
О встречах с Вивекой Крафурд.
Дальше словно что-то случилось с хозяином дневника или записи делал кто-то другой.
Почерк становится неровным, пропадают даты, предложения обрываются.
«…в феврале Мидвинтер…»
«…теперь я знаю, я знаю, кого нужно принести в жертву…»
И повторяющееся без конца — «впустите меня…»
В самом конце подробная карта. Блосведрет, поле, на котором изображено дерево, неподалеку от того места, где нашли Мяченосца.
Отмечено какое-то место в лесу, должно быть, неподалеку от охотничьей избушки Мюрваллей.
Он сидел здесь и разговаривал с нами.
А эта книжка со всем своим содержимым была совсем рядом.
Целая вселенная, наполненная самыми невообразимыми ужасами, сидела здесь, перед нами, и ей удавалось сохранять маску невозмутимости и оставаться в той реальности, которую мы знаем.
Малин слышит все голоса этой вселенной. Они раздаются из гардероба, из комнаты, из нее самой. Где-то внутри себя она чувствует холод, куда более страшный, чем тот, что может быть за окном.
Точка разрыва.
Внутри и снаружи.
Мир фантазий.
И мир реальности.
Они встречаются. И сознание цепляется за любую возможность. Начинает играть. Я убегу. И остатками разума крепко держится за внутреннее сознание, прежде всего за инстинкт.
Другая карта.
И другое дерево.
Это то, на котором должна была висеть Ребекка?
Малин, не расстраивайся. Ведь это еще не конец.
Я видел Ребекку в ее постели. Она спит. Операция по пересадке кожи на ее щеки и живот прошла успешно. Может быть, она уже не будет такой красивой, как раньше, но она давно перестала придавать этому большое значение. Ей не больно. Ее сын спит на кровати рядом с ней, и новая кровь струится у нее в жилах.
С Карлом хуже.
Я знаю, я должен злиться на него за то, что он сотворил со мной.
Но он лежит там, в своей холодной землянке, завернутый в одеяла, возле очага, в котором затухает огонь, и я вижу, что на всей планете нет человека более одинокого.
У него нет никого, и самому себе он не принадлежит. Я не был так одинок даже в минуты самого сильного отчаяния, когда отрубил своему папе ухо.
Злиться на такое одиночество все равно что злиться на людей. Если это и возможно, то, во всяком случае, бесполезно.
Ведь в глубине души мы все добры и руководствуемся лучшими побуждениями.
Ветер снова холодеет.
Малин.
Ты должна продолжать.
И я не успокоюсь, пока этот ветер не утихнет.
Малин кладет записную книжку на место.
Она упрекает себя за то, что оставила на ней отпечатки пальцев, хотя какое это теперь имеет значение?
Кому звонить?
Заку?
Свену Шёману?
Малин достает мобильник и набирает номер. Ей отвечают после четырех сигналов.
Сонный голос Карин Юханнисон.
— Да, Карин.
— Это Малин. Извини, что побеспокоила.
— Ничего страшного, я засыпаю легко.
— Ты можешь подъехать на Таннефорсвеген, тридцать четыре?
— Сейчас?
— Да.
— Буду через пятнадцать минут.
Малин роется в одежде Карла Мюрвалля.
Находит несколько волосков.
Она кладет их в чистый полиэтиленовый пакет, который отыскала на кухне. Слышно, как у подъезда останавливается машина, хлопает дверь. Она выходит на лестницу и шепчет, обращаясь к Карин:
— Сюда, наверх.
— Я иду.
Малин проводит Карин по квартире.
— Осмотрим гардероб, а потом все остальное, — говорит Карин, вернувшись в прихожую.
— Я вызвала тебя первой, но не для этого. Хочу сделать еще один ДНК-тест. Вот с этим. — Она протягивает пакет с волосами. — Немедленно. Надо сверить с данными того, кто изнасиловал Марию Мюрвалль.
— Это Карл Мюрвалль?
— Да.
— Если я поеду в лабораторию прямо сейчас, к завтрашнему утру будет готово.
— Спасибо, Карин. Так быстро?
— С хорошими волосами это пара пустяков. Мы еще кое-что умеем. А почему это так важно?
— Я не знаю. Но так или иначе, это важно.
— Это все? — Карин делает жест в сторону квартиры.
— У тебя же есть коллеги, — говорит Малин. — Пусть даже и не такие расторопные, как ты.
Как только автомобиль Карин отъезжает от тротуара, Малин звонит Свену Шёману.
Чтобы двигаться дальше.
Запустить машину как положено.
75
Спальня освещена прожекторами техников.
Свен Шёман и Зак после осмотра гардероба выглядят усталыми. Еще раньше, по телефону, Шёман спросил Малин, с чего это вдруг ей вздумалось отправиться в квартиру Карла Мюрвалля и как она вошла. «Интуиция. А дверь была не заперта», — отвечала она, и Свен не стал вдаваться в подробности.
Зак в резиновых перчатках снова потянулся за записной книжкой. Листает и читает, а потом кладет на место.
Как только Свен и Зак вошли, Малин сразу показала им дневник с записями и картами. Рассказала о том, что успела предпринять и что Карин уже была здесь. Нарисовала общую картину событий, которые должны были произойти вплоть до настоящего момента. Малин заметила, как утомляет слушателей ее рассказ, как сонливость затуманивает сознание и мешает воспринимать, пусть даже Зак кивал, как бы подтверждая, что все это выглядит вполне правдоподобно.
— Да, черт. — Зак поворачивается к Малин.
Она сидит на стуле у письменного стола, мечтая о чашке кофе.
— Как ты думаешь, где он сейчас?
— В лесу, полагаю. Где-то возле охотничьей избушки.
— Мы не нашли его там.
— Он может быть где угодно.
— Нам известно, что он ранен. Ребекка Стенлунд говорила, что ударила его.
Раненый зверь.
— Розыск объявлен, — говорит Свен. — Есть вероятность, что он покончил с собой.
— Может, стоит выслать в лес патруль с собаками? — спрашивает Малин.
— Дождемся утра. Сейчас слишком темно. И потом, собаки не чувствуют запахов на морозе, так что едва ли из этого выйдет толк. Собаководы это знают, — говорит Свен. — Сейчас в поиске задействованы все наши машины, а единственное основание искать его в лесу — точки на картах в записной книжке.
— Это немало, — замечает Малин.
— Вчера вечером его не было в охотничьей избушке. Если он ранен, то должен был забраться куда-нибудь и затаиться. И то, что он сейчас в избушке, очень маловероятно.
— Но он может быть где-то поблизости.
— Форс, это подождет.
— Малин, — говорит Зак. — Я согласен со Свеном. Сейчас пять утра, а его не было там не далее как вчера вечером.
— Форс, ступай домой и ложись спать, — предлагает Свен. — Для всех будет лучше, если ты немного отдохнешь. А через несколько часов мы подумаем на свежую голову, где он может быть.
— Нет, я…
— Малин, — настаивает Свен. — Ты переходишь все границы, тебе нужно отдохнуть.
— Мы должны найти его. Я думаю…
Тут Малин обрывает свою мысль: они все равно не поймут.
Потом встает и выходит из комнаты.
На лестнице она сталкивается с Даниэлем Хёгфельдтом.
— Это правда, что Карла Мюрвалля подозревают в убийстве Бенгта Андерссона и нападении на Ребекку Стенлунд? — спрашивает он как ни в чем не бывало.
Не отвечая, Малин продолжает спускаться по лестнице.
«Она устала и измучена», — думает Даниэль, преодолевая последние ступеньки на пути к квартире Карла Мюрвалля. Двое полицейских в форме несут караул у двери.
Пройти будет нелегко.
Но позор тому, кто отступает без боя.
«То, что я отказался работать в „Экспрессен“, похоже, не произвело на Малин никакого впечатления.
Но чего я, собственно, ждал? Нам хорошо в постели — не более. Потребность тела, но не души.
Но ты была прекрасна, Малин, когда проходила сейчас мимо меня. Такая красивая, усталая и измученная».
Последняя ступенька.
Даниэль улыбается полицейским.
— Ни малейшего шанса, Хёгфельдт, — говорит тот из них, кто повыше ростом.
И улыбается в ответ.
Иногда, когда Малин думает, что не сможет заснуть, сон одолевает ее за пару минут.
Ей снится, что она лежит в уютной постели. На мягком полу в белой комнате с прозрачными стенами, которые слегка покачиваются на теплом ветру.
И за этими стенами она видит множество теней. Это мама и папа, Туве и Янне, и Зак там, и Свен Шёман с Юханом Якобссоном, и Бёрье Сверд со своей женой Анной. Там же братья Мюрвалль, Ребекка, и Мария, и толстая фигура, ковыляющая с мячом в руках. Потом появляются Маркус, Бигган и Хассе и охранник из будки «Коллинза», Готфрид Карлссон, Вейне Андерссон, медсестра Херманссон и «крутые парни» из Юнгсбру, Маргарета Свенссон, Йоран Кальмвик и Никлас Нюрен и многие, многие другие. Все они явились к ней во сне, словно топливо памяти, навигационные точки сознания. Люди, с которыми она встречалась в последние недели, разместились в освещенном пространстве, которое может быть чем угодно. И в центре его — тень Ракели Мюрвалль, от которой исходит черное сияние.
Звонит будильник на ночном столике.
Резкий и громкий механический сигнал.
7.35.
Время спать вышло всего через полтора часа.
На полу в прихожей лежит номер «Корреспондентен».
На этот раз они запоздали, хотя, вероятно, только по вине типографии.
Здесь все о Ребекке Стенлунд и о том, что она сестра убитого Бенгта Андерссона. Но нет ничего о Карле Мюрвалле и о том, что сегодня ночью у него делали обыск. Вероятно, газета сейчас печатается. Но у них на сайте это есть наверняка. Хватит ли у меня сил заглянуть туда, да и что там может быть такого, чего я не знаю?
Даниэль Хёгфельдт написал в номер несколько статей.
Как обычно.
Не обошлась ли я с ним слишком сурово нынешней ночью? Хотя, вероятно, нужно было дать ему понять, кто он есть на самом деле.
Вода в душе теплая, и Малин чувствует, что пробуждается окончательно.
Она одевается. Стоя возле посудного столика на кухне, выпивает чашку «Нескафе», воду для которого разогрела в микроволновке.
«Только бы нам найти сегодня Карла Мюрвалля, — думает она. — Живого или мертвого. Мог ли он лишить себя жизни? С ним сейчас возможно все.
Мог ли совершить новое убийство?
Мог ли изнасиловать Марию Мюрвалль?
Карин скоро закончит, результаты теста будут в течение дня».
Малин вздыхает и смотрит из окна на церковь Святого Лаврентия и деревья. Ветки упрямо топорщатся во все стороны, сопротивляясь морозу.
«Совсем как люди в наших широтах, — думает Малин, глядя на рекламные плакаты в окне бюро путешествий. — Жизнь здесь невозможна, тем не менее именно здесь наш дом».
В спальне Малин пристегивает кобуру с пистолетом.
Открывает дверь в комнату Туве.
Ее дочь — самая красивая на свете.
Пусть спит.
Карим Акбар крепко держит своего восьмилетнего сына за руку, чувствуя сквозь варежки его пальцы.
Они идут по присыпанной песком дорожке к школе. Многоквартирные дома в Ламбухове, высотой в три-четыре этажа, выглядят как межпланетные станции, разбросанные по пустынному пространству равнины.
Обычно сына провожает в школу жена Карима, но сегодня она жаловалась на головную боль и не смогла подняться с постели.
Дело сделано. Осталось только взять преступника. Неужели потом все закончится?
Это все Малин. Зак, Юхан и Бёрье. Свен — как скала. Что я бы без них делал? Моя задача — подгонять их, поддерживать в них бодрость духа. Как это ни мало в сравнении с тем, что делают они.
Малин. Во многих отношениях просто идеальный следователь. Хорошая интуиция, деятельна до одержимости. Она — человек мыслящий, это несомненно, всегда ищет кратчайший путь, взвешивает шансы. И она не безрассудна. Как правило, во всяком случае.
— Чем вы будете заниматься сегодня в школе?
— Я не знаю, как обычно.
Дальше они идут молча, Карим и его сын.
У невысокого глянцево-белого здания школы Карим придерживает перед мальчиком дверь, и тот исчезает внутри, будто проглоченный тускло освещенным коридором.
Номер «Корреспондентен» лежит в почтовом ящике на стене. Ракель Мюрвалль открывает наружную дверь и выходит на крыльцо, отмечая про себя, что сегодня влажно и в такую погоду у людей болят суставы.
Но ее не мучают подобные физические недуги. «Когда пробьет мой час, — думает она, — я просто упаду замертво. Я не стану валяться в больничной палате и выть, будучи не в состоянии даже держать в себе собственное дерьмо».
Она осторожно ступает по снегу, потому что боится перелома шейки бедра. Почтовый ящик далеко, но она приближается к нему шаг за шагом. «Мальчики» все еще спят, но скоро проснутся, а она хочет прочитать газету сейчас, не дожидаясь, пока ее принесут, или читать с монитора в гостиной.
Она открывает ящик. Из-под газеты видны мертвые уховертки.
Дома она выпивает чашку свежесваренного кофе, садится за кухонный стол и читает.
Снова и снова перечитывает статьи об убийстве Бенгта Андерссона и последнем нападении.
Ребекка?
Я понимаю, что произошло.
Я не настолько глупа.
«Его отец был моряком», — так я говорила моим мальчикам.
«Так ты лгала нам, мать?» — вот вопрос, за которым последуют другие.
«Так его отцом был Калле-с-Поворота? Так ты обманывала нас все эти годы? Чего же мы еще не знаем? Почему вы с отцом заставляли нас мучить его? Ненавидеть? Нашего родного брата?»
И так далее.
«Как же папа свалился с лестницы? Это ты его столкнула? Ты солгала нам даже о том, что произошло в тот день?»
Правду нужно задушить. В этом нет никаких сомнений. Еще не поздно. И я вижу такую возможность.
Она, Ребекка, блуждала голая в поле. Совсем как Мария.
— Браво, Малин!
Карим Акбар встречает ее аплодисментами у входа в участок.
Малин улыбается.
«Браво? — думает она. — Какое такое „браво“? Еще ничего не закончено».
Она усаживается за свой стол.
Смотрит сайт «Корреспондентен».
Короткая заметка о Карле Мюрвалле и о том, что он объявлен в розыск. Они не делают никаких выводов, но указывают на связь между ходом следствия и заявлением матери Карла Мюрвалля о преследовании ее полицией.
— Фантастическая работа, Малин. — Карим стоит рядом с ней. Малин поднимает глаза. — Не все в согласии с инструкциями. Но если между нами, мы добились кое-каких результатов, а если хочешь чего-нибудь добиться, иногда приходится действовать на свой страх и риск.
— Мы должны найти его, — говорит Малин.
— Что ты собираешься делать?
— Преследовать Ракель Мюрвалль.
Карим смотрит на Малин, а она глядит ему в глаза со всей серьезностью, на какую способна.
— Поезжай, — разрешает он. — Под мою ответственность. Только возьми с собой Зака.
Малин озирает офис. Свена Шёмана еще нет на месте, но Зак за своим столом беспокойно роется в бумагах.
76
В машине тихо.
Зак не сказал, что хочет включить музыку, а Малин нравится слушать монотонное гудение мотора.
Город за окнами автомобиля такой же, как и две недели назад. Как всегда, ненасытный. Жизнь в Шеггеторпе словно стынет на морозе, а торговые склады в Торнбю такие же неуклюжие. Покрытый снегом Роксен все так же красив, а дома на склоне холма возле монастыря Вреты все так же манят своей благоустроенностью.
«Ничего не изменилось, — думает Малин. — Даже погода». Но потом ей приходит в голову, что изменилась, похоже, Туве. Туве и Маркус. В голосе у девочки появились новые нотки. Она стала менее строптивой и замкнутой, более открытой и уверенной в себе. «Тебе это идет, Туве, — мысленно обращается к ней Малин. — Ты, без сомнения, станешь очень приятной женщиной, когда вырастешь.
Может, и мне стоит дать Даниэлю шанс?»
В окнах домов в Блосведрете горит свет. Братья с семьями дома, каждый у себя. Белая деревянная вилла Ракели Мюрвалль, возвышающаяся в самом конце улицы Блосведретвеген, выглядит одинокой.
Белая дымка клубится перед фасадом. «Эта снежная завеса скрывает твои тайны, — думает Малин. — Ты ведь пойдешь на все, чтобы сохранить их, правда, Ракель?»
Пособие на ребенка.
Этот ребенок, которого ты оставила только ради денег. Ради ничтожной подачки, которая, вероятно, кое-что все-таки значила для тебя. Ведь ее хватало на жизнь, во всяком случае почти хватало.
За что же ты так ненавидела его? Что тебе сделал Калле-с-Поворота? Или с тобой поступили так же, как с Марией в лесу? С Ребеккой? Калле изнасиловал тебя? Это так появился ребенок? И поэтому ты его возненавидела?
А может, ты хотела отказаться от него? Но потом тебе пришла в голову эта блестящая идея, ты выдумала историю с моряком и стала получать деньги. Так все наверняка и было. Он взял тебя силой. А ребенок заплатил за все.
Иначе как могла ты так возненавидеть собственного сына? История знает подобные примеры. Малин читала, как немки, изнасилованные в конце войны русскими солдатами, отказывались от своих детей. То же в Боснии. И очевидно, в Швеции.
А может, ты любила Калле-с-Поворота, но была для него лишь одной из многих женщин, то есть никем? И этого тебе оказалось достаточно, чтобы возненавидеть сына?
И все-таки я склоняюсь к первому варианту.
Или зло было дано тебе изначально, Ракель?
Разве бывает такое зло?
И деньги. Жажда денег — словно черное солнце над жизнью этой заброшенной, продуваемой всеми ветрами улицы.
Мальчика надо было отдать в другую семью, Ракель.
Возможно, тогда твоей злобе и ненависти пришел бы конец. И твои прочие «мальчики», быть может, стали бы другими. Да и ты сама.
— Адское место, — говорит Зак, когда они проходят через ворота к дому. — Ты видишь его ребенком, там, под яблоней, в снегу? Как он мерзнет?
Малин кивает.
— Если ад существует… — задумчиво произносит она.
Спустя полминуты они стучатся в двери дома Ракели Мюрвалль.
Они видели, как она выходила из кухни в гостиную.
— Не хочет открывать, — говорит Малин.
Зак продолжает стучаться.
— Одну секунду, — слышится голос изнутри.
Дверь открывается, и Ракель улыбается им.
— Инспекторы? Чем обязана?
— У нас к вам несколько вопросов, если не возражаете…
— Входите, инспекторы, — обрывает Зака Ракель. — Забудьте о моем заявлении, простите старую женщину. Кофе?
— Нет, спасибо, — отвечает Малин.
Зак качает головой.
— Присаживайтесь.
Ракель Мюрвалль делает жест в сторону кухонного стола.
Они садятся.
— Где Карл? — спрашивает Малин.
Ракель Мюрвалль пропускает ее вопрос мимо ушей.
— Его нет ни дома, ни на «Коллинзе». И он уволен с работы, — говорит Зак.
— Мой сын сделал что-то не так?
«Сын? Раньше она никогда не говорила так о Карле», — замечает Малин.
— Вы же читали газету. — Малин кладет руку на номер «Корреспондентен» на столе.
«Ты прекрасно понимаешь, что к чему».
Старуха улыбается и молчит.
— Я понятия не имею, где может быть мальчик, — отвечает она спустя некоторое время.
Малин смотрит в окно кухни. Она видит там маленького Карла, голого, на морозе. У него заплаканное лицо, и он кричит. А потом падает в снег, содрогаясь всем телом. Мерзнущий ангел посреди заснеженной земли.
Малин стискивает зубы.
Ей хочется сказать Ракели Мюрвалль, что она заслуживает геенны огненной, потому что такое не может пройти даром.
По официальному законодательству срок давности ее преступления истек, но с человеческой точки зрения некоторые злодеяния не прощаются никогда.
Насилие.
Педофилия.
Издевательства над детьми.
Наказание за такое — позор на всю жизнь.
А как же любовь к детям? Это самая первая, изначально данная нам любовь.
— Так что же произошло между вами и Калле-с-Поворота, Ракель?
Ракель оборачивается к Малин и смотрит на нее. И зрачки в глазах старухи расширяются и чернеют, словно пытаясь передать всю тысячелетнюю историю женских мук. Потом она мигает и на несколько секунд закрывает глаза, прежде чем ответить.
— Это было так давно. Теперь уже и не вспомню. Я столько всего перенесла с мальчиками.
«Вот так новость!» — думает Малин, прежде чем задать следующий вопрос.
— Вы никогда не думали, что ваши мальчики могут узнать: отец Карла — Калле-с-Поворота?
Ракель Мюрвалль наливает себе кофе.
— Мальчики знают это.
— Правда? Действительно знают, Ракель? Ведь быть уличенным во лжи значит испортить любые отношения, — продолжает Малин. — И какая власть может быть у того, кто солгал?
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — отвечает Ракель. — Вы мелете всякий вздор.
— Правда, Ракель? Я мелю вздор?
Ракель Мюрвалль запирает за ними входную дверь, усаживается в прихожей на деревянный стул, выкрашенный красной краской, и смотрит на фотографию на стене. На снимке она сама в окружении сыновей в саду и Черный. Еще до инвалидного кресла.
Чертов сын, это ты тогда снимал нас.
Если ты исчезнешь, исчезнешь навсегда, все мои тайны останутся при мне.
А слухи я запру в темном гардеробе.
Его не должно быть — это так просто. Убрать его, я слишком от него устала.
Она берется за телефон.
Звонит Адаму.
В трубке отвечает детский голос, такой невинный. Его малыш.
— Алло.
— Привет, Тобиас. Это бабушка. Папа там?
— Привет, бабушка.
Потом тишина. Наконец отвечает мужчина:
— Мама?
— Зайди ко мне, Адам. И возьми с собой братьев. Я хочу сказать вам нечто очень важное.
— Я приду, мама. И скажу остальным.
Обычно я приезжал сюда на велосипеде.
Лес был мой.
Они охотились здесь иногда, я слышал, как они стреляли, в любое время года. И уже тогда я ждал их.
Мама.
За что ты так зла на меня?
Что я такого сделал? Что?
Мне тепло, и перед глазами возникают разные образы. Я — ангел под яблоней из крошек печенья.
Теперь очаг снова горит, и не слышно никаких звуков, кроме потрескивания дров. Здесь хорошо, в землянке, только одиноко. Но я не боюсь одиночества, потому что нельзя бояться самого себя, ведь так?
Думаю, я могу немного поспать, пока вы не придете и не заберете меня отсюда. И тогда я стану другим — когда вы впустите меня.
— И что нам теперь делать?
Зак ведет машину в направлении монастыря Вреты. Где-то в километре от них виднеется церковь, похожая на древнюю крепость. По одну сторону дороги мелькают конюшни клуба верховой езды «Хеда», по другую открытое поле.
Малин хотела звонить братьям, спросить их, знают ли они, кто отец Карла, но Зак остановил ее.
— Если они не знают этого, у старухи есть право на свои секреты. Мы не можем так бесцеремонно вторгаться в чужую жизнь и ворошить ее прошлое.
И Малин поняла, что Зак прав. Независимо от последствий. Если они перестанут уважать людей такими, каковы они есть, на какое уважение со стороны общества могут рассчитывать?
Она отвечает на вопрос Зака:
— Дождемся команды Шёмана. Сейчас они готовятся к тому, чтобы как можно тщательней прочесать лес, но для собак слишком холодно. Тем не менее они наверняка прихватят с собой парочку. Может, нам стоит появиться там раньше их?
— Нет, Малин. Если мы ничего не нашли вчера, что мы можем найти сегодня?
— Не знаю. Тогда мы можем свернуть к месту убийства и к другому дереву. Это ведь где-то рядом.
— Прошлой ночью там уже была машина. Нам бы сообщили, если б что-нибудь нашли.
— У тебя есть другие предложения?
— Нет, — отвечает Зак и поворачивает обратно.
Проезжая мимо домов в Блосведрете, они видят братьев, направляющихся к дому матери.
— Как ты думаешь, скоро ли Карин закончит с пробой ДНК Карла Мюрвалля? — спрашивает Малин. — Я хочу знать, он ли изнасиловал Марию Мюрвалль.
— Ты так думаешь?
— Нет, но я хочу знать. Я думаю, она снова обманула нас, хотя не знаю, в чем именно. Не сомневаюсь, она ни за что не впустила бы нас, если б не видела в этом никакой выгоды. Она по-прежнему всем здесь заправляет. И уцепится за любую соломинку, чтобы защитить то, что, как она считает, ей принадлежит. — Малин тяжело вздыхает. — И чтобы удержать при себе свои тайны.
Адам, Элиас и Якоб Мюрвалли сидят за столом на кухне матери.
Они попивают свежесваренный кофе, закусывая печеньем, которое Ракель только что разогрела в духовке, предварительно достав из морозильника.
— Вкусное печенье, мальчики?
Ракель Мюрвалль стоит у плиты с номером «Корреспондентен» в руке.
Похвалив печенье, сыновья ждут, что мать скажет им такого, о чем не хотела говорить, прежде не угостив кофе.
— Мартинссон и Форс, — начинает она, — только что были здесь и спрашивали о Карле. И если это не он истязал и искалечил ту женщину, которую нашли у дороги, как пишет газета, тогда зачем им было приезжать сюда? Притом что я заявила на них. Зачем им рисковать?
Она протягивает газету «мальчикам».
Пусть прочитают заголовок, посмотрят фотографии.
— Полиция ищет Карла. И здесь написано, женщину нашли в том же виде, что и Марию. И если вы заглянете в компьютер, то узнаете, что ночью они делали обыск в его квартире.
— Значит, это он напал на Марию в лесу?
Адам Мюрвалль словно выплюнул эти слова.
— Кто же это еще мог быть? — спрашивает Ракель Мюрвалль. — А сейчас он исчез. Это он, он сделал то же, что и раньше. Все как раньше.
— Свою собственную сестру?
— Дьявол.
— Выродок. Он выродок. Он всегда был им.
— Но почему?
В голосе Элиаса Мюрвалля слышится неуверенность.
— А почему мы так не любили его? Вы никогда об этом не задумывались?
Ракель выдерживает паузу и продолжает, понизив голос:
— Он был урод с самого своего рождения, не забывайте об этом. И он ненавидел ее, потому что она была одной из нас и не такая, как он. Потому что он сумасшедший. Вы сами знаете, как он убежал в лес. А его землянка всего в какой-нибудь миле от того места, где нашли Марию. Это он, все сходится.
— Но миля в лесу — это очень много, мама, — возражает Элиас. — Здесь все-таки есть над чем поразмыслить.
— Все сходится, Элиас. Он изнасиловал вашу родную сестру в лесу. Он уничтожил ее.
— Мать права, Элиас, — тихо говорит Адам и делает глоток кофе.
— Все так и есть, — соглашается Якоб. — Все сходится.
— Теперь вы сделаете то, что должны, мальчики. Ради сестры. Или как, Элиас? Мальчики…
— Но что, если полиция ошибается?
— Она часто ошибается, Элиас. Но не на этот раз, нет. Не сомневайся, что с тобой? Или, может, ты на его стороне?
Ракель Мюрвалль угрожающе размахивает газетой.
— Ты на его стороне? Подумай, может ли быть иначе? Все сходится одно к одному. Ваша сестра должна обрести покой. Может, она вернется к нам, как только узнает, что того, кто причинил ей зло, больше нет.
— Но они арестуют нас, мама, они заберут нас, — продолжает Элиас. — И в конце концов, всему есть предел.
— Не волнуйтесь, — успокаивает сыновей Ракель Мюрвалль. — Полицейские глупее кур. Вы знаете, где он сейчас. Сделайте это, мальчики, а там посмотрим. Слушайте же…
Дуб, на котором висел Бенгт Андерссон, выглядит так же, как любое одинокое дерево посреди равнины. Если не считать сломанной ветки.
Но теперь этот дуб навсегда связан с тем, что произошло здесь однажды в самом холодном из февралей. А весной его срубит крестьянин, которому надоели венки, и любопытные местные жители, и медитирующие женщины. Он выроет все до последнего корешка и не уйдет отсюда, пока не убедится, что от дуба ничего не осталось. Но где-то глубоко-глубоко в земле все-таки сохранится маленький корневой отросток, и он вырастет в новое дерево, одинокое посреди равнины, и оно будет снова и снова шептать над просторами Эстергётланда имена Мяченосца, Ракели Мюрвалль и Калле-с-Поворота.
Малин и Зак сидят в машине и смотрят на дерево.
Двигатель работает на холостом ходу.
— Здесь его нет, — говорит Зак.
— Но однажды он здесь был, — отзывается Малин.
В салоне «рейнджровера» пахнет бензином и моторным маслом, и кузов стучит, когда машина на высокой скорости проезжает по поселку Юнгсбру, мимо магазина «Вивохаллен», кондитерской и кафе «Клоетта» у подножия холма, рядом с мостом через реку.
Элиас Мюрвалль на заднем сиденье в отчаянии ломает руки и произносит слова, которые не хочет говорить вслух:
— Что, если она ошибается? Если он этого не делал? Тогда мы будем раскаиваться до конца жизни. Какое, черт возьми, мы имеем право…
Адам Мюрвалль оборачивается с пассажирского сиденья впереди:
— Это он, дьявол его подери, изнасиловал Марию. Все сходится. И теперь мы должны сделать это. Не ты ли часто повторяешь, Элиас, что не нужно показывать свою слабость? Не ты ли так любишь говорить об этом? Не нужно выглядеть слабаком. Так и не делай же этого сейчас. Следи за собой…
И автомобиль кренится, сползая в канаву прямо у поворота на Ульсторп.
— Ты прав! — кричит Элиас. — Я не слабак.
— Проклятье! — ругается Якоб Мюрвалль. — Сейчас мы сделаем то, что должны, и не о чем здесь болтать. Понятно?
Элиас откидывается назад. Голос Якоба действует на него успокаивающе, несмотря на весь его гнев.
Элиас тяжело дышит. Во всем этом движении чувствуется какая-то определенность, общая для них для всех цель, хотя и не та, что предполагалась.
Он оборачивается.
Заглядывает в багажник.
Там деревянный ящик в пятнах краски. В нем три гранаты, похищенные с оружейного склада. Их только что достали из тайника под полом мастерской, который полиция так и не обнаружила во время обыска несколько недель назад.
— Нам чертовски повезло, что они не добрались до гранат, — так говорил Якоб дома, когда мать излагала им свой план.
— Ты прав, Якоб, — соглашалась она. — Чертовски повезло.
Малин и Зак блуждают по равнине в поисках очередного одинокого дерева.
Но под теми, что им попадаются, нет следов борьбы. Это самые обыкновенные деревья, измученные ветром и морозом.
Зак ведет машину в сторону Клокрике по плохо расчищенной дороге на краю бесконечного белого поля. У Малин звонит телефон.
На дисплее отражается номер Карин Юханнисон.
— Это Малин.
— Форс, результат отрицательный, — говорит Карин. — Карл Мюрвалль не насиловал свою сестру.
— Абсолютно никакого сходства?
— Он не делал этого совершенно точно.
— Спасибо, Карин.
— Это было так важно? Ты думала, это он?
— Я не знаю, что я думала, но теперь я уверена. Спасибо еще раз.
Малин кладет трубку.
— Это не он изнасиловал Марию Мюрвалль, — говорит она Заку, который слушает ее, не сводя глаз с дороги.
— Ну, тогда дело еще не закончено. — В голосе Зака слышится хрипота, как бы подтверждающая сказанное.
Но братья направлялись к дому Ракели Мюрвалль сразу после того, как они с Заком оттуда ушли.
Братья, которые не знают, что Марию изнасиловал не Карл.
Они слушаются свою мать, подчиняются ей.
Мать, которая охраняет свои тайны.
И у нее есть только один способ уберечь их.
Зак останавливает машину перед очередным деревом.
«Корни, — думает Малин. — Кровь, которую надо смыть. Действия, на которые надо ответить действием. Только этим все мы и занимаемся.
И теперь он должен исчезнуть. Ракель не знает, что у нас есть ДНК Карла, что все выйдет наружу.
Или она ощущает это где-то в глубине души, но отгоняет прочь это чувство, хватаясь за последнюю воображаемую соломинку».
Если загнать зло в угол, оно набросится на тебя.
— Я поняла! — кричит Малин в тот момент, когда Зак открывает дверцу со стороны водительского сиденья. — Поняла, почему она не пускала нас раньше! Поезжай к охотничьей избушке. Так быстро, как только можешь!
77
Виллы на обочине дороги у монастыря Вреты.
За их фасадами — уют и благополучие. Так близко и в то же время так далеко.
И после нынешней поездки Малин не захочет видеть эту дорогу в ближайшую тысячу лет.
Они переезжают мост внизу, возле бывшей епископской усадьбы Кюнгбру, и сворачивают в сторону Ульсторпа.
Мимо школы Монтессори[59] в Бьёркё, чьи голубые и розовые корпуса угловатой антропософской[60] архитектуры, кажется, страдают от мороза не меньше, чем обыкновенные дома. Остается надеяться, что там, внутри, растят хороших людей.
У Янне была мысль отдать Туве в школу Монтессори, но Малин воспротивилась: она слышала, что дети, воспитанные в таких тепличных условиях, редко выдерживают конкуренцию с выпускниками обычных школ.
Они делают кукол.
Издают собственные книги.
Их учат, что мир полон любви.
Какая же любовь может быть там, в лесу? Разве что скрытая ненависть.
Дорога скользкая, и машину заносит то в одну, то в другую сторону, когда Зак жмет на педаль.
«Давай, Зак. Это срочно. Слово даю, он где-то там».
Зак ни о чем не спрашивает. Он сосредоточился на дороге и машине. Они проезжают мимо ворот на въезде в Ульсторп и направляются к озеру Хюльтшён.
За окнами автомобиля площадка для гольфа. Малин кажется, что развевающиеся флажки похожи на братьев Мюрвалль: подобно ветру, мать может повернуть их, куда ей заблагорассудится.
Якоб Мюрвалль еще крепче вцепляется в руль, сворачивая на дорогу вдоль озера Хюльтшён. Дачные домики на берегу — как маленькие белые коробки в клубах тумана, похожего на хлопковый пух.
Зеленый «рейнджровер» буксует в снегу, ледяная метель у обочины дороги режет, словно острейшие осколки разорвавшейся бомбы, но Якобу удается удерживать автомобиль на дороге.
Элиас не вымолвил больше ни слова.
Адам на пассажирском сиденье молчит с решительным видом.
«Мы только сделаем то, что должны, — думает Якоб. — Мы всегда так поступаем и поступали. И когда я нашел папу под лестницей, я взял себя в руки, пусть мне и хотелось кричать. Я только закрыл ему глаза, чтобы мама не видела его ужасного мертвого взгляда.
Мы сделаем то, что должны. Чего мы будем стоить, если позволим кому бы то ни было просто так насиловать нашу сестру? Подобное дерьмо вне любого закона. Мы докажем, чего мы стоим, и положим этому конец».
Якоб жмет на педаль и доезжает до конца дороги. Здесь он останавливает машину, поворачивает ключ и глушит мотор.
— Выходите! — кричит он.
Братья выскакивают наружу, и последние сомнения Элиаса мигом улетучиваются.
На них зеленые куртки и темно-синие брюки.
— Давай! — кричит Якоб.
Адам открывает багажник, вытаскивает из него грязную коробку, ставит ее на землю и снова опускает крышку багажника.
— Готово, — объявляет он.
Потом осторожно берет коробку под мышку, и они шагают по сугробам к лесу.
Впереди Якоб.
Потом Элиас.
Последним Адам с коробкой.
Якоб смотрит на деревья вокруг. Он часто охотился в этом лесу. Ему вспоминается мать за столом и Мария на кровати в тот единственный раз, когда он решился войти к ней в Вадстене.
«Дьявол, дьявол», — думает он.
Братья шагают следом.
Они ругаются, проваливаясь сквозь наст, ломающийся под их быстрыми тяжелыми шагами.
«Три гранаты весят много, — думает Адам, — и в то же время так мало, если учесть, сколько бед они могут натворить».
Он думает о Марии. Как она пугалась, когда он подходил к ней, как забивалась в угол, а он шепотом повторял ее имя, снова и снова, чтобы она успокоилась. Он так и не понял, узнала ли она его. Она ни разу ничего ему не сказала, но он все равно приходил к ней. Со временем она стала меньше бояться и как будто смирилась с его присутствием.
А теперь?
Теперь их очередь, тех, кто сидит в ней и причиняет ей боль.
Демонов.
Сапоги проваливаются сквозь наст, ступая на корни, и ему стоит усилий вытаскивать их из снега.
Только дьявол мог сотворить такое.
Со своей родной сестрой.
Здесь больше не о чем думать. Его нужно уничтожить, никаких сомнений. Сомнения — это не для нас.
Коробка у Адама под мышкой. Он крепко держит ее. Еще неизвестно, что может произойти, если он ее уронит.
Он задыхается. Он видит братьев впереди, чувствует мороз и вспоминает тот случай на берегу канала, с турком, когда они оба заступились за него, доказали, что никакому черту не позволено садиться им на шею. Мы всегда вместе. Это и тебя касается, Мария. И поэтому мы должны сделать это.
Мы били, били и били.
Теперь нужно большее.
Мы ведь теперь взрослые.
Элиас всего в метрах десяти. Адам чувствует его тело, ветер в его волосах. Совсем как тогда, когда сидел позади него на «дакоте». И так будет всегда.
Здесь машина.
«Рейнджровер» братьев Мюрвалль стоит у самого сугроба, и Зак паркуется рядом, стараясь не заблокировать дорогу.
Они звонили, вертолет, должно быть, уже в пути. Малин сказала Шёману: «Положись на меня, Свен».
Но требуется время, чтобы в такой мороз поднять вертолет в воздух, поэтому им надо полагаться на самих себя, на собственные ноги. Команда с собаками только что выехала из участка.
Они карабкаются по сугробам, ступая в следы братьев, пробираются меж деревьев, бегут, ломая наст, опять и опять. Их сердца пульсируют в бешеном темпе, легкие болят от напряжения, тела, переполняемые свежим холодным воздухом, рвутся вперед, вперед, спотыкаются, израсходовав весь свой адреналин, а потом снова бегут. Малин и Зак вслушиваются в тишину леса, стараясь уловить признаки движения, жизни, присутствия братьев, но все напрасно.
— Черт! — задыхается Зак. — Далеко ли они могли уйти, как ты думаешь?
— Далеко, — отвечает Малин. — Но нам нельзя останавливаться.
И Малин бросается в чащу, и снег проваливается под ее тяжелыми быстрыми шагами, и она падает, а потом встает и делает новый рывок.
Поле ее зрения сужено до тесного туннеля между стволов.
— Это не он изнасиловал вашу сестру! — кричит она.
«Не верьте своей матери, он не насиловал Марию. Он сделал много зла, но не это. Остановитесь же, пока не поздно. Что бы вы там ни думали, что бы она ни вбивала вам в головы, он все-таки ваш родной брат. Вы слышите? Вы слышите меня? Он ваш родной брат, и это не он изнасиловал вашу сестру, мы знаем это наверняка».
Туннель кончается.
«Я должна догнать их», — думает Малин.
— Это не он изнасиловал вашу сестру! — кричит она, задыхаясь, но и сама едва слышит свой голос.
«Никогда не показывай своей слабости, никогда…»
Элиас повторяет про себя эти слова, как мантру, и думает, что однажды раз и навсегда показал свою силу, тогда, с учителем Бруманом, посмевшим назвать его засранцем.
Иногда он старается понять, почему же все так получилось, почему они оказались в изоляции. И единственный ответ, который приходит ему в голову, — так было с самого начала.
У других работа, правильная жизнь, приличные дома, но у нас этого никогда не было и не будет. Нам дали это понять.
Адам идет за ним.
Элиас останавливается и оборачивается. Он думает о том, что его брат хорошо несет коробку и что у него от мороза розовое лицо и кожа стала прозрачной.
— Держи коробку, Адам!
— Держу, — отвечает тот, тяжело дыша.
Якоб молча идет впереди.
Он шагает решительно, плечи под курткой опущены.
— Проклятье, — ругается Адам. — Снег проваливается.
И с трудом делает следующий шаг.
— Пошли быстрее, — торопит он. — Покончим со всем этим.
Элиас молчит.
Здесь больше не о чем говорить. Надо действовать.
Они проходят мимо охотничьей избушки.
Не останавливаясь, братья пересекают поляну и снова углубляются в лес, еще более темный и густой на той стороне.
Наст здесь крепче, толще и все-таки прогибается то там, то здесь.
— Он залег внутри, — говорит Элиас, — я уверен в этом.
— Я чувствую дым, — добавляет Адам.
Его пальцы, вцепившиеся в коробку, коченеют, не слушаются, скользят по дереву.
Он меняет руку, разминая другую, чтобы ослабить судороги.
— Чертова нора. Он не лучше зверя, — шепчет Якоб. — Ну, теперь твоя очередь, Мария, — говорит он громко, на весь лес.
Но голос его затухает между стволами. Лес всегда поглощает звуки.
Давай, Малин, давай. Если еще не поздно.
Вертолет уже поднялся с поля в Мальмслётте и сейчас взбивает воздух над равниной, направляясь в вашу сторону. И утратившие нюх собаки тявкают и мечутся в отчаянии.
Я согласен с тобой, Малин, и этого пока достаточно.
И все же…
Я хочу, чтобы Карл был рядом со мной.
Хочу парить бок о бок с ним.
Увести его отсюда.
Разве может быть такая усталость?
Молочная кислота пульсирует в теле Малин, и хотя они видят следы братьев, уходящие дальше в глубь леса, оба присаживаются на крыльце охотничьей избушки отдохнуть.
Ветер свистит.
И в теле шум. А в голове все закипает, несмотря на мороз. Пар изо рта Зака — словно дым затухающего пожара.
— Проклятье, проклятье, — ругается он, постепенно приходя в себя, — мне бы сейчас выносливость Мартина.
— Пойдем дальше, — выдыхает Малин.
Они поднимаются.
И устремляются в лес.
78
Вы уже идете?
Идете сюда, чтобы впустить меня?
Не бейте меня.
Это вы? Или мертвые?
Кто бы вы ни были, там, снаружи, скажите мне, что вы пришли с миром. Скажите, что пришли с любовью.
Пообещайте мне это.
Пообещайте мне.
Пообещайте.
Я слышу вас. Вы еще не здесь, но скоро придете. Я лежу на полу и слышу ваши слова, ваши приглушенные крики.
«Сейчас мы впустим его! — кричите вы. — И он станет одним из нас. Он войдет».
Как это прекрасно!
Я сделал так много. Больше нет чужой крови, а ту, что течет в моих жилах, можно не считать.
Вы все ближе.
И вы несете мне ее любовь.
Только впустите меня. Дверь в мою землянку не заперта.
Элиас Мюрвалль видит дымок, поднимающийся из едва заметного отверстия в сугробе. Он представляет Карла, там, внутри, сжавшегося в темноте в комок, испуганного и ничего не понимающего.
Это мог сделать только он.
Сомнения — слабость.
Мы должны убить, растоптать его — только так.
Все так, как говорила мать: он был выродком с самого начала, и мы всегда чувствовали, все трое, что это он изнасиловал Марию.
Карл сам отыскал эту землянку, когда ему было десять лет.
Он тайком приезжал сюда на велосипеде, он был горд, словно хотел удивить их какой-то жалкой землянкой.
Черный запирал его здесь на несколько дней подряд, и он сидел, когда они жили в охотничьей избушке, на одной воде. Время года не имело значения. Сначала Карл протестовал и получал за это от отчима и братьев. Но потом он как будто свыкся с землянкой, обустроился в ней и сделал ее своим убежищем. После этого запирать его здесь стало не так весело, и они думали как-то зарыть эту нору. Но поленились.
«Пусть прячется, чертово отродье», — буркнул старик с инвалидного кресла, и никто не стал возражать.
Они знали, что он до сих пор наведывается сюда. Иногда они видели следы его лыж, ведущие к землянке. Когда же они не находили их, то понимали, что он подбирался с другой стороны.
Элиас и Якоб приближаются к землянке.
Дьявол. Он должен исчезнуть.
Зеленая коробка в руке Адама тяжела, но он уверенно ступает в следы братьев, пробираясь сквозь черно-белый лесной ландшафт.
— Ты слышишь, Зак?
— Что?
— Как будто голоса впереди.
— Не слышу никаких голосов.
— Мне показалось, кто-то говорил там.
— Форс, хватит болтать. Вперед.
«Что они сказали? Они говорили как будто, что надо что-то открыть. Открыть и впустить».
— Открывай, Якоб! Открывай, я брошу!
Это говорит Элиас.
«Все так. У меня получилось. Наконец все встанет на свои места.
Чего же вы ждете?»
— Сначала, — слышится голос Якоба, — ты бросишь одну, потом сразу другую, а коробку в последнюю очередь.
У Малин мутится в голове; теперь она слышит голоса, больше похожие на шепот, и слов невозможно разобрать из-за ветра.
Бормотание.
Вся тысячелетняя история несправедливостей и злодеяний вылилась в одно это мгновение.
Или это ей кажется, что лес расступается?
Зак не поспевает за ней.
Он бредет сзади, задыхается, и Малин думает, что он вот-вот упадет.
Она проходит еще немного, а потом устремляется вперед, в просвет между деревьями, и снег исчезает под ее ногами, словно уверенность в собственной правоте дает ей силы воспарить над землей.
Элиас Мюрвалль достает из коробки первую гранату. Он видит Якоба у входа в землянку, дымок очага — словно завеса за его спиной. Деревья застыли, как в карауле, и всем своим видом призывают: «Давай же, давай, давай…»
Убей своего родного брата.
Он уничтожил твою сестру.
Он не человек.
Но Элиас медлит.
— Какого черта, Элиас! — кричит Якоб. — Давай же сделаем это! Бросай! Какого дьявола ты ждешь!
И Элиас повторяет шепотом: «Какого дьявола я жду?»
— Бросай, бросай же!
Это голос Адама.
Элиас срывает предохранитель с первой гранаты, и в этот же момент Якоб распахивает дощатую дверь землянки.
Они открыли мне, я вижу свет. Теперь я один из них.
Наконец-то.
Какие вы милые.
Сначала яблоко, ведь они знают, как я люблю их. Оно подкатывается ко мне, такое зеленое в мягком сероватом свете.
Я беру яблоко, а оно такое холодное и зеленое…
А вот еще два. И коробка.
Это так мило.
Я беру яблоко, но оно такое холодное и твердое от мороза.
Теперь вы здесь.
Но вот дверь закрывается снова, и свет пропадает. Почему?
Ведь вы обещали впустить меня?
Когда же снова будет свет? И откуда этот грохот?
Зак падает рядом с Малин.
Что такое там, впереди? Она словно смотрит в ручную видеокамеру, и изображение ходит туда-сюда. Что же она видит?
Троих братьев?
Что они делают?
Они бросаются на снег.
А потом раздается грохот.
Затем еще и еще, и пламя вспыхивает над сугробом.
Она кидается на землю, чувствуя, как мороз проникает в каждую ее косточку.
Оружие с ограбленного склада.
Ручные гранаты.
Проклятье!
«Его больше нет, — думает Элиас. — Он теперь далеко. И я не показал своей слабости».
Элиас встает на четвереньки, грохот звоном отдается в его ушах. Вся голова звенит, и он видит, как поднимаются Адам и Якоб, как дверь землянки отлетает в сторону и снег, что лежал на ее крыше, вздымается метелью, словно непроницаемый белый дым.
Что теперь там, внутри?
Он сжимает кулаки.
К черту этого дьявола.
Снег, окрашенный кровью.
Запах пота, жженого мяса, крови.
Кто там кричит? Женщина?
Он оборачивается.
Он видит женщину с пистолетом, приближающуюся к нему со стороны поляны.
Она? Как, черт возьми, она успела добраться сюда так быстро?
С пистолетом в руке Малин приближается к трем мужчинам, которые все еще на коленях. И они встают, поднимая руки над головой.
— Вы убили родного брата! — кричит она. — Вы убили родного брата! Вы думали, что это он изнасиловал вашу сестру, но он никогда этого не делал, вы, черти! — кричит она. — Вы убили своего родного брата!
Якоб Мюрвалль идет ей навстречу, а она кричит:
— Вам не нужно было никого убивать. Вы должны были забрать его домой, ведь вы знали, что мы, полиция, его ищем… Но мы не успели.
Якоб Мюрвалль улыбается.
— Это не он изнасиловал вашу сестру! — кричит Малин.
Улыбка исчезает с лица Якоба Мюрвалля, ее сменяет выражение недоумения и растерянности. А Малин машет пистолетом, рассекая воздух, а потом рукоятью бьет его по носу.
Кровь хлещет из ноздрей Якоба Мюрвалля, а он, спотыкаясь, бредет вперед, окрашивая снег в темно-красный цвет. Малин опускается на колени и кричит, кричит куда-то в воздух, но никто не слышит ее голоса, постепенно переходящего в сплошной вой и заглушаемого шумом вертолета, опускающегося на поляну.
Этот крик отчаяния и боли и перекрывающий его шум вечно будут отдаваться эхом в лесах у озера Хюльтшён.
Что вы слышите? Бормотание?
Беспокойный лепет?
Это шелестит мох.
Это шепчутся мертвые, так говорят легенды. Мертвые и те, кто жив после смерти.
Эпилог
Манторп, второе марта, четверг
— Я больше ничего не боюсь.
— Я тоже.
И больше нет злобы. Нет ни отчаяния, ни обиды, которую нужно прощать.
Мы парим бок о бок, я и Карл, как и полагается братьям. Мы больше не замечаем земли, мы видим гораздо больше и прекрасно себя чувствуем.
Ракель Мюрвалль сидит во главе стола на своей кухне спиной к плите. Капустный пудинг в духовке и вот-вот будет готов, сладковатый аромат наполняет комнату.
Первым встает Элиас.
За ним Якоб. Последним Адам.
— Ты лгала, мать. Статьи в газете. Он был братом…
— Ты знала.
— И он был нашим братом.
— Ты лгала… ты заставила нас убить своего…
Один за другим братья покидают кухню.
Входная дверь закрывается.
Ракель Мюрвалль откидывает с лица длинные белые волосы.
— Вернитесь, — шепчет она. — Вернитесь.
Как все случилось?
Они бросили гранату в землянку, и к этому их склонила мать.
В этом Малин совершенно уверена сейчас, когда ходит между рядами платьев в магазине «Н&М» торгового центра «Мобилиа», что сразу за Манторпом.
Но братья дружно твердят совсем иное. И невозможно доказать, что это не Карл Мюрвалль собственноручно выдернул предохранители из гранат, которые каким-то образом раздобыл. Летом братьев ожидает месяц в Шеннинге за браконьерство и незаконное хранение оружия. Только и всего.
Туве протягивает ей весеннее платье с красными цветами. Вопросительно улыбается.
Малин качает головой.
Дело об убийстве Бенгта Андерссона, похоже, закрыто, равно как и о похищении Ребекки Стенлунд и нанесении ей телесных повреждений. В обоих случаях преступник приходился жертве сводным братом. В обоих случаях он собственноручно разорвал себя на тысячи и тысячи мелких кусочков в норе, которая на этой земле была для него единственным домом.
«Он не смог жить, имея на совести подобные преступления» — такова официальная версия.
Якоб Мюрвалль обвинил Малин в превышении полномочий, но Зак поддержал ее:
— Ничего подобного не было. Он, должно быть, пострадал при взрыве.
Дело замяли.
Но остается последний вопрос: кто же изнасиловал Марию Мюрвалль?
Малин разглядывает голубые ползунки.
Разве можно ответить на все вопросы?
На улице потеплело, хотя по-прежнему лежит снег. Белый покров день ото дня все тоньше, а глубоко под землей первые подснежники уже тянутся к свету, раздвигая почву. Скоро они увидят солнце.
Примечания
1
Эстергётланд — провинция на юге Швеции. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.)
(обратно)2
ЛХК (LHC, Linkopings НС) — профессиональный хоккейный клуб из Линчёпинга, стадион «Клоетта-центр» — домашняя арена клуба.
(обратно)3
Отели на Тенерифе.
(обратно)4
Компания, производящая в основном молодежную спортивную обувь.
(обратно)5
Сеть спортивных магазинов в Швеции.
(обратно)6
Торнбю — район на севере Линчёпинга, где расположен крупный торговый центр.
(обратно)7
Стонгон — река. Протекает через Линчёпинг и в его окрестностях впадает в озеро Роксен.
(обратно)8
Марки шведских истребителей.
(обратно)9
Населенные пункты в окрестностях Линчёпинга.
(обратно)10
В 1965 году риксдагом была принята программа по преодолению жилищного кризиса. Предусматривала строительство в короткий срок миллиона многоквартирных домов.
(обратно)11
Траверса — приспособление, используемое на подъемных кранах для поднятия грузов.
(обратно)12
Филип Марлоу — герой детективных рассказов и романов американского писателя Раймонда Чандлера.
(обратно)13
Песня британской группы «Procol Harum».
(обратно)14
Александр Колдер (1898–1976) — американский скульптор, который приобрел всемирную известность замысловатыми фигурами из проволоки и так называемыми «мобилями» — кинетическими скульптурами, которые приводятся в движение электричеством или ветром.
(обратно)15
Хуту и тутси — этносоциальные группы, населяющие Руанду. В 1990-е годы в Руанде разразилась гражданская война между хуту и тутси.
(обратно)16
Флорбол — разновидность хоккея с мячом.
(обратно)17
Лен — территориально-административная единица в Швеции.
(обратно)18
ТТ — крупнейшее в Швеции агентство новостей.
(обратно)19
«Афтонбладет» — одна из крупнейших центральных газет в Швеции.
(обратно)20
Халк (доктор Брюс Баннер) — герой известного комикса 1960-х годов, созданный художниками Стэном Ли и Джеком Кирби. Профессор физики, превратившийся после взрыва созданной им гамма-бомбы в неистового монстра.
(обратно)21
Люминол — органическое соединение. Используется судебными экспертами для выявления следов крови.
(обратно)22
Скугахольмский хлеб — сорт темного хлеба с пряностями.
(обратно)23
Сконе — область на юге Швеции.
(обратно)24
Немного мира, немного солнца, я желаю себе этого (нем.).
(обратно)25
Ленсман — в Швеции и Финляндии представитель полицейской власти в сельской местности.
(обратно)26
Лонгхольм — часть Стокгольма, остров, на котором располагалась известная тюрьма.
(обратно)27
Энди Уорхол (настоящее имя Андрей Вархола, 1928–1987) — американский художник украинского происхождения, продюсер, дизайнер, писатель, культовая фигура поп-арт-движения.
(обратно)28
Шведский живописец, изображал птиц и зверей в естественной среде.
(обратно)29
Асатру (букв. «вера в асов») — неоязыческое движение, воссозданное на основе материалов о религии дохристианских скандинавов, сохранившихся в первоисточниках. Первая современная зарегистрированная община последователей Асатру существует в Исландии с 1973 года. Общины Асатру зарегистрированы в Исландии, Дании и Норвегии.
(обратно)30
Автор здесь вносит некоторую путаницу. «Мидвинтерблот» дословно означает «жертвоприношение на Середину Зимы». Середина Зимы, иначе йоль, — один из важнейших языческих праздников годового круга, но отмечался он на зимний солнцеворот, то есть около 21 декабря. На начало февраля приходится праздник Дисаблот (жертвоприношение женским духам-хранителям и духам-предкам). Но путем повешения человека на дереве жертвы приносились только Одину, причем способ умерщвления жертвы был иным и специфичным, обусловленным мифом. (Прим. ред.)
(обратно)31
Духовная практика северного шаманизма, дающая возможность общаться с духами, воздействовать на психику других людей, в частности — наводить порчу. Но хотя обряды сейда могут проводиться во время праздников, сам сейд как магическая техника не имеет отношения к порядку годовых ритуалов. (Прим. ред.)
(обратно)32
В скандинавской мифологии вепрь, которого каждый день варит в своем котле повар Андхримнир, чтобы подать к столу остальным богам-асам. Однако к вечеру Сехримнир снова оживает.
(обратно)33
Розница — это основа (англ.).
(обратно)34
«Хныканьем, а не взрывом». Заключительная строка поэмы англо-американского поэта Т. С. Элиота «Полые люди». (Перевод Бориса Городецкого.)
(обратно)35
Ежегодный праздник в Швеции и других скандинавских странах. Отмечается в августе, сопровождается застольями.
(обратно)36
Имеется в виду деревянная скульптура Калле Эрнемарка «Великан Вист» на берегу озера Веттерн.
(обратно)37
Шведский художник, уроженец Йончёпинга. Известен своими иллюстрациями к народным сказкам «Среди эльфов и гномов».
(обратно)38
Избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. (Прим. ред.)
(обратно)39
Плура Юнсон, настоящее имя Пер Мальте Леннарт Юнсон — шведский певец, гитарист, писатель, уроженец Норрчёпинга.
(обратно)40
Мы (англ.).
(обратно)41
Задницы (англ.).
(обратно)42
Юмористический фантастический роман английского писателя Дугласа Адамса, из серии «Автостопом по Галактике».
(обратно)43
Усадьба Хамберга (исп.).
(обратно)44
Порода свиней.
(обратно)45
Лампа, спроектированная датским дизайнером Поулем Хеннингсеном в 1926 году.
(обратно)46
Модель стульев, разработанная в 1956 году датским дизайнером и архитектором Арне Якобссоном.
(обратно)47
Мультфильм по известной детской повести Барбу Линдгрен «Лоранга, Мазарин и Дартаньян».
(обратно)48
Сорт свиной колбасы.
(обратно)49
«…Похоже, мне нравятся несколько лишних футов в моей постели…» (англ.)
(обратно)50
Песня американской группы «The Impressions».
(обратно)51
«Вам не нужен билет, вы просто взойдете на борт…» (англ.)
(обратно)52
Очень сухой (англ.). Здесь: очень крепкий.
(обратно)53
Сорт джина.
(обратно)54
Горнолыжный курорт в Швеции, в провинции Емтланд.
(обратно)55
Орган местного самоуправления в Швеции.
(обратно)56
Имеется в виду здание церкви общины пятидесятников в Стокгольме.
(обратно)57
Популярная во многих странах мира телевизионная игра-викторина.
(обратно)58
Популярный в Швеции телеведущий.
(обратно)59
Педагогика Монтессори, также известная как система Монтессори, — система педагогического воспитания, основанная на индивидуальном подходе педагога к каждому ребенку: малыш постоянно сам выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в собственном ритме и направлении. (Прим. ред.)
(обратно)60
Антропософия — философское учение Рудольфа Штайнера, «путь познания, стремящийся привести духовное в человеке к духовному во Вселенной». Лежит в основе некоторых инновационных педагогических методик. Под антропософской архитектурой следует понимать принцип, согласно которому архитектура здания должна воплощать Вселенную.
(обратно)

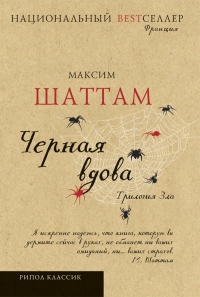
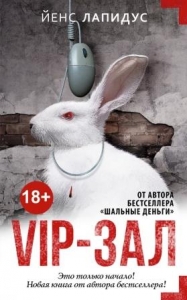

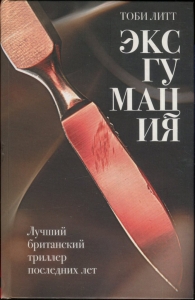
Комментарии к книге «Зимняя жертва», Монс Каллентофт
Всего 0 комментариев