Сантьяго Гамбоа «Самозванцы»
Анании, Томасу и Серхио — моим любимым путешественникам по Востоку
Я не хотел работать на секретной службе и поэтому не хотел быть шпионом. Но обстоятельства, война, смутный интерес к атмосфере тайны, отвращение к врагам…
Грэм Грин. ИнтервьюВ чем же другом состоит положение второстепенного писателя, как не в одном сплошном неприятии? Прежде всего беспощадное неприятие со стороны среднего читателя, который решительно отказывается наслаждаться его творениями. Во-вторых, постыдное неприятие исходит от самой реальности, которую он не умеет выразить, будучи лишь копиистом и имитатором. Но третья неприятность, третий пинок, самый постыдный, посылает ему искусство, в котором он хотел найти себе убежище и которое презирает его за беспомощность и недостаточность. И это уже позор. Здесь начинается полное сиротство.
Витольд Гомбрович. «Фердидурка»ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1 Человек, который прячется в сарае
Я просто писатель. Лучше предупредить об этом с самого начала. История, которую я собираюсь вам рассказать, — чужая в том смысле, что события, о которых я пишу, случились не со мной, хотя нельзя сказать, что я совсем не имел к ним отношения. Итак, получилось ли у меня, судить вам. Я всегда жил странной жизнью: мне нравится записывать чужие рассказы и мысленно переживать события и драмы, которые происходили с другими. Случись что-то подобное со мной, я был бы, вероятно, счастлив, даже если бы происшествие имело печальный исход. Печаль — лучше, чем ничего…
Сейчас я живу в Пекине и вынужден прятаться в старом сарае в округе Фэнтай (об обстоятельствах, которые к этому привели, расскажу позже). Здесь нет даже окон, а снаружи доносятся гудки пароходиков с озера Ююантан и шум поездов Северного вокзала. Пока не могу открыть вам (помимо уже известного факта, что я писатель), кто я, откуда родом и чем занимаюсь. Скажу лишь — и это делаю только для того, чтобы возбудить ваше любопытство, — что зовут меня Режи и ношу я темный костюм. Так кто же я? Об этом потом.
Люди, которые ищут меня, напротив, знают обо мне все, по крайней мере мне так кажется, и именно предчувствие погони заставило меня спрятаться. На самом деле они интересуются вовсе не мной, а кое-чем, что я временно у себя храню, — назовем это «живая вещь». Она существует и в то же время не существует; у нее есть форма и сущность, но нет души. Охраняя этот предмет, я вынужден сидеть в четырех стенах; остается лишь курить и наблюдать за кольцами дыма сигарет, которые медленно поднимаются к свету; пучок тонких лучей проникает ко мне сквозь крышу. Когда так долго находишься в одиночестве (единственная моя связь с внешним миром — мальчишка, который приносит еду), начинаешь лучше разбираться в жизни. По крайней мере в своей — в тех воспоминаниях, ударах судьбы и прочих трудностях, которые мы и зовем жизнью.
Получается, нужно уединиться, чтобы как следует понять такие вещи. А способен ли человек рассуждать и после смерти?.. Ну да ладно, не мне об этом судить. Я писатель, а не философ, и все же, когда на какое-то время у вас отнимают свободу, в голове неизбежно появляется масса идей, — а от этого один шаг до стоика Эпиктета.
Кроме того, вещь, которую я охраняю. Именно ей я обязан своим заключением, хотя мои враги еще никак не проявили себя. Я напоминаю тех сказочных драконов, которые стерегут сокровища. Сижу на проломленном стуле и часами изучаю свое. Мне кажется, что это чрезвычайно странное сокровище. Составляющие его элементы сами по себе не имеют никакой ценности: краска, картон и бумага. Ценность целого не равна сумме частей, потому что ценно содержание, если только суметь его расшифровать. Вы уже догадались, что речь пойдет о рукописи, о старинном китайском манускрипте. К сожалению, скромные познания в этом языке не позволяют мне прочесть его, иначе это добровольное заключение было бы объяснимо. К тому же мне запретили читать рукопись. Она запечатана в пластиковый пакет, куда не проникает даже воздух. Эта предосторожность была излишней и лишь доказывает, что ко мне не имеют доверия, которое можно назвать слепым.
На самом деле передо мной всего лишь пластиковый пакет кофейного цвета. Я знаю, что внутри находится рукопись, потому что видел ее. Иначе для меня это был бы всего лишь пластиковый пакет. Я считаю, это справедливо — знать, что охраняешь. Естественно, получив этот предмет, я спросил, нужно ли мне защищать его ценой собственной жизни, и ответ меня обескуражил: «В этом нет необходимости, Режи, но если его найдут, вы в любом случае поплатитесь жизнью». Я много размышлял над этими словами, даже записал их. Мне вспомнилась история с прорицателем, у которого похитили дочь, при этом прислав ему записку приблизительно такого содержания: «Мы вернем ее вам, если вы угадаете, собираемся мы это сделать или нет». Ну и что тут можно ответить? В такую же растерянность приводит меня и эта записанная мной фраза. Думаю, ее смысл гораздо глубже, чем смысл слов, из которых она состоит, — та же особенность, что и у предмета, вверенного моему попечению. Должно быть, на таком языке говорит сам Бог. Я же, простой писатель, даже не мечтаю о таких высотах — и тем не менее пишу. Но довольно обо мне. Вернемся к нашей истории. Она длинная и не позволяет медлить. Предоставим слово самим героям.
ГЛАВА 2 Некто, кто колесит по миру
Меня зовут Суарес Сальседо. Не важно, какое имя дали мне при крещении; вернее, я немного его стыжусь и поэтому называть его пока не буду… Может быть, позже, если почувствую к вам доверие. Я человек самый что ни на есть заурядный, из тех, кто исправно платит налоги, радуется повышению по службе, хлопает в ладоши, когда самолет касается посадочной полосы, время от времени чувствует себя потерянным, отчаивается — и тогда нуждается в утешении. Важно, что я почти двадцать лет живу в Париже, хотя родился в Боготе; мне сорок два года, я журналист, и мои передачи (в записи) выходят на ста семидесяти радиостанциях Латинской Америки.
Я работаю на государственном радио Франции. Мне платят за то, чтобы эти программы точно и своевременно, каждый четверг, транслировались в разные точки мира. Репортажи посвящены темам общественного, культурного, научного, иногда политического характера; наша задача — так сказать, не выметать сор из избы в том, что касается роли нашей страны (отсюда и название: «Франция в мире»), а, напротив, стараться показать все лучшее. Если нужно, мы бываем беспощадными (во Франции свобода слова), и наш шеф, месье Кастран, никогда не будет препятствовать записи программы, где идет острый разговор. Да и я не стану, что бы там ни говорили мои журналисты — о сплетнях, кстати, я прекрасно знаю (ведь у меня чуткие уши) — и какими бы обвинениями меня ни атаковали. Я всегда говорил, что отвергаю только плохие репортажи: если вижу, что работа не пройдет, даже если заказать мессу в Американской церкви (она расположена ближе всех к нашей студии, на набережной Гренель). В таких случаях я неумолим и прошу (ведь это моя работа) либо переделать репортаж, либо выразительным жестом показываю, что этой пленке самое место в мусорной корзине.
Что до частной жизни, должен признаться: живу я крайне скромно, можно сказать, даже скучно, так что вы поймете, чем для меня явилось приключение, к началу которого мы уже подошли. Однако не будем забегать вперед. После второй по счету неудачи в семейной жизни я решил жить один, не отказываясь от мимолетных увлечений, которые, однако, никогда не перерастают в постоянную связь. И хоть я и не Тайрон Пауэр, все же удалось создать некий круг подружек, с которыми можно провести выходные, а в понедельник забыть о встрече, а если и вспомнить, то без обязательств звонить друг другу и спрашивать, как поживаешь, чем занимаешься и какое у тебя сегодня настроение, — короче говоря, произносить те обычные фразы, которыми обмениваются постоянные партнеры. В Париже полно одиноких людей, которые выбирают такого рода отношения, считая их самыми удобными. Кстати, эта тенденция идет по нарастающей, о чем я недавно прочел в разделе «Современная жизнь» еженедельной «Либерасьон» (статья называлась «Пары одиночек»).
Итак, по порядку. Мы разошлись с Коринн, моей второй женой (ей тридцать шесть, родилась в Лилле, работает в отделении страховой компании Мафре на площади Клиши), после одного постыдного случая, о котором я вряд ли осмелюсь рассказать. Но по крайней мере попытаюсь.
Однажды я вернулся домой раньше обычного, потому что из-за какой-то странной забастовки консьержей был закрыт шахматный клуб в XIV квартале, где я играю дважды в неделю. Так вот, я пришел домой, разулся в дверях, чтобы не испачкать паркет (требование Коринн), налил себе обезжиренного молока с низкокалорийным печеньем и, привлеченный звуками музыки, со стаканом в руке направился в студию поглядеть, чем там занимается жена, а заодно удивить ее. Через полуоткрытую дверь увидел ее со спины, но не решился окликнуть — поза была какой-то странной. Любопытно. Я приоткрыл дверь пошире — компьютер включен… Коринн сидела в наушниках, брюки и трусы приспущены. Я подошел и уже собирался тихонько похлопать ее по плечу и сказать: «Я здесь, дорогая», как вдруг заметил у нее между ног видеокамеру, подключенную к компьютеру. Я непроизвольно взглянул на монитор и чуть не вскрикнул — весь экран занимал чудовищных размеров пенис, черный, со вздутыми венами; и, кажется, там еще была рука, которая его ласкала… да, рука (что же еще), унизанная кольцами. Рядом с изображением я, к своему стыду, прочел следующее: «Хочу взять этот горячий член в рот, возьми меня, задай мне жару!» Я почувствовал прилив гнева, потому что, несмотря на наушники, мне не верилось, что Коринн не замечает моего присутствия. Она вздохнула. Я опоздал. Она почти кончала. Потом она застонала, и в эту же минуту доиграл диск (кстати, это была «Треуголка» Мануэля де Фалья).
Обескураженный, я выскочил за дверь, а потом вернулся как ни в чем не бывало и, насвистывая, пошел по коридору: «Коринн, дорогая, ты дома?», на что она ответила из комнаты: «Я здесь, любовь моя, сейчас я к тебе выйду!» С кухни я крикнул, что у меня сорвалась партия в шахматы из-за забастовки консьержей, она ответила, что сожалеет, зато теперь мы сможем пораньше поужинать и посмотреть какую-нибудь кассету (мы берем их напрокат), и добавила: «Погоди, сейчас выйду из Интернета, я уже замучилась: ищу что-нибудь о европейском страховом законодательстве».
Меня передернуло при виде ее, и пришлось сделать нечеловеческое усилие, чтобы вести себя спокойно и цивилизованно (а это, между прочим, очень действует на мою язву).
Больше всего меня поразил не сам факт измены (хотя не уверен, можно ли такое назвать изменой), а то, как спокойно и легко жена мне врала. «Это не в первый раз, — сказал я себе, — она занималась этим и раньше». И для меня это была уже не Коринн, а неизвестное существо, из-за которого все мое настоящее и (Боже мой!) прошлое стало иным. Я вспомнил, что тысячу и одну ночь она ложилась очень поздно, говоря, что сидела в Интернете, и представил себе, что рука, которую я видел на мониторе, — это не просто рука, а человек, у которого есть и лицо, и голос; и в каком бы городе и стране он ни жил, в его памяти остались ее нежные складочки, то, как она вздрагивала, возбужденно дышала… И этот кто-то спешит на работу, думая о ней; мастурбирует в ванной, представляя мою жену, ее голос, измененный компьютерным микрофоном… А может, он хвалится своим приятелям у стойки бара: «Я трахаю француженку — блондинку с розовым клитором, а муж ее — полный придурок»; ласкает ночью другую женщину, а потом наверняка желает ей спокойной ночи, точно так же, как мне Коринн, когда наконец-то соберется лечь спать.
— Я видел, чем ты занималась, — сказал я очень тихо, — и кто же обладатель этого члена?
Она попыталась все отрицать, но быстро поняла, что это бесполезно. Тогда она забормотала, что это всего лишь игра, что она вообще не знает этого человека, что впервые зашла на порносайт; потом стала обвинять меня — и не без оснований — в нарушении ее прав на частную жизнь… По счастливому стечению обстоятельств, нашу квартиру на углу бульвара Араго и площади Гобеленов снимал я; поэтому, так и не выпустив из рук стакан с молоком, произнес:
— Я пойду посмотреть «Пес-призрак» Джима Джармуша в кинотеатре «Гомон» на Монпарнасе. Когда вернусь, твое присутствие здесь не обязательно.
Единственный мой «латиноамериканский» поступок (латиноамериканцев в Париже считают неотесанными мужланами) заключался в том, что я запустил стаканом в стену и пожелал ей всего хорошего, оставив белое пятно на гобелене — эти ужасные гобелены украшают дома большинства парижан.
Естественно, в кино я не пошел, а вместо этого напился в «Огненной птице» на площади Бастилии; Коринн об этом никогда не узнает, как не узнает и того, что в два часа ночи меня рвало в канал Сен-Мартен, и я проклинал и ее, и ту далекую страну, которую мне пришлось покинуть такой же мерзкой ночью, как эта; и теперь я рыдал от тоски, от горя, от смеха, от отвращения — я никогда не делал этого при Коринн, боясь показаться ей чересчур американцем (а я, как ни крути, всегда им был и не перестану быть). И я обвинил свою страну во всем, что со мной произошло, пусть даже это было простое расстройство желудка. Каждый раз, напиваясь, я плачу от собственного сиротства, плачу о том, что я оставил, потерял и забыл, особенно в такие ночи, как эта… Я стал рогоносцем из-за члена со вздутыми венами, обладатель которого в лучшем случае негр откуда-нибудь из Чоко; и я проклинал его на расстоянии, а прохожие оставались равнодушными к моим крикам. Черт возьми, хуже всего не само страдание, а то, что никому нет до него дела.
Так Коринн исчезла из моей жизни.
Предыдущий мой брак распался давно; но, в конце концов, почему бы не вспомнить и об этом? Лилиан, как и я, училась на филологическом факультете Венсенского университета. Она хотела стать писательницей (опять же, как и я), но ее кумирами были Жорж Перес, Алан Роб-Грийе, Клод Симон, в общем, представители так называемого нового французского романа. Я же предпочитал Камю и Мальро, и к тому же мне нравился Варгас Льоса, и по этому поводу у нас возникали бесконечные споры, поскольку, с ее точки зрения, единственным стоящим латиноамериканским автором был Северо Сардуй. Еще хуже было, когда мы обменивались своими текстами. По мнению Лилиан, я был человеком прошлого века, произведения которого отражали скудость суждений. Я же, в свою очередь, причислял ее к тем скучнейшим авторам, которые имеют обыкновение витать в облаках, и считал, что она придает излишний таинственный блеск тому, что по своей сути отнюдь не является хоть сколько-нибудь таинственным и привлекательным. Противоречия со временем только обострились. «Узколобый сартрорианец!» — кричала Лилиан. «Невежественная дилезианка!» — парировал я. Как и всегда в таких спорах, очень скоро мы прекращали говорить о книгах лишь для того, чтобы вновь яростно наброситься друг на друга. «Толстая задница!» — кричала она мне. «Деревенщина, возомнившая себя писательницей!» — отвечал я… Так продолжалось до тех пор, пока не наступала развязка: либо кто-нибудь из нас, обиженный, уходил, хлопнув дверью, либо все заканчивалось слезами, объятиями и извинениями, так как оба мы в глубине души понимали, что в нас нет ни капли таланта, а взаимные оскорбления — всего лишь попытка скрыть свою неудачу и посредственность того, что мы пишем, а также тот факт, что оба мы оказались далеки от представлений о самих себе. И чтобы не мучить друг друга, в один прекрасный день мы очень цивилизованно, хотя и с немалой грустью, решили расстаться, ведь мы были угнетающе схожи, словно некто и его отражение.
— Когда я вижу тебя за работой, — призналась однажды Лилиан, — мне кажется, что это я сама кропаю глупости и заполняю листы никому не нужными историями…
— Мне, они интересны мне, Лили! — отвечал я и, естественно, врал, ведь эти истории ничуть не интересовали меня, напротив, нагоняли тоску.
Наконец она ушла, и мы оба вздохнули свободно. Конечно, мы остались друзьями, бывает, проводим вместе выходные и встречаемся на вечеринках. Но не более того. Она вышла замуж за симпатичного парижанина — кажется, он архитектор, — и теперь пару раз в году супруги приглашают меня на обед в свою милую квартирку неподалеку от площади Бастилии. Мы никогда не заговариваем с Лилиан о книгах и уж тем более о сочинительстве. Так лучше.
Не знаю, зачем и почему я вдруг рассказал все это… Думаю, это важно, чтобы понять, какой я на самом деле. Однако должен сказать, что самое интересное во всей этой истории — странный вчерашний звонок. Я находился в своей клетушке — ее просто нельзя назвать «конторой», — когда звук телефона оторвал меня от размышлений. Тогда я слушал дурацкий репортаж о приготовлении кошерных гамбургеров в Париже; а если быть точным, раздумывал, одобрить его или вернуть, сопроводив разгромными комментариями (но тогда автор обвинил бы меня в антисемитизме). О чем я?.. Ах да, телефонный звонок. Я решительно поднял трубку, но быстро успокоился — месье Кастран срочно требовал меня к себе в кабинет. Наш шеф, как и все французские чиновники, имеющие собственный офис (на самом деле, как и чиновники всего мира), любит указать подчиненному его место. Рядом с начальником я увидел месье Пети, низенького лысого мужчину, располневшего от сидячего образа жизни; раньше я его в редакции не встречал. Месье Кастран представил его как сотрудника высших структур Государственного радио и сказал мне, чтобы я собирал чемоданы, так как завтра вечером мы отбываем в Гонконг, а затем в Пекин для подготовки репортажа о католиках в Китае.
— Нашим слушателям нужны оригинальные темы, — разглагольствовал Кастран, сопровождая каждую фразу легкой отрыжкой, — и сегодня, дорогой мой Суарес Сальседо, тема католицизма в соцстранах выходит на первый план. Обратите внимание, какая шумиха поднялась после визита папы Войтылы на Кубу. Настоящий информационный взрыв. Нужно что-нибудь в этом роде, вы меня понимаете?
— А почему именно сейчас? — осмелился спросить я.
— Из-за летнего затишья наши передачи стали немного… суховатыми, — продолжал он. — Да. Именно так: суховатыми. Нет стоящих тем. Чеченскую тему мы исчерпали, в Косово ничего не происходит — максимум один-два покойника. А нашим компаньонам нужна красочность. И поэтому необходимо оставить все обыденное и заняться чем-то более масштабным.
Кастран объяснил, что месье Пети, этот странный неразговорчивый человек, — один из учредителей, член совета директоров нашей организации. Короче, важная птица. Пока Кастран говорил, Пети упорно молчал и вытирал лысину запачканным носовым платком. Он был типичным государственным чиновником в поношенном костюме, но с роскошным галстуком, и это облачение настолько соответствовало его характеру, что казалось, он родился прямо в нем. Поручение же, которое мне дали, буквально сразило меня как гром среди ясного неба.
Я не имею ничего против Китая. Напротив, страна меня привлекает. Просто в эти дни мне было слегка не по себе, потому что половина наших журналистов сейчас в отпуске, и вся сентябрьская нагрузка легла на меня. К тому же (строго по секрету) я сейчас придерживаюсь низкокалорийной диеты, а для человека на диете нет ничего страшнее служебных командировок, когда из-за смены привычной обстановки и неудобств, которые это за собой влечет, обязательно оказываешься в баре гостиницы. Либо, что еще хуже, — в ресторанчике быстрого питания, что на языке диетологов означает потребление калорий, жира и холестерина в огромном количестве. В конечном счете меня уже не в первый раз посылали в места типа Найроби, Джакарты или Тегусигальпы, дав время лишь собрать чемодан. Мои начальники — люди капризные, и стоит им послушать ту или иную передачу конкурирующей радиостанции или проведать что-нибудь за бокалом коктейля, как они тут же выдумывают что-нибудь этакое. И тогда мы, пешки, оказываемся в гуще событий…
Узнав о предстоящей поездке в Пекин, я, как сделал бы любой француз, поискал в библиотеке старое издание «Варвар в Азии» Анри Мишо, а эта книга обычно есть у всех, чтобы поискать в ней что-либо, связанное с Китаем. Убедившись, что книга на месте, — а это для меня было равнозначно тому, что она не принадлежала Коринн, моей бывшей супруге, иначе, уходя, та непременно забрала бы ее, — я, с соевым сандвичем и бутылкой лимонного перье в руке, приготовился почитать ее. И читал, пока не наткнулся на нечто, привлекшее мое внимание. Описания типов китайцев. Процитирую кое-что:
«Скромный, даже слегка ежащийся, сутулящийся, флегматичен; взгляд настороженный; обут в войлочные шлепанцы, ходит на цыпочках, спрятав руки в рукава; иезуит, напускает на себя безразличный вид, хотя в действительности готов пойти на все…» Тут я подумал о китайцах, виденных в выпуске «Голубой лотос» Тинтина.[1] Далее Мишо добавляет:
«Лицо как бы застывшее, но под этой маской скрывается настоящий жулик…» Честно говоря, я не совсем понял фразу и перечитал ее еще раз, но это ничего не изменило.
«Походит на пьяного, нерешителен, очень плохие манеры…» В каком году Мишо написал такую глупость? Каждый из нас встречал китайцев. Они живут в любом крупном городе Европы и Америки, и какой смысл их описывать? Не понимаю. Это слишком иронично и высокомерно, и я не намерен с этим мириться! Я так разозлился, что попробовал сделать собственное описание француза:
«Существо пугливое, жадное (жадность называет бережливостью), мелочен. Работящий, дисциплинированный. Боится, что соседи могут заявить на него в полицию, и поэтому никогда не включает телевизор на полную громкость. Не любит, чтобы окружающие считали его глупым, и поэтому старается ничему не удивляться, даже если находится перед египетскими пирамидами. У него две мании: казаться умнее, чем в действительности, и всегда находиться при деле. Еще в молодости задумывается об уходе на пенсию, но когда в шестьдесят лет это происходит, впадает в отчаяние, так что может дойти до самоубийства. Француженкам не нравится, когда молодые люди делают им комплименты на улицах, и они могут отказаться от близости, если на следующий день рано вставать. Французы любят вкусно поесть, но практически никогда этого не делают из-за дороговизны продуктов. Ходят слухи, что они изобрели духи, чтобы лишний раз не мыться, но я не совсем уверен в этом. Они белокуры, глаза навыкате, кожа их жесткая, как картон. Верят в то, что, если бы Франции не существовало, весь мир превратился бы в свинарник, и в этом есть доля истины. Как ни странно, это они придумали шампанское».
Я перечитал написанное и ощутил легкое чувство вины, но ведь Мишо спровоцировал это. Вернувшись в библиотеку, я дрожащей рукой вытащил из собрания сочинений том Андре Мальро. Любопытно: еще один европеец, увлеченный Азией, даже фамилии похожи. Разница — всего три буквы. Я раскрыл «Искушение Востоком» и прочитал заключительную фразу: «Одна из самых неумолимых закономерностей нашего сознания в том, что преодоленные нами соблазны превращаются в знания». Я растрогался, разволновался, даже волосы встали дыбом. Блеск поэтики Мальро тронул меня до слез: знаю, это немного глупо, но я ничего не мог с собой поделать. И почему это так? Откровенно говоря, может быть, потому, что мне всегда хотелось написать нечто подобное… То, что у меня нет таланта, бесспорно; однако я продолжаю говорить сам себе и своим немногочисленным друзьям, что в свое время просто не имел возможности заниматься творчеством, так как жизненная необходимость заставила меня пойти на теперешнюю мою работу, и теперь ни на что другое больше не остается времени. Сказать по секрету, я и сам знаю, что все это неправда: если действительно хочешь, то занимаешься творчеством даже по ночам, жертвуя часами сна, и не прекращаешь работы ни в автобусе, ни в кафе. Мне не хватило на такое смелости и решимости, вот почему я скриплю в темноте зубами; пропустив же стакан-другой, я начинаю проклинать свою страну, которой я не нужен, и плачу от бешенства, и вновь пью, и висну в конце концов на телефоне, вызывая Боготу, и все это лишь для того, чтобы почувствовать, что еще не все потеряно и что там, далеко, мое имя еще способно пробудить хоть какое-нибудь чувство.
Блеск таланта Мальро и других авторов, восхищающих меня, — словно немой обвинитель, неприглядное отражение моего малодушия. Ну да ладно, не хочу отвлекаться от повествования.
Я как раз хотел сказать, что, коль скоро мне предстояло лететь в Гонконг, а оттуда в Пекин, полезно было бы перечитать также кое-какие отрывки из «Конквистадоров» и «Человеческой сущности». Итак, я съел соевый сандвич, прокрался (признаюсь) к холодильнику, чтобы подкрепиться тремя кусочками фуагра и парой глотков из бутылки «Вуврэ», — я намеревался еще немного почитать, а потом хорошенько выспаться.
Проснулся в шесть утра, разбуженный телефонным звонком, и понял, что так и сижу в кресле с томом Мальро на коленях. «Черт, — сказал я про себя, — кто бы это мог быть в такую рань?»
— Это Пети, — услышал я. — Через пятнадцать минут заеду за вами. Мы едем в китайское посольство, а оттуда — в аэропорт. Рейс в одиннадцать. Не забудьте паспорт.
На этом он закончил разговор; я же остался глазеть на трубку, не совсем понимая, что происходит. Через пятнадцать минут? Я подскочил к шкафу, достал чемодан и побросал в него все, что попалось под руку. В небольшой чемоданчик положил свой SONY и несколько кассет — прошли те времена, когда нам приходилось таскать тяжелые кассетники, и, кстати, это большое облегчение для наших плеч. Быстро принял душ, поводил по щекам бритвой и захватил из ванной все самое необходимое, уделив особое внимание пастилкам, которые на тридцать процентов ускоряют рассасывание жира в организме. Надо сказать, здоровый образ жизни я веду исключительно из медицинских соображений, поскольку быть тщеславным, по-моему, не только смешно, но и бесполезно. На кухне я взял пару пакетов апельсинового сока, яблоко и обезжиренный йогурт. Едва я перекрыл газ и воду, как раздался еще один звонок, на этот раз в дверь.
Пети ждал меня в «Рено-21» черного цвета, припаркованном на тротуаре. Он поприветствовал меня взмахом руки и снова уселся за руль, не предложив мне помочь погрузить чемодан в багажник. Я и накануне прекрасно понял, что этот человек мне не нравится, но в то утро весь его вид показался мне особенно неприглядным: поверх безвкусной рубашки в частую полоску он надел жилет, какие носят фотографы из «банановых республик», — не настоящий, а грубую подделку, скорее всего купленную в уличном ларьке в Бельвилле. Еще он нарядился в легкий пиджак, брюки цвета хаки и безразмерные ботинки на низкой подошве, те, которые придают прохожим ужасный вид, — щиколотки выглядят какими-то пухлыми, голыми, бледно-розовыми. Должно быть, именно так одевались в свое время чиновники в так называемых жарких странах в эпоху французской колонизации. И в конце концов я решил, что в этом Пети несуразно все: то, как он потел, дряблый живот, жуткий подбородок, запах нафталина, пропитавший одежду, влажные от испарины волосы на макушке…
Когда мы подъехали к посольству, Пети поставил автомобиль во второй ряд, взял мой паспорт и попросил подождать. Я уже начинал нервничать; очень хотелось выйти и подкрепиться круассаном с кофе в какой-нибудь забегаловке, но я побоялся вызвать раздражение своего попутчика. И стал ждать, барабаня пальцами по приборной панели и раздумывая, не включить ли радио, ведь к этому часу в мире должно было уже многое произойти, а я еще не слышал сводки новостей, что за долгие годы работы превратилось в каждодневную привычку.
Пети возвратился через пятнадцать минут. Молча сел в машину, швырнул мне паспорт, и мы поехали в аэропорт Росси. Дорогой я продолжал постукивать пальцами по приборной доске, пока на одном из светофоров Пети с ненавистью не посмотрел на мои пальцы. Тогда я сложил их и притих. Редкостный тип. Я ни разу еще не встречал журналиста, который так вел бы себя, хотя каждый знает, что и журналистской братии не чужды общечеловеческие качества, склонности и недостатки. В аэропорту произошло нечто неожиданное: вместо того чтобы оставить машину на стоянке, Пети протянул ключи от нее незнакомцу в сером, который, по-видимому, дожидался нас, но меня с ним никто не познакомил. Потом мы потащили наши чемоданы в направлении указателя линии «Катай Пасифик», и там, к своему разочарованию, я узнал, что мы летим экономическим классом. Я бы предпочел «Эйр Франс», где предлагают гораздо больше удобств, но Пети сказал, что в этот день в Гонконг отправляется лишь «Катай». Увидев, с каким раздражением мне отвечают, я перестал задавать вопросы и тяжело вздохнул — я был лишен возможности расслабиться в VIP-салоне, погрызть орешков с апельсиновым соком и почитать свежие газеты.
Мы уселись в одном из холодных залов ожидания, и я добродушно поинтересовался, есть ли у Пети дети.
— Нет, — ответил он сухо, — а почему вас это интересует?
— Так принято начинать беседу, — ответил я, — в конце концов, у нас совместная поездка.
— Поговорим, когда придет время, — отрезал он.
И вновь замолчал, а в подтверждение своих слов извлек из дипломата какие-то бумаги и погрузился в их изучение так, будто это были его собственные документы о разводе. Раздосадованный, распираемый желанием выругаться, я поднялся и стал прохаживаться по дьюти-фри, думая, что на самом деле Пети не только неопрятный, но и грубый, высокомерный тип. Мне показалось, что такой человек не в состоянии доставить хоть малейшую радость кому бы то ни было даже в момент своего рождения. Быть может, чуть позже, пропустив несколько глотков в самолете или на месте, он расслабится и впечатление изменится. Я не собирался конфликтовать. Если Пети решил нагрубить — это его проблемы.
Ну а пока нам предстоял долгий путь. Нужно было лететь против солнца через всю Азию, чтобы прибыть в Гонконг к шести утра. Мне не в новинку подобные вещи; в таких поездках я обычно много читаю. Важно выбрать подходящее чтиво — не слишком легкое, но и не слишком содержательное, вдобавок такое, чтобы можно было растянуть на долгие часы полета. Потом наступает время ужина, обильно приправленного вином; после, в зависимости от настроения, я выпиваю немного виски или джина, причем последний бокал приходится на начало просмотра фильма, какие обычно показывают в самолетах после ужина. Я постепенно засыпаю, убаюканный спиртным и покачиванием самолета, если, конечно, он покачивается; признаюсь, люблю турбулентность, ведь когда самолет летит ровно и прямо, возникает ощущение, что сидишь в огромном и донельзя скучном зале ожидания. Ах, Гонконг, как ты еще далеко!
ГЛАВА 3 Некоторые подробности из жизни доктора филологии Гисберта Клауса
Сохранилось мало сведений о детских и ранних юношеских годах доктора Гисберта Клауса. Это часто происходит с людьми, чья судьба — преуспеть в изучении гуманитарных наук. Вплоть до пятидесяти лет он жил в Вестфалии, вернее, в деревушке под названием Бьелефилд, и те, кто упоминает о нем в своих дневниках, — конечно, уже после того, как он приобрел печальную известность, — утверждают, что, будучи мальчишкой, он не расставался с футбольным мячом. Но судьбе, этой пташке, которая всегда вертится там, куда ее никто не звал, и всюду сует свой нос, не было угодно, чтобы футбол стал жизненным предназначением юноши; чтобы в этом не оставалось никаких сомнении, она распорядилась так, что он порвал сухожилие на правой ноге. С тех пор жизнь мальчика круто изменилась, вместо спортивных упражнений он занялся учебой. Гисберт обладал неплохими способностями, и та же судьба, не слишком-то ласково обошедшаяся с ним вначале, решила в качестве компенсации наградить его другой страстью — страстью к филологии. Он поступил в университет Колонии, или Кельнский, как говорят немцы, и ревностно занялся синологией, то есть изучением китайского языка и культуры.
О его студенческих годах, проведенных в Кельне, также известно не много, не считая того, что его страсть к науке стала помехой для таких обыденных вещей, как богемный образ жизни, вечеринки и ухаживание за женщинами. Мы предполагаем это, основываясь на том факте, что Гисберт Клаус женился очень поздно, будучи уже пожилым человеком, на одной из сотрудниц Гамбургского университета, где читал тогда блестящие лекции. Не нужно быть знатоком человеческих характеров, чтобы понять, что брак Гисберта и Юты — Юты Круг — был одним из тех распространенных семейных союзов, в которых женщина получала мужа, достойного восхищения, и повышала свой социальный статус, а мужчина, в свою очередь, избавлялся от самостоятельного решения проблем, касающихся практической стороны жизни.
Популярность синологии существенно возросла благодаря открытию итальянца Матео Риччи, легендарного священника-иезуита, европейца, который вслед за Марко Поло и францисканцем Хуаном Пьяно приобщился к этому универсуму, который на Западе называют Китаем, а сами жители именуют «Центральной Страной».
Дело в том, что жизнь Риччи, прибывшего к берегам Макао в 1582 году, через два года после смерти португальского идальго Луиса Камоэнса, автора «Луизиады», изобиловала событиями, которые не могли не заинтересовать филологов. Самым поразительным было то, с какой быстротой он овладел китайским языком. Действительно, в хрониках сообщается, что Риччи понадобилось меньше года для того, чтобы начать свободно говорить по-китайски, что, попросту говоря, было равносильно по сложности возведению Великой Китайской стены. Благодаря своим необычайным способностям к обучению Риччи пользовался покровительством императорских наместников. Ему позволили поселиться в провинции Гуандун в центре Китая, а также предпринять ряд идиллических путешествий с целью исследования страны. В конечном итоге это привело его в Пекин, где он и жил до своей смерти, с 1601 по 1610 год, при дворе императора, завоевав его расположение своей исключительной памятью. Какой же метод запоминания использовал Матео? Сам он назвал метод «Театром памяти». Все основывалось на мысленном воссоздании идей, абстракций и понятий в порядке, организованном по принципу их семантической или звуковой общности, как бы в пространстве некоего грандиозного театра. Таким образом, если Риччи хотел прибегнуть к одному из пластов своих обширных знаний, он мысленно попадал в одно из таких пространств, подобно костюмеру, который ищет тот или иной предмет туалета. И в этом ему не было равных: весь процесс поиска нужной информации занимал, как ни странно, несколько секунд. Нет ничего удивительного в том, что почти все иезуиты, поселившиеся в Китае, считали своим долгом увидеть такое чудо, тем более что сам император, заинтересовавшись изучением метода Риччи, оказывал ему всяческое содействие, и Матео демонстрировал ему и его гостям поистине уникальные свидетельства своей безграничной памяти.
Говорят, еще перед своим путешествием на Восток Риччи решил овладеть всеми знаниями, которыми обладала к тому времени христианская культура, желая способствовать их распространению в Китае. Однако он не имел физической возможности осуществить свое намерение, так как вся информация содержалась в огромных трактатах и книгах, которые в большинстве своем были изданы в единственном экземпляре. Тогда-то, дабы путешествовать налегке, Риччи решил перенести нужные знания в собственной голове. Гисберт с его способностями был рожден для того, чтобы продолжить дело, начатое Риччи. Также как в свое время император и остальные, он мечтал о том, что сможет продемонстрировать чудеса памяти, пусть даже базирующиеся лишь на лингвистических предположениях. Филологам известно, что язык есть не что иное, как картина мира, изложенная посредством речевой системы. И при изучении языка нужно помнить, что в основном его структура опирается на определенный метод, своего рода позвоночный столб, который совпадает с видением мира его носителей. Любое общество накладывает на язык свой отпечаток, даже на такие его категории, как род, падеж, местоименные функции, множественное и единственное число, глагольные времена и так далее.
Языки, производные от латыни, имеют общую структуру. Их различие лишь в пути «романизации», то есть трансформации латинского языка в один из романских с различными региональными особенностями. Конечно, существуют более обособленные языковые системы, и их компоненты различны; таковы, к примеру, германские и семитские языки; либо языки американских индейцев, которых, поданным ЮНЕСКО, насчитывается около ста семидесяти семи и которые, не имея общего праязыка, обнаруживают определенную структурную общность. Китайский язык занимает в этом строю промежуточное место; он является самым значимым в китайско-тибетской группе и насчитывает огромное количество диалектов и региональных наречий — таких, как мандарин, кантонский, и других, имеющих редкую особенность различаться в написании (а письмо, как известно, одно из величайших изобретений за всю историю человечества); к тому же именно на основе китайских иероглифов были созданы письменности других народов — японского и корейского.
Главная идея Гисберта состояла в том, что если Матео смог выучить язык за такое короткое время, он, несомненно, создал определенную систему, объединяющую китайский языке индоевропейскими. Систему, соединившую столь разные наречия, эквивалентную некоему универсальному кодексу; библейский язык, утерянный во время Вавилонского столпотворения, в тот зловещий день, когда Всевышний решил наказать людей за тщеславие и обрек их на непонимание друг друга. Быть может, в «Театре памяти» Риччи была воскрешена, найдена эта совершенная система — первозданный язык.
Возможно, думал Гисберт, он был дочерним или хотя бы восходил к праязыку, с помощью которого была создана Вселенная. Языку, на котором, по Евангелию, говорил Господь, населяя Землю и создавая природу. Тварь за тварью, растение за растением, порождая характер всего сущего, порядок жизни и смерти, случайность и сожаление, несправедливость и триумф, поражение и боль. Все это, по мнению Гисберта, было наделено именами для того, чтобы существовать, и язык, имеющий божественную природу, должен был оставить свой след повсюду. Познать его закономерности означало для Гисберта приблизиться к тому, кто ведает всеми тайнами; произнесение хотя бы одного из таких слов означало возможность быть равным Богу, стать Им, творить.
На момент начала своих исступленных изысканий Гисберт Клаус знал греческий, испанский, английский, французский, итальянский и португальский. Также он имел представление о русском и других славянских языках, типа польского или сербского; к тому же он понимал арабский, турецкий и еврейский. Помимо этого, он изучил, хотя чисто теоретически, некоторые малайские языки. Главной же его целью был китайский, причем под этим подразумевались еще как минимум мандаринский и кантонский. Вспомнив свою жажду знаний в молодые годы, он решил также продолжить изучение языков кечуа, суахили, баскского и венгерского (казалось, у них общее происхождение) и выучить эскимосский. Прежде признанным полиглотом слыл новозеландец Гарольд Уильямс (1876–1928), корреспондент «Таймс» на островах Тихого океана, который свободно изъяснялся на 28 языках. Хотя тщеславие Гисберта не простиралось до надежды превзойти этого корифея, он все же надеялся, что может добиться таких же успехов и рано или поздно создать, подобно Риччи, универсальную систему, своего рода «черный ящик» всех языков, и тем самым внести неоценимый вклад в филологию. Также Гисберт весьма почитал Ричарда Бартона (не знаменитого актера, многократного мужа Элизабет Тейлор, а легендарного английского консула из Триеста), который еще в 1872 году перевел «Тысячу и одну ночь» и, согласно Борхесу, «думал на 17 языках и сумел овладеть 35, среди которых были языки друидов, семитские, индоевропейские и эфиопские». Каков же предел нашей памяти? Пока ученые не дали ответа на этот вопрос, так что у Гисберта были все основания думать, что границ нет. Риччи был тому наглядным примером, и Гисберт скромно хотел идти по его стопам.
Но, обучившись китайскому языку, открыв для себя китайскую поэзию и прозу, Гисберт стал зачитываться литературными текстами, изо дня в день откладывая осуществление своего проекта. Нечто зарождалось в его разуме, и это было осознанием некоей новой системы. Словно подчиняясь требованию неведомого духа, стремящегося к совершенству, Гисберт посвящал литературе все свое время. Он наслаждался поэмами Гете и Франсуа Вийона, познакомился с творчеством Данте и Сервантеса, прочел Уолта Уитмена, Мильтона и Св. Хуана де ла Круз, Ибн Араби и Уильяма Блейка, Кеведо и Омара Хайяма, Шекспира и Гейне. В конце концов список книг, прочитанных им, сравнился подлине с сырыми коридорами библиотеки Кельнского университета; однако во время чтения он всегда подчинялся чутью филолога, внимательного исследователя, скрывающего какие-либо другие импульсы.
С ним произошла важная перемена. По мере погружения в мир китайской литературы отсвет чего-то нового заставлял сильнее биться его сердце вопреки голосу разума. К примеру, отточенность стихов Ли По затронула по непонятным для Гисберта причинам самые глубокие стороны его души. «Что здесь делает меня таким счастливым?» — наконец спросил он себя однажды ночью, дрожа от волнения над страницами Линь Шу. Темное немецкое небо, видневшееся сквозь окна библиотеки, не дало ответа. Прочитанные страницы приобрели для него совершенный смысл, лежащий за пределами разума, и все научные рассуждения рассыпались, словно осколки стекла. «Эта система зовется Литературой, — ответил он себе той ночью, — я увидел прямо перед собой всю жизнь, так и не постигнув ее».
С точки зрения филолога, простая языковая выборка не могла произвести на человека такое сильное впечатление. Если воспроизводить какую-либо из фраз Линь Шу, при этом заменяя каждое слово на синоним (ничуть не искажая смысла), пропадал магический эффект всего предложения. Гисберт предпринял не одну попытку такого рода, пока не пришел к выводу, что система неподвластна известным ему правилам, и даже если бы было возможно объяснить, каким образом и почему именно литературные произведения оказывают на нас такое воздействие, невозможно было бы свести все это к единой теории, ведь всякий раз эффект был неповторим. Объяснение одного определенного текста отнюдь не помогало осознанию другого, а это означало, что нет единого, универсального и достоверного знания; существовало лишь впечатление — а это слово вызывало дрожь у любого ученого. И все же он был покорен этим непознаваемым универсумом, счастливый и в то же время сраженный тем, что обнаружил, приотворив эту таинственную дверь, которую, как он догадывался, теперь будет невозможно закрыть.
И тогда Гисберт решил отдаться обеим своим страстям, и его рвение к филологическим исследованиям, найдя противовес в увлечении литературой, наконец стало сообразным действительности. Он больше не посвящал все свое время научной работе; теперь казалось немыслимым пожертвовать хотя бы малой толикой этого недавно познанного наслаждения, которое доставляло ему потрясающее чтение без какой-либо практической цели. И так, в грезах наяву, Гисберт немало продвинулся и в реальной жизни, получив должность внештатного преподавателя Гамбургского университета, что со временем позволило стать магистром, а позже и профессором.
Когда Гисберт Клаус впервые прочел «Книгу измененных имен» Вана Мина, он почувствовал в глубине своей души приятное волнение. Книга оказалась превосходной. Истории были восхитительно гармоничны и имели некий налет сложности для прочтения, к которому он, филолог, был внутренне готов; это позволяло объединить интеллектуальное восприятие с эстетическим удовольствием. Казалось, Ван Мин писал именно для него, хотя их жизни разительно отличались: Ван Мин поднимал академию на смех, а он, Клаус, был ее членом. Мин был безответственным бунтарем, а Клаус — серьезным гражданином, исправным плательщиком налогов. Ван Мин умер от алкоголизма в нищете, в то время как Клаус, с двадцатилетнего возраста оплачивая страховку, уже заработал пенсию, которая, если не брать в расчет возможные катастрофы, мировую войну или вспышки активности скинхедов, сулила ему спокойную старость. В итоге — два противоположных человека с родственными душами. «Лишь в мире гуманитарной науки сокращаются такие расстояния», — думал Гисберт. Единственной чертой, объединяющей обоих, была тяга к спиртному. Гисберт, истинный сын своей родины, впитал вкус пива с молоком матери, тем самым присоединив к своей ДНК дополнительную цепочку, которую можно было назвать ЛЗННС (в Легком Запое Нет Ничего Страшного). Во времена, когда его имя не было столь известным, он позволял себе выходки, достойные порицания, что повышало его авторитет в глазах окружающих и роднило с себе подобными, так как его холодная ученая важность после третьего стакана обращалась в веселость, в особенности во время просмотра хорошего футбольного матча, не говоря уже о случаях, когда в международном турнире побеждала республиканская команда. Несмотря на то, что каждый мечтает выделиться, ничто так не успокаивает, как сознание того, что ничто человеческое тебе не чуждо. Уверенность простых заурядных людей…
Несколько публикаций Гисберта, посвященных творчеству Мина, принесли ему известность в академическом мире. Это было удачей, так как, несмотря на то, что основным вкладом Гисберта в синологию являлись описания графики китайских иероглифов, особо льстили его самолюбию и доставляли гордость литературно-критические очерки; он питал к ним истинную страсть, и (хотя он сам об этом умалчивал) именно благодаря этим публикациям ему удалось подняться еще на одну ступень в своей ученой карьере. Своим толкованием идеограмм и комментариями Гисберт завоевал достаточно высокое положение на филологическом факультете Гамбургского университета; уровень его зарплаты уже позволял спокойно принять замкнутый вид человека, уставившегося себе под ноги, человека, чей разум витает в мире сущностей, а не влачится по жалким тропам действительности, земным тропам здравого смысла большинства смертных.
Однажды, во время пребывания Гисберта в Париже, провидение привело его к одному из букинистических лотков на берегу Сены, и там он обнаружил книгу о Китае, которую ранее не читал. Это были дневники Пьера Лоти, путешественника и члена Французской академии, речь шла о военной экспедиции 1900 года против империи. «Боксерское восстание»,[2] — подумал Клаус, достал из бумажника купюру в пятьдесят франков, протянул ее букинисту и отправился в отель со старой книгой.
Ирония судьбы: та поездка в Париж была идеей Юты, жены Гисберта, и эту идею она безуспешно пыталась внушить мужу целых семь лет. Каждое лето терпеливая женщина напоминала ему о поездке, вынуждая одержимого синолога оправдываться: что-де в эту пору в Париже полно иностранцев, что нужно работать над статьей для ежеквартальной университетской публикации, что на носу конференция об историческом развитии идеографии эпохи Тан… То одно, то другое. Но этим летом упорство жены взяло верх, и уважаемому профессору пришлось подчиниться, собрать чемоданы и сесть на утренний поезд, а это внушало ему неподдельный ужас, так как он, подобно любимому им Жюлю Верну, никогда не выезжал за пределы родины. Знания Гисберта простирались далеко, и этого было достаточно. До этого момента ничто, даже обожаемая им китайская культура, не могло послужить достаточным основанием для того, чтобы он поместил свой зад в кресло самолета и вышел в какой-нибудь отдаленной затерянной стране. Но, в конце концов, до Парижа не так уж далеко…
Вернемся к книге, в чтение которой немедленно погрузился Гисберт Клаус.
Пьер Лоти, молодой французский офицер, высадился в Китае 24 сентября 1900 года, после долгого плавания на борту военного судна «Редутабль», везшего подкрепление и боеприпасы. К тому времени «боксеры» были практически разбиты, Пекин взят объединенными войсками, однако в других районах сражения еще продолжались. «Кого только нет на этом берегу, — писал Лоти, — среди мешков с песком, сваленных в кучи с целью обороны. Рядом с нашими военными моряками казаки, австрийцы, немцы, англичане; здесь японские солдатики в своем новом „европейском“ обмундировании, чудные в своей великолепной воинственности; белокурые женщины из русского Красного Креста; берсальери из Неаполя с прикрепленным шлемам куриными перьями…» Гисберт, все более довольный своим приобретением, наслаждался описанием первой пагоды, увиденной Лоти: «Совсем близко, среди деревьев, стоит старое сооружение серого цвета, замысловатое, двурогое, сплошь разрисованное драконами и чудовищами… Это пагода». «Да, да», — обрадовался Гисберт.
В тот вечер, нарушив свои обещания, он послал Юту купить колбасу, багет, сыр, ветчину и пиво, предупредив, что останется в номере почитать книгу. В качестве компенсации он дал жене несколько пятифранковых банкнот, чтобы та сходила на спектакль, о котором она мечтала (Гисберту же он казался непристойным), — в «Фоли-Бержер». Таким образом, оба остались довольны: он засел в удобном кресле отеля, завороженный фантастическим путешествием Лоти, она помирала со смеху, отдавая дань этой извечной страсти всех немок среднего класса, которая, по мнению профессора, заключалась в том, чтобы по приезде в Париж непременно посмотреть балерин в «Лидо», а на следующий день пойти на глупейшее представление в «Фоли-Бержер».
Оставшись в одиночестве, Гисберт открыл бутылку пива, откусил от одного из сандвичей кусочек мяса и вновь погрузился в чтение. После выражений удивления по прибытии в Китай повествование постепенно приобрело мрачный характер: по мере приближения к Пекину юный французский офицер видел лишь смерть, разрушение, сожженную землю. Лоти плыл на джонке, легкой китайской лодке, вдоль берега реки Пей-хо, в сопровождении пяти слуг-китайцев и двух солдат, в избытке снабженных оружием и боеприпасами. Воды реки были черны от крови; по течению плыли трупы с выпущенными кишками; то тут, то там были видны части тел, застрявшие в прибрежном тростнике, и хищные птицы, взмывавшие в небо с кусками человеческого мяса.
Таким был их путь… Они часто останавливались на ночлег в военных палатках. Однажды в сумерки в одной из деревень на берегу реки Пьер Лоти увидел, как русские солдаты вытаскивали из домов старинную резную мебель для своего костра. Лоти медленно приближался к Пекину, где его ждала еще более ужасающая картина. «Неистовое разрушение и исступленное убийство свирепствуют в Городе Небесной Лазури, захваченном войсками семи или десяти государств, — писал Лоти. — Город вынес первый натиск наследников ненависти. Сначала прошли „боксеры“. За ними последовали японцы, чикитос и „героические“ солдаты, — воздержусь от их характеристики, — они убивали и разрушали, словно древние варвары. Не скажу ничего хорошего и о наших русских друзьях — эти направили сюда казаков, живущих рядом с Татарстаном, — сибиряков-полумонголов, которые обожают воевать, но делают это исключительно азиатским способом. Также прибыли посланники Великобритании — индийские кавалеристы. Америка бросила сюда своих наемников. И когда пришли все они, в порыве их мести за зверства итальянцев, немцев, австрийцев и французов не уцелело ничего».
Гисберт с горечью заметил, что большую часть вины Лоти приписывал азиатам, хотя на самом деле жестокость солдат разных армий, и немцев в частности, предвосхитила все ужасы начинающегося века. Книга Лоти изобиловала подробностями, и, открыв еще кварту пива (в холодильнике имелось целых две упаковки по шесть банок в каждой, и можно было пить, ни о чем не беспокоясь), Гисберт живо представлял каждую из сцен.
Зайдя в один из заброшенных домов, Лоти увидел женское туловище, а после недолгих поисков обнаружил сумку, где была голова; рядом лежал мертвый кот. Встречались и другие детали; к примеру, отвратительная привычка некоторых солдат (не было сказано, какой национальности) разделывать мясо, предназначенное в пищу, на крышках гробов… Однако самым подавляющим было описание жуткой встречи с последними защитниками Пекина. Лоти писал: «Что касается „находок“: сегодня мы обнаружили груду мертвых тел. Оставшиеся защитники столицы империи, павшие здесь, в глубокой пещере, лежат один на другом, застывшие в предсмертных судорогах. Вороны и собаки, проникнув сюда, выгрызли им грудные клетки, съели внутренности и глаза; это нагромождение останков, на которых почти не осталось мяса; видны окровавленные хребты с оставшимися на них клочками одежды. Головы почти не сохранились, однако обувь есть на всех трупах. Подобно воронам и шакалам, оставшиеся в живых китайцы забираются в пещеру и обдирают с мертвецов волосы, чтобы сплести из них накладные косички. Они сейчас вошли в моду среди пекинских мужчин — так что у всех трупов, которые мы можем разглядеть, волосы содраны настолько, что обнажились черепа…»
Все эти откровения в сочетании с тем обстоятельством, что уже была начата вторая упаковка из дюжины банок пива, навели Гисберта на мысль: «Лоти действительно видел это?» Можно было побиться об заклад, что он был бы не в состоянии пережить подобное зрелище. И уж тем более бесстрастно описывать этот кошмар. Было что-то, что ускользало от Гисберта и было недоступно для понимания; он полагал, что нельзя рассказывать о зверствах, когда человек демонстрирует худшие стороны своей натуры; точно также непередаваемы мистические видения, те признаки присутствия непостижимого лика Господня, о котором пишут некоторые поэты. Но такая точка зрения Гисберта была результатом чтения, а не личного опыта. «Что ты знаешь о жизни, герр профессор?» — ехидно осведомился внутренний голос, который, несомненно, был в курсе того, что у Гисберта оставалась всего одна жестянка пива, а в глубине души уже зарождалась мысль осушить к тому же одну крошечную бутылочку виски из мини-бара. Не успев зародиться, эта идея была реализована: чтобы растянуть наслаждение родным, благотворным вкусом «Кениг пилсенер», Гисберт, съежившись, открыл дверцу, достал флакончик «Джонни Уокер» с черной этикеткой и налил его в стаканчик для зубных щеток, заботливо поставленный в ванной. Профессор с благоговением относился к писателям, однако в данном случае у него возникло слишком много вопросов. Ведь речь шла о дневнике; автор не ставил перед собой никакой определенной цели, описывал повседневную жизнь и реальные события, подчас даже не связанные между собой, наполняя образами свое повествование. «Это жизнь, герр профессор, жизнь», — не унимался внутренний голос, и тогда Гисберт взял трубку, набрал номер ресепшн и на достаточно чистом французском языке попросил как можно скорее принести еще немецкого пива, пообещав хорошие чаевые.
Он задался решением новой теоретической проблемы, а именно проблемы описания жизненного опыта. Сколько писателей рассказывают правду, подразумевая под правдой именно то, что испытали, обоняли, трогали сами? Так, так… Селин пережил две войны, был солдатом, медиком, его посадили в тюрьму за распространение антисемитских памфлетов. Источник его книг — его судьба. Генри Миллер, житель того самого города, который бурлил и за окном Гисберта, тоже пережил многое; подхватил гонорею (очищение, как он сам называл эту болезнь) и в конце концов написал об этом. Жизнь, жизнь… О ней писали Пруст и Манн. Короткий стук в дверь отвлек его от размышлений. Гисберт с досадой взглянул на часы, предполагая, что вернулась Юта, а значит, времени подумать совсем не осталось. Однако было еще рано, и в дверях возник официант с двумя упаковками обожаемого пива. Профессор распечатал баночку, допил оставшееся виски и вновь уселся, погасив свет, так как был убежден, что полумрак — самая подходящая обстановка для раздумий.
Первый же глоток холодного и пенного пива дал новый импульс его мыслям. Он подумал о Сальгари и Жюле Верне: они не описывали реальность, они выдумывали. Их книги не отражение пережитого. Но разве то, что является плодом нашего воображения и интеллекта, не есть тот же жизненный опыт? В этом и заключалась суть вопроса. Мечты, идеи и вымыслы, которым люди предаются для того, чтобы как-то разнообразить серость будней, — разве они не реальны? Это было весомым аргументом; ведь в конечном счете вся его жизнь проходила среди книг. Из-за постоянного сидения над книгой его спина стала сутулой, глаза привыкли к свету ламп и приятной полутьме читальных залов. Он был пленником собственного разума, словно дом без дверей, в котором всего два балкона, откуда можно видеть улицу, но нет возможности общения с теми, кто по ней идет.
Звук часов и клочок пивной пены, упавший на рубашку, утвердили его в мысли о том, что обычная мирская жизнь тоже чего-то стоит. А почему бы и нет? Странно, сказал себе Гисберт. Ведь, несмотря на его высокое мнение о самом себе, футбол, это болезненное юношеское увлечение, когда-то доставлял ему немалое удовольствие, а следовательно, даже помесить ногами грязь порой оказывалось совсем неплохим занятием. Сам Камю играл в футбол и даже признался однажды, что в его жизни не было ничего более занимательного, чем хороший гол. Быть может, думал Клаус, в его жизни слишком мало настоящих событий; и мог бы он, подобно Лоти, написать собственный дневник? Он припомнил кое-что касательно этого вопроса: классификацию человеческих характеров, предложенную французским психологом Рене Лезанном. Все люди делились на три типа: нервные, сентиментальные и спокойные; каждый из этих типов включал в себя две разновидности — активные и пассивные. Согласно Лезанну человек, ведущий дневник, — типичный представитель «нервного пассивного» типа. Раньше Гисберт не задумывался над этим, теперь же ему пришло в голову, что его дневник мог бы стать чем-то вроде судового журнала, средоточием мыслей, идей и отвлеченных понятий, чем-то напоминающим произведения Гомбровича. Интересно было бы поэкспериментировать. Но как это сделать? Страницы дневника Лоти, едва различимые в полумраке, жгли руки. Быть может, в шестьдесят лет наконец настало время изменить жизнь? «Жизнь, жизнь, — да что ты понимаешь в жизни, герр профессор», — надрывался внутренний голос, этот книжный червь, просыпавшийся в мозгу Гисберта в те моменты, когда сознание профессора было возбуждено алкоголем.
Чуть позже открылась дверь, и он зажмурился от света, зажженного Ютой. Ее щеки пылали.
— Ты пропустил презанятный спектакль, герр профессор, — сказала она с благоговением. — Надеюсь, ты не слишком много выпил.
— Завтра мы возвращаемся в Гамбург, дорогая, — не глядя на жену, ответил он. — Я должен готовиться к поездке.
Она сделала удивленные глаза.
— К поездке?
— Да, ты ведь слышала.
— Но… куда?
— В Пекин.
ГЛАВА 4 Человек, который прячется в сарае (II)
Вчера ночью я слышал какой-то шум в самом темном углу и решил спрятать сумку под одежду. Лишь после этого удалось ненадолго задремать. Проблема в том, что, как мне сказали, врагом мог оказаться любой. Кто угодно. Как говорится, один, другой, третий… Однако пока я никого не заметил. Членами секретной организации «Белая лилия», которым приказано любой ценой отыскать то, что я прячу, являются и мужчины, и женщины различного рода занятий. Служащие, таксисты, парикмахеры, даже члены коммунистической партии. Враг незримо приближается в неведомом мне обличье. Он невидим, но он существует. Похоже на борьбу с абстракцией. К примеру, с мыслью о чем-нибудь плохом. С тем, что есть и снаружи, и внутри нас; с тем, что разъедает и разрушает то, чем мы являемся и какими хотели бы быть; и с тем, что подчас становится низким стимулом, придающим силы. Зачем существует зло? Я, обычный служитель церкви, с почтением относящийся ко всему таинственному (кстати, открою свою тайну: я священник и ношу сутану), не могу ответить на этот вопрос. Единственное, что я смог сделать во время своего одиночного заключения, — написать эту молитву.
Молитва несчастного священника
Господи, я здесь, в тишине и одиночестве, хочу спросить у Тебя одну вещь. Задать смиренный вопрос. Я и сам человек смиренный. Вот мой вопрос: для чего создал Ты зло? Прости меня за невежество, если все было в руках Твоих, зачем Ты это сделал? Я не осуждаю, нет, упаси Господи. Просто не могу постичь помысла Твоего, и вот подумал: я нахожусь в одиночестве, и это подходящее время, чтобы спросить. Конечно, Твой ответ буду знать лишь я. Сказанное Тобой очень важно для меня. И я совсем, совсем не спешу. Мои враги пока не нашли меня.Наверное, это паранойя, но я решил держать сумку при себе даже днем. Так она будет ближе ко мне — плоть от плоти моей. Не знаю, кто автор, но они преклоняются перед манускриптом. В нем заключена, помимо некоторых правил буддизма и описания серии упражнений, основа основ их учения. Именно по этой причине им нужно отыскать рукопись. Любой ценой. Она была утеряна в прошлом столетии, когда над ними учинили кровавую расправу и зверски казнили их лидеров. Я нахожусь здесь недавно, и мне известно всего лишь, что тогда тайное общество называлось «Кулак во имя справедливости и согласия», а позже они стали известны как «боксеры». Конечно же, они восхищались творчеством некоего писателя. Такое распространено в подобных сообществах. К примеру, вьетнамские каодаисты обожают Виктора Гюго, а некое секретное общество Южной Кореи преклоняется перед экономистом-спекулянтом Соросом.
Мои преследователи хотели отметить окончание века возвращением утерянной рукописи, дабы с ее помощью вдохнуть в секту новую жизнь. Долгие годы они считали, что текст безвозвратно утерян, однако теперь им было известно, что он все же существует благодаря оплошности. Роковой неосторожности из тех, что происходят по чистой случайности и влекут за собой настоящие катастрофы. Манускрипт покоился на полках архива французской католической церкви в Пекине, куда был передан после того, как посольство Франции переехало в новое здание. Я не знаю, как текст попал в руки представителей тогдашней французской миссии, ответ ускользает от меня. Мне известно лишь то, что он находился там, на запыленных библиотечных полках, а позже был передан в одну из церквей. А роковой неосторожностью, о которой я уже говорил, явилась простая мелочь: безвестная студентка-филолог искала какие-либо сведения по истории миссионерства, И служащий проводил ее в тот самый архив, где они пробыли несколько часов. Когда они обедали в трапезной, девушка среди многих удивительных вещей, обнаруженных ею в архиве, упомянула и о манускрипте (причине моего пленения). В тот самый момент рядом оказался уборщик — юноша мыл полы. Он выкрикнул название рукописи и, сказав служащему, что тот владеет некоей святыней, которая не принадлежит ему, стремглав умчался прочь.
Поняв, что произошло, служащий поспешно изъял манускрипт из архива; он позвонил преподобным отцам Ословски и Сунь Чэну; те, в свою очередь, связались с посольством Франции, которому принадлежала рукопись. Они рассказали о случившемся и сообщили название рукописи, перевод которого мог бы звучать как «Далекая прозрачность воздуха». Дальнейшие события развивались быстро: меня попросили хранить манускрипт до их прихода, а для большей безопасности поместили сюда.
В ту же ночь случилось непоправимое. В поисках манускрипта люди в капюшонах проникли в церковь, взломали дверь в архив, связали сторожей-монахов и принялись крушить стеллажи и взламывать ящики картотек. Ничего найти не удалось; тогда они направились к утреннему служителю, спавшему в ризнице, и приказали отдать рукопись или сообщить ее местонахождение. Он ответил, что ничего не знает, подтвердив лишь то, что манускрипт из архива забрали. Тогда они прибегнул и к пыткам: сначала засовывали под ногти юноши иголки, а потом стали с помощью латунной воронки лить в задний проход кипящую воду. Он выжил чудом; молодой человек молчал, потому что действительно ничего не знал. Во избежание дальнейших неприятностей преподобный Ословски предложил единственный разумный выход: отдать людям из секты манускрипт, приносящий несчастья. Я полностью разделял его мнение, однако из Парижа поступило новое распоряжение: «Не отдавайте рукопись. Мы пришлем человека, который заберет ее из Пекина. Желаем удачи».
ГЛАВА 5 Может быть, когда-нибудь исчезнут перуанцы, но поэзия будет вечно
Жизнь Нельсона Чоучэня Оталоры была полна противоречий: он терпеть не мог Литературную академию, хотя был ее членом, питал отвращение к критике, будучи одним из наиболее известных литературных критиков Латинской Америки, и презирал поэзию, которая была коньком среди многочисленных жанров, которыми он занимался (недоброжелатели называли это «пустословием»). Родившийся 45 лет назад в вице-королевском городе Куско, Нельсон был редким человеком: выдающийся студент университета Сан-Маркос, защитивший диплом о перуанских традициях, а позже написавший множество статей и научных трудов, которые позволили ему стать одним из ведущих испаноязычных критиков в Соединенных Штатах.
Теперь, воцарившись в профессорском кресле Техасского университета в Остине, Нельсон обрел спокойствие уверенного в себе интеллектуала; его внутренние противоречия несколько поутихли и превратились в некий легкий стимул (не будем уточнять, к хорошему или плохому). Он не испытывал ностальгии по Перу; ему не хватало разве что некоторых соотечественников, к примеру Сесара Вальехо. Единственной «пуповиной», связывающей Нельсона с его «ущербной» (как он сам говорил) страной, было безудержное, в огромных количествах, потребление инка-колы. Он выпивал ее по три литра в день, дополняя по вечерам безобидными глоточками джина — так было вкуснее, и жизнь начинала кружиться в ритме вальса.
В литературной деятельности Нельсон достиг того уровня, когда публикация его работ являлась, по Борхесу, «истинной честью для типографий». Правда, до сих пор это были публикации за счет автора, то есть на его средства, либо в университетских сборниках. Он был награжден небольшой денежной премией газеты «Маска» за рассказ на инкскую тему, который вошел наряду с сочинениями других авторов его поколения в несколько антологий; последующие же работы популярностью не пользовались. Рассказы «Глядя на запад», «История угольщика Атауальпы», «Еще водки, милая?», «Лимон на двоих», «Сеньор из Апуримака» и «Блюз Куско» удостоились нескольких благосклонных рецензий (написанных его знакомыми, а иногда им самим) в испаноязычных газетах Майами и Лос-Анджелеса. Шесть поэтических сборников, наиболее примечательными из которых были «Рассвет в Куско», «Камни/Вода/Грязь» по рекомендации его друзей-преподавателей были включены в программу курса латиноамериканской поэзии. Говоря по секрету, его поэзия вызывала сладостное волнение у поэтически настроенных девушек, — как гринго, так и латиноамериканок, — которые прельщались не только талантом барда и голосом, тембр которого напоминал Лучо Гатику, но и неотразимым смугло-китайским лицом. Но как и следовало ожидать, этого для Нельсона было мало. Он хотел стать всеми чтимым автором, которому удалось произвести в литературе настоящий латиноамериканский бум; он страстно желал видеть свое имя, написанное золотыми буквами, в одном ряду с великими: Варгас Льоса, Кортасар, Гарсиа Маркес, Кабрера Инфанте и… Чоучэнь Оталора! И хотя времена бума миновали и Хулио Кортасара уже не было на свете, всякий раз, сидя в кабинете или покачиваясь в поезде по дороге в университет, Чоучэнь грезил о прошлых временах и представлял себя в Барселоне, на церемонии вручения какой-нибудь важной премии; в доме Карлоса Барраля, в окружении Гарсии Маркеса, Варгаса Льосы и Доносо; на фото с Нерудой и Карлосом Фуэнтесом… Порой, глотнув виноградной водки, он воображал телефонные разговоры с Кортасаром, в которых автор «Игры в классики» приглашал его в гости:
— Нельсон, почему бы тебе не заглянуть на страстной неделе в мой домик в Сайгоне? — спрашивал Кортасар. — Будут Октавио Пас и Мари Хосе. Они мечтают познакомиться с тобой. Октавио хочет обсудить один критический очерк о твоих рассказах.
— Даже не знаю, Хулио, — сокрушался Нельсон, — я должен быть на нескольких конференциях по моей поэзии в мадридском Институте иберо-романского сотрудничества, а потом представлять в Копенгагене датское издание «Блюза Куско». Так что это будет сложновато, сам понимаешь.
— Да ладно, Нельсон, — настаивал Кортасар, — тогда они приедут на пару дней; ты сможешь отдохнуть, насладиться хорошим бордо и побыть в обществе любящих друзей — совсем не повредит трудоголику вроде тебя.
Естественно, известность Нельсона будет мировой; в воображении он уже слышал по телефону голос Уильяма Стайрона, который предлагал написать комментарии к «Еще водки, милочка?», изданной «Викинг-Пресс» тиражом всего в сто тысяч экземпляров, но с одобрения сливок нью-йоркской литературной критики; президент Франсуа Миттеран, находясь под впечатлением его интервью программе «Апострофы», приглашал писателя на легкий завтрак на Елисейских полях (ходили слухи, что он хочет наградить Нельсона орденом Почетного Легиона, как это было в свое время с Миланом Кундера и Хулио Кортасаром). По приезде домой его будет ждать сообщение от Сюзан Сонтаг с предложением отобедать на следующей неделе с Салманом Рушди (в «Четырех сезонах» в Сентрал-парке). Сюзан скажет: «Салман рассчитывает на твою поддержку, Нельсон, — ты уж не подведи».
Убаюканный собственными грезами, Нельсон дремал в поездах или в кабинете. Проснувшись, он сталкивался с действительностью: его рассказы, которые должны были быть отпечатаны в тысячах экземпляров, хранились, упакованные в пластик, в его собственной кладовке. Всякий раз, когда он заглядывал в один из трех магазинчиков испанской литературы Остина, где торговали его книгами, и спрашивал, не нужны ли дополнительные экземпляры, ему отвечали: «Нет, профессор, все десять ваших книг пока здесь». Лишь однажды продавец в магазине «Христофор Колумб» сообщил приятную новость: «Сегодня утром купили „Блюз Куско“». Нельсон вышел из магазина в приподнятом настроении; однако его радужные надежды растаяли в тот же вечер. Когда он пришел домой, жена встретила его словами: «Черт побери, куда ты подевал все свои книги?! Представляешь, хотела подарить одну тете Гертруде, но не нашла, — пришлось купить. Да, кстати, что ты хотел рассказать?» «Ничего, — отвечал Нельсон, — ничего».
Единственным, что приближало Нельсона к обожаемым (а порой ненавидимым им) писателям, которым удалось произвести литературный бум, было наличие его сочинений в библиотеках североамериканских университетов. Там имелись карточки всех его книг: на букву «Ч», некоторые также и на «О», а порой на обе эти буквы. Это объяснялось тем, что, едва получив отпечатанные экземпляры своих произведений, Нельсон незамедлительно дарил достаточное их количество библиотекам США (а также библиотекам всех других стран). Все это в сочетании с рекомендациями, которые дали студентам свои преподаватели, принесло ему некоторую известность, и его творчество до сих пор не удостаивалось ни одной испанской или американской премии лишь из-за превратностей судьбы. Казалось, именно сейчас он находился как раз на пороге известности, однако, чтобы прославиться, латиноамериканский писатель сначала должен стать знаменитым в Испании.
Поэтому по меньшей мере раз в семестр он запирался с бутылкой виноградной водки в руках и ждал решения жюри, которое, к сожалению, в течение последних пятнадцати лет не уделяло должного внимания его творчеству. Прихлебывая из горлышка, он воображал себе речь для прессы, которую нужно будет заучить наизусть. Он собирался начать так: «Любая премия является актом благородства, который делает честь не столько тем, кто ее удостоен, сколько тем, кто ее присудил; поэтому сегодня я хочу поздравить и поблагодарить членов жюри и в особенности организаторов…»
Однако всегда случалось одно и то же: не происходило ничего. Ни единого телефонного звонка, ни разу далекий голос в трубке не произнес слов: «Нельсон Оталора? Вас беспокоит издательство…»
Телефон на его коленях не издавал ни единого звука; он зазвонил один-единственный раз — кто-то ошибся номером, у Нельсона же в этот момент едва не остановилось сердце. Он послал звонившего куда подальше и в сердцах запустил трубкой в стену.
Он хранил все письма с отказами, полученные в качестве отзыва на его книги от многих испанских и латиноамериканских издателей; он не оставлял надежду утереть им нос, став знаменитостью. «Уважаемый автор, наши специалисты советуют обратить внимание издательства на ваше творчество, однако не считают, что данная рукопись нам подходит», «Просматриваются очевидные попытки поиска собственного авторского стиля; мы предпочли бы другое ваше произведение» — любое из таких писем было для Нельсона целым событием. Он вскрывал их не сразу; дожидался вечерней встречи с друзьями-преподавателями — все они тоже были латиноамериканцами и такими же, как он сам, непечатающимися писателями и поэтами, — показывал им запечатанный конверт и фантазировал. После пары рюмок наступал кульминационный момент: Нельсон удостаивал кого-нибудь из приятелей чести ознакомить всех с содержанием письма.
— Черт подери, — говорил он, — когда-нибудь ты будешь рассказывать внукам, как читал Нельсону Оталоре письмо с рецензией на его первый рассказ.
Промочив горло, избранник торжественно обводил взглядом присутствующих и громко читал: «Благодарим вас за третью по счету рукопись; вынуждены сообщить, что она не получила одобрения нашего читательского комитета, поскольку…»
С этого момента до самого закрытия бара разговор Нельсона и его друзей вращался вокруг обычных тем: меркантильности издательств, мещанства и высокомерия издателей, податливости публикуемых авторов, отдающихся, словно уличные девки, требованиям рынка и неспособных (в отличие от них) создавать истинную литературу… Беседа велась в таком презрительно-уничижительном тоне до тех пор, пока кто-нибудь (иногда сам Нельсон) не начинал припоминать все недавно вышедшие книги; и тогда все оживлялись, ведь появлялась возможность изничтожить каждую из них, наградив характеристикой типа «консервная банка с историями» и другими определениями. Затем Нельсон бережно складывал письмо, чтобы, по своему обыкновению, отправить его в свой архив, и они переходили к Эдгару Алану По — тот тоже никогда не пользовался особым успехом у издателей; к Бодлеру, который не только не был знаменит, но вообще умер от голода; к Малкольму Лаури, писавшему свою книгу десять лет, невзирая на то что ее не хотели печатать; к «несчастному Кафке»… И успокоенные, Чоучэнь Оталора и его товарищи расходились по домам, так и не заметив, что весь последний час засидевшаяся в баре студенточка или официантка не могла отвести глаз от восточного лица нашего автора, которое становилось необыкновенно привлекательным в те моменты, когда он бывал слегка пьян.
Именно китайское происхождение Нельсона стало причиной того, что он оказался замешан в эту историю. Фамилию Шоушэнь (перуанский вариант которой звучал как «Чоучэнь») носил его дед; еще юношей в феврале 1901 года он эмигрировал в Перу на борту одного торгового судна; они вышли из порта Кантон и шли по курсу через Гонконг, Манилу и Новую Гвинею в Лиму, порт Кальяо. Дедушка Ху стал на местный манер называть себя Хуаном, Хуаном Чоучэнем, а спустя несколько месяцев перебрался из Лимы в Куско — столица была малоперспективным местом для эмигранта-крестьянина из Китая. Несмотря на то что детские и юношеские годы дедушка Ху провел в Пекине, Куско с его глинобитными домами и мощеными улицами подходил ему как нельзя лучше, напоминая небольшой китайский городок высоко в горах, где он родился. В Куско он почувствовал себя как дома, и, осев там, вскоре получил надел земли и занялся выращиванием кукурузы. Он взял в жены индианку, у них родился сын, а спустя шестьдесят лет появился на свет внук. Порой, облокотившись на перила университетской террасы, Нельсон размышлял о тернистом жизненном пути, который пришлось пройти его деду, и улыбался с гордостью. Это был путь не из последних, думалось ему, действительно, могли бедный китайский эмигрант Ху Шоушэнь представить, что когда-нибудь его единственный внук покорит Америку и, быть может, — кто знает? — его имя войдет в историю всемирной литературы. Нельсон бережно хранил семейную реликвию — дедов сундук, битком набитый письмами и документами; однако до сих пор он не пытался внимательно ознакомиться с его содержимым, хотя все бумаги были переведены дедом с китайского языка на испанский, — возможно, в тайной надежде на то, что потомки захотят повернуть время вспять и узнать побольше о семейных корнях.
«Я пришел, чтобы завоевать Америку, и она завоевана мной», — писал Нельсон в одной из своих поэм; он перефразировал с точностью до плагиата слова поэта Уильяма Оспины, однако, будучи человеком прагматичным, не принимал такие пустяки близко к сердцу. На самом деле этими «почти своими» словами он хотел выразить горячее желание никогда больше не возвращаться в Перу; он ненавидел господствующий на родине расизм — до сих пор, проходя мимо смеющихся людей, Нельсон боялся, что потешаются именно над ним; ощущение усиливалось, если это были белые (он называл их «белесые»); и избавиться от него не помогли даже восемьдесят часов занятий с психоаналитиком.
В мире полным-полно завистников, и Нельсон был объектом непрекращающихся нападок со стороны университетских коллег. Злейшим его врагом был парагваец Норберто Флорес Арминьо из университета Корнелл; причиной взаимной ненависти стали общие темы научных трудов. Оба исследовали индийскую прозу и являлись авторами социоисторических работ, посвященных творчеству Альсидеса Аргедаса, Гиро Алегрии и Мигеля Астуриаса; они одновременно получили ученую степень и, к несчастью для обоих, и тот и другой весьма продвинулись в исследованиях в области психокритики и гипертекста. Их конфликт был непрекращающимся, так как издателям приходилось выбирать между ними; то же касалось приглашений на конгрессы и семинары, посвященных общей теме исследований.
Флорес Арминьо был первым, кто выступил с нападками на статью Нельсона о Мигеле Астуриасе:
«Остается выразить лишь свое удивление и в лучшем случае недоумение относительно понятия „когнитивной ссылки“, фигурирующего в работе по „Детям кукурузы“ многоуважаемого коллеги из Остина, Нельсона Чоучэня. При всем моем уважении к его многочисленным заслугам и мастерству, хочется предположить, что по причине досадной невнимательности произошла ошибка, поскольку на самом деле имеется в виду „эпическая парономазия“».
Прочитав это, Нельсон пришел в ярость.
— Что возомнил о себе этот ублюдок?! — в бешенстве включая компьютер, вскричал он. — Решил меня обокрасть? Увидишь, во что ты вляпался, подонок! Гори все синим пламенем!
Так началась их война; Нельсон дополнил свою статью о поэтике «Вся кровь» следующим пассажем:
«Поскольку некоторые мои коллеги, и в частности неподражаемый Флорес Арминьо, одержимые сильнейшей и, к сожалению, прогрессирующей понятийной близорукостью, стремятся увидеть „эпическую парономазию“ даже на обложках книг, становится очевидным, что речь идет…»
Таким образом, большинство университетов Соединенных Штатов условно разделилось на группы — одни приглашали на свои литературные мероприятия Чоучэня Оталору, другие же предпочитали Флореса Арминьо. Минусом Нельсона было его сочинительство, которое служило еще одним поводом для нападок Флореса Арминьо и его приверженцев, «флоресарминьянцев»; это была группа молодых знаменитостей, аспирантов и преподавателей, готовых в любой момент наброситься на «чоучэноталорианцев». Они рано уяснили для себя одну простую университетскую истину: если хочешь удержаться на шаткой карьерной лестнице, необходимо примкнуть к одной из постоянно воюющих групп, формирующихся в широком академическом мире в соответствии с выбранной тематикой исследований.
Как-то раз один из ярых приверженцев Флореса Арминьо, эквадорец Понс Естевес, весьма нелицеприятно отозвался о «Блюзе Куско», шестом романе Нельсона. Статья была опубликована в ежеквартальном журнале Чикагского университета, и как только она оказалась на столе у разъяренного Нельсона Оталоры, он тут же созвал в кабинет своих сторонников для обсуждения решительных ответных действий:
— Мы выведем этих мерзавцев на чистую воду.
План заключался в следующем: нужно было попытаться проникнуть в ящик электронной почты Флореса Арминьо в университете Корнелл и от его имени послать сообщение Понсу Естевесу; затем это письмо должно было появиться на университетском онлайновом форуме, а значит, распространиться по всем филологическим факультетам университетов Соединенных Штатов. Через три дня, анонимно договорившись с одним опытным хакером, они отправили текст следующего содержания:
От: floresarmirio@cornnel.edu.com
Кому: ponsestevez@unichikago.edu.net
Милый Лоло,
Последнее время ты необщителен. Ты чем-то встревожен? Птенчик, ты всегда такой чувствительный. То, что тебе рассказывали про мой сюрприз, — правда. Сам убедишься. Увидимся в выходные, проказник. Обещаю дать тебе свою розовую дырочку и познакомить с одним студентиком — его член просто великолепен.
Пообещай мне, что придешь, пожалуйста.
Люблю, Норби.Разразился невообразимый скандал. Норберто Флорес Арминьо был вызван в ректорат университета Корнелл, где у него потребовали письменного объяснения. То же произошло с Естевесом в Чикаго, с той лишь разницей, что в его случае дело закончилось увольнением. С точки зрения ректората, проблема заключалась не в сексуальных пристрастиях преподавателей, а в том, что они привлекали к своим играм студентов. Поэтому был созван дисциплинарный суд, призвавший к ответу обоих; Флорес Арминьо утверждал, что ни разу в жизни не использовал слово «дырочка», и требовал проверки университетских компьютеров, утверждая, что письмо — дело рук какого-то развратного хакера. Разбирательство длилось несколько недель, и все это время оба находились в состоянии неопределенности; однако проверка не дала каких-либо результатов — коды доступа в систему взломаны не были. Программист допускал возможность вмешательства хакера в систему, но не мог утверждать этого с абсолютной точностью.
Таким образом, оба в какой-то степени были реабилитированы перед ректоратом; однако ничто не мешало возникновению толков: студенты и преподаватели донимали несчастных прозвищами и насмешками. Всюду Флорес Арминьо слышал в свой адрес прозвище Норби; а оглушительный хохот, раздающийся всякий раз везде, где бы он ни появился, едва не довел беднягу до инфаркта. Однако самое ужасное событие произошло в начале нового семестра, когда группа активистов по защите прав секс-меньшинств выступила в его поддержку перед зданием ректората. «Лоренцо и Норби. Мы с вами», — гласил один из плакатов. «Да здравствуют Тельма и Луиза / Лоло и Норби!» — красовалось на другом.
Флорес Арминьо понимал, что шумиха затеяна не без участия его давнего противника Нельсона Чоучэня, этого «разлагающегося перуано-китайца», — но не имел никакой возможности прямо обвинить соперника. И до поры до времени он решил смириться с позором. Он верил, что ему представится возможность отомстить.
Когда Флорес Арминьо перестал подавать какие-либо признаки своего существования, Нельсон Чоучэнь понемногу забыл о случившемся; с началом весны он стал посвящать все свободное время работе над поэтической эпопеей о наследии Атауальпы, компьютерным играм и изучению стихов Эмили Дикенсон и Уильяма Карлоса; он собирался читать их одной студентке, пуэрториканке по имени Дарси, — девушке с наэлектризованными волосами и аппетитной попкой, на которую с некоторых пор положил глаз.
Как это часто бывает в университетской жизни, профессор увлек девушку поэзией, и в один из вечеров, после свидания в баре «Харвей», удалось в какой-то степени добиться ее благосклонности. После многочисленных поцелуев и пожатий рук, уже навеселе, пуэрториканочка пригласила Нельсона к себе, в темную комнатушку студенческого общежития. И пока она ходила в ванную по-маленькому (все было очень хорошо слышно), Нельсон краем глаза, из чисто профессионального любопытства, мельком просмотрел книги, лежавшие на ее ночном столике. Одна из них привлекла внимание: Ван Шу, «Играя с огнем». Он открыл первую страницу и начал читать, пытаясь побороть дурноту, но почти сразу подвергся атаке девушки, которая вышла из ванной. Книга скользнула на ковер, они опрокинулись на кровать. Дарси, сев сверху, глубоко проникала ему в рот поцелуями и покрикивала: «Папочка, сделай мне хорошо… да… да, милый, иди ко мне…»; она целовала его соски, слегка покусывала… взяв его палец, намочила его слюной и ввела в себя. Она проникала языком в его ухо, кусала живот: «Сделай мне больно, я твоя, возьми меня… да… пусть мне будет больно, сломай меня… ведь я нехорошая… возьми меня сзади, радость моя…» Через какое-то время, весь взмокший от слюны и пота, Нельсон закурил, признавая свое полное поражение.
— Прости, — сказал он. — Я слишком много выпил.
— Но, папочка, неужели я совсем не нравлюсь тебе?
— Нет, глупышка, такое случается, когда я выпью. Вот в другой раз посмотрим.
Дарси наконец уснула, а Нельсон поднял с ковра книгу. Он не слышал о китайском писателе Ван Шу и принялся за чтение, подумав, что никогда раньше ему не доводилось иметь дело с книгой из далекой таинственной страны, которая в некотором роде имела отношение и к нему. События развивались в Пекине, главным действующим лицом был молодой плут.
Нельсон читал до шести утра, охваченный страстью, какой не испытывал со времен своей молодости в Лиме, когда наслаждался в кафешках текстами Рамона Рибейро. Он поднялся, на цыпочках прошел в ванную и оделся, стараясь не шуметь. Перед уходом взглянул на спящую Дарси, которая раскинулась поверх одеяла, почувствовал возбуждение, увидев ее попку, но времени уже не оставалось. «Проказник, — сказал он себе, посмотрев чуть ниже пояса, — вовремя же ты объявился».
В это время его жена уже собиралась звонить в преподавательскую резиденцию; ведь Нельсон был женат уже 16 лет, хотя никогда не упоминал о супруге и не появлялся с ней на людях.
Его жена была перуанкой, ее звали Эльза Паредес. Наедине, когда не было посетителей, они называли друг друга «китайчик» и «смуглянка». Она любила его так, как любят люди, давно состоящие в браке, — по непонятным причинам, без лишних вопросов, не задумываясь над тем, что же за человек этот мужчина, который храпит и ворчит рядом. Которому во время простуды нужно давать аспирин и который может при случае обозвать или снизойти до любезности пригласить на танец. Она жила в их семейном доме, в небольшом поселке в сорока километрах от университета. Нельсон же всю неделю пользовался одной из самых больших, если не сказать шикарных, квартир, которые университет держал для приезжих преподавателей. Он не имел на это права, но чиновник, отвечавший за расселение, некий Гарри Руссо, итальянец по происхождению, был своим человеком и помог Нельсону с квартирой. Взамен Руссо получил рекомендации и приглашения на конгрессы, так как временно исполнял обязанности преподавателя литературы и имел свою точку зрения на творчество Маркуса, Штейнера и прочих авторов.
По случайности именно в тот день Нельсон должен был составить окончательный список преподавателей, которых он рекомендовал ректорату в качестве приглашенных на конгресс по творчеству Хорхе Икасы. В список уже были включены трое: писатель Рамон Ронкарио с темой о влиянии творчества Икасы на жанр современного романа, декан филологического факультета университета Куэнки Криспин Рокафуэрте и Аристид Чивита, главный редактор отдела культуры коммерческого еженедельника из Кито. С этими тремя у Нельсона Чоучэня все было решено. Так, несколько лет назад Ронкарио рекомендовал «Блюз Куско» в издательство «Конэхо»; хотя дело не выгорело и Нельсону пришлось издавать книгу на свои деньги (о чем он никому не рассказывал), он чувствовал себя в долгу. Что касается Криспина Рокафуэрте, тот был старинным другом Нельсона и два года назад пригласил его на литературные чтения в Куэнку, а также публиковал в литературных бюллетенях все темы, предлагаемые Оталорой. Лишь Аристид Чивита не был его хорошим знакомым, но было бы неплохо заполучить его в приятели, ведь он мог помочь с публикацией книг в Эквадоре. Пожалуй, стоило побеседовать с ним.
Итак, с этими кандидатурами все было решено, вплоть до билетов, отеля, условий пребывания и гонораров (не говоря уже о такой чести, как выступление перед аудиторией американского университета). Но в заявке Нельсона оставалось еще шесть незаполненных граф, и тогда он достал из ящика письменного стола свою записную книжку. Быстро пролистав главу «Должны мне», он принялся за внимательное изучение раздела «Должен я». Имелось несколько вариантов. «Было бы интересно связаться с Варелой Рейесом из Сорбонны, — подумалось ему, — тем более что этому прохиндею я обязан вдвойне, и это не считая совместных пирушек и походов к шлюхам, оплаченных из его кармана». Правда, Хосе Варела Рейес был специалистом по Средневековью… Что же делать? Тут в голове профессора блеснула одна замечательная идея, и он отправил такое электронное письмо:
Уважаемый коллега.
Дружище, как тебе, наверное, известно, у нас на носу неделя литературных чтений по творчеству Хорхе Икасы. Хотя это не связано с твоей темой, можно попытаться, к примеру, раскопать что-нибудь о влиянии средневекового романа на его творчество или нечто в этом роде. Если что-либо подобное придет тебе в голову, дай знать, и я включу тебя в свой список приглашенных.
Счастливо, проф. Чоучэнь Оталора.В графе «Должен я» значился также некий Гийом Дюпон из Лионского университета, однако после некоторых раздумий Нельсон решил не включать его в свой список — все эти французские профессора, по его мнению, были невыносимо скучны, постоянно говорили только о своих авторах-соотечественниках, и к тому же с ними вряд ли удалось бы как следует покутить.
В списке был еще испанский критик Хесус Элиас Кадена, часто печатавшийся во многих специализированных изданиях как у себя на родине, так и в Латинской Америке. С его помощью Нельсон мог бы извлечь для себя тройную выгоду: его друг из Бостона, Аристотель Тривиньо, только что опубликовал свое исследование об образе матери в песнях перуанских креолов. И если с подачи Нельсона профессор Элиас Кадена отнесется благосклонно к бостонскому профессору, тот автоматически попадет в число должников Оталоры. А так как, по слухам, в данный момент он занимался подготовкой нового исследования по современному латиноамериканскому роману, то мог бы посвятить один или несколько разделов своей книги «Блюзу Куско», а то и всем произведениям Нельсона.
Так Нельсон и провел все утро: делал пометки, записывал и вычеркивал имена и фамилии, отправлял сообщения; уже ближе к полудню он наконец составил окончательный список кандидатур, в котором оставалось всего два вопросительных знака.
Пообедав и немного подремав на диване в своем кабинете, Нельсон отправился в библиотеку в надежде разыскать еще какие-нибудь книги китайского писателя, за чтением которого он провел без сна всю ночь. Как его имя? Он вытащил из кармана записку — ах да, Ван Шу. Но библиотечный компьютер выдал ему лишь название книги, которую он уже прочел. Тогда он поискал в разделе «Современный китайский роман»; высветилось несколько имен, ни одно из которых не было знакомым, и Нельсон выбрал наугад: Ли Ян, «Тень голубой лиры». Он взял книгу и уже минуту спустя возвращался с ней в кабинет. В тот день занятий у него не было, так что можно было скинуть ботинки, запереть дверь и прилечь почитать. Из окна дул теплый ветерок; солнечный свет, пробиваясь сквозь занавески, подходил для чтения как нельзя лучше.
Но мгновение спустя в тишине раздался телефонный звонок, и Нельсон вскочил с дивана. «Черт побери», — пробормотал он.
— Профессор Чоучэнь? Это Рамон Ронкарио.
Тот самый эквадорский писатель, которому он послал свое утреннее письмо с приглашением на конгресс.
— Да, какими судьбами? Какой приятный сюрприз, — поздоровался Нельсон.
— Даже не рассчитывал застать вас в такое время, профессор.
— Надо же, я сейчас и вправду чуть было не ушел. — Нельсон присел, поигрывая карандашом.
— Дело в том, что я получил ваше любезное приглашение и, безусловно, принимаю его, профессор. И так как вы просили связаться с вами, сразу же позвонил.
— О, это очень, очень любезно, — повторил Нельсон. — Я хотел бы обсудить с вами один вопрос.
— Весь внимание, — ответил Ронкарио.
— Причем это вопрос личного характера.
— Не беспокойтесь, профессор, я слушаю.
— Ну, в таких случаях… э-э… принято делать некие благодарственные жесты, вы меня понимаете? Претендентов немало, однако из всех кандидатур выбрали именно вас…
Нельсон выждал небольшую паузу и вскоре услышал ответ:
— Это действительно большая честь для меня, профессор.
— Видите ли, вам, особенно ввиду дальнейших приглашений в наш университет, следовало бы помнить об одной детали, а именно об упоминании в вашем докладе одного человека.
— Кого именно, профессор?
— Одного человека с факультета.
— Ах да, я понимаю вас, это вполне естественно, — сказал Ронкарио, — как раз перед тем как позвонить, я подумал, что непременно должен поблагодарить вас публично. Прямо телепатия, не так ли?
— Совершенно верно, однако поймите, что одно дело — благодарности для протокола, но есть вещи более важные. Вы ведь знакомы с моими книгами, не так ли?
— Конечно, профессор, и вам известно, что я сделал все, что от меня зависело, для того, чтобы в «Конэхо» издали ваш «Блюз Куско». Но у них были проблемы с бумагой, потом с типографской краской, а потом и вовсе сменилось правительство, и все, извините за выражение, покатилось к чертям. Вы ведь знаете, как это бывает.
— Да, но я имею в виду другие мои книги — те, что были написаны раньше.
Это был риторический вопрос, ведь остальные книги Нельсона были практически неизвестны в Перу, а в Штатах и вовсе дошли только до филологических факультетов, куда их направил сам же Нельсон.
— Нет, профессор, — ответил Ронкарио, немного занервничав, — я не имел удовольствия прочесть другие ваши произведения.
— Очень жаль… А ведь было бы прекрасно, если бы вы упомянули о них в своем сообщении по творчеству Хорхе Икасы.
— Ну конечно, явственно прослеживается связь «Блюза Куско» с Икасой…
— Вы это заметили?
— Естественно, профессор.
— Хорошо, — заключил Нельсон, — тогда с этим покончено. Завтра утром срочной почтой я вышлю вам мои остальные книги, а вы добавите в свой доклад небольшие ссылки на каждую из них. Дней через пятнадцать вам позвонят из деканата по поводу билетов и гонорара. Вас это устраивает?
— Естественно, профессор, с нетерпением буду ждать. Жаль, что вы посылаете книги срочной почтой — это, должно быть, очень дорого.
— Не беспокойтесь, Рамон, — сказал Нельсон, — для этого у нас в университете существует специальная служба. Итак, завтра я отправлю свои книги, и увидимся на конгрессе, договорились?
— Конечно, я в вашем распоряжении.
Нельсон положил трубку и посмотрел в окно. Вечерело. Выдался на редкость удачный день. Он заслужил хороший ужин, а потом можно было улечься в постель с книгой, которую заполучил сегодня. Лишь бы Дарси не пришло в голову позвонить. Надо бы включить автоответчик. Но по дороге в ресторан профессор вспомнил одну вещь, которая заставила его в корне изменить планы — ведь было первое сентября! Как же он забыл! Как раз в это время в Испании жюри решает, кому присудить первую премию за лучшую городскую новеллу. Нельсон представил на конкурс три свои рукописи (все под разными псевдонимами). Они не издавались практически нигде, а в Испании их совсем не знали. С отчаянно бьющимся сердцем он зашел в магазин, купил бутылку перуанской водки и поспешил домой в надежде прочитать долгожданное сообщение на автоответчике.
Сообщений было несколько, но — увы — ни одного из Испании. Единственное заслуживающее внимания было от Дарси: «Целую тебя везде, радость моя. Я в „Пицца-хат“, страшно соскучилась. Из-за жары я в короткой юбке, без колготок. Скоро пойду в ванную, сниму трусики. Понимаешь, о чем я, дурачок? Целую…» Но в тот вечер Нельсону было не до «подвигов» — кто знает, быть может, именно тогда могла произойти долгожданная встреча с судьбой, и это многое бы изменило…
Он включил автоответчик, надел тапочки, бросил на кровать галстук и поставил компакт Чабуки Гранды — он считал, что ее музыка приносит удачу. Затем Нельсон отправился на кухню. Выжал сок из десятка лимонов, добавил пару белков, сахарную пудру и водку. В конце добавил 25 кубиков льда и все перемешал. Попробовал и подумал, что не хватает сахара — совсем чуточку. А сейчас? Вот, теперь в самый раз. Он налил себе большой стакан и поставил кувшин в холодильник, чтобы лед не таял быстро, и, пританцовывая, направился в гостиную.
Внезапный телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Послышался голос:
— Это Эльза, дорогой, ты дома? Звоню напомнить, что сегодня день вручения премии.
Нельсон взял трубку, сказал, что он на месте и благодарит за напоминание, и быстро попрощался, чтобы не занимать телефон.
Музыка и спиртное возымели свое действие — воображение Нельсона разыгралось. Вот статья Маркеса, опубликованная в самых известных газетах мира, о новелле Нельсона, получившей премию; вот статья Маркеса и Сарамаго под названием «Истинный писатель»; а вот его фотография с подписью «Награжденный новеллист и два нобелевских лауреата прогуливаются по улицам города»…
Только что глотнувший водки, Нельсон даже поперхнулся, когда телефон зазвонил вновь: «Хай, папик, это Дарси. Я уже дома, ужасно скучаю. Хочу тебя увидеть! Проказник… Перезвони. Бай!» Нельсон решил больше не брать трубку, пошел к холодильнику и снова наполнил бокал. Звонков не было вот уже несколько часов, и, опьянев, Нельсон задремал рядом с телефоном.
Звонок раздался в восемь часов утра, и Нельсон тотчас же вскочил:
— Слушаю?
— Профессор Чоучэнь Оталора?
— Да, это я.
— Вас беспокоят из ректората университета. На одиннадцать часов вам назначена встреча с дисциплинарной комиссией факультета.
Нельсон окаменел. Что могло произойти? С тяжелой головой и дрожью в коленях он начал одеваться. Он был уверен, что здесь не обошлось без происков Флореса Арминьо. В одиннадцать часов он был в ректорате и предстал перед дисциплинарным судом, где во всеуслышание прозвучал его вчерашний телефонный разговор с писателем из Эквадора Рамоном Ронкарио. Нельсона обвинили в злоупотреблении служебным положением и исключили из числа участников конгресса по творчеству Хорхе Икасы и всех последующих мероприятий такого рода на следующие пять лет. Самым же унизительным было то, что сообщение о его проступке и последующем наказании в течение пятнадцати дней должно было быть распространено по всем информационным стендам университета с его подписью под признанием собственной вины. В противном случае профессор был бы вынужден оставить кафедру.
«Катитесь все к чертям», — сказал он себе. На месть Флоресу Арминьо сил уже не осталось. Еще этим утром, до того, как услышать обвинения в свой адрес, он подумывал сделать сотни плакатов с изображением Норби и Лоло на фоне сердечка…
Но ничего этого Нельсон не сделал. Он сел в поезд и отправился домой в надежде провести там всю неделю под предлогом плохого самочувствия. Потом, сославшись на нервный срыв, выхлопотал отпуск, который, во избежание унижения в глазах студентов, ему охотно предоставил ректорат (все-таки он был преподавателем с десятилетним стажем). И когда Эльза спросила, чем собирается заниматься муж все это время, Нельсон ответил:
— Поеду в Пекин, дорогая, поищу какую-нибудь информацию о своих предках. Настало время обратиться к корням. А потом я напишу такой роман, что они лопнут от зависти. А когда ко мне придет известность, я пошлю всех куда подальше и мы с тобой уедем и поселимся в Париже, как тебе моя идея, смуглянка?
ГЛАВА 6 Из Парижа в Гонконг
Самолет компании «Катай Пасифик» вылетел вовремя. Мне повезло — мое место находилось рядом с медицинским отсеком, так что я мог спокойно вытянуть ноги. Пети, сидевший рядом со мной, снял ботинки, надел какой-то жуткий шерстяной свитер и с головой погрузился в чтение «Фигаро». Что за невоспитанность! Естественно, в конце концов я достал одну из книг, которые захватил из дома. К счастью, это оказался «Конец одного романа» Грэма Грина, одного из моих любимых авторов. Кажется, впопыхах я успел сунуть в чемодан еще работы Мальро и «Рене Лейс», замечательную новеллу Виктора Сигалена, эксцентричного французского путешественника, которую я прочел еще несколько лет назад; помню, там встречались зарисовки о жителях Пекина, которые могли мне пригодиться.
Через некоторое время принесли аперитивы; я попросил бутылочку белого вина, Пети же продолжал читать свой «Фигаро». Я и не знал, что можно уделять столько внимания какой-то газете. Иногда я поглядывал на соседа украдкой, пытаясь рассмотреть, что же его так увлекло. Сначала это была передовая статья, в которой говорилось об опасности, которую представляет для Европы конфликт в Косово; потом он углубился в анализ падения курса евро. Затем стал читать умнейшее описание футбольного матча, который был сыгран со счетом 0:0. Черт возьми, какая скукота! Самое интересное, что периодически Пети доставал небольшую записную книжечку и делал записи, как будто при чтении ежедневной газеты в голове могут появляться какие-либо идеи.
После ужина, расслабившись от вина и пары стаканчиков виски на десерт, я решил завязать разговор.
— Простите, мсье Пети, — сказал я, — вы уже долго работаете в дирекции радиостанции?
— Всего два года. А вы? Давно стали журналистом?
Чудеса, подумал я, так и знал, что ликер и усталость наконец немного смягчат его суровость.
— Больше десяти лет, — ответил я, давая знак стюардессе, чтобы та принесла еще выпивки.
— А почему вы приехали во Францию? — спросил он, вытирая пот со лба. — Разве у вас на родине нет радиостанций?
— Ну конечно, есть.
— И что же?
— Все очень просто. Я живу в Париже и поэтому работаю здесь. Если бы я жил в Колумбии, то работал бы там.
— Все хотят жить во Франции, — возразил он. — И поэтому все так, как сейчас. Другими словами, все мы по уши в дерьме, понимаете? Франция не должна становиться пристанищем для всех бедняков мира.
— Я приехал сюда учиться и потом остался. Я не бедняк, остался, потому что мне здесь нравится.
— Ну конечно. А почему вы не вернулись в свою страну? Там вам не нравится?
— Многие вещи на родине меня бесят, но я езжу туда всякий раз, когда у меня есть возможность.
Подошла стюардесса с двумя пластиковыми стаканчиками, льдом и парой бутылочек «Джонни Уокер». Пети проворчал:
— Нужно, чтобы каждый жил в своей стране. Будет меньше проблем.
Наконец погасили свет, и начался фильм. Это был «Доктор Т. и его женщины» Роберта Олтмана с Ричардом Гиром и Хелен Хант. Она мне нравится, но Гира я просто не выношу. Так что решил еще немного почитать, а потом поспать. Мы прилетели в Гонконг на рассвете. Из иллюминатора я увидел блестящую гладь воды и несколько островов, окутанных густым туманом. Как только мы приземлились, Пети начал чертыхаться: «Проклятая жара». Он моментально вспотел. На рубахе под мышками проступили большие круги пота.
Кондиционеры в здании современного аэропорта работали с такой мощностью, что мне даже пришлось надеть пиджак.
Пети, только что прошедший таможню, обогнал меня, и, к своему удивлению (я-то решил, что он пошел ловить такси), я заметил, что нас встречают. Это был француз лет пятидесяти пяти, одетый в льняной костюм и белую рубашку с галстуком. Протягивая руку для пожатия, он пробормотал: «Жан-Пьер Гассо, — а потом добавил: — консул Франции». Черт возьми, меня впервые встречал в аэропорту дипломат. Этот Пети, должно быть, важная персона.
Потом мы поехали в город.
На меня произвели впечатление движение, гигантские неоновые вывески, большая влажность. Высоченные здания, облупившиеся от соленого морского ветра, вызывали чувство тревоги. Любой город, в который приезжаешь впервые, внушает беспокойство.
— Как прошел перелет? — поинтересовался Гассо.
— Нормально, — сухо ответил Пети, лишая меня возможности что-либо сказать.
Вскоре Гассо затормозил на довольно людной улице, и мы спустились к коммерческому центру, который оказался частью гостиницы. Отель назывался «Принц» и был весьма неплох, если судить по носильщикам у дверей, их ливреям и белым перчаткам, а также по той предупредительности, с которой они приняли наш багаж. Перед стойкой ресепшн Пети выхватил паспорт у меня из рук и пошел оформлять документы. Я взглянул на него с недоумением. Зачем он это сделал? Я взрослый человек, говорю по-английски и не в первый раз нахожусь за границей. Но я уже понял, что не должен задавать лишних вопросов.
— Поднимитесь принять душ, — предложил Гассо. — Через полчаса я буду ждать вас в кафе.
Номер был большой, из окна была видна часть города, а вдалеке — морской залив и ряд небоскребов. Да, Гассо тоже не был образцом жизнерадостности и общительности, но я оценил то, что он дат нам время для душа. Это по-человечески. Взглянув на телефон, я подумал: было бы здорово, если бы у меня был кто-нибудь, кому можно позвонить. Кто-то, кому можно сказать: «Я долетел хорошо, все нормально, не беспокойся». И тут же решил выбросить из головы мысли о Коринн.
Я спустился посвежевший, в чистой рубашке и льняных брюках — это была самая легкая одежда из моего чемодана. Гассо пил кофе и читал газету, южнокитайский «Морнинг пост». Пети же нетерпеливо покачивал ногой.
— Почему вы опоздали? Мы договаривались встретиться через полчаса.
— А что, разве так поздно? — Если верить моим часам, я опоздал на три минуты.
— Я уже хотел звонить вам, — посетовал Пети. — Идем те завтракать.
В столовой я увидел подносы с тарелками, доверху заполненными едой: цыпленок карри, жареные овощи, мясо под острым соусом. Интересно, здесь всегда так завтракают?
— Они привыкли плотно есть по утрам. Угощайтесь, я подскажу вам, на что стоит обратить особое внимание.
Вскоре мы вышли.
Французское консульство находилось на острове Гонконг в районе Коулун, а это одно из самых фешенебельных и дорогих мест города. С открытым ртом я глазел на небоскребы. Один из них, здание Китайского банка, казался сделанным изо льда и напоминал гигантский сталагмит. Через насколько поворотов Гассо заехал на стоянку, поставил машину и повел нас к лифту, мы поднялись на 66-й этаж. Чтобы не кружилась голова, я старался держаться подальше от окон и не смотреть вниз.
— Подождите здесь. — И Гассо указал на диван в зале ожидания.
Оставшись один, я быстро огляделся, оценивая окружающую обстановку: три достаточно посредственные картины, на которых были изображены Эйфелева башня, Сакре-кер, Нотр-Дам; французский туристический журнал; посреди комнаты — стол с пепельницей; выключенный телевизор; четыре закрытые двери, в том числе входная, и коридор, который, насколько мне было видно, тоже заканчивался запертой дверью. Я повертел в руках карандаш, посвистел, поднялся. Три раза обошел вокруг стола. Наконец дверь открылась, и я увидел выходящего Пети.
— Заходите.
Гассо сидел на противоположном конце стола, положив на него ноги. Именно он спросил:
— Итак, сеньор Суарес Сальседо, скажите, вы впервые едете в Китай?
— Да, — сказал я, — но я частенько захаживаю в Китайский квартал в Париже, особенно в ресторанчик «Трикотин», и отдаю должное супу из равиолей с королевскими креветками.
Моя шутка не произвела никакого впечатления. Я немного смутился, заметив, что Пети и Гассо в растерянности уставились на меня.
— И для чего вы нам это рассказали? — поинтересовался Пети.
— Просто надеялся внести оживление в беседу, — отвечал я. — Иногда остроумное замечание может разрядить обстановку. Так делал Аристотель Онассис, когда беседовал с банкирами. Я прочел об этом в его биографии.
— Ладно, — сказал Гассо, убирая ноги со стола. — Очень важно, чтобы вы оказались там впервые. Естественно, мы все проверили, но все же мне хотелось бы уточнить одну вещь. Иногда работники радио, как известные актеры, меняют свое имя из артистических соображений.
— Я никогда не менял имени, — сказал я, — но признаюсь, у меня было такое желание.
— И почему? — поинтересовался Гассо.
— Мне немного стыдно говорить об этом. Думаю, это было глупой идеей. Ведь я не знаменитость.
— Понятно, — ответил Гассо.
Пети вновь погрузился в свое ледяное молчание.
Гассо добавил:
— Я полагаю, вам уже объяснили, что вы должны будете сделать в Пекине.
— Да, — сказал я, — репортаж о католиках в Китае: об их положении, истории, обычаях, отношениях с властями. Это должно быть полное досье, как можно более объективное. Я знаю свою работу, сеньор консул.
— Я рад, это первая хорошая новость сегодня. — Говоря это, Гассо коварно улыбнулся Пети. — Перейдем к главному. Вы должны учесть: хотя к католицизму относятся терпимо, положение многих верующих довольно неустойчивое. И поэтому вы должны делать свое дело с максимальной осторожностью, иными словами, ваша работа связана с определенным риском.
— Работа журналиста всегда сопряжена с риском, — сказал я, — в особенности когда речь идет о тоталитарном государстве. Я не первый раз получаю деликатное поручение такого рода. И готов ко всему, что бы ни случилось.
— Еще одна приятная новость, — подхватил Гассо. — У меня предчувствие, что сегодня будет удачный день.
Пети прикурил сигарету. Я достал свою пачку «Житан», не забыв предложить сигарету Гассо, который отказался.
— Вы должны знать еще одну вещь, — продолжал дипломат. — Часть работы уже сделана. Вам нужно только собрать все воедино. Речь идет о неких материалах, гм… свидетельских показаниях, которые, в силу своей достоверности и, несомненно, правдивости, не должны быть обнаружены властями. Надежный человек передаст их в ваше распоряжение. Вы должны встретиться с этим человеком, положить в чемодан то, что он вам отдаст, и доставить это сюда, в офис. Как видите, все очень просто.
— Я думал, что должен сделать репортаж, — удивился я.
— Именно этим вы и будете заниматься параллельно с поисками человека, о котором я говорю.
Мое любопытство усилилось.
— А почему же он не отправит свой пакет с дипломатической почтой? Тогда я смогу заниматься журналистикой.
— Все не так просто. Все, что отправляется с такой почтой, должно пройти контроль властей; и вы не поверите, но государственные чиновники относятся ко всему более чем внимательно. Такова эта страна. Они боятся, что от них могут что-нибудь скрыть.
Я собрался было задать еще один вопрос, но Пети перебил меня:
— Сеньор Гассо договорился о первой встрече, которая понадобится для репортажа. Этот человек поможет вам связаться с лицом, чье имя мы по некоторым причинам не можем сообщить вам. Жан-Пьер, будьте любезны, дай те ему конверт.
Гассо открыл ящик стола и протянул мне запечатанный бумажный конверт.
— Здесь все, что вам потребуется, в том числе деньги, билет на самолет и квитанция о бронировании номера в отеле. Я советую вам отправиться к себе в номер, внимательно прочитать эти материалы и отдохнуть, потому что завтра с первым самолетом вы вылетаете в Пекин.
— Черт, — сказал я, глядя на Пети, — я надеялся, у нас будет время посмотреть Гонконг.
Пети посмотрел на меня с ехидством:
— Да, не сказал вам еще одну вещь: я остаюсь здесь, с Гассо.
— А почему? — спросил я.
— Журналист вы, уважаемый. Я всего лишь бюрократ. Поверьте, для вас будет гораздо лучше поехать в одиночку. В некоторых случаях лучшей для себя компанией являемся мы сами, и эта ситуация как раз из таких. А сейчас идите отдыхать, машина ждет вас внизу.
ГЛАВА 7 Чемоданы Гисберта Клауса (Франкфурт — Пекин)
Запись на диктофоне марки SONY, M-529 V, сделанная Гисбертом Клаусом в самом начале своего путешествия. Франкфуртский аэропорт. Межконтинентальные рейсы. Суббота, 26 сентября. 14:36.
«Я Гисберт Клаус, преподаватель китайской культуры Гамбургского университета; филологический факультет, отделение иностранных языков. Это первая из кассет, на которых будет записан рассказ о моем путешествии; делаю это из интереса ко всему необычному и жажды знаний, а также для того, чтобы зафиксировать происходящее, то, что, возможно, может повлиять на мою научную работу, образ жизни, на изменение методов исследования, наконец, на открытие новых способов мышления. Юта, моя жена, последний раз поцеловала меня на прощание в мрачном аэропорту Франкфурта; она все еще удивлена моим внезапным решением: лететь в Пекин, в одиночестве, да еще и на неопределенное время. Что ее удивляет? Без сомнения, тот факт, что впервые за восемнадцать лет супружества я уезжаю так надолго, к тому же за границу. Действительно, за все это время я никогда с ней не расставался, не считая того, что уходил на работу в университет или в киоск на углу купить своего любимого табака. Отсюда ее недоумение. Но такие, как я, люди науки должны считаться с требованиями своей профессии, какими бы противоречивыми те порой ни казались, подобно тому как люди верующие исполняют волю Господа. Хочу заметить, что даже Юта, эта добропорядочная женщина, не смогла скрыть своего несколько восторженного отношения к тому, что я, чей образ жизни, принципы и методы исследований настолько устоялись, еще способен испытать что-то новое. Я и сам взволнован, как юноша, предвкушающий приключение, и предчувствую, что оно пойдет мне на пользу. По правде говоря, все, что я вижу, для меня в новинку. Я сдал свои чемоданы. Служащая „Люфтганзы“, молодая блондинка, проверила мой паспорт с китайской визой, определила вес багажа и дала пропуск для прохода в VIP-зал. Несмотря на сравнительно скромный заработок, я решил лететь первым классом. Почему простой профессор из университета решил так поступить? Да потому, что для успешного осуществления эксперимента, который я затеял, нужно предпринимать все возможное. Кстати сказать, вчера ночью я никак не мог заснуть и сделал одну запись относительно этого вопроса, которую сейчас прочту.
„Я — немец, изучающий Ван Мина, Ли По и многих других,
автор немецкого критического издания по произведениям By Хинджи,
одновременно с этим являюсь также критиком Джорджа Лукаса,
коллекционером первых изданий сочинений Кафки,
поклонником прозы Стивенсона,
вынужденным читателем Жозефа Рота,
близким другом сына Генриха Белля,
читателем двух полных дневников Михоса Жилахи…
Я, Гисберт Клаус,
человек своего времени,
преподаватель кафедры китайской культуры Гамбургского университета,
страдаю от одной только мысли подняться на борт этой железной птицы!
Разве это не достаточный повод для того, чтобы переплатить за место в салоне первого класса?“
Салон VIP аэропорта во Франкфурте. 15:08.
„Здесь очень удобно. Кожаные кресла. Отдельные салоны. Есть места для курящих, для сна, для просмотра кинофильмов. В баре можно заказать ликеры, кофе и прохладительные напитки. Холодильники с минеральной водой, соками и бутербродами. В застекленном шкафу — газеты из Европы и США, к примеру, „Ньюсуик“, „Харперс базар“, „Бильд“. Вот это да — все для пассажиров! Большинство — деловые люди. Серьезные мужчины в костюмах с галстуками. Как можно летать на такие дальние расстояния в таком неподходящем одеянии? Нужно быть дураком, простите за выражение. Даже если вас будет встречать очень важная персона, всегда есть время на то, чтобы переодеться в последние часы полета. Чтобы убить время в ожидании посадки, я выработал следующую теорию. Если вы не можете угадать род деятельности некоторых людей, тех, кто занимается продажей акций, биржевиков или инвесторов, то можете распознать их по внешнему виду — виду преуспевающего руководителя. Этот образ весьма характерен и подходит каждому из них, будь то маклер Лионской биржи или шеф отдела продаж. Конечно же, это манера одеваться, качество чемодана и пренебрежительное отношение ко всему, что не относится к их бизнесу. На самом деле значимость не в них самих, а в статусе компании, которую они представляют. Я с жалостью отношусь к таким людям.
Но в конце концов, мне-то что до этого? Просто праздные мысли. Лучше займусь чтением. Я взял с собой дневник Пьера Лоти, испещренный моими пометками, но, если быть честным, сейчас меня больше привлекает чтение полегче. Что подумала бы Юта, если бы увидела, что за книжонку я приобрел в киоске аэропорта? Даже не знаю, упоминать ли о ней здесь. Ладно, почему бы и нет? Это „Портной из Панамы“ Джона Ле Карре. Почитаю какое-то время, сюжет увлекательный. Конечно, у меня с собой есть еще Марко Поло с большим количеством интересных ссылок, но займусь этим позже, уж очень занимательна книга Ле Карре“.
Рейс Франкфурт — Пекин, „Люфтганза“. Место 3А. 19:18.
„Мы уже пролетаем над какими-то землями, в иллюминатор можно разглядеть далекие светлые точки. Сканер показывает наше местонахождение, время в полете и оставшееся до прибытия в пункт назначения. Какой во всем порядок, какой спокойный отдых! И все же временами я чувствую некое сомнение, и вот что меня беспокоит. Что ждет меня по приезде? Я прочитал, что аэропорт расположен в шестнадцати километрах от города и что отель „Кемпински“ находится недалеко от парка Шаоянг и Международного выставочного центра. Насколько мне известно, такси из аэропорта в гостиницу обойдется не дороже 60 юаней, это около двадцати долларов. По моим подсчетам, дорога займет минут тридцать — сорок, в зависимости от интенсивности движения; не могу точно сказать заранее, но если указанное время моего прибытия 12.25 пополудни, то возможная задержка может составить до 60 процентов времени, которое понадобится, чтобы доехать до отеля. Я подсчитал также, что мое знание китайского позволит воспринимать при общении около половины информации, учитывая, что знание языка „пассивное“, ведь я занимался только чтением и грамматикой.
Литературный китайский, которым владею я, всегда отличался от разговорного, и отсюда большой процент ошибок. Поскольку любой язык — это живой организм, он постоянно претерпевает изменения своей структуры; появляются заимствования, ощущается влияние родственных языков, местного жаргона. Все это делает его своего рода завораживающим инструментом, на котором, однако, весьма сложно играть. Итак, я слушал китайскую речь в ресторанах, а также смотрел фильмы без перевода и пришел к выводу, что мой процент восприятия китайской речи достаточно высок. Первым моим собеседником будет таксист, который повезет меня в отель. И сейчас я думаю вот о чем: кто это будет? Чем он сейчас занят? Где-то в Пекине есть некто, и сейчас он может заниматься чем угодно: спать, пить, беседовать, любить свою женщину, просто слоняться без цели, а уже завтра он будет присутствовать при моем первом опыте общения на китайском языке. Этот человек значит для меня гораздо больше, чем я для него, но мне известно то, чего он, кем бы он ни был, пока не знает: завтра, в час дня, 13 сентября, наши пути пересекутся. Мне бы так хотелось, чтобы этот мужчина (предполагаю, что большинство китайских таксистов — мужчины, как это обычно бывает везде) пришел завтра вечером домой и рассказал своей жене, что подвозил одного немецкого профессора, и тот поддерживал разговор по-китайски, несколько нерешительно, но очень приветливо и любезно. Боже мой, если бы его мнение обо мне было именно таким! Да? Простите? (На пленке слышен другой голос, это стюардесса.) Белого вина, пожалуйста, да, белого“.»
ГЛАВА 8 Так далеко от Перу и так близко к самому себе. Романтическое путешествие из Лос-Анджелеса в Пекин
Нельсон прощался с Эльзой в аэропорту Остина; в сумке лежали дедовы документы, которые должны были стать подспорьем в его расследовании; и Нельсон Чоучэнь Оталора вдруг почувствовал себя поэтом: «Смуглянка, я еду на Восток, где, как говорят, восходит солнце». Потом они поцеловались, и Нельсон объявил, что это путешествие — первый шаг на пути к их новой жизни, их возрождению. Через некоторое время, уже пройдя на посадку, он нацарапал эту фразу в своем блокноте и продолжил ее такой строкой: «Я вернусь, как возвращаются ласточки». Эти слова показались ему совсем неплохими, и он продолжил, записывая фразы уже в виде стихотворения:
Я еду на Восток, где, как говорят, рождается солнце. Но я вернусь, как возвращаются ласточки, Темные от своих теней.Вылет задерживали, и ему пришлось провести пару часов в кафе-гриль, где он наблюдал за самолетами, которые заходили на посадку. Там он продолжил свой поэтический труд:
Эти тени — мои самые сокровенные желания. Те, что витают над тобой.«Черт побери, — сказал он себе, — а у меня получается. Я еще не в Китае, а уже чувствую такой творческий подъем». Он не собирался думать о грязной шутке Флореса Арминьо, но все же думал — и никак не мог понять, какого дьявола тот подговорил Ронкарио пойти на предательство. Вот подонки. И потом, разве не все действуют точно таким же образом? Предательство свершилось, но придет время мести. Он, подобно Ахиллесу, вернется с копьем и щитом, дабы покарать преступников. С этими мыслями он продолжил свою поэму:
И тогда воздух станет для тебя огнем, Вода станет серой, и гнева моего вулкан Обрушит на тебя лаву свою. И может, тогда — кто знает?— Сорвется с твоих губ слово «прости».Ровно в час он получил в компании «Америкэн эрлайнз» посадочный талон и вскоре уже уютно расположился в своем кресле. Профессор принялся рассматривать входящих пассажиров в надежде, что его попутчицей станет какая-нибудь хорошенькая китаянка. Одна была очень даже ничего, но она прошла дальше. Потом появилась блондинка в джинсах и короткой кофточке. «Боже, даруй ее мне!» — подумал он. Но Господь его не услышал. В результате его соседом оказался симпатичный толстячок в галстуке и с чемоданчиком, который церемонно представился:
— Доктор Рубенс Серафин Смит, проктолог.
— Профессор Нельсон Чоучэнь Оталора, преподаватель литературы, — ответил Нельсон, раздумывая, надо ли подавать руку.
Когда попутчик устроился, Нельсон осмелился спросить:
— Доктор, разрешите задать вам один вопрос: зачем проктологу понадобилось в Пекин?
— Я еду на международный проктологический конгресс, профессор, — ответил доктор Рубенс Серафин Смит. — Знаете ли вы, что средства традиционной китайской медицины в сочетании с западной методикой позволяют значительно улучшить состояние наших пациентов? У вас никогда не было этой проблемы?
— Вы правы, несколько лет назад была. Дело в том, что в моей стране едят очень острую пищу. Я перуанец.
— Да, среди моих пациентов немало ваших соотечественников. А я бразилец по происхождению, хотя и родился в Лос-Анджелесе.
Самолет взлетел; Нельсон увидел, что доктор достал журнал «Научная проктология в Америке», и решил почитать один из китайских романов, которые взял с собой в поездку. Ли Ян, «Мятежники и фантазеры».
Он раскрыл книгу и в то же мгновение перенесся со своего места 38А эконом-класса в узкий переулок Гонконга; он оказался среди молодых студентов, которые задумали издавать культурно-политический журнал.
Вскоре наступила ночь, и Нельсон перестал читать. Волнение и восторг, который он испытывал при чтении китайских авторов, заставили его предположить, что главным его предназначением в этом мире было именно литературное творчество. Да, в этом не могло быть никаких сомнений. Он улыбнулся, подумав о том, что вместо того чтобы уничтожить его, флоресарминьянцы оказали ему услугу.
Стоило ему подумать о путешествии, как его голова снова начала заполняться мыслями. Он достал блокнот и написал: «Мне сказали, что в Пекине жил мой дед, некий Хуан Чоучэнь, и вот я приехал сюда». Эти слова напомнили ему чью-то фразу, сказанную раньше, но это не важно, ведь каждый — сам хозяин своих слов.
Привезли тележку с напитками. Нельсон попросил кока-колу.
— Вы не просили у меня советов и, разумеется, я не хотел бы показаться навязчивым или неприятным типом, — немедленно сказал Рубенс Серафин Смит, — но я должен исполнить свой врачебный долг и предупредить вас. Употребление газированных напитков, и кока-колы в том числе, особенно если вам приходится подолгу находиться в сидячем положении, является настоящей бомбой для кишечника. Это тем более опасно, если уже имел место воспалительный процесс.
— Спасибо, доктор, — отозвался Нельсон, немного удивившись. — Я выпью воду, когда выветрится газ.
— Мудрое решение, мой друг. Я бы порекомендовал вам томатный сок, причем вовсе не из желания повлиять на ваш вкус. Он является отличным средством, так как способствует рассасыванию фибром. На профессиональном жаргоне я называю его «благодатной жидкостью».
— Доктор, а чему будет посвящен ваш доклад на конгрессе?
— Видите ли, у меня несколько тем. — Смит потянулся за своим дипломатом, открыл и извлек оттуда какие-то документы. — Одна тема посвящена важной роли дрожжей и глюкозы в лечении геморроя, я опубликовал это исследование в «Научной проктологии» за текущий месяц. Две другие темы касаются лечения закупорки венозных тканей при помощи звуковых волн высокой частоты. Это принципиально новый метод, над которым я работаю уже несколько лет.
— Надо же, как интересно, — заметил Нельсон и добавил: — Мне кажется, что, еще не долетев до Пекина, я даже брошу употреблять спиртное.
— Как знать, дорогой профессор, как знать. По роду своих занятий я принадлежу к спиритуалистам. Нам кажется, что пищеварение, как и все человеческое, является процессом иррациональным и неприкосновенным, к нему нельзя подходить лишь с точки зрения медицинской теории. Почему? Да потому, что все, что находится внутри нас, обладает способностью вызывать эмоции, чувства приятия и неприятия, даже ненависти. Это касается и пищеварительной системы и является определяющим моментом при оценке конечных результатов наших исследований.
— Рад, что вы спиритуалист, доктор, — сказал Нельсон, — и хотел бы предложить вам немного выпить за компанию со мной.
Они выпили джина «Бифитер» с тоником «Швепс» — по взаимному соглашению взяли тоник без газа — и подняли бокалы во второй раз; все это время Нельсон рассказывал о цели своего путешествия. Доверительная беседа очень сблизила попутчиков, и он даже поведал некоторые подробности своей университетской работы.
— Я видел, как вы что-то записывали, профессор. — Рубенс Серафин Смит слегка опьянел. — Над чем вы сей час работаете?
— Должен вам признаться, что истинное мое призвание — литература, — немного сконфуженно признался Нельсон.
— Неужели, да ведь это чудесно, — оживился доктор. — Знаете, в этом мы с вами похожи. Я очень люблю читать, а порой даже пишу небольшие поэмы. Такие вот грешки молодости. А скажите, вы уже что-нибудь опубликовали?
— Да, несколько рассказов и сборников стихов.
— А как они называются? Я много читаю, и вдруг…
Мое самое известное произведение — «Блюз Куско», рассказ о жизни и перуанских традициях. Он издан в нескольких странах.
— Надо же, я не читал, но запишу название и по возвращении обязательно куплю. Вы точно знаете, что я смогу найти эту книгу?
— Ну конечно. Если вы оставите свои координаты, я сам пришлю вам экземпляр с автографом.
— Это было бы честью для меня, — сказал доктор Рубенс Серафин Смит, открывая чемоданчик, чтобы достать оттуда визитную карточку.
ГЛАВА 9 Человек, который прячется в сарае (III)
У меня есть его фотография. Это колумбийский журналист, который придет, чтобы вызволить меня отсюда. Люди из полиции — теперь она, кажется, называется «Сыскная полиция» — способны на многое. Колумбиец! Посмотрим. Высокий, выглядит как человек не от мира сего. Старается не располнеть. Если на то будет воля Божья, он сможет добраться сюда. Интересно, что ему рассказали, направляя сюда? Как написано в письме, которое мне доставили, — все эти письма я должен сразу же после прочтения уничтожать, что и делаю, — я должен прятаться, пока не будут удвоены меры предосторожности. Благочестивые настоятели делятся со мной своими тревогами и опасениями. А я, простой слуга Господа, даже не знаю, достоин ли я такой чести. Мне сказали, что в церковь приходили еще дважды, один из визитеров был из полиции. Это навело братьев на мысль, что властям уже известно о рукописи. Некоторые высокопоставленные партийные чиновники тайно состоят в различных сектах, а это затрудняет наше дело.
Мне сообщили также, что посольство находится под неусыпным надзором военных и что одного чиновника, который вчера должен был лететь в Париж, задержали в аэропорту и обыскали с головы до ног под предлогом обычного досмотра. Также они боятся, что телефонные линии прослушиваются, отныне и впредь я должен называть манускрипт не иначе как «Солнцезащитные очки посла» и ни в коем случае не пытаться связаться с ними по телефону.
И вот я все еще здесь и по-прежнему один. Лишь одиночество, и ничего больше. Как уже сказано, я священник. Я не хотел признаваться в этом сразу, так как мне посоветовали не раскрывать себя. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что мои враги найдут то, что я сейчас пишу, гораздо раньше, чем меня самого. В конце концов, я впервые в таком положении, когда нужно скрываться, должен признаться — мне это по душе. У меня есть возможность испытать плоть свою, как делали первые христиане. Мой чулан совсем не похож на их сырые катакомбы, но ведь сейчас совсем другие времена. Скорее от скуки, чем из тщеславия, скажу — или напишу, на ваше усмотрение, — что родился я в Страсбурге, стал послушником в монастыре Сен-Дени и там же принял сан. Мне сорок два года. Миссии в Китай предшествовала целая череда событий. Сначала я хотел поехать в Гватемалу, но моя кандидатура была отклонена — мой испанский сочли недостаточно беглым. Оставалась Африка, но, по правде говоря, меня просто ужасают войны, и, поскольку нужно было наконец определиться, я записался в азиатскую миссию, попросив назначения в Китай. Европейские священники не говорят по-китайски и не считают нужным это делать, и здесь это в порядке вещей и не является недостатком. Я живу в этой стране уже два года, все это время учусь и проповедую, что, кстати, не так уж просто.
Как же колумбиец доберется сюда? Этот вопрос не перестает мучить меня, и я не могу ответить на него, ведь кажется немыслимым найти дорогу в это укрытие. По крайней мере мне уже не удается как следует ее вспомнить. Знаю, что надо миновать несколько хутонгов, или проулков, пройти через пролом в стене, пересечь пустырь и войти через заржавленную калитку. Как вы уже знаете, помещение, в котором я нахожусь, представляет собой нечто вроде склада. Всюду строительный мусор и множество деревянных ящиков с проржавевшими замками. Между этими ящиками я и прячусь, а значит, если кто-то и проникнет сюда, ему не так-то легко будет отыскать меня. И если этот кто-то захочет заполучить рукопись, не сказав пароль, ему придется отбирать ее у меня силой, что будет делом нелегким. Несмотря на то, что я священник, я мужчина крепкий, худощавый, ловкий — в молодости занимался спортом и всегда соблюдал умеренность в еде. К тому же я достаточно хорошо изучил свое убежище и подготовил план побега на случай, если обстоятельства того потребуют. А состоит он вот в чем: запрыгнуть на один из ящиков и вылезти через верх. Я собрал достаточное количество старых кирпичей, железяк и щебенки, которые можно будет бросать в моих преследователей. Если это не поможет задержать врагов, нужно будет залезть на главную балку крыши и, сделав практически цирковой трюк, добраться до слухового окна; оно закрыто цинковым листом неплотно, так, что без труда можно проделать отверстие и выбраться. Уже на крыше нужно будет добежать до дымохода, сложенного из старых кирпичей, с железными скобами; они составляют подобие лестницы, по которой можно перебраться на крышу соседнего дома. А дальше я снова побегу в надежде, что провидение выведет меня куда-нибудь. Таков план побега. Единственное, на что я могу рассчитывать, если меня обнаружат. А пока меня продолжают терзать вопросы: приехал ли в Пекин мой спаситель? Знает ли он, какая трудная задача поставлена перед ним? Какой будет наша первая встреча? Что же касается рукописи, ее и мое существование теперь едины и неразделимы, как жизни охотника и зверя, которого он преследует.
ГЛАВА 10 Аэропорт Пекина, 12:30 пополудни
Миновав множество коридоров, эскалаторов и стеклянных дверей, путешественники оказались в огромном зале, разделенном перегородками, за которыми располагались служащие таможенной службы. Они проверяли визы, сверяли фото в паспорте с оригиналом, находящимся перед ними, и, если все было в порядке, ставили отметку о въезде в страну, иногда даже добавляя: «Добро пожаловать в Китай». Вновь прибывшие, зайдя в этот зал, где было более сорока отделений, должны были заполнить анкету — ее нужно было предъявить по требованию властей. Позади пункта охраны находился огромный щит с иллюстрациями национального достояния — достопримечательностей, которые разрешалось осмотреть в Пекине: Великая Китайская стена, дворцы Запретного города, Небесный замок, озеро у Летнего дворца, медвежонок панда, портрет Мао, площадь Тяньаньмэнь и артисты Пекинской оперы.
Когда пассажиры прошли контроль, оставив позади иммиграционные службы, длинные эскалаторы доставили их на первый этаж, они увидели наверху второй щит с видами города и цветными арками с надписями «Пекин-2008» (китайская столица — один из кандидатов на проведение Олимпийских игр 2008 года).
Багажные ленты уже вращались. На электронном табло высвечивались названия городов и названия рейсов, откуда прибыли самолеты. Лента номер 14 выбросила багаж трех самолетов, только что прилетевших из мест, расположенных в самых разных точках земного шара: Лос-Анджелеса, Франкфурта, Гонконга. Пассажиры, уставшие после долгого перелета, предусмотрительно взяли тележки и с нетерпением ожидали появления своих чемоданов в надежде поскорее добраться до отеля (если это были иностранцы), принять душ и прилечь отдохнуть.
Журналист Суарес Сальседо, зевая, получил свои документы и удостоверился, что все оформлено и заверено, как полагается; он боялся, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы, и такое беспокойство было вполне объяснимо, учитывая его гражданство и тот факт, что подобное чувство всегда возникает при выполнении пограничных формальностей. Время от времени он потирал руки, ежась от холода. Без сомнения, вылетая из Гонконга с его тропической жарой, он не подумал о том, что здесь, в Пекине, будет немного прохладнее. К тому же кондиционеры работали на полную катушку, так что он просто замерз.
Рядом, буквально за его спиной, стоял немецкий синолог Гисберт Клаус. Он явно угадал, одевшись во фланелевую рубашку с длинным рукавом. Перед вылетом профессор скрупулезно высчитал недельную температурную кривую, установил среднее значение, чем и руководствовался при выборе костюма для путешествия. Он был спокоен. В правой руке он держал карманное издание «Панамского портного» Джона Ле Карре и как бы нехотя читал. Казалось, он никуда не спешит. Неподалеку, практически вплотную к движущейся ленте, пошатывался мужчина, напоминающий китайца, хотя из-за темного цвета кожи его можно было принять и за филиппинца; он взирал на окружающих с тем отсутствующим видом, который бывает у людей, изрядно выпивших; с некоторой долей идеализации его можно было назвать «отстраненным». Это был писатель Нельсон Чоучэнь Оталора. Было ясно, что он пил на протяжении всего перелета, во всяком случае, точно хватил лишку. Он что-то шептал сквозь зубы и время от времени грозил пальцем, будто хотел дать кому-то важный совет или что-то запретить ребенку. Рядом с ним покачивался, как маятник, человечек с маленькими глазками и намечающейся лысиной; он сцепил руки на животе и тоже ждал с видом раскаяния, иногда вздрагивая от икоты. Бразильский проктолог Рубенс Серафин Смит. Его опьянение не было бы таким явным, не распространяй он невыносимый запах.
Через некоторое время все направились к выходу, толкая перед собой тележки с багажом. Проктолога Рубенса Серафина Смита уже ждал улыбающийся шофер, который держал табличку с его именем и заголовком «Международная медицинская ассоциация». Доктор ехал в отель «Кемпински», но предложил подвезти своего попутчика, профессора Нельсона Чоучэня Оталору, до «Холидей инн» в Лидо. Водитель охотно согласился, сообщив, что это по дороге. Среди людей, ожидавших такси, можно было увидеть синолога Гисберта Клауса. Подошла его очередь, он сел в красное пекинское такси, сказал по-китайски, что ему нужно в отель «Кемпински», и не сдержал радостного жеста, заметив, что таксист его понял. В следующем такси журналист Суарес Сальседо показал водителю бланк отеля, и тот прочел надпись: отель «Мир Китая».
Ярко светило солнце, и воздух был чист. Все указывало на то, что начинается хороший день.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В Пекине все кажется большим. А то, что большим не является, напротив, слишком маленькое. Маленькие, переплетающиеся хутонги, или переулочки в старых районах, змеящиеся среди домов серого кирпича с крышами-пагодами; невысокие худенькие китаянки, закутанные в скромные одежды; маленькие дома и магазины; со стороны кажется, что это резко контрастируете общественными зданиями, дворцами, площадями и парками. Быть может, такая диспропорция — результат неких драматических событий, ведь Пекин не раз возрождался из руин. По крайней мере так думал профессор Гисберт Клаус, когда проезжал район дипломатических зданий, тот самый, что некогда был сожжен и опустошен «боксерами». Сейчас эти улицы утопали в тени густых деревьев, и ничто не напоминало об ужасе, который царил здесь столетие назад.
По дороге в отель Гисберт разглядывал величественные проспекты и колоссальные здания нового Пекина. Несмотря на холодную строгость линий, они все же обладали восточным колоритом — он улавливался в структуре, цвете, форме крыш. «Красный Восток», — подумал Гисберт, вспомнив популярную в эпоху Мао песню. Он был доволен своим первым опытом общения на китайском языке. Сначала таксист, парень из Хунана, удивленно взглянул на него, услышав родную речь, но они довольно быстро разговорились о погоде, движении, смоге, о постоянных ветрах из пустыни Гоби, которые приносят такое количество пыли, что невозможно дышать.
Но по мере того как такси продвигалось сквозь лабиринт городских улиц, Гисберт начал чувствовать признаки легкой тоски. Он находился слишком далеко от родных мест. «Ничего не произошло, — успокоил он себя, — люди часто остаются в одиночестве, и я всего лишь один из многих». Проблема заключалась в том, что с ним это случилось впервые.
Приезд в отель оказался большим облегчением, потому что все наконец встало на свои места. Номер был зарезервирован, здесь его ждали, знали его имя. Служащий проводил профессора в апартаменты на четырнадцатом этаже, которые оказались удобными и просторными, и показал ему, как пользоваться удобствами, включая сложную электронную систему и мини-бар. Окна комнаты выходили на улицу, полную баров и ресторанов. Однако городской пейзаж слегка обеспокоил Гисберта — создавалось впечатление, что это место находится далеко от центра. Все, что он видел из окна, было незнакомым. Странные конструкции, обилие подъемных кранов и пустырей наводили на мысль, что он находится на окраине. Судя по карте, это было не так. Он не понимал этот город.
Волнение, вызванное путешествием, помешало ему прилечь и отдохнуть; приняв душ и переодевшись в легкую одежду, — несмотря на то, что стоял сентябрь, было очень тепло, — Гисберт вышел на улицу. «В гостиницу „Пекин“», — сказал он таксисту, испытывая все большую уверенность в своем китайском, — водитель не смотрел на него с удивлением. Все шло хорошо. Вечером, где-нибудь в пять, он позвонит Юте и подробно расскажет о своем приезде. Они договорились созваниваться каждые три дня и обмениваться ежедневными электронными сообщениями — он заранее узнал, что гостиница предоставляет такую услугу.
Профессор гулял по дипломатическому кварталу, намереваясь найти с помощью книги Лоти какое-нибудь из зданий, которые тот описывал. Гисберт подумывал, не начать ли вести дневник. Идея была привлекательной, однако у него еще не было уверенности, что он способен взять на себя такую ответственность. Он хотел изучать Пекин не спеша, можно сказать, с пристрастием. «У этого города капризный характер, — подумал он, — я должен поддаваться ему медленно, как молчаливому человеку, с которым предстоит вместе жить».
Гисберт, повинуясь своему любопытству, долго гулял, проходил улицу за улицей и наконец присел поесть мороженого на ступеньках Дворца народа на площади Тяньаньмэнь; он наблюдал за потоками людей, которые приходили и уходили, и думал о том, что завтра побывает в Запретном городе, поскольку сегодня усталость помешала бы ему насладиться зрелищем в полной мере.
А совсем близко, скрытые за страницами газеты, любопытные и внимательные глаза неусыпно следили за каждым его шагом.
Во второй половине дня Нельсон Чоучэнь Оталора приоткрыл один глаз и подумал: «Какого дьявола я здесь делаю?» Алкоголь, выпитый накануне, давал о себе знать — он чувствовал неимоверную тяжесть во всем теле. Через минуту он вспомнил, что уже приехал и находится в своем отеле, «Холидей инн», в Лидо, что сюда доставил его доктор Рубенс Серафин Смит, с которым они вместе летели в самолете. Они тепло распрощались. Нельсон, благоухая спиртным, разглагольствовал: «Я нарекаю тебя проктологом моей души, но если только посмеешь тронуть мою задницу, то убью тебя», на что доктор ответил: «Да, ты истинный мастер слова». Еще он помнил, хотя и смутно, что предлагал выпить в отеле по последней, но Серафин Смит, чувствуя себя несколько не в своей тарелке, собрав последние проблески здравого смысла, сообщил:
— Я должен подготовить доклад, ик… мой дорогой, ик… у нас еще будет время, пока, было очччень приятно, ик… чао…
Еще Чоучэнь вспомнил, что во время полета он на коленях просил руки одной из стюардесс, умоляя ее сказать «да», но та приказала ему сесть и упрекнула за нарушение порядка, особенно после того, как профессор попытался ущипнуть ее за ягодицу. Тут Нельсоном стало овладевать чувство осознания собственной глупости, — а такое случалось с ним еще со времен молодости, всякий раз, когда он напивался, — угрызения совести не переставали терзать его, тяжесть в груди все усиливалась…
Он распахнул шторы, и открывшаяся панорама его обескуражила. Впереди простиралось бескрайнее поле с несколькими пыльными елками. Вдали виднелись какие-то невероятные постройки. Грузовик с кучей мусора на соседнем участке. Группа голых по пояс бедняков с лопатами, работающих прямо под палящим солнцем. Он вспомнил служащую из туристического агентства Остина, которая уверяла, что он будет жить в центре, и поклялся, что по возвращении ей покажет. Этой сучке не пройдут даром такие шутки! Затем он достал карту и увидел, что на самом деле находится на севере, недалеко от дороги в аэропорт.
В документах он обнаружил карточку из отеля «Кемпински», в котором остановился доктор Серафин Смит. Открыл чемодан, достал пузырек с тайленолом и разжевал две таблетки; потом отправился в душ, в надежде что вода сможет избавить его от пульсирующей головной боли, последствий недосыпания и трех стаканов джина с тоником.
Час спустя, почувствовав себя лучше, Чоучэнь открыл кофр с бумагами деда и принялся изучать их. Любопытно: все эти годы он берег документы как зеницу ока, но ни разу не удосужился поинтересоваться содержанием. Это показалось ему символичным. Тут же, схватив карандаш, он записал в тетради:
В этих страницах скрыто то, чем я был, мог быть и что я есть…
Он глотнул фанты, прикурил сигарету и, воодушевленный, продолжил:
Из этих набросков складывается карта, в которой можно узнать мое лицо.
И закончил:
Вся моя жизнь зашифрована в этом темном знаке, который зовется Поэма.
Это хайку, подумал он. Длинновато, но все-таки хайку. Черт возьми, ну почему он так долго откладывал эту поездку?! За всю свою бытность писателем Чоучэнь Оталора ни разу не чувствовал такого вдохновения. Пекин воистину стал его музой.
Большая часть документов была на китайском языке — письма переводил дед, — с большим количеством орфографических ошибок, и Нельсон выбрал одно из написанных по-испански: это было свидетельство о прибытии в порт Кальяо, в Перу, от 1 февраля 1901 года. У дедушки Ху потребовали адрес в Пекине, и он дал следующие координаты: Чжинлу бацзе, 7, Хоухай, Пекин. Потом Нельсон бегло просмотрел еще несколько документов и понял, что на них не указано имя получателя. Большинство было подписано Сенем, младшим братом дедушки.
Из-за головной боли он отложил разбор дедушкиных переводов на вечер, а день решил посвятить знакомству с городом. Но, не успев выйти на улицу, вновь стал чертыхаться — на противоположной стороне раздался грохот отбойного молотка, вгрызающегося в асфальт.
— Здесь строят большой торговый центр, — пояснил улыбающийся рассыльный на плохом английском. — Он будет одним из самых крупных во всей Азии. Куда направляется господин?
— В центр.
— В какой центр, господин? — не унимался рассыльный.
— В центр Пекина, в какой же еще? — сердито отвечал Нельсон.
— Дело в том, что в Пекине много центров, господин.
— Неужели?
— Да, — подтвердил рассыльный, не переставая улыбаться.
— Тогда мне в самый центральный центр, вы меня понимаете?
— Боюсь, что нет, господин. Вам известно название этого центра?
Нельсон начал соображать.
— Мне не в торговый центр, мальчик, — объяснил он, — я еду в центр города.
— Ах да… Вы хотите сказать, в центр.
— Вот именно.
— Я поймаю для вас такси.
Рассыльный поднял руку, и немедленно подъехала красная машина. Он объяснил шоферу, куда едет Нельсон, и тотчас же открыл ему дверь.
— Надеюсь, вам понравится, господин. Водитель отвезет вас на площадь Тяньаньмэнь. Вам это подходит?
— Спасибо.
Когда выехали на проспект, Нельсон увидел город высоких зданий, грязных конструкций из кирпича, цемента и стекла; эта панорама напоминала города Восточной Европы — он не бывал в них, но видел в кино, — бесцветные громадины, унылые многоквартирные дома, жуткая смесь грязи на тротуарах и надписей на стенах.
Чуть дальше, когда они повернули на другой проспект, показался красивейший буддийский храм и несколько дворцов в классическом китайском стиле — из серого кирпича, лакированного красного дерева, с крышами в форме пагод; над ними возвышались драконы, привставшие на тонких лапах, фарфоровые львы и змеи.
Оталора обратил внимание на старые, запущенные машины и подумал, что только с помощью чуда могли двигаться такие громадины из железа и резины — некоторые напоминали инсталляции современных художников-концептуалистов; он видел целое море двух- и трехколесных велосипедов, рикш, мопедов, трехколесных мотороллеров, мотоциклов с коляской… Это было настоящее царство велосипедистов, которые находились в самой гуще движения и были его полноправными участниками; они лавировали между грузовиками и автобусами, рискованно и вызывающе проезжали на красный свет, заезжали на пешеходные переходы и тротуары, не колеблясь занимали центральные полосы. Многие велосипеды были переоборудованы в небольшие повозки, приспособленные для перевозки всего, что только может взбрести в голову, — от электротоваров до стройматериалов… Таксист то газовал, то резко тормозил, не переставая сигналить, надавливая на клаксон сразу двумя руками, — казалось, он едет по африканской саванне.
Внезапно Нельсон сообразил, что они в пути вот уже сорок пять минут, и взглянул в карту. Он не мог поверить, что его гостиница расположена так далеко от центра. Может быть, это была проделка рассыльного — в отместку за иронический тон отправить Нельсона к черту на кулички? Ну, тогда посмотрим, кто кого. Он все припомнит этому сукиному сыну! Это только с виду, из-за смуглой кожи и разреза глаз, его можно принять за какого-нибудь филиппинца или вьетнамца, — на самом же деле в нем течет буйная индейская кровь! А понял ли шофер, куда ему нужно? Но поскольку общаться Нельсон не мог, он предпочел молчать. К тому же его все еще подташнивало, болела голова — не время возмущаться. «Они уже утомили меня, эти ублюдки», — сказал он про себя. Движение на улицах было похоже на кошмарный сон; каждый перекресток, который им приходилось пересекать, здорово напоминал большую рыночную площадь.
Машина затормозила, и он понял, что задремал. Поднял глаза и, увидев громадную площадь, лишился дара речи. «Я в Пекине, черт побери!» — воскликнул он, вылез из машины, завороженный, продолжал медленно брести следом за ней; наконец улыбающийся шофер остановил его и протянул листок, где была написана стоимость проезда. «Вечно что-нибудь низменное мешает насладиться счастливыми моментами!» — рассерженно сказал Нельсон про себя, оплачивая счет. Хотел было поторговаться, но цена была смехотворной, и он решил умерить свой пыл. И продолжал идти, на глаза наворачивались слезы. Сто лет назад отсюда уехал его дед, и вот теперь он сам оказался в этом городе. Сколько же сомнений, вопросов и страхов одолевали того молодого тридцатилетнего человека, дедушку Ху, который дал жизнь его отцу, а значит, и ему, Нельсону. Провидению было угодно направить его корабль именно в Перу, а ведь это могли быть и Соединенные Штаты, и Бразилия; на самом деле его семья была обязана своим появлением на свет курсу того судна, на которое взяли деда в качестве юнги. Того корабля, что прибыл в одни прекрасный день в порт Кальяо — именно по этой причине Нельсон родился перуанцем и занимается латиноамериканской литературой. Вот такие превратности судьбы.
На этих самых улицах, в окрестностях Запретного города, еще во времена императора, дедушке Ху приходилось ломать себе голову над тем, куда ему идти и что делать, приходилось искать совета. Сейчас Нельсон думал о том, что он никогда не знал истинной причины, заставившей деда покинуть Китай. Его отец, воспоминания о котором были смутными, — он умер, когда Нельсону было двенадцать лет, — тоже ничего об этом не знал. Он составил свой собственный образ деда, причем уже не мог точно вспомнить, был ли этот образ плодом его собственного воображения либо был навеян старой фотографией — она сохранилась в Куско, у бабушки, которая была гораздо моложе своего мужа. И когда Нельсон спрашивал ее о Ху, она отвечала: «Твой дедушка всегда говорил, что приехал в Перу для того, чтобы взять меня в жены». Черт, так почему же дед эмигрировал? Интересный вопрос. И без сомнения, первый, на который нужно искать ответ.
* * *
Отель «Мир Китая» меня поразил. В вышине сверкал огромный купол; кругом была отделка из желтого шелка, старинные квадратные стулья, зеркала, ажурные арки из черного дерева; множество диковинных вещиц хранилось под стеклянными колпаками в вестибюле; был также внутренний двор с садом, где стояли бронзовые скульптуры геральдических животных.
Я сам дотащил до стойки свой чемодан, зарегистрировался и стал подниматься в номер в очень радужном расположении духа — гостиница оказалась не просто элегантной, она также располагала прекрасным спортивно-оздоровительным комплексом, включающим сауны и турецкие бани. И у меня будет время на все это. Находясь в командировках, я обычно придерживаюсь суровой дисциплины, а это помогает сэкономить время и избегать непредвиденных случайностей. Первое, что я сделал, как только оказался в номере, — а он был просторный, с 32-го этажа открывался потрясающий вид города, — передвинул мебель. Те, кто ее расставлял, рассчитывали на работающего человека, но для людей, которые работают, как я, рядовой солдатик, нужна несколько другая обстановка.
Естественно, информация, которую предоставил мне Пети в Гонконге, отнюдь не являлась подробной. Большое досье, о котором он говорил, оказалось лишь несколькими картами города с указанием отелей, ресторанов и ночных клубов — такие продаются в каждом киоске аэропорта; еще здесь было несколько туристических проспектов об экскурсиях к Великой стене и Летнему дворцу. К ним прилагалась вырезка из южнокитайской «Морнинг пост», повествующая о местной кухне; особое внимание уделялось чоп-суэй, наиболее популярному из восточных блюд, — на самом деле его придумали в одном из ресторанов Сан-Франциско.
Единственное, что было понятным, — записка, написанная от руки, которая была заботливо приложена к билету на самолет: «По приезде в Пекин будьте все время в отеле. Вас найдет один человек. Пети». Надо же, какая таинственность и срочность. Но так даже лучше. В своих обычных командировках я не нахожу времени на ознакомление со страной; даже если есть время, туризмом занимаюсь только тогда, когда материал уже полностью собран. В любом случае удовольствия мало. Поэтому сейчас можно было передохнуть в ожидании встречи, а самым лучшим местом для этого был зал фитнес-центра. В том, что касается комфорта и роскоши, азиатов не может превзойти никто; вспомним хотя бы словосочетание «восточная роскошь». Действительно, место было роскошное: сауна, парилка, бассейн с джакузи, зал отдыха с шезлонгами, мягкие полотенца; в глубине располагался крытый бассейн, пальмы…
Я трижды зашел в сауну и благостно растянулся в шезлонге с книгой Мальро, как вдруг услышал свое имя по громкоговорителю: «Мистера Суареса Сальседо к телефону». Словно ошпаренный, я помчался к телефону и схватил трубку:
— Алло?
— Господин Суарес Сальседо, — произнес незнакомый голос по-французски, но с легким восточным акцентом. — Я жду вас внизу. Мы опаздываем, так что поторопитесь, пожалуйста.
— Минутку, но кто вы? — сказал я, обеспокоенный покровительственным тоном собеседника.
— Поторопитесь, пожалуйста, все объясню по дороге. Я буду в баре. В руке у меня газета, и я невысокий.
— Невысокий? Вы не могли сообщить еще какие-нибудь приметы? Здесь все небольшого роста, к тому же в вестибюле полно народу, — предупредил я, пытаясь тем временем вытереть полотенцем живот.
— Этой приметы будет достаточно. Я очень маленький. Поторопитесь. — В трубке раздался щелчок.
Я побежал в свой номер, схватил вещи и бросился к лифту. Сказать по правде, вся эта таинственность начала утомлять.
Пришел в бар, окинул взглядом столики и сразу же узнал его. Он действительно был очень маленького роста. Карлик.
— Меня зовут Чжоу Чжэньцай. Идемте.
Чжоу ловко лавировал между посетителями, и стоило большого труда успеть за ним — я догнал его уже в дверях. Нас ожидало такси, на котором, по-видимому, он и приехал, так как счетчик показывал довольно приличную сумму. Он что-то сказал шоферу, и мы поехали.
— У меня гипертиреоидит, — объяснил Чжоу. — Мой рост — один метр три сантиметра. Если бы я родился в более развитой стране, обо мне бы позаботились, ведь эта болезнь не генетического происхождения. Но я появился на свет в Китае времен «культурной революции». Тут уж ничего не поделаешь.
Я предположил, что ему по душе монологи, и не пытался перебить его, хотя накопился целый ряд вопросов, не имеющих ничего общего с его заболеванием.
— Однако из этих моих слов вы ни в коем случае не должны сделать вывод, что я не горжусь тем, что я китаец, — взволнованно продолжал мой новый знакомый. — Не заблуждайтесь на мой счет, господин Суарес Сальседо. Я очень горжусь своей страной, и если бы пришлось заново родиться, все отдал бы зато, чтобы вновь родиться китайцем. К тому же у карликов есть ряд преимуществ. Сказать вам об одном?
— Скажите, пожалуйста, — согласился я.
— Женщины, — сказал он, подмигивая. — Вы меня понимаете? Я могу с легкостью заглядывать под юбки, особенно если это немки. Они очень высокие.
Я надеялся, что, покончив с откровениями, он перейдет к сути. Куда мы едем? Кто, к дьяволу, он такой? К чему эта загадочность? И с какой стати за мной в отель приехал китаец, а не француз?
— Мне не очень нравятся монголки, — продолжал Чжоу, — зато они доступны. Низенькие, с толстыми ножками и широкой грудью. Нет ничего проще, чем переспать с монголкой. Скажите, а зачем я вам все это рассказываю?
— Не знаю, господин Чжоу, вы говорили о преимуществах невысоких людей…
— Ах да, но я должен извиниться. — Он сменил тему. — Сейчас нет времени углубляться в подробности. Потом, когда все утихнет, можете спросить, и тогда посмотрим.
Он что, ненормальный, этот господин Чжоу? Теперь-то мне стало ясно, что общение с Пети было истинным удовольствием.
Мы молчали, пока машина объезжала велосипеды и рикш, и я не осмеливался начать разговор только из опасения, что мой «товарищ» вернется к своим разглагольствованиям. Пока я разглядывал его, вспомнилось начало одного романа Хулио Рамона Рибейры: «Как всякий низенький, а соответственно, чванливый человек, доктор Карлос Альменара считал…» Так вот, этот Чжоу был не просто чванливым — он был еще и деспотичным. Где он выучил французский? Какое отношение имеет к моему заданию?
Такси остановилось в районе достаточно грязном и неприветливом. Пахло луком, еще чем-то жареным. На миг мне вдруг показалось, что я не в Пекине, а в Древнем Риме и что мы должны разыскать католиков в их нездоровом убежище. Я доверяю людям, но во время этой миссии чувствовал себя не в своей тарелке.
Дверь открылась, и мы вошли в узкую маленькую квартирку, обставленную обшарпанной мебелью.
— Подождите здесь, пожалуйста, — сказал лилипут, оставляя меня в темной комнате, все убранство которой составляли небольшой диван, кувшин с водой и три стакана.
Я был сыт всем этим по горло и, не желая ждать кого бы там ни было, уже подумывал выйти и на такси вернуться в отель, но не успел — открылась дверь, и вошли двое. Я не мог как следует разглядеть их лица и заметил только, что один из них китаец, а второй — европеец.
— Добро пожаловать в Пекин, господин Суарес Сальседо, — сказал европеец и протянул руку. — Меня зовут Питер Ословски. Преподобный Питер Ословски. А это Сунь Чэн, наш настоятель.
Я пожал им руки, немного успокоенный.
— Надеюсь, преподобный, — сказал я, — что вы расскажете более подробно о цели моего путешествия.
— Да, конечно. Не желаете немного холодной воды? Сейчас так жарко.
— Спасибо.
Я выпил глоток. Действительно, я устал. Очень устал.
— Мы рассчитываем на вашу помощь, — сказал преподобный. — Нужно найти одного священника из нашей конгрегации, который находится в опасности; по причине одной зловещей, но интереснейшей находки он был вынужден временно скрыться. Вы должны добраться до него и помочь вывезти из Китая один документ.
— Какой документ? — спросил я. — Почему это важно и почему этот священник в опасности?
— Вы задаете слишком много вопросов, многоуважаемый друг. Здесь нужно действовать осторожно, и вам, к сожалению, придется запастись терпением.
Я, честно говоря, не настроен был выслушивать лекции по поводу того, как себя вести.
— Я хочу точно знать, во что впутался тот священник и почему меня сюда притащили, — заявил я решительно и встал. — Я приехал делать репортаж, а не спасать кого-то; после того как ответите на мои вопросы, преподобный, я сообщу, согласен ли помогать. Вы знаете, в какой я гостинице.
И сказав это, вышел из квартиры. Спустился вниз по лестнице, вышел на улицу, отошел от подъезда и стал искать такси. Но в этом районе было мало машин. Тогда я пешком дошел до угла и увидел вдали ряд домов. Я продолжал брести в надежде найти более оживленный квартал, но вместо этого очутился на пустыре. Сзади здания казались крайне негостеприимными.
Вскоре я увидел машину. Она ехала медленно, а когда поравнялась со мной, одна из задних дверей открылась. Внутри сидели Чжоу, Сунь Чэн и преподобный Ословски.
— Вы должны научиться терпению, — повторил преподобный. — Садитесь. Мы доставим вас в гостиницу. По дороге я объясню, что происходит.
Усевшись на ступеньках Дворца народа, профессор Герберт Клаус достал диктофон и включил запись.
«Пекин. Первый день. Время 15.45.
Мои первые впечатления от города — одно лишь восхищение. То, что я так долго изучал и представлял себе, будучи далеко, теперь становится реальностью. Но есть и определенного рода отличие, кое обычно бывает между книгами и действительностью, между теорией и практикой. В книгах эта страна — другая. В некотором смысле все, что написано, нереально, хотя, возможно, так и было раньше. Зато правдива История. Здесь, передо мной, — мавзолей Мао Цзэдуна. Никогда раньше ни один человек не повелевал жизнями стольких людей. Его тело выставлено напоказ.
Новое и традиционное сосуществуют. Небоскребы и остатки старой стены, несчастной городской стены. Ее разрушение явилось серьезнейшим покушением на историческое наследство, и это не единственный случай. Я чувствую восторг в душе. Великие люди были здесь до меня; помимо Лоти, я должен упомянуть моего любимого Матео Риччи. Площади не было в его времена, но был Внутренний город и оживленный Внешний город.
Императоры и коммунистические власти понимали одну особенность, которая существует и на Западе: связь между архитектурным величием и величием государства. Первое — символ последнего. Последнее не существует без первого. Мы в Германии это знаем. Государство — идея, которую просто так не видно, и только огромные дворцы позволяют воочию почувствовать ее величие. Почести не могли бы существовать без дворцов. Люди ходят с высоко поднятой головой, гордые своими символами».
Закончив запись, Гисберт Клаус убрал аппарат, еще раз сверился с картой и перешел на другую сторону площади, намереваясь зайти в книжный. В путеводителе говорилось, что один хороший магазин был как раз рядом, на торговой улице Ван-Фуджин; туда он и направился, не замечая, что у него за спиной кое-кто тоже поднялся со ступенек и пошел следом, держась на почтительном расстоянии и одновременно, достав из барсетки мобильный телефон, что-то торопливо говоря.
Дойдя до нужного места, Клаус очень удивился — улица была современная и оживленная. По обеим сторонам — огромные торговые центры с неровными крышами. Толпы людей входили и выходили из тысяч магазинов, в которых торгуют всякими безделушками: вещицами из нефрита и агата, маленькими алебастровыми статуэтками божков, изделиями из слоновой кости, шелка и парчи. Были здесь и лавки, в которых продавались разного рода сувениры под старину, кафе с широкими террасами, модные бары и рестораны. Еще дальше Гисберт обнаружил большой, многоэтажный книжный магазин и пустился на поиски отдела китайской литературы. К его огромному изумлению, в магазине не оказалось нового издания книги Ван Мина. Тогда он направился к одному из продавцов.
— Добрый день, — сказал он по-китайски уже вполне уверенно, — не подскажете, где можно найти произведения Ван Мина?
Продавец посмотрел на него с любопытством:
— Не могли бы вы повторить это имя?
— Ван Мин.
— Подождите минуточку, пожалуйста.
Чей-то неотрывный взгляд следил за ним из глубины зала, из-за полок.
Продавец пошел к кассе и стал что-то говорить другому служащему, судя по костюму, занимавшему более высокую должность. Тот, в свою очередь, вызвал по телефону еще одного продавца. Когда они собрались все втроем, первый сделал знак Гисберту, который продолжал разглядывать стеллажи.
— Извините, господин, — сказал самый старший, подойдя к Гисберту. — Это вы ищете произведения Ван Мина?
— Да, я.
— Видите ли, я должен сказать вам, что в настоящее время все книги распроданы. Вас интересует что-то конкретное?
— В общем, да. Я хотел бы купить факсимильное издание «Книга измененных имен», если возможно, то, за основу которого взято издание «Хижины неподвижного отдыха», Пекин, 1975, Издательство популярной литературы.
— Если вы немного подождете, — сказал продавец, — я запишу выходные данные. Может быть, удастся получить ее через пару дней.
— Вы очень любезны.
Продавец все записал и дал Гисберту визитную карточку.
— Позвоните в конце недели, господин. Там указано мое имя и прямой номер нашего отдела.
Гисберт поблагодарил, но прежде чем он ушел, продавец снова заговорил с ним:
— Если вас интересуют раритеты, господин, советую пройтись по букинистическим лавкам Донгси Нандхие. Это недалеко отсюда. Если позволите, я покажу на карте.
Гисберт развернул карту, и продавец пометил несколько кружочков.
— Вы также можете поискать в антикварных лавках парка Хоухай, иногда там попадаются ценные вещи. Я вижу, господин специалист.
— Я ученый, занимаюсь китайской культурой, молодой человек, — сказал профессор. — Большое спасибо за советы.
Любопытство и филологический азарт Гисберта поднялись, как антенны, и он вышел на улицу, забыв об усталости. Даже забыл о своем обещании позвонить Юте.
Действительно, улица Донгси оказалась очень близко, и в указанном месте он нашел одну из книжных лавок. Это был достаточно просторный зал, немного темноватый, весь в стеллажах. Множество продавцов в белых халатах сновали среди книг, некоторые тома лежали в корзинах. Гисберт, взволнованный, начал рыться в книгах, через несколько часов у него в глазах рябило от заглавий, но труд его окупился: он обнаружил первое испанское издание Хосе Марии Аргедас («Песни и сказания народа кечуа», Лима, 1949) и несколько англоязычных книг, написанных путешественниками, посещавшими Китай. Лишь только своего любимого Ван Мина профессор не нашел.
Владелец лавки подошел к нему, предлагая помощь.
— Вижу, вы интересуетесь китайскими книгами, — сказал он. — Полагаю, что вы знаете наш язык.
— Немного, — скромно ответил Гисберт. — Я профессор Гамбургского университета и занимаюсь синологией.
— Вы ищете какую-то конкретную книгу?
Гисберт Клаус повторил свою просьбу, и владелец, спокойный пожилой человек с седыми волосами и улыбающимся лицом, пригласил его следовать за собой.
— Прошу вас, проходите, — сказал он, открывая дверь. — У меня есть еще одна комната для особенных книг. Или скажем лучше: для особых клиентов, каковым, полагаю, вы и являетесь.
— Очень любезно с вашей стороны так думать, — парировал Гисберт.
Это помещение было меньше, но лучше освещено, чем то, которое выходило на центральный дворик. Книги были аккуратно расставлены по полкам, и он с первого взгляда узнал некоторые из тех, что были в его библиотеке в Гамбурге, как, например, «Книга перемен», факсимильное издание шанхайского «Издательства древних книг», или «Словарь китайских легенд». Хозяин, проводя пальцем по корешкам (некоторые из них были обтянуты кожей), вытащил несколько томов и положил их на стол:
— Вот, это все, что я могу предложить вам из Ван Мина.
Нервы Гисберта напряглись до предела — «Книга измененных имен» в искомом издании. И другие книги тоже были ему знакомы — бесценные факсимиле изданий XVIII века: «Ирис и пена», «Дни на Востоке», «Осенняя песнь в полдень», «Числа». Прежде чем задать следующий вопрос и произнести «Сколько это будет стоить?», Гисберт быстро подсчитал, что он вообще может заплатить, и пришел к выводу, посоветовавшись со своим внутренним бухгалтером, что не более сотни долларов за том, что соответствовало четырем тысячам иен за пять книг. С этой цифрой в голове он решился задать вопрос.
— Какова цена этой книги? — сказал он, взяв в руки «Книгу измененных имен», так как знал, что легче будет торговаться по одной.
— Две тысячи иен, и они ваши, господин, — ответил хозяин, скрестив руки на животе.
— Две тысячи иен за эту?
— Нет, за все.
Сердце екнуло в груди профессора — это была действительно удача. Тогда он выждал еще секунду, молча, пока хозяин не заговорит.
— Вы мне нравитесь, профессор. Берите их за полторы тысячи. Вам завернуть?
— Да, пожалуйста.
Легкое чувство вины поднималось в нем, но Гисберт сжал челюсти, и оно пропало. Потом он спросил:
— Как вы думаете, возможно ли найти другие книги Ван Мина?
— Ну, можно попробовать, — ответил хозяин. — Разумеется, я не могу вам обещать «Далекую прозрачность воздуха», но сборники стихотворений, такие как «Туманный август» или «Золотая рыба», — вполне.
Гисберт посмотрел на него с любопытством.
— Как вы сказали?
— «Туманный август», — ответил хозяин, — или «Золотая рыба», в зависимости от того, что вам больше нравится.
— Нет, я имею в виду другую…
— А, «Далекая прозрачность воздуха», — хозяин произнес это вполголоса, потом подошел к окну и закрыл его. — Прошу прощения, но, если вы хотите поговорить об этой книге, лучше, чтоб нас не слышали. Она приносит несчастье.
— «Далекая прозрачность воздуха»? — переспросил Гисберт Клаус. — Какая редкость. Я никогда не слышал этого названия. Почему она приносит несчастье?
— Ну, это книга, которую мало кто знает. Это было последнее, что он написал перед смертью: он спился. Кажется, там затрагивается тема мистического путешествия через различные состояния усовершенствования начиная с нескольких озарений. Ее поздно опубликовали — рукопись появилась только в 1880 году. С нее сняли сто копий.
— Как интересно. — Гисберт достал блокнотик и записал название. — Ничего о ней не знал. Почему вы говорите, что эта книга приносит несчастье?
Старый букинист предложил Гисберту присесть. Он подал ему чашку, положил туда несколько листочков чая и налил кипятка из металлического термоса.
— Видите ли, эта книга была принята в качестве священной доктрины тайным обществом ихэтуаней.
— Боксерами? — спросил Гисберт Клаус.
— Да, так их ошибочно называют на Западе, — кивнул хозяин. — Однако, да. Они самые.
— И поэтому она приносит несчастье… — предположил Гисберт.
— Как вы знаете, это дело закончилось очень плохо. Восстание повлекло за собой разрушение Пекина и положило начало длительному периоду бесчестья для всех нас, оказавшихся на коленях перед иностранными державами.
— Знаю, — сказал Гисберт, — и поверьте, я стыжусь той темной роли, которую сыграла в этой истории моя страна.
— Ну так вот, — продолжил хозяин, — в этом тексте, который, как утверждают, явился Мину в мистическом сне, говорится об уничтожении «крестовых врагов», так он называет христиан, как о предварительном шаге перед окончательным установлением рая на земле. Это была одна из первых причин, почему «боксеры» расправлялись со священниками, а потом и со всеми иностранцами, с теми, кто носил крест. Вы должны помнить, что Китай много раз в прежние годы находился в униженном положении, особенно перед лицом Великобритании и Франции. В таких условиях любая доктрина отмщения, хорошо обоснованная и содержащая обещание рая, получит поддержку тысяч людей, которые страдали от голода, безработицы и от того, что у них не было будущего.
Из-за двери донесся какой-то шум, и торговец поднялся, заметно нервничая. Потом он очень медленно открыл дверь. Огромный кот прыгнул ему на руки.
— Фф-уу! — воскликнул он с облегчением. — Какой любопытный кот. Как только он видит закрытую дверь, ему сразу хочется узнать, что происходит за ней. — Он опустил кота на пол, сел на диван и продолжил: — Все экземпляры «Далекой прозрачности воздуха» сгорели во время разрушения Пекина, в 1900 году, однако существует легенда, что рукопись была спасена. Оригинал, вы меня понимаете?
— Прекрасно понимаю, — ответил Гисберт.
— Поэтому я и сказал, что она приносит несчастье, — объяснил хозяин. — В дни, последовавшие за взятием Пекина союзниками, каждому, у кого находили книгу Ван Мина, отрубали голову, а тело разбивали о камни. Сто экземпляров «Далекой прозрачности воздуха» погибли во время пожара, потому все книги были собраны в неком подобии Сакральной библиотеки, где можно было читать только стоя на коленях. Это здание находилось рядом с Храмом Неба; говорят, многие «боксеры» сгорели заживо, прижимая к груди священную книгу. Оригинальная же рукопись, напротив, вроде бы уцелела. Говорят, один монах вынес ее из библиотеки перед нападением. Конечно, никто не знает, где она находится, и, честно говоря, было бы хорошо, если б рукопись никогда не нашли. Сейчас существует группа людей, которая ее разыскивает, тайное общество, возникшее прямо под носом у правительства Народной республики, которое с помощью этой рукописи надеется приобрести себе еще больше приверженцев. Коммунизм изменил жизнь всех нас и позволил нам построить великое государство, но традиции не забываются. Китай — древняя страна с хорошей памятью, господин. Я вынужден извиниться перед вами, профессор, — заключил он, вставая. — Меня ждет работа. Заходите еще, постараюсь достать вам издания его стихотворных сборников.
— Спасибо, — сказал Гисберт. — Позвольте выразить вам мое восхищение. Вы не только букинист, что уже само по себе благородное занятие, но вы еще и очень образованный человек. Я хотел бы как-то отблагодарить вас за то, что вы мне сегодня рассказали.
— Знаниями нельзя зарабатывать деньги, профессор, — ответил старик, — их можно только передавать. Это я благодарен вам за то, что вы меня слушали. Если хотите, приходите завтра к закрытию, то есть в шесть часов вечера. Я с огромным удовольствием еще раз угощу вас чаем.
— Я приду вовремя, — ответил Гисберт, прощаясь с хозяином.
Выйдя на улицу, поглощенный своими мыслями и любопытством, Гисберт прошел мимо человека, который стоял, прислонившись к стене магазина. Если бы он обратил внимание на незнакомца, то счел бы, что тому лет сорок, и, судя по полотняному костюму и галстуку, занимает он невысокую должность в каком-нибудь государственном учреждении. Но профессор этого не сделал. Человек же, напротив, затушил плевком окурок сигары и двинулся вслед за Гисбертом.
Прогулявшись по окрестностям Южных ворот и купив несколько безделушек у торговцев, Нельсон Чоучэнь Оталора вернулся в гостиницу. Чувствуя небольшую слабость после длительной прогулки, он все же достал сундучок с письмами и взял блокнот. Настало время переписать тексты начисто, исправляя орфографию — испанский дедушка Ху был, скажем так, весьма неоднозначным, — и подвергнуть их литературной обработке в соответствии со своим литературным стилем, поскольку он собирался использовать документы в своем большом китайском романе. Для начала он выбрал самое раннее по дате письмо, закурил сигарету и принялся за работу.
«Дорогой брат!
Мы закончили строить заднюю стену дома. Когда идет дождь и канал выходит из берегов, вода уже больше не заливает дом. Крысам тоже туда уже не пробраться. Сегодня ночью мне пришлось убить двух голодных собак, которые бродили по двору и собирались напасть на Сень Линя. Собаки привыкли к запаху нашего мяса и теперь хотят отодрать его у нас живьем. Поэтому их нужно убивать. Собаки нам больше не друзья. Сунь Узе чувствует себя хорошо, он растет крепким и плачет только от голода. Есть нам нечего, стены пропахли дымом. На прошлой неделе мы зарезали раненую лошадь, у нас появилось мясо. Оно было сладковатое, но вкусное. Нас почти не преследуют. В прошлом месяце было не так. Я был дома у Бинь Лао, рядом с железнодорожной станцией, и кто-то донес на нас, потому что ночью было запрещено останавливаться и разговаривать на улице. Пришел патруль с оружием. Я выскочил через крышу, и, когда прыгал, в мышцу мне впился острый кусок дерева. Троих из наших поймали и тут же перерезали им горло. Власти говорят, что расстреливать нас больше не будут, чтобы не тратить пули и не беспокоить соседей. Я спрятался в чулане позади дома, потому что солдаты не уходили. Наконец, на вторую ночь, я смог выйти. Рана болела. Кровь уже не шла, но внутри было много щепок. По дороге я встретил Чэна, и мы пошли вместе, стараясь держаться в тени. Около озера Сихуань нас увидели японские солдаты. Одного я задушил, но в это время он так сильно укусил меня, что снова пошла кровь. Чэн воткнул во второго свой нож, до того как тот поднял тревогу. В сердце он ему не попал, но лезвие прошло через легкое, и тот не мог кричать. Мы сняли с них одежду и оружие. Мы бросили их в озеро, с животами, набитыми камнями. Ливень смыл кровь. Их внутренности мы скормили собакам.
Теперь в Пекине нас очень мало. Гао Шен говорит, мы должны подождать и снова создать организацию. Бамбук клонится, когда приходит гроза, но потом он снова поднимается. Так говорит Гао Шен. Создать организацию. Что ты думаешь об этом, брат? О тебе многие спрашивают. Я не сказал, что ты уехал. Я сказал, что ты спрятался. Что однажды утром откроется дверь, и ты войдешь. Так должно быть. Они, возможно, будут тебя искать или сделают так, чтоб тебя арестовали. Я никому не скажу. Что не должно знать врагу — не рассказывай другу. Твоего имени боятся. Двоим соседям Шена отрубили голову только за то, что их звали так же, как тебя. Ты все еще сражаешься среди нас, брат, потому что внушаешь им страх. Пиши — ты знаешь, куда.
Сень».Сердце Нельсона заколотилось: это же самый настоящий динамит! Его дед сражался против кого-то подпольно и, судя по тому, что он понял, был одним из вожаков. Он посетовал на то, каких усилий ему стоило расшифровать содержание каждого письма, но решил, что так все-таки лучше. «Только трудности заставляют двигаться вперед», — написал Лесама Лима. Нельсон никогда его не читал, но знал его произведения по критическим статьям. Судьба подавала ему теперь весьма ясные знаки. История собственной жизни, почувствовал он, дожидалась его в ящике письменного стола, скрытая пеленой этого плохого испанского, этого нетвердого почерка.
Несмотря на резь в глазах, он открыл тетрадь со стихами и написал:
Я — последний из многочисленного рода героев и воинов. Наше оружие мокро от победы и от ливня. Собаки, бешеные, носят сердца врагов в своих желудках, а на дне озера Сихуань лежат их тела. Если ты примешь мой вызов — значит ты не боишься умереть. Значит, ты храбр.* * *
Оталора спустился в центральный вестибюль гостиницы и спросил, есть ли поблизости ресторан. Ему сказали, что есть, но нужно ехать на такси. Тогда он выглянул на улицу и, к ужасу своему, понял, что там продолжают долбить отбойным молотком, работы по строительству фасада не прекращались. Вереницы грузовиков подъезжали и отъезжали. Сотни рабочих двигались среди песка и пыли. Время от времени тьма освещалась вспышками сварочной машины.
— Во сколько они закончат? — спросил Нельсон у швейцара.
— Они работают двадцать четыре часа в сутки, господин. Строительство нового Пекина не терпит промедлений. Китай сегодня — это современная страна благодаря…
— Вы хотите сказать, что я этот грохот буду слушать всю ночь?
— Боюсь, что так, господин. Но вам могут предложить ушные тампоны.
Нельсон в бешенстве замахал кулаками в воздухе. Динамитом бы это туристическое агентство! Потребовал бы компенсации в Верховном суде! А секретарше бы послал в прозрачном свертке практическое руководство по анальному сексу с животными! «Они, видно, решили подшутить надо мной, когда меня увидели, — подумал он с ненавистью, — и теперь насмехаются; но мы еще посмотрим». Как он написал в своем стихотворении — и это также относилось к Норберто Флоресу Арминьо: «Если примешь мой вызов — значит ты не боишься умереть».
Огорченный, он вернулся в отель, пошел в ресторан и сел за столик. В ближайшие две недели переезжать в другой отель нет смысла, потому что уплачено вперед; так как цена была со скидкой, ему бы не вернули деньги. Он поужинал, а потом, выбрав из пачки еще одно письмо своего деда, решил вызвать такси.
— В отель «Кемпински», пожалуйста.
Он подумал, что можно там узнать цену, выпить чего-нибудь в баре и немного поработать. Если повезет, встретит того бразильца из самолета, симпатичного проктолога.
Но когда Нельсон приехал в «Кемпински», мечты рассеялись. Это был пятизвездочный отель с роскошными, до блеска натертыми полами в холле. «Черт, — подумал он, — вот какой отель я должен был выбрать; если бы я это сделал в Остине, цена была бы приемлемой». Он пропустил глоточек в баре в надежде увидеть Серафина Смита. Выпивку в самолете он оплачивал из своего кошелька и теперь надеялся, что врач пригласит его. Он обещал.
Проктолога не было, поэтому Оталора попросил пива и сел за стойку с тетрадкой и письмом в руке. Народу было полно. Местные чиновники и богатые туристы проталкивались между столиками, за которыми их ждали прекрасные девушки. К несчастью, это были люди не его круга. Они могли бы ими быть, сказал себе Нельсон, если б мои книги продавались в разных странах, если б я был успешным писателем, получал бы международные премии, а университеты конкурировали бы между собой за право организовать мой цикл лекций, всегда с внушительными чеками в марках, французских и швейцарских франках. «И это произойдет, — подумал он, — когда я вернусь из Китая и напишу свой большой роман. Миру придется дать мне место. В мировой литературе Чоучэнь Оталора станет величиной. Мамой клянусь, так и будет!»
Так он мечтал, попивая свое пиво, когда его внимание привлек человек низкого роста, с изящной внешностью и нордическими чертами лица. Рядом с ним лежала стопка книг, и Нельсон заметил, что одна из них на испанском — «Пески и сказания народа кечуа» его соотечественника Хосе Марии Аргедаса. Он напряг зрение. Это что, сон? То было первое издание!
— Простите мою дерзость, — вежливо произнес он, — но я полагаю, судя по этой книге, что вы говорите по-испански.
— Говорю, но совсем немного, хотя читаю без проблем, — ответил человек. — Меня зовут Гисберт Клаус. Я немец.
— Нельсон Чоучэнь Оталора, перуанец.
Гисберт пил пиво и виски. Нельсон подвинул свой стакан, поглядел на письмо дедушки Ху и поставил стул поближе.
— Книга привлекла мое внимание, потому что она на испанском, — сказал Нельсон, — потому что речь идет о перуанском авторе и прежде всего потому, что это первое издание.
Гисберт Клаус отодвинул направо книги Ван Мина и достал Аргедаса.
— Заметьте, как мне повезло, — сказал он. — Я нашел ее сегодня днем, здесь, в пекинском книжном магазине. Ну не чудо ли?
— Да, — сказал Нельсон. — Действительно чудо. Вы коллекционер?
— Нет, нет. Я занимаюсь синологией в Гамбургском университете.
— Ну, тогда мы почти коллеги, — с радостью отметил Нельсон. — Я профессор латиноамериканской литературы в университете штата Техас, в Остине. У нас в библиотеке есть копия, идентичная этой. Поэтому я ее и узнал.
— Сожалею, — сказал Гисберт Клаус. — Вероятно, это вы должны были бы ее найти, а не я.
— Напротив, профессор, — предположил Нельсон, — если она будет у вас, то будет доступна большему количеству людей. В Германии, наверное, мало таких изданий.
Нельсон оглядел раритет, поводил носом по обложке, проверил выходные данные. Книга была в очень хорошем состоянии.
Разговор тут же перешел на тему, которая занимает всех путешественников. Что выделаете в городе? Нельсон объяснил, что он в отпуске, что он писатель и приехал собирать материал для романа.
Последнее замечание заставило Гисберта Клауса широко раскрыть глаза от восхищения.
— У вас выходила какая-нибудь книга в Германии? — спросил он.
Нельсон глотнул пива, и оно показалось ему горьким.
— Нет, нет, но мой агент ведет переговоры. Я не помню названий издательств, которые сообщили о своей заинтересованности в этом вопросе.
— Но вы, должно быть, писатель какого-то определенного направления? Не могли бы вы повторить свое имя?
Нельсон ненавидел этот вопрос, потому что отлично знал, что произойдет потом: собеседник повторял его имя, глядя в потолок, а потом говорил: нет, я его не знаю, но, честно говоря, я сейчас не очень слежу за современной литературой.
— Нельсон Чоучэнь Оталора.
Гисберт Клаус повторил его имя, глядя в потолок и сощурившись, напрягая свою память.
— Нет, нет. Но не обращайте внимания на то, что я говорю, честно говоря, я сейчас не очень слежу за современной литературой.
Во второй раз Нельсон уже запивал пиво виски. Они заговорили о литературе. Гисберт признался ему в своей страсти к китайским писателям и объяснил, что на них специализируется, особенно на творчестве Ван Мина, романиста XVIII века (Нельсон признался, что не знает такого). Потом они перешли к обсуждению современной литературы своих стран: Гисберт сказал, что с удовольствием читал Варгаса Льосу, Рамона Рибейро и Брисе Эченике, в то время как Нельсон выразил свое восхищение в адрес Генриха Белля, Гюнтера Грасса и прежде всего Томаса Манна, сказав, что прочел все его романы, а «Смерть в Венеции» — шесть раз.
— Вам так нравится Томас Манн? — спросил Гис берт.
— Дело в том, что его писательская судьба для меня — как сказка, — пояснил Нельсон, перемежая глотки пива с виски. — Видите ли, «Будденброки» в двадцать три года, «Тонио Крёгер» в двадцать шесть. А потом величайший всемирный успех. «Волшебная гора», «Иосиф и его братья» и, если позволите, моя любимая — «Признания авантюриста Феликса Круля», его последний роман. Нобелевская премия, бегство из нацистской Германии, дневники… По мне — это пример идеальной жизни для писателя.
— Но только для писателя, — возразил Гисберт. — Двое из его сыновей покончили с собой, трое были наркоманами. Он всегда был как бы стариком; даже когда ему было тридцать, он все равно был стариком.
— Когда все силы посвящаешь литературе и получаешь такие результаты, — перебил Нельсон, — все остальное — мелочи.
Гисберт Клаус медленно сделал глоток пива и посмотрел на собеседника. Беседовать с незнакомцем таким вот образом — это также был для него новый опыт. Когда он только увидел, как Нельсон подходит к нему, его первой реакцией было спрятать книги Ван Мина, но сейчас такой поступок казался ему смешным, отражением его затворнической жизни. Путешествие его изменило. Почему это случилось так поздно?
— Вот вы, писатель, — спросил Гисберт, — вы согласились бы прожить трагическую жизнь, если бы такова была цена создания великой книги?
Нельсон прополоскал рот глотком виски, закурил сигарету и заявил:
— Для настоящего художника трагедия — это не создать великого произведения. Повседневная жизнь не имеет никакого значения.
— Но если речь идет о настоящем художнике, — парировал Гисберт, — как это может быть, что он не создаст великого произведения? Я хочу сказать, что до того, как он его создаст, художник — это обычный, ординарный человек. Он превращается в художника после создания произведения, не до.
— Вы правы, профессор, — согласился Нельсон. — Но случается и так, что это произведение находится у художника внутри и ему не удается «извлечь» его. Это то, что я называю «художник по натуре».
Ловкий ответ, сказал себе Гисберт. Может, и с ним, Гисбертом, это происходит? В лучшем случае, как говорил перуанец, его душа хранила великое произведение, которое просилось наружу, но за недостатком плодородной почвы, где могло бы прорасти, превратилось в нечто другое: любовь к книгам и филологическую страсть. Как священник, который полон любви, но не может ее реализовать, так и он — в отношении литературы.
— Мне бы очень хотелось прочитать какой-нибудь ваш роман, — сказал Гисберт. — Надеюсь, его опубликуют в Германии.
— Если вы дадите мне свой адрес, — перебил Нельсон, — я буду рад послать вам авторский экземпляр моей последней книги.
— Сюда, в отель? — Гисберт Клаус не совсем понял фразу.
— Ну, если хотите, — сказал Нельсон. — Я завтра же могу оставить вам копию на ресепшн.
— Очень любезно с вашей стороны, — сказал немец. — У меня номер 902.
— Завтра я принесу книгу, — повторил Нельсон, — для меня будет честью быть прочитанным профессором такого уровня. Я хотел попросить у вас, если это не очень вас обеспокоит, адрес книжного магазина, где вы нашли это издание. Вы говорите, там были еще на испанском?
— Да, да, — подтвердил Гисберт. — Это довольно большой букинистический. А еще там были книги на английском и французском.
Тот, кто наблюдал за ними издалека, видел, как Нельсон достал ручку и записал адрес. Потом он подождал немного, пока мужчины выпили еще, и наконец удостоверился, что пожилой господин попрощался и направился к себе в номер. Тогда преследователь встал и пошел вслед за Нельсоном Чоучэнем Оталорой до двери отеля. На выходе перуанец обменялся несколькими словами с молодой женщиной, по всей видимости, русской проституткой, и после довольно вялых переговоров решил продолжать свой путь в одиночестве. На проспекте он взял такси, которое поехало в сторону северной окраины города. Вслед за ним, держась на близком расстоянии, в маленьком автомобиле с пекинскими номерами ехал еще один человек.
«Человек всегда в конечном итоге получает то, что ищет», — говорит рассказчик в «Апокалипсисе сегодня», это-то как раз и случилось: я хотел объяснения, и я его получил. Должен признаться, что, садясь в машину преподобного Ословски, я очень нервничал и готов был послать всех к чертям собачьим, в абсолютной уверенности, что по приезде в гостиницу соберу чемоданы и вернусь в Париж. Известно, какими мы, робкие люди, становимся, когда очень рассержены: разъяренными, гордыми, агрессивными. Но представители некоторых школ психологии говорят, что если человек не следует своим желаниям слепо, это потому, что в глубине он в них не верит; другие возражают — гуру, которых посещала Коринн, моя бывшая жена, — что когда человек этого не делает, он теряет каждый раз один энергетический цикл, а для того чтобы восстановить его потом, нужны месяцы правильной жизни. Кто знает? Я человек безответственный и когда ошибаюсь, то первым осознаю причины провала, так как мои проблемы по большей части можно разбить на три группы: а) те, которые решаются сами собой; б) те, у которых нет решения; в) экономические проблемы, которые, в свою очередь, могут относиться к группе а) или к группе б).
Обо всем этом я думал молча, неотрывно глядя в окно, в то время как мы ехали по бесконечному городу, и был внутренне благодарен остальным, то есть преподобному Ословски, его помощнику, который вел машину, и Сунь Чэну, который до сих пор не произнес ни слова, уж не знаю, потому ли, что не знал французского, или чтобы подчеркнуть свое превосходство, или просто оттого, что ему нечего было сказать, — так вот, я был благодарен им за то, что они уважали мою погруженность в себя и не заставляли поддержать разговор, потому что ввиду моего нервного состояния единственные слова, которые могли бы сорваться с моих губ, были бы проклятия и ругательства. Мое любопытство в эту минуту холодной злобы крутилось вокруг одного: во что я вляпался? Одно было ясно (не идиот же я): меня привезли в Пекин не для того, чтобы заниматься журналистикой. Поэтому Пети вел себя так таинственно с самого начала и, почему бы не сказать этого, так неприятно. У нас, журналистов, принято взвешивать свои слова, а Пети такой же мастер вести разговор, как я — балерина. А Кастран? Что касается моего парижского шефа, здесь возможны два варианта: либо он в курсе происходящего, либо нет. Слишком простой вывод, конечно. Но в конце концов, знал он или нет, не имеет значения, потому что его задачей было выделить агента, журналиста, которым они могли бы располагать в Китае.
Когда я дошел до этого места, передо мной встал очевидный вопрос: кто те «они», на которых работал Пети? Первое, что мне пришло в голову, — это французские власти, так как частное лицо не стало бы искать журналиста в государственной прессе. Кроме того, был еще Гассо из французского консульства в Гонконге. Сделав этот вывод, я почувствовал облегчение прежде всего в отношении Кастрана, потому что, если это было так, никто по возвращении не станет с меня требовать распроклятый репортаж о католиках в Китае. Рассудив таким образом и почувствовав, как мой гнев сходит на нет, я решил оторвать взгляд от окна и посмотреть на попутчиков.
— Вам лучше? — спросил меня преподобный Ословски.
— Да, лучше, — ответил я. — Теперь я готов вас выслушать. Мой первый вопрос прост: какое отношение вы имеете к Пети?
— Пети — бывший дипломат, который работает в разведке. Когда у нас возникла проблема, о которой я вам говорил, с пропавшим священником и с документами, мы прибегли к его помощи. Уже не в первый раз Пети, чьей специализацией является Дальний Восток, помогает нам.
— Специалист по Дальнему Востоку? — спросил я удивленно. — Судя по тому, что я имел возможность наблюдать, он ненавидит Азию.
Видите ли, уважаемый господин журналист, — добавил Ословски, — человеческие существа не всегда достигают того, чего они хотят. Это один из величайших парадоксов. Если бы мы достигали всего, жизнь была бы пресной, более того, невыносимой. Вы читали «Шагреневую кожу» Бальзака? Несовершенство поддерживает в нас жизнь. Но простите, я отклонился от темы.
— Ничего страшного, — поспешил я ответить, — я тоже весьма склонен к размышлениям, и эта тема мне интересна. Хотя, откровенно говоря, в этот момент нужно срочно выяснить другое. Например, кто этот проклятый пропавший священник и о каком документе вы упоминали?
В этот момент машина остановилась в пробке на подъезде к рынку. Чжоу высунул голову в напрасной надежде разглядеть, что там дальше. Через открытое окно салон наполнился сильным запахом. Сухие цветы. Острый запах. Пряности.
— Это обычный, ничем не примечательный французский священник, — сказал преподобный. — Его имя и фамилия действительно не имеют значения. Важно то, что он исчез. Мы, старшие по чину, должны были знать, где он остановился, но в результате ряда небрежностей и, скажем так, недосмотров потеряли его из виду. Откровенно говоря, я и сам не знаю, что именно произошло. Я лично дал ему приказ спрятаться и не делать ни одного движения до тех пор, пока не появится агент от Пети, то есть вы. Но что-то случилось, теперь мы не знаем, где он. Грубо говоря, кто-то у нас ею украл.
Движение на дороге снова восстановилось, и Чжоу принял нормальную позу. Водительское сиденье было приспособлено для карлика и казалось детским стульчиком. Преподобный Сунь Чэн, сидевший рядом с ним, глядел в окно с застывшим выражением лица — с выражением, не соответствовавшим разговору, который мы с Ословски вели на заднем сиденье.
— Что касается документа, — продолжал преподобный, — речь идет о чем-то в высшей степени деликатном. Это оригинал рукописи собрания стихотворений китайского писателя XVIII века Ван Мина, автора, достаточно известного здесь. Эта книга имеет трагическую историю, потому что она была утверждена в качестве сакрального документа сектой, которая хотела покончить с христианами. В Китае я избавлю вас от деталей, но знайте, что преследования христиан в Древнем Риме — детская игра по сравнению с тем, что происходило в этой стране. Вы слышали о Боксерах?
— Да, — кивнул я, — одно из восстаний, которое покончило с империей. Я видел фильм.
— Точно, — согласился Ословски. — Тайное общество разгромили, уничтожили, а рукопись в силу ряда случайностей оказалась в сейфе французской дипломатической миссии. Двадцать лет назад, после реструктуризации, посольство вручило часть своего «мертвого» архива нашей церкви, которая является церковью французских католиков. Книга была перевезена туда. Никто не знал, о чем именно идет речь, а несколько недель назад случайно рукопись была обнаружена.
— Прошу прощения, что прерываю вас, падре, — сказал я, — но в наше-то время почему этот документ все еще опасен?
— В этом вся суть дела. — Он откашлялся, как бы набираясь сил для того, что должен был сказать. — Секта, о которой мы говорим, была побеждена, но не исчезла. Потомки ее членов хотят восстановить тайное общество, а для этого им нужна рукопись. Поэтому мы попросили о помощи. Времена изменились, но вы поймете, если я скажу, что у нас, католиков, есть некоторые сомнения по поводу того, признать ли секту, которая сто лет назад погубила более двадцати пяти тысяч христиан. Вы понимаете? Поэтому мы обратились к властям, рекомендуя изъять отсюда этот опасный документ.
— А почему бы его не уничтожить, падре?
— Мы не можем этого сделать, — сказал Ословски, — в конечном счете так будет только хуже. Какую бы угрозу он ни представлял, этот документ — часть чужого исторического наследия, и мы должны его уважать. Достаточно забрать книжку отсюда и передать в хорошие руки, чтобы можно было вернуть, когда ситуация изменится.
Выслушав это, Чжоу закивал так энергично, что закачался на своем сиденье.
— Как члены тайного общества узнали, что рукопись у вас в руках? — спросил я.
— Чудовищная случайность. Ее увидел уборщик, который оказался членом секты. В ту же ночь за ней пришли. Юноша, который работал в архиве, сейчас в больнице. Вот так сейчас и обстоят дела: священник пропал. И рукопись неизвестно где. Вы понимаете всю серьезность ситуации?
— Понимаю, падре, конечно, — кивнул я. — Но при всем при этом что я могу сделать? Если речь о том, что нужно вывезти из страны документ, которого у вас уже нет или который вы потеряли, то я-то что должен делать?
В этот момент отец Сунь Чэн в первый раз повернул голову в нашу сторону и посмотрел на Ословски. Холодные взгляды двух стариков соприкоснулись. Не знаю, какой диалог при этом произошел. Не знаю, что они сказали друг другу. Потом Сунь Чэн отвернулся, а Ословски сказал мне:
— Вы должны помочь нам найти их. Священника и документ. А потом вывезти рукописи из Китая.
Я продолжал смотреть на него, удивленный определенностью слов.
— Я не для этого приехал, преподобный, — возразил я. — Почему я должен это делать?
— Потому что именно так сделал бы хороший человек. Можно действовать, не осознавая этого, и действовать плохо. Но когда знаешь, что правильно, трудно этого не сделать. Вы поможете нам просто так, потому что это правильно. Именно так поступил бы хороший человек.
Я словно окаменел. Довод был крепок, как скала. Я рассудил, смущенный и уставший, что не могу его опровергнуть. И молчал. Но когда вдали показалась гостиница, понял, что время поджимает.
— Есть кое-что, что я хотел бы знать, падре, — сказал я. — Когда вы определили это дело как «опасное», о какой степени опасности конкретно шла речь?
— Видите ли, — ответил он несколько смущенно, — не хочу вас обманывать. Нашему помощнику из архива они вставили воронку в задний проход и лили туда кипяток.
— А, понимаю.
Машина въехала на пандус, развернулась вокруг площади и остановилась перед дверью гостиницы.
Я посчитал, что должен дать ответ, но Ословски, чтобы успокоить меня, сказал:
— Идите к себе в номер, отдохните и подумайте. Поспите. Завтра утром я приду позавтракать с вами, и мы поговорим. Спокойной ночи.
Чжоу, будто услужливый шофер, с поклоном открыл мне дверцу. Потом они уехали.
Я очень устал и решил поужинать в ресторане гостиницы: равиоли на пару с соевым соусом и пастой из красного перца. Горшок белого риса и три блюдечка: утка под соусом, овощи и мясо с луком. Зеленый чай, для пищеварения, а главным образом ради удовольствия видеть, как его подают в очень странном чайнике с длинным носиком. Эти священники, сказал я себе, — особые типы. Помочь им найти пропавшего кюре и вывезти документ из Китая. Почему я должен это делать? В конце концов, книга принадлежит китайцам. Хорошо это или плохо, но это их книга. Как поступил бы в подобном случае обожаемый мною Мальро? Мальро был человек действия и, без сомнения, он бы не колебался. «Боксеры». Я вспомнил «55 дней в Пекине» с Чарлтоном Хестоном и Авой Гарднер. Забавно видеть, как история повторяется.
Интересное приключение, а по правде говоря, в моей жизни, не считая двух или трех романтических историй, о которых я уже рассказал, было маловато действия. Это же казалось реальным приключением, непохожим на все то, что я делал до сих пор. Пети — бывший дипломат, ставший секретным агентом! Как любопытно. Казалось, жизнь каким-то образом говорит мне: «Тебя заметили и решили дать тебе возможность стать чем-то большим, чем уехавший из своей страны приспособленец и зануда. Если сокращение радиопрограмм и сражение с журналистами соответствует твоим интеллектуальным ожиданиям, возвращайся в Париж первым самолетом; если нет, если еще есть немного горячей крови в твоих жилах, помоги им, согласись». Я слышал голос священника: «Когда знаешь, что правильно, трудно этого не сделать».
Выпив пару глотков с симпатичным перуанским профессором, Гисберт поднялся в свой номер, открыл мини-бар и достал холодное пиво. Потом соответствующим образом разложил приобретенные книги и принялся с наслаждением рассматривать их, перескакивая с одной на другую, радуясь своей удаче и представляя себе статью, очень индивидуальную по стилю, что-то вроде повести о путешествиях, в которой он расскажет, как нашел эти тома и, может быть, историю хозяина книжной лавки о потерянном тексте Ван Мина, которая, право же, стоила того, чтобы провести расследование. Подумав об этом, Гисберт открыл книгу Лоти, начал перечитывать параграфы, которые подчеркнул ранее, и не находил там ничего, чего не знал бы до этого, пока его внимание не привлекло следующее: «Видя обугленные руины здания и гору трупов, разбросанных вокруг, я спросил себя, было ли так когда-нибудь в истории человечества, что столько людей умерщвляли столь жестоким образом — и они умирали, защищая книгу. Стоило поискать ее, узнать, что говорят ее страницы. Примера подобного ужаса не было ранее в истории». Этот абзац чрезвычайно его взволновал. Лоти знал о рукописи! Как могло случиться, что это замечание, когда он читал в первый раз, не пробудило его любопытства? По правде говоря, профессор проскочил его, не сделав никакой заметки, что с точки зрения науки можно было считать серьезнейшей ошибкой. Он попытался понять этот факт, чтобы сохранить самоуважение, но единственное, что мог бы сказать, — что он читал дневник в приступе самозабвенной страсти, прежде всего задерживая внимание на запуганном соотношении между литературой и опытом.
В конце концов, важно было, что теперь он обратил на это внимание. Каким-то образом профессор Клаус заметил невидимую связь между парижской книгой, в которой прочел эту историю, и Пекином, который открыл ему самое важное в ее содержании. Единственное, в чем он был уверен, — это в том, что отреагировал правильно, взял верный курс. Лоти интересовался тем манускриптом. Иначе и быть не могло. С этой новой точки зрения Гисберт начал перечитывать дневник.
Итак, он последовал дальше по тексту и с удивлением осознал, что была часть книги, которую он не прочел и которая относилась ко второму путешествию Лоти в Пекин начиная с 18 апреля 1901 года. В первый раз Гисберт остановился на возвращении Лоти, примерно в ноябре 1900 года, и прервал чтение, предположив, что дальше последует повествование о его путешествии во Францию. Но, несмотря на то что Лоти уехал из Пекина, он остался в Китае и несколько месяцев спустя вернулся в столицу, поскольку произошло необычайное событие: Дворец императрицы, занятый немецким маршалом Вальдерзее, был разрушен пожаром, при котором погиб начальник генерального штаба, генерал Шварцхоф. Получив это известие, французский адмирал просил Пьера Лоти вернуться в Пекин, чтобы выразить соболезнования французского правительства и присутствовать на похоронах.
И тот вернулся, на сей раз поездом — железные дороги, разрушенные «боксерами», уже были восстановлены — и присутствовал на погребальной церемонии немецкого воина, который, как написал в дневнике Лоти, «был одним из самых больших врагов Франции».
После похорон Лоти решил на некоторое время остаться в Пекине, на что получил разрешение от французского адмиралтейства. Поселившись водной из комнат Летнего дворца, первый свой визит он нанес монсеньору Фавье, одному из епископов французской католической миссии. Встреча состоялась, когда тот руководил восстановлением собора, «который сверху донизу был окружен строительными лесами из бамбука». Епископ сообщил Лоти, улыбаясь с вызовом, что китайские рабочие, занятые на работах, — почти все бывшие «боксеры».
Здесь Гисберт почувствовал, как кровь прилила к щекам, потому что наткнулся на следующие строки: «Все экземпляры знаменитой книги сгорели, но, кажется, рукопись была спасена. Так утверждает гид, молодой человек, которого мне предоставила миссия. Он сказал, что слышат о книге и что пытался узнать побольше у бригады китайских рабочих, которые собираются вернуть первоначальный блеск фарфоровым крышам Дворца неба, этого чуда архитектуры, фасад которого вследствие боев посерел от дыма и картечи. Некоторые из этих молодых людей — бывшие восставшие бойцы, какие могут быть сомнения. Многие узнают друг друга по взгляду и молчат, никто не хочет больше смертей. Быть может, мое любопытство чрезмерно, но мне странно, что никто в этой неразберихе из криков, приказов и выстрелов не остановился и не подумал о рукописи». Последнее замечание Лоти показалось Гисберту многообещающим и интригующим: «Гид наладил с ними контакт, меня хочет видеть некто и узнать, что же возбудило во мне такой интерес». В последней фразе Лоти не упомянул о рукописи, и вообще он больше не возвращался к этой теме, но Гисберт был уверен — речь шла о тексте Ван Мина.
Несмотря на вычурность изложения, на количество деталей и персонажей, которые разгуливали по страницам книги, профессор, кажется, заметил, что Лоти использовал особый язык, атмосферу полунамеков, когда речь заходила о рукописи. В конце концов, он был гуманитарий и тонко чувствовал такие вещи. Потом Лоти поехал в Пекин, разрушенную столицу, вместе с полковником Маршалом, французским офицером. Они вместе пересекли Мраморный мост, тот самый, что Марко Поло с воодушевлением описывал в своей хронике. Потом Лоти уехал, уверенный, что присутствовал, как он выразился, при «крушении одного из миров».
В этом месте размышления Клауса Гисберта примяли новый поворот. Почему Лоти больше не упоминал о рукописи? У профессора возникли две гипотезы: первая — потому что Лоти больше ничего не удалось узнать, но, хорошенько обдумав, профессор отодвинул эту мысль на второй план. Вторая — Лоти обнаружил рукопись и решил не оставлять письменных свидетельств, потому что знал, что рано пли поздно он опубликует свои дневники, и боялся, что от этого будут неприятности. Вторая гипотеза была интереснее.
Гисберт включил свой диктофон и начал говорить:
«Отель „Кемпински“. Пекин. Два часа ночи.
Сегодня я получил несколько уроков. Первый носил характер исторический и, можно сказать, литературный. Я не знал, несмотря на проведенные мной глубокие исследования творчества Вам Мина, о существовании книги, которая называется „Далекая прозрачность воздуха“, и более того, мне не было известно о прямой связи, которая существует между этим текстом и восстанием „боксеров“ 1900 года. Несмотря на то что я человек без предрассудков, даже напротив, человек науки, мне трудно не сдать свои позиции перед цепью случайностей, поскольку именно книга Лоти о вышеупомянутом восстании толкнула меня на это приключение. Думаю, мой порыв, который возник в Париже, сейчас обретает смысл. Не нужно быть слишком проницательным, чтобы заметить, что я сейчас на пороге чего-то важного, может быть, великого. Моя идея заключается в том, что Лоти каким-то образом заполучил рукопись и, вне всякого сомнения, изучил ее — я не знаю, владел ли он китайским, но в любом случае он мог располагать доверенными переводчиками из Французской дипломатической миссии. То, что произошло дальше, лежит в области гипотез: увез ли он ее во Францию и вручил властям? Сохранил ли ее? Оставил ее в Пекине спрятанной с намерением вернуться или чтобы ему прислали ее, когда буря уляжется? Если существует миф, что рукопись удалось спасти, как сказал старый букинист, возможно, книга никогда не покидала Китая или же возвращена сюда. Это дело начиная с сегодняшнего дня станет главной целью моего путешествия».
Часов в восемь утра какой-то стук пробудил ото сна писателя Нельсона Чоучэня Оталору. Кто-то отрыл его дверь и тут же снова закрыл. «Кто там?» — крикнул он, все еще находясь во власти сна, но ответа не получил. С бьющимся сердцем Нельсон выскочил, и ему удалось увидеть посреди коридора двух портье, которые везли огромную тележку с чистым бельем. «Sorry, sir», — сказали они хором.
Он закрыл дверь и выругал их, потому что от грохота дрели он не смог снова заснуть.
Нельсон порадовался своей предусмотрительности: накануне ночью принял перед сном аспирин, поэтому, несмотря на тяжесть во всем теле, голова не болела. Потом он выпил апельсиновый сок и отправился в душ с намерением доспать под струей воды, в единственном месте, которого не достигал адский грохот стройки.
Часов в девять он вышел, чистый, свежевыбритый и пахнущий одеколоном, и прошел на одну из террас во внутреннем садике, чтобы позавтракать. Там тоже слышен был шум, и было еще кое-что похуже: полно пыли в воздухе. Оталора подумал, задыхаясь от ярости, что неплохо было бы позвонить из своего номера в туристическую компанию Остина, чтобы анонимно сообщить о заложенной бомбе, но потом вспомнил, что платить за международные звонки из гостиницы очень дорого, и решил попридержать негодование вплоть до приезда.
Вернувшись в свой номер, возобновил работу с письмами. В следующем, согласно порядку, в котором их сложил дедушка, говорилось вот что:
«Дорогой брат!
Дни величия прошли, но мы живы. Кровь бойцов в земле, на поверхности остались только развалины, кости и картечь. Но ничего не потеряно, потому что святыня — у нас в руках. Слова, которые одухотворяют нашу борьбу, так же как и наши законы, — в безопасности. Они проиграют, потому что не знают, почему выиграли. Мы же понимаем причину нашего разгрома. У нас есть преимущество. Мы пострадали, и это придает храбрости. Текст в надежном месте. Я сам руками, на которых высохло столько крови, вынес его из пылающего дворца. Три пули попали в мое тело, но я не упал, потому что соприкосновение с ним придало мне силы. Было ранено мое тело, но не дух, я бежал, сражался и снова бежал. Когда я добрался до убежища, кровь шла у меня из семи пулевых отверстий, но страницы были чисты. Они вскормят под солнцем будущего нашу победу.
Город полон солдат, выходить все труднее и труднее. Нас легко узнать, потому что наши тела в шрамах. На прошлой неделе в Сяньмене задержали четырех человек. Их попросили раздеться и, увидев раны на теле, решили расстрелять. Они наступают. Они следят и ищут под каждым камнем. Мы же станем тенями. Вчера один из братьев предложил нам спрятать книгу в надежном месте. Он говорил об одном иностранце. Он говорит, это особый человек, он с нами, потому что печалится и плачет, видя разрушенными наши дворцы. Он говорит, что этот человек помог женщине, над которой собирались совершить насилие, прежде чем расстрелять. Он не позволил этого и говорил о чести. Это первый иностранец, который говорит о чести. Если он поможет нам, у нас будет больше возможности спасти его. Нас загоняют в угол. Жизнь каждого — словно сухой лист. Он может ожить, но сейчас он сух. Может быть, мы и сможем довериться этому человеку. Люди видели, как он плакал перед мрамором, растоптанным лошадьми, и перед разрушенными статуями наших богов. Люди видели. Может быть, он сумеет нас спасти. Я поговорю с ним завтра, а лотом мы решим.
Нам не хватает тебя,
Сень».Был почти полдень, и Нельсон, утомленный, должен был признать, что эта история — нешлифованный алмаз, именно то, что он искал для большого романа. Тогда он подумал, что нужно придать ему форму: это будет роман, вне всякого сомнения, и действие его, судя по всему, должно происходить в двух временах. Воодушевленный, Оталора достал блокнот и начал набрасывать план. 1) История дедушки Ху, восстания и его бегства. От третьего лица. 2) Письма Сеня, брата, где говорится о событиях, последовавших за восстанием. 3) Его собственная история в настоящем, как он сто лет спустя пытается понять эту историю. От первого лица.
План работы показался разумным. Потом он проглядел другие свои записи и наткнулся на фразу, с которой можно было начать книгу: «Я приехал в Пекин, потому что здесь жил мой дедушка, некий Ху Шоушэнь». Фраза была хороша, но заставляла его писать длинную предысторию, объясняя читателю, кто такой рассказчик. Все было готово к тому, чтоб начать работу, кроме одной детали технического характера: у него не было с собой компьютера. Он не предполагал, что так быстро найдет тему, и не позаботился о том, чтобы захватить ноутбук. Ему вовсе не нравилась идея писать от руки — написанное обещало быть большим по объему. Что делать? Можно спросить у администратора гостиницы. Может быть, ему одолжат… компьютер. Таким образом они могли бы компенсировать неудобства, которым он подвергся.
Администратор встретил его широкой улыбкой.
— Я должен попросить вас об одолжении, — начал Нельсон.
— Скажите мне, чем я могу быть вам полезен, — услужливо ответил молодой человек. — Вам нужны еще ушные тампоны?
— Кое-что посложнее. Мне нужен компьютер.
— Никаких проблем, господин. У нас есть небольшой зал, наш бизнес-центр, где вы можете работать. Это стоит всего пять юаней в час.
Нельсон задрал нос, как борзая, которая нюхает воздух, и в ужасе вскричал:
— Двенадцать долларов? Поверить не могу! Включая обед?
— Нет, сеньор, но вы можете заказать все, что хотите, в ресторане, и вам принесут туда же, без какой-либо наценки. Хотите взглянуть?
Нельсон согласился, и служащий проводил его к двери, на которой действительно было написано: «Бизнес-центр». Внутри пахло сыростью. Было очевидно, что залом давно не пользовались.
— Вы можете также, если хотите, выйти в Интернет, — добавил портье.
— За ту же цену? — спросил Нельсон.
— Да, за ту же цену. Хотите сейчас им воспользоваться?
— Сейчас нет, но вскоре воспользуюсь. Спасибо.
Он подумал, что может записывать и от руки, потом, когда будет двадцать или тридцать страниц, заплатить деньги, перепечатать начисто и послать текст на свой электронный адрес. Необычная форма работы, которая заставит его действовать быстро и дисциплинированно. Это будут уж точно самые дорогие слова, когда-либо им написанные.
Нельсон почувствовал, что снова проголодался, и глянул на часы: почти час. Он уже достаточно поработал. Но тут кое-что всплыло в его памяти: копия книги для немецкого профессора! Он совсем об этом забыл, погрузившись в работу, а потом со всеми хлопотами. Тогда он пошел в свой номер, достал из чемодана «Блюз Куско», поискал визитную карточку и написал: «Филологу Гисберту Клаусу, коллеге и другу, нашедшему перуанские инкунабулы в книжных магазинах Пекина. С сердечным приветом от автора, Нельсон Чоучэнь Оталора». Сделав это, взял такси и направился в отель «Кемпински».
Когда такси отъехало, за ним тронулся другой автомобиль; затем в вестибюль гостиницы вошел молодой китаец. Без сомнения, это был профессионал, так как первое, что он сделал, — уселся в одно из кресел в вестибюле, посмотрел на часы и стал читать газету. Через несколько минут, когда служащие привыкли к его присутствию, он поднялся в лифте на третий этаж. Там при помощи какой-то специальной карточки открыл дверь и вошел в номер Нельсона.
Незнакомец, чтобы не оставить следов, надел резиновые перчатки и начал обыск. Он осмотрел ящики ночного столика, оба шкафа, ванную, с величайшими предосторожностями открыл чемодан и внимательно проглядел четыре экземпляра «Блюза Куско», сняв на мини-фотоаппарат китайского производства список действующих лиц. Потом изучил бумаги на столе, те, на которых Нельсон только что писал, и попытался читать их, хотя незнание испанского помешало ему понять, о чем идет речь. Маленький чемоданчик, где хранился сундучок с письмами, был заперт на секретный код. Проявив некоторую искушенность, незнакомец стал вращать колесики туда-сюда, но открыть так и не смог и оставил попытки. Он снова стал заниматься бумагами, пока не наткнулся на дне папки на два подлинных письма на китайском, которые Сеню написал Ху. Когда молодой человек прочел их, он изменился в лице и даже присел на минутку на край кровати, чтобы успокоиться. Тогда он сфотографировал письма с близкого расстояния и издалека, сделал копии обоих текстов в блокноте и вышел из номера, в восторге от своего открытия.
Тем временем Нельсон, не подозревая о том, что творится в его номере, прошел через вестибюль отеля «Кемпински» и попросил, чтобы вызвали профессора Гисберта Клауса.
— Минуточку, — сказала молодая женщина-администратор.
После двух безуспешных попыток дозвониться она предложила Оталоре оставить сообщение.
— Конечно, — ответил Нельсон. — Достаточно будет, если вы передадите ему это.
Он отдал книгу и конверт своей гостиницы, написав имя и телефон, и уже собрался уходить, как вдруг почувствовал, что кто-то хлопает его по плечу.
— Достопочтенный поэт! — Это оказался проктолог Рубенс Серафин Смит. — Не говорите, что вы переехали в другой отель!
Нельсон обернулся и поприветствовал его, обняв.
— Как бы я этого хотел! — сказал Нельсон. — Из-за надувательства туроператора живу на окраине. Уж я ей задам, когда вернусь! А сюда заглянул к знакомому.
— Значит, нам повезло, — улыбнулся Серафин Смит. — Позвольте представить вам мою коллегу: доктор Омайра Тинахо. Нельсон Чоучэнь, поэт, перуанец.
— Очень приятно, — сказал Нельсон. — Полагаю, вы из Латинской Америки?
— Мне тоже очень приятно. Я кубинка, — ответила доктор Тинахо. — А почему вы подумали, что я из Латинской Америки?
— Ну, — пошутил Нельсон, — я имею привычку думать о других хорошо.
— Ах, как вы любезны, — ответила доктор Тинахо, слегка покраснев. — Доктор Серафин назвал вас поэтом, я восхищена. Вы пишете стихи?
Мозг Нельсона заработал очень быстро, чтобы подсчитать: сколько, интересно, лет этой докторше? Сорок два? Максимум сорок пять. Красивая фигура. Светлый цвет волос не натуральный.
— И поэзию, и прозу, — ответил Нельсон. — Но уточнять не стану, потому что именовать себя писателем перед кубинцем — это большая ответственность. При том количестве гениев, которые у вас были.
— Вы очень любезны, — заметила доктор Тинахо. — Не стоит так говорить. С вашим Сесаром Вальехо и вам не на что жаловаться. И вот что я вам скажу: все мои перуанские друзья — поэты. Какое богатство!
— Возможно, это из-за севиче, — развеселился Нельсон. — Гордость нашей национальной кухни.
Все засмеялись. Потом доктор Тинахо попросила:
— Скажите мне, пожалуйста, название какой-нибудь своей книги. Может быть, я даже вас читала?
— Что ж, — ответил Нельсон. — Моя самая известная книга — это «Блюз Куско».
Омайра повторила название, глядя в потолок, и сощурилась, напрягая память.
— Нет, кажется, нет. Но не обращайте внимания на то, что я говорю, честно говоря, я не очень слежу за современной литературой.
Наступила оглушительная тишина. Она длилась три секунды. Одна. Две. Три…
— Представляете, любезный, — сказал Серафим Смит, — мы зашли в отель немного передохнуть — заседания отнимают все силы. Предлагаю встретиться в девять и вместе поужинать. Как вам? Здесь рядом есть несколько ресторанов, вроде бы хороших.
Условившись о встрече, Нельсон вернулся на улицу. Теперь он должен был разыскать дом своего деда. Достав из сумки книжечку, он прочел: «Чжинлу бацзе, 7, Хоухай, Пекин». После этого подошел к портье и попросил, чтобы тот написал адрес на карточке. Сделав это, вышел из отеля, остановил такси и вручил карточку шоферу.
В течение следующих двадцати минут Нельсону казалось, что они едут по одному и тому же бесконечному проспекту, до тех пор, пока здания не стали меняться, и он увидел традиционную архитектуру, с лакированным деревом и металлическими крышами. Потом такси оказалось на широкой улице с довольно оживленным движением, которая напомнила ему проспект Чиклано, типичный для Лимы. А потом все изменилось. Дома из серого кирпича были одноэтажными, казались старыми и ветхими, хотя архитектура отличалась изяществом. Все вместе выглядело очень красиво. Над дверями висели ленты из красной ткани с золотыми буквами, над крышами реяли драконы, создания с рогами и когтями, которых китайцы помещают над своими жилищами, чтобы отпугивать злых духов.
Улицы становились все более узкими. По углам старики играли в маджонг. Некоторые были одеты в знаменитые голубые блузы в стиле Мао — на взгляд Нельсона, они были похожи на работников прачечной. «Китай времен культурной революции, — подумал он, — видимо, этот квартал — один из самых старых». Несмотря на бедность, пейзаж был красивым. На крышах висели красные бумажные фонарики. Круглые двери. Кривые крыши. Запах гари. Вдруг в глубине он увидел озеро, окруженное ивами, небольшой водоем с островками, покрытый листьями лотоса и тростником, с розовыми цветами, спокойствие которого нарушали лодки с влюбленными парами да бреющий полет уток.
Сердце Нельсона забилось, когда увидел, что водитель показывает на переулок: машина не проезжала, потому как он был очень узок. Должно быть, это там.
Оталора вышел из такси, намереваясь дойти до дома, предварительно прогулявшись, откладывая встречу, чтобы получить большую радость. Он достал книжечку и записал кое-что из того, что видел: «Большое озеро. Ивы. Переулки. Пахнет горелым каучуком и подгнившими фруктами. Люди наблюдают за мной с любопытством, но никто не подходит близко. Они, видно, гадают: что делает здесь иностранец? Смотрят на меня как на иностранца. А ведь мой дедушка — выходец из этого квартала. Если бы он отсюда не уехал, я был бы одним из них».
Нельсон поискал табличку, чтобы посмотреть по своей карте, где находится, — переулок его дедушки все не показывался, — но это было бесполезно, потому что все надписи были на китайском. Тогда он направился к дому. Едва дошел до первого угла, сильная вонь ударила ему в ноздри. В нескольких метрах стояла общественная уборная. Тогда он закурил сигарету. Сердце продолжало сжиматься, пока он подходил к дому номер семь, но единственное, что сумел разглядеть Нельсон, — это стена из серого кирпича и старая деревянная дверь. Все дома казались одинаковыми, хотя у этого было несколько разрушенных кирпичей на боковой стене и множество трещин. Он не осмелился постучать. Что он мог сказать? Просто остановился у передней двери и смотрел на нее довольно долго. Из некоторых окон встревоженно высунулись любопытные головы. На чужака глазели без улыбки, без единого движения. Смотрели, как если бы его там и не было. Только один взгляд был иным. Заинтересованным. Худощавый человечек, его соглядатай. Его верный и преданный соглядатай.
Воображение Нельсона разыгралось. Он представлял, как дверь быстро открывается, и его дедушка, юный, выходит из дома с учебниками и тетрадками. Потом он увидел своего двоюродного дедушку Ху — тот пришел сюда, истекая кровью, прячась в тени. В его воображении дверь открывалась и закрывалась. Дедушка выходил с чемоданами и ждал, пока кто-то на углу скажет, что путь свободен: «Солдат нет, можешь идти». Ехал ли он по озеру на лодке? Этот образ ему понравился: тихое скольжение лодки, бесшумные толчки весел в тумане, и его дед с чемоданом в руках. Черт, нужно было постараться выяснить точно, где находится квартал. У него так и зудели пальцы — хотелось писать.
Последний раз взглянув на дверь — она так и не открылась, — Нельсон вернулся на угол, чтобы прогуляться по берегу озера. Немного впереди он увидел надпись на «пиньин» — китайской транслитерации латинскими буквами: «Шуайхутун». Он сел на скамейку, чтобы найти это название на своей карте, и выяснил, где находится: озеро Сихуань! То самое, о котором говорил его двоюродный дедушка в одном из своих писем: в нем он утопил тела своих врагов. Все вдруг приобрело огромный смысл, и рука Нельсона дрожала, пока он писал заметки. «Боже! Если в этот раз у меня не получится, то не получится никогда!» Это был опыт всей его жизни. ОПЫТ большими буквами; нужно было только написать, «раскрасить гравюры», как сказал Моцарт в фильме Милоша Формана. Звонок, звук которого разнесся далеко, отвлек его от размышлений. Оталора повернулся и увидел, что человек, сидящий через три скамейки от него, отвечает по мобильному телефону. Это был его соглядатай. Голос, которого Нельсон не мог слышать и тем более понять, говорил человечку: «Возвращайся. Он у нас».
Ословски пришел в девять часов утра; я к тому времени уже съел несколько порций омлета с колбасой, два куска ветчины с сыром, выпил кофе с молоком, съел два круассана и тарелку диетической каши с обезжиренным йогуртом. Должен признаться, я нервничал, а в тревоге всегда много ем. Что тут поделаешь! То, что называется «душа толстяка». А разволновался я потому, что внешне как будто не собирался принимать предложение, но в глубине души — да. В действительности я хотел, чтобы присутствие преподобного соскребло с меня тонкую корочку неуверенности.
— Доброе утро, надеюсь, вам удалось отдохнуть, — сказал преподобный, протягивая мне руку. — Полагаю, если вы привыкли путешествовать (думаю, что так оно и есть), то одной ночи хорошего сна достаточно.
— Да, преподобный, — кивнул я. — Теперь я другой человек.
Подозвал официанта и попросил подать кофе, но священник сделал отрицательный знак пальцами и сказал что-то по-китайски.
— Чай, чай, — пояснил он. — Несколько чашек зеленого чая — и тело готово к чему бы то ни было. Рекомендую.
— Не забывайте, что я колумбиец, преподобный, — возразил я. — Любой другой напиток, кроме кофе, в это время может быть губителен…
Принесли чайник с кипятком. Ословски налил маленькую чашечку и посмотрел мне в глаза.
— Ну, я пришел выслушать, что вы скажете, — сказал он мне, — вы уже готовы ответить?
Я сделал большой глоток кофе с молоком (третья чашка за утро).
— Помогите мне, преподобный, — сказал я. — Я хочу работать с вами, но у меня все еще есть сомнения.
— Не думаю, что у вас есть сомнения, позвольте заметить. Что у вас есть, так это страх, или я ошибаюсь?
— Может быть, преподобный, может быть, — согласился я. — Да, мне страшно.
— Ничего из того, что я могу сказать, не избавит вас от страха, — ответил он. — Страх иррационален, и знаете что? Мне тоже страшно. Поэтому вы нам и нужны.
— Вот что меня беспокоит. Я так и не понял: если эта рукопись так важна для вас, зачем доверять ее такому человеку, как я? Я хочу сказать, что существуют профессионалы, люди надежные.
— Очень хороший вопрос, дорогой мой, — ответил Ословски. — Отвечу искренне: потому что вы — человек, которого нам послали. В Париже еще не знают, что мы потеряли священника, а следовательно, и рукопись. Для нас это было бы немного неловко. Поэтому я и прошу вас помочь. Естественно, если вы решитесь, вам, в свою очередь, будет помогать профессионал, кто-нибудь из наших, кому можно полностью доверять. Вам только нужно будет следовать за ним. Что скажете? Вы согласны?
— Я не герой, преподобный, посмотрите на меня. Я простой человек.
— Упаси нас Боже от героев, — ответил Ословски. — Герои погубили Китай. Нет, кто нам нужен, — так это хороший человек, такой, как вы.
Мне не передалось спокойствие священника, но я понял, что рано или поздно выйду отсюда вместе с ним и пойду помогать им. То есть я решился.
— Согласен, при условии, что мы не будем продолжать философствовать, — ответил я. — Мы ставим на карту жизнь?
— На самом деле я не знаю. Сам не знаю. Пойдемте.
Я последовал за ним по вестибюлю к выходу. Снаружи нас ждала та же машина, что накануне; за рулем сидел Чжоу, в глаза бросался его элегантный желтый галстук. Молчаливого Сунь Чэна не было.
Преподобный Ословски объяснил, что они не могут отвезти меня во французскую миссию, потому что боятся, что кто-нибудь нас проследит. Никто из тайного общества не должен узнать о связи между мной и рукописью, поскольку, если это случится, у меня возникнут серьезные проблемы, когда нужно будет вывозить ее из Китая. Потом меня высадили возле торгового центра в пекинском районе, который был похож на бедный пригород Парижа, — полно граффити и грязных стен. Указания были самыми простыми: я должен был подняться на верхний этаж в кафе быстрого питания и ждать кого-то, сам ко мне подойдет. Мне порекомендовали сесть за столик в дальнем конце зала, напротив кассы.
Задание было несложным, поэтому я вышел из машины, больше не задавая вопросов, и стал искать эскалатор, чтобы подняться на верхний этаж. Торговый центр показался мне довольно заметным. На первом этаже быт магазины одежды, салоны акупунктуры и центры проявки фотографий. На следующем этаже были столики со всякими сувенирами: пистолетами, которые стреляют огнем, статуэтками драконов, дезодорантами, зонтиками от солнца. На четвертом размещались изделия народных промыслов и отдел бытовой техники. Наконец, на шестом оказалась веранда с кафе. Было около полудня, поэтому там собралось довольно много народу; быстро все оглядев и сообразив, что мне будет трудно объяснить, чего я хочу, я решил воспользоваться старой техникой указательного пальца. Это, это и это. Мясо с паровыми овощами, блюдо из тофу и кукурузы, свиные тефтели с петрушкой и холодный зеленый чай. Почувствовав, как разыгрался аппетит, я устроился за первым столиком, но, погрузив палочки в тофу, вспомнил указания: нужно было сесть за столик в дальнем конце, напротив кассы.
Оглядел кафе поверх голов посетителей и засомневался: в зале было две кассы, по одной в каждом углу. Из-за таких вот мелочей, подумал я, проигрывают войны. В конце концов я поднялся и принялся искать место, равноудаленное от обеих, отчего выглядел, должно быть, смешно, тем более что все столики там были заняты. Спина у меня похолодела, поскольку, пару раз повернувшись, я решил, что даже детям, наверное, уже ясно — у меня здесь назначена секретная встреча. Вдруг молодой китаец отодвинул свой поднос и уступил мне место. Он был похож на студента, судя по рубашке из набивной ткани, джинсам и сумке. Наши взгляды встретились и я, нервничая, опустил глаза, давая ему понять, что это я, но он сделал вид, что ему безразлично. Я предположил, что в зале, вероятно, есть люди, которые шпионят за нами, иначе эта игра не имела смысла. Кто, интересно, наши враги? Я огляделся по сторонам и увидел самые обычные лица, каких много. Отцы семейств, студенты, служащие, девушки, которые смеялись и перешептывались. Блюда, которые показались мне изысканными секунду назад, комом легли в желудок, дала о себе знать застарелая грыжа.
Молодой человек продолжал безучастно молчать, поэтому я встал, поставил опустевший поднос на стойку и поспешил к лестнице. Мне не хватало воздуха. Тяжесть в желудке давила, я боялся, что меня стошнит. Спустившись, я увидел у подножия лестницы моего соседа. Как он мог обогнать меня?
— Следуйте за мной, — сказал он по-французски.
Мы спустились на стоянку, и он пригласил меня залезть в кузов грузовика, на котором развозили продукты. Если б я был в Боготе, то сказал бы, что это фургончик прачечной. Он поднялся в кабину, завел мотор. В кузове не было окон, поэтому я не мог видеть, куда мы едем (как будто такая возможность позволила бы мне понять, где мы находимся). Я снова — в который раз, с тех пор как вылетел из Парижа, — испытал знакомое чувство: все вокруг в курсе того, что происходит, кроме меня. Проклятие, как я мог помочь, если был единственным, кто ни черта тут не понимает!
Через минуту фургон остановился, и кто-то открыл дверь. Машина стояла в гараже.
— Выходите, пожалуйста, — сказал мне молодой человек. — Следуйте за мной.
Мы поднялись вверх по лестнице и оказались в комнате без окон.
— Меня зовут Чжэн, я буду работать вместе с вами. Рад познакомиться.
— Спасибо, Чжэн. Меня зовут Суарес Сальседо. Где мы?
— В надежном месте. Подойдите поближе к свету. Молодой человек открыл папку и показал мне несколько фотографий.
— Вот священник, которого мы ищем, его зовут Режи Жерар. Это его последняя фотография.
Он показался мне довольно обыкновенным типом лет сорока. Никак не старше сорока пяти…
— Он пропал три недели назад. Рукопись у него.
— Почему он пропал?
— Кто-то проник в наши ряды, а когда мы это поняли, его уже было не достать. Действовать тайно — большая проблема. Мы собирались перевести священника в другое место, но нас опередили. Кто-то его выкрал.
— Кто это мог быть? — спросил я.
— Вижу, вы смотрите в корень. Это могло быть правительство, в таком случае мы больше его не увидим. Возможно, другое тайное общество, которое стремилось избежать того, чтобы «Белая лилия», наследники «боксеров», усилилась. Это точно не «Белая лилия» — они за нами следят, значит, Жерара у них нет. Есть и другие возможные кандидаты, агенты других церквей. Может быть, методисты или адвентисты. Они уже долго живут в Китае и тоже в прошлом пережили преследования со стороны сект.
Чжэн произвел на меня хорошее впечатление. Наконец кто-то прямо отвечал на мои вопросы.
— Это действительно так опасно, как говорит Ословски?
— Ну, он человек верующий, а вера рождает чувство трагического, — уверенно ответил он. — Да, кто-то нанес увечья молодому человеку, сотруднику архива, но нам удалось узнать, что это была лишь малочисленная группировка внутри «Белой лилии». В организации есть сторонники насилия, но у них практически нет власти.
— Мне бы хотелось верить в это, Чжэн, но, к сожалению, я должен напомнить вам о том, что произошло в Гер мании. Там было пятьдесят миллионов жертв.
— Такое могло произойти там, но не здесь. Мы мирные люди.
Его апломб привел меня в замешательство.
— Чжэн, я ценю вашу искренность, но должен задать очень откровенный вопрос.
— Пожалуйста, — ответил он.
— Кто вы?
— Для кого как. Вам я друг. Для них — чрезвычайно опасный человек.
— Но… вы священник?
— Да, сейчас да. Вся моя энергия посвящена Богу, поскольку я три года назад приобщился к французской конгрегации. Но до этого я был солдатом. Я входил в состав особых формирований контрразведки. Прошел подготовку в Москве и в Хо Ши Мине, говорю на четырех языках. Не будет преувеличением, если я скажу, что могу разобрать базуку за шесть минут, смазать ее части за пять минут и снова собрать за восемь. Я никогда никого не убивал, но ранить — ранил. Ранить более действенно, чем убивать. Я состоял в тайной полиции, которая подавила студенческую демонстрацию на площади Тяньаньмэнь, и я вот что скажу: вы на Западе ничего не понимаете в том, что тут произошло.
Я пришел в замешательство, но понимал, что не время вступать в политические споры.
— Положим, все именно так, — сказал я. — Полагаю также, что вы — доверенное лицо Ословски.
— Мы понимаем друг друга, — ответил Чжэн. — Перед тем как стать миссионером в Китае, он был капелланом в Восточной Африке. Он не боится борьбы. Точнее, он боится только бесплодной борьбы. Отец Сунь Чэн, наш настоятель, попросил нас заняться этим делом. Продолжим?
— Да, благодарю за откровенность, — сказал я.
Чжэн развернул карту города с отметками.
— Вот место, откуда исчез Режи Жерар. — Он указал точку на юго-востоке. — Наш человек должен был доставить его сюда, в район около кладбища, то есть в противоположный конец города. Если Жерар жив, остается вероятность, что он не знает, что попал в руки не к тем людям. И кое-что еще. В последнем письме, которое мы успели отправить ему до того, как он исчез, была ваша фотография.
— Моя?
— Да. И кое-какая информация. Он должен был вас узнать. У Жерара был приказ уничтожить эти записи, на случай если его схватят. Положим, он так и сделал, потому что в противном случае вы бы тут сейчас со мной не разговаривали. По прибытии вас не узнали, хотя тщательно контролируют аэропорт. Поэтому мы полагаем, что Жерар выполнил инструкции. Не беспокойтесь. Я сказал это вам только для того, чтобы предупредить: возможно, вас знают в лицо.
Моя правая рука сама собой потянулась к сумке, вытащила оттуда пачку сигарет и вставила одну мне в рот. Когда я пришел в себя, выяснилось, что я курю.
— Что делать, если меня схватят? — спросил я, между тем как крупная капля пота текла по спине.
Чжэн открыл чемоданчик и протянул мне сотовый.
— Нажать эту кнопку, — сказал он, указывая на зеленую клавишу. — В памяти этого телефона есть мой номер. Если вам удастся сделать звонок и оставаться на связи три минуты, я вас найду.
— А если нет?
— Если нет, много всякого может случиться, в зависимости от того, кто вас схватит. Если это будут люди «Белой лилии», не думаю, чтобы вам причинили вред. Худшее, что они могут сделать, — на некоторое время запереть вас в каком-нибудь мрачном месте до тех пор, пока не найдут рукопись. Если это будет правительство, — возможно, вас депортируют. Про остальных — не знаю. Вы верующий?
— Нет, к сожалению.
— Тогда я не могу посоветовать вам молиться, — усмехнулся Чжэн.
Я подумал о своей парижской квартире на улице Гобеленов, о моих книгах, о рутинной работе и, конечно же, о прежних надеждах стать писателем. Все это вдруг показалось мне чем-то далеким, сценами из прошлой жизни. В каком-то смысле Лоти стал для меня кем-то вроде нищих мудрецов из сказок, которые отклоняют главного героя от пути и меняют его судьбу. Мне пришло в голову, что если бы Мальро оказался в этой комнате, он бы не стал задавать столько вопросов.
— Продолжим, — сказал я ему, положив телефон в сумку. — Каков следующий шаг?
— Установить точно, кто захватил Жерара. Узнать, где он. Наконец, вытащить его оттуда, упаковать рукопись в ваш чемодан и доставить ее на самолет на Гонконг.
— Когда вы так говорите, все кажется очень простым.
— Все предельно просто, но реальность состоит не только из слов, к сожалению. Пойдемте сделаем несколько визитов.
Мы вернулись в гараж. На этот раз Чжэн воспользовался не фургоном, а джипом «Чероки».
— Уже нет риска, что вас увидят, — пояснил он. — В этом районе все чисто.
Через некоторое время автомобиль припарковался на тротуаре, на каком-то проспекте, возле здания, которое было похоже на магазин тканей. Но мы не стали заходить внутрь, а пошли по боковой улице до второго ряда домов. Там была дверь с надписью на китайском. Не задавая лишних вопросов, я прошел вслед за Чжэном во внутренний дворик, плотно затянутый веревками, на которых висело сушившееся на солнце белье. Здесь пахло бедностью, то есть вареной цветной капустой и луком. Ребенок рисовал на земле круги и прыгал через них. Чжэн постучал в дверь в глубине двора.
— Вей? — услышал я.
— Это Чжэн, откройте, — произнес он, к моему удивлению, по-испански.
Дверь открылась, на пороге показался лысый мужчина. По его виду легко можно было понять, что он спал после обеда. На нем была пропитанная потом фланелевая рубашка.
— Что за хмырь? — спросил мужчина у Чжэна, указывая на меня.
— Друг из Колумбии.
— Ах, простите, — смутился тот. — Не знал, что вы говорите по-испански.
— Меня зовут Суарес Сальседо, — представился я, протягивая ему руку.
— Криспин Ореха, ваш покорный слуга — и Божий, — ответил он. — Проходите, я как раз собирался пить чай.
В комнате пахло грязными трусами, но она была достаточно просторной. На дальней стене висела афиша Манолете и фотография короля Хуана Карлоса, и то и другое прибито к стене обойными гвоздями. Криспину Орехе было лет сорок пять. Может, чуть старше, но не больше пятидесяти. Худой, крепкого телосложения. Он достал три чашки, положил в каждую несколько веточек чая и налил кипятка. Мы стали пить чай.
— Что вас привело в это… скромное жилище? — спросил хозяин.
— Нам нужна информация, — сказал Чжэн. — Информация о действиях твоих шефов.
Потом обратился ко мне по-французски:
— Это бывший миссионер-иезуит. Его лишили сана, потому что он обрюхатил медсестру во время миссии во Внутреннюю Монголию, а также из-за алкоголизма. Сейчас он проходит лечение и работает шофером у методистов. Он многим мне обязан.
Черт, подумал я, все здесь бывшие. Бывшие иезуиты, бывшие священники, бывшие алкоголики. В конечном счете каждый из нас раньше был кем-то другим. Я — бывший несостоявшийся писатель, а в результате этого приключения, возможно, стану бывшим журналистом.
— Опять ты, засранец, говоришь на своем тарабарском! — запротестовал Криспин. — Знаешь, что я тебе скажу? Я его скоро выучу и нарушу твою хитроумную тактику!
— Я должен задать тебе несколько вопросов, — отмахнулся Чжэн. — Помнишь отца Режи Жерара?
— Да, француза.
— Ты его в последнее время видел?
— Нет, а что? С ним что-нибудь случилось?
— Мы его ищем. Может быть, вы заметили что-нибудь необычное? — уточнил вопрос Чжэн. — Я имею в виду новых людей, новых водителей, машины, которые отъезжали без видимых причин, телефонные звонки, конфиденциальные разговоры и все такое прочее.
— Я ничего такого не заметил, — ответил Криспин. — Но ты ведь знаешь, я не особо наблюдательный. Единственное, что было нового, то есть о чем можно сказать, что это новое, — приехал брат одного из канадских пасторов. Молодой такой мужик, не похож на священника.
— А когда он приехал?
— Месяц назад, — ответил Ореха. — На прошлой неделе он был в Шанхае. Я отвозил его в аэропорт.
— Как его зовут?
— Тони. Фамилии я не знаю.
Ореха почесал лысину, пытаясь припомнить еще какие-нибудь детали. Потом встал, сходил за чайником и налил нам еще кипятку в чашки.
— Где он ночует?
— С ними, в домике для гостей.
— Понаблюдай за ним, пожалуйста, — сказал Чжэн повелительным тоном. — Про то, о чем мы говорили, — никому ни слова. Понятно?
— Да, да, ни слова.
Потом Ореха подошел к Чжэну и сказал ему тихо:
— Ты что-нибудь о моем деле знаешь?
— Я им занимаюсь.
Когда мы вышли из хибарки, пекинский воздух показался мне чистым, как океанский бриз.
— Какая проблема у Орехи?
— Я прошу прощения, но это конфиденциальная информация.
— Ну, не важно. — Я пожал плечами.
Мы вернулись в машину. Небо стало приобретать сиреневатый оттенок. Казалось невероятным, но мы пересекали улицу за улицей до тех пор, пока не наступила ночь. Вскоре Чжэн остановил машину и указал мне пальцем на какое-то здание. Здание, где все окна светились.
— Ваша гостиница, — пояснил он. — Идите пешком. Будет неудобно, если я довезу вас до дверей. Завтра возьмете такси и покажете водителю эту карточку. Жду вас в десять утра.
* * *
Прогуливаясь по окрестностям озера Бейхай, Гисберт Клаус дал некоторый отдых своей душе гуманитария, измученной открытиями, тайнами и загадками. Он любовался цветами лотоса, следил взглядом за лодками влюбленных, которые кружились по поверхности воды, рассматривал прибрежный тростник. На набережной было много зелени и традиционные дома с крышами из желтого фарфора; в центре же, на островке, куда можно было попасть по мраморному мостику, находился маленький холм. — Нефритовый холм с белой пагодой, в тибетском стиле, откуда открывался величественный вид на Пекин: башни императорского дворца, здания ЦК коммунистической партии, небоскребы и шпиль телебашни. Это красивое место располагало к размышлениям. Любуясь панорамой, Гисберт почувствовал странный жар в груди. Любовь. Он мало времени провел в Пекине, но уже любил этот город.
В парке дул свежий ветерок, шумели дубы и кедры. Гисберт лег на траву, чтобы поразмышлять, но через несколько минут заснул спокойным сном.
Ровно в шесть он явился на встречу с букинистом.
— Профессор, — поприветствовал его букинист. — Для меня большая честь принимать вас во второй раз. Ваше присутствие в этой скромной книжной лавке делает нам честь. Прошу в кабинет.
Кот одним прыжком оказался на руках у хозяина. Зверек знал: если дать тому уйти, его оставят за дверью. Хозяин снова пригласил Гисберта на чашечку чая.
— Надеюсь, вы остались довольны вашей вчерашней покупкой, — сказал букинист.
— Даже очень, — ответил Гисберт Клаус. — Я хотел еще раз поблагодарить вас. Всю ночь провел, рассматривая приобретения, наслаждаясь запахом бумаги и переплета. Книги — это очень красивые предметы.
— Я такого же мнения, поэтому и владею книжным магазином, — ответил тот, поглаживая кота. — Я вырос среди книг, потому что отец был профессором философии в университете. Это было очень давно. Японцы заняли Маньчжурию, а в Пекине все, включая моего отца, были за Гоминьдан.[3] Коммунистические восстания гремели далеко на юге. Наша страна велика, профессор.
— Вы помните то время? — спросил Гисберт.
— Мне шестьдесят восемь лет, но у меня хорошая память.
Хозяин поднял глаза. Он глядел в одну точку на потолке, но не видел ее. Он вспоминал.
— Я вступил в войска Гоминьдана, чтобы сражаться против японцев, когда Мао и Чан Кайши объединили свои силы. Потом война в Европе закончилась, Япония капитулировала. Именно тогда начался Великий поход. Никто и рисового зернышка не давал за Мао и его армию, составленную из крестьян-голодранцев, но я им симпатизировал. В первый раз у кого-то была государственная идея, которая совпадала с моей. Нужно было создать современную нацию. Я поехал в Хинан. Мне удалось пересечь линию фронта, я работал преподавателем на территории, освобожденной Красной Армией. Потом поверженный Чан Кайши покинул Пекин и бежал на Тайвань. Благородные бежали вместе с ним, а мы основали нашу республику. И дня не проходит, чтоб я не вспоминал гордость, которую испытал в тот год первого октября. Я вас утомил?
— Ни в коей мере, — сказал Гисберт. — Я знаю историю, но услышать о событиях от вас — честь для меня.
— Вы очень любезны. Как я уже говорил, моей мечтой были книги, и вот я открыл книжную лавку. Но тут начались трудности. Мы были очень бедны. Люди умирали от голода, я чувствовал себя ненужным. Тогда я закрыл магазин и пошел работать вольнонаемным в сельскохозяйственный кооператив. Позже, во время культурной революции, на меня донесли. Кто-то вспомнил, что я держал книжную лавку, и однажды ночью красные солдаты арестовали меня. Мне повезло, меня всего лишь задержали на несколько месяцев. После тюрьмы отравили в исправительную колонию, и там я провел семь лет — семь долгих лет без книг, профессор. Мое лекарство было простым: вспоминать прочитанное. Каждую ночь я перечитывал в уме какую-нибудь книгу, так я смог все выдержать. Наконец меня посчитали исправившимся и позволили вернуться в Пекин. В начале восьмидесятых мне удалось открыть этот книжный магазин. Я ограничивался тем, что продавал коммунистическую литературу и работы партийных авторов, но получал много книг от простых людей, тех, что сохранили их и хотели продать. Так я смог снова собрать библиотеку. Сейчас все изменилось. Власти контролируют списки книг, но стали более снисходительны. Каждое утро я дрожу от нетерпения, представляя, что мне принесли мои клиенты. Мне нравится наблюдать, как покупатель уходит, довольный покупкой; но еще больше мне нравится наблюдать, как какой-нибудь бедный человек приносит пакет, завернутый в газетные листы, разворачивает передо мной на прилавке и начинает рассказывать, что дедушка умер и оставил ему библиотеку, что они собираются продавать дом и что места для книг больше нет. Забавно, профессор, но у большинства людей, которые собирают библиотеки, наследники не интересуются книгами. Я нахожу это трагичным.
— Согласен, — сказал Гисберт. — Ну, со мной, во всяком случае, такого не случится, потому что у меня нет ни детей, ни племянников. Моими наследниками будут читатели библиотеки Гамбургского университета.
— Им очень повезло, — ответил букинист, вставая. — Простите, профессор, но я только что сообразил, что происходит нечто необычное: мы не представились друг другу. Мое имя — Чен Бяо.
Он протянул руку.
— Гисберт Клаус.
После этого букинист снова сел на свое место.
— Вчера вечером я говорил по телефону с моим коллегой из Шанхая, — продолжил он. — Возможно, на будущей неделе тот получит еще одну книгу Ван Мина. Я знаю обо всем, что есть интересного в книжных магазинах Пекина, и могу вас уверить — только чудом вы здесь можете найти что-нибудь новое для себя.
Гисберт поблагодарил хозяина за хлопоты и стал наблюдать за котом. Он потягивался, глаза были закрыты.
— То, что вы вчера мне поведали, — отозвался профессор, — пробудило во мне любопытство. История Боксеров очень увлекательная. Я спрашивал себя, не осталось ли документов, относящихся к ней, — книг, написанных людьми, которые сами пережили эти события?
Чен Бяо снова поднял глаза к потолку, потом встал, поискал на книжных полках и вернулся с несколькими книгами в руках.
— Видите ли, — сказал он, — не уверен, известно ли вам, что эти события были в некотором роде «закрыты» для историков. Молодежь учит в школе, что в 1900 году Китай был оккупирован объединенными международными войсками, но им не объясняют, почему. Им говорят, что единственным мотивом иностранцев было в очередной раз завладеть богатствами страны, что отчасти верно. Но это не вся правда. Если вы спросите у студента о Боксерах, вполне возможно, он не поймет, о чем вы говорите. Тайные общества всегда были для власти головной болью, поэтому официально проще говорить, что это была немотивированная агрессия. Так что книг на эту тему не много. Но вот посмотрите, у меня есть эти.
Чен Бяо разложил на столе три старых тома. Два были по-китайски и один по-французски. «Хроника разрушения Пекина» Сюаня Цзиня, «Пепел» Ли Шушэна и «На острие смерти» Доминика Аристида.
— Из этих книг, досточтимый профессор, — сказал Чен Бяо, — я могу продать вам только французскую. Другие лишь на время одолжить.
— Премного вам благодарен, — ответил Гисберт. — Я с большим удовольствием прочту их и верну вам.
Гисберт вышел из книжного магазина с тремя книгами в дорожной сумке. Чтобы не терять время, он тут же взял такси и сразу вернулся в отель. Как и в первый день, за ним следовал тот же узкоглазый наблюдатель.
Когда профессор вернулся в отель, девушка-администратор вручила ему письмо от Юты, пришедшее по электронной почте, и сверток с книгой. Он развернул, заинтригованный, и прочел: «Блюз Куско», Нельсон Чоучэнь Оталора. Это была книга симпатичного перуанского профессора! Гисберт с интересом прочитал посвящение и решил, что должен позвонить автору в гостиницу, чтобы поблагодарить, и в тот же момент увидел Нельсона, входящего в вестибюль.
— Профессор Чоучэнь! — позвал Клаус. Перуанец издалека узнал его и одарил широкой улыбкой.
— Я только что получает вашу книгу, которая делает мне честь, — сказал Гисберт. — Я очень удовлетворен за подарок.
— Напротив, — ответил Нельсон, — для меня честь, что в вашей библиотеке будет экземпляр моей книги, этим можно гордиться. Я должен вас благодарить.
— Вы переехали сюда, в этот отель? — спросил Гисберт.
— Нет, профессор, хотя очень хотел бы этого! На самом деле у меня здесь назначена встреча — ужин с друзьями.
— В таком случае я не будет вашу больше беспокоить, — заключил Гисберт. — Завтра в утро, если позволите, я позвоню вас в гостиницу, и мы сможем встретиться.
— С большим удовольствием, профессор. Жду вашего звонка.
Гисберт поднялся в свой номер. Заказал сандвич, три холодных пива, после чего, сняв ботинки и устроившись поудобнее, начал листать книгу Аристида.
Это действительно была документальная повесть. В предисловии было сказано, что Аристид молодым бельгийским священником пережил нападение Боксеров, укрывшись во французской миссии. Книга была посвящена Леопольду II Бельгийскому, «великому просветителю народов».
Но описания китайцев, которые приводил Аристид, казались подозрительными. То там, то тут он обвинял их в том, что все поголовно «бродяги, негодяи и игроки, способные поставить на карту свою собственную шкуру, чтобы только иметь возможность и дальше бросать кости». Он также называл их «неблагодарными», потому что, как он писал, вместо того чтобы благословлять Запад и Святую католическую церковь за просветительскую деятельность, «они наблюдают за нами с перекошенным выражением лица, не понимая, что, если мы решили остаться здесь, среди их диких обычаев, их плоских душонок и отвратительной еды, то только ради их же блага». Эти рассуждения вызвали у Гисберта Клауса огромную неприязнь — он подумал, что вся книга будет набором клеветы и оскорблений. Тем не менее продолжил чтение. Описания атаки на миссию показались ему несколько более реалистичными, хотя тон оставался прежним: «Их глаза, горящие, как дьявольские огни в ночи, переполнены смертью и ненавистью. Они пожирают трупы своих соплеменников; мне говорили, что во время одной из атак в южном конце квартала буйные убийцы, наглотавшиеся наркотиков, закусали женщину до смерти, испуская при этом ужасающие крики и вопли, — таким вот образом они взывают к своим богам из преисподней». Невозможно было установить, сколько правды в этом потрясающем тексте; Клаус, вооружившись методологией ученого-филолога, углубился в книгу, делая кое-какие краткие записи и надеясь найти по крайней мере один абзац, который помог бы ему в его исследованиях.
Завершив прогулку по местам, где некогда жила его семья, около озера Сихуань, Нельсон отправился в «Кемпински», на встречу с доктором Серафином Смитом и его кубинской приятельницей, прекрасной Омайрой Тинахо. Он чувствовал необыкновенную грусть, как бы тоску по жизни, которая была предназначена для него и которую он вдруг потерял. Эта жизнь, подумал он, осталась за дверью дома № 7 по улице Чжинлу бацзе, Хоухай. Мысль понравилась ему, Нельсон вытащил блокнот и написал черновой вариант стихотворения:
Жизнь, которую я потерял, находится за этой дверью, за дверью из старого дерева, из которой торчат щепки. Чжинлу бацзе, 7, Хоухай. Я держу руку на ручке двери, с наружной стороны. Но я не открываю ее. Иным способом я захожу внутрь, в глубину этого дома.Когда он входил в «Кемпински», все еще во власти своего поэтического настроения, кто-то окликнул его:
— Профессор Чоучэнь!
Он издалека узнал немца-филолога, но вместо того чтобы обрадоваться, почувствовал себя так, будто кто-то посторонний вторгся в его мечты. Несмотря на это, он сделал над собой усилие и одарил того широкой улыбкой.
— Я только что получает вашу книгу, которая делает мне честь, — сказал Гисберт. — Я очень удовлетворен за подарок.
Нельсон подумал: «Этот косноязычный немец черт-те как говорит по-испански».
Напротив, — ответил Нельсон, — для меня честь, что в вашей библиотеке будет экземпляр моей книги, этим можно гордиться. Я должен вас благодарить.
Вы переехали сюда, в этот отель? — спросил Гисберт.
Нет, профессор, хотя очень хотел бы этого! На самом деле у меня здесь назначена встреча — ужин с друзьями.
В таком случае не будет вашу больше беспокоить, — сказал Гисберт. — Завтра в утро, если позволите, я позвоню вас в гостиницу, и мы сможем встретиться.
— С большим удовольствием, профессор. Жду вашего звонка.
Нельсон увидел, как он удаляется к лифтам и, испытывая чувство вины за то, что не пригласил его присоединиться, пошел в центральный вестибюль разыскивать своих знакомых. Их там не было, он посмотрел на часы и удостоверился, что еще рано. Без десяти девять. У него было время, чтобы внести правку в стихотворение, поэтому он открыл блокнот, но, перечитав, понял, что ему нравится. Тогда, во власти небывалого творческого подъема, он записал несколько строк для своего романа: «Нам нравился дом 7 на Чжинлу бацзе не только потому, что он был большим и просторным, но и потому, что рядом озеро Сихуань». Такой тон повествования ему тоже понравился. Нужно было продолжать.
— Милейший и драгоценнейший поэт!
Голос Серафина Смита нарушил ход его мыслей и пробудил его от одного из самых глубоких поэтических озарений. Нельсон поднял голову и увидел изящного бразильца в джинсах, тенниске «Рибок» и рубашке с коротким рукавом, из-под которой некрасиво выпячивался живот. Типичный наряд государственного служащего для выходного дня. Омайра Тинахо, напротив, была в том же белом костюме, что и днем.
— Мы, кажется, помешали твоему вдохновению, да? — спросила она. — Ну, тогда ничего другого не остается, как пойти с нами поужинать.
Все трое перешли на другую сторону улицы и вошли в огромный ресторан.
— Здесь лучше заказывать много блюд, — сказал Серафин Смит. — Предлагаю, чтобы каждый выбрал по два, и каждый попробует все.
Предложение было принято. Нельсон заказал пиво. Смит и Омайра предпочли холодную воду. Было жарко.
— Как проходит конгресс?
— Успешно, очень успешно, — ответил Рубенс. — Сегодня один китайский коллега рассказал нам об интереснейшем случае, не так ли, доктор? Представляете, молодой человек с ожогами третьей степени в прямой кишке — от кипятка. Редкостный случай. Его лечат традиционными средствами, он уже почти здоров. Это чудо.
— Кипятком? — переспросил Нельсон. — Как это могло случиться?
— Мы не знаем, — ответила доктор Тинахо. — Причины болезней — профессиональная тайна. Но должна вам признаться, друг мой, что я задавалась тем же вопросом, особенно потому, что ожоги очень глубокие.
— Вы тоже принадлежите к спиритуалистской школе? — обратился Нельсон к доктору Тинахо.
— А что это такое?
Это течение в проктологии, очень модное сейчас в Соединенных Штатах, — вмешался Серафим. — Они учитывают не только научные данные, но и другие факторы, такие, как вкус, удовольствие, состояние души.
— Ах, как интересно, — сказала Тинахо. — Ну, мы на Кубе все это всегда принимали в расчет. Но только не говорите мне, что мы весь вечер проведем вот так, разговаривая о работе.
— Вы правы, — признал Нельсон. — Это просто чтобы, так сказать, сломать лед.
— Эй, парень, — игриво произнесла Омайра, — на Кубе лед ломают с помощью ложки.
Тинахо рассказала, что она — врач в центральной больнице Гаваны, замужем за педиатром, у нее два уже взрослых сына, двадцати двух и двадцати девяти лет. Один, Гастон, учится на адвоката. Другой, Сесар, — ветеринар, работает на ферме в Сантьяго. Серафин Смит стал говорить о своих трех дочерях, которые уже ходили в колледж, — их звали Дженнифер, Ванесса и Соня Патрисия. Нельсон признался, что не хочет детей, потому что отцовство несовместимо с творчеством, по крайней мере как он его понимает.
— А твоя жена что на это говорит? — спросила Омайра.
— Ну, она меня поддерживает, — ответил Нельсон. — С тех пор как мы поженились, мы во всем согласны. Жизнь писателя нелегка. Он должен всеми силами сосредоточиться на творчестве, иначе не добьется успеха.
— Ну, желаю тебе получить Нобелевскую премию, парень, — пошутила Омайра, — потому что это огромная жертва!
Нельсон уловил в этой фразе скрытую насмешку. Тогда он подозвал официанта и заказал бутылку вина.
— Мы переходим на трансцендентальные темы, — сказал он. — Нам не хватает чего-то более душевного, позвольте заметить.
Официант разлил им по бокалам китайское вино, и все трое, попробовав, скорчили гримасу. Оно было слишком крепким. Нельсон внимательно изучил бутылку и увидел, что напиток, именуемый действительно вином, представлял собой рисовый ликер.
— Все равно, это полезно для пищеварения и вообще неплохо. — Серафим Смит поднял свой бокал. — Позвольте тост: за свободу народов, за освобождение эксплуатируемых классов, за то, чтобы над преступниками свершилось правосудие, чтобы отношения между Севером и Югом были более справедливыми, и прежде всего чтобы конечный отрезок ухабистой дороги пищеварения перестал быть для человека ловушкой; в общем, за благородную науку проктологию, ура!
— Ура! — сказала Омайра. — Послушай, дорогой, я тебя отвезу в Гавану, чтобы ты прочел нам лекцию.
— Ура! — подхватил Нельсон и снова разлил вино; потом поднял свой бокал, откашлялся и сказал: — За союз народов, которые говорят по-испански и по-португальски, за глобализацию, которая бы учитывала достоинство индивида, за язык Дон Кихота, за болеро, за кумбию, за самбу, за креольские вальсы, за американских негров, за стихи Гильена, Неруды и Сесара Вальехо, за прозу Лесамы и Рульфо, за «Подземелья свободы» Жоржа Амаду и за прекрасных женщин нашей земли, особенно за вас, доктор Тинахо, ура!
Они опустошили бокалы, но тут же наполнили их снова. Очередь была за доктором Тинахо.
— Вы ставите меня в неловкое положение, кабальерос, — произнесла Омайра. — Ну что, теперь слово за мной? Тогда я вот что скажу: за андеко-карибское братство, за фольклор и народное искусство, за интернационализм и солидарность, за то, чтоб наша культура нашла отклик здесь, на Востоке, чтобы три «южака», как называют нас в Испании, могли счастливо напиться здесь, в Пекине, за телесериалы, за мамбу и ча-ча-ча, за ром, водку, кашасу и писко — за все то, что нас объединяет, а таких вещей много, друзья мои, — ура!
Они обнялись все втроем поверх стола. У Рубенса Серафина Смита глаза наполнились слезами. Нельсон еле сдерживался. Тут принесли еще бутылку рисового ликера, и троица продолжила с ностальгией и нежностью перечислять всего, что так далеко, в этой злополучной стране, заставляло их чувствовать свое братство.
— Мне из вашей национальной еды больше всего нравится ропа вьеха, — сказал Нельсон Омайре, — хотя морос и кристианос — тоже пальчики оближешь.
— Это все хорошо, — перебил Рубенс, — но не забывайте, пожалуйста, о мохито, короле карибских коктейлей.
— Ах, кабальерос, что мне больше всего нравится в мохито — так это жевать листик мяты. А дайкири? У меня прямо слюнки текут. Ну да что вы мне говорите про кубинскую кухню, доктор Серафин! Ваша фейжоада — изысканнейшее блюдо. А вы, Нельсон, с вашими антикучос и рагу из курицы под острым соусом, — вы всем фору дадите!
В полночь ресторан закрыли, и троица вышла на улицу. Жара спала, дул свежий ветерок.
— Я здесь знаю одно местечко на углу, где играют латиноамериканскую музыку, — сказала Омайра. — Пойдем те, сеньоры, я плачу за первый танец.
Заведение называлось «Сальса Кабана». Нельсон очень удивился, увидев, что там живой оркестр — колумбийский оркестр! В баре было полно народу. Молодой бармен англосаксонской наружности разливал коктейли, жонглируя бутылками. Они сели рядом с танцплощадкой и заказали танец кубалибре.
— Ах, компаньерос, у меня ноги сами просятся в пляс!
Рубенс пригласил Омайру, а Нельсон остался за столиком, разглядывая собравшуюся публику. Молодые китаянки танцевали очень раскованно. Здесь были служащие в галстуках и чрезвычайно элегантные дамы. Вдруг он заметил, что с него не сводит глаз прекраснейшая блондинка. На ней была агрессивная мини-юбка, декольте походило на дачный балкон. Через минуту девушка улыбнулась ему и сделала жест, который, по крайней мере в Лиме, означал: «Иди сюда, красавчик, поближе». Он почувствовал себя супергероем. Значит, он еще может понравиться привлекательной девушке. Едва он собрался подняться, его спутники вернулись к столу.
— Музыка хороша, поэт, — сказал ему Рубенс, — но я вижу, что на вас положили глаз для другого танца.
Доктор Тинахо обернулась, чтобы посмотреть на девушку, и сказала Нельсону:
— Не хочу быть занудой, парень, но эта крошка тут работает.
— Ты хочешь сказать, она…
— Именно, дорогуша. Труженица любовного фронта.
Нельсон пригласил доктора Тинахо на танец и, под властью опьянения, начал придвигаться к ней ближе. Она была очень красива. Может, удастся ее соблазнить? Танцуя, он чувствовал ее талию, прикосновения ее ног. Во время одного из поворотов он заглянул Омайре в вырез и увидел соблазнительные округлости. Он снова сдержался. Потом, в разгар танца, он почувствовал, что Омайра прикасается к нему бедрами. Она что, тоже хочет его завести? Когда музыка закончилась, он хотел удержать ее на площадке, но дама вырвалась, чтобы вернуться к столику.
— Пойдем сядем, Нельсон. Не знаю, что с тобой, а у меня уже из-за тебя ноги отваливаются, — засмеялась она.
В два часа ночи доктор Рубенс Серафин Смит задремал, опустив голову на столик. Время от времени он поднимал указательный палец, будто собирался что-то сказать, но слова у него не получались. Нельсон понял, что настал нужный момент, поправил волосы, подвинул свой стул к стулу Омайры и тихо произнес:
— Едем ко мне в гостиницу, выпьем шампанского, милый доктор. Там в номерах чудесное обслуживание.
Она расхохоталась:
— С ума сошел! Я ведь сказала, что я замужняя женщина.
— Здесь мы от всего далеко, Омайра. Никто не узнает.
— Я, малыш, я буду знать.
— Это будет наш секрет. Я хочу узнать, как выглядит твое тело, когда ты дрожишь от удовольствия.
Омайра снова засмеялась, на этот раз несколько нервно.
— Ах, малыш, ты и вправду поэт, — сказала она. — Но тебе придется ограничиться воображением. Извини.
— Я могу дать волю воображению, — ответил Нельсон, — но предпочел бы реальность.
Он погладил ее по руке, приблизил к ней свои губы и лицо. Омайра мягко отстранила его.
— Нет, милый, большое спасибо за предложение. Должна признаться, я почувствовала себя моложе лет на двадцать.
— Ты очень красивая женщина, Омайра. Ну и что, что ты замужем? — настаивал Нельсон. — Если дело в этом, так ведь и я женат.
— Но я никогда не изменяю мужу.
Нельсон, борясь с собой, скомандовал отступление и про себя сказал: «Первый раунд проигран, но будем бороться дальше». Потом на себе оттащил Серафина Смита в отель, к лифтам. Прощаясь с доктором Тинахо, предложил проводить ее до номера.
— По правде говоря, нет, малыш, — мягко отвергла она его. — Не порть такой приятный вечер.
— Я только хотел, чтобы он завершился еще лучше, ничего больше.
— Он прекрасно завершился. Правда. Спокойной ночи, — сказала Омайра. И двери лифта закрылись.
Нельсон, пьяный, вернулся в бар, шатаясь, и уселся у стойки бара. «Another ccu, cubalibre for me», — услышал он свой голос.
Резиденция конгрегации методистов находилась в огромном мрачном доме на севере города, недалеко от третьего кольца. Ничто во внешнем облике здания на это не указывало, не было никакой вывески. За стеной скрывался внутренний дворик, из которого можно было попасть внутрь.
— На втором этаже — клиника и капелла, — сказал Чжэн. — На третьем — администрация и гимназия. Квартиры начинаются с четвертого. Если Жерар у них, возможно, его спрятали там. Если его держат в другом месте, им придется предпринимать какие-то дополнительные действия. Мы договорились, Криспин предупредит меня, если Тони, посетитель, выйдет из здания.
Мы наблюдали за входом с противоположной стороны проспекта, сидя за столиком монгольского ресторана. Чжэн считал, что нам повезло — прекрасное место для слежки, и еда превосходная. Я сначала с сомнением оглядел котелок с кипящей водой посреди стола, но Чжэн научил меня пользоваться им. Нужно было опускать туда рыбные шарики и зелень, а потом макать в фисташковый соус. Он сказал, что наилучшее сопровождение для этого изысканного блюда, не считая зеленого чая, вкуснейшее охлажденное пиво. Мы обедали и разговаривали, как вдруг зазвонил мобильный Чжэна.
— Вей? — ответил он в трубку. — А, да. Спасибо.
Отключился и стал подниматься из-за стола.
— Идемте, — позвал он меня, оставляя на столе не сколько банкнот.
Я напоследок от души глотнул пива и последовал за ним к джипу. Как раз в этот момент ворота здания открылись, показались три автомобиля марки «ауди» черного цвета. Чжэн поехал за ними на некотором расстоянии.
— Наука слежки — сложная вещь, — проговорил он. — Внимательно наблюдайте. Никогда не попадайтесь в их зеркала заднего вида. Если это случится, вы немедленно должны свернуть с дороги. Тогда вы не привлечете их внимания. Пропускайте между собой и ими по меньшей мере три машины. Если по каким-то причинам вы вынуждены ехать близко, увеличьте громкость радио и подпевайте либо болтайте по телефону. Основное — это психология.
— Да, понимаю, — сказал я восхищенно.
— Если вас засекут и начнут делать резкие движения, продолжайте ехать по прямой, ищите место парковки, оставьте там машину и возьмите такси, чтобы продолжать преследование. В девяноста процентах случаев объект решит, что тревога ложная, и продолжит свой путь.
— А как лучше привлечь к делу водителя такси, чтобы не вызывать подозрений? — спросил я.
— Очень просто, — ответил Чжэн. — Вы садитесь и говорите: «Поезжайте за этой машиной». Таксистам нравится думать, что они делают что-то необычное.
Три черных «ауди» поехали по кольцу, потом свернули на шоссе, ведущее к аэропорту. Это была магистраль, обсаженная по сторонам соснами. Затем «ауди» свернули на дорогу со слабым движением.
— Теперь за ними труднее следить, — заметил Чжэн. — Нас могут заметить. Я уверен, они направляются за город.
Мы несколько раз обгоняли их окольными путями, на протяжении почти всего пути постоянно теряя из виду. Наконец издали увидели, как «ауди» въезжают в деревню. Чжэн остановил свой джип чуть поодаль, возле крестьянского домика.
— Придется пройтись пешком, — сказал он. — Если нам повезет, охраны не будет.
Достал из чемодана и подал мне зеленую куртку и шапочку с козырьком.
— С этого момента, — серьезно проговорил он, — мы с вами лесные инспектора, вы — специалист по фауне зон с повышенной влажностью, ясно? Лучше всего подойти к дому с северной стороны.
— Хорошо, — ответил я послушно. — Хотя, полагаю, это самая длинная дорога?
— В Китае все дома обращены торцом к северу, — сказал он. — Вы слышали о фэншуй?
— Немного.
— Это сложная система, сейчас не время ее излагать. Достаточно вам знать, что на севере всегда расположена задняя дверь. Через нее мы и войдем.
Поднимаясь в гору, я выбился из сил и тяжело дышал. Преодолев два поросших кустарником холма по довольно крутой тропинке, мы наконец-то добрались до того, что, видимо, было стеной усадьбы. За ней открылся довольно ухоженный сад, озерцо с цветами лотоса и терраса дома. Никого не было видно.
— Подождите меня здесь, — сказал Чжэн, и я почувствовал малодушное облегчение, поскольку ни за что в жизни не стал бы проникать на территорию чужой частной собственности, карабкаясь по крышам.
Я остался сидеть на земле, прислонившись спиной к стене, не теряя бдительности, тяжело дыша; пот лил с меня ручьями, а желудок сжимался, когда я думал о том, что будет, если нас обнаружат. Было жарко. На вершине холма стоял столб электропередачи, от которого вниз тянулись два толстых кабеля. Не знаю почему, но я снова подумал о Коринн, моей бывшей жене: что бы она сказала, узнав, что я сижу посреди поля в пригороде Пекина, переодетый специалистом по фауне? Правда состоит в том, что человек живет от одних внезапных событий к другим, а рутина, которую я так критиковал, будучи в Париже, — эффективное средство нейтрализовать потрясения. Коринн терпеть не могла, когда я возвращался с радиостанции и говорил ей, что назавтра первым же рейсом должен лететь в командировку. Ей моя любовь к приключениям казалась признаком детскости. «Комплекс Питера Пэна» — так она это называла. И добавляла:
— Пока ты живешь внутри куколки бабочки, играя в малазийского тигра, реальная жизнь попадает в почтовый ящик. Именно я отвечаю на письма из банка, из агентства по медицинскому страхованию, я слежу за тем, когда истекает срок подачи налоговой декларации.
— Я не виноват, что писать на французском так трудно, — отвечал я. — Если бы мы жили в Боготе, всем этим занимался бы я.
Посмотрев на часы, я понял, что Чжэн ушел уже более десяти минут назад. Удалось ли ему пробраться в дом незамеченным? Я поднялся на цыпочки, чтобы поглядеть поверх стены, и в ужасе увидел какую-то компанию, которая пила кофе на террасе. Все были светловолосыми, одеты в темное. Если б у них была собака, они бы меня обнаружили. Потом я услышал шум из-за утла стены, и появился Чжэн.
— Вон тот — Тони. — Он показал на одного из сидящих. — Возможно, он действительно племянник кого-либо из священников, но у него в чемодане я нашел набор отмычек, электрический кабель, перчатки, мини-фотоаппарат и инфракрасный бинокль. Вам это не кажется странным?
— Да, действительно, весьма странно, — согласился я. — А как вам удалось проникнуть в его комнату?
— Я ходил босиком, чтобы не шуметь. Вы слышали о ниндзя?
— Да, только не говорите, что вы…
— Нет, конечно, нет, — возразил он. — Это просто пример. Я могу вам сообщить много новостей. Во-первых, Жерара у них нет, потому что мне удалось выяснить, что они ищут рукопись.
— Серьезно?
— Да, и кроме того, у этого мнимого племянника, Тони, в сумке сборник стихотворений Ван Мина. А внутри, на странице факса с данными из аэропорта — они касаются, я полагаю, вашего рейса в Пекин, — у него от руки написан ряд имен: Амброз, Барк, Жерар, Ословски, Сунь Чэн и Малле. Перед ними стоит вопросительный знак, а дальше заглавие знаменитого сочинения, «Далекая прозрачность воздуха». Вы успеваете следить за моей мыслью?
— Думаю, да, — кивнул я. — Это имена тех людей, у которых, как он думает, может быть рукопись. Отсюда вывод о том, что они ее ищут.
— Отлично, — произнес Чжэн. — Вижу, вы быстро учитесь. Теперь нужно быть начеку, наверняка они начнут следить за нами.
— Как изящно, — ответил я, — мы за ними, а они за нами.
— Да-да, именно, — сказал Чжэн. — По правде говоря, если бы это дело не было столь опасным, оно было бы чрезвычайно забавным.
Сказав это, он пошел прочь от стены.
— Мы уже уходим? — спросил я.
— Ну, раз они ищут рукопись, не думаю, что они нам сейчас могут чем-то быть полезны.
— Это точно. Пойдемте.
Добравшись до джипа, Чжэн позвонил по телефону и заговорил по-китайски. Я принялся разглядывать пейзаж, который был немного скучным: канал, бесконечные саженцы персиков, в отдалении, в дымке, несколько деревьев. Мы молча двинулись в обратный путь.
— Дальше будет интереснее, — сказал мне Чжэн. — Вот увидите.
— Что именно?
— Один наш сотрудник нашел того официанта из кафе, который опознал рукопись, — ответил он. — Мне только что дали его адрес.
Дом находился на юго-востоке Пекина, в традиционном квартале, который сносили, чтобы расширить улицу, превратив в большой проспект.
Подойдя к входу, Чжэн дважды постучал в дверь и сказал мне:
— Лучше быть настороже, здесь всякое может случиться.
Я напряг мускулы. Потом мы услышали шаги и звук ключа. Дверь открыла очень старая женщина. Чжэн поздоровался с ней и заговорил по-китайски. Старуха отрицательно качала головой, но Чжэн настаивал, говоря так властно, что, несмотря на то, что я не понимал его слов, у меня кровь стыла в жилах. Через минуту, хотя как будто ничего необычного не произошло, я увидел, как Чжэн вдруг ощетинился, будто кошка, и прыгнул на стену. Женщина закричала, и только в этот момент я заметил человеческую фигуру, бегущую по крыше. Потом на меня посыпался град камней, который погнал меня в дом, причем женщина захлопнула дверь, едва не обрубив мне пальцы. Через минуту появился Чжэн, ведя за руку молодого человека. У того было красное пятно на скуле и разбитый нос.
— Едемте! — крикнул он мне. — Садитесь за руль!
В это мгновение в наши головы снова полетели камни, и я бросился бежать к шоссе. Добравшись до машины, я возблагодарил небеса. Колени дрожали. Чжэн залез следом, подталкивая нашего заложника, которого он уложил на пол так, что тот не мог пошевелиться, лицом вниз.
— Нам повезло, — сказал я Чжэну. — Если бы мы были в моей стране, в нас полетели бы не камни, а пули.
— Я никогда не был в вашей стране, — ответил он. — Видимо, поэтому не понимаю вас.
— Я там родился и тоже этого не понимаю, — возразил я. — Как, черт возьми, заводится эта машина?
Три куска черепицы ударили в крышу джипа.
— Ключом, — сказал он мне. — Если вам удастся унять дрожь в руках, вы сможете вставить его в гнездо зажигания. Скорее.
Мотор зарычал, потом я нажал ногой на педаль газа, и мы двинулись в путь. Позади, на асфальте, остались следы от шин и толстый слой песка.
В последней главе книги Аристида, бельгийского иезуита, Гисберт нашел то, что искал: «Теперь, когда демоны повержены, когда крест установлен на этой дикой земле, мы можем попытаться понять, отчего же возникла эта опустошающая ярость. О, читатель, ты, вынужденный переживать позорные события, которым поневоле стал свидетелем автор этой хроники, приготовь теперь свою душу к тому, что последует дальше, ибо, кажется, кроме их языческих идолов, кроме ошибочных, извращенных верований, здесь появляется еще некая книга — что я говорю! — всего лишь рукопись: немного зеленоватой краски на бумаге, — ставшая причиной чудовищных событий, и ужас охватывает при одной мысли о том, что человек когда-либо может найти этот документ; эта рукопись, уверяю вас, по словам тех, кто умеет разбирать их несуразный язык, побуждала Боксеров уничтожать нас. Не знаю, как указанный текст попал в руки к одному высокопоставленному французскому чиновнику, и в мою задачу не входит это выяснять, как не входит в нее и задаваться вопросом, почему этот высокопоставленный чиновник соблаговолил взять на себя охрану рукописи. Я знаю только, что рукопись положили в сейф во французской миссии в ожидании, пока решится ее судьба. Тот чиновник уже уехал, скоро уеду и я. Надеюсь лишь, что эти полные ненависти письмена, в которых было зарифмовано наше уничтожение, не будут сохранены. Пусть пожрет их пламя забвения!»
На исходе бессонной ночи Гисберт, дрожа от волнения, наконец-то держал в руках свою награду: да, Лоти получил рукопись «Далекой прозрачности воздуха», именно это и предполагал профессор, а потом отдал ее в миссию, возможно, с намерением забрать, когда волнение уляжется и жизнь потечет по прежнему руслу. Иезуит Аристид, как следовало из его собственной хроники, знал о существовании рукописи, но не держал ее в руках, и Гисберт предположил, что рукопись не была уничтожена. Сколько человек могли знать, что имел в виду Аристид, говоря о «рукописи»? Немногие. Доказательством служило то, что сам он, профессор синологии, за сорок лет напряженной научной работы никогда о ней не слышал. Одержимый исследовательским зудом, Гисберт бросился к телефону и разбудил свою секретаршу в Гамбурге. Он попросил ее, чтобы она поискала в банке данных библиотеки, которая поддерживала связь с большинством университетских библиотек Европы и Соединенных Штатов, все, что имеет отношение к книге «На острие смерти» Доминика Аристида, вышедшей в 1908 г., а также к «Далекой прозрачности воздуха» Ван Мина. Сделав это, он спустился в ресторан отеля и съел тарелку отварных овощей с мясом, в ожидании, пока секретарша, перезвонит ему с результатами.
Через час он получил ответ.
— Я не нашла абсолютно ничего, профессор, — сказала она. — Что касается бельгийского автора, ни об издательстве, ни о нем самом нет ни малейшего упоминания. Ничего нет и о книге Ван Мина.
Раздумывая над ее словами, Гисберт вернулся в холл гостиницы, спросил адрес французского посольства и вызвал такси. Было очень рано. Пока машина продвигалась к центру города, он подумал, что впервые его работа напоминает детективное расследование.
Приехав в посольство, расположенное в новом дипломатическом квартале, Клаус Гисберт предъявил свои документы и попросил аудиенции руководителя отдела культурных связей. Через минуту после того как его документы просмотрели, небольшой человек с нервическими манерами, худой, седовласый, пригласил его пройти в кабинет.
— Я хотел бы получить разрешение поработать в архивах миссии, относящихся к 1901 году, мсье, — сказал Гисберт на превосходном французском. — Я провожу исследование о восстании Боксеров и думаю, что в вашей библиотеке должна быть ценная информация.
Дипломат посмотрел на него с интересом, молча. Потом кашлянул и сказал:
— Вы работаете над книгой или речь идет о чисто научном, университетском исследовании?
— В настоящий момент это только исследование, — ответил Гисберт, — но не буду скрывать, что, возможно, напишу книгу. Как вы, вероятно, знаете, это исторический период, о котором существует масса догадок и предположений, но мало реальной информации.
— Представили ли вы заранее официальное ходатайство? — спросил чиновник.
— Нет, мсье, пока еще нет, — ответил Гисберт. — Но если это необходимо, я могу обратиться в немецкое посольство, чтобы через него оформить ходатайство. Я прибыл в Пекин всего на несколько дней и не предвидел такого оборота, но ход исследований ускорился, и мне крайне необходимо иметь возможность ознакомиться с этим архивом.
— Единственное, что я могу для вас сделать, — сказал человечек, вооружившись бумагой и карандашом, — записать ваши данные и передать вашу просьбу в вышестоящие инстанции. Потребуется письмо от руководства вашего отделения в университете.
— Руководитель этого отделения я сам, мсье, — поспешил ответить Гисберт. — Могу предоставить вам этот документ тотчас же.
— Это невозможно, профессор. Он должен быть отпечатан на официальном бланке, с грифом и печатью университета.
— Ах, — воскликнул Гисберт. — Я сегодня же могу его послать по факсу, если вы дадите мне номер.
Дипломат протянул ему визитку с данными. Потом добавил:
— Нужно будет также официальное письмо от немецкого посольства в Пекине, хотя лучше, если просьба будет исходить непосредственно от министерства иностранных дел. Вы также должны будете изложить письменно цель вашего исследования, с описанием того, что собираетесь искать и, если получится, обнаружить в наших архивах. А пока что я сделаю ксерокопию ваших документов и запишу ваш адрес в Пекине.
Гисберт оставил ему документы и вышел из посольства, несколько расстроенный тем, что на пути возникла череда препятствий. Но впрочем, логично, что архивы посольства не являлись общедоступными. Кроме того, он был немец и, несмотря на Маастрихтский договор и Европейский союз, между его родиной и Францией все еще существовали некоторые недомолвки.
В немецком посольстве, которое находилось совсем рядом с французским, его принял сам посол.
— Исследование о Боксерах? — спросил тот. — Черт, ну и тема… Первое, что я должен вам сказать, — к сожалению, наши архивы, относящиеся к этой эпохе, не сохранились. Весь соответствующий материал был переправлен в министерство иностранных дел в Берлин и, к сожалению, уничтожен во время войны. Бомбардировки. Пожары. Значительная часть нашей истории утеряна навсегда. Представьте себе, вся кропотливая административная работа обратилась в пепел.
Служащая-китаянка в фартуке поставила на стол поднос — кофейник, чашечки и печенье — и вышла.
— Я пришел просить у вас, ваше превосходительство, — продолжал Гисберт, — чтобы вы помогли мне получить разрешение на работу в архиве посольства Франции. Необходимо ходатайство, подписанное лично вами. Это просьба французского атташе по культуре.
— Ох уж эти французы. — Посол пожал плечами. — Ни один народ в мире не способен превзойти их в том, что касается бюрократии. Но будьте покойны, досточтимый профессор. Объясните мне хорошенько, что это за история, которую вы исследуете, и я составлю письмо.
Гисберт изложил цель своего исследования, опустив множество подробностей, которые счел «деликатными». Он не упомянул, к примеру, о рукописи Мина, ограничившись заявлением, что в архивах миссии может находиться бесконечное количество документов, полезных для понимания происшедшего. Отсюда его интерес.
Выслушав это, дипломат вызвал свою секретаршу и попросил ее сделать некоторые записи. Затем простился с профессором, уверив его, что через пару часов письмо будет готово.
— Моя внучка учится в вашем университете, профессор, — улыбнулся посол, уже стоя в дверях. — Должен сказать, что я о нем самого высокого мнения. Это один из центров науки, за которые мы, немцы, можем испытывать подлинную гордость.
— Благодарю вас, господин посол, — сказал Гисберт, протягивая ему руку. — В таком случае до встречи.
Вернувшись в отель, Гисберт снова позвонил своей секретарше, чтобы отправила факсом рекомендательное письмо в посольство Франции. Потом отправился к себе в номер изучать остальные книги, которые одолжил ему букинист. Теперь он был уверен, что напал на след чего-то весьма значительного. Чего-то, что навсегда изменит его карьеру филолога.
Его разбудил телефонный звонок. Голос, который, кажется, исходил из самого его мозга, спросил: «Как дела, мой китайчик?». Это была жена. Оталора приподнялся и ответил: «Очень хорошо, смугляночка, спасибо». Нечеловеческим усилием ему удалось выдавить из себя несколько фраз.
— Который у вас там час? — спросила Эльза.
— Еще темно, мамочка. Позвони попозже.
Он повесил трубку, чувствуя ломоту во всем теле. Осмотрел себя, ощупал и понял, что спал голым. Кроме того, на нем был презерватив. Из-за давления резины пенис вздулся, как шар. Нельсон попытался в темноте снять презерватив, но почувствовал колющую, раздирающую боль. В этот момент он услышал голос, который заставил его вздрогнуть. Голос произнес по-русски:
— Что?
Он включил свет и увидел рядом с собой молодую блондинку. Она тоже была голая.
— Что случилось? — Девушка повторила свой вопрос по-английски.
Не говоря ни слова, Нельсон указал себе пониже живота. На свой воспаленный член алого цвета.
Девица открыла сумочку, достала маникюрные ножницы и принялась резать презерватив. Нельсон трижды вскрикивал, но в конце концов девушке удалось разрезать резину и снять его. Потом она принесла стакан с холодной водой и опустила туда злосчастный член.
— Так у тебя спадет воспаление, — сказала она с сильным славянским акцентом. — Тебе повезло, что позвонили по телефону. Если бы ты ночь провел в нем, у тебя был бы некроз, и тут уж ничего не поделаешь. Только — чик! — отрезать, и до свидания, прощай твой маленький дружок.
«До свидания» она произнесла по-русски.
— Спасибо, — в ужасе сказал Нельсон, все еще не очень понимая, кто она такая. — Как тебя зовут?
— Ирина. Мы познакомились в баре этой ночью. Кстати, ты должен мне двести долларов.
— Сколько? — Это замечание, кажется, пробудило его окончательно, но, попытавшись подняться, он снова взвыл от боли.
— Двести, — повторила она. — Вообще-то я беру триста, но твои друзья уже дали мне сто и заплатили за такси. Заметь, какая я честная.
— Какие друзья? — спросил он, ничего не понимая. — Рубенс и Омайра?
— Не знаю, как их зовут. Это были китайцы.
— У меня нет друзей-китайцев, — сказал Нельсон. — Здесь, видимо, какая-то ошибка.
— Ну ладно. Мы говорим о том, что ты мне должен. Ты сказал «всю ночь», и вот я здесь. Если хочешь еще чем-нибудь заняться утром, скажи, хотя я сомневаюсь, что у тебя получится. Все еще болит?
— Только когда я дышу, — сказал Нельсон, вспомнив шутку Джека Николсона в «Китайском квартале».
— Ах, как изысканно, — засмеялась Ирина. — Ты филиппинец или вьетнамец?
— Перуанец.
— Да что ты? — Она недоверчиво покачала головой. — Если ты перуанец, то я принцесса Конго. Давай деньги, сердце мое, sweet heart, а потом я в твоем распоряжении, если захочешь.
Нельсон выдвинул ящик ночного столика и достал несколько банкнот. Спрятал остальное в носок и положил его под подушку.
— Не будь дураком, — сказала Ирина, убирая деньги в сумочку. — Если б я хотела тебя обокрасть, я бы уже это сделала. Ты храпел, как сибирский медведь. Я пообещала твоим друзьям, что буду с тобой ласкова.
— Перестань, — ответил Нельсон. — Я ведь сказал, что здесь, в Пекине, никого не знаю.
По-моему, алкоголь вызвал у тебя внезапный приступ сумасшествия. Видно, что ты не привык пить.
Сказав это, Ирина встала, в темноте подошла к окну, подняла жалюзи. Нельсону удалось разглядеть красивую розовую попку и светлые волосы внизу живота.
— Ну, если они не твои друзья, — сказала она, — то, должно быть, члены общества по охране пьяных перуанцев. Смотри, вот и они.
— Они? — спросил Нельсон. — Кто они?
— Твои друзья. Припарковались там, на улице, ждут в машине.
Шутка зашла слишком далеко, поэтому Нельсон решил встать. Действительно, две тени курили, сидя в автомобиле. Это его обеспокоило. Может быть, управляющий гостиницей позвонил в полицию? Он вспомнил, что в Китае проституция запрещена. Черт, сказал он про себя, только этого не хватало.
— Оденься, пожалуйста, — сказал он ей. — Одевайся и уходи. Они, наверное, из полиции.
— Какая полиция! — ответила Ирина очень спокойно. — Ты не знаешь, какая тут полиция. Советую тебе еще немного поспать, потому что, вижу, ты нервничаешь. Когда проснешься, то обо всем вспомнишь, мы закажем завтрак в постель, сделаем чик-чик, если у тебя уже спадет воспаление, — и чао, до скорого. Тебя это устраивает?
Нельсон подумал, что, возможно, это всего лишь ночной кошмар, и решил последовать совету Ирины. Прежде чем лечь, он проглотил две таблетки тайленола.
Но это не был кошмар: утром, приоткрыв один глаз, он увидел, что русская девушка по-прежнему рядом. Ее волосы пахли духами, аромат которых он отлично знал: «Амариж» Живанши. Она еще спала, спиной к нему. Она была очень красива. Он подумал, что можно было бы написать стихотворение в прозе: «Когда я проснулся, Ирина все еще была здесь». Но эта фраза уже существовала. Как жаль…
Боль прошла, он смог бесшумно подняться. Подошел к окну и удостоверился в том, что автомобиль с двумя мужчинами все еще на прежнем месте, припаркован перед гостиницей. Кто же это, агенты секретной полиции? Был только один способ выяснить, поэтому Нельсон надел брюки и рубашку и вышел в коридор, намереваясь заговорить с ними. Когда он подошел в ресепшн, навстречу встал служащий:
— Господин Чоучэнь, будьте добры…
— Да?
— Ваши друзья ждут вас на улице. Они попросили, чтобы я вам об этом напомнил.
— Спасибо.
Нельсон вышел на улицу и направился к автомобилю. Если бы кто-нибудь решил проанализировать состояние его души, он нашел бы там страх, любопытство, добавьте к этому, что он был немного не в своей тарелке, испытывая смесь злости и беспокойства и осознавая при этом всю нелепость ситуации. Когда он приблизился к машине, оконное стекло начало опускаться.
— Добрый день, профессор, — сказал некто на превосходном английском.
Нельсон нагнулся и увидел двух китайцев. Говоривший протягивал ему руку.
— Вы меня не знаете, — продолжал человек. — Меня зовут Вень Чен, и я о многом должен вам рассказать.
Это был человек в возрасте, лет, по крайней мере, шестидесяти пяти. Но не старше семидесяти. Мужчина с роскошной седой шевелюрой, атлет. Его спутник казался много моложе. Несмотря на поношенные костюмы, было очевидно, что это люди влиятельные. Манеры их были в высшей степени изысканными.
— Рад слышать, — сказал Нельсон, — но мне нужно задать вам множество вопросов. Первый: кто вы такие? Второй: что делает эта русская девушка в моей постели? Третий: откуда вам известно мое имя? Четвертый: почему вы за мной следите?
Старик вышел из машины, вынул из пиджака пачку сигарет и предложил одну Нельсону. Оба закурили. Было еще очень рано. В воздухе висел плотный туман, в котором терялись контуры зданий.
— Мы ждали вас долгие годы, — торжественно произнес старик. — Вы — внук Ху Шоушэня, не так ли?
Нельсон задумался. Что-то похожее на проблеск мелькнуло в его сознании.
— Да, но почему вы меня об этом спрашиваете?
— Ваш дедушка был великий человек, — сказал тот, — великий борец и великий патриот. Для меня честь приветствовать его внука.
В эту минуту Ирина вышла из гостиницы и направилась к ним. На ней были плотно облегающие брюки и бирюзового цвета топ. В пупке серебряное колечко.
— Ты покинул меня, sweet heart, — сказала она Нельсону. — К тебе уже вернулась память? Представляю тебе твоих друзей.
Щеки поэта слегка покраснели, но он взял себя в руки.
— Добрый день, сударыня. Это…
— Мы уже знакомы, — ответил Вень Чен. — Не забывайте, сегодня ночью мы привезли вас сюда.
— Вы?
— Да, господин. Вы не помните? Вам нужна была компания, но было недостаточно денег. Поэтому мы реши ли… посодействовать. Но это не важно.
Сказав это, старик заговорил по-китайски со своим спутником. Потом он пригласил Ирину сесть в машину.
— Мой друг отвезет вас, куда вы захотите, госпожа. Приятно было с вами познакомиться.
Ирина села в машину, но перед этим поцеловала Нельсона в щеку. «До свидания, sweet heart», — прошептала она, первые два слова опять по-русски.
— Если вы хотите ее снова на эту ночь, скажите мне, господин. Мы будем рады доставить вам удовольствие. Это очень красивая и привлекательная девушка. Я завидую вам.
Они пошли в гостиничное кафе, заказали кофе, чай и круассаны и продолжили беседу.
— Скажите мне одну вещь, господин Чен, — попросил Нельсон. — Когда вы говорите «мы», кого конкретно вы имеете в виду?
— Вы, должно быть, знаете, что ваш дед был вождем отряда патриотов, который хотел навести порядок в стране в один из самых трудных моментов нашей истории.
— Ну, я не очень много знаю о нем. Дед умер, когда я еще был маленьким ребенком, — сказал Нельсон. — Мне известно, что он бежал из Китая, но я не знаю, от чего он бежал.
Официант принес заказ, и оба они стали пить кофе. Нельсон почувствовал, что приходит в себя.
— Я подробно объясню вам, что произошло и, конечно, почему мы здесь, — сказал Вень Чен, — Прежде всего ваш дедушка бежал из Китая, так как захватчики преследовали его, чтобы убить. Захватчиками — не знаю, известно ли вам это, — были армии восьми союзных государств, которые пришли в нашу страну, чтобы разграбить ее богатства, при содействии императрицы Цыси, темной личности в нашей истории. Народное движение ихэтуаней, которое на Западе называют восстанием Боксеров, было первым в Китае нового века. За ним, через некоторое время, последовало падение императорского режима. Ваш дед был одним из вождей повстанцев здесь, в Пекине. Поэтому ему пришлось эмигрировать. Он уехал, обещав вернуться, а сделать этого так и не смог, потому что для него не организовали надлежащих мер безопасности. Тайное общество было разгромлено, но такие люди, как мой отец и ваш дед, сохраняли и передавали свои идеи в течение долгого времени, даже когда все верили, что с нами покончено.
Нельсон с сочувствием глянул на старика.
— Но как вы меня нашли?
Видите ли, — сказал Чен. — Несколько недель назад произошло чудо, нечто, что в моем понимании возвещает нам великие перемены для нашей организации и, естественно, для всего народа Китая. Один из священных текстов нашего тайного общества, книга, которую боготворили ваш дед и мой отец и которую ваш двоюродный дедушка спас от захватчиков, несколько дней назад найдена здесь, в Пекине. Мы уже потеряли всякую надежду отыскать ее, но один из наших братьев случайным образом — хотя случайностей не существует — наткнулся на нее в старом архиве французской католической церкви. Появление этой рукописи — знамение, поскольку речь идет о тексте, который был у нас отнят. Само собой разумеется, священники не хотели возвращать его законным владельцам, то есть нам, и спрятали. Мы думаем, что книгу собираются вывезти из страны, и решили следить за всеми, кто прибыл из Европы, потому что кого-то, несомненно, послали сюда, чтобы забрать бесценный текст. Теперь же никто из них не сможет сделать этого, оставшись незамеченным. Наблюдая за странным немецким профессором, мы нашли вас.
— За профессором Клаусом! — воскликнул Нельсон.
— Именно, хотя, возможно, он ничего не знает об этом деле, — кивнул старик. — Обратите внимание на цепь случайностей: иностранец, который не имеет к этому отношения и который, сам того не зная, приводит нас к вам. Должен признаться и прошу у вас заранее прощения, но один из наших людей проник в ваш номер прошлой ночью и сделал несколько фотографий с документов вашего двоюродного дедушки. Именно по этой причине мы узнали, что вы — тот, кто вы есть, и что некоторым образом Ху Шоушэнь вернулся. Теперь вы меня понимаете?
Мозги Нельсона кипели. История, которую он собирался описать в своей повести, обернулась головокружительным приключением. Совсем недавно он был в Остине, вел серую жизнь, а теперь, в Пекине, оказалось, что он — потомок национального героя. Он на минуту представил себе, какое дурацкое выражение лица будет у Норберто Флореса Арминьо, если тот вдруг узнает, кто такой в действительности Нельсон Чоучэнь Оталора — прозаик, поэт, да еще и герой. «Ты стал на пути у скорого поезда, мать твою, и хотел остановить его пальцем. Он раздавит тебя». Все, кто смеялся над ним, будут кусать себя от зависти, когда он опубликует свою книгу и сообщит читателям планеты о том, кто он на самом деле. Даже с Сомерсетом Моэмом не случалось ничего подобного!
— Что это за текст? — спросил Нельсон.
— Философское произведение в поэтической форме, — сказал Чен. — Возможно, вы слышали это название: «Далекая прозрачность воздуха» Ван Мина, мудрого философа XVIII века.
— Увы, мне незнакомо это название, — признался Нельсон. — Я плохо знаю китайскую литературу.
Старик отпил большой глоток чая, вытер губы салфеткой и глянул ему прямо в глаза.
— Наше желание, господин Чоучэнь, — чтобы вы заняли место вашего дедушки. Мы все в организации намерены присягнуть вам на верность. Поэтому я здесь.
Нельсон залпом допил свой кофе и объявил:
— Рассчитывайте на меня. Что я должен делать?
Поменявшись местами в машине — Чжэн сел за руль, а я перебрался назад, чтобы охранять молодого китайца, который лежал лицом вниз, со связанными руками и не мог двигаться, — мы подъехали к дому, вытащили нашего заложника из машины и легкими толчками заставили его войти в одну из внутренних комнат.
— Перед тем как продолжить, — сказал я Чжэну, — хочу заявить, что не согласен с силовыми методами. Этот молодой человек, пока не доказана его вина, заслуживает такого уважения и обращения, какого заслуживает любой человек, в отношении которого действует презумпция не виновности. Я понятно говорю? Я ненавижу насилие.
Чжэн смотрел на меня очень серьезно, привязывая китайца к стулу.
— Напомню вам, что я священник, — веско произнес он. — Я уважаю Евангелие, права человека и Женевскую конвенцию. Вам следует также знать, что как солдат я воспитан на военной теории Мао Цзэдуна, согласно которой каждый пленник — это потенциальный союзник. Не беспокойтесь, я тоже ненавижу насилие.
Сказав это, он поднял руку и влепил молодому человеку звучную пощечину. На щеке у того на секунду проступил отпечаток всех пяти пальцев Чжэна.
— А происходит вот что, — продолжал он, — он должен что-нибудь получить взамен на сведения, которые мне расскажет, я ясно выражаюсь?
Я предпочел воздержаться от дальнейших замечаний, но, все-таки сомневаясь, остался в комнате и сел, следя за происходящим. Чжэн говорил с пленником очень резко. Раза два он что-то прокричал. Молодой человек в страхе отвечал. Так они некоторое время общались. Я не понимал ни слова, но по крайней мере побоев больше не было. Они снова что-то прокричали друг другу, и молодой человек принялся плакать.
— Он уже у меня в руках, — пояснил мне Чжэн. — Теперь он скажет нам то, что нам необходимо знать.
— Что именно должен сказать нам этот молодой человек? — спросил я.
— Ну, много всего, хотя и не то, что я думал, — ответил Чжэн. — Если действительно тайное общество захватило отца Жерара, то этот несчастный, видимо, не знает, где того прячут. Информация такого рода распространяется только среди высших иерархов. Это уж точно. Поэтому мне нужно от него имя и, если он знает, адрес кого-нибудь, за кем мы сможем следить.
— Он скажет?
— Думаю, да.
— Если вы снова будете его бить, я предпочитаю выйти из комнаты.
— Этого не потребуется, — ответил Чжэн. — Он очень напуган.
— Что вы ему сказали?
— Ничего особенного, — ответил Чжэн, — только то, что человек, на которого он донес, помощник в архиве, находится в больнице в очень тяжелом состоянии, и если он не будет сотрудничать, я выдам его полиции. Здесь полиция — дело серьезное. Я сказал еще, что за подобное преступление его могут депортировать во внутренние районы страны, а его мать скорее всего оставят дома. Этого было достаточно.
Молодой человек перестал плакать. Потом сказал что-то, а Чжэн занес в блокнот. Закончив писать, Чжэн поднял руку и снова влепил ему пощечину, на этот раз более легкую, чем первая.
— А теперь за что вы его бьете? — спросил я, нервничая.
— За предательство, — сказал он. — Никто не должен быть доносчиком, даже под давлением. Он сам меня попросил, чтобы я это сделал.
Я снова замолчал. Нет, решительно этот мир — нечто новое для меня.
— Что мы с ним будем делать? — спросил я.
— На некоторое время он останется с нами, — сказал Чжэн, — до тех пор, пока не распутаем этот клубок. Он сам попросился пожить в одной из наших явочных квартир, потому что знает, что теперь в опасности. С информацией, которую он мне дал, можно продолжать расследование. Пойдемте. Кто-нибудь им займется.
В машине Чжэн сообщил мне и другие сведения. Пленник назвал имя и адрес руководителя секты в Пекине. Одного из главных радикалов, кстати сказать.
— Он поклялся, что не знал, что помощнику в архиве собираются причинить вред, — добавил Чжэн. — Сказал, что был не согласен с методами этой группы, что она не представляет всей секты, и поэтому он их предал. И еще сказал, что ничего не знает о пропавшем французском священнике.
— И вы ему поверили? — спросил я сгоряча.
— Ну, — предложил Чжэн, — если хотите, можно вернуться, и вы его будете бить.
— Нет, все в порядке. Это был только вопрос. Извините.
На карте было отмечено место на севере Пекина. Но я не мог знать, далеко мы или близко. Мне все еще не удавалось понять, как устроен этот демонический город, хотя он уже казался мне знакомым.
— Приготовьтесь, подъезжаем, — сказал Чжэн.
В это время зазвонил его мобильный. Должно быть, это был Ословски — Чжэн говорил по-французски.
— Немец? — спросил он.
Потом, прижимая трубку к уху, попросил меня достать из бардачка блокнот и ручку.
— Да, произнесите имя по буквам, пожалуйста, — сказал он в трубку и начал диктовать: — Г-и-с-б-е-р-т. Гисберт? О’кей, да. Это имя? Да, говорите. К-л-а-у-с. Клаус, да, Гисберт Клаус, ясно, отель «Кемпински», номер 902, да, мы записали, до свидания.
Он положил трубку и объяснил:
— Кажется, сюда, в Пекин, прислали немецкого агента. Нужно будет съездить в отель «Кемпински» и выяснить, кто это такой. Дело сложнее, чем я полагал.
Некоторое время он размышлял. Остановил машину, написал что-то по-китайски на листе бумаги и протянул мне.
— Лучше всего будет, если вы сами съездите в отель и посмотрите, с кем мы имеем дело, а я тем временем поеду проверить данные, сообщенные нашим юным заложником. Отель всегда полон иностранцев, и вы пройдете незамеченным. Вот имя и номер комнаты. Вы умеете открывать двери номеров в отелях?
— Нет, если у меня нет ключа.
— В таких отелях двери открываются не ключами, а карточками. Вот, держите.
Он протянул мне что-то вроде металлического чехла для документов с лампочкой в верхней части.
— Включаете здесь, — объяснил он мне, — потом проводите этой пластинкой по щели считывающего устройства двери, которую вы собираетесь открывать. Ключ сам считает информацию и передаст на карточку, которая находится внутри. После этого доставайте ее и открывайте. Это просто.
Я попробовал, и действительно это оказалось довольно просто.
— Несколько советов: войдите в холл, выберите себе место в кафе, закажите кофе и читайте газету. Дождитесь, пока обслуга привыкнет к вашему присутствию. Если вы не заметите вокруг ничего необычного и если объекта не окажется среди посетителей, идите к телефону и позвоните в его номер. Если ответа не будет, продолжайте звонить через короткие промежутки времени. Когда вы удостоверитесь, что в номере никого нет, поднимитесь наверх, на этаж выше, чем тот, что вам нужен. Это мера предосторожности. Потом спуститесь по лестнице на нужный этаж. Проверьте, прежде чем открывать, нет ли в двери щепок, волосков, кусочков бумаги — в общем, чего-то, что может упасть. Если обнаружите что-то подобное, то положите на прежнее место, когда будете выходить. Перед тем как входить в ванную, посмотрите, не мокрый ли пол, потому что вы можете оставить следы. Многие чемоданы с кодовым замком открываются комбинацией 000. Ничего не берите. Осмотрите все и оставьте на прежнем месте. Не касайтесь предметов из стекла и пластика. Открывайте дверь, используя платок. Понятно?
— Надеюсь, что да, — ответил я, нервничая.
— На данный момент это все. Да, поставьте сотовый телефон в режим вибровызова. Я не собираюсь вам звонить, но, возможно, кто-нибудь по ошибке наберет ваш номер. Такое, увы, случалось с нашими агентами в разгар работы, и я не буду рассказывать о последствиях.
Я вышел из машины, но прежде чем Чжэн уехал, вспомнил кое о чем. И сделал знак, чтобы он опустил стекло.
— Как произносится отель «Кемпински» по-китайски? — спросил я. — Это чтобы сказать адрес таксисту.
— Вы правы, я об этом не подумал. — Чжэн покачал головой. — Черт, из-за таких мелочей и проигрывают войны.
— Я думаю так же, — сказал я.
Он написал нужные слова на листке бумаги и подал мне.
— Покажите водителю, для них привычно, что у иностранцев пункт назначения написан на бумаге.
— Как в исламских странах.
— В исламских?
— Да, — ответил я ему, — но там это относится не только к иностранцам. Это относится ко всем.
— Тема интересная и увлекательная, — ответил он с серьезным выражением лица, — но боюсь, что сейчас не вполне подходящий момент для обсуждения. Желаю вам удачи. И будьте осторожны, немцы люди проницательные. Если вы живете в Париже, то должны сами знать, какие они. В девять часов вечера я позвоню вам по сотовому, постарайтесь оказаться в уединенном месте.
Я стоял на оживленной улице, похожей на Тринадцатое шоссе в Боготе. Бесконечные магазины, продавцы, разговаривающие посреди тротуара, галдеж, уличные забегаловки. Мне стало жаль, что нет времени пройтись медленно, глазея по сторонам, потому что я вдруг почувствовал тоску по своему городу, который отсюда казался таким далеким. Но нужно было спешить, и я сел в первое же такси.
В холле «Кемпински» было чрезвычайно много народу; полагаю, из-за огромного потока иностранцев и потому, что отель был соединен с торговым центром, никто не обратил на меня внимания. Я сел и, следуя указаниям Чжэна, заказал кофе, взял старый выпуск «Геральд трибюн», который лежал на столике, и принялся читать, краем глаза наблюдая за посетителями. Кто из всех этих блондинов с розовыми икрами и толстым брюхом Гисберт Клаус? Хотя речь шла о секретном агенте, я подумал, что он, вероятно, одет как турист. Тут мне в голову пришла одна мысль: если он профессионал, то мог гораздо раньше заметить мое присутствие. Естественно, если только он не такой же, как я, то есть импровизированный агент, в таком случае мы оба — марионетки в руках наших наставников. Кто давал ему советы? Я не собирался анализировать причины, по которым Германия заинтересована в знаменитой рукописи, поэтому стал размышлять на другую тему — а именно о том, как бы постараться узнать, не настал ли подходящий момент подняться к нему в номер и обыскать там все. Было четыре часа дня. В это время большинство постояльцев гостиниц, если только они не больны, обычно не сидят в своих комнатах. Я не знаком с привычками немецких агентов, поэтому направился в телефонную кабину, набрал номер и довольно долго слушал гудки. Потом я позвонил еще несколько раз — до тех пор, пока не осталось сомнений (он ведь мог быть в ванной), — и направился к лифтам.
Несколько человек поднимались вместе со мной, но на десятый этаж я ехал один. Вышел в коридор, спустился по лестнице, нашел нужную дверь и достал устройство, которое дал мне Чжэн. Оно отлично сработало, дверь открылась, но, закрыв ее, я сообразил, что допустил первую ошибку — не проверил, нет ли в створке волосков или кусочков бумаги. В конце концов, посмотрю, когда буду выходить. Сердце прыгало у меня в груди, пока я шел по маленькому коридору, который вел в комнату, но я сделал над собой усилие и успокоился.
Все было в порядке. С чего начать? На кровати лежал небольшой медицинский чемоданчик, и я принялся обыскивать его. Каково же было мое удивление, когда я увидел надпись по-испански: «Кремы для проктологических анализов». Потом я просмотрел несколько документов, в которых говорилось о воспалениях прямой и ободочной кишки и англоязычный журнал под названием «Наука и проктология в Америке». Как необычно, сказал я про себя. Судя по всему, мы имеем дело с агентом, у которого тяжелый геморрой. Очень по-человечески. Я продолжил обыск. На ночном столике нашел старый номер журнала «Космополитен», после чего направился к шкафу. Тут мое удивление еще более возросло, потому что, открыв ящик, я обнаружил кучу трусиков разных цветов и покроя. Он, что, прибыл вместе с женой? У меня не было на этот счет никакой информации, хотя, честно говоря, размеры комнаты, и особенно кровати, наводили на мысль о том, что это двухместный номер. Потом я открыл одну из дверец гардероба. Внутри висели многочисленные женские платья и костюмы; один из них, белого цвета, лежат сложенный на полу: видимо, уже ношеный.
Я вытащил бумагу, которую дал мне Чжэн, и еще раз проверил имя: Гисберт Клаус. Может, Гисберта? Нет. Невозможно, чтобы Гисберт оказался дамой, поэтому я продолжал искать. В ванной нашел женскую косметичку: румяна, прокладки, незнакомый крем под названием «Вагизил», лак для ногтей. Там же стоял отключенный дорожный утюжок, а на крючке висело вечернее платье небесно-голубого цвета, готовое к тому, чтоб его надели. Рядом с платьем были разложены миниатюрные трусики с голубым шитьем, бюстгальтер и прозрачная комбинация. Ничего, что указывало бы на присутствие мужчины.
Внезапно до меня донесся шум из коридора. Я задержал дыхание, но ничего не произошло. Кто-то вошел в соседний номер. Тем не менее испуг заставил меня отдать себе отчет в том, как я рисковал, мешкая. Я заторопился. Где-то здесь должны быть вещи Гисберта Клауса. Но, открыв чемоданы, я обнаружил то же самое: женское белье и книги по проктологии. После этого решил уйти, думая, что данные, которыми меня снабдили, содержат какую-то ошибку.
К счастью, когда я оказался за дверью, в коридоре никого не было. Я стал искать волоски и кусочки бумаги на полу, но ничего не увидел. Покончив с этим, я сел в лифт, перестав наконец чувствовать беспокойную пустоту в желудке, и спустился в холл, чтобы позвонить Чжэну. Черт, но тут я столкнулся с очередной проблемой: было слишком рано, чтобы с ним связываться. Я не хотел, чтобы у него возникли проблемы из-за звукового сигнала или вибрации телефона. Можно было бы посоветоваться с Ословски, но мне не дали его номера. Так что я решил подождать, прогулявшись тем временем по торговому центру, который располагался внизу отеля, — «Люфтганза-центр». Осматривая его, я удостоверился, что все здесь немецкого происхождения, и отель, и магазин, — идеальное место для немецкого шпиона.
Пройдясь по киоскам и купив номера «Монд», «Эль Пайс» и «Либерасьон», я вернулся в кафе, располагавшееся рядом со стойкой администратора, довольный тем, что могу посвятить несколько часов отдыху и чтению, потому что, по правде говоря, утренние события заставили меня немного понервничать. Хорошая кружка пива, фисташки или картофельные чипсы, свежие газеты — именно это мне было сейчас нужно.
Первая кружка пива была только прелюдией ко второй, вторая — к третьей, а дойдя до середины статьи Сержа Жюли в «Либерасьон» по косовской проблеме, я услышал голос, обращенный ко мне:
— Вы позволите? — Толстенький человечек на очевиднейшем американском испанском просил разрешения посмотреть «Эль Пайс».
— Конечно, пожалуйста, — сказал я.
— Спасибо, я через минуту вам ее верну.
Человек сел за соседний столик и начал читать. У него был странный акцент. Он не просто говорил по-испански, но говорил очень хорошо. Я наблюдал за ним краем глаза, намереваясь произвести физиогномический анализ. Это Клаус? Не может быть. Я знаю, что имена ни в коей мере не указывают на внешность, но, честно говоря, думая о Гисберте Клаусе, я ожидал увидеть блондина-тевтона. Это просто случайность, сказал я себе и заказал еще пива.
Через минуту, возвращая мне газету, незнакомец снова заговорил со мной.
— Благодарю. Сеньор — испанец? — спросил он.
Я не знал, что отвечать, ведь нельзя было забывать, что я выполняю секретную миссию. Но, не сумев выдумать ничего подходящего, я ответил:
— Нет, я колумбиец.
— Ах, черт, до чего же приятно, — сказал толстяк. — Самый нежный кофе в мире. Гарсиа Маркес. Ботеро. Кумбия и вальенато. Позвольте представиться, я Рубенс Серафин Смит, бразилец из Соединенных Штатов.
— Серафин Суарес Сальседо, очень рад, — представился я и тут же осекся, не потому, что я ненавижу произносить свое полное имя, которое я действительно терпеть не могу, а потому что подумал, что не должен был этого делать. Проблема в том, что Чжэн не дал мне никаких инструкций на этот счет.
— А что делает благородный соотечественник Хуана Вальдеса и Того Ла Момпосины в такой дали, если не секрет? — продолжал спрашивать человек.
— Ну… видите ли, — сказал я ему. — Я журналист, готовлю репортаж о религиях в Китае.
— О, какая интересная тема! — с энтузиазмом воскликнул он. — Я всегда хотел быть журналистом. Но, видите ли, при распределении обязанностей в этой юдоли печали мне выпало быть проктологом.
Услышав это, я похолодел. Проктолог. Журналы и записи по проктологии в номере. Неужели это и впрямь Гисберт Клаус? Вычислил меня и теперь выпытывает, что мне известно? Если это так, у меня преимущество — он не знает, что я знаю, кто он такой.
— Позвольте мне заказать выпивку, чтобы отметить наше знакомство, друг мой, — сказал человек, пересаживаясь за мой столик и подзывая официанта. — Два виски со льдом! Вас устроит виски со льдом?
— Да, устроит, — ответил я, немного не успевая за развитием событий. — Большое спасибо. Это мой любимый напиток.
— Не каждый день колумбиец и бразилец встречаются в Пекине.
Он был симпатяга и весельчак. По его словам, участвовал здесь в скучнейшем конгрессе по проктологии. Он признался мне, что, как всегда, единственное, что спасало положение, — это люди. Человеческий фактор. Потом он объяснил мне что-то, чего я не понял и что имело отношение к некому спиритуалистическому направлению внутри его профессии. Я нервничал, но делал все, чтобы казаться дружелюбным. Виски, с приятной постепенностью вливаясь в меня, помогло обрести спокойствие.
Было около восьми, когда произошло нечто чрезвычайное. Вот уже некоторое время мой симпатичный приятель по третьему кругу пересказывал аргентинские шутки, когда я вдруг заметил, что кто-то подошел к нашему столу. Это была женщина лет сорока, очень красивая, в платье небесно-голубого цвета. У меня по спине будто прошел электрический ток: на ней был тот самый наряд, который я видел в ванной Гисберта Клауса! Дыхание сбилось, мне пришлось искать воздуха в стакане с виски, но в результате я закашлялся и мне пришлось поставить его на стол.
— Эй, парень, — приветливо обратилась ко мне подошедшая дама, — ты как будто смерть увидел.
— Извините, — ответил я ей, — виски попало не в то горло… Серафин Суарес Сальседо, очень рад вас видеть.
— Наш друг-колумбиец, Омайра, — сказал врач. — Видишь, из-за твоей красоты у людей дыхание прерывается. Официант! Три порции виски!
Женщина присела за столик и закурила сигарету.
— Омайра Тинахо, рада познакомиться, извините, если я заставила вас закашляться… Постучать по спине?
— Нет, спасибо, — ответил я ей. — Уже проходит. Все в порядке, спасибо.
Я поднял голову и столкнулся с ней взглядом. На мгновение я вспомнил глаза Коринн. Горячие, без юношеской заносчивости, с такими небольшими морщинками, которые придают тайну и глубину зрелым женщинам.
Принесли виски, и я не знал, что делать: алкоголь слегка ударил мне в голову. Я пил медленно, слушая шутки проктолога о Фиделе Кастро. Омайра вызывающе смеялась. Каждый раз, поворачиваясь, чтобы посмотреть на нее, я сталкивался с ее взглядом, устремленным на меня.
— По твоему лицу видно, что ты очень хороший человек, — сказала мне Омайра. — Скажи, дорогуша, что ты делаешь в Пекине?
— Я журналист, — ответил я, нервничая, ослепленный ее красотой. — Работаю на французское государственное радио.
— Не говори мне, что ты живешь в Париже…
— Но я живу в Париже. Уже почти двадцать лет.
— Ах, как я тебе завидую, — воскликнула Омайра. — Жить там — моя мечта. Лувр. Сена. Елисейские поля. Шанз Элизе — так произносится?
— Да, так, — подтвердил я. — Ты там была?
— Ну да! Меня никогда не приглашали… — ответила она.
— Ну вот, здесь сидит кое-кто, кто тебя пригласит, так, журналист? — перебил Рубенс Серафин Смит.
— Конечно, Омайра, — ответил я, набирая в рот виски и уверенный в том, что падаю в сладкие сети, и в то же время видя, как там, в глубине, в зрачках Омайры, открывается некая дверца: я чувствовал, что ее душа и моя были странным образом едины. Это было безумие. Нужно было срочно, уходить.
— Будь поосторожней с этим приглашением, парень, — сказала она, пристально глядя на меня. — Смотри, как бы я не приняла его.
— Можешь принять, — сказал я ей. — Проблема с моими обещаниями состоит в том, что я всегда их исполняю. Вероятно, поэтому я остался один.
— Один? — отреагировала Омайра. — Да кто тебе поверит? У тебя вид донжуана.
В этот момент я почувствовал вибрацию в кармане брюк. Сотовый телефон. Чжэн. Я почти забыл.
— Извините, — сказал я, вставая.
— Да? Алло?
— Это Чжэн. Я нашел кое-что интересное, чем мы сможем заняться завтра. А вы?
— Похоже, данные ошибочные. Номер, в который я вошел, — это не номер немецкого шпиона, там живет женщина-врач, кубинка.
— Вы уверены? Подождите минутку, я проверю. Номер 902?
— А, ну вот, — ответил я. — У меня написано 907.
— Ладно. Если получится, попробуйте еще раз с 902. Если нет, возвращайтесь в свою гостиницу. Жду вас завтра в десять на том же месте.
У меня не было никакого желания возвращаться в гостиницу, но что поделаешь? Я выполнял секретное задание и должен был приносить жертвы. Когда я вернулся за столик, Омайра была одна. Увидев меня, она изменилась в лице — казалось, почувствовала облегчение.
— Рубенс пошел на минутку в туалет, — пояснила она.
— Я должен идти, было очень приятно с тобой познакомиться.
Женщина молча смотрела на меня. В глубине ее глаз я, кажется, увидел мольбу. Тогда она встала со стула, так что видны стали ее сильные округлые ноги, подошла ближе и взяла меня за руку.
— Почему бы тебе не поужинать с нами? Сейчас за нами приедут, и мы поедем в один ресторан — очень типичный для этого города.
— Я бы и сам этого хотел, — сказал я ей, — но завтра мне рано на работу. Спокойной ночи.
Теперь она была так близко, что я мог чувствовать запах ее дыхания. Тогда она сказала мне на ухо:
— Никуда ты, черт возьми, отсюда не пойдешь. Не знаю, может быть, я сошла с ума, но я не хочу, чтобы ты уходил. Предложи мне что-нибудь. Быстро. Предложи мне что бы то ни было.
Мое сердце сильно билось. Полагаю, на таком расстоянии она могла это слышать.
— Пойдем со мной.
Ее взгляд выразил облегчение. Потом она взяла свой портфель, и мы вышли. Сев в такси, я увидел, как бразильский доктор идет по вестибюлю.
— В гостиницу «Мир Китая», — сказал я таксисту, протягивая ему карточку с названием, написанным по-китайски.
Омайра следила за моим движением странным взглядом.
— У меня на листе написан пункт назначения, — объяснил я.
— Как в исламских странах, — отозвалась она.
— Именно… — сказал я. — Как в исламских странах…
Был почти полдень, когда Гисберт Клаус решил вернуться в немецкое посольство, чтобы забрать письмо, которое позволило бы ему получить доступ к французским архивам. В Пекине стояла очень хорошая погода. Ничего общего с песчаными бурями и туманом, о которых он столько читал.
Наоборот, воздух был чист, дышалось легко. Это обстоятельство вдохновило профессора на небольшую пешую прогулку, он попросил таксиста высадить его на проспекте Хиангуомынь, совсем рядом с «Лавкой дружбы» — магазинчиком, где туристы покупают сувениры на память, изделия народных промыслов и кое-какую технику по низким ценам. Едва он поставил ногу на асфальт, три молодых китайца бросились к нему, предлагая компакт-диски и DVD-диски по смехотворной цене, но Гисберт вежливо отстранил их и продолжал путь, посмеиваясь над своими первоначальными страхами и размышляя о том, что сейчас чувствует себя прекрасно, как если бы он до этого всю жизнь путешествовал. Посол ждал его в своем кабинете.
— Письмо готово, профессор. — С этими словами он жестом пригласил Гисберта присесть. — Просмотрите, проверьте, все ли в порядке.
Он протянул профессору листок бумаги. Гисберт надел очки и стал читать.
— Все хорошо, ваше превосходительство, большое спасибо.
Та же служащая, что и утром, принесла кофе, печенье и шоколад.
— Я не привык пить так много чаю, как здесь принято, — сказал посол. — Забавно. Из всех стран, которые я знаю, Китай — единственная, где равнодушны к кофе.
— Может быть, отсюда их спокойствие, — заметил Гисберт.
— Вы считаете их спокойным народом?
— Ну, история это доказывает, — сказал профессор. — Будучи такой большой империей, они никогда никого не завоевывали. Все их войны были оборонительными, исключая гражданские.
— А Тибет? — спросил посол.
— Это тема для особой дискуссии, ваше превосходительство. Из трех тысяч лет истории большую часть времени он был китайской провинцией. Поэтому Китай отстаивает там свои права. У меня нет на этот счет особого мнения, но я не вижу, как Тибет мог бы существовать самостоятельно, если единственное, что там производят, — шерсть и молоко яков.
— В этом вы правы, профессор, — сказал посол. — Возможно, некоторые голливудские актеры могли бы с ними сотрудничать.
Оба посмеялись.
— А теперь скажите, профессор, — это исследование, которое вы проводите, имеет какое-нибудь отношение к сегодняшним тайным обществам?
— В принципе нет, ваше превосходительство, но я знаю, насколько это деликатная тема. Этот скандал с Фалуньгуном,[4] который тут произошел… Мой интерес чисто исторический, хотя не исключено, что я могу о них упомянуть.
— Вы, вероятно, в курсе, какому риску подвергаетесь, если это сделаете, — сказал посол. — Китайское правительство весьма озабочено этой проблемой. Но есть кое-что еще. Если я задаю вам этот вопрос, то лишь потому, что — не знаю, известно вам об этом или нет, — в настоящее время существует тайное общество, которое заявляет права на наследие Боксеров.
— Известно, ваше превосходительство, мне об этом известно, — осторожно подтвердил Гисберт, понимая, что должен взвешивать каждое слово. — Этот деликатный момент я также должен буду включить в свое исследование, хотя он и находится в стороне от моего главного интереса.
— В этом сложность вашего исследования, — продолжал посол. — Вам следует знать, что здесь замешаны многие люди из самого правительства и что если дело дойдет до крайности, мы можем получить проблемы дипломатического характера. Я знаю, что смотрю слишком далеко вперед, но признайтесь, вы ведь понимаете, что одна из наших первоочередных задач в этой стране — это укрепить присутствие и влияние Германии в Китае. Вы, возможно, не в курсе огромных рыночных возможностей, которые открываются на сегодняшний день в этой стране. Деловые круги Германии прилагают чрезвычайные усилия, чтобы выиграть буквально сантиметры в конкуренции с бизнесменами Соединенных Штатов, Франции, Японии и других азиатских стран. Китай времен Мао похоронен, профессор, эта страна через десять лет будет экономически развитой державой. Я не знаю, как они этого добились. Иногда я даже верю, что здесь сработал коммунизм.
— Согласен с вами, ваше превосходительство, — отозвался Гисберт.
— Но я не собирался читать лекцию по экономике — знаю, что вы очень хорошо осведомлены на этот счет. Я говорю это вам потому, что, если ваше исследование затронет какую-нибудь больную точку, мы можем потерять часть влияния. Повторяю: я отдаю себе отчет в том, что несколько преувеличиваю, но предпочитаю, чтобы вы были в курсе. Я предпочитаю знать, что у нас с вами был этот разговор. Китайское правительство очень обидчивое и, как бы мала ни была обида, если она все-таки будет, они способны разрушить все и заставить нас начать с нуля.
— Благодарю за откровенность, ваше превосходительство, — сказал Гисберт. — Я лишь могу просить вас о том, чтобы вы поверили, как вы уже это сделали, в мою профессиональную и научную компетентность. Хочу, чтобы вы, кроме того, знали, что я — один из тех людей, которые восхищаются китайской культурой и уважают ее. Тот факт, что я посвятил свою жизнь ее изучению, подтверждает это. В моей работе не будет ничего, что могло бы оскорбить китайскую сторону или быть неверно истолковано. В этом я могу вас заверить.
— Я не сомневался, профессор, поэтому чувствовал, что могу говорить начистоту. Еще кофе?
— Нет, ваше превосходительство, спасибо.
Гисберт встал и убрал письмо в карман пиджака. Они направились к двери.
— Вы были очень любезны, ваше превосходительство. — И Клаус пожал его руку.
— Могу ответить вам тем же, профессор, — сказал посол. — Да, и еще кое-что, так, одна маловажная деталь. Площадь Тяньаньмэнь. Вы помните, история со студентами… Лучше не упоминать об этом, вы понимаете меня? Сегодня все мы смотрим в будущее. Мы, немцы, знаем, как важно оставить прошлое позади.
— Именно так, ваше превосходительство, именно так.
Гисберт вышел на улицу; голова у него немного кружилась, но он был доволен, что в кармане лежит то, что ему нужно. Его секретарша, должно быть, уже отправила факс, так что он мог сразу идти в посольство Франции.
Атташе по культуре вышел в приемную, чтобы принять профессора. Ожидая, Гисберт не обратил внимания на то, что кто-то за окном несколько раз сфотографировал его.
— Извините за промедление, — сказал чиновник, — но дело в том, что в настоящее время мы чрезвычайно заняты.
— Понимаю, не беспокойтесь.
В кабинете Гисберт вручил ему письмо из посольства Германии. Ему было объявлено, что документы, отправленные секретаршей, уже пришли.
— У меня для вас отличная новость, профессор: с сегодняшнего дня вы можете работать в архиве.
— Какая удача, — сказал Гисберт. — Так быстро пришел ответ из французского министерства иностранных дел?
Чиновник переложил прядь волос на макушку, прочертив темную линию на поверхности своей лысины.
— Ну, видите ли, — сказал он, — дело в том, что в отношении некоторых тем, если есть официальные письма, имеющие большой вес, — а таков ваш случай, — мы можем ускорить обычную процедуру. Но только, естественно, в отношении некоторых прошений.
— А, в таком случае я очень рад.
— Единственное наше условие, профессор, — продолжал чиновник, — во время ваших визитов в архив вас будет сопровождать сотрудник посольства. Это исключительно вопрос формальности, которой мы не можем пренебречь.
Гисберт Клаус был несколько озадачен. Ему не доверяют? В любом случае такое условие было лучше, чем ничего, поэтому профессор согласился, снова поблагодарив чиновника.
Полчаса спустя он ехал в библиотеку французской католической церкви в автомобиле посольства Франции. Очевидно было, что его держат под надзором, но Гисберт сказал себе, что ему нечего скрывать.
Его снова поразила архитектура: увидев здание, Гисберт подумал, что ничто не наводит на мысль о том, что здесь религиозное учреждение. Если не считать маленького бесцветного креста, постройка больше напоминала какой-то цех, промышленное сооружение. В дверях их встретил священник и провел непосредственно в архивный зал, в заднюю часть дома. Проходя по внутреннему дворику, Гисберт услышал, как церковный хор поет мессу. Пахло ладаном, гнилыми цветами, сыростью.
Архив оказался помещением с двумя нефами, стены были сплошь покрыты полками. Два священника в сутанах и три молодых послушника работали, обложившись папками. Они переписывали начисто даты и номера, по которым классифицировался архивный материал. В воздухе было полно пыли. Через слуховое оконце в глубине одного из нефов проникал свет. Шаги отдавались эхом.
— 1900 и 1901 годы? — спросит один из священников. — Да, проходите сюда. Они там, в глубине.
На полках с материалами, относящимися к этой дате, номера были написаны по-китайски.
— Все здесь, — сказал священник. — Вы ищете что-нибудь особенное?
— Вообще-то не совсем, — ответил Гисберт. — Я хотел бы посмотреть немного наугад, если это возможно.
— Разумеется, — сказал монах, — только я не смогу вам помочь. Если найдете что-то, что вас заинтересует, пожалуйста, позовите меня. Я обязан записывать в журнал изучаемые документы.
Гисберт посмотрел на священника и краем глаза — на своего спутника.
— Не беспокойтесь, я дам вам знать, как только найду что-либо интереснее для моего исследования.
Гисберт снял пиджак, повесил на спинку стула и начал одну за другой изучать папки с этого бесконечного стеллажа. Его спутник, молодой француз, занимавший в посольстве должность третьего секретаря, уселся на стул и стал наблюдать.
Здесь были свидетельства о рождениях, крещениях, браках и смертях. Были отчеты священников, которые вели пасторскую работу в деревнях. В одной из папок он нашел ряд жалоб на дурное обращение со стороны немецкого приходского пастора, написанных крестьянской семьей. Странно. Судя по тому, что он видел здесь, можно было подумать, что эти два года были мирным временем, не попадалось ни малейшего упоминания об атаках «боксеров», — и тем более о вторжении иностранных армий. Гисберт мог бы заподозрить, что кто-то тщательно вычистил архив, убрав все, что напоминало об этом печальном эпизоде истории. Но возникал вопрос: какой интерес был у Франции в том, чтобы стирать записи об этих драматических событиях? Этого он не понимал. И продолжал искать, пока не наткнулся на отчет об исторических зданиях в городе. Речь шла о множестве разрушенных храмов, о дворцах, использовавшихся под склады. Несмотря на то что в отчете не содержалось ничего, что представляло бы интерес для его исследования, по крайней мере он нашел след событий, происходивших в эти годы.
Спустя три часа, когда руки и плечи Гисберта покрылись пылью, молодой чиновник подошел к нему и сообщил, что пора уходить.
— Лучше будет продолжить завтра, — сказал дипломат. — Они закрывают.
Они договорились встретиться у ворот на следующий день, в девять утра, поскольку вечером Гисберт хотел немного пройтись пешком, размять мышцы. Священник поинтересовался, нашел ли профессор что-нибудь, и Гисберт ответил, что пока еще нет, но имеются интересные сведения. Прежде чем уехать, чиновник посольства показал Гисберту на карте, где они находятся, и предложил возможный маршрут для прогулки. Они были на северо-западе Пекина.
Там рядом находился парк, который интересно было бы посмотреть, парк Пурпурного бамбука. Туда и направился профессор.
По дороге Гисберт обнаружил канал, который согласно туристическому путеводителю вел к Летнему дворцу. Он шел вдоль набережной, оставив позади храм и красивый домик в традиционном стиле, пока не добрался до входа в парк. Вход стоил два юаня, Гисберт заплатил и оказался на территории, поражаясь красоте того, что его окружает: здесь были холмы, бамбуковые рощицы, тростник, огромные ивы и дорожки из камня. Пройдя по одной из тропинок, он увидел озеро, а рядом с берегом, на платформе, которая, казалось, плыла по воде, — чайный домик. Тогда он прошел на террасу, заказал чайничек зеленого чая и присел за столик, размышляя обо всем, что он постиг для себя в результате этого судьбоносного путешествия, полного откровений, имеющих научный и прежде всего жизненный интерес.
Первое, что он записал в своем блокноте (Гисберт решил не пользоваться диктофоном, потому что это могло обеспокоить французов), — что Пекин его изменил. А изменил он его по одной простой причине: Гисберт полюбил Пекин. Он едва знал этот город, но уже чувствовал властное желание вернуться, изучить его досконально, показать Юте каждый закоулок, чтобы и она увидела в этом городе свое отражение. Город можно любить тогда, когда вы думаете, что благодаря ему полюбят вас, а это было именно то, что чувствовал Гисберт. Пекин сделал его лучше. Гулять по улицам, отыскивать хутонги, вдыхать его запахи. Все это теперь так же принадлежало ему, как и его имя. И он начал писать что-то, что, к его удивлению, приняло форму стихотворения. Какая мысль привела его к такому странному результату? Нечто очень простое: его бы порадовало, если бы однажды, проходя по какой-нибудь улице Гамбурга, он услышал, как кто-то произносит вполголоса:
Вот идет тот, кто так скучает по Пекину, кто так хорошо знает его и любит. Вот идет тот, кто каждый день там хочет быть, он спрашивает себя, есть ли туман на Бэйхае, или идет дождь, и не видно ив. Вот что он хочет знать, вот что для него важно. Вот идет тот, кто так скучает по всему этому… Стоит ли еще тот старый дом в Фэнтае? Какой цвет сегодня у стен, которые окружают Таинтан? Вот идет этот молчаливый человек и несет с собой свой мир.Потом, пробудившись от своих грез, в которых повинны были и вид на озеро, и медленный закат над бамбуковой рощей, Гисберт начертил краткую схему архива и записал сегодняшние разговоры, которые состоялись с дипломатами в обоих посольствах. Он красной ручкой подчеркнул имена чиновников, но из предосторожности воздержался от упоминания о рукописи Ван Мина и о рассказе букиниста. Хотя профессор и держался в стороне от подобных вещей, но знал, что имеет дело с деликатной информацией.
С наступлением вечера некоторые здания наполнились светом. Телебашня, одно из самых высоких сооружений в городе, начала менять свой цвет с желтого на красный; стеклянный небоскреб слева от нее блестел, как меч, в вечерних сумерках. В чайном домике стало оживленно. Заиграла музыка, вдруг появились откуда-то пожилые пары, танцующие у кромки воды, мужчины и женщины двигались, некоторые синхронно, некоторые выбиваясь из общего ритма. Профессор встал из-за столика и пошел гулять по темным дорожкам парка, среди бамбуковых зарослей, пока не дошел до одного из выходов. Тут он посмотрел на часы и подумал, что хорошо бы вернуться в отель, поэтому стал искать такси. В этот момент перед ним остановились два автомобиля.
— Следуйте за нами, пожалуйста, — властно и отчетливо произнес по-английски мужской голос.
— Кто вы такие? — спросил Гисберт.
— Это сейчас не важно, — ответил неизвестный. Сильные руки схватили профессора под локти и энергично втолкнули на заднее сиденье одной из машин.
— Что такое? — снова воскликнул он.
Ответа не последовало. Машины тронулись, и кто-то сказал ему:
— Закройте глаза, профессор.
— Зачем?
— Не заставляйте надевать вам повязку, пожалуйста, зажмурьтесь, — ответил человек, который, по-видимому, был главным.
Он слышал шорох шин. Автомобиль то тормозил, то набирал ход. Никто из его спутников не разговаривал. Через некоторое время — Гисберту оно показалось вечностью — его привезли в гараж, который сообщался с огромным внутренним двором. Обе машины проехали по нему с выключенными фарами. В глубине открылись ворота. Потом еще одни. Машина остановилась, и кто-то открыл дверцу.
— Следуйте за нами, профессор.
— Я могу открыть глаза?
— Еще нет. Будьте любезны.
Те же самые железные руки направили его. Гисберт натыкался на какие-то ящики и по запаху сырости догадался, что оказался в некоем заброшенном месте. Наконец, после того как они поднялись по лестнице и вошли в помещение, показавшееся Гисберту холодным и негостеприимным, руки отпустили его.
— Можно открыть? — спросил он.
— Подождите, — сказал голос. — Вы знаете «Отче наш»?
— Да, — ответил Гисберт.
— Тогда читайте громко и когда закончите, откройте глаза.
Гисберт начал медленно читать молитву и вдруг сообразил, что не задал очень важного вопроса: на каком языке он должен читать ее? Впрочем, он знал ее только по-немецки, поэтому продолжал, постепенно все более тихим голосом.
Закончив, он открыл глаза, но это мало чем ему помогло. Кругом ничего не было: потемки и плотная тишина.
Центральный зал собрания членов общества, который ничем не отличался от какого-нибудь зала собраний квартального совета, был полон. Мужчины и женщины разговаривали, курили, смеялись, ожидая начала. Нельсон Чоучэнь сел, чувствуя себя несколько скованно, поскольку было очевидно, что все от него чего-то ждут, а по правде говоря, он понятия не имел, о чем говорить. Вень Чен не сообщил ему никаких подробностей и ничего не объяснил. «Они хотят видеть вас, хотят слышать вас». Вот и все.
Вскоре Вень Чен попросил тишины и стал говорить. Нельсон, не понимая слов, подумал, что тот представляет его. Как странно, подумал он. Происходящее не показалось ему собранием тайного общества, оно походило на университетскую аудиторию, и это подбодрило его. В конце концов, это его вотчина. Поэтому, когда Вень Чен передал ему микрофон, Оталора решил, что лучше всего рассказать о своем деде.
— Говорите по-английски, — предложил Вень Чен. — Я переведу.
— Мне выпала незаслуженная честь: мне позволено присутствовать здесь, — начал свою речь Нельсон, — ведь, по правде говоря, именно вы помогли мне понять, кто я такой. Всего несколько дней назад я был всего лишь перуанским профессором литературы, писателем, который пишет повести, поэмы и эссе, который живет в Остине, в американском штате Техас, и чье мировоззрение, чей жизненный горизонт ограничен Европой и Америкой. Но благодаря счастливой случайности в свои сорок пять лет я решил предпринять это путешествие в Пекин, путешествие, которое должно было быть чем-то вроде возвращения к своим корням, поскольку, несмотря на то, что у меня мало сведений о них, я всегда знал, что мой дед родился в Китае и что по неизвестной причине, будучи молодым, он эмигрировал в Перу.
Нельсон сделал паузу для переводчика, налил себе в стакан минеральной воды и отхлебнул половину, что позволило ему мимоходом оценить реакцию публики на его слова.
— О дедушке у меня сохранились лишь некоторые детские впечатления, поскольку он умер, когда я был еще очень юным. Он обосновался в Куско, прекрасном колониальном городе в верховьях перуанских Альп, потому что, как он говорил, это место напоминало ему Лицзян, его родную деревню, и там он стал работать портным — в этой профессии китайская община в Перу пользуется большим авторитетом. Оттуда родом моя семья. Там родился мой отец, и я тоже там родился, а потом оставил Перу, чтобы обосноваться в Соединенных Штатах. О жизни в этом городе я поведал в одном из своих самых известных произведений, «Блюз Куско», которое, надеюсь, однажды будет переведено на китайский язык и в котором я, помимо прочих перипетий, рассказываю об обычаях китайско-перуанской семьи в пятидесятых годах.
Во второй раз сделав паузу, Нельсон с волнением заметил, что слушатели делают записи. Он подумал об Эльзе, о том, какую гордость испытала бы жена, увидев его здесь, на этой трибуне. Несомненно, очень скоро его произведения появятся на полках пекинских книжных магазинов, и он сможет вернуться сюда вместе с ней, чтобы пожинать плоды успеха.
— Все мои произведения так или иначе являются попыткой исследовать эту тему, и в конечном счете это размышления о взаимоотношениях между Западом и Востоком, благотворных для обеих сторон; хотя показаны эти отношения индивидуально, через простых персонажей, настоящих людей, в которых, как я считаю, заключена суть бытия. Если книги, которые мне удалось написать, до сего дня существуют и читаются в Америке, то это потому, что сто лет назад молодой китаец, в голове которого кипели страстные мечты, сел в лодку и причалил к перуанским берегам. Как я сказал вначале, я мало знал об этом храбром человеке, потому что он никому так и не поведал того секрета, который сегодня вы здесь, в Пекине, мне открыли: что он был великим патриотом, сражался за свободу и был героем. Современные герои, надо сказать, как раз такие: простые, молчаливые, скромные, как большинство людей, будь они родом с Востока или с Запада.
Снова сделав паузу, он вдруг понял, что до сих пор много говорил о себе и должен наконец сосредоточить свою речь на образе деда. Но мысли зашли в тупик. Он не мог ничего вспомнить. Как быть?
— Ху Шоушэнь, или Хуанито Чоучэнь, как его называли в Перу, очень скоро показал всем, из какого тонкого материала была сделана его натура. Во время народных бунтов против диктатуры Санчеса Серро, в начале тридцатых годов, он организовал отряд из крестьян и мелких торговцев — милицию, защищавшую сельские районы от бесчинств армии. Я особенно хорошо помню, как они освободили группу политических заключенных, несправедливо задержанных полицией в местности близ Ранкаса, деревни в Андах. Хуан Чоучэнь во главе отряда из восьми человек штурмом взял тюрьму и, освободив своих товарищей, отвел их в горы. В течение двух недель их преследовали войска, но он, пустив вперед освобожденных пленников, решил остаться в горной расщелине, чтобы одному сразиться с целым батальоном и, таким образом, предоставить товарищам время для бегства. Имея при себе два ружья, пистолет и ящик с патронами, мой дед отбивал атаки солдат — защитников диктатуры, — а потом, когда у него кончились патроны и он посчитал, что его друзья уже в безопасности, ушел, прячась в тени гор…
Его речь произвела впечатление. Некоторые из присутствующих, выслушав перевод, вытирали слезы. Группа людей в первом ряду начала аплодировать.
— Вот так имя Хуана Чоучэня превратилось в легенду в Андских горах. Крестьяне и мелкие торговцы, слыша его, чувствовали себя защищенными. Бабушка рассказывала, что его много раз искали у нас дома, но ему всегда удавалось бежать, прячась в народе, потому что враги не знали его в лицо. А лицо Хуана Чоучэня стало лицом всех притесняемых крестьян, страдавших от жестокой диктатуры, после падения которой, в результате убийства диктатора одним из его же приспешников, народу были возвращены честь и достоинство, за которые сражался мой дед. И что же сделал Хуан Чоучэнь после того, как моя страна обрела вновь свободу? Вместо того чтобы потребовать для себя почетной должности, вместо того чтобы просить привилегий за свое героическое поведение, он скромно вернулся в свою мастерскую и продолжал работать, как и все те простые люди, которых он защищал.
Нельсон допил минеральную воду в ожидании аплодисментов, которые на этот раз были еще сильнее. Эти люди были у него в руках. Он видел в зале слезы, гордо сжатые кулаки, полные решимости лица.
— Теперь благодаря вам я узнал, что мой дед делал то же самое здесь, в Китае, перед тем как эмигрировать, что он сражался, защищая слабых, что он осаждал врага до тех пор, пока не сводил его с ума, и что его имя, так же как и в Андских горах, превратилось в легенду. Я, его внук, пришел к вам этой ночью, чтобы сказать, что нужно следовать его примеру, что надо продолжать сражаться за жизнь, зачесть простого человека, задело всемирной солидарности и за то, чтобы человечество стало лучше, искреннее и чище, — за то, за что сражались такие люди, как Хуан Чоучэнь. Большое спасибо.
Зал поднялся в едином порыве. Те, кто сидел впереди, рванулись к столу, чтобы обнять Нельсона, поприветствовать его, дотронуться до него. Вень Чен должен был призвать собравшихся к спокойствию. Потом он сказал что-то, и люди стали расходиться, молча, приветствуя Нельсона почтительными поклонами.
— Поздравляю, ваша речь имела успех, — сказал Вень Чен. — Вы — великий оратор. Вижу, что идеи вашего деда вы сохранили в своей душе. Хочу поблагодарить вас, кроме того, за то, что согласились прийти.
Нельсон просто сиял. В его голове носилось множество грандиозных идей, но самая главная имела отношение к литературной работе. Если он превратился в такого могущественного человека благодаря своим словам, отнюдь не было глупостью с его стороны полагать, что его книги вскоре будут переведены на китайский язык. Он представил, как будет ездить в Пекин, Шанхай, Кантон и Гонконг, рекламируя свои книги, закрепляя свой успех на Востоке. Успех, который немедленно привлечет к нему внимание европейских и американских издателей, и тогда настанет благополучие — то, о чем он так мечтал, что было центральной осью его жизни, по крайней мере вот уже десять лет.
— Теперь нам надо поговорить о будущем, — сказал ему Вень Чен.
— Естественно, — ответил Нельсон. — Один из моментов, которые я хотел бы обсудить с вами, имеет отношение к литературному произведению, которое я хочу написать о жизни моего деда. Я полагаю, здесь оно вызовет большой интерес, если только найдутся хорошие переводчики, как вам кажется?
— Да, да, — сказал Вень Чен. — Однако пойдемте, у нас еще будет время поговорить о книгах.
Вень Чен вместе с двумя другими членами общества проводили почетного гостя в кабинет на четвертом этаже здания. Когда все сели, один из них поставил на стол три чашки, насыпал туда чай и налил кипятка.
— Нам нужно очень серьезно поговорить, — сказали китайцы. — Первое, о чем мы хотим вас попросить, — это что бы вы позволили нам подробно изучить письма вашего деда. Все. Мы можем снять копии, потому что уважаем тот факт, что они представляют для вас семейную ценность. Дело в том, что, хотя они и личные, мы знаем, что они имеют отношение к действиям нашей организации в прошлом, что пре вращает их в документы нашей внутренней истории.
Нельсон почувствовал, как опускается с небес на землю. Все вокруг, казалось, стали более серьезными. Что-то менялось.
— Нет проблем, — легко согласился он. — Письма в вашем распоряжении, можете снять копии.
— Во-вторых, — продолжал Вень Чен, — сейчас обсуждается вопрос о том, какое место вы займете внутри нашего секретного общества. Мы уже думали об этом, и здесь есть разные варианты. Некоторые считают, что вы должны принять верховное руководство, разумеется, после некоторой подготовки. Другие говорят, что, по культурным и языковым причинам, вы не сможете стать руководителем, но должны стать кем-то вроде почетного председателя, в чьи обязанности будет входить управление внешними связями общества, главным образом с Соединенными Штатами. У нас много сторонников среди членов диаспоры, особенно в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Как я уже сказал, мы еще думаем над этим вопросом, и как только примем решение, вы можете быть уверены, что первым узнаете новость.
Нельсон почувствовал смутное беспокойство.
— Учту ваши предложения, дорогие друзья, — сказал он, — и можете быть уверены, что мое решение будет наилучшим для всех.
— Решение? — переспросил Вень Чен. — Мне кажется, господин Чоучэнь, вы не поняли. Боюсь, вы не сможете принять никакого решения.
— Ну ладно, ладно, — поправился тот, немного нервничая. — Я положусь на ваше решение. Несомненно, оно будет самым правильным.
В кабинете было два окна. В глубине, позади линии крыш, виднелся кусочек неба, а чуть дальше — верхушка современного небоскреба в форме пагоды.
— Что вы можете решать, сеньор Чоучэнь, — продолжал Вень Чен, — это хотите ли вы остаться в гостинице или предпочитаете переехать в частный дом.
— Мне удобно в гостинице, спасибо. Немного далеко от центра, но я уже привык. Нет необходимости беспокоить вас.
Вень Чен выдвинул ящик письменного стола и вынул несколько книг. На корешках Нельсон прочел имя одного и того же автора: Ван Мин.
— Для вас, — сказал Чен. — Прочитайте. Так вы для начала узнаете кое-что о нас.
— Это тот поэт, которого вы упомянули сегодня утром? — спросил Нельсон.
— Он самый.
— А что вы собираетесь делать, чтобы найти знаменитую рукопись?
— Мы ее ищем, но возникла некоторая проблема. Французы сами потеряли ее. Мы знаем, что ее прятал один священник, но, видимо, он пропал.
— А откуда вы все это знаете? — спросил Нельсон. Ему было любопытно.
— У нас очень длинные уши, друг мой, очень длинные. Едва ли в Пекине может произойти что-то, о чем мы не узнаем.
— И вам будет легко вернуть рукопись, разве нет?
— Увидим. — Вень Чен нахмурил лоб, закурил сигарету и продолжил: — Нас беспокоит вероятность того, что рукопись попала к представителям одной из наших группировок. Очень радикальной группировки, с которой у меня много раз были конфликты и которая не относится к организации. Там мало людей, не наберется и тысячи, но они используют насильственные методы. Ими руководит из Гонконга бывший израильский военный, в действительности они полностью подчинены ему. Эти люди стараются подорвать доверие к нам среди наших братьев, которых несколько сотен тысяч по всей стране. Если рукопись у них, они могут заявить о своих правах в качестве истинных последователей ихэтуаней. Когда рукопись была обнаружена, они пытали служащего архива. По счастью, брат, который видел это, сказал об этом нам.
— В таком случае, что вы собираетесь делать?
— Ну, сейчас у нас есть вы, — сказал Вень Чен. — То, что с нами внук Ху Шоушэня, — гарантия того, что именно мы — главные наследники борцов. А что касается рукописи, полагаю, мы в конце концов найдем и ее. Первое, что нам нужно, — выяснить, у кого она.
— А если не у них, — спросил Нельсон, — у кого еще она может быть?
— У других католических конгрегации, или у правительства, или у каких-нибудь иностранных агентов. У французов, канадцев, немцев, англичан. Кто знает?
— Вы полагаете, что мой друг, немецкий профессор, может быть агентом?
— Лично я в это не верю, хотя нам известно, что он интересуется произведениями Ван Мина. Он расспрашивал о нем одного букиниста. Профессор — знаток китайской культуры. Мы следим за ним.
— А что я могу сделать сейчас?
— Оставаться с нами, — ответил Вень Чен. — Когда мы найдем рукопись, именно вы должны представить ее нашим братьям.
— А, теперь понимаю, — кивнул Нельсон.
— Теперь возвращайтесь в гостиницу, изучите книги, которые я вам дал, и передайте письма моему помощнику. Два человека будут охранять вас. И еще кое-что: если снова захотите увидеть русскую девушку, скажите об этом моему помощнику. Он вам ее приведет.
Из окна автомобиля проспект казался светящейся каруселью, и вскоре я осознал реальность происходящего. Что я натворил? Я ехал в свой отель с незнакомкой. Или лучше сказать, с кем-то, о ком у меня была туманная и второстепенная информация — что на ней голубые трусики, что она использует крем «Вагизил» и что, несмотря на то что я ошибся номером, эта женщина все еще не свободна от подозрений.
— Клянусь, — сказала Омайра, — ты меня околдовал. Ты что-то подсыпал мне в стакан. Я схожу с ума.
И она снова с силой целовала меня, втягивая мои губы своими, как медуза, которая глотает маленькую рыбку. Потом я почувствовал ее руку у себя между ногами. Пальцы дрожали.
Наконец мы приехали в гостиницу. Я подумал, что у нас не будет никаких проблем, если дама поднимется в мой номер — ведь она не китаянка, — и сразу направился к лифтам. Пока мы поднимались, она снова сказала:
— Пречистая дева из церкви Каридад-дель-Кобре, ты свел меня с ума. Я околдована. Это ненормально.
— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил я в тревоге.
— Чудесно, я чувствую себя так, как будто я под кайфом. Это редкость, если учесть, что я едва знаю тебя, малыш.
Мы вошли в номер. Я сразу пошел к бару, собираясь налить что-нибудь выпить, но Омайра не дала мне времени его открыть. Она сняла платье через голову, легла на постель и сказала:
— Иди сюда, и ты узнаешь, что такое наслаждение. Ты был на Карибах, когда там ураган? Тогда держись!
Несмотря на небольшой целлюлит, ее тело было красиво. У нее были круглые ягодицы. Я никак не мог бы подумать, когда смотрел в ванной на эти голубые трусики, что так быстро увижу тело их владелицы. Сняв их, она прижалась ко мне и начала лизать мне шею, грудь, засунула кончик языка мне в ухо. «Посмотри на мой цветочек, он тебе нравится?» Она шептала непристойности, возбужденная, глубоко и горячо дыша. — «Мой цветочек хочет проглотить твой член, войди медленно», — и я вошел, и почувствовал, как ее тело обволакивает меня, вздрагивая от сладострастных судорог, и мне показалось, что это не в первый раз, что были еще и другие, что мы знакомы давно и что я почувствую себя одиноким, очень одиноким, когда эта женщина уйдет, потому что люди, конечно, уходят, и чаще всего те, кого мы любим, такова жизнь. Тогда я сказал шепотом: «Омайра, императрица Востока», — и она ответила мне, постанывая, прижимаясь своим животом к моему: «Откуда ты узнал, что я из Гибары, малыш? О Боже, твой член убьет меня», а я, возбужденный, чувствуя запах ее волос, погружая пальцы в ее ягодицы, спросил: «Что такое Гибара?», на что она, делая круговые движения, покусывая и посасывая мне мочку уха, ответила: «Гибара, провинция на востоке Кубы, малыш, давай, давай, твой член — это золотой слиток, не останавливайся», — и я продолжал двигаться внутри ее лона, чувствуя себя счастливым, задыхаясь, пьяный от наслаждения. «Я сказал „императрица Востока“, имея в виду Пекин, а не Кубу, но это все равно. Повелительница Гибары, царица Востока», — и она, задыхаясь, закатив глаза, тонким голосом, с сосками, налитыми, как снаряды, ответила: «А, теперь понимаю, я думала, что ты имеешь в виду Кубу, ах Очун, я увезу этот член в Музей мужчины, в Обтала, и там я положу его в ларец и буду молиться ему, ах, святая Барбара, прости меня, о нефритовый член, о, Святая Дева из Агаррадеро, о сахарный мой, я кончаю! А-а, милый, а-а-а, вот, уже! Очун, кончи ты тоже, сердце мое, ты чувствуешь меня, чувствуешь меня?!!!»
Мы оба откинулись, изможденные, потрясенные, еще не понимая, почему мы здесь, но счастливые. Я боялся, что сейчас меня охватит чувство вины, поэтому встал, разлил содержимое двух маленьких бутылочек виски по стаканам, стоявшим а ванной, положил туда лед и вернулся в постель.
— Ты почти убил меня, — томно проговорила Омайра. — Посмотри, я до сих пор дрожу. Потрогай. Видишь?
Это была правда — и большая редкость. Не то чтобы я считал себя ничтожеством, но, по правде говоря, никогда ничего подобного не видел. Омайра закурила, отхлебнула немного виски и сказала мне:
— Я замужняя женщина и хочу, чтобы отныне ты это знал. Я замужем, меня двое детей.
Я промолчал. Не знал, что ответить.
— Ты этого не ожидал?
— Ну, я ведь видел твое кольцо. Тебе повезло. У меня нет детей, несмотря на то что подолгу жил с двумя женщинами.
Омайра продолжала смотреть в потолок. Возможно, она собиралась с силами для важного признания.
— Хочу, чтобы ты знал: я в первый раз наставляю мужу рога. Я очень люблю своего мужа. Тебе может показаться странным, что я говорю об этом здесь, после того, что произошло, но это правда.
— Верю, — сказал я ей.
Я бы жизнь отдал за то, чтобы она осталась, но знал, что в какой-то момент она начнет одеваться. Поэтому пошел в ванную. Когда я вышел, Омайра все еще лежала в постели.
— Я проголодалась, Серафин, закажем что-нибудь в номер или спустимся?
Когда я услышал свое ненавистное имя, у меня волосы встали дыбом, но в ее устах оно звучало мягко, нежно. Кроме того, это значило, что она не собирается уходить. И за это я любил ее, сознавая, что это абсурд. Я едва знал ее.
— Расскажи мне о себе, — попросила она.
Я рассказал о своих неудавшихся романах с женщинами, о работе на французском государственном радио, о решении никогда не возвращаться в Боготу, мой город, и в конце, только в конце, — о моем тайном желании, с которым почти окончательно простился: быть писателем.
— Черт возьми, — сказала она мне, — это какая-то мания — быть писателем. Вчера я познакомилась с перуанским прозаиком. Он сказал мне, что писательство несовместимо с детьми, поэтому у тебя их нет?
— Не поэтому, — ответил я. — Женщины, с которыми я жил, не хотели их иметь. С каким перуанским писателем ты познакомилась?
— Его зовут Нельсон, он друг Рубенса. Они познакомились в самолете. Не помню фамилию…
— Ну, я не читал ни одного перуанского писателя, которого бы звали Нельсон, — сказал я, чувствуя что-то очень похожее на ревность. — Насколько я знаю, ни в Латинской Америке, ни в Испании нет писателя, которого бы так звали. Он хорошо пишет?
— Не знаю, я его тоже не читала, но могу рассказать тебе, как он танцует.
Желудок сжался, но я ничего не сказал.
— Он танцует ужасно, — уточнила она, смеясь, — слегка подпрыгивая. Кстати, мне стоило усилий избавиться от него. И не делай такое лицо, ничего не было.
Пришел служащий отеля с подносом. Там были сандвичи, фрукты и бутылка белого вина. Омайра, голая, начала есть, сидя в постели. Она говорила о своем муже и своих детях. Она вышла замуж двадцатилетней и с тех пор не была ни с одним другим мужчиной.
— Как только я тебя увидела, я почувствовала странную решимость, — сказала она мне. — Ты меня околдовал, признайся.
Я ответил, что нет, мы посмеялись.
— Если бы я позволила тебе уйти из-за моего мужа, — продолжала она, — я бы его возненавидела. Отметь, какое противоречие. Теперь же, напротив, я его люблю, как никогда.
— Я рад, такое бывает.
— А почему ты не хочешь вернуться в свою страну? — спросила она. — Ах, я бы не смогла жить вдали от Кубы.
— Потому что я потерял то немногое, что имел, — ответил я ей. — Мои друзья изменились, семья, которая у меня была, теперь далеко… Однажды я решил было вернуться, но не нашел работу. Там, если ты не знаешь влиятельных людей, ты никто, а я ни с кем не знаком. Париж не лучше, но, по крайней мере, человека ценят по его делам. Естественно, я по многому скучаю. Часто, в определенные дни, в определенные минуты, мне больно, что я не там.
— Ну хорошо, — сказана она, — но у тебя было преимущество, Серафин. Ты мог выбирать. Многие ли могут это сделать?
— Немногие, знаю, — согласился я. — Очень немногие, в таких же условиях, по крайней мере. Сегодня часто эмигрируют из-за насилия, из-за конфискации земель, потому что для простых людей нет работы. Моя страна находится в руках людей, которые презирают ее, вот в чем проблема.
— Куба не лучше, милый, о чем ты мне говоришь. Но я верю в будущее. Кстати, ты умеешь готовить?
— Да, немного, — сказал я. — Почему ты спрашиваешь?
— Это глупость, но мне нравятся мужчины, которые готовят.
Телефонный звонок прервал наш разговор.
— Yes, — ответил я, полагая, что звонит администратор.
— Это Пети, из Гонконга, рукопись уже у вас?
— У меня все очень хорошо, большое спасибо, что спрашиваете, — ответил я ему недовольным тоном; теперь, когда я знал, кто он такой или по крайней мере кем он не является, я мог себе это позволить.
— Не будьте формалистом, Суарес. Рукопись. Как с ней обстоят дела?
— Спросите своего друга Ословски.
Пока я разговаривал, Омайра подошла к окну и закурила новую сигарету. В глубине проспекта, за тонкой пеленой тумана, виднелись огни Дворца народа.
— Я не могу звонить ему, возможно, его телефон прослушивается.
— Тогда имейте терпение.
— Терпение не вечно, — возразил Пети. — Не забывайте, что с помощью одного звонка в Париж я могу устроить так, что вас выгонят с работы, а с помощью второго — что у вас отберут вид на жительство во Франции. Не стоит играть со мной в обмен любезностями.
— Любезностями? Не нахожу в вас ни следа любезности. А ведь вы должны были бы быть со мной любезным.
— Следите за своей речью, — резко сказал Пети. — Вы всего лишь бедняк, с умом, очень подходящим для литературных компиляций. И не забывайте, что вы в моих руках.
— Позвоните мне завтра в это же время, — ответил я ему, уже сытый по горло этим тоном и этим разговором.
Пети не ответил, просто повесил трубку. Омайра продолжала курить, стоя ко мне спиной.
— Ты хорошо говоришь по-французски, — сказала она мне.
— Это был мой шеф, он хотел знать, как продвигается работа.
— Твой шеф? На какой-то момент по тону я подумала, что это твоя жена. Но я тебе верю.
Я не знал, что сказать.
— Не бери в голову, — добавила она, — я тебя подначиваю. Знаю, что это не твоя жена. Я прекрасно знаю французский. Я работала добровольной сестрой милосердия в госпитале в Порт-о-Пренсе.
Сказав это, Омайра встала и пошла в ванную. Я подумал, что настал момент прощаться, и так оно и было. Когда она вернулась, на ней были платье и туфли.
— Проводишь меня вниз?
Я спустился с ней вместе в вестибюль отеля. Служащий написал на карточке «Кемпински», потом мы вышли искать такси.
— Позвони мне завтра в полдень, если сможешь, — сказала она, целуя меня в губы. — Ты так легко от меня не избавишься, это я тебе точно говорю.
Я посмотрел, как она уехала, и после этого несколько секунд пребывал в состоянии, среднем между опьянением и идиотизмом. Омайра была само совершенство. Не знаю, по какому поводу, но я вспомнил слова Ословски: «Когда знаешь, что правильно, трудно этого не сделать». Что-то происходило внутри меня.
Потом я поднялся в свой номер, чувствуя себя абсолютно одиноким, — это чувство, кстати, знакомо мне в совершенстве, у меня по части его несколько докторских степеней. Все, казалось, указывало на то, что история повторится: любить, наслаждаться любовью, а потом страдать. Все, в кого я влюблялся, были эфемерными. Глядя через окно на огни Пекина, я подумал о своей жизни. Или мне все время не везло, или мир плохо устроен. Как прав был Альбер Камю. Почему, черт возьми, он умер таким молодым? Может быть, ответ на мои вопросы находился в одной из книг, которые он мог бы написать.
* * *
Только когда глаза свыклись с темнотой, Гисберт рискнул встать. Пошатываясь, он сделал два шага. Ему показалось, что он разглядел окно, и он пошел к нему, сообразив, что люди, которые притащили его сюда, забрали блокнот. Несомненно, все это имело отношение к рукописи Ван Мина.
Вдруг в комнате зажегся свет, и Гисберт испугался. Потом он услышал голос:
— Вы говорите по-французски?
По голосу можно было судить о возрасте говорящего. Не стар и не молод. Лет сорок пять. Никак не больше пятидесяти.
— Да, — сказал он. — Кто вы?
— Меня зовут Режи Жерар, — ответил голос. — Я священник французской церкви. А вы?
— Гисберт Клаус, профессор филологии Гамбургского университета.
Наступила чересчур долгая пауза. Кто-то пытался понять глубинный смысл его слов.
— Подойдите сюда, — сказал голос. — Вы можете сказать, что здесь делаете?
Гисберт сделал два шага к свету и увидел тень, которая движением руки приглашала его сесть.
— Видите ли, — ответил профессор, — именно это мне и хотелось бы узнать. Какого черта я здесь делаю?
Тень осветила себе лицо фонарем, потом луч был направлен в лицо Клаусу и, наконец, человек протянул ему руку.
— Приятно познакомиться.
— Сказал бы, что мне тоже приятно, — ответил Гисберт, — но, признаюсь вам, это было бы не совсем искренне. Кто те люди, которые притащили меня сюда?
— Не знаю, — прошептал голос. — Полагаю, это те же, кто сторожит меня. Проходите, садитесь. Хотите курить?
— Да, пожалуйста.
Зажигая спичку, он снова увидел лицо человека. На нем была темная сутана. У него были кудрявые волосы, щеки поросли неаккуратной седой бородой.
— Вы немец? — сказал человек. — Как странно, я ждал колумбийца. Видимо, у них изменились планы. Я выполнил свою миссию, и теперь, когда вы здесь, могу уходить. Не так ли? Ну хорошо, давайте не будем терять время, скажите мне пароль.
Гисберт подумал, что имеет дело с безумцем. Безумный священник. Его внешность была так же красноречива, как и слова.
— Извините, но я не понимаю, — сказал Гисберт Клаус очень вежливо. — О каком пароле вы говорите?
Теперь замолчал человек. В углу помещения что-то задвигалось с сухим шумом, но никто из них двоих не шелохнулся.
— Я был бы благодарен, если это не слишком обеспокоит вас, — продолжал Гисберт, — если б вы объяснили мне, о чем речь. Какую миссию вы имеете в виду и почему теперь можете уходить? Я собирался поймать такси, когда появились эти люди и — ужасные манеры! — притащили меня сюда. Это все, что мне известно. Судя по всему, видимо, произошло какое-то недоразумение. Вы ожидаете другого человека.
— Я не знаю этого другого человека, — сказал священник. — Но… кто из нас действительно знает? Так проявляет свое присутствие Господь. Вы верующий?
— Нет, падре, — ответил Гисберт. — Я ученый. К чему все это? Здесь какое-то чудовищное недоразумение и, откровенно говоря, я был вам благодарен, если б вы объяснили это своим людям. С удовольствием остался бы здесь побеседовать с вами, но у меня есть дела. Меня не интересуют теологические темы.
Глаза священника широко раскрылись. Гисберт увидел два очень светлых диска, и в центре — пару черных точек.
— Я говорю не о теологии, профессор, нет, нет… — сказал безумец. — Я говорю о жизни, о простой жизни. Разве это теология — говорить, что человек, который ждет в темноте, кто-то вроде пророка? Разве это теология — говорить, что некоторые вещи, какими бы простыми они нам ни казались, могут открыть нам истину, если мы внимательно в них вглядимся? Нет, профессор, вы ошибаетесь. Теология занимается более значительными темами. Например, выясняет, принадлежала ли плащаница самому Христу. Или выясняет, освобождает ли нас крест как символ от рока. Вы понимаете меня?
Гисберт посмотрел на собеседника с некоторой жалостью. Ему было ясно, что дальнейшие разговоры бессмысленны. Они скоро сами поймут, этот затворник и его люди, что совершили ошибку. Нужно было запастись терпением.
— Повторяю, я говорю о простых жизненных вещах, — продолжал священник. — Есть ли у предметов душа, или же мы видим в них отражение нашей души? Послушайте, я чего-то не понимаю: если вы явились не для того, чтобы ее забрать, какого черта вы тогда здесь делаете?
— Именно это я и пытаюсь вам объяснить, падре, — сказал Гисберт очень четко. — Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Произошло недоразумение.
Священник опустил голову на руки.
— Теперь понимаю, — сказал он. — Значит, ваша роль такая же, как у меня. Вы будете драконом, охраняющим сокровище. Сказочным драконом, вы следите за моей мыслью? Вы кажетесь хорошим человеком. Несомненно, вас послали, чтобы я не был один. Никто больше не может прийти сюда. Это как в глубине пещеры. Днем больше света. Раньше я был в другом месте, с окнами и крышей, и потайным выходом. Но некоторое время назад, не знаю, когда именно, меня привезли сюда, где несколько менее удобно. Здесь нет выхода. Если есть желание, можно пройтись по помещению. Оно просторное, и там, в глубине, есть окно. За окном — внутренний дворик, и если хорошо вглядеться, вы увидите, что капли, которые падают с крыши, постепенно долбят углубление в скале. Выберите себе место и устраивайтесь поудобнее. Не бойтесь меня обидеть, можете сесть подальше. Полагаю, каждый человек хочет уйти в себя, побыть один, поразмышлять. Выживете внутренней жизнью? Если это так, должен сказать вам, что вы попали в идеальное место. Я, прежде чем попасть сюда, был обычным человеком. Общение с самим собой, скромные размышления, которым я мог здесь предаваться, превратили меня в человека особого. Кстати, вы читаете по-китайски?
— Да, я профессор синологии, — кивнул Гисберт, уже не глядя на беднягу.
Священник широко раскрыл глаза и медленно возвел их к потолку, как если бы вдруг понял нечто важное или увидел что-то в воздухе.
— А, теперь я понимаю, зачем вас послали! — сказал он. — Вы здесь, чтобы я смог прочесть рукопись.
Сказав это, он приподнял свою сутану. Гисберт с беспокойством увидел сильное худое тело. Что он собрался сделать? Вокруг живота у него был обвязан металлический трос. На тросе была запекшаяся кровь, когда он снял его, рана снова стала кровоточить. Человек вытащил из-за спины сверток, на котором тоже были пятна крови.
— Я выполнил свою миссию, — заявил он. — Враги не смогли ее у меня отнять. Вот она.
Гисберт принял сверток дрожащими руками и прочел сверху: «Далекая прозрачность воздуха». Невероятно. Он осторожно стал разворачивать сверток, глядя на священника. Внутри оказалась старая папка, а в ней — рукопись, написанная черными чернилами, прекрасным каллиграфом. «Далекая прозрачность воздуха. Обо всем, что я видел и не смог рассказать. Ван Мин». Сердце Гисберта Клауса подпрыгнуло в груди, как резиновый мяч. Он вынужден был поднять голову, чтобы перевести дыхание. Вот она. Это и есть сокровище, которое имел в виду бедный священник. По спине у него потекла капля пота. То, что он держал в своих руках, могло изменить течение всей его жизни. Юношеские мечты филолога вновь явились, хотя и смягченные мудростью возраста. Мудростью, которая выше всего ценила наслаждение познанием. Это и была награда за исследования: быть здесь, с этим текстом в руках. Текстом, который очень немногие могут прочесть и понять. Возможно, похитители привели его сюда именно по этой причине, из-за его исследований. Может, его друг, ученый-букинист, рассказал им о нем? Это казалось невозможным, потому что почти все, что Гисберт знал о рукописи, он почерпнул из этих бесед с букинистом. Все было очень странно. Единственное, в чем он был уверен, — в том, что он находится сейчас здесь, в этом темном помещении, ради «Далекой прозрачности воздуха», и на данный момент эта причина показалась ему достаточной. Остальное будет ясно, когда придет время.
Священник, с глазами, огромными, как луны, наблюдал за ним, не двигаясь, молча. Гисберт устроился возле фонаря и начал читать первую страницу рукописи. Он дрожал от волнения. Священник был прав: он был как дракон, охраняющий сокровище.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
На следующий день Нельсон проснулся на животе Ирины. Ему казалось, что мир — это жара на русской даче, икона Андрея Рублева и мелодичное стихотворение Маяковского. Ах, проклятый Маяковский…
Он мог проехать по всему маршруту Транссибирской магистрали на легендарном экспрессе, который отправляется из Пекина, пересекает пустыню Гоби и прибывает в Москву, только лишь протянув руку и прикоснувшись к ней, касаясь подушечками пальцев этого красивого молодого тела, задержавшись на пупке, на ее подтянутом животе, на розовых сосках, проведя ладонью по ее носу и губам. «Если собираешься провести ночь с женщиной, — размышлял он, как эпикуреец, — лучше не пить спиртного». Ирина спала, слегка прикрытая простыней, и он встал бесшумно, стараясь не разбудить ее. Потом вышел в коридор, чтобы позвонить в кафе.
Заказав завтрак, Нельсон сел за рабочий стол, решив продолжить изучение писем своего двоюродного деда, потому что подумал, что, хотя его китайские друзья и собираются прочесть и перевести их, он все-таки может продолжать один, разгадывая содержание каждого. Он полагал, что необходима литературная обработка, чтобы поместить их в свою повесть. После у него еще останется время, чтобы прочитать книги Ван Мина…
«Дорогой брат!
Ихэтуани разгромлены, но дух братства все еще силен. Мы в безопасности. Они устали убивать. Они даже не ищут оружие, потому что поняли, что его уничтожили или закопали. Наша униженная страна должна продолжать свою историю. Рок преследует ее. Но мы не спешим, потому что история идет очень медленно. Большой Кулак возродится, наша мечта снова зарядит ружья. Рассвет услышит, как они палят.
Я отдал священную рукопись. Французский лейтенант спрячет ее в надежном месте, а позднее, когда все это окончится, и мы сможем возродиться, он вернет ее нам. Таково было его обещание. Я ему верю, потому что это писатель. Цельный человек. Он знает наши имена, твое и мое, и поэтому, когда наш посланец встретит его и скажет ему эти имена, он вернет рукопись. Таков был наш договор. Он сдержит свое слово. Отдав ему рукопись, я уехал из Пекина. Я вернулся в Лицзян, чтобы увидеть наш дом, место, где мы оба родились. Я почувствовал желание вернуться сюда, после того как умирал столько раз. Я устал умирать и устал от смерти. Я не хочу больше страданий. Я буду работать в поле. Отец и мать живут хорошо. Я буду заботиться о них. Мы будем гулять по горам и читать твои письма. Все уже не важно. В Лицзяне время остановилось. Ждем тебя каждый день,
Сень».Нельсон погладил свой подбородок. Рукопись, о которой упомянул его двоюродный дедушка, — «Далекая прозрачность воздуха» Ван Мина, та самая, о которой говорил ему Вень Чен. Кто, интересно, этот французский лейтенант? Если рукопись была обнаружена в архивах французской католической церкви, — значит, лейтенант так ее и не вернул, либо никто не пришел у него ее потребовать, либо послание не удалось передать. В остальных письмах Ху его деду, написанных из Лицзяна, пересказывались домашние события; несмотря на то, что в них всегда содержались намеки на великое дело ихэтуани, или Боксеров, там не встречалось больше никаких упоминаний о рукописи. Вероятнее всего, заключил Нельсон, что все сто лет и находилась в архиве, в свободном доступе. Иногда самый лучший тайник — открытое место, как в «Похищенном письме» По. Черт, подумал он, вечно литература кружит над жизнью. А чего можно ожидать, если он по натуре писатель? Нельсон нашел Чистый лист бумаги и написал:
Мое происхождение написано на бумаге китайскими чернилами, неровным почерком. Некоторые части я не понимаю, — темные эпизоды моей жизни, которые были замараны. Увидим. Сейчас тело русской принцессы и легкое дрожание ее кожи — это единственная книга, которой я принадлежу.Перечитывая, он почувствовал сладкий аромат. Копна светлых волос закрыла ему глаза. Открыв их, он увидел Ирину, которая, нагая, сидела у него на коленях.
— Я голодна. Закажем чего-нибудь, — попросила она.
Нельсон поцеловал ее веки, еще припухшие от сна.
— Заказ уже, должно быть, готов, подожди, — ответил он, поднимаясь и направляясь к телефону. — Я велел, чтобы не приносили, пока я не позвоню. Ты хочешь чего-нибудь особенного?
— Да, икры и шампанского.
Нельсон сглотнул слюну.
— Ты с ума сошла! — воскликнул он. — Ирина, пожалуйста. Мы в пекинской гостинице, а не в Зимнем дворце.
— Ну хорошо, тогда кофе с молоком, апельсиновый сок и тосты.
— Это лучше.
Сделав заказ, он вернулся и снова поцеловал ее.
— Ты должен мне кучу денег, sweet heart, — заметила Ирина.
Сказав это, она откинулась на стул, подняла ногу и разомкнула ляжки. На ягодице была небольшая татуировка. Он что, бредит? Серп и молот!
— Мои друзья заплатят тебе. Ты коммунистка?
Ирина сдвинула ноги и закурила сигарету.
— Да. Мой дед сражался вместе с маршалом Георгием Жуковым, оборонял Москву, когда Гитлер вторгся на нашу родину. Мой отец тоже был военный, лейтенант, но попал в тюрьму за попытку государственного переворота. Он хотел свергнуть Горбачева. Он еще сидит. Мама умерла, а я приехала в Пекин, чтобы зарабатывать на жизнь, потому что не могла бы заниматься этим ремеслом у себя на родине. Мой дед защищал Москву от нацистов не для того, чтоб его внучка была шлюхой, понимаешь?
— Отлично понимаю, но не говори так грубо о самой себе, — отозвался Нельсон, лаская ее волосы.
— Не надо меня жалеть, — ответила Ирина, — я знаю, чем занимаюсь. Я изучаю медицину, но с прошлого года иностранцы должны платить за диплом. А это очень дорого. Потом я хочу уехать в Европу.
— У тебя есть парень?
Ирина почесала пальцы на ноге.
— Да, он в Москве. Я его два года не видела и думаю, что у него уже другая женщина. Но я все равно его люблю. Вероятно, мы никогда не увидимся.
— Если это так, почему же ты продолжаешь его любить?
— Потому что любить — это хорошо, — ответила Ирина. — Это для меня. Что он думает или делает, мне не важно.
— Благородная философия! — воскликнул Нельсон.
— Сначала я хотела сыграть с тобой шутку, — вдруг заметила она.
— Сначала?
— Да, когда я сказала про икру и шампанское. Хотела знать, насколько ты глуп. Это была проверка.
— И как я ее выдержал?
— Хорошо, — улыбнулась Ирина, — ты не глуп. Или, по крайней мере, ты не так глуп, как другие.
— Сколько у тебя было мужчин? — спросил Нельсон.
— Семьдесят шесть. Я начала недавно и не часто работаю.
— Неплохо для человека, который прибыл издалека, — пробормотал Нельсон. — Я — номер семьдесят шесть у Ирины Жуковой. Звучит хорошо.
— Звучит хорошо, но это неверно. Ты семьдесят пятый. Вчера днем у меня был еще один клиент.
Нельсон посмотрел на нее удивленно.
— Не знаю, как ты можешь быть такой холодной.
— Это коммерция, чувства здесь ни при чем. Не забывай, что я — фирма. Тело, которое ты так страстно целуешь, — как офисное здание: в каждом кабинете сидят люди и работают допоздна, чтобы получить прибыль. Откуда ты знаешь, холодная я или горячая? Ты ничего обо мне не знаешь.
— Я знаю, чем ты пахнешь.
— Как тонко, — засмеялась Ирина. — Теперь ты действительно кажешься мне глупцом. Пониже пупка все мы, женщины, пахнем одинаково. Хочешь, чтобы я ушла?
— Нет, останься, я заказал кофе.
Нельсон подумал, что он сам — тоже огромное здание, но не офисное. Строение с длинными коридорами, наполненными доверху книгами и бумагами, с салонами для дискуссий и эстрадами для публичного чтения. Внутренние комнаты творца… Там встречались друг с другом множество поэтов, философов, мистиков, современных писателей и классиков. Бодлер, Уильям Берроуз и Порфирио Барба Хакоб курили марихуану и слушали джаз под инквизиторским взглядом бенедиктинца Фейхоо; Гомбрович украдкой запускал руку в штаны Артюру Рембо, который, в свою очередь, переглядывался с Витгенштейном; Рубен Дарио оживленно беседовал с Ли По и заставлял его пообещать, что они как-нибудь устроят отличную пьянку в Манагуа; Генри Миллер пил вино с Омаром Хайямом, указывая тому на луну и одновременно лаская интимные места Лу Андреас Саломе; Рикардо Пальма вслух читал Фолкнеру стихи, ища его одобрения, а тот без конца наливал себе виски и обсуждал с Федором Достоевским партию в кости, имевшую место прошлой ночью на квартире у Малларме; Селин и Хосе Эустасио Ривера болтали о нищете экваториальной сельвы и насмехались над мнением Шатобриана по этому вопросу; Лесама Лима обсуждал с Тертуллианом изобретение арабами нуля; Ницше спрашивал у Софокла, откуда тот откопал идею «Царя Эдипа». В его здании, равно как и в его творческом сознании, царили движение, беспорядок, суматоха. Нужно что-нибудь написать на эту тему, сказал себе Нельсон, какое-нибудь эссе. Оно будет посвящено Ирине.
Они завтракали и смотрели Си-эн-эн, а Нельсон не уставал восхищаться ею. Русская была очень хороша, красота ее была вызывающей и властной. Допив кофе, Ирина прошла в ванную и через пару минут вернулась одетая.
— До свидания, — попрощалась она по-русски. — Потребуй у своих друзей мои деньги. Да, и если ты меня захочешь еще раз, поговори с ними. Прости, если я была слишком болтлива. Но это твоя вина. Ты заставил меня говорить.
Минуту спустя кто-то дважды постучал в дверь. Открыв, Нельсон увидел Вень Чена.
— Вынужден со всем почтением просить вас, друг мой, — сказал старик, — чтобы вы следовали за мной. Случилось кое-что важное.
— Я весь внимание.
Они вышли на улицу. Там их ждала машина.
— Ваш друг, немецкий профессор, исчез. Неизвестные люди посадили его этой ночью в машину, и в отель он не вернулся.
— Профессор Гисберт Клаус? Не могу поверить, — сказал Нельсон. — То есть это значит, что он — агент?
— Есть такая вероятность, хотя и слабая. Увидим. Перед тем как его увезли, профессор был в немецком посольстве. Потом поехал во французское. Оттуда он укатил в сопровождении чиновника-дипломата и направился в архивы французской католической церкви. Его похитили ночью, когда он был один.
— Кто это мог сделать?
— Мы этим занимаемся. Один из наших людей сумел проследить за машиной до промышленной зоны на юго-востоке города, но там он потерял их из виду. Это большой район. Многие наши люди занимаются поисками.
— Почему вы не дали мне знать ночью?
— Предпочли подождать до утра, в надежде, что будут какие-нибудь результаты, — пояснил Вень Чен. — Мне показалось бестактным беспокоить вас, особенно учитывая, что вы были не один.
— Благодарю вас, — ответил Нельсон.
Они приехали в тот же дом, что и накануне. В кабинете Нельсон налил себе чаю, начал размышлять вслух. В окружении китайских товарищей он чувствовал себя очень хорошо.
— Надо задаться вопросом о том, высокочтимые друзья, — сказал Нельсон, — каков мог быть мотив похищения. Именно так мы можем напасть на след преступника.
Вень Чен переводил для тех, кто не понимал английского; кругом раздавались невнятные бормотания. Все с уважением смотрели на Нельсона. Некоторые записывали.
— Необходимо быстро проанализировать ситуацию, — продолжал тот, довольный эффектом, который его речь производила на слушателей. — Пункт первый: что делал Гисберт Клаус в Пекине? Пункт второй: какой интерес может быть у кого-либо в том, чтобы похищать немецкого профессора-синолога? Кроме того, если в день похищения Клаус был в посольствах Германии и Франции, нужно исключить из списка возможных организаторов похищения французских и немецких агентов, по крайней мере для начала. Господа?
Присутствовавшие тихо переговаривались, производили какие-то расчеты. Лица хмурились, многие нервно записывали. В конце концов один из них поднял руку и начал говорить:
— Мы знаем, что профессор Клаус исследовал творчество Ван Мина, а это значит, что он знал о существовании рукописи. У его похитителей могло быть две причины: либо что-то из того, что он знал, могло помочь им, либо они хотели остановить его.
Говоривший был очень худым. Другой, пожилой китаец, поднялся со своего места.
— Если похитители — те же самые люди, которые держат у себя французского священника, а значит, и рукопись, то я склоняюсь к мнению моего товарища. В противном случае не вижу, какой интерес может представлять Клаус для тех, кто ищет рукопись. Для нас, например. Каким образом он мог бы нам помочь?
— Возможно, его захватил кто-то, у кого меньше информации, — высказался еще один из присутствующих. — Кто-то, кто считает, что профессор благодаря своей эрудиции может знать что-то, что позволит найти рукопись.
— Не согласен, при всем уважении, — возразил пожилой китаец. — В этом вопросе значение имеют не специальные научные знания, а информация. Эрудиция профессора мало чем поможет, если нужно найти рукопись. Я склоняюсь к первоначальной версии: те, кто его похитил, завладели и рукописью.
Нельсон обвел глазами присутствующих и увидел, что многие кивают в знак согласия. Казалось, все сошлись на этом предположении.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Будем считать, что те, кто его похитил, держат у себя рукопись. А теперь пункт первый: что именно Гисберт Клаус делал в Пекине?
Надолго воцарилась тишина. Все чертили схемы и что-то писали в блокнотах.
— Профессор Клаус, — начал Вень Чен, — прибыл в Пекин, исследуя творчество Ван Мина. Однако вчера поступила информация, касающаяся его визита в немецкое посольство.
Тут Вень Чен вынул свои очки и прочел рапорт, лежавший у него в папке.
Мне сообщают, что Клаус просил рекомендательное письмо для посольства Франции, — сказал он, — поскольку хлопотал о разрешении на работу в архивах. Во время обоих своих визитов Клаус объяснил, что ведет исследование о восстании ихэтуаней. Значит, наш профессор искал кое-что еще.
Возможно, Клаус действительно агент, — заключил Нельсон, — и был похищен теми, у кого находится рукопись, чтобы нейтрализовать его. В любом случае предлагаю ждать результата сегодняшних поисков. Возможно, наши люди найдут что-нибудь в том районе. Вы продолжаете наблюдение за отелем?
— Да, господин, — ответил Вень Чен.
Наблюдение действительно продолжалось.
Улицы промышленной зоны, где пропали из вида похитители Гисберта Клауса, были очень малолюдны, наблюдателю трудно было остаться незамеченным. Старик с тележкой фруктов стоял на углу. Несколько молодых людей проезжали туда-сюда на велосипедах в надежде, что какая-нибудь дверь откроется и выдаст свой секрет или что в каком-нибудь гараже отыщутся две машины завода «Красное знамя» с тонированными стеклами китайского производства, в которых был похищен немецкий шпион. Парочка студентов прогуливалась, держась за руки, иногда заходя в подъезды. У всех наготове были сотовые телефоны.
Я проснулся, одержимый одной мыслью: Омайра. Простыни хранили запах ее духов, смешанный с потом, поэтому я сделал нечто, совершенно для себя необычное: заверялся в них, как зверь, который идет по следу, припорошенному снегом. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поднять трубку и не позвонить ей. Кроме того, была назначена встреча с Чжэном, поэтому я быстро собрался, позавтракал в кафе самообслуживания: яйца всмятку, кофе с молоком, апельсиновый сок и круассаны — и выбежал на улицу. Увидев меня, Чжэн по-военному отдал мне честь.
— Я о многом должен вам рассказать, пойдемте, — сказал он мне, садясь в джип. — В первую очередь о том, что случилось вчера. Имя и адрес, которые дал нам наш любезный заложник, оказались очень полезными. Речь действительно идет об одном из вождей новых «боксеров» в Пекине, хотя это вовсе не вождь экстремистской группы «Белый лотос». Его зовут Вень Чен; из того, что мне удалось выяснить, следует, что он очень уважаемый агроном, человек, которого трудно заподозрить в подобных делах, по крайней мере, на первый взгляд. Я был в доме, где они собираются, и смог удостовериться, что у него и вправду сотни сотрудников, они незаметно входят и выходят, это простые люди, которые могут, не привлекая к себе внимания, проникать в любые места, при любых обстоятельствах. В этом, кстати, их огромная сила, благодаря этому им и удалось узнать о существовании рукописи.
— Значит, — спросил я, — наш кюре у них?
— Весьма вероятно, хотя не стоит отвергать и другие гипотезы. Если священник не непосредственно у Вень Чена, то, видимо, у кого-то из той же организации. Этим утром я установил за ним наблюдение. В полдень агент сообщит мне новости.
Пока мы ехали, нашему взгляду открылась стена, которая окружает Запретный город, с ее широким каналом и оборонительными башнями. Зрелище было впечатляющее. По другую сторону проспекта виднелся холм парка Янгшан, увенчанный башней с фарфоровыми крышами. У меня создалось такое впечатление, что я прожил в Пекине целую жизнь и тем не менее у меня еще не было времени осмотреть город. Я решил, что непременно сделаю это до отъезда, и представил себе эту прогулку вместе с Омайрой Тинахо. Сколько сейчас времени? Я обещал ей позвонить в полдень, казалось, стрелки нарочно двигаются медленно.
— Второе дело, о котором я хотел с вами поговорить, касается немецкого агента, — продолжал Чжэн. — Вчера, каким бы невероятным это ни казалось, случилось нечто весьма забавное: Гисберт Клаус был во французском посольстве.
— Во французском посольстве? — повторил я удивленно.
Именно, — подтвердил Чжэн. — То есть, пока мы пытались обыскать его номер, он сам пришел к нам в логово, а потом ушел, представьте себе.
— А почему нас никто об этом не предупредил?
Чжэн развел руками, потом дотронулся до лба.
— Откуда я знаю? Бюрократия. Не все дипломаты осведомлены о нашей деятельности. Он испросил разрешения работать в архиве и провел там весь день в сопровождении французского чиновника.
Я не смог сдержать издевки.
— Ну да, а я в это время был в отеле «Кемпински», причем не в том номере. По правде говоря, нам над многим стоит поработать.
— Вы правы… — признал Чжэн, посрамленный. — Из-за таких вот ошибок проигрывают войны. Представьте себе, всего через час после того, как он вышел из архива, Ословски об этом сообщили, но мы уже потеряли немца из виду. Этим утром, очень рано, один из наших сотрудников установил наблюдение за отелем, но, судя по всему, Клаус уже покинул свой номер, поскольку ночью он в него не возвращался. Возможно, он нас вычислил и обосновался в другом месте. Странно, что он оставил вещи. Среди них — несколько оригинальных изданий Ван Мина, а кроме того, множество книг на французском и испанском, которые нам следует изучить. Мой человек принес их. Сейчас вы можете оказать нам очень большую помощь, ведь, насколько я понимаю, вас интересуют книги, не так ли?
Эта последняя фраза меня удивила.
— Да, а откуда вы знаете? — спросил я.
— Я профессионал, сеньор Суарес Сальседо, — ответил Чжэн. — Представьте себе, перед тем как с вами познакомиться, я изучил рапорт, который нам прислали из Парижа.
— И о чем же еще говорилось в том рапорте?
— Обо всем понемногу. Между прочим, вам была дана не самая лестная характеристика; я смог удостовериться в том, что она неверна.
— То есть?
— Там говорилось, что вы — человек трусливый, податливый, очень подверженный влиянию и слабохарактерный, — ответил Чжэн.
— Черт, неужели поэтому меня отправили в Пекин?
— Я тоже так подумал, — сказал он. — Но это неправда — то, что вы податливый и трусливый.
— Благодарю за вашу оценку, Чжэн, — ответил я.
Я подумал, что за всем этим стоит Кастран — и возненавидел его, главным образом потому, что все это была правда. Я боязлив и сговорчив. Никогда ни на кого не повышал голоса, разве что на собственное отражение в зеркале. Что тут поделаешь!
— Кстати, Чжэн, — спохватился я, — а куда мы едем?
— Хороший вопрос, — ответил он. — Мы едем на встречу с одним из моих людей. С тем, который следил за номером немецкого агента.
Моя реакция была незамедлительной: кровь ударила мне в лицо, если б она могла говорить, то произнесла бы одно имя: Омайра Тинахо. Почему? Это был и ее отель.
— В «Кемпински»? — спросил я, затаив дыхание.
— Нет, мы увидимся с ним в более надежном месте, — к моему величайшему огорчению, ответил Чжэн. — В «Кемпински» повсюду слежка.
— Серьезно?
— Да, — сказал он со значением, — обнаружив убежище Вень Чена, мы стали следить за некоторыми из его сотрудников. У него четырнадцать человек в «Кемпински».
— Ах… — не сдержался я.
Мы подъехали к тому же старому зданию, в котором я встречался с Ословски; однако, увидев сотрудника Чжэна, я чуть не упал от изумления: это оказался Чжоу, карлик! Поборов свою природную робость, я все же решил выразить замечание.
— Должен сказать вам, что у меня есть сомнения, — сказал я Чжэну на ухо, — по поводу целесообразности использования Чжоу в качестве секретного агента.
— Вот как?
— Его внешность несколько бросается в глаза, — пояснил я.
— Благодаря своей комплекции он обладает необычайной подвижностью, которой лишены другие агенты. Тем не менее я принимаю ваше замечание. Учту его в отношении будущих заданий.
Мы сели. Ословски и Сунь Чэна не было. Вместо них присутствовали два других человека, китайцы, очень молчаливые, я видел их впервые. Кто-то принес чашки с чаем и чайник с кипятком. Чжоу скрестил руки на груди и начал говорить.
— Информация, собранная этим утром, а также рапорт, полученный вчера из посольства Франции, позволяют нам утверждать, что немецкий агент Гисберт Клаус — рабочий псевдоним неизвестен — находится в Пекине, осуществляя исследование касательно восстания Боксеров и творчества Ван Мина, многие работы которого в оригинальных изданиях я обнаружил в спальне профессора, так же как и книгу мемуарного характера, написанную автором по имени Пьер Лоти. Все книги сейчас внизу, в сумке.
Чжоу откашлялся, вдохнул побольше воздуха и смачно плюнул в окно, после чего продолжил свою речь:
— Все это позволяет высказать гипотезу, что Клаус прибыл в наш город в поисках рукописи «Далекая прозрачность воздуха», несомненно, по заданию властей. Я дол жен напомнить вам некий исторический факт, а именно: многие из христианских конгрегации, работавших в Северном и Центральном районах Китая, были с 1950 года представлены немецкими священниками, и значительная часть духовенства, убитого во время восстания, была как раз из них. Германия, несомненно, имеет свои интересы здесь, в Китае, и если мы вспомним, что «боксеры» убили их выдающегося военного маршала, мы поймем, что их интерес с исторической точки зрения обоснован.
Мы продолжали внимать ораторским изыскам Чжоу, как вдруг у Чжэна зазвонил телефон. Он ответил по-китайски, но выражением лица дал мне понять — случилось нечто важное.
— Только что сообщили, — прошептал Чжэн, — что Вень Чен распределил двадцать пять своих агентов в промышленной зоне на юго-востоке Пекина. Это означает две вещи: первое — что священник не у них, и второе — что, возможно, его уже нашли. Пойдемте.
Чжэн бегом спустился по лестнице. Перед тем как выйти наружу, он схватил сумку с книгами, найденными в номере Клауса, и подал мне.
— Ах да, и кое-что еще, — сказал он. — Согласно моему информатору с ними агент, который прибыл из Соединенных Штатов. Перуанец китайского происхождения, Шоушэнь. Кажется, он писатель.
— Писатель? — переспросил я.
— Омайра Тинахо упоминала о каком-то перуанском прозаике. Как его звали? Кажется, Нельсон, да. Писателей с таким именем не существует. Не он ли это?
Сев в джип, я достал сотовый и набрал номер «Кемпински». Задыхаясь, попросил номер 907.
— Это ты? — вместо приветствия спросила Омайра.
— Да, — ответил я ей. — В том случае, если «ты», произнесенное тобой, относится к колумбийскому журналисту, с которым ты познакомилась этой ночью.
— Ха, а к кому еще может относиться это «ты», можно узнать? — сказала Омайра.
— Ну, оно могло бы откоситься к перуанскому писателю и танцору или к бразильскому проктологу, — ответил я.
— Малыш, не говори чепухи, — прервала меня Омайра. — Слава Богу, ты позвонил, я уже десять минут сижу с телефоном на коленях, ожидая твоего звонка. Ты далеко?
— На юго-востоке города, собираюсь взять интервью. Днем у меня другие дела. А ты?
— Ну, я свободна до трех, а потом начинаются дневные заседания. Кстати, я сказала Рубенсу, что ты сегодня ночью почувствовал себя плохо, и я отвезла тебя в клинику. Не знаю, поверил ли он. По правде говоря, я уверена, что нет, но какая разница? А ночью?
— Э-э… Ночью? Ну, пока я полагаю, что буду свободен, — ответил я. — Позже, когда ясно станет, как продвигается сегодняшняя работа, я сообщу тебе в отель.
— Не продавай себя так дорого, Серафин, скажи мне, да или нет.
— Если бы это зависело от меня, я сейчас же пришел бы к тебе, но все сложно. Проблема журналистов в том, что мы зависим от распорядка дня других людей, понимаешь?
— Хорошо, но ты позвони мне, а? — попросила она. — Я думала о тебе все утро. Не понимала, о чем говорили на первом заседании. Я все еще схожу с ума, но мне это нравится.
— Я тоже схожу с ума по тебе.
— Значит, увидимся ночью?
— Да, конечно, да.
Я повесил трубку, размышляя о том, как бы это можно было устроить. Если в «Кемпински» полно агентов, то идти туда значило ставить все под угрозу. Я не мог рассказать Омайре правду, потому что не хотел втягивать ее в это дело. И наконец, оставалась еще проблема с этим непонятным перуанским писателем. Если тот, о котором упоминала Омайра, и тот, о котором говорил Чжэн, — одно и то же лицо, я должен был вопреки своему желанию учитывать вероятность, что Омайра тоже шпионка и, следовательно, отношения со мной — часть заранее продуманного плана.
Размышляя об этом, я открыл сумку с книгами немецкого агента и стал просматривать заглавия. «Пекинский дневник» Пьера Лоти, несколько томов на китайском, книга Хосе Марии Аргедаса на испанском (честно говоря, это меня удивило) и еще вроде бы повесть, тоже на испанском, под названием «Блюз Куско»… Нельсона Чоучэня Оталоры!!!
Мое изумление было столь велико и так ясно отразилось на моем лице, что Чжэн резко затормозил, свернул с дороги и припарковал джип на тротуаре.
— Что случилось?
— Взгляните, Чжэн, — ответил я, показывая ему обложку книги. — Это тот самый перуанский агент китайского происхождения. Чоучэнь Оталора. Очень похоже на ту фамилию, которую вам назвали, не правда ли? Значит, Клаус мог разыскивать этого агента и даже, возможно, знал его.
— Звучит логично, — любезно сказал Чжэн.
После того как я открыл книгу, места сомнениям не осталось: на титульной странице было посвящение «Филологу Гисберту Клаусу, коллеге и другу, обнаружившему перуанские инкунабулы в пекинских книжных магазинах. С сердечным приветом от Нельсона Чоучэня Оталоры». Судя по дате, надпись была сделана три дня назад.
— Да, они знакомы, — заключил я. — Они встречались в Пекине.
Чжэн в задумчивости теребил гладко выбритый подбородок.
— Это обязывает нас принять в расчет еще одну версию, — сказал он, — а именно, что и перуанец, и Клаус работают вместе. С Вень Ченом, я имею в виду.
Слушая его, я пребывал как будто в тумане, поскольку моя способность к восприятию происходящего сошла на нет. В душе шла битва между циничным мозгом и чувствами. Казалось, все указывает на то, что Омайра вовлечена в интригу, но я видел ее лицо, слышал ее голос, вдыхал запах, и рассуждения растворялись в воздухе, как растворяется сахар в воде. Я вспомнил о мадам Баттерфляй, «Шпиона, который меня любил», Мату Хари. Была ли Омайра искренней, когда настаивала на встрече, или это часть плана, цель которого — получить информацию? Будь как будет. У меня есть одно преимущество, щит, которым я мог прикрыться: подозрения.
Такой расклад событий ставил меня в неловкое положение: я должен был утаивать от Чжэна часть фактов, поскольку не мог рассказать ему ничего, по крайней мере до тех пор, пока еще раз не увижусь с ней. Мне нужно было что-либо, что позволило бы глубже анализировать происходящее. Черт, сказал я про себя. Как я был далек от реальной жизни в своей удобной парижской башне из слоновой кости, занимаясь рутинной журналистской работой, оплакивая любовные и литературные неудачи. Правда состоит в том, подумал я, что, с тех пор как я сделался шпионом, жизнь оказалась очень сложной штукой. Кто бы мог представить? Еще вчера — подневольный журналист государственного радио Франции, сегодня — тайный агент, участвующий в выполнении деликатной миссии на Дальнем Востоке, которого пленили огненные бедра кубинской Маты Хари. Но этот образ, мною же отвергнутый, очень быстро улетучился, поскольку, по правде говоря, даже если бы я был обманут, я не собирался отказываться от Омайры.
Чжэн завел мотор, мы поехали дальше по проспекту, который постепенно сужался; в конце концов мы оказались в гараже какого-то старого здания. Строение выглядело заброшенным, оно было частью полуразрушенного городского квартала.
— Если они увидят западного человека, это покажется им очень подозрительным, — сказал Чжэн, — поэтому нам лучше остановиться здесь, С террасы здания проглядывался весь район: индустриальные бараки, чудовищные сараи, ряды серых домов, в которых еще, казалось, кто-то жил. Светящиеся надписи по-китайски навели меня на мысль о роскошной декорации. Со старого рекламного плаката прохожим улыбалась девушка в рабочем комбинезоне.
— Мои люди расположились через три улицы отсюда, видите? — сказал он, передавая мне бинокль. — Приблизительно на высоте вон того красного табло.
— Да, вижу, — ответил я. — Люди Вень Чена тоже там?
— Они везде, и здесь тоже, их ведь много. Они следят за происходящим, двигаясь туда-сюда по улице, наблюдают с крыш. Нужно быть осторожными. Они могут нас заметить.
— А как нашим удается ускользнуть от наблюдения? — спросил я.
— Ну, они ходят среди толпы. Те не знают, что мы за ними следим, это наше преимущество.
Я сел в старое кресло, держа в руках сумку с книгами агента Клауса. Чжэн курил на диване. Глядя на кольца дыма, мой товарищ заявил, что в такой работе бывает много мертвого времени и что главное здесь — терпение.
— Мы как рыбаки на озере, — говорил он. — Нужно дождаться именно того мгновения, когда рыба клюнет. Это мгновение вообще может не настать, но если рыбак заснет на секунду, возможно, он его упустит.
— На Западе мы называем это законом Мерфи, — сказал я ему.
Он посмотрел на меня без удивления.
— В данном случае лучше представлять себе путь, который проделывает рыба, прежде чем попасть на крючок. Прогулка по глубинам озера.
Я просмотрел французские книги. В сочинении Лоти действительно речь шла о восстании Боксеров. На полях было много пометок, комментариев.
— Вы понимаете по-немецки? — спросил я Чжэна.
— Нет, — ответил он. — Я получил образование во время холодной войны, Германии тогда не разрешалось иметь собственную армию. Это была не та страна, к войне с которой надо было быть готовыми.
— Но вы говорите по-испански и по-французски, — возразил я. — Какая угроза могла исходить от этих двух цивилизаций?
— По-французски в Китае всегда много говорили, а кроме того, это язык моей религиозной конгрегации. Испанский я выучил сам. Английский и русский преподавали в военной академии. В случае настоятельной необходимости я сумею объясниться по-японски.
— Жаль, что Германию не считали опасной, — сказал я ему, — поскольку здесь есть некоторое количество примечаний на немецком, которого я не знаю.
— Мы отдадим их Ословски, — ответил Чжэн, — он по происхождению поляк и, как каждый хороший поляк, немного говорит по-немецки.
— У них-то считалось, что Германия и впрямь представляет собой угрозу.
Я начал читать книгу Лоти и очень быстро забыл, что нахожусь в доме с террасой, под пекинским небом, поскольку был загипнотизирован великолепной прозой и лаконичными описаниями. Я знал, кто такой Лоти, знал о его славе литератора и путешественника, но никогда его не читал. На страницах книги рассказывалось о том, что пережил город после восстания Боксеров, то есть после выступления предшественников Вень Чена и всех этих людей, находившихся сейчас всего в трех улицах от нас. Никогда раньше у меня не было таких странных взаимоотношений с книгой.
Хоть я и не понимал пометок Клауса, но мог задерживаться на абзацах, которые он отметил, и очень скоро наткнулся на множество упоминаний о рукописи, — полагаю, той самой, которую мы сейчас искали. Я решил прервать философскую задумчивость Чжэна — «прогулку по глубинам озера», — чтобы прочитать ему несколько абзацев.
— Итак, был какой-то французский лейтенант, чьей задачей было спрятать ее, — заключил он, выслушав. — Черт, и как же Клаус нашел этот документ? Видно, спецслужбы в Берлине, Бонне, или где они там, очень хорошо информированы.
После Лоти я прочел два отмеченных параграфа бельгийского автора, Доминика Аристида, там содержалось подтверждение открытию Гисберта Клауса.
— Поэтому он и обратился в посольство Франции и попросился в архив, — сказал я, — и это указывает на тот факт, что Гисберт Клаус не знал, что документ был обнаружен, а потом выкраден. Он упоминал о рукописи в разговоре с атташе по культуре, когда ходатайствовал о разрешении?
— Нет. Просто сказал, что проводит исследования о восстании Боксеров. Кстати, я еще не показал вам фотографии, которые сделали в посольстве. Они здесь, в папке.
Лицо Гисберта Клауса было лицом ученого. Ему было лет шестьдесят. Никак не больше шестидесяти пяти. В нем непросто было заподозрить тайного агента. Интересно, его, как и меня, завербовали в последнюю минуту, или он опытный шпион? Ничего, узнаем, пообещал я себе. Согласно полученной информации и судя по кругу чтения, мы имели дело с большим эрудитом. Черт, не каждый день в номере немецкого агента можно обнаружить первое издание Хосе Марии Аргедаса.
Чжэна, казалось, не интересовал Клаус — он едва взглянул на книги. Вместо этого он время от времени выходил на террасу и обозревал окрестности в бинокль. Но все было тихо.
Я подумал, что, раз мы находимся так близко от объекта, их антенны должны улавливать малейшие волны.
Потом я открыл книгу перуанца, «Блюз Куско», и начал читать. Первые же строчки вызвали у меня некоторые сомнения.
«— Мамулечка, мамулечка! — закричала Пилар.
— Молчи же ты ради Пречистой Девы! — возразил Абундио, брат. — Оставь мамулечку в покое на ее смертном одре.
— Но я чувствую, что мамулечка жива. Потом брат и сестра пошли дальше по долине».
Сумерки просачивались в окна, а вместе с ними и нетерпение. Я должен был что-нибудь придумать, чтобы объяснить, почему мне нужно уйти, и отправиться к Омайре Тинахо — необходимость, о которой в голос кричало все мое тело. Если «Кемпински» полон шпионов, разумно будет назначить ей встречу в моей гостинице. Я достал сотовый и позвонил. В номере никого не было, поэтому я оставил следующее сообщение: «Жду тебя в моем отеле в девять, поужинаем. Целую. Серафин». И сам удивился, с какой естественностью произнес свое имя.
Около восьми — никаких новостей не было — Нельсон решил вернуться в свою гостиницу. Пора, сказал он себе, начинать писать мой великий роман. Сегодня вечером он чувствовал вдохновение. Материала было много, и он считал, что нашел нужный тон повествования: «Нам нравился дом на Чжинлу бацзе, 7, не только потому, что он был большим и просторным, но и потому, что был расположен рядом с озером Сихуань…» Да. Именно то, что нужно. Он начнет с рассказа о доме, сделав в первой главе описание пекинской жизни в конце XIX века; потом сделает смелый — и новаторский, в согласии с канонами современной литературы, — прыжок в Куско тридцатых годов, когда ребенок, которого читатель видит в начале романа, уже превратился в зрелого человека, закаленного борьбой и перипетиями иммиграции; в третьей главе — новый прыжок, не только новаторский, но, скажем так, без тормозов, — в Остин (Техас, Соединенные Штаты), в конец XX века, где речь будет идти от первого лица. Книга должна бросить всем вызов. Восток и Запад, соединенные в одном повествовании. Тройная иммиграция: из Пекина в Куско, из Куско в Техас, из Техаса в Пекин. Один век мировой истории. Семейная сага. Если в Голливуде не снимут по этому роману фильм, то они просто козлы. Итак, Нельсон направился в гостиницу пешком, разглядывая огни торговых центров и освещенные верхушки небоскребов, мечтая о своей книге, о предложениях от кинематографистов, о долларовых чеках на кругленькую сумму. Очень скоро мир узнает, кто он такой, и все эти эстетствующие господа из Лимы, которые унижали его, приползут на коленях просить прощения: «Мы ошибались, Нельсон, протяни нам руку, мир, да?» — и он, конечно, протянет им руку; поговорит со своими друзьями из Голливуда, и те дадут им какую-нибудь солидную работу; и вдруг, даже не осознав как следует, как это случилось, он увидел в своем воображении фотографию, опубликованную одновременно в «Нью-Йорк таймс», «Комерсио», издаваемой в Лиме, и мадридской «Эль Паис». «Нельсон Чоучэнь Оталора и Стивен Спилберг беседуют во время премьеры „Восток — красный“, нового фильма американского режиссера, поставленного по одноименной повести Чоучэня Оталоры». Когда он представил себе этот день, такой выстраданный, такой долгожданный, глаза его наполнились слезами; и сразу же на мысленном экране возник Норберто Флорес Арминьо, в своем кабинете, окруженный придворными — подхалимами и всезнайками, собравшимися вокруг газетного листа. Все они говорили, что это уже слишком, что на такую высоту их стрелы не долетают, лучше не связываться с профессором Чоучэнем. И эти тоже, один за другим, приползут к нему под дверь клянчить милостыню. Конечно, так и будет.
Покинув Вень Чена и оказавшись у себя в номере, он обнаружил сообщение на автоответчике. Оно было от Ирины. «Я хочу видеть тебя этой ночью, но без твоих друзей. Выходи из гостиницы через служебный вход, он находится за тренажерным залом. Встретимся в девять и пойдем ко мне домой. Прости меня за утреннюю холодность. Целую. Ирина». Черт, сказал себе Нельсон, жизнь оправдывает самые заветные ожидания. Какой писатель пренебрег бы этой нежной, развратной девушкой ради работы? Бальзак, который был его учителем, не сделал бы этого, а это было для Нельсона более чем оправданием — это было почти приказом. Он посмотрел на часы и понял, что нужно поторопиться. Достал выглаженную рубашку, пошел в ванную, чтобы почистить зубы, подушиться и еще раз воспользоваться дезодорантом, и вышел из номера. Указания Ирины были очень ясными, но, чтобы последовать им, он должен был улизнуть от своих телохранителей. Это казалось ему относительно легким, поскольку они дежурили у главного выхода.
Итак, Нельсон направился по внутреннему коридору до тренажерного зала. Три толстяка, несомненно, американцы, крутили педали велотренажеров; молодой китаец качал пресс; какая-то дама истекала потом на движущейся дорожке, то и дело ощупывая свои ягодицы. Он без труда разыскал позади душевых кабин дверь и вышел на улицу.
Окинул темноту взглядом; у машины, стоявшей в отдалении, включились фары. Это она? Да. Как только он поднял руку, автомобиль тронулся. Нельсон прыгнул внутрь, и они поехали.
— Я тоже очень хотел увидеть тебя, моя прекрасная матрешка, — сказал Нельсон, целуя Ирину в шею. — Я знал, что твоя холодность при соприкосновении с горячей латиноамериканской кровью в конце концов улетучится.
— Честно говоря, sweet heart, в эту минуту моя кровь кипит, но по другим причинам. На заднем сиденье для тебя сюрприз. Посмотри и поздоровайся.
Обернувшись, Нельсон увидел человека в темном костюме и тканевой маске, закрывавшей лицо. И дуло пистолета.
— Но что?! — воскликнул Нельсон. — …Кто, черт возьми, этот тип?! Он вооружен. Останови, пожалуйста, думаю, мне лучше выйти. Отложим нашу встречу до другой ночи…
— Не знаю, понял ли ты, — заметила Ирина. — Пистолет не для того, чтобы просто показать его тебе. Он может в тебя выстрелить.
Нельсон нервным движением опустил руку на бардачок, и человек в маске приложил ему пистолет ко лбу.
— Насколько я знаю, он мало говорит, — объяснила Ирина, — зато действует очень убедительно. Не пытайся делать глупости; он проворнее мухи.
Впервые перед носом Нельсона оказался пистолет. Проанализировав свое внутреннее состояние, он нашел, что испытывает прежде всего огорчение, чувство нелепости происходящего и только потом страх. Кто-то посмеялся над ним. Он решил, что Вень Чен и его люди вытащат его из этой передряги, поэтому глубоко вдохнул и постарался успокоить свои нервы. Что, черт возьми, у Ирины общего со всем этим? Мягко говоря, она была красивая предательница. Наживка, которую он должен был проглотить.
— Для кого ты меня похищаешь? — спросил Нельсон.
— На самом деле это не я тебя похищаю, — усмехнулась Ирина. — Я только оказываю им эту помощь, и, хотя ты, конечно, не поверишь, это получилось совершенно случайно. Но в конце концов я не могу тебе многого объяснить сейчас. Задашь свои вопросы позже.
Мелькали улицы, переулки, проспекты. Поскольку Нельсон не понимал надписей, все казалось ему одинаковым. На одном из зданий он увидел ряд красных лампочек с желтой окантовкой. Потом они пересекли парк — видно было основание древней стены — и очутились в более малолюдном районе. Человек в маске надел ему на глаза повязку.
Он почувствовал, как машина свернула и они въехали в какой-то гараж, где пахло маринованной рыбой, жареной соей и специями; казалось, что это служебный вход ресторана. Потом запахи исчезли. В пункте конечного назначения все трое вышли, Нельсон смог снять повязку; человек в маске следовал позади, не вынимая пистолета. Сначала они поднялись на несколько этажей на грузовом лифте, а потом пошли по сырому коридору со стенами, на которых облупилась краска.
Похоже на заброшенные кабинеты мореходной компании, подумал Нельсон, как всегда, во власти поэтических аналогий, хотя в этом случае, поскольку речь шла о городе, не имеющем выхода к морю, это казалось полнейшей чепухой. Когда они дошли до конца коридора, человек в маске открыл какую-то дверь, втолкнул туда Нельсона и снова запер ее.
— До свидания, sweet heart, — услышал он голос Ирины.
Нельсон упал на пустые деревянные ящики и одним прыжком поднялся, поскольку почувствовал некую опасность. Он напряг в темноте мышцы, как если бы ожидал неминуемой атаки дикого зверя. Потемки становились все более прозрачными, до тех пор, пока он не смог видеть; то, что он увидел, было огромной комнатой, чем-то вроде гигантского чердака, — в Китае, он уже пенял, все было большим… все, кроме китайцев, — наполненного деревянными ящиками. Потом он услышал шум, который привел его в состояние боевой готовности. Из-за пирамиды ящиков явился луч света, и потом, почти паря в воздухе, человеческая голова. Нельсона охватило чувство нереальности происходящего. Человек, который вышел из-за пирамиды ящиков, был не нищий, это был… Гисберт Клаус, профессор из Германии! Трудно сказать, кто из них двоих был более изумлен.
— Вы — прозаик из Перу? — спросил Гисберт Клаус, глядя на него глазами, расширенными, как две луны.
— А вы… — Клаус! — отозвался Нельсон.
Если бы Нельсону нужно было описать эту сцену в одной из своих повестей, он бы подпустил апокалипсической атмосферы в стиле Томаса Пинчона или даже больше, в стиле Филипа Кей Дика. Что-то вроде: «Человек поднял голову и понял, что оказался среди гнили, пустых ящиков и каких-то запчастей. На этом кладбище вещей лицо его не выражало никакого героизма; скорее некоторое смирение, как если бы горы беспризорных предметов передали ему свое прочное неверие в жизнь».
— Что вы здесь делаете? — спросил профессор Клаус.
— Честно говоря, именно это я и хотел бы знать, — ответил Нельсон. — Какого черта я здесь делаю.
И еще одна груда ящиков, подобно фосфоресцирующему грибу, осветилась среди потемок. Персонаж, появившийся из-за нее, показался Нельсону человеком, когда-то потерпевшим кораблекрушение, приговоренным к тюремному заключению на острове, как Эдмон Дантес, — кстати, фигура графа Монте-Кристо должна была ему потребоваться в час его триумфального возвращения, для наказания всех тех, кто смеялся над ним; он также подумал о «Сумасшедшем Максе», с некоторым опозданием сообразив, что странные предметы, висевшие у незнакомца на шее, были крест и четки.
— Разрешите представить вам отца Жерара, — сказал Гисберт Клаус. — Он наш предшественник в этом стран ном и негостеприимном месте. Кстати, падре, вы говори те по-английски?
Жерар ответил утвердительно. Потом подошел так близко, что Нельсону показалось, будто тот собирается его обнюхать.
— Вы колумбиец? — спросил он.
— Нет, — ответил Нельсон. — Перуанец.
— А, уже ближе, — сказал священник. — В таком случае, возможно, вы и есть тот человек, которого я жду. Я вас проверю: вы интересуетесь китайской поэзией XVIII века?
Нельсон посмотрел на Клауса, не понимая, и тот сделал ему жест, которым хотел сказать: «Он действительно кажется сумасшедшим, но через некоторое время перестает им казаться. Это всего лишь человек, который слишком много времени провел в одиночестве. Послушайте его. Оно того стоит».
— Я ничего в этом не понимаю, падре, извините, — ответил Нельсон. — У меня сегодня вечером было назначено свидание, и когда я шел на него, кто-то силой притащил меня сюда. Я знаю профессора, но вас…
Сказав это, он вспомнил о Вень Чене. Он говорил ему о пропавшем французском священнике, том, что охранял рукопись, которую все искали. И его немедленным заключением было: это он, и он в руках Клауса, который действительно немецкий шпион и организовал его, Нельсона, похищение! Кроме Вень Чена, только Клаус знал, в какой гостинице он живет. Кроме того, он мог видеть Нельсона с Ириной — ведь с ней Нельсон познакомился в «Кемпински», где остановился Клаус. Эти мысли возникли в его голове в десятые доли секунды, как обычно бывает с великими откровениями. И он с недоверием посмотрел на Клауса.
— Надеюсь, вы не думаете, что я… — сказал Клаус. Нельсон напряг все мускулы своего тела и прыжком взлетел на один из ящиков.
— Здесь что-то нечисто, — заявил он сверху. — Я не спущусь отсюда до тех пор, пока происходящее не прояснится!
— Осторожно! — предупредил его Клаус. — Вы можете упасть спиной и удариться затылком или пораниться ржавым гвоздем.
— По мне, так можете хоть навечно оставаться на этом ящике, — пожал плечами Жерар. — Если вы не мой связной, делайте что хотите, господа…
Сказав это, он удалился в свое убежище из дерева и жести. Потом погасил фонарь, и «гриб» исчез в потемках. Клаус продолжал настаивать:
— Спускайтесь оттуда, ради Бога. Вы можете повредить себе что-нибудь. Идите сюда, позвольте объяснить вам то, что мне известно.
Нельсон засомневался. Возможно, у Клауса инструкция — заставить его поверить, что они оба пленники, и, таким образом, воспользовавшись доверием, обычно рождающимся между двумя людьми, пережившими одно и то же несчастье, выудить у него то, что ему было известно. Но что-то тут не сходилось: если кюре, с которым Нельсон только что познакомился, — тот самый, о котором говорил Вень Чен, значит, и рукопись здесь, в этом темном помещении.
— Спускайтесь, пожалуйста, — настаивал немец. — Не ведите себя, как ребенок, подвергая опасности прежде все го себя. Идите сюда, дайте руку.
Нельсон решил спуститься, но без помощи профессора. Он тихо спрыгнул. Потом зажег сигарету, закурил.
— Что это все значит, профессор? — спросил он.
— Я расскажу вам прежде всего, как я сам здесь оказался, — сказал Клаус. — Это некоторым образом объяснит ваше присутствие. Все это — моя вина. Вы с этим никак не связаны.
Нельсон был благодарен, что разговор ведется по-английски, на языке, которым оба прекрасно владели, поскольку ошибки профессора в испанском доводили его до белого каления. Что же такое «это», с чем он никак не связан? Нельсон сел на старый ящик из-под прохладительных напитков и стал слушать.
— Я был ночью в парке Пурпурного бамбука, знаете это место? — спросил Гисберт Клаус. — Ну, не важно, это красивейшее место на северо-западе Пекина. Я пил чай и делал некоторые заметки касательно своего пребывания в городе, книг, которые нашел, писал и о том, что я здесь узнал. Когда я вышел из чайного домика и уже собирался возвращаться в отель, рядом остановились два автомобиля, и двое незнакомцев, которых я, кстати, раньше не видел, притащили меня сюда. Полагаю, ваша история похожа на мою, но боюсь, вас вовлекли во все это по моей вине. Видите ли, вполне возможно, что в моем номере нашли ваш роман, который вы так любезно сочли возможным мне посвятить, и карточку с координатами вашего отеля. Вся эта история кажется безумной, но если вы немного успокоитесь, я вам ее расскажу. Повторяю вам, все произошло по моей вине. Виновато мое тщеславие и гордость знакомством с вами.
Сказав это, немец рассказал Нельсону с самого начала о своем интересе к творчеству Ван Мина, о научных статьях об этом поэте и о своем намерении, которое сейчас он считал легкомысленным, совершить переворот в синологии, сделав открытие такого значения, что имя Гисберта Клауса вознеслось и пребывало бы в веках наравне с именами мэтров этой столь сложной науки, основоположником которой был отец Матео Риччи, иезуит, которым Гисберт так восхищался. Профессор Клаус так и выразился — «пребывало бы в веках», однако потом объяснил, что некоторым образом в научных дисциплинах идея этого пребывания в веках иная, чем в искусствах, где среди других значится и имя высокочтимого писателя из Перу, знаменитого прозаика, поскольку в науке открытия живут, да позволено будет высказать эту азбучную истину, до тех пор, пока не будут превзойдены новым открытием, что почти всегда рано или поздно происходит, или же, что еще хуже, они превращаются во всем известные вещи, что делает его поведение еще более легкомысленным и безответственным. Тут он наконец заговорил о рукописи «Далекая прозрачность воздуха», обо всем том, что видел и не смог рассказать, о том, как впервые узнал о ее существовании от любезного букиниста с улицы Донгси, где он нашел и первое издание Хосе Марии Аргедаса, с которого, заметил профессор, и началась эта интрига, хотя здесь была своя хорошая сторона, по крайней мере для него — а именно, возможность познакомиться со столь выдающимся представителем американской литературы. Затем Гисберт подробно остановился на открытиях, сделанных им при чтении книги Пьера Лоти, на непосредственной причине этого любопытства, возникшей еще в Париже, а также на внезапном и властном желании предпринять путешествие в Пекин, позволившее ему некоторым образом заново открыть жизнь, которой он так пренебрегал, что посвятил последние пять десятилетий своего существования учебе, библиофилии и читальным залам, в то время как за их пределами пульсировало настоящее, которым он никогда не интересовался. Никогда, вплоть до этого путешествия, естественно. Теперь же он был здесь и думал, что зашел слишком далеко, что вот такой ценой он заплатил за свою неопытность, поскольку эта рукопись приносит несчастья, и его предупреждали, но он, по своему высокомерию, продолжал, будучи слепым к предупреждениям, до тех пор, пока не попал в это место, и мимоходом втянул в приключение его, высокочтимого поэта. Профессор поклялся, что если представится случай, он все объяснит и сделает все возможное, чтобы Нельсона освободили. Друг мой писатель, вы не заслуживаете этого, и — это он сказал очень убежденно, — он догадывается, кто такие могут быть похитители — тайное общество в действительности, секта. Он посоветовал Нельсону не волноваться на этот счет: дескать, друг мой, я вас втянул в круговорот событий, и я вас вытащу, будьте уверены, пусть даже это будет последнее, что я сделаю в жизни.
Нельсон остался под очень большим впечатлением от того, что только что услышал. Если все это была правда — а на данный момент ему не приходило в голову ни единого соображения, почему бы это не могло быть правдой, — то Клаус самостоятельно добрался до рукописи и не имел ни малейшего представления о его, Нельсона, отношениях с Вень Ченом и тайным обществом, членов которого, по-видимому, и считал организаторами тройного похищения. По правде говоря, многое из того, о чем рассказал Клаус, Нельсон уже знал. Возможна ли такая цепь случайностей? Трудно было свыкнуться с этой мыслью. Но очевидно было одно — до сих пор Клаус ни о чем его не спросил.
— А рукопись, о которой вы говорите, профессор, — осторожно спросил Нельсон, — где она?
— Здесь… — ответил Клаус. — Она у Жерара, французского священника. Я сам имел возможность видеть ее этой ночью. Его миссия состоит в том, чтобы охранять ее, но, несмотря на это, он позволил мне поглядеть. Это оригинал. Она привязана у него стальным канатом к спине.
Нельсон замер от изумления. Он все-таки нашел ее! Господи, сказал он себе, если удастся выйти отсюда вместе с рукописью, тайное общество будет преклоняться перед ним. И у него было одно преимущество, по крайней мере, создавалось такое впечатление. Ни Клаус, ни кюре не знали, кто он на самом деле и какую роль играет в этой истории. Конечно, была еще куча проблем, начиная с этого странного похищения. Кто их захватил? Нельсон решил действовать с осторожностью. Первое, что нужно сделать, думал он, — это узнать, в каком месте их держат, в целях возможного бегства. Второе — подружиться со священником, чтобы он и ему показал свое бесценное сокровище, и, наконец, придумать что-нибудь, чтобы отобрать рукопись и освободиться, или по крайней мере сделать нечто, что привлекло бы внимание наблюдателей Вень Чена, которые должны были быть поблизости.
Сказав себе это, он решил, что план его безупречен. Который час? Два часа ночи. Скоро рассвет — время, когда можно попытаться что-то предпринять. Он предложил Гисберту Клаусу сигарету, намерившись обратить в преимущество его чувство вины на то время, пока это будет нужно, как вдруг они услышали шорох в глубине комнаты. Гисберт прижал палец к губам. «Тсс», — сказал он. Нельсон посмотрел в сторону хижины французского кюре, но свет не зажигался — знак того, что тот их не слушал. Тогда они на цыпочках подошли к месту, из которого исходил шум, и как раз вовремя: оба увидели, как в полу открылся люк, замаскированный под грудой деталей из сероватой пластмассы, и в темноте возник темный человеческий силуэт.
Один из агентов Чжэна отвез меня в гостиницу, предупредив, что, если будут какие-нибудь новости, я должен буду немедленно вернуться. Чжэн, воспитанный на традициях Красной Армии, не доверял своим и считал, что, если возникнет хоть малейший намек на путь, который может привести к священнику, действовать должны мы с ним вдвоем. Он сказал мне, что каждый день менял своих агентов, чтобы те не догадались, каков мотив наших поисков. Я был согласен на все, чтобы только уйти.
— Ах, жизнь моя, я думала, тебя не будет, — голос Омайры Тинахо лился в мои уши, как глицерин. — Я уже поднимаюсь.
Как я должен был принять ее? Держать дистанцию, чтобы она занервничала и допустила какую-нибудь ошибку? Это могло бы быть хорошим методом: избегать основного интересующего меня момента, а дальше, по мере того как встреча будет становиться более теплой, постепенно заставить ее рассказать все. «Тук-тук», — услышал я и побежал открывать, полный решимости, взволнованный, счастливый, довольный тем, что знаю, как себя вести.
— Привет, малыш, — сказала она мне, прекрасная в своем платье с летящей юбкой и глубоким декольте. — Я умирала от желания увидеть тебя.
Она поцеловала меня, страстно дыша, исследовав языком все уголки моего рта. Потом подняла юбку и опустила мою голову себе между ног, и я оказался среди увлажненных зарослей вьющихся волос, которые скрывали розоватый шрам от кесарева сечения. Я решил поменять план действий, потому что тактика «бдительного равнодушия» явно не удалась. Потом Омайра раздела меня, целуя, и это еще более поколебало мои первоначальные намерения, и в конце концов я решительно отбросил их в сторону, когда, нагая, она откинулась на стол, развела ноги и вскрикнула: «Возьми меня и ничего больше не говори». Тогда я забыл о планах, потому что правда состояла в том, что я не хотел больше ничего на свете, кроме как соединиться с ней, забыв обо всем, как в первый раз, и у меня разрывалось сердце, когда я прикасался к ней, когда входил в ее плоть, и тогда я понял сущность звука, поэзию темнокожего Гильена, ча-ча-ча, «сахар!» Селии Крус, игривую прозу Кабреры Инфанте, все, все одновременно в эту вечную секунду, потому что я влюблялся; я понимал, как прекрасен мир, если смотреть на него вместе с Омайрой, и как тускл, уродлив, враждебен мир без Омайры, и я отважился сказать: «Я люблю тебя», а она закричала: «Ах, малыш, если ты скажешь мне это еще раз, я кончу», и я, безумный, сказал ей: «Омайра, не покидай меня никогда», и она снова закричала: «Серафин, но как же я оставлю тебя, посмотри на меня, если я здесь, прикована к тебе», и я предпочел больше не задавать вопросов, подумав, что ее слова — это миражи опьянения, а потом, когда ее тело начало сотрясаться в судорогах, когда дыхание ее стало похожим на дыхание быка и она сказала мне на ухо: «Ах, командир, разряди в меня свою пушку», я почувствовал «Маэлстром» По, Биг-Бен, метеоритный дождь, целую вселенную у себя в позвоночнике, а она, задыхаясь от собственной слюны, тихо проговорила: «О, чувственный член, почему ты мне столько даешь, это счастье», и стала успокаиваться, очень медленно, полная неги, с полузакрытыми глазами; и тогда я помог ей подняться, и мы перешли на постель и там переплелись в слепом объятии, под одеялами, ища защиты от чего-то, что рано или поздно явится, чтоб разлучить нас, причинить боль, вернуть нас тому миру потемок, в котором мы пребывали раньше, заблудившись, не зная, где настоящая жизнь.
— Ты хочешь есть? — спросил я.
— Нет, какое там, — ответила она, снова целуя меня. — Я хочу остаться здесь, с тобой. Я не хочу, чтобы ты двигался. Я хочу слышать, как ты дышишь.
Мадам Баттерфляй, Мата Хари, кто бы ты ни была, я люблю тебя, я верю тебе, какое мне, к черту, дело до рукописи, сказал я себе и погасил свет, опутанный ее объятиями, я тоже хочу слышать, как ты дышишь; и так, очень медленно, мы засыпали, и я, давно мечтавший стать писателем, вспомнил стихотворение Леона де Грейффа и прочитал ей: «О, эта ночь, навсегда уснем мы, / наутро нас не разбудят, и никогда нас не разбудят».
Однако реальность — это единственное, что всегда настигает нас, и около часа ночи раздался телефонный звонок.
— Алло?
— Думаю, они у нас. — Это был голос Чжэна. — Спускайтесь в холл. Я уже послал за вами человека.
— Мы не можем сделать это утром? — взмолился я, сжимая тело Омайры.
— Нет, поторопитесь. Все объясню на месте.
Сам Пекин этой ночью казался нереальным, но мне было легче оттого, что я знал: Омайра ждет моего возвращения. «Если тебе нужно уйти, иди, но я останусь здесь, — сказала она и добавила: — Не знаю, во что ты впутался, Серафим… Не буду ни о чем тебя спрашивать, но, если здесь замешаны женщины, предупреждаю: у меня на это хороший нюх!» Мне понравилось, что она ревнует. Это был своего рода способ сказать: ты уже мой.
Когда я приехал, Чжэн повел меня на террасу и протянул бинокль:
— Вон там, смотрите.
Вначале я увидел только два темных круга, но потом среди бликов смог различить очертания некого строения.
— Как вы это обнаружили? — спросил я.
— Один из моих людей увидел, как из гаража выезжает автомобиль через служебную часть ресторана. Его вела блондинка. Это весьма необычно. Возможно, это ничего не значит, но стоит проверить. Идемте.
Я почувствовал бешенство. Меня выдернули посреди ночи из ложа любви из-за простого подозрения? По правде говоря, мне уже было все равно, я хотел лишь вернуться обратно.
— Мы оба должны идти? — спросил я.
— Да, — ответил Чжэн. — Напоминаю, что вы — единственный, кто имеет право получить рукопись. Я только должен отвести вас к ней.
— Мой Бог! — воскликнул я. — Какая привилегия! Ну хорошо, идемте.
Прежде чем уйти, Чжэн дал мне черный пиджак, фонарь, шапку и перчатки.
После того как свои дали нам знак, что опасности нет, мы в тени пробрались к дверям гаража. Чжэн вошел первым, я за ним, подумав, что, если кто-нибудь попадется нам по дороге, он по меньшей мере испугается, особенно из-за серых шерстяных шапок, которые были на нас. Они, кстати, кусались, будто сделанные из проволоки. Действительно, через гараж ресторана шла узкая мощеная дорога, ведущая в центральную часть группы зданий.
Чжэн прыгал, прячась в тени, а я очень быстро двигался следом, как если бы не знал, что умею двигаться, испытывая страх, беспокойство, удивление перед самим собой, но и уверенность, пьянящее ощущение своего бессмертия, которое, несомненно, было результатом недавней эротической сцены с Омайрой. Как меняется человек, когда его любят, философствовал я, но идея эта так и осталась невоплощенным черновиком, поскольку в ту же минуту мы приблизились к воротам, сделанным, по всей видимости, из стали. При помощи рычага Чжэну удалось приподнять их на несколько сантиметров, и через щель мы пробрались внутрь. За ними оказался пахнувший сыростью заброшенный двор, который сообщался с другим двором, а тот, в свою очередь, — с третьим. Там заканчивалась мощеная дорога.
Мы стояли перед полуразрушенным сараем. Открыть одно из окон было просто, поскольку во всех стекла были разбиты, петли ржавые. Через мгновение мы залезли внутрь. Откуда начинать наши поиски в этом просторном помещении, разделенном на два темных нефа, с железными лестницами, которые вели наверх неизвестно куда?
— Вы гуда, — сказал Чжэн. — И помните: передвигаться медленно, смотреть, что находится под тем местом, куда вы собираетесь поставить ногу, держаться в тени. Если что-нибудь найдете, нажмите на кнопку своего телефона; если не сможете говорить и будете в опасности, дважды ударьте пальцем по микрофону. Когда ваш осмотр будет закончен, поднимайтесь наверх вон по той лестнице и продолжайте на верхнем этаже. Я буду обследовать эту сторону. Если ничего не найдем, встретимся наверху. Есть вопросы?
— Да. Это действительно опасно?
Чжэн почесал подбородок.
— Как посмотреть. Из каждой тени может кто-то выпрыгнуть и вцепиться вам в шею. Лучше быть готовым ко всему.
— Спасибо за совет, — ответил я.
— Удачи, увидимся наверху.
Он пожал мне руку и удалился короткими прыжками. Даже я, видя его, не слышал его шагов.
Я попытался подражать ему, но лишь только повернулся, как наткнулся на деревянный ящик и загремел. Не знаю, насколько сильным был звук, но у меня кровь застыла в жилах. Тогда я зажег фонарь, чтобы посмотреть, куда иду, потом погасил и начал продвигаться вперед. Впервые я вышел на ночную «вылазку». Я видел это в фильмах и, по правде говоря, в своих движениях подражал Харрисону Форду в «Беглеце», когда тот ищет на крыше здания врага, чтобы убить. Кстати, это место имело некоторое сходство с декорациями фильма — старый, заброшенный промышленный склад.
Я дошел до конца помещения, не обнаружив ничего особенного, и поэтому — делать нечего — решил карабкаться по лестнице; в действительности это были поставленные друг над другом и приделанные к стене железные скобы. Начав подниматься, я заметил, что мой обычный лишний вес как бы уменьшился, я чувствовал себя легче. Или это нервы? Не знаю… Суть в том, что, не глядя вниз, чтобы избежать головокружения, я сумел добраться до какой-то антресоли, которая, согласно моим подсчетам, находилась метрах в пятнадцати от пола, там я перевел дух, дал отдохнуть рукам, снова зажег фонарь, узкий луч которого не должен быть очень заметен для тех, кто мог встретиться на моем пути. Держась за железные поручни, я поискал взглядом Чжэна, но не увидел его. Что я увидел в глубине своей антресоли, так это витую лестницу, которая кончалась на потолке. Я со всеми предосторожностями подошел поближе и снова зажег фонарь. Три витка спиральной лестницы и закрытый деревянный люк наверху. Я знаю по своему опыту кинозрителя, что у каждой лестницы есть одна-две ступеньки, которые ломаются, особенно если человек пытается двигаться бесшумно, поэтому я испытал на прочность каждую, прежде чем подняться. Таким образом я добрался до люка, который, естественно, был заперт, но замок, по счастью, был с нижней стороны. Светя себе фонарем, я изучил ржавые петли и увидел, что его уже долгое время не открывали. С первой попытки дверца не поддалась, но со второй, толкнув плечом, я сумел приподнять ее. Петли, повернувшись вверх, хрустнули с металлическим звуком. Я замер, держа люк приподнятым, ожидая, пока эхо от этого шума не рассеется. Как будто ничего не произошло, поэтому я открыл люк полностью и попал на верхний этаж, который, как я полагал, будет таким же, как и нижний.
Разница была в том, что, подняв голову, я увидел двух мужчин, смотревших прямо на меня; четыре глаза, с выражением, представлявшим нечто среднее между любопытством и беспокойством, следили за моими неуклюжими движениями. Для моих нервов это было слишком. Фонарь покатился по полу, кровь ударила мне в мозг, и весь мир обрушился на меня.
Гисберт Клаус и Нельсон Чоучэнь Оталора недоверчиво наблюдали за странным человеком, который возник из темноты, но когда тот повернулся и заметил их, на лице его отобразилась паника, глаза его завертелись, как числа на игральном автомате, и он в обмороке рухнул на пол.
Это еще больше возбудило любопытство Гисберта и Нельсона, которые сомневались, обыскать ли его, чтобы забрать оружие, или оказать ему помощь. Но в обоих победила человечность, они приподняли его голову. Гисберт, вспомнив о своем давнишнем опыте бойскаута, расстегнул пиджак, чтобы тот не давил ему на грудь.
Через несколько секунд неизвестный открыл глаза, поморгал и пробормотал: «Омайра». Оба пленника, стоя над ним, переглянулись, не понимая, и продолжали ждать, что будет дальше. Нельсон подумал о кубинке и сказал себе, что это невозможно, что это случайность. Потом вновь прибывший почесал голову и, вместо того чтобы нанести удар, снова посмотрел на них и спросил:
— Ду ю спик инглиш?
Гисберт и Нельсон переглянулись. Стоит ли им отвечать? Откуда вообще возник этот незнакомец, неуклюжий, одетый в черное? Разглядев его, они поняли, что он слабый человек и не причинит им вреда. Он не смог бы.
— Йес, — откликнулись мужчины одновременно.
— В таком случае скажите мне, пожалуйста, что это, черт возьми, за место и кто вы такие?
— Видите ли, — сказал Нельсон, — первым представляется тот, кто пришел. Полагаю, это вы должны сказать нам, кто вы такой и прежде всего где мы. Кстати, судя по вашему выраженному акценту, я бы мог утверждать, что вы родом из испаноязычной страны.
— Действительно, я колумбиец, — сообщил тот. — Меня зовут Суарес Сальседо.
Пленники переглянулись: тот самый знаменитый колумбиец, которого ждет священник Жерар!
Они посмотрели на него с интересом, как если б он был животным в террариуме или корнем диковинного растения. Нельсон подумал: «Если это — знаменитый спаситель, полагаю, нам не повезло». Гисберт, человек пожилой и умудренный опытом, подумал противоположное: «Черт, до чего изменился образ героя в конце нашего века».
— Я — Нельсон Чоучэнь, — сказал Нельсон, — перуанец.
Вновь прибывший снова уронил фонарь. Казалось, он крайне изумился, услышав это имя.
— А я — Гисберт Клаус, из Германии.
Снова колумбиец широко раскрыл глаза, и к выражению удивления добавилось нечто новое: страх. Два шпиона, немец и перуанец! Вместе! Несомненно, именно здесь держат знаменитого французского кюре, а следовательно, и рукопись. Он должен бы нажать кнопку телефона, чтобы предупредить Чжэна, но что-то его удерживало. Ни один из этих двоих, честно говоря, не вызывал у него страха. И он решил подождать.
— Значит, вы… — произнес Суарес Сальседо. — Вы… Я хочу сказать, что вы — профессор Гамбургского университета, а вы — писатель, не так ли?
Оба пленника сели. Нельсону, несмотря на обстоятельства, было лестно, что незнакомец признает его писателем.
— Объясните, пожалуйста, как вы сюда попали и где мы? — поинтересовался Нельсон.
Суарес Сальседо посмотрел на них с любопытством. Возможно ли, что они ничего не знают? Поведение обоих больше напоминало поведение пленников, чем стражников. Так или иначе, он решил внести ясность.
— Где мы и что это за место — это вы должны мне объяснить, — твердо сказал Суарес Сальседо. — Для начала я хочу, чтобы вы знали: здание окружено, не существует ни малейшей возможности бежать. Советую сдаться, не оказывая сопротивления, поскольку вскоре сюда прибудут вооруженные агенты. Нижние этажи находятся под контролем, несколько машин блокируют улицы. Если у вас есть оружие, пожалуйста, положите его на пол.
— Оружие? Сдаться?! — воскликнул Гисберт Клаус, удивленный и взбешенный одновременно. — Это самая идиотская вещь, которую я когда-либо в жизни слышал! Мы же здесь против нашей воли. Лучше скажите, кто, черт возьми, вы такой!
— Я уже сказал вам, кто я такой, и это имеет сейчас наименьшее значение, — ответил Суарес Сальседо. — Я пришел освободить священника, которого вы держите в плену. Покажите мне, где он, и с вами ничего не случится. Вы, профессор Клаус, сможете укрыться в своем посольстве, ну а вам, глубокоуважаемый писатель, во имя некоей латиноамериканской солидарности я позволю уехать, куда хотите. Но только после того, как вы отдадите мне священника. Вам ясно?
Глаза Гисберта Клауса излучали огонь, он был в ярости оттого, что считал «иррациональной ситуацией», поскольку «иррациональное» было для него синонимом «смешного». Видя, что профессор совсем разнервничался, Нельсон сказал ему на ухо:
— Профессор, разрешите мне это уладить самому. Он колумбиец, а я перуанец. Позвольте мне попробовать. А вы глубоко вдохните и стойте в стороне. Прошу вас, пожалуйста.
— Хорошо, — кивнул Клаус.
Нельсон повернулся и подошел к Суаресу Сальседо. Он взял его за предплечье, подвел к окну и сказал на чистейшем латиноамериканском испанском:
— Ну, браток, мы сейчас быстренько уладим эту передрягу. Профессор нервничает, но он неплохой человек. Дело в том, что он к этому всему не имеет абсолютно никакого отношения. Оставим притворство и поговорим начистоту: вы ищете рукопись, так?
— Да, и предупреждаю вас, — ответил Суарес Сальседо, — я не уйду, пока не получу ее в собственные руки и пока не освобожу французского кюре, хотя последнее менее важно.
— Да, да, но не нервничайте так… — успокоил его Нельсон. — Послушайте, я расскажу вам, кто я, что делаю и на кого работаю, и кто в действительности этот немецкий господин, который вон там сидит. Потом вы расскажете мне, кто вы и на кого работаете, а затем мы уладим это дело. Кстати, прежде чем углубиться в суть проблемы, мне хотелось бы задать вам личный вопрос, если вам не слишком сложно ответить: вы читали что-нибудь из моих произведений? Некоторое время назад вы сказали, что я писатель.
Суарес Сальседо попытался вспомнить что-нибудь из книги, которую они нашли в номере Гисберта Клауса, и пожалел, что прочел всего один абзац. Теперь он мог поладить с этим несчастным.
— Ну, видите ли, я действительно начал читать одно ваше произведение, «Блюз Куско», но, поскольку я получил его совсем недавно, еще не закончил, — наконец сказал Суарес Сальседо. — У вашей книги красивая обложка, с этой фотографией площади Армас на голубом фоне, и там очень живая проза.
Грудь Нельсона раздулась, как у павлина; новый знакомый немедленно показался ему утонченным, высококультурным человеком.
— Если у вас хороший вкус, вы, вероятно, оцените роман, — веско сказал Нельсон. — По крайней мере я надеюсь.
— Что у меня хороший вкус или что я его оценю?
— И то и другое.
— Он мне понравится, не волнуйтесь, — уверил перуанца Суарес Сальседо. — Признаюсь, что я тоже в молодости хотел стать писателем и где-то, в каком-то ящике стола, у меня сохранилось несколько отредактированных грешков юности.
— А, ну если мы не только оба латиноамериканцы, но и коллеги, — продолжал Нельсон, — то мы уладим это дело в два счета. Жаль, что у вас нет с собой бутылочки виноградной водки. Или рома. Вы любите ром, правда? Я хочу сказать, вы, колумбийцы.
Гисберт, сидя возле люка, наблюдал, как разговаривают два латиноамериканца. Они ходили туда-сюда, останавливались и жестикулировали, ударяли друг друга по плечу и продолжали беседу, бродя взад-вперед. В одну из пауз Чоучэнь нарисовал график на пыльном оконном стекле — по крайней мере так показалось профессору, — а Суарес Сальседо в это время кивал головой. Странным Гисберту показалось, что они вдруг как будто стали не соглашаться друг с другом, поскольку жестикулировали и говорили «нет». Клаус как раз размышлял над этим, как вдруг на его плечо осторожно опустилась рука. Это был священник Жерар.
— Кто этот другой? — спросил он.
— Колумбиец, — ответил Гисберт. — Полагаю, падре, ваше заточение вот-вот окончится. И надеюсь, мое тоже.
— Значит, это спаситель?
— Ну, — сказал профессор Клаус, — называть его так кажется мне чрезмерным. Я бы сказал проще: это человек, которого вы ждали.
— Хвала Господу! — произнес Жерар, вглядываясь в полумрак. — А что там происходит?
— Точно не знаю, — прошептал Клаус. — Полагаю, они пытаются прийти к согласию. И надеюсь, они сделают это прежде, чем придет кто-нибудь еще. Если это случится, для всех на складе не хватит места.
Латиноамериканцы заметили, что священник вышел из своего логова, и подошли ближе.
— Вы Режи Жерар? — спросил Суарес Сальседо.
— Да, это я, — ответил кюре. — А вы…
— Суарес Сальседо. Я пришел, чтоб вытащить вас отсюда.
Священник молча подошел и внимательно посмотрел ему в лицо. Он вглядывался в его лоб, глаза, рот. Очень медленно. Он осмотрел журналиста сверху вниз, не сделав ни жеста. В конце концов он сел.
— Это точно, — сказал Жерар. — Это вы. Я узнал ваше лицо. Идемте со мной, у меня для вас кое-что есть.
— Солнцезащитные очки посла? — спросил Суарес Сальседо.
— Именно! — воскликнул Жерар. — Наконец-то пришел человек, который понимает, о чем я говорю. Идемте. Господа, прошу извинить нас, мы покинем вас на минутку.
Жерар отвел Суареса Сальседо в свое убежище. Тем временем Нельсон пригласил Гисберта к окну, чтобы объяснить, о чем они говорили с колумбийцем.
— Сюда, вперед, пожалуйста, — сказал Жерар Суаресу Сальседо.
Священник украсил свое убежище рухлядью, которую нашел в помещении. Спал он на груде картона, а сбоку, на ящике поменьше, который исполнял функции ночного столика, стоял газовый фонарь.
— Сначала меня прятали в месте получше, где было больше света и открывался вид на город, — говорил священник, — но несколько недель назад перевезли сюда, здесь безопаснее.
Суарес Сальседо решил: не стоит объяснять священнику, что его обманули. Что в действительности в этом месте его удерживали те, кто не имел никакого отношения к французской католической церкви. Странно было, что у него не отняли рукопись.
— А кто перевел вас сюда?
— Честно сказать, сам не знаю, — признался Жерар. — Китайцы, я полагаю, но я их никогда не видел, так же как никогда не видел и тех, кто прятал меня раньше, с самого первого дня. Меня спрашивали о рукописи, но я только ответил, что она в надежном месте. Приказ преподобного Ословски был не отдавать ее никому, кроме вас. Даже ему самому. В любом случае никому, кто не знает пароля. Так он мне сказал.
— Так где же она?
— Подождите минутку.
Жерар снял свое одеяние, потом шерстяную кофту, наконец, фланелевую рубашку. Суарес Сальседо поморщился от отвращения, когда увидел металлический трос, впившийся в тело, запекшуюся кровь, помертвевшую кожу. Жерар начал снимать его, ни единым жестом не показав, что ему больно. За спиной оказался пластиковый пакет, запачканный запекшейся кровью и корками. Внутри находилась рукопись.
— Солнцезащитные очки посла! — воскликнул Суарес Сальседо, беря ее в свои руки.
— Я выполнил свою миссию, — откликнулся Жерар, — и теперь могу вернуться к моим молитвам, к работе в квартале и к чтению Евангелия.
— А что вы делали все это время? — спросил Суарес Сальседо.
— Молился в тишине, размышлял о своем заточении и об одиночестве, рассматривал рукопись и делал, под диктовку моих мыслей, некоторые заметки. Вызнаете, теперь, когда все кончено, я могу сказать вам, что стал другим человеком.
Суарес Сальседо увидел, что в конверте лежит еще что-то: маленькая тетрадка, на обложке которой он заметил надпись: «Человек, который прячется в сарае». Это были записи Жерара.
— Я могу их прочесть? — спросил он, открывая их.
— Оставьте их себе, пожалуйста. Эти заметки принадлежат рукописи, а не мне.
— Но это ваше.
— Нет, это только мысли, — сказал он. — Мысли приходят и уходят, они не принадлежат никому. Возьмите их себе, а после того как прочитаете, если вам это интересно, подарите их, уничтожьте… Делайте что хотите. Я возвращаюсь к Богу, это моя главная мысль.
Суарес Сальседо убрал конверт во внутренний карман своего пиджака. Потом он вышел наружу. Клаус и Нельсон Чоучэнь ждали его.
— Как вам наше предложение, профессор Клаус? — спросил Суарес Сальседо.
— Согласен. Теперь мы можем идти?
— Да, — сказал Нельсон Чоучэнь. — Пойдемте.
Падре Режи Жерар в последний раз с тоской окинул взглядом свое пристанище, и все заметили, что, несмотря на заточение и лишения, какой-то частью души он сожалел о том, что покидает это место. Остальные в молчании предоставили ему минутку, чтобы взять себя в руки, но, когда все уже собирались спускаться по лестнице через люк, какой-то голос на ломаном английском приказал остановиться.
— Никому не двигаться! — Человек в маске с пистолетами в обеих руках шел на них. — Куда это вы направляетесь? Опуститесь на пол, очень медленно, руки на затылке.
Нельсон подумал, что это слишком. Во второй раз за одну и ту же ночь у него перед носом был пистолет! Профессор Клаус упал на колени, на пол, спеша исполнить приказ. Суарес Сальседо и Жерар в ужасе остановились.
— На пол! — вновь крикнул человек в маске.
Когда все четверо оказались на полу — они лежали в форме креста, — человек подошел поближе. Потом они услышали звук двух взводящихся курков.
— Не знаю, у кого из вас рукопись, — сказал нападавший. — Считаю до пяти. Если она не появится, начинаю стрелять по ногам. Раз, два, три…
Суарес Сальседо очень медленно протянул руку к карману своего пиджака.
— Четыре, пять…
— Вот она, не стреляйте… — И он бросил конверт к ногам человека в маске.
Тот медленно наклонился, подобрал конверт и начал пятиться.
— А теперь послушайте, — сказал он. — Я уйду, но если кто-нибудь из вас попытается подняться, мой товарищ пустит ему пулю в лоб. Он снайпер.
После того как он это сказал, послышался грохот, а потом три выстрела. Неясная фигура покатилась по полу, Суарес Сальседо отважился поднять голову и увидел Чжэна. Он приблизился ползком и был рядом как раз в тот момент, когда тот снимал капюшон с человека в маске.
— Криспин! — воскликнули оба.
Суарес Сальседо удостоверился в том, что испанец не ранен: пули были выпущены из его пистолета.
— Всего лишь удар по голове, ничего страшного, — пояснил Чжэн, забирая у него оружие. — Но, как предатель, он заслуживал большего. Все вставайте! Нужно уходить отсюда.
Суарес Сальседо подобрал конверт. Клаус первым полез в люк. За ним последовал Жерар, потом Нельсон. Когда Суарес Сальседо уже собирался спускаться, он услышал свист пули у своего уха.
— На пол, — крикнул Чжэн, — в нас стреляют!
От пулеметной очереди воздух наполнился порохом. Чжэн, вооруженный пистолетами Криспина, стрелял в ответ.
— Спускайтесь, спускайтесь, — прокричал он Суаресу Сальседо, и тот головой вниз бросился в люк.
Упав на нижний этаж, он увидел своих трех товарищей по бегству, они прятались за металлическим ящиком.
— Что там, наверху, происходит? — спросил Клаус.
— Человек в маске был не один. Пошли, нужно спускаться дальше.
Он указал им на лестницу в стене, но Нельсон вдруг удержал всех.
— Минутку, — сказал он, — кто-нибудь может выстрелить сверху. Слишком рискованно.
На верхнем этаже Чжэн один противостоял нескольким вооруженным наемникам. Он ползком добрался до Криспина, который так и не пришел в себя, и вынул из его карманов несколько обойм с пулями. Лотом вернулся к проему люка, таща за собой испанца, и стал стрелять, рассудив, что если двое снайперов стреляли из более высокого здания, то остальные — из-за двери. Тогда он спустил вниз тело Криспина, бросился туда сам, ногами вниз, закрыл люк и спустился.
— Зачем вы его притащили? — спросил Суарес Сальседо, указывая на бывшего «человека в маске».
— Только он может объяснить, кто там стреляет, — ответил Чжэн. — Вы, когда это закончится, уедете, а мне здесь жить. Не лишним будет узнать, кто это палил по мне с таким ожесточением.
— Наше положение очень серьезно?
— Не беспокойтесь, — ответил Чжэн. — Меня готовили и к более опасным вещам. Нужно поискать другой выход, с правой стороны здания. Это единственное место, откуда не стреляют.
— Вы намерены попросить подкрепления? — спросил Суарес Сальседо.
— Об этом и речи быть не может, — возразил тот. — Мне нравится решать проблемы в небольшой компании. Возьмите этот пистолет и прицельтесь в него, он вот-вот очухается.
Действительно, Криспин начал приоткрывать один глаз, издавая слабые жалобные стоны. Когда он узнал Чжэна, на лице его отобразилась паника, а потом бешенство.
— Черт, Чжэн, как сильно меня ударили! Не может быть, что это был ты.
— Я должен был бы пустить тебе пулю в лоб, — холодно заметил Чжэн. — Вставай и пошли с нами. Мой товарищ целится в тебя, поэтому без фокусов.
Чжэн подошел ко второй лестнице, той, что вела на нижний этаж, и бросил вниз пустую банку из-под специй. Немедленно послышались шесть автоматных очередей. Три насквозь пробили латунь.
— АК-47, — заключил Чжэн. — Мы не можем спуститься, придется уходить вон через те окна.
И показал на балкон над правым фасадом. За ним была плоская крыша, с которой можно было перебраться на соседнее здание.
Гисберт первым перепрыгнул на ту сторону. Несмотря на свой возраст, он был, кажется, самым ловким. В мозгу Нельсона промелькнуло все сразу — Эльза, его мечты о славе, мысль о собственных обязательствах перед литературой, — и он спросил себя: а не окончится ли все здесь этой ночью?
— Не могли бы вы перестать молиться вслух? — попросил он отца Жерара. — Если в меня выстрелят, я не хотел бы, чтобы это было последнее, что я услышу.
Все перебрались на ту сторону, включая Криспина; Чжэн шел первым, во все стороны направляя дула своих пистолетов. Но когда они уже почти достигли соседнего здания, снова раздались очереди. Все бросились на пол. Одному из снайперов удалось спуститься на антресоль, и он стрелял через окно.
Чжэн, быстрый как молния, сделал три выстрела в том направлении, где были снайперы. Послышался шум, что-то упало. Он попал. Мы продолжили свой путь бегом, только отец Жерар не вставал. Суарес Сальседо, который был рядом, попытался помочь священнику, но, повернув его, увидел, что из груди вытекала лужа крови. Еще три выстрела просвистели мимо.
— Оставьте его, — тихо сказал Чжэн, — он мертв.
— Мертв? — повторил Суарес Сальседо в ужасе. — Что вы имеете в виду под словом «мертв»?
— Антоним слова «жив», — отрезал Чжэн. — Успокойтесь, это со всеми случается. Пойдемте. Мы должны двигаться дальше.
— Он молился, Матерь Божья, — сморщился Нельсон. — А я попросил его замолчать. О, жалкий я человек!
После этих слов прозвучал выстрел. Чжэн выстрелил в ответ, и они двинулись дальше, ползком, как черви. Струя крови хлынула из руки Нельсона Чоучэня.
— Черт, — сказал он, — в меня попали.
— Вы можете двигаться? — спросил Клаус.
— Да, ничего страшного.
Наконец они добрались до стены. Это был единственный проход между двумя зданиями, так что на данный момент они оказались в безопасности.
— Кто-нибудь еще ранен? — спросил Чжэн. Молчание, потом они услышали голос Криспина:
— Еще я, мачо. Ты почти раскроил мне череп!
— Что значит «мачо»? — спросил немец.
— Не самый подходящий момент, чтобы совершенствоваться в испанском, профессор, — возразил Нельсон. — Полагаю, нам нужно уходить отсюда. Все это становится слишком неприглядным.
— Сообщите мне по телефону, когда доберетесь донизу, — сказал Чжэн. — Я вас прикрою отсюда.
И остался, отстреливаясь из-за края стены, поскольку несколько человек попытались последовать за беглецами по крыше. Суарес Сальседо шел первым, таща за собой Криспина, и внимательно смотрел по сторонам, ища способа спуститься на улицу. Это был не склад, а старое офисное здание, поэтому они спустились по одной из лестниц. Добравшись до первого этажа, они увидели просвет на небе. Приближался рассвет. Суарес Сальседо позвонил Чжэну. Тот ответил, в трубке были слышны выстрелы.
— Мы уже снаружи.
— Как называется улица? Мне нужно предупредить одного из шоферов… подождите минутку, не вешайте трубку. — Чжэн прервал разговор, и Суарес Сальседо услышал автоматную очередь. — Сейчас вы меня слышите? Я говорил, что мне нужно знать название улицы, так я смогу устроить, чтобы вас подобрали.
— Не могу прочесть, Чжэн, — сказал Суарес Сальседо. — Написано по-китайски. Минутку… Кто-нибудь умеет читать по-китайски?
Криспин молчал. Гисберт Клаус сделал шаг вперед.
— Я, — сказал он. — Что вы хотите узнать?
— Прочитайте моему товарищу название улицы, — сказал он, передавая профессору телефон.
Клаус, гордый тем, что может внести свой вклад вдело общего спасения, взял трубку и прочел название.
— Через две минуты приедет фургончик и заберет вас отсюда, — сообщил Чжэн.
— А вы? — спросил Суарес Сальседо.
— Когда у меня закончатся патроны, я уйду. Я мог бы уйти сейчас, но хочу развлечься. Я буду на явочной квартире раньше вас.
— Помните, нам еще нужно допросить Криспина.
— Да, — сказал Чжэн, — этого я не упущу ни за что на свете.
Пока они разговаривали, выстрелы усилились. Суарес Сальседо с беспокойством стал ждать приезда машины. В этот момент он вспомнил, что в руке у него пистолет и что он должен держать на мушке Криспина, но сам себе показался смешным. Нельсон Чоучэнь Оталора исследовал свою рану, осторожно приподняв ткань пиджака.
— На десять сантиметров левее — и все. По счастью, это всего лишь царапина.
— Это была бы огромная потеря для испаноязычной прозы, — заметил Клаус. — Я рад, что тот наемник был не слишком метким.
— Я переживаю из-за пиджака, — объяснил Нельсон. — Это был один из самых изысканных. Огромная потеря для моего гардероба.
Фургон прибыл, и все сели в него. Водитель из предосторожности надел на голову Криспину капюшон и привязал его руки к заднему сиденью. Всем это показалось чрезмерным, ведь испанец уже продемонстрировал желание сотрудничать и, казалось, смирился с тем, что проиграл.
По приезде в надежное место все были поражены: Чжэн, сидя на диване, пил большими глотками чай из чашки. Одна рука его была перевязана.
— Вас ранили, — сказал Суарес Сальседо.
— В каждом сражении что-нибудь случается, — пожал плечами Чжэн. — Пустяки.
Один из сотрудников занялся Нельсоном Чоучэнем и его раной, Гисберт Клаус в это время вытянулся на диване.
— Ноги отваливаются, — пожаловался он. — Лет сорок я столько не бегал.
Чжэн допил свой чай, поднялся и отозвал в сторону Суареса Сальседо.
— Идемте, Криспин нас ждет.
Они пошли в комнату в глубине дома. Там, привязанный руками и ногами к металлическому стулу, сидел испанец.
— Ну, Криспин, — начал Чжэн, — в такого рода положениях бывает два решения: медленный путь и ускоренный. Оба они приводят к одному и тому же, только на медленном люди немного мучаются.
Криспин поднял голову и в бешенстве посмотрел на противника.
— Не собираюсь ничего говорить тебе, особенно после того удара, который ты мне нанес, сукин сын!
— Этот удар покажется тебе цыганскими ласками по сравнению с тем, что мой друг, колумбиец, способен причинить тебе.
Чжэн посмотрел на Суареса Сальседо, подмигнув ему. Тот сделал зверское лицо. Криспин занервничал.
— А что, черт возьми, вы хотите знать?
— Немногое, — сказал Чжэн. — Первое: почему ты оказался в этом сарае в маске и с пистолетом. Поскольку, полагаю, у тебя недостаточно смелости, чтобы действовать одному, второй вопрос напрашивается сам собой: на кого ты работаешь и кто были другие вооруженные люди? Для начала вполне достаточно.
Криспин, нервничая, проговорил:
— Да насрать я хотел на все.
Потом прикусил верхнюю губу.
— Видишь ли, Чжэн, ты знаешь: я человек подневольный. У меня серьезные долги. А тут пришел один мужик и предложил мне лакомый кусок за эту работу, у меня и выбора не оставалось.
Чжэн поднял подбородок, посмотрел испанцу в глаза. Вслед за этим он залепил ему оплеуху в левую щеку, такую смачную, что Суарес Сальседо закрыл лицо руками. Криспин едва не упал со стула, веревки удержали его.
— Козел! — крикнул испанец. — Если ты мне зуб сломаешь, я тебя убью! Черт, Чжэн, не усложняй мне жизнь. Это был тот мужик, о котором я тебе говорил. Тони, канадец.
Чжэн налил стакан воды, подошел к Криспину и плеснул в лицо. Тому, кажется, полегчало.
— Уже лучше, — одобрительно произнес Чжэн. — Это канадцы наняли тебя? Вооруженные люди — агенты методистской конгрегации?
Суарес Сальседо стоял за спиной у Криспина. Он был не согласен с методами Чжэна, но не делал ничего, чтобы удержать его. По правде говоря, эти методы приносили свои результаты.
— Послушай, — сказал наконец Криспин. — Я все рас скажу, если ты пообещаешь защитить меня. Эти мужики очень опасны.
— Сомневаюсь, что в твоем положении уместно выставлять требования, — ответил Чжэн. — Впрочем, говори, а там посмотрим.
Криспин сплюнул. На пол упало несколько сгустков крови, перемешанных со слюной. Потом он заговорил.
— Тони, канадец, — никакой не племянник преподобного. Насколько я понимаю, он приехал в Пекин, потому что его наняли, чтобы завладеть рукописью и отдать ее им, чтобы они себя поспокойней чувствовали. Но этот козел оказался более шустрым, чем от него ожидали, и, прежде чем приехать, он предложил ее каким-то китайцам из Нью-Йорка. Я точно не знаю, кто они такие. Слышал только, что это тайное общество, которое не хочет, чтобы рукопись всплыла, потому что иначе другая секта, которая хочет заполучить ее здесь, в Пекине, усилит свое могущество и переманит их приверженцев. Что-то вроде того. Тони должен был получить за рукопись пятьсот тысяч долларов. А мужиков с «Калашниковыми» Тони нанял здесь.
— А методисты, — спросил Чжэн, — что они думают по поводу всего этого?
— Они ничего не знают. Преподобный считает, что Тони работает на него, хотя тот его обманывает. Говорю тебе. Этот тип — он такой.
— А тебе, что он тебе предложил?
— Три тысячи долларов. Знаешь, я хотел заплатить долги и купить новый телевизор. Цветной, с дистанционным управлением. Я уже по горло сыт черно-белым дерьмом, которое у меня дома стоит.
Чжэн сжал руку в кулак и поднес его к лицу Криспина.
— И за это ты посчитал возможным взять в руки пистолет и угрожать нам?
— Черт, Чжэн, успокойся, я же не стрелял. Сам понимаешь — мужики, которым я должен бабки, шутить не любят. Они сказали, что ноги мне отрежут, если я до конца месяца не заплачу!
Чжэн пододвинул стул и сел. Суарес Сальседо подошел поближе и предложил всем закурить.
— Кажется, теперь все ясно, — проговорил Суарес Сальседо. — Что будем делать?
Чжэн погладил свою раненую руку. Потом встал, пошел в смежную комнату и только там ответил:
— Полагаю, что ничего. Согласно моим расчетам, четверо из наемников Тони отправились ко Всевышнему, а рукопись у вас. Моя миссия выполнена.
— Это точно, но я должен попросить вас еще об одной услуге, — сказал Суарес Сальседо. — Мне нужно еще один день пробыть в Пекине. Я полечу в Гонконг этой ночью, последним рейсом.
— И о какой же услуге?
— Не говорите Ословски, что рукопись уже у нас. Я сам скажу ему об этом, позже.
— Этот вопрос не входит в мою компетенцию, — ответил Чжэн. — Вам лучше знать, когда сообщить ему. Моя задача была привести вас к рукописи. Единственное, о чем вам следует помнить, — о том, что там, на крыше, остался французский священник.
— Мы не можем послать за его телом?
— Полагаю, можем.
Чжэн достал свой телефон и сказал что-то по-китайски. Потом повесил трубку и сказал:
— Все улажено. Я отдал приказ, чтобы его принесли, никому не говоря ни слова. Полагаю, он может остаться у нас до наступления ночи.
— Спасибо, — ответил Суарес Сальседо. — Я также вынужден попросить вас еще об одной маленькой услуге, но для этого нам нужно быть чрезвычайно осторожными. Пойдемте к окну, нас никто не должен услышать.
Мужчины, облокотившись о подоконник, несколько минут о чем-то переговаривались. Чжэн кивнул, потом они пожали друг другу руки. Сделав это, вернулись в зал. Нельсон Чоучэнь Оталора и Гисберт Клаус лежали на диване и, казалось, спали.
— Мы уже можем идти? — вдруг спросил Гисберт Клаус голосом, осипшим от усталости.
— Да, Чжэн нам поможет, — кивнул Суарес Сальседо. Вслед за этим он позвонил к себе в гостиницу и по просил соединить с его номером. Было семь утра.
— Алло?
Голос Омайры.
Это Серафин.
— Малыш, куда же ты пропал? Уже семь часов утра!
Суарес Сальседо попытался сложить в голове все заготовленные слова, потом он произнес:
— У меня к тебе просьба: сделай в точности то, что я тебе сейчас скажу. Не жди меня сейчас. Уходи и занимайся своими делами, но возвращайся в мой номер в пять часов вечера. Ровно в пять, а? Нам нужно поговорить.
— Ты пугаешь меня, Серафин, — сказала Омайра. — Я не хочу знать, во что ты ввязался, но скажи мне только, ты в порядке?
— Да. Пожалуйста, ровно в пять.
— Хорошо, хорошо. И ты мне ничего больше не скажешь?
— Скажу, — ответил он. — Я буду любить тебя всю жизнь.
Все четверо вышли на улицу и сели в черный автомобиль завода «Красное знамя». Утреннее движение было оживленным. Дымка придавала Пекину сказочный, нереальный облик, но на самом деле это они, тесно сгрудившиеся на сиденьях автомобиля, не вписывались в реальность. Чуть подальше, в парке, толпа совершала свои привычные утренние движения. Начался обычный день, такой же, как любой другой.
Подъехав к гостинице, я вспомнил диалог боксера из «Дикого быка», которого играл Роберт де Ниро. Он говорит своей подруге: «Поцелуй мои раны, так они заживут быстрее». Я много времени провел израненный, покрытый невидимыми трещинами, которые не кровоточили, но болели и вновь открывались со временем. Придет ли Омайра? Конечно, придет. Когда знаешь, что правильно, трудно этого не сделать. Это сказал Ословски.
Прежде чем подняться в свой номер, я зашел в торговый центр и отыскал там офис «Эйр Франс». Достав свои командировочные доллары, воспользовавшись кредитной карточкой, набрал необходимую сумму на билет Пекин — Париж в первом классе и, недолго поколебавшись, купил его на имя Омайры Тинахо. Положив билет в карман, я пошел в свой номер, чтобы ждать ее там. Пришел момент все поставить на карту. Можно сосуществовать с поражениями определенного рода, можно даже обрести легкое, декоративное счастье, но сначала надо сделать ставку. Я подумал о Коринн, о Лилиане. Подумал о трупе священника Жерара на крыше сарая и о его записях, хранившихся в кармане моего пиджака. Я подумал о Кастране, и о Мальро, и о себе самом, каким я был до того, как приехал в Пекин, но не нашел никакого отклика. Все эти имена были пустыми звуками. Наконец она пришла. Она очень нервничала. — Что означает вся эта таинственность, Серафим? — спросила она, бросаясь мне на шею.
— Лучше, если сейчас ты не будешь задавать мне этого вопроса, Омайра, — ответил я. — Он уже не имеет смысла. В девять я улетаю в Гонконг. Это прощание.
Омайра с силой обняла меня. Ее глаза наполнились слезами.
— Ах, малыш. Я продолжаю сходить с ума по тебе. Останься со мной еще на одну ночь.
Я опустился на пол. Стоя на коленях, обнял ее ноги. Я зарыл лицо в ее юбку и сказал:
— Ответь мне, да или нет, на то, о чем я тебя сейчас спрошу. Не говори мне о причинах, скажи только, да или нет.
Она молча кивнула. Тогда я протянул билет на самолет. Я показал ей, что она может воспользоваться им в любой день, из Пекина или из Гаваны. Это был билет с открытой датой.
— Ты приедешь? — спросил я.
Омайра упала на пол и снова обняла меня. Она уже не плакала.
— Да, — ответила она. — Жди меня там.
Я укусил ее губы и почувствовал что-то не то сладкое, не то горькое. Потом она подняла юбку и, откинувшись на край кровати, сняла колготки и трусики.
— Иди ко мне, Серафин, возьми меня, — попросила она. — Возьми меня всю.
Когда все было окончено, она оделась, потом подошла к зеркалу, чтобы поправить макияж и прическу. Я проводил ее до двери.
— Какая погода в Париже? — спросила Омайра.
— Через несколько дней начнутся холода.
Она задумалась на мгновение; я снова внутренне задрожал.
— Тогда лучше всего будет купить себе здесь пальто, — закончила она.
Поцеловала меня в губы и пошла к лифту. Из глубины коридора она снова сказала:
— Жди меня там.
Через несколько часов я был в аэропорту и отправлялся в Гонконг. Когда самолет взлетел, я почувствовал, что оставляю позади какой-то очень плотный, насыщенный кусок жизни и ностальгию, сильную ностальгию, Я смотрел на огни города. Океан освещенных точек. В какой-нибудь из них Омайра, должно быть, разглядывает билет на самолет и решает свою судьбу. И мою. Может быть, мне следовало остаться, рискнуть, но рукопись жгла мне грудь. Необходимо было положить конец авантюре, я должен был лететь этим ночным рейсом.
Пети и Гассо ждали меня в аэропорту после полуночи. Как ни странно, ни один из них не выразил своего удовлетворения, получив рукопись. Гассо просто открыл ее, проверил содержимое и сказал:
— В конце концов, вы проделали хорошую работу.
— Этого нельзя отрицать, — добавил Пети. — Хорошая работа.
Я отправился спать в тот же отель, в котором останавливался сразу по прибытии, но на этот раз ни огни, ни сумасшедшее движение на улицах не произвели на меня прежнего впечатления. Завтра в полдень я сяду на самолет и вернусь в Париж, а сейчас единственное, чего я страстно желал, — побыть одному. Я не смел думать об Омайре. У меня было абсурдное ощущение, что если я это сделаю, если разрешу себе мечтать о ее приезде и возможной счастливой жизни, все рухнет. Моя судьба некоторым образом была в руках незнакомки. Единственное мое срочное и необходимое дело — выспаться.
* * *
После того как двух других товарищей по несчастью высадили у дверей их гостиниц, профессор Гисберт Клаус остался наедине с Чжэном, который предложил ему помочь собрать личные вещи. Действительно, Чжэн послал кого-то в «Кемпински» с приказом войти в номер, положить все в чемодан и снова выйти, не привлекая внимания, так, чтобы профессору не нужно было возвращаться в отель. Так и произошло. Встреча с агентом должна была состояться на парковке перед Лавкой дружбы, в достаточно надежном и людном месте; туда они и направились, как раз в тот час, когда небо начинало становиться матовым.
— Встреча назначена на шесть, профессор, — сказал Чжэн. — Мой агент с большим почтением проводит вас в аэропорт, а мне еще нужно кое-что уладить в городе.
— Вы были очень любезны и отважны, молодой человек, — ответил Гисберт Клаус. — Все мы так или иначе обязаны вам жизнью. — Он дотронулся до своей сумки, где лежала рукопись, и с пылающим сердцем добавил: — Не говоря уж о том, что филологическая наука и литература перед вами в огромном долгу.
Чжэн промолчал. Он был одним из тех людей, которые чувствуют себя неловко, выслушивая благодарность, даже заслуженную.
Они прибыли на парковку, и Чжэн остановил машину у кафе. Гисберт Клаус, казалось, нервничал, хотя, если разобраться в его внутреннем состоянии, его поглотила усталость — огромная усталость после такой эйфории. Наконец-то она у него. Он получил ее. Профессору не терпелось подняться в самолет и покинуть Пекин, поскольку только в тишине своего кабинета или в читальном зале библиотеки он мог, ни на что не отвлекаясь, предаться чтению захватывающего текста. Он будет скучать по Пекину, конечно. Он уже по нему соскучился, потому что чувствовал, что человек, который этой ночью собирался вернуться в Германию, — не тот, каким был несколько дней назад. Теперь он лучше знал жизнь. Он испытал нечто, что возвысило его и наполнило существование смыслом. Он сумел ответить на вызов, брошенный ему судьбой при чтении книги Лоти, получив удовлетворение, которое приведет в движение не только его пассивное чувство читателя, ценителя и обожателя книг, но и научную карьеру. Вывод, который сделал профессор, хотя еще и находился на уровне рабочей гипотезы, был следующим: нельзя игнорировать какую-либо одну сторону жизни с целью усилить и усовершенствовать другую, не обедняя всю жизнь в целом, а следовательно, и ту область ее, которую мы собирались возвысить. Он подумал, что нужно будет записать эту мысль в самолете и отточить, поскольку она может положить начало тетради размышлений о его новом понимании жизни, которую — кто знает? — возможно, со временем опубликует, использовав это самое название: «Тетрадь размышлений о новом понимании жизни».
Гисберт как раз раздумывал об этом, когда рядом остановился автомобиль. Чжэн вышел из джипа и поздоровался с невысоким человеком. Потом сделал знак профессору, чтобы тот подошел.
— Он отвезет вас в аэропорт, — сказал он. — Теперь мы можем попрощаться.
Гисберт Клаус колебался, обнять китайца или нет. В конце концов он предпочел сдержанное, но горячее рукопожатие.
— Я в долгу перед вами, Чжэн, — повторил он, кладя ему в карман одну из своих визитных карточек. — Когда вам что-нибудь понадобится, звоните по этому номеру.
Чжэн проследил, как автомобиль удаляется по проспекту по направлению к четвертому кольцу; теперь, когда все уехали, ему оставалось неприятное завершение банкета, то есть грязные тарелки и запачканные скатерти. Так было всегда. Его этому учили.
В машине агента, на заднем сиденье, был еще один человек, который — в целях безопасности, как объяснили Гисберту, — поедет вместе с ними в аэропорт. Профессор учтиво поприветствовал его, представился и вслед за этим принялся в последний раз рассматривать роскошные небоскребы. «Такими темпами Пекин станет, в конце концов, „Метрополисом“ Фрица Ланга, но в Азии», — подумал он. Через некоторое время они выехали на шоссе, прибавили скорость. Темнело. Холодный ветер поддувал в приоткрытое окно, и Гисберт подумал, что, прежде чем сдавать чемодан в багаж, неплохо было бы достать шарф.
Огни аэропорта горели, как огромное пламя среди ночи. Все трое через один из боковых въездов направились на парковку; у них было более получаса в запасе.
Все случилось очень быстро. Гисберт составлял в уме список вещей, которые хотел купить в дьюти-фри: бутылку рисового ликера, немного чая для Юты и, пожалуй, какой-нибудь сувенир из нефрита, как вдруг ход его мысли прервали выстрелы. Стекла машины разбились вдребезги, и это было последнее, что он заметил. Первая пуля попала ему в лопатку, вторая — в шею, третья — в правую сторону груди. Прежде чем потерять сознание, Гисберт интуитивно упал на левый бок, несомненно, защищая рукопись.
Через три дня, очнувшись в Рокфеллеровской больнице в Пекине и удивившись присутствию Юты, которая не отпускала его руку, профессор Клаус узнал, что на них напали члены той же самой банды, что похищала их и держала в заточении, головорезы Тони, канадского агента. И он, и водитель получили серьезные ранения, но молодой человек на заднем сиденье, отстреливаясь, спас им жизнь. Китайская полиция немедленно прибыла на место и арестовала всех троих стрелявших; один отдал Богу душу, другой получил два пулевых ранения, но уже пошел на поправку; все они немедленно выдали Тони, который некоторое время спустя был задержан в международной зоне аэропорта, поскольку ожидал там то, что сообщники должны были ему отдать, то есть рукопись, и этой же ночью собирался отбыть в Токио. Чжэн, который сидел рядом с Ютой, рассказал профессору все подробности, когда тот открыл глаза.
Что касается рукописи, она была в безопасности, поскольку полиция не придала ей значения; вроде бы стрелявшие не упомянули о ней в своих признаниях, возможно даже, что он и не знали, что именно лежало в сумке, которую они должны были выкрасть, так как по парадоксальной случайности знал это именно тот человек, который погиб.
— Тебе нравится Пекин? — спросил Гисберт жену.
— Не знаю, — ответила она, — я вижу только то, что за окном. На данный момент этот город внушает мне тревогу.
Врачи ждали, пока Гисберт оправится от первой операции на шее, чтобы сделать вторую и, возможно, третью, на лопатке. Он потерял много крови. Согласно тому, что сказал Чжэну один из медбратьев, хотя информацию нельзя было назвать стопроцентно достоверной, Гисберт Клаус побывал в состоянии клинической смерти. Теперь он был рядом с Ютой, которая целовала мужа с беспокойством и говорила на ухо: «Когда мы вернемся в Германию, ты мне во всех подробностях расскажешь, что это все значит и в какой переплет ты тут попал, герр профессор».
* * *
Нельсон Чоучэнь Оталора приехал к себе в отель; как он и предполагал, автомобиль с людьми Вень Чена ждал его у главного входа. Из предосторожности Чжэн находился поблизости, не выключая мотора, пока Нельсон разговаривал со своими, сидя у них в машине; они были очень обеспокоены его внезапным исчезновением, искали его много часов подряд. Прощание было скорым — рукопожатие с Чжэном и с Гисбертом Клаусом.
Последнему Нельсон сказал:
— Когда я поеду в Гамбург представлять немецкое издание одной из моих книг, я попрошу, чтобы вам направили приглашение, профессор. Мне очень приятно будет снова вас увидеть.
Гисберт Клаус, взволнованный, решил попрощаться на языке своего нового друга:
— Это будет большая удовольствия. Я буду ожидать нее. Желаю вам большой удачи для вас.
Человек Вень Чена передал Нельсону совет переехать, поскольку кто-нибудь, возможно, за ними следит, что приведет к новым осложнениям. И действительно, прежде чем приехать в секретное место, где проходили предыдущие собрания, водитель кружил по городу, останавливался, несколько раз менял маршрут и постоянно смотрел в зеркало заднего вида.
Нельсон улыбался. То, что лежало у него в кармане пиджака, было настоящей бомбой, которая навсегда закрепит за ним надлежащее место в китайской культуре, со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых он так страстно мечтал: резкое увеличение продаж, — ведь если только каждый второй последователь тайного общества будет покупать его книги, цифры подскочат до небес — контракты с газетами и журналами по всему миру на кругленькие суммы, рецензии в газетах Европы, Соединенных Штатов и Латинской Америки, членство в привилегированном клубе лидеров продаж наряду с Умберто Эко, Салманом Рушди, Гарсией Маркесом, Найпулом, Варгасом Льосой, Сарамаго, Уильямом Стайроном и другими; возможно, номинация на Нобелевскую премию и — почему бы и нет — присуждение ее; он уже представил себе свою речь: «Премия делает больше чести тому, кто присуждает ее, чем тому, кто ее получает, поэтому я хочу поздравить Шведскую академию…» И так далее. Он наконец мог свободно вздохнуть, потому что именно таким было теперь его место в мире. Ни больше ни меньше. Литературная слава была единственным возможным вознаграждением за все мытарства и тревоги его утонченной души. Как прекрасна жизнь, от которой можно столько получить, сказал он себе.
Визг тормозов пробудил писателя от мечтаний как раз в тот момент, когда он представлял себе фотографию в «Нью-Йорк таймс» со следующей подписью: «Лауреат Нельсон Чоучэнь Оталора приветствует короля Швеции Густава». Они прибыли на место.
— Достопочтенный друг, — сказал Вень Чен, увидев его. — Куда, черт возьми, вы подевались? Наши люди всю ночь прочесывали гостиницу и прилежащие районы. Мы были в отчаянии. Кроме того, произошло нечто необычное: сильная перестрелка в промышленной зоне, в том квартале, за которым мы следили уже два дня. Когда нам удалось собрать наших профессиональных агентов и мы почти уже окружили склад, прибыла полиция, и мы вынуждены были уйти. Мои люди с утра стараются выяснить, что там произошло.
Нельсон посмотрел на Вень Чена снисходительно, как настоящий герой. На его лице было выражение человека, который с достоинством идет к своей славе.
— Мне нужно было исполнить поручение, в высшей степени деликатное, — ответил он. — Нечто, что я должен был сделать один, потому что это было сопряжено с большим риском. И вот результат.
Он вынул из своего кармана сверток и равнодушно бросил его на стол. Вень Чен открыл его и, увидев, что там, встал на колени. Он сказал что-то по-китайски, и все, кто находился в зале, пали ниц. Нельсон спокойно сел и закурил.
— Мой двоюродный дед спас рукопись от катастрофы, — сказал Нельсон. — Моим фамильным долгом было отдать ее вам. Я никогда не простил бы себе, если бы вернулся в Соединенные Штаты, не закончив этого дела. Теперь моя совесть спокойна.
Вень Чен перевел его слова; все, стоя на коленях, повернули к нему головы с молитвенным видом.
— Я узнаю кровь бойцов и воинов Шоушэней, исторических вождей ихэтуаней, — сказал Вень Чен. — Теперь, когда у нас есть рукопись, мы можем воскреснуть заново. Сила этого текста передастся нам. Мы спасены. Наше право называться новыми последователями общества «Кулак во имя справедливости» теперь реальность, и те сторонники насилия, которые осмеливаются носить наше имя, исчезнут. Наши принципы будут теми же, что и у предшественников, хотя мы постараемся осуществить их иными методами: честь родины, духовное и физическое здоровье, достоинство народа. Кто хочет видеть воплощенной эту мечту, объединяйтесь вокруг нас. Кто хочет гордиться самим собой, родиной и нашей историей, объединяйтесь вокруг нас. Кто хочет жить полной жизнью, с достоинством и смыслом, идите к нам.
Спустя некоторое время Нельсон Чоучэнь Оталора был с единодушного одобрения собравшихся избран почетным руководителем; эту честь он принял с условием, что ему позволят вернуться в свой дом в Остине, в США, где была его жизнь, чтобы оттуда поддерживать постоянный контакт с тайным обществом, совершая частые поездки в Пекин и проводя ежемесячные заседания общества в Соединенных Штатах. Все согласились. Решили, что Вень Чен будет реальным вождем общества, так как хорошо знает традицию, но в иерархии его статус — доверенное лицо, фактотум при Чоучэне Оталора. Члены организации поддержали и то, что Нельсон должен вернуться к своей прежней жизни во имя написания великой книги, которая должна возвысить их всех, книги, в которой будет рассказываться о жизни китайско-перуанской семьи в течение века. По совету Нельсона заранее было решено — его произведение будет переведено на китайский и прочитано членами общества, потому что в ней, уверял Нельсон, он собирался изложить некий образ мыслей, который, как он чувствовал, кипел в нем и который, теперь он был в этом уверен, имел прямое отношение к наследию его деда, мятежника и освободителя, — образ мыслей, который нельзя было передать иным способом, поскольку у него писательский склад ума.
Обретение рукописи было отмечено грандиозным банкетом в главной штаб-квартире; рукопись поместили в хрустальный сосуд и поставили в нишу с пуленепробиваемыми стеклами, где ее собирались охранять денно и нощно вооруженные стражи. Каждый месяц наметили проводить собрание членов общества с публичным чтением; было постановлено также, что будет запрещено изготовление копий, чтобы не вульгаризировать содержание книги и прежде всего чтобы она не попала в чужие руки. Нельсон пережил момент славы, принимая поклонение от семисот великих магистров общества, которые поклялись проповедовать его образ мыслей и доктрину.
Само собой, кто-то взялся собрать его вещи, а сам он немедленно был отправлен в загородную резиденцию в ожидании рейса в Соединенные Штаты.
Два дня спустя Нельсон спросил у Вень Чена, не посвящая старика в подробности о случившемся ранее, можно ли найти Ирину.
— Разумеется, достопочтенный друг, — ответил тот. — Этой же ночью мы приведем ее к вам.
К великому удивлению Нельсона, часов в семь вечера машина завода «Красное знамя» припарковалась у входа в резиденцию, и из нее вышла Ирина, прекрасная русская предательница. Увидев ее из окна третьего этажа, Нельсон понял, что допустил роковую ошибку: раз он не рассказал всего, что произошло несколько дней назад, Вень Чену, ни он, ни его люди не предприняли предосторожностей, и, вполне возможно, те, кто похитил его, могли пробраться и сюда, следя за ней.
Прежде чем выйти к ней навстречу, Нельсон отозвал Вень Чена в отдельную комнату и объяснил, что визит красавицы может быть опасным, все же не посвящая его в подробности.
— Знаю, друг мой, — кивнул Вень Чен. — Я уже принял соответствующие предосторожности. Такие женщины красивы, но, к сожалению, у них есть своя цена. Раз они продают свое тело, можно предполагать, что они продают и свою преданность. Не беспокойтесь, я все устроил. Мы сделали так, что она останется здесь, с вами, до момента вашего отъезда. Если вы не захотите ее видеть, мы удалим ее в другую часть дома.
— Хорошо, Вень, — сказал Нельсон. — А теперь позовите ее, пожалуйста.
На Нельсоне был шелковый халат с вышивкой, который отчасти придавал ему вид даосского философа. Услышав хлопок открывшейся двери, он поставил на стол чашку с чаем и пошел ей навстречу.
— Привет, sweet heart, — сказала Ирина. — Я знала, что ты меня не забудешь. Что хотели от тебя эти люди той ночью? Надеюсь, они не причинили тебе вреда.
— Нет, ничего страшного, — ответил Нельсон. — Видишь, я здесь, в целости и сохранности.
— Я умираю от желания провести досмотр твоего тела, sweet heart, — сказала она, приближаясь к нему. — Я покажу тебе, что я не холодная. Я с Дона, который не так тих, как сказал Шолохов.
— Черт, — воскликнул Нельсон, — у тебя что, есть литературное образование?
— Я училась в советской общеобразовательной школе, — проговорила она, глядя на Нельсона бирюзовыми глазами. — Я считаю оскорблением тот факт, что ты удивлен, ведь Шолохов русский писатель. Странно, что ты его знаешь.
— Ну хорошо, хорошо, — перевел разговор Нельсон. — Прежде чем дискутировать с тобой о литературе, а именно об этом я, между прочим, и мечтал, я считаю, что ты должна объясниться.
— Ты имеешь в виду человека с пистолетом?
— Именно.
Лицо Ирины стало детски наивным. Потом она села напротив него, слегка разведя ноги.
— Очень просто, они знали, что ты мой клиент, и предложили кругленькую сумму за то, чтобы я выманила тебя из гостиницы. Все очень просто.
— И сколько тебе заплатили?
— Тысячу долларов. Неплохая сумма, — ответила Ирина. — Ты не представляешь, что мне приходится делать, чтобы заработать эти деньги.
— И у тебя не было никаких сомнений, скажем так, морального свойства, когда ты предавала меня?
— Нет, абсолютно, — ответила она очень спокойно. — Человек может предать только то, чему он принадлежит. Остальное — часть первозданной жестокости жизни. Ты, вставляя свой пенис в мой нежный цветочек, как ты назвал мой половой орган однажды ночью, тоже предатель, потому что ты женатый человек. И это не считая того, что оба мы преступаем закон: ведь проституция в Китае запрещена. В общем, то, что ты и я вместе, — это нечто отвратительное и беззаконное, и несмотря на это, ты продолжаешь щупать меня. Поэтому я скажу тебе напрямик: не время читать нравоучительные лекции, sweet heart. Скоро оба мы умрем, наши тела сожрут полчища червей, личинки которых уже живут в нашем кишечнике. Забудь о том, что хорошо и плохо. Лучше спускай свои штаны, и я хорошенько пососу тебе. Это, по крайней мере, будет реально.
Нельсон так и сделал, и через мгновение, царапая пальцами воздух, погружаясь в ее тело, вскрикивая от удовольствия, бросая вызов вселенной и звездам, он забыл обо всем. Ирина была права: если человек сознает, что смертен, все, что не есть наслаждение, лишено смысла.
Потом, утопая в блаженстве, они долго сидели в горячей ванне, и вышли только к ужину, который был накрыт на террасе дома; рядом стоял фонарь.
— Ты играешь в шахматы? — спросил Нельсон.
Ирина, завернутая в шелковый халат, сказала ему:
— Я считаю оскорблением тот факт, что ты спрашиваешь у русской девушки, умеет ли она играть в шахматы. Странно, если ты умеешь.
Они сели за шахматную доску; китайская служанка подбросила дров в камин и зажгла огонь.
— Ненавижу начинать белыми, — сказал Нельсон, — ну что, победитель определяется по десяти партиям?
— Платить будешь ты.
Нельсон подумал, что эта сцена может оказаться очень хорошим концом для книги, и поднялся, чтобы записать ее в том виде, в каком она пришла ему в голову: «С той минуты, как я увидел ее, я сказал себе: в конце концов Ирина будет играть со мной в шахматы». Это что-то напомнило ему, но фраза была хороша.
Сидя в салоне самолета «Катай Пасифик», на обратном пути я подумал о жизни, которая ожидала меня по возвращении в Париж, и тоскливое чувство потери овладело мной. Что происходило? Мудрый и брюзгливый карлик, который сидит внутри каждого человека, настойчиво шептал мне на ухо: «Она не приедет, не приедет», а я возражал: «Но ведь она сама сказала очень ясно: „Жди меня там, Серафин“. Это были ее слова». Но мой карлик снова скептически говорил: «Она не приедет, потому что если бы она решила изменить свою жизнь, то полетела бы с тобой и сидела бы сейчас здесь, а я бы не говорил тебе этого». Быть может, ты прав, жестокий карла, и поэтому я тебя ненавижу, ответил я ему и заказал бутылку джина, а также попросил газету и журнал, пожалуйста, побыстрее что-нибудь, что меня отвлечет, что уберет этого злобного уродца у меня из души.
Газета и бутылочка джина с тоником подоспели вовремя, поэтому я углубился в чтение, хотя мой интерес к новостям и был нулевым. Нулевым, пока на третьей странице я не наткнулся на нечто, отчего у меня виски пошло не в то горло, и я закашлялся. Это была короткая заметка в криминальном разделе.
«Перестрелка в аэропорту Пекина
Пекин. Напряженная перестрелка, в результате которой один человек был убит и трое ранены, имела место вчера в международном аэропорту в 18.30 по местному времени. Группа преступников, действовавших по приказу иностранной мафии, совершила вооруженное нападение на автомобиль, в котором находились трое пассажиров.
Немецкий профессор Гисберт Клаус, его шофер и его телохранитель, оба по национальности китайцы, были атакованы злоумышленниками, когда их автомобиль въехал на парковку аэропорта. Один из преступников был убит в перестрелке с телохранителем, другой ранен, а остальных трех арестовала полиция. Немецкий профессор и его шофер были доставлены в пекинскую больницу с ранениями, степень тяжести которых не уточняется. Позднее в международном секторе аэропорта был задержан канадский гражданин Энтони Вильмарс, которого преступники опознали как заказчика и вдохновителя нападения, предполагаемый агент мафиозной организации, действующей в Канаде и на севере Соединенных Штатов.
На данный момент мотивы произошедшего неизвестны. Как полиция, так и немецкое посольство в Пекине начали расследование».
Все это произошло незадолго до моего прибытия в аэропорт! Я не мог поверить в то, что Гисберт Клаус ранен. Учитывая, что в газете не сообщались имена раненых китайцев, — возможно, по соображениям секретности, — я подумал, что Чжэн мог быть одним из них. Но потом вспомнил, что Клауса должен был везти сотрудник Чжэна, и предположил, что с последним все в порядке.
Идея с тремя рукописями принадлежала Чоучэню Оталоре, и, как мне ни тяжело об этом говорить, я бы предпочел, чтобы такая идея исходила от меня. Именно благодаря ей мы смогли развязать этот узел. Но нужно сказать также, что окончательный выход нам подсказал Чжэн, предложив нам сделать копии у своего приятеля, антиквара с улицы Лиуличанг, — Чоучэнь говорил только о цветных ксерокопиях, — эксперта в области фальсификации подлинников, чья деятельность, по словам Чжэна, не всегда укладывалась в тесные рамки закона, что превращало его в идеального помощника для нас.
Антиквар, человек преклонных лет, который, улыбнувшись, показал всем присутствовавшим превосходную коллекцию гнилых зубов, выслушал задание с чрезвычайной серьезностью, поскольку был обязан нашему другу значительным количеством одолжений. Мы пришли в его мастерскую около восьми часов утра, а к четырем, работая с двумя помощниками, столь же умелыми, как и он, в искусстве каллиграфии, он вручил нам оригинал и две копии. Надо сказать, что они были столь совершенны, что только профессор Клаус, специалист и библиофил, мог распознать, где что. Я решил, что оригинал рукописи по праву нужно отдать новым ихэтуаням, его настоящим хозяевам, поэтому она отправилась в карман Нельсону Чоучэню Оталоре, которого мы посчитали их полноправным представителем. Нам с Клаусом достались подделки, выполненные антикваром, поскольку я был уверен, что то, что я вручу Пети в Гонконге, в конце концов будет спать сном праведным в каком-нибудь сейфе министерства иностранных дел Франции, пока лет через сто или двести кто-нибудь снова не найдет его снова, — эпоха, когда за давностью времени даже эта копия будет считаться оригиналом. Что касается Гисберта Клауса, поскольку речь здесь идет о, так сказать, более личном случае, ни он сам, ни кто-либо другой не был огорчен тем, что ему досталась фальшивка.
— Это прекрасная древность, — сказал антиквар. — Поздравляю вас, профессор.
— Ну, — уточнил профессор, — это фальшивая древность. Прекрасная, но фальшивая.
— Нет, профессор, это древность, — возразил старик. — Вам только нужно вооружиться терпением.
Омайра не прилетела ни следующим рейсом, ни другим, ни одним из тех рейсов, которые прибывали из Пекина или из Гаваны в течение ближайших трех месяцев, как и предсказывал мой брюзгливый карлик. Однако по возвращении я провел множество вечеров в кафе зала ожидания аэровокзала. Оттуда я смотрю на прибывающих пассажиров и, глотая чай, представляю Омайру Тинахо в синем платье, с чемоданом в руке, я вижу, как она машет мне рукой и говорит: «Я приехала издалека, Серафин, вот я, я ведь обещала тебе», — и представляю, как я в волнении встаю, иду обнять ее, и, когда я представляю все это, глаза мои наполняются слезами, как если б это случилось на самом деле, поэтому я вынужден опускать их, чтобы не показаться безумцем, — одинокий человек, который вечер за вечером возвращается в это местечко встречать кого-то, кто не приедет никогда, пассажира, который никогда не сядет на самолет.
Эпилог
Вот она, эта история о трех лицемерах-притворщиках. Что до меня, то вы уже знаете: я был вынужден покинуть сцену внезапно, на крыше сарая, а именно в момент бегства, когда Чжэн собирался перевести нас на другое здание. Две пули в плечо, которые разорвали мне легкие, помешали мне продолжать мой путь и некоторым образом позволили моему телу расслабиться. Я не могу объяснить, хотя и хотел бы, ни откуда я рассказываю все это, ни откуда знаю столько деталей. Скажу только одну простую вещь: я вижу. Некоторым образом я по-прежнему в укрытии, хотя мне уже нечего прятать. Я не на складе, а в местности, полной света и тишины. Эта история — все, что у меня есть, и теперь, когда я ее рассказал, я могу исчезнуть, соединившись с Ничто. В конце концов, я всего лишь летописец, солдат Господа, который немного сделал для Него и получил свою благодарность или думал, что получил. А теперь, удаляясь, я должен умолкнуть.
Примечания
1
Тинтин — популярный герой комиксов.
(обратно)2
Ихэтуаньское восстание 1899–1901 гг. в Северном Китае. Инициатором явилось тайное религиозное общество Ихэцюань («Кулак во имя справедливости и согласия»), позднее повстанческие отряды были переименованы в Ихэтуани («Отряды справедливости и согласия»). Поскольку в название общества входило слово «цюань» (кулак), иностранцы называли их «боксерами». Осада ихэтуанями дипломатического квартала в Пекине продолжалась 56 дней. Восстание жестоко подавлено союзниками — Австро-Венгрией, Великобританией, Германием, Италией, Россией; США, Францией, Японией.
(обратно)3
Гоминьдан — политическая партия в Китае, основана в 1912 г. Сунь Ятсеном. В 1924–1927 гг. в блоке с компартией вела борьбу за власть. В 1949 г. во главе с лидером Чан Кайши (ум. 1975) образовали собственное правительство на острове Тайвань.
(обратно)4
Фалуньгун — тайное общество, члены которого — от 60 до 100 миллионов человек, по разным оценкам, — придерживались мистических религиозных взглядов, основанных на положениях буддизма и даосизма, практиковали медитацию, основанную на древнекитайской дыхательной практике «цигун». Запрещено властями Китая в июле 1999 г.
(обратно)


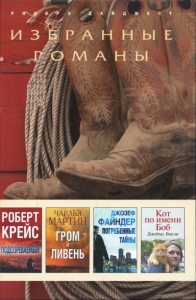
Комментарии к книге «Самозванцы», Сантьяго Гамбоа
Всего 0 комментариев