Р. Н. Моррис Благородный топор. Петербургская мистерия
Моей матери Норме, обожающей крепкую историю с убийством
Хотелось бы поблагодарить Ярослава Трегубова из Исторического Общества Санкт-Петербурга, открывшего заблудшему иностранцу Петербург XIX века. А также Федора Михайловича Достоевского (перед коим мне остается лишь извиниться)
«Ты барин! — говорили ему. — Тебе ли было с топором ходить; не барское это дело».
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»Декабрь 1866 г.
Описанные ниже события происходят спустя примерно полгода после нашумевшего дела студента Раскольникова, в котором столь немаловажную роль сыграл следователь Порфирий Петрович.
Глава 1 В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ
Наступал по-зимнему поздний, тусклый рассвет.
Зоя Николаевна Попова продвигалась по Петровскому парку с бездумной решительностью, комковатой округлостью темных одежд напоминая жука. Дорожки парка, летней порой обычно заполненные гуляющими, теперь скрывал снежный покров. Хотя Зое Николаевне дорожки были ни к чему: у нее была своя тропа. Она направлялась к северу, от застывшего пруда. Поступь женщины была медленной и неровной. Каждое движение ее коренастой приземистой фигуры отзывалось резким ревматическим прострелом в пояснице. И всякий наклон за очередной хворостиной, пополняющей вязанку на спине, требовал определенного, боль превозмогающего мужества: распрямляться было не так уж просто. Однако мысль о дрожащей дома малышке и о той жертве, которую каждодневно приносит Лиля, заставлял Зою Николаевну упорно нагибаться и разгибаться, и все идти и идти по тропе.
Такая уж женская доля. Легко не приходилось никогда; хотя кто-то, может, и мог обвинить ее, что соблазнилась она когда-то легкой дорожкой. А о слезах ее, за все те годы пролитых, а о плате муторной за грехопадение хоть кто-нибудь подумал, хотя бы раз? О том, как плакала она, впервые ощутив, как лапают ее полные похабства сальные взгляды. Те взгляды на себе сносить было едва не тяжелей, чем дрожащие от похоти руки. А слезы, которыми зашлась, годы спустя оглядев себя в зеркале: морщины, тело обрюзгшее, погрузневшее, словно проношенное до дыр. Плакалось оттого, что уже и так прожить теперь нельзя. Как тут не расплакаться? Иного способа жить, способа промышлять она толком и не знала; в нем было хоть какое-то утешение.
Вот опять на глаза навернулись слезы. Хотя это так, от мороза. И не было уже ни сожаления, ни печали по утраченной жизни; и об ошибках уже не так чтобы горевалось — были да схлынули. А вот из носа течет. Да ну и что, все равно никто не смотрит; какая-никакая, а свобода, даруемая одиночеством.
Одинокой Зоя Николаевна не была. Стоило лишь подумать об оставленной дома малышке и о Лиле; уж та ее и «мамой» называет, и сама на «доченьку» охотно откликается.
Кто б знал, что для того, чтоб беды свои позабыть, надо лишь пуще прежнего окунуться в заботы?
Дорога пошла под уклон. Зоя Николаевна цепко смотрела перед собой на землю: а вдруг какая хворостина завалялась. Веронька сейчас спит; надо бы поскорее домой, а то, не ровен час, проснется, а рядом никого. Хотя в такую-то холодину небось спит как сурок. Да при этом так тихо, что иной раз невольно подумаешь: жива ли?
Так что лучше не переживать, а набрать хвороста, да так, чтоб едва дотащить. То, что не истопится, можно будет и продать. Переживать надо, наоборот, если вязанка не наберется и корзина пуста. А если набрать как следует, так оно всем на пользу.
Только Лиля что-то нынче ночевать не приходила, что тоже вызывало беспокойство. Хлопотная, видно, ночка выдалась. Если так, то только радоваться надо: будет, что поесть сегодня. Лилечка, душенька. А благодарная-то какая! Никогда о ней, старухе, не забывает. Помнит, как она ее всему нужному научила, чтобы на пропитание худо-бедно добывать.
Зоя Николаевна нагнулась подобрать разлапистую ветку (уж от ее-то глаза ни одна мелочь не ускользнет). Земля словно притягивала ее грузноватое тело к себе, не давая отрешиться от своего влекущего гнета. Выпрямившись, от очередного прострела Зоя Николаевна невольно ткнула себе в поясницу кулаком; перед глазами поплыли круги.
И тут она увидела его — прямо впереди, с опущенными плечами и неестественно согнутой шеей. Он ее словно дожидался. Рослый дородный мужичина с всклокоченной бородой, как раз под стать его габаритам, облаченный в старую шинель. Шапка из овчины сбилась набок, открыв вздутую личину забулдыги с лукаво скошенными глазами. Ноги словно наспех вдеты в смазанные дегтем сапоги, а ступни лениво, словно нехотя колышутся буквально в вершке над утоптанным в этом месте снегом; эдакий скоморох, застывший в нелепой пляске.
Под тяжестью его тела луком выгнулся ствол березы. Внезапный порыв ветра с воем взметнул с заиндевелых ветвей облачко замельтешивших снежинок. Повешенный, качнувшись, описал медленный круг.
Возле его ног виднелось что-то бурое, наполовину занесенное снегом.
* * *
Зоя Николаевна, в нерешительности остановившись, спешно перекрестилась. Набравший силу ветер метнул ей в лицо вихрящееся облако поземки. Вид самоубийцы внушал ужас. Однако внутреннее чутье тайком подсказывало: есть здесь что-то поважнее хвороста.
И она, стараясь не глядеть на покойника, засеменила к проклятому месту.
Валенком она задела тот наполовину занесенный снегом предмет — твердый, угловатый, вроде сундука. Превозмогая боль в пояснице, Зоя Николаевна нагнулась и варежкой смела с него снег. Это оказался большой кожаный чемодан, причем такой тяжелый, что и не поднять. Пришлось тащить по снегу, оставляя сзади широкий след, как от скребка.
Застежки обжигали холодом пальцы, но все же поддавались, и наконец крышка приподнялась, как бы отрекаясь от содержимого. Зоя Николаевна осторожно подняла крышку.
Он был скрючен, словно плод, готовый выпростаться из утробы. Слегка выступающее плечо не замедлил припорошить снег (прямо-таки рубашка на новорожденном).
Сразу же бросился в глаза зияющий пролом в голове; жирно поблескивали пучки редких волос, черные от густой запекшейся крови. Голова, кстати, была необычно, до странности большой.
Единственно различимый глаз (труп лежал на боку) взирал на Зою Николаевну с печальной укоризной; женщина еще раз поспешно перекрестилась, прежде чем окинуть тело взглядом.
Малехонький-то какой! Что ручки, что ножки; как только внутренности в такого вмещаются. Тем не менее это был не ребенок, а взрослый мужчина с бородкой клинышком, одетый в поношенный костюм с бесцеремонно подрубленными рукавами и штанинами.
Слабо сознавая, что делает, Зоя Николаевна взялась обшаривать ему карманы, стыдливо отводя при этом глаза (чего только не доводится нашей сестре делать!).
Пальцы наткнулись на что-то твердое. Она вынула колоду карт, все еще в коробке. На поверку оказалось — из тех похабных, с голыми девками вместо дам, рогатыми королями-сатирами и непонятно, то ли бабами, то ли мужиками в качестве валетов. Ветер подхватил и унес засунутый в колоду обрывок бумаги (унес, ну и бог с ним). Сами карты были уже достаточно потрепаны, однако какому-нибудь олуху вполне можно будет всучить. Так что находку Зоя Николаевна припрятала.
Дальнейшие поиски по карманам ничего не дали. Страха больше не чувствовалось; скорее какой-то диковатый, безотчетный азарт.
Сопротивляясь порыву насылающего поземку ветра, она пустилась ко второму трупу. Не заметил бы кто. Хотя какое тут; главное, успеть бы.
Распахнув заскорузлые полы шинели, она невольно вскрикнула от ужаса. За пояс у мужика был заткнут топор. Испачканное кровью лезвие на короткой рукояти казалось алчным, слизывающим кровь языком.
Женщина невольно глянула самоубийце в лицо. Образина-то какая, истинно разбойник с большой дороги. И как только у него рука поднялась на того коротышку в чемодане. Оттого, видно, потом и удавился: стыдоба смертная взяла.
Она машинально взялась обшаривать на трупе одежду. Невольно вспомнилось, скольких мужчин ей доводилось раздевать на своем веку. Раньше они ее лапали, а теперь вот, выходит, наоборот. Зоя Николаевна против воли усмехнулась. Вот уж действительно, смеется тот, кто смеется последний. Одной рукой она нырнула в задний карман брюк, где нащупала какой-то металлический предметец — оказалось, это был ключ. Сама по себе вещица никчемная, но кто знает, какие сокровища ею можно отомкнуть? Так что ключ вслед за колодой тоже перекочевал в сокровенные места среди юбок.
Затем руки прошлись по нагрудным карманам шинели, почти сразу угодив на содержимое. Две вещи, примерно одного размера; одна — что-то вроде бумаги, другая жесткая на ощупь. Первая оказалась толстым сиреневым конвертом без адреса и печати. Внутри находилась пухлая пачка ассигнаций.
Тревожно оглядевшись (как бы кто не заметил!), Зоя Николаевна хрустко согнула радужные купюры, озарившие, казалось, собою блеклый зимний пейзаж.
При пересчете денег руки чуть дрожали, но не от холода. Слетел наземь никчемный сиреневый конверт. Зоя Николаевна, зажмурившись, подняла лицо навстречу вьюжистой поземке. Подумать, шесть тысяч ассигнациями! Из-под прикрытых век сочились слезы, слезы искреннего чувства, жаром своим растапливая падающие на щеки снежинки. Засунув пачку в самое что ни на есть надежное место под юбками, Зоя Николаевна с весенним теплом в душе заспешила прочь.
Глава 2 ВСЕ СХВАЧЕНО
Методичным движением вставив в губы папиросу, Порфирий Петрович на миг сосредоточенно замер, будто в предвкушении не удовольствия, а скорее ясности. Сам он всегда утверждал, что курит сугубо по рациональной — не сказать профессиональной — причине. Закрыв сухо щелкнувший эмалевый портсигар, он опустил его в нагрудный карман сюртука.
На столе перед Порфирием Петровичем лежали раскрытые «Ведомости». Прежде чем приступить к чтению, он разгладил страницы газеты, словно придавая таким образом опрятность словам. Статья, принадлежащая перу некоего Р., называлась «Что ими движет?». Подзаголовок гласил: «Попытка уяснить, что же толкает образованных и талантливых особ благородного звания на совершение бесчинств и преступлений».
Порфирий Петрович, чиркнув спичкой, корпусом подался чуть вперед, прикурить. С первой же затяжкой кровь словно побежала быстрее, а ум обрел подчеркнутую подвижность и четкость восприятия.
Вчитываясь в прихотливый слог статьи, он ясно усваивал ее суть, скрытую между строк в извивах идей и витиеватости предположений, суждений и выводов. При этом он слегка хмурился, просто так, по привычке. Каждая затяжка крепкого синеватого дыма приятно бодрила, настолько, что собственная сущность воспринималась как бы с легкой отстраненностью.
Но тут почувствовалось, что на уютную уединенность Порфирия Петровича кто-то посягает со стороны. Как обычно, Салытов.
Кричит так, что никакая дверь не в помощь.
Дым папиросы, казалось, утратил свою забористость; сосредоточенный ход мысли прервался. Словно наново обозначилась в поле зрения зеленая гладь письменного стола и казенная мебель — кожаный диван, стулья, секретер и желтоватый книжный шкаф. Но более всего довлели массивные двустворчатые двери.
Дверей в «палатах» Порфирия Петровича было две. Одна из его скромного кабинета, напыщенно именуемого частью Следственного Департамента Уголовных Дел, вела в находящиеся рядом частные апартаменты, которые, как и все остальное, предоставлял ему департамент. Другая сообщала кабинет с полицейским участком на Сенной, вход в который был со стороны Столярного переулка.
Двери представляли для Порфирия Петровича извечную дилемму. Приходилось решать: или вместе с папиросой и газетой ретироваться в свое уединенное «святилище» (тем более, что служба на сегодня давно уже закончилась), или с той же папиросой, но уже без газеты ступить в сумятицу полицейского участка и столкнуться там с сослуживцем, Ильей Петровичем Салытовым.
Порфирий Петрович ткнул недокуренную папиросу в хрустальную пепельницу.
* * *
— Илья Петрович, дорогой вы мой…
— У нас все схвачено, Порфирий Петрович! Вам тут и делать особо нечего!
Выкрикивая, Салытов одновременно вздергивал рукой, словно бы отмахиваясь от Порфирия Петровича, как от какой-нибудь назойливой мухи. Сам он с раскрасневшимся лицом (даже жилы на висках проступили) безостановочно, хотя и бесцельно, расхаживал взад-вперед по приемной. Распарился, судя по всему, так что даже воротник расстегнул.
— Да-да, разумеется… Хотя, как понимаете, я никоим образом и не вмешиваюсь. Я так, запросто. Может, чем посодействовать…
— Премного благодарен — не надо-с!
Салытов в свое время служил армейским штабс-капитаном. Причем особого уважения у подчиненных, похоже, не снискал: уж больно горласт. Ни бакенбарды котлетками, ни бравые нафабренные усы, видно, не помогли. Может, как раз тогда и выработалась в его характере вспыльчивость.
— Ох и напугали ж вы нас в тот раз, Илья Петрович! Мы, друзья ваши по Департаменту, прямо-таки всерьез о вашем здоровье обеспокоились. Я, право, такой багровости в лице прежде у вас не видывал. А вы возьми да еще и в обморок упади.
— Так то было летом! День-то какой жаркий выдался, да еще и вонища эдакая из той канавы.
— Но ведь доктор ясно намекнул: виной, мол, тому сердечному припадку именно ваш темперамент.
— Да не было никакого припадка!
— Вам же — разумеется, вашей же пользы ради — не кто иной, как сам Никодим Фомич, велел: впредь, дескать, никакой пылкости. Ни-ка-кой! А вы, я вижу, опять за свое. А нагрянь он сейчас сюда, что тогда?
— Не боюсь я вашего Никодим Фомича!
— Да я не о том, чтоб вам кого-то бояться, Илья Петрович. Пусть хоть даже нашего главного суперинтенданта. А вот если вас возьмут да должности лишат…
— Не посмеют-с!
— А если под видом перевода? Якобы на менее хлопотную должность, по причине нездоровья. Уж я-то знаю, как оно у нас делается. Поверьте, Илья Петрович, сам-то я всецело на вашей стороне, и все зависящее от меня сделаю. Но благоразумнее всего — и прежде — было бы избегать излишнего внимания. Ну неужто нельзя нам обязанности свои справлять без, эм-м… — Порфирий Петрович, улыбнувшись, перешел на доверительный полутон: — Без крикотни?
Салытов лишь беспомощно развел руками.
— Ну, так что у нас? — Слегка улыбчивый тон как бы сгладил настойчивость вопроса.
— Да девица тут одна, гулящая. — Салытов кивком указал на худенькую, истомленного вида девушку, наручниками прихваченную к свирепого вида мордатому околоточному в черном мундире. Точный возраст девушки назвать было сложно, хотя видно, что совсем молоденькая. Лицо густо напомажено, как водится у блудниц. Хотя ее внешности это придавало лишь бóльшую наивность. Словно бы кто-то раскрыл ей секреты ее продажного ремесла, а она по неопытности возьми да переусердствуй. Вон и платье, подобающее занятию, на себя напялила; плоть от плоти бессчетных поколений уличных женщин. Под оголенными лампами полицейского участка платье из красного сатина, заношенное чуть ли не до дыр, казалось воплощением скорее бедности, чем порока. Старомодный, не по размеру турнюр с потрепанным шлейфом вызывал невольную усмешку, равно как и видавшая виды соломенная шляпка вкупе с дырявым зонтиком. Вопиющим контрастом, вызывающим эмоции скорее обратные тем, которые данное облачение должно было вызывать, смотрелась накинутая на плечи домотканая шаль, в которую девушка зябко куталась. Сложения она была хрупкого. По росту ей больше соответствовал скорее Порфирий Петрович, чем Салытов с околоточным, громоздящиеся над ней эдакими зловещими столпами. Чиновник в штатском — блеклый конторский тип, исполняющий обязанности писаря, — сидел за конторкой на табурете. Ясно было, что девушка еле стоит на ногах от усталости. Борясь с дремотой, она то и дело ширила глаза. Пару раз, беспомощно ссутулив плечи, она пробовала облокотиться на стол письмоводителя, который при этом бдительно принимался шуршать папками пропыленных дел. Тогда она резко выпрямлялась, не выказывая при этом ни угодливости, ни бестактности; скрывать ей в ее положении было нечего. Иногда ее худенькое тело пробирал озноб.
Порфирий Иванович, прикуривая, вдумчиво ее оглядел.
— Желтый билет при ней? — спросил он Салытова.
— При ней.
— Составлен по форме?
— Да при чем здесь это!
— И тем не менее по форме?
— По форме, — не сказал, а как бы сплюнул Салытов. Лицо его отражало бурю противоречивых эмоций: с одной стороны, желчное, гневливое раздражение, с другой — боязнь выказать опрометчивость, а то и несообразительность в глазах коллег. Такое случалось всякий раз, когда им доводилось вот так сталкиваться с Порфирием Петровичем.
— Она обвиняется в краже ста рублей у некоего господина. Городовой при аресте обыскал и обнаружил при ней ассигнацию данного номинала.
— Понятно. И где это предполагаемое преступление имело место?
— Предполагаемое! Ну уж, скажу я вам, Порфирий Петрович!
— И где же?
— На Садовой.
— Ага. И когда?
— Рано поутру.
— Конкретное время известно?
— Часа в четыре утра, — подал голос околоточный.
— Мгм. Тогда почему разбирательство так затянулось?
— Да вот, истец-то возьми да пропади! — с едким сарказмом вставил письмоводитель, ясно давая понять, что происходящее не интересует его ни в малейшей степени.
— Вот беда-то. И что, так до сих пор и не объявился?
— Да вот, пока ищем, — метнув на писаря испепеляющий взгляд, поспешил с ответом Салытов.
— Ну а имя его известно?
— Да вот она, — опять же кивком указал на девушку Салытов, — говорит, что представлялся Константином Кирилловичем.
Порфирий Петрович переключил внимание на девушку.
— Значит, человек этот вам известен?
— Я его видела только однажды, ваше благородие, — ответила та голосом ребенка, причем хорошо воспитанного.
— При каких обстоятельствах?
Девушка, зардевшись, потупила глаза, вслед за чем на нее опять напал озноб.
— Это был ваш клиент?
— Нет. — Все еще дрожа, девушка подняла взгляд. — Не в этом смысле.
— Тогда в смысле сутенер?
Та, мотнув головой, промолчала.
— Вам известно, где он проживает, этот Константин Кириллович?
— Не известно.
— А как так вышло, что эти сто рублей оказались при вас?
— Он их мне дал.
— Дал, сто рублей? Зачем?
— Я не хотела брать. Он их силком мне сунул.
— Он силой сует вам сто рублей, и тут же кличет городового, обвиняя вас в краже? Какая-то ходульная версия, сударыня, Вам не кажется?
— Мне нечем это объяснить, ваше благородие.
— Он хотел, чтобы вы пошли с ним, когда давал вам деньги?
— Да.
— И вы пошли?
— Нет.
— Отказались?
— Ну, вроде как.
— А взятые деньги вроде как оставили при себе. Может, он потому и позвал полицейского?
— Я их пыталась отдать. А он не брал.
— Вы за свои услуги обычно так и берете, по сто рублей?
В ответ лишь сдавленный всхлип — не то рыдание, не то смех с призвуком глухого отчаяния.
— Простите. Но давайте называть вещи своими именами: ведь вы же уличная женщина. Вы же не станете этого отрицать?
— Я не уличная. У меня вон и билет есть.
Она вынула желтую карточку, удостоверяющую ее род занятий. «Лилия Ивановна Семенова», — прочел Порфирий Петрович. Значится в заведении мадам Келлер, по Садовой.
— Ах да. Можете убрать, у меня нет к этому никаких вопросов. Я насчет человека, давшего вам сотенную. Вы отказываетесь от денег и отказываетесь идти с ним. Он что, был очень дурен собой?
— Нет. Дело совершенно не в этом.
— Так почему же вы с ним не пошли? И от денег таких отказались?
— Слишком уж большая сумма.
— Странная вы особа, скажу я вам. Чтоб женщина вашего рода занятий, и колебалась перед таким соблазном…
— Я боялась, чего мне от него ожидать.
— Ах вон оно что. А что, есть какие-то ограничения? В этом дело?
— Не в том, о чем вы думаете.
— Так в чем же? Скажите, сделайте милость.
— Он звал меня не для себя.
— Вот как. То есть чей-то посредник. И от кого же, от чьего имени он действовал?
— Он не сказал.
Васильковые зрачки растерянно метнулись из стороны в сторону. Порфирий Петрович слегка, несколько женственно накренив голову, еще раз оглядел девушку.
— Все равно смысл не ясен. Почему вы все же с ним не пошли? И почему, даже получив отказ, он просто не взял и не забрал деньги? Зачем было звать городового, обвинять вас в краже? Зачем сбегать, в конце концов?
— Не знаю, ваше благородие.
— А что, кстати, с теми деньгами?
— Они здесь, у нас, в качестве улики! — поспешил Салытов.
— Улики чего! Жалоб не поступало. Оснований для обвинения у нас нет. Мы не вправе ее удерживать. Что касается билета, так он у нее в порядке. Так что девушку можно и отпустить. По идее, мы и эти сто рублей должны ей возвратить.
— Но она же их украла!
— Так утверждает тот, кого здесь нет. Она же говорит, что он их ей дал. Опротестовать это здесь просто некому. Может, это был презент. Или, скажем, аванс за не предоставленные пока услуги. Заявителю мы их возвратить не можем, поскольку он отсутствует, адрес его нам неизвестен. Так что никто не смеет настаивать на конфискации заработка этой несчастной.
— Но она их ничем не заработала, даже если принять на веру ее трактовку событий! — вспылил Салытов.
— Действительно. Но кто мы такие, чтобы выносить на этот счет свой вердикт? Мы здесь для того, чтобы блюсти закон, а не собственные представления о морали. Мне бы ох как хотелось составить разговор с тем Константином Кирилловичем. Сударыня, вы, часом, не знаете его фамилию?
— Нет, ваше благородие. Он назвался просто Константином Кирилловичем.
— Что ж, ладно. Возможно, у него есть свои причины уклоняться от встречи с нами. Сам же я считаю крайне неосмотрительным, что вы дали ему уйти, Илья Петрович.
— Да разве ж я знал, что он так возьмет да сделает ноги!
— Дорогой вы мой, вы разве не замечаете, что я вас просто разыгрываю? Боже упаси, я вас ни в коем случае не виню. В конце концов, кому-то ж надо было взять обвиняемых под стражу. — Порфирий Петрович повернулся к письмоводителю. — Александр Григорьевич, будьте так добры, верните деньги, принадлежащие этой юной особе.
Письмоводитель, удостоив Порфирия Петровича откровенно скептического взгляда, тем не менее поднялся с табурета и вышел в небольшую смежную каморку. Вскоре он возвратился с радужным сотенным билетом. Девушка, Лилия Семенова, проявила неожиданное упорство.
— Да не нужны они мне, не хочу я его денег. Себе оставьте. — В глазах ее, помимо страха, читалась откровенная неприязнь.
— Но ведь это не наши деньги, — заметил Порфирий Петрович.
— Ну и не мои, коли на то пошло. Не надо мне их.
— Что ж, Лилия Ивановна. Силой мы вас принудить не можем. Околоточный, освободите-ка задержанную.
Полицейский разомкнул наручники. Девушка, судя по всему, немного опешила. Какую-то секунду она без особой приветливости изучала взглядом Порфирия Петровича, словно тот являл собой некую загадку, после чего развернулась и пошла к выходу, огибая по пути редких в этот час просителей. После нее в помещении остался терпковатый запах дешевых духов.
— А с этим-то что делать? — подал голос Александр Григорьевич, большим и указательным пальцем держа на отлете купюру.
— Да хоть что. Сиротам отдайте, — не оборачиваясь, произнес Порфирий Петрович.
Глава 3 РЕСНИЦЫ ДОЗНАВАТЕЛЯ
В морозной дымке улицы на Лилю с новой силой напал озноб. Льдистые иглы нещадно проникали под одежду, под кожу. Ноги промокли и занемели от холода. На какое-то мгновенье она напрочь утратила ориентир: где она, как здесь очутилась? Помнилось лишь, что в свое время выходила из подвала мадам Келлер. А что было дальше, происходило словно во сне.
Как все же плохо без галош.
Она побрела, не сознавая толком, куда идет. Фонарные столбы заунывно пели под порывами пронизывающего ветра; никакая шаль не спасала. Из-за поворота послышалось тусклое звяканье бубенцов и приглушенный стук копыт; мимо проехали сани, едва ее не задев. Смутно различимый извозчик в зипуне что-то неразборчиво крикнул на ходу — не то ей, не то седокам; слова его поглотил сырой морозный воздух.
Как ни странно, в память больше всего запали глаза этого самого Порфирия Петровича. Вернее, даже не глаза, а ресницы — белесые, почти прозрачные. От них сложно было отвести взгляд. Он часто моргал, причем как-то вдумчиво, со значением. Мягкая, чуть женственная хитреца читалась в его глазах, но не настораживающая, а даже словно располагающая. Лиля и слов его толком не запомнила, настолько завораживающе подействовали на нее те ресницы. Ну и усталость, само собой, брала свое.
Лиля невольно моргнула, будто смешное это подражание могло помочь ей понять, что он за человек, этот следователь. Неужели он и вправду ее отпустил? И в самом деле настаивал, чтобы ей вернули те деньги?
Небось подстроили все. Если так, то оно и правильно, что деньги назад не взяла. А как теперь домой-то, с пустыми руками после целой ночи? Нет, так нельзя. Надо бы вернуться к мадам Келлер; может, там еще что-то на руки перепадет.
Говорят, к ней нынче приходила Зоя Николаевна. «Душечка, к вам Зоя, — сообщила ей тогда мадам Келлер. — Хочет что-то вам сказать насчет вашей малышки». Вздор. Если к ней в подвал наведалась Зоя Николаевна, с кем же тогда осталась Веронька? Да и когда она выходила в сумеречный холод, никто ее на пороге уже не ждал. Разве что он, тот клиент.
Озноб напал с новой силой, причем одолевать его было все трудней. Лилю на минуту охватила бесприютная беспомощность. Она зажмурилась, и на этот миг как бы очутилась дома, стискивая в объятиях драгоценную свою дочурку, нацеловывая ей кругленькие щечки, волосики: «Никогда, ни за что, кровиночка моя, я тебя больше не оставлю!» Сладостный, счастливый этот миг длился, казалось, вечность.
Между тем утренний туман начинал рассеиваться. Судя по всему, Лиля, зажмурившись, простояла так некоторое время. Хорошо хоть, на ногах удержалась.
Лиля плотнее запахнула шаль. Она вышла на Садовую. Справа за Сенной, над парусиной крытыми торговыми рядами, проглянули сквозь морозную дымку очертания церкви Успения Богородицы. Вид церкви вызывал в душе некое успокоение. Мощеную площадь уже наводняла суетливая толпа торгового люда. Однако, выйдя на открытое место, Лиля и сама открыла себя посторонним взглядам. На нее оборачивались лица — враждебные, насмешливые, презрительные. Причем некоторые из мужчин, что сейчас с усмешкой указывали на нее пальцами, сами были в числе тех, что наведывались в тот подвал под лавкой модистки — в иной час и с иной целью.
Она свернула на Сенную, в сторону Екатерининского канала («канава», как его именовали). Через схваченную льдом ленту канала прошла по Кокушкинскому мосту обратно в Столярный переулок. Вон и знакомое здание участка. Почему-то опять вспомнились необычные ресницы того следователя. И его пристальные глаза — кажется, темные, с каким-то серебристым отливом. А что, сейчас вот взять да зайти, и выяснить какие. А может, даже и деньги те попросить.
И тут, совершенно непроизвольно, перед ней возник весь облик следователя. Кругленький, невысокий, с выпирающим брюшком. Внешность самая безобидная, от крупноватой головы до пухлых пальцев. Однако полную противоположность составляли его глаза — глубокие, вдумчивые. Непостижимо, как взгляд этого внешне спокойного, благодушного даже человека мог в секунду преображаться, становясь острым, пронзительным.
Ну что, зайти? Зайти и все рассказать. Хотя, собственно, что рассказывать-то?
Так Лиля постепенно дошла до Средней Мещанской, откуда рукой подать до дома. Что ж, домой так домой, хотя и не солоно хлебавши. Ночь, получается, прошла впустую.
Без галош-то как плохо…
* * *
Снег во дворе забрызган был кровью: здесь утром кололи свинью. Двое селян, муж с женой, разделывали у сарая тушу. Заметив Лилю, они отвлеклись от своего занятия и проводили ее пустым взглядом, держа при этом поднятые ножи, словно оберегая таким образом мясо от посягательств.
Темнота узкого дверного проема скрыла ее от уставленных в спину взглядов. Лиля ощупью стала пробираться вдоль стены.
Но едва ли не сразу нога угодила по чему-то твердому, музыкально звякнувшему под ударом. Из опрокинутого ведра по полу растекалась темная лужа. Лиля и опомниться не успела, как сзади с визгливым криком налетела та пара, муж с женой.
— Ах ты стервь, всю кровь взяла опрокинула!
— Ну ты нам заплатишь, потаскуха!
Лиля, машинально отирая со щеки плевок, опрометью взлетела по лестнице, подальше от гневно тычущих вслед окровавленных пальцев. Сварливые голоса внизу все не унимались, даже когда лестничная дверь за спиной захлопнулась. Пропахший щами и затхлостью темноватый коридор второго этажа показался спасительным убежищем. Здесь так же шел пар изо рта, но было все равно теплей, чем на улице.
Насилу отдышавшись, Лиля тронулась наверх, держась за скользковатые перила. Щербатые деревянные ступени под ногами немилосердно скрипели.
Где-то внизу грохнула дверь, и вверх заспешили шаги. Лиля, держась нарочито прямо, не оборачивалась.
До ее площадки было еще четыре пролета, а шаги снизу приближались. Однако, не поравнявшись с ней, кто-то в очередной раз грохнул входной дверью этажом ниже.
За углом жильцы развесили белье; пришлось пробираться через льнущие к лицу простыни. На этой площадке дверь была открытой. Наружу выглянуло угрюмое, чахоточного вида лицо, явно кого-то ожидая; слава богу, не ее.
После бессонной ночи в голове слегка кружилось, ноги делались как ватные. В полумраке следующего пролета маячил чей-то смутный силуэт. Что это, огоньки зрачков или искры у нее перед глазами? Усталость навалилась такая, что впору уже бредить наяву.
Ступени казались зыбкими, словно уходили из-под ног, и одолевать их приходилось с осмотрительностью — они как будто увеличились в размерах и колыхались под ногами, подобно болотам, на которых возведен был город.
Сил идти уже не было. Лиля глянула себе под ноги, на крутой обрыв очередной ступени. Ее вдруг резко качнуло, и она, закрыв глаза, под собственным весом стала пятиться назад, рискуя упасть. Но все же подняла отяжелевшую голову и увидела, что добралась-таки до своей площадки. Вид двери в дом помог собрать силы для последнего рывка.
Лиля как пьяная ввалилась в непривычно жарко натопленную комнату, где ее, размаривая, закачал сухой горячий воздух. А навстречу уже стремглав неслась Веронька, восторженно визжа. Беззаветная любовь дочурки выражалась так напористо, что Лиля втайне даже чувствовала себя не вполне достойной. Одновременно с этим она всем своим существом ощущала блаженную невинность ребенка, не связанную никакими условностями — лишь желанием припасть к матери и не расставаться с ней никогда. Кстати, было сегодня в Вероньке что-то не совсем обычное; что именно, Лиля толком не уяснила, настолько была измотана. Вместо этого она тихо заплакала. Все происшедшее накануне, все, что она в себе сдерживала, хлынуло наконец через край. Она не вправе была давать волю воспоминаниям, а уж тем более фантазиям. Нравственная, духовная жизнь была для нее как за забором. Жить оставалось лишь сиюминутными, поверхностными эмоциями и переживаниями.
— Ну, ну! Это еще что? — с шутливой укоризной к ней уже шла Зоя Николаевна, спеша к цепкой хватке ребенка прибавить и свои объятия. — Не плачь, доченька, не плачь. Вот так. Ты же мне доченька, разве не так? Мама Зоя здесь, она обо всем позаботится. Все-то у нас будет на славу. Доченька ты моя голубушка, девочка ты моя, все теперь будет хорошо, вот увидишь. Увидишь, свет ты мой Лилечка. Вот так, утри глазки, вот так. Хватит, отплакались. Глянь только, как мама Зоя о вас всех позаботилась. Все беды-несчастьица наши миновали. Были, да вот и сплыли! Никогда ты теперь это тряпье похабное на себя не напялишь. И в место то проклятое никогда больше не пойдешь.
Скажешь немке своей Келлерихе, что все, мол, отходилась. И никогда больше там не объявишься. Слышишь? Никогда! Лиля с мокрым от слез лицом попыталась отстраниться.
— Ох нет, Зоя Николаевна, — с печальным укором прошептала она, качая головой.
— Мама, лапонька. А ну-ка мамой меня назови! Разве ж я тебе не мама, а то и поболе? Да я за тобой лучше любой матери хожу! Неужто ж я не заслужила?
— Ах, это жестоко! — выговорила Лиля сквозь слезы.
— Не бойся, Лилечка, не бойся. Я ж правду говорю: все, кончилась та жизнь!
— Нам от того только хуже будет!
— Хуже, говоришь? — переспросила Зоя Николаевна с непонятным торжеством. Лиля же так измоталась, что не замечала в ее голосе этих странных ноток. Сил не было даже сердиться. Шатающейся походкой она мимо Зои Николаевны тронулась через комнату в угол, где стояла узкая кровать, на которой она спала вместе с дочкой. Но за руку ее крепко удержали. Лиля с умоляющим видом обернулась.
— А ну глянь! — скомандовала Зоя Николаевна, царственным жестом указывая на стол. Лиля машинально повиновалась и оторопело застыла. Смотрела, но не могла взять в толк. Стол ломился от всевозможной снеди. Тут тебе и окорока, и марципаны, и сдоба, и даже икра.
— Где… где вы это все взяли?
— На Щукином дворе, где ж еще!
Эта странность напомнила Лиле еще об одной.
— Вы, говорят, ко мне нынче приходили? Мне сказали, вы ждете у входа.
— Да что ж это за мать такая, такую обновку на ребенке не замечает!
Лиля растерянно посмотрела на Веронькино сияющее лицо и, невольно нахмурясь, обнаружила на ней нежнейшую пуховую шаль с кружевной оторочкой. Наверно, вот почему дочка показалась ей какой-то необычной. Лиля осторожно погладила пуховую ткань, словно проверяя ее подлинность на ощупь.
— А вот это тебе! — продолжала удивлять Зоя Николаевна, извлекая на свет большую, наверняка старинную икону с Богоматерью и младенцем Христом. Темным золотом вспыхнули на мгновение нимбы. Лиля, словно подозревая подвох, отказалась принять подарок.
— Бери, бери, — твердила Зоя Николаевна. — Все по-честному, все оплачено.
— Но… откуда? — прошептала Лиля, заранее боясь ответа. Зоя Николаевна опустила икону. Хозяйски пройдя через комнату за цветастую занавеску, где был ее угол, она вскоре возвратилась с жестяным ящичком, которого Лиля прежде у нее не замечала. Подойдя к столу, Зоя Николаевна нечаянно выпустила коробку из рук, и та шлепнулась на столешницу с неожиданно тяжелым металлическим стуком. Повозившись, Зоя Николаевна со звучной ухмылкой, совсем не подобающей нагнетаемому ореолу таинственности, достала ключ и отомкнула крышку. Ящичек она подтолкнула к Лиле: дескать, полюбуйся.
Вид пухлой пачки ассигнаций заставил девушку невольно податься вперед, после чего она отшатнулась, словно боясь обжечься.
— Откуда? — выдохнула она.
— Из Петровского парка.
— И чье?
— Да наше же, наше! — выкрикнула Зоя Николаевна.
— Нет, нет! Вы мне все должны рассказать, Зоя Николаевна. Где именно вам попались эти деньги. Они же наверняка чьи-то, непременно кому-то принадлежат.
— Ну и что! Нам-то что до этого? Да и тому, чьи были, они уже больше не нужны.
— Как понять, не нужны?
— Потому что мертвый он!
— Зоя Николаевна! Да что вы такое говорите!
— Убивец и вор. Здоровенный, страшный, как упырь. Одно слово — разбойник. Мертвый он, и оплакивать некому. Убивец! Кровушка коротышки того все еще с топора капает, а топор-то как раз на нем.
— Зоя Николаевна, умоляю! Я ничего не могу взять в толк. Прошу вас, начните сначала, по порядку.
— Ну, отыскала я их, обоих. Один карлик. А другой повешенный. Удавился со стыда, должно быть.
— Вы говорите, карлик?
— Ну да, малехонький такой. И костюмишко на нем крохотный.
— Да что вы!
— И оба мертвые.
— И тот карлик тоже?
— Убит! Голова вся как есть проломлена. А на том, на верзиле-то, топор.
— Тот карлик, какая у него была внешность?
— Коротюсенький! Одно слово, лилипут.
— Он брюнет? Темные волосы, бородка?
— Истинно так!
— А что еще? Ну, какие еще приметы?
Зоя Николаевна что-то достала из-под передника; оказалось, колоду непристойных карт.
— Вот что я еще на нем нашла. Ох и шельма, сдается мне; даром что лилипут.
Лиля в испуге вскинула глаза.
— Кажется, я его знаю! Я видела, как он приходил к нам в заведение, много раз. И меня в том числе спрашивал. Зоя Николаевна, так вы приходили нынче туда, к мадам Келлер? Говорят, вы что-то хотели мне передать насчет Вероньки? Мадам Келлер сказала…
— Ты о чем, деточка?
Судя по всему, пожилая женщина ничего не могла взять в толк. Взгляд Лили снова остановился на ассигнациях.
— Зоя Николаевна, мы должны сообщить в полицию.
— Да господь с тобой! Ты что, не соображаешь? Они ж тут же все отымут!
— Но это все не наше, Зоя Николаевна.
Вид и даже тон Зои Николаевны сменился на назидательный, не сказать зловещий.
— Так. Послушай-ка. Обо всем этом не должна знать ни одна живая душа. Слышишь? Ты должна мне Веронькой поклясться… — Но, увидев, как сжались плечи Лили, она спохватилась: — Ну, тогда на иконе. На образе поклянись.
— Но Зоя Николаевна, неужели вы…
— Да это же фортуна нам! — в отчаянии вскрикнула та. — Шесть тыщ! Да на это знаешь что можно купить? Можем апартаменты завести в доходном доме, и сами жильцам сдавать. Экипаж завести, с кучером. По Невскому промчимся — пусть глядят, завидуют! Уж тогда-то никто сверху вниз на нас не посмотрит. А уж наряды-то, меха, жемчуга! Уж такие ухажеры, Лиленька, тебе в ножки валиться будут! Ох, Лиля, подумай! Баре да дворяне. А Веронька? Ей-то, голубушке, наконец-то свет улыбнется. За князя выдадим, меньше и не бери. Ну а ты, дурашка моя, от такого взять да отказаться думаешь!
Лиля бессознательным жестом высвободила руку из ладоней Зои Николаевны.
— Неправда все это, — пробормотала она, валясь на кровать и мгновенно засыпая. Снились ей в этот раз прозрачные ресницы того дознавателя.
Глава 4 АНОНИМНАЯ ЗАПИСКА
Конверт с лаконичной надписью «Порфирию Петровичу» лег на стол следователя с обычной утренней почтой. Видимо, именно его содержимое заставило Порфирия Петровича в неурочный этот час появиться в дверях, ведущих в полицейский участок.
— Александр Григорьевич, вы не видели, кто это мне доставил?
Письмоводитель у себя за конторкой едва удостоил Порфирия Петровича взгляда. Чиновника сейчас осаждала тощая пожилая дама, возбужденно осыпающая его потоком слезливых и бессвязных жалоб. От всего этого в глазах письмоводителя стояла беспросветная тоска. И тем не менее взгляда от нее он не отводил. Это сухощавое лицо с пятнами нездорового румянца и краснотой вокруг глаз его словно магнитило. Некогда тонкие черты женщины, покрытые теперь сеткой страдальческих морщин, были болезненно заострены. Потертая одежда, некогда вполне модная, чтоб не сказать дорогая, распространяла стойкий запах нафталина, не вызывающий ничего, кроме сочувственной неприязни. Точный возраст женщины определить было трудно.
— Александр Григорьевич, мне тут оставляли записку…
— Ну так что с того? — небрежно бросил Александр Григорьевич Заметов, глянув на Порфирия Петровича с дерзкой бесцеремонностью.
Порфирию Петровичу не сказать чтобы нравилось осаживать излишне дерзких сослуживцев; но что поделать, иногда приходилось.
— Александр Григорьевич! Мы оба с вами люди, и потому хотя бы в этой степени равны. Я с вами обращаюсь с должным уважением, так что соблаговолите и вы отвечать мне тем же.
— Не пойму, о чем вы, Порфирий Петрович.
— Я не разыгрываю притворства, не разговариваю с вами свысока, и не держу вас, извините, за не совсем умного человека.
— Весьма рад это слышать, но никак не пойму, что под всем этим имеется в виду.
— Всего-навсего эта записка, — пояснил Порфирий Петрович, легонько стукнув конвертом о конторку. Голос у него был спокоен, но не было обычной улыбчивости. — Я еще раз спрашиваю: вы видели, кто ее доставил?
Секунду Заметов разглядывал конверт. Взял, повертел, положил на место.
— Не могу знать-с, — отрапортовал он с плохо скрытым ехидством.
Порфирий Петрович, подхватив конверт, мимолетно поклонился назойливой жалобщице, сетования которой за все время их с Заметовым перепалки не прерывались.
— Порфирий Петрович, — воспрянул вдруг Заметов, — а ведь эта дама желает видеть вас!
От неожиданности Порфирий Петрович несколько замялся, после чего, не глядя на слезливую просительницу, поспешил сказать:
— Нет-нет, не сейчас. У меня тут возник срочный вопрос. Надо составить разговор с Никодимом Фомичом. Скажите ей, чтоб приходила завтра.
Порфирий Петрович внутренне напрягся, ожидая, что такое объявление усилит и без того несносный словесный поток. Однако поведение дамы демонстрировало странное постоянство. Она не то не расслышала его слов, не то попросту от них отмахнулась. Да, от такой посетительницы отделаться будет нелегко.
— Александр Григорьевич, а вы оформите-ка по ее показаниям протокол, — попросил Порфирий Петрович не без умысла: мол, поделом тебе, буквоед.
— Как! Прямо-таки протокол?
— Ну да, протокол. Я его рассмотрю со всей тщательностью после встречи с Никодимом Фомичом. Если эта особа пожелает ждать, что ж, воля ее. Я бы, однако, рекомендовал ей явиться завтра.
— Но помилуйте, Порфирий Петрович, при всем уважении к вам… — заерзал чиновник. — Какой же протокол можно составить со слов, — мелькнув глазами на страдальческую мину жалобщицы, он тут же отвел взгляд и перешел на боязливый полушепот, — эдакой вот мегеры?
— Ничего, уж вы расстарайтесь. Я уверен, выйдет великолепно.
* * *
— Да-с, сведений здесь, прямо скажем, не густо, — суперинтендант Никодим Фомич Максимов кинул записку на стол. Откинувшись в кресле, он сцепил за затылком ладони и уставился в высокий потолок своего кабинета, явно наслаждаясь габаритами помещения, которым ему позволяла владеть занимаемая должность. Отдельные недостатки этого великолепия он привычно не замечал: то, что краска местами начинала уже облезать, и пятна сырости возле окна, и трещины в штукатурке. На секунду губы у него сложились в ироничную ухмылку, словно от случайно пришедшей в голову остроумной мысли. Человек он был видный, душа общества. И оба эти свойства на нем неизбежно сказывались: он сам себе внушил, что уже одним своим присутствием способен благотворно воздействовать на окружающих. («Уж не чревато ли это, часом, опрометчивостью решений?» — думал иной раз на этот счет Порфирий Петрович.) Иногда казалось, что превыше всего в жизни Никодим Фомич ценит легкость и непринужденность.
— Ну так вот-с, я думаю, а не уловка ли это?
— Вполне может статься, что и уловка, — не стал спорить Порфирий Петрович. По новому уложению полномочия позволяли ему привлекать полицию к любому вопросу, целесообразному для ведения следствия. Но как раз в данном случае вопрос был достаточно деликатным. Досмотр за расследованием индивидуальных дел переложили с полицейского департамента на вновь созданное следственное управление лишь пару лет назад. Сам Порфирий Петрович неохотному подчинению своих коллег-полицейских предпочитал добровольное, внешне необременительное для них содействие. Кроме того, он знал, что лучший способ влиять на начальство — это соглашаться с ним.
— Я просто счел своим долгом показать эту записку вам, — сказал он, собираясь спрятать конверт в папку.
— А что, если не уловка? — тут же переспросил Никодим Фомич.
Он проворным жестом выхватил записку, не дав папке захлопнуться.
— Что, если за этим и вправду стоит это самое «Убийство в Петровском парке»? — Он с язвительной интонацией перечитал записку вслух, после чего еще на раз с обеих сторон оглядел бумажный лист. Но сколько ни верти, там значились лишь скупых четыре слова.
— Хоть бы уж подпись была, и то какая ни на есть достоверность, — раздраженно бросил он.
— Если это подвох, значит, кто-то за ним стоит, — осмотрительно предположил Порфирий Петрович.
— Да уж разумеется, и уж он-то подписывать бумагу не стал бы.
— Так что, получается, действительно уловка, — подытожил Порфирий Петрович, тем самым как бы снимая вопрос.
— Не обязательно, — заупрямился Никодим Фомич, с неудовольствием ловя себя на том, что фактически оспаривает свой первоначальный вывод. — Это мог написать и кто-нибудь, лишь косвенно причастный к преступлению.
Порфирий Петрович взглянул на начальника с подчеркнутым замешательством, будто его самого эта мысль посетила впервые. Суперинтендант нахмурился. Лицедейство коллеги его раздражало; уж он-то знал его достаточно хорошо и не собирался попадаться на крючок.
— Пускай наши орлы из участка этим займутся, — решил он. — Если что-нибудь отыщут, пойдем с этим к прокурору.
— Да, соглашусь. Нет смысла беспокоить Ярослава Николаевича, пока в руках у нас не появится что-нибудь определенное. Тем не менее смею ли я кое о чем попросить?
Никодим Фомич нетерпеливо махнул рукой: дескать, валяйте.
— Вы мне в помощь из соколов своих никого не дадите? Чтоб при обыске понадзирать.
— Опять, стало быть, властолюбивую длань свою простираете?
— Да Господь с вами, Никодим Фомич! Однако записочка-то к вам, в ваш участок поступила.
— Ну и кого вы у меня, стало быть, отнимаете? — хозяйски спросил суперинтендант.
— Да вот, хотя бы поручика Салытова.
— Салытова? Старого нашего вояку? — Никодим Фомич благодушно рассмеялся. — Ну-ну. Что ж, пускай хотя бы часок-другой свежим воздухом подышит. А то пропылился совсем, в кабинетных-то стенах!
Порфирий Петрович вновь всем своим видом изобразил удивление: дескать, как же я сам-то не додумался.
— Только смотрите не переборщите, Порфирий Петрович! — погрозил пальцем Никодим Фомич, заговорщически подмигнув.
* * *
— Она все еще здесь, — обидчивым голосом заметил Заметов, в то время как Порфирий Петрович проходил через приемную. Действительно, жалобщица все еще сидела на прежнем месте. — Говорит, вынь ей да положь следственное управление! — Заметов, усмехнувшись, взялся изучать свои ногти.
— Ну-с, а протокол вы составили, как я просил? — осведомился Порфирий Петрович, сам между тем отстраненным взглядом изучая женщину. Манера держаться у нее за это время, судя по всему, не изменилась. Порфирий Петрович был не из тех, кого можно особо разжалобить женскими слезами или сетованиями на жизнь. В слезливости же этой посетительницы было что-то показное, едва ли не наигранное. Некая личина, нацепив которую она уже не могла от нее освободиться. Судя по всему, стоит сейчас доверительным тоном сказать ей что-нибудь вроде: «Полноте, будет вам!», и она тут же встряхнется. Поэтому Порфирий Петрович, чуть накренив голову, попробовал поймать ее взгляд с обезоруживающей улыбкой. Тем не менее в ту секунду, когда их глаза встретились, он буквально физически ощутил нечто тяжелое, зловещее. Причем вовсе не наигранное. От этой женщины исходило некое дыхание недуга, завладевшего ею целиком. И именно он сейчас над ней довлел — настолько, что, возможно, и толкнуло пойти не куда-нибудь, а прямиком в следственное управление.
— Ну что, зачесть показания? — спросил Заметов, пододвигая к себе бумагу.
— Не надо, обойдется.
— А я как раз готов-с!
— Ценю вашу готовность. Тем не менее справлюсь сам, — парировал Порфирий Петрович, беря листы.
Я виновна. Виновны мы все. Но я виновней всех. Мы все виновны во всех мыслимых преступлениях. Нет такого злодеяния, на какое бы мы не решились. Такого, о каком втайне не помышляли. Лишь она одна была невинна. Лишь она без греха. Грех тот был не ее. Он был мой. Я во всем виновата. Грех ее на мне, Екатерине Романовне Лебедевой. Я одна во всем грешна, во всем виновна… — и далее в том же духе.
— Что ж, понятно, — произнес Порфирий Петрович, закончив чтение. — Сударыня, не проследуете ли за мною? — и открыл перед ней дверь в свой кабинет.
— Ну, так что прикажете с вами делать? — начал Порфирий Петрович тоном добродушным и даже увещевательным. — В темницу вас, что ли, Екатерина Романовна?
Женщина коротко кивнула. Из глаз покатились прозрачные слезы, оставляя на щеках мокрые дорожки. В искренности женщины сомневаться не приходилось. Порфирий Петрович, выдвинув ящик стола, вынул оттуда чистый носовой платок (у него на такие случаи имелся запас) и протянул ей. Та, глянув на него как на помешанного, после долгой паузы платок все же взяла, но не использовала по назначению, а просто зажала в ладони.
— Но на каком таком основании, Екатерина Романовна? У нас ведь обвинительное заключение должно в деле значиться.
Та издала лишь сдавленный полустон, что-то вроде: «Виновна!»
— Но в чем? Вы же понимаете, в каком я затруднительном положении? — Порфирий Петрович развел по столу руками, как бы взывая о помощи. — О! Вот я что придумал, — сказал он вдруг, якобы решившись. — Я сейчас буду вам называть какие-нибудь преступления, а вам остается лишь кивать, если угадано верно. Вроде как в игру сыграем. Идет? А, Екатерина Романовна?
Видя, как истово женщина закивала, Порфирий Петрович улыбнулся в растерянности: непонятно, дошло до нее или нет.
— Ну-с, начнем с истоков! — браво возгласил он. — Ах да, и попрошу отнестись ко всему со снисхождением. Вас я, как вы понимаете, ни в чем не виню. Я лишь пытаюсь вам помочь внести в протокол… ясность, что ли… Ч-черт, странно как-то! Не так оно все обычно делается, но… ничего более, как видно, не остается. Итак, преступление, в котором вы себя, сударыня, так изобличаете, это… — Порфирий Петрович с прищуром улыбнулся, словно они действительно играли в какие-нибудь шарады. — Эт-то… Убийство!
— Да! Именно, оно! — выкрикнула сквозь слезы Екатерина Романовна, первый раз за все время изменив выражение лица. Она разрыдалась, безутешно раскачивая головой.
— Н-да, убийство… Понятно. Очень хорошо. В смысле не «хорошо», а просто хоть что-то у нас выходит. И по крайней мере, мне не приходится ворошить весь перечень преступлений и проступков. Вы говорите, убийство. Ну и — уж коли мы сами избрали такую форму выяснения — кого ж вы, так сказать, убили?
Поведение женщины в очередной раз изменилось. Перестав трясти головой, она подняла взгляд и с неожиданной внятностью ответила:
— Мою дочь.
Порфирий Петрович так и сел. Тут уже не игрой пахло.
— Вы выдвигаете против себя очень серьезное обвинение, сударыня. Надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет? Если действительно убили, то каким образом?
Женщина замотала головой настолько неистово, что клацнули зубы.
— Я отказалась ей верить, — вытеснила она сдавленно, словно наступая себе на горло. Это признание, похоже, окончательно лишило ее сил; она беспомощно откинулась на стуле.
— Я имел в виду не это, а… посредством чего? Скажем, каким оружием? Ведь убийство — преступление насильственное, подразумевает некое орудие исполнения, нападения. Кстати, в том числе и яд. Может статься, вы ее отравили?
— Я ее обвинила, — прорыдала та в ответ.
— В чем? В чем вы ее обвинили? Женщина чуть отодвинулась от спинки стула.
— Я отказалась уверовать в ее невинность. Но я знала. Знала!
— Вы замечательно излагаете, Екатерина Романовна. Но нельзя ли поподробнее? Если б только вы могли более детально осветить происшедшее. Скажем, обстоятельства смерти вашей дочери.
— О, она не мертва! — умоляюще глядя на него, воскликнула Екатерина Романовна.
— Гм. Тогда я не понимаю, каким это образом вы могли ее убить, если она не мертва, — терпеливо заметил Порфирий Петрович. Произнес он это нарочито медленно, высматривая истину в ее противоречивых словах.
— Я убила ее, — веско повторила та.
— Прошу вас, помогите мне. Мне необходимо уяснить. — Порфирию Петровичу в голову пришло нечто. — А как зовут вашу дочь?
— Нет у нас дочери! — властно крикнула вдруг она, словно объявляя приговор. Лицо у нее обрело мрачную неподвижность маски.
— Значит, была у вас дочь, и вдруг ее не стало. Видимо, вы совершили нечто такое, что увенчалось подобным обстоятельством.
— Он выставил ее.
— Кто это «он»?
— Лебедев.
— Ваш супруг?
Она, закрыв глаза, молча кивнула.
— А вы? — переспросил Порфирий Петрович. Екатерина Романовна уставилась в одну точку. На лице ее появились признаки волнения, словно бы она наблюдала некую сцену, представляющую для нее болезненный интерес.
— Ну а я… ничего не сказала, — прошептала, наконец, она и устало закрыла глаза.
— И теперь из-за того, что вы в свое время ничего не сказали, не вмешались, вас теперь преследует чувство вины?
— Она была безвинна.
— Вам известно, что стало с вашей дочерью? Екатерина Романовна, не открывая глаз, покачала головой.
— Вы хотите, чтобы я помог вам разузнать?
Она открыла глаза, глядя теперь в упор на Порфирия Петровича. Лицо ее обезображено было гримасой невыносимого страдания. Вот так выглядит ненависть, правда непонятно на кого направленная.
— У меня нет дочери! — выкрикнула она.
— Сударыня, да вам не полицейский, вам священник нужен. В дверь неожиданно постучали. Приоткрыв створку, в проем заглянул Заметов.
— Прошу извинить, Порфирий Петрович, — сказал столоначальник. Порфирий Петрович нетерпеливо кивнул. — Там, так сказать, барин, — сказал Заметов подчеркнуто иронично, — выдает себя за супруга этой дамы. Просит принять, — закончил он со всегдашней ухмылкой.
— Просите. — Порфирий Петрович украдкой поглядел на Екатерину Романовну, возобновившую свою привычную слезливую околесицу. Внезапно до него дошло, что все эти причитания и горестные вздохи для нее — источник утешения, едва ли не единственный.
Заметов, услужливо кивнув, скрылся. В кабинет чопорной походкой, свойственной определенной категории пьяниц, вошел пожилой человек. Даже не вошел, а как бы вплыл — плечи на отлете, спина чуть выгнута, церемонность в движениях. Ну и застоялые водочные пары — куда ж без них. Судя по сизоватому лицу и легкой дрожи в пальцах, видно, что употребляет очень даже исправно. Облысевшая голова с торчащими прядками седых волос держалась нарочито прямо. Поношенный сюртук со следами штопки и частично отсутствующими пуговицами говорил сам за себя. Грациозно затрепетав веками, вошедший натянуто улыбнулся, обнажив почти беззубые десны. Видно было, как нелегко ему дается весь этот политес. Выказывая некое уязвленное благородство, он сделал полупоклон в сторону Порфирия Петровича, отведя при этом мутноватые глаза.
— Ваше сс-тво! Имею честь представиться, Иван Филимонович Лебедев-с, отставной титулярный советник. Ваше сс-тво, — повторил он, — позвольте выразить почтение… — Он согнулся в подобострастном поклоне, вытянув губы дудочкой, а распрямившись, расплылся в улыбке, вид которой портила лишь нехватка зубов.
— Нет, слишком много чести для меня-с! Чем могу-с, ваше сс-тво?
— Да вы лучше присядьте.
— Никак нет-с, не желаю-с! — вскинулся тот с таким видом, будто была задета его честь.
— Так чем могу служить, Иван Филимонович? — кротко спросил Порфирий Петрович.
— Позвольте обратиться к супруге моей?
— Да пожалуйста.
— Екатерина Романовна, пойдемте в дом.
Не прекращая причитать, женщина покорно поднялась и прошла к мужу, который, взяв ее под руку, выжидательно обернулся к Порфирию Петровичу: дескать, мы пошли.
— Еще буквально минутку, — придержал его Порфирий Петрович. — Ваша жена тут кое о чем порассказывала. Насчет вашей дочери.
— Супруга моя нездорова, ваше сс-тво. Вы, должно, обратили внимание. Она как бы… — он вновь поклонился, на этот раз со скорбной миной, — как бы не в себе-с, — и осклабился.
— Но ваша дочь, я надеюсь, цела-невредима?
— Нет у нас никакой дочери, ваше сс-тво, — как бы подытожил Лебедев очередным поклоном и вывел жену из кабинета.
Порфирий Петрович последовал за ними. В приемной его выразительным взглядом привлек Заметов.
— Сдается мне, она в каждом участке по Петербургу такой спектакль закатывает, — сообщил чиновник.
— А история с дочерью? — уточнил Порфирий Петрович.
— Проверили. Выдумка все это. Я с Рогожиным выяснял, из Центрального жандармского. Ему про эту особу достоверно известно. Тронулась умом на старости лет, несет что ни попадя.
Порфирий Петрович проводил пожилую чету взглядом. Лебедев шел, обняв жену за плечи. Жест скорее не заботы, а попытки оградить от излишних вопросов и любопытных глаз.
* * *
Поручик Салытов стоял на восточной окраине Петровского острова, спиной к Тучкову мосту. Едва не самая большая низина во всем городе; ощущение такое, будто сам город наваливается на тебя с намерением раздавить. Состояние у Салытова было самое что ни на есть угнетенное. Данный ему в подмогу молоденький Птицын, из унтеров, стоял саженях в двадцати справа, ожидая условного сигнала. Вид заснеженного парка приводил Салытова в уныние, пробуждая вместе с тем безотчетный гнев. Вот и сейчас тоже.
Гляди-кось, послали на задание! И кому только в голову эта глупость взбрела! Кому-кому; ясно кому. Это все Порфирий. А в каком положении он, Салытов, оказался, заявившись эдак вот, можно сказать самозванцем, в Шестой участок, совсем не в подотчетной части города! С каким плохо скрытым презрением его там встретили! Да и немудрено. Он бы и сам точно так же отреагировал на появление постороннего чина у себя в участке: дескать, а ты кто такой, тут распоряжаться, на каких таких основаниях?
При появлении Салытова поднял седые кустистые брови дежурный урядник: мол, это что еще к нам за птица? Видно, был он из той породы, что засиделись в мелких чинах и уяснили для себя: нерасторопность не порок, а над старшими по званию можно и поглумиться — да еще и не без зависти к тем, кто по званию может с тебя и спросить, а то и помуштровать слегка, чтоб нюха не терял. Иными словами, над вышестоящим начальством. Особенно которое поступает к тебе, не имея четких полномочий. У него на таких чутье: ишь как упрямится, чисто осел, зная наперед, что за упрямство ничего не будет.
— Сообщение об убийстве, говорите? — нарочито неторопливо переспросил урядник, сузив глаза, словно не вполне понимая, о чем идет речь. Разыгрывать из себя недотепу было, видно, его любимым приемом. — А что за сообщение такое?
— Анонимное! — буркнул Салытов. Он понимал, с кем имеет дело, но все равно не мог себя сдержать.
— А источник-то хоть достоверный?
У Ильи Петровича аж руки зачесались: вот сейчас взял бы да так и смазал. Да как он смеет с ним, Салытовым, да еще в таком тоне! Разумеется, взвился Салытов еще и оттого, что источник был самый что ни на есть недостоверный.
— Высокое начальство рассматривает его наисерьезным образом! — сообщил он, глядя на урядника с неприязнью. — Меня уполномочили взять у вас кого-нибудь в подчинение и провести тщательный досмотр.
Терпение Салытова было на пределе.
— Мы не можем разбрасываться людьми. Отпускать всех в парк на променад почем зря — ну, знаете ли.
— Но кто-то же есть у вас в распоряжении! Из тех, кто сейчас не при исполнении.
— Вы принуждаете нас принять на веру ваш, так сказать, источник. Должны же мы знать, на каком основании. Так поделитесь вашими сведениями с нами. Кроме того, мне надо еще согласовать со своим начальством. Да и текущими бумагами надо кому-то заниматься.
Боже ты мой, вздор какой. Какой вздор все это! Поставить его, Салытова, в такое нелепое положение! Ждать! И дать ему, наконец, в подчинение Птицына, совсем еще мальчишку!
Салытов хмуро окинул взглядом этого юнца, с добродушной готовностью ждущего условного сигнала. Тьфу!
— Да пойдем уже, дурища! — сердито махнул ему Салытов. Птицын с легкостью сорвался с места, натягивая на бегу перчатку.
* * *
— Ваш благородь! Господин поручик! Видите, вон там?
— Да вижу, вижу.
Оба тяжелой трусцой припустили по снегу, направляясь к болтающемуся на березовом суку телу.
— Мы это ищем? — взволнованно, как школьник, выдохнул на бегу разрумянившийся Птицын.
Салытов не ответил. Записка указывала на убийство, а не на самоубийство.
— Он что, в самом деле мертвый?
— Нет, живой. Болван!
Борода повешенного обледенела, снег обильно запорошил шапку и плечи.
— Будем снимать?
— Я тебе сниму! Не прикасаться ни к чему, понял?
— Кто бы это мог быть?
Салытов опять демонстративно промолчал.
— Я, ваш благородь, в первый раз удавленника вижу, — признался Птицын, оторопело разглядывая окаменелые глаза самоубийцы.
Заметив под шинелью утолщение в области поясницы, Салытов раздвинул заскорузлые полы.
— Ух ты. Выходит, и в самом деле убийство, — определил он, увидев заткнутый за пояс топор с застывшей кровью.
— Ваш благородь, — подал Птицын голос, от озадаченности чуть хриплый. — А как это у него, интересно, получилось?
— Ты о чем, малый?
— Да вот, как он повесился-то? Видите, как вон там веревка обвязана вокруг дерева? Ну, накинул он ее поверх ствола, петлю сделал, затянул. А повис-то как, собственно?
И вправду, если вдуматься. Салытов посмотрел вверх, туда, где под небольшой зарубкой на стволе повязана была веревка. Окинул взглядом редковатые ветви. Глаза неожиданно остановились на клочке сероватой бумаги, не то нанизанном, не то прилепленном к суку. Салытов жестом подозвал подчиненного.
— Да, ваш благородь?
— Сейчас поднимешь меня на плечах.
— Не понял?
— Становись на четыре кости, сейчас поднимать меня будешь. Птицын с растерянным видом опустился на четвереньки, давая дюжему поручику встать себе не плечи.
— Готово? Давай!
Птицын, крякнув под тяжестью, стал постепенно выпрямляться. В какой-то момент, когда Салытов потянулся за клочком, он утратил равновесие — казалось, оба вот-вот рухнут. Но ничего, выровнялся, удержался. Салытов вместо благодарности сердито его лягнул.
— А ну ближе к дереву, чтоб тебя!
Птицын, натужно взревев, сделал шаткий шаг к стволу, и Салытов дотянулся-таки до цели.
— Всё!
Птицын, взахлеб выдохнув, опустился, потеряв при этом шапку и угодив лицом в снежный нанос. Салытов между тем слез вполне благополучно.
— Что-то нашли, ваш благородь? — спросил запыхавшись Птицын, поднимаясь на ноги и отряхиваясь.
Салытов с сердитым триумфом разглядывал клочок.
— Ага! Вот мы ему предъявим, будь здоров!
— Неужто улика, ваш благородь?
Салытов, аккуратно свернув листик, сунул его себе в бумажник, после чего с оживлением оглядел пятачок снега вокруг. В небольшом отдалении от дерева внимание его привлек подозрительно правильной формы сугроб.
— А ну туда, — резко указал он.
— Он что, оттуда сиганул, ваш благородь? Вы об этом подумали? — озабоченно спросил Птицын.
— Чего?
— Я только имел в виду…
— Да плевать мне, кого ты имел в виду, бурбон ты стоеросовый! Я тебе велел вон ту штуку в снегу обследовать! Не усвоил, что ль? Марш выполнять!
— Да усвоил, ваш благородь, определенно усвоил, — пробормотал унтер, чуть обиженный суровостью начальника. Но опять же, приказ командира — закон для подчиненного. А потому, что именно в данном случае означает «туда» — команду или что-то другое, — раздумывать не приходилось: беги и выполняй.
Птицын сгорбился над сугробом — скорее всего, неким предметом, занесенным снегом. Несколько энергичных взмахов, и из-под искристого облака снежинок проглянула гладкая коричневая поверхность.
— Тут чемодан какой-то, что ли, — неуверенно произнес Птицын, продолжая разгребать. — Приоткрытый. И еще… — Тут голос у него сорвался. Рука в перчатке наткнулась на что-то, оказавшееся на поверку конвертом, сиреневым. И такой восторг вызвала у него эта находка, что он и внимания не обратил на бегу, что там, сзади, взгляду открылось и кое-что еще. Это дошло до него, когда он увидел лицо поручика: разом побледневшее, словно вся горячность взяла и разом с него схлынула. Канула вместе с напускной свирепостью. Обернувшись в ту же сторону, куда вперился начальник, Птицын дрогнувшим голосом проговорил:
— Вы… Вы когда-нибудь такое видели, в-ваш благородь? Салытов отозвался голосом помягчевшим, почти кротким:
— Давай, сынок, беги на Шестую, в участок. Возьми дрожки, расскажи, что мы тут с тобой обнаружили…
— Слушаюсь.
— Я здесь останусь, караулить. Людей с собой прихвати. Фургон понадобится.
— Так точно.
— Ну так жми! — Салытов звучно хлопнул в ладоши, отчего подчиненный припустил во всю прыть. Проводив взглядом удаляющуюся спину унтера, Салытов еще раз вытащил бумажник и поместил туда сиреневый конверт.
Глава 5 ПРОКУРОР
В большом служебном помещении, где Сенная квартальная контора держала средства пожаротушения, стояли три переносных стола. Сама пристройка примыкала к конюшням конторы, что по Малой Мещанской, буквально за углом от участка на Столярном. Створки массивных дверей были раскрыты, отчего безжалостный свет падал на столы и на их содержимое. На одном столе лежали те предметы, что Салытов обнаружил в Петровском парке. На двух других — бездыханные тела.
В затененных недрах строения таилось под чехлами пожарное оборудование — помпы, свернутые шланги, водовозки. Обступившие столы шестеро человек держались более открыто. Помимо Порфирия Петровича и Никодима Фомича присутствовал также Ярослав Николаевич Липутин, прокурор. В его обязанности входило устанавливать при разбирательстве, имеет ли деяние уголовный характер, и составлять по факту ареста подозреваемых обвинительный акт, а равно доводить и проводить дело через суд. Фактически он был вышестоящим лицом над Порфирием Петровичем, что забавно подчеркивалось их разницей в росте: прокурор возвышался над следователем как каланча. Спорить уже с самой его внешностью казалось бессмысленным, настолько безупречно он выглядел. Каждый волосок, каждая складочка, каждая пуговка, казалось, сидели на строго отведенном им месте, подчеркивая чин своего хозяина. Находились здесь также двое вменяемых по новому уложению понятых — в данном случае майор Волоконский и статский советник Епанчин; оба в отставке, и оба в соответствующих чину мундирах. Майор взирал на происходящее с нарочито брюзгливой миной, скрывающей легкое смятение. Советник Епанчин свои эмоции скрывал за маской достоинства. Оба уже достаточно скоро плясали под дудку Липутина. Что касается Салытова, то его пригласил Порфирий Петрович: надо же было как-то отметить его заслугу в обнаружении трупов.
Жар от печи с наружной стены пристройки сюда не доходил.
— Ну-с, так кого мы ждем-с? — величаво осведомился прокурор.
— Патологоанатома, ваше превосходительство, — пояснил Порфирий Петрович.
— Патологоанатома? Да он нам и не нужен. Все и без него ясно-с, Порфирий Петрович.
— Осмелюсь спросить, что именно, ваше превосходительство?
— У одного трупа проломлен череп, у другого, что с топором, веревка на шее. И зачем, в самом деле, доктора звать. По новому рескрипту вскрытия в каждом отдельном случае не требуется. Можно действовать на свое усмотрение. Тут одного взгляда достаточно, чтобы сделать обоснованные выводы. И времени понапрасну нечего тратить. И зачем только было прокурора сюда замешивать? — заметил Липутин о себе как бы со стороны. — Ну, имело место преступление-с. Даже, фактически, два. Одно — убийство, другое — самоубийство. Обвиняемый в обоих случаях — вот он, лежит перед нами на столе. Дело закрыто.
— В самом деле, господин прокурор. И лишь потому, что я осмотрел тела — и то место в Петровском парке, где их отыскали, — я считаю, что нам здесь нужен патологоанатом.
Глаза у Липутина едва заметно сузились.
— Это вот вещица, — продолжал Порфирий Петрович, приподнимая с предметного стола латунную фляжку, — которую поручик Салытов извлек у повешенного из кармана. — Он протянул посудину Липутину.
— Водка-с, — осторожно нюхнув, определил прокурор.
— Так точно. Причем фляга полная. Представьте: злоумышленник, собираясь на такое дело, думает потом надраться до бесчувствия. Более того, не забывает предварительно наполнить фляжку. Но как же так, взять водку и не выпить ее?
— Вы думаете, водка имеет здесь какое-то значение? — скептически спросил Никодим Фомич.
— В подобных делах все имеет значение.
— Надраться, не надраться, — перебил вдруг Салытов. — А может, карлика он убил в приступе ярости. А потом от раскаяния взял да повесился. Или привычка у него такая была, таскать везде водку с собой. А в горячке он про нее забыл.
— Любопытная теория, — отреагировал Порфирий Петрович. — Благодарю, что поделились.
— А лично вы ее не разделяете? — спросил Липутин, усмехнувшись.
— Взгляните на его шинель, — неожиданно сменил тему Порфирий Петрович. — Вы что-нибудь замечаете?
Ответить никто не рискнул.
— Что ж, давайте спросим поручика Салытова. Вы, когда срезали труп, на шинели сзади что-нибудь заметили?
— Ну, пятна какие-то, темные, — растерянно ответил тот. — Вроде масла, или что еще.
— Так. Маслянистые следы на спине. А спереди?
— Пятен не наблюдаю, — отметил Никодим Фомич неуверенно.
— Меня лично не отсутствие маслянистых пятен озадачивает. А скорее…
— Крови нету! — воскликнул Салытов.
— Точно. Состояние переда шинели наводит меня на мысль, что даже если этот тип и есть убийца, то карлика он убил не непосредственно перед тем, как покончить с собой. А уж если и убил, то, по крайней мере, не топором. Отсутствие крови на шинели и впрямь сбивает с толку, если придерживаться версии, которую нам будто специально навязывают посредством подобных улик.
— Разумеется, он не сразу наложил на себя руки после того, как убил карлика. Ведь сначала он доставил туда в чемодане его труп, — рассудил Липутин. — Труп уродца был найден в чемодане, не так ли?
Он кивком указал на покрытый каплями влаги чемодан с длинной царапиной на крышке.
— Совершенно верно. Очень может быть, что именно так оно и было. Но согласитесь, точно так же возможно, что чемодан туда доставил кто-то другой. А если так, то вполне вероятно, что этот кто-то мог убить и карлика.
— Но почему тогда покончил с собой вот этот? — с сердитым недоумением спросил Липутин.
— Да, вопрос не из простых, — помолчав, ответил Порфирий Петрович. Повернувшись к предметному столу, он взял с него сероватый бумажный листик — тот самый клочок, что снял с березового сука Салытов. — Быть может, вот эта квитанция из ломбарда даст нам ответ?
— Однако вы не учитываете одного принципиально важного нюанса, — напомнил вдруг Липутин.
Порфирий Петрович вопросительно посмотрел на прокурора.
— Явную принадлежность этих лиц к нижним — чтоб не сказать низшим — слоям общества. Вот этот, на мой взгляд, не более чем студент. Это не считая его уродства…
— Что, безусловно, не скажется на тщательности, с какой будет расследовано дело, — убежденно произнес Порфирий Петрович.
— Знаете ль, Порфирий Петрович, в пылу сражения оно и чересчур увлечься можно. У полиции возможности не безграничны. Среди дел встречаются и нераскрытые. Вы что, и вправду беретесь выяснить, что это за субъекты-с?
— Да. Установить их личности — наша задача. Это первый шаг к выяснению правды происшедшего.
— Ах, правды, — устало произнес Липутин, вынимая часы на цепочке. — И где этот ваш патологоанатом?
— Уверен, что будет с минуты на минуту.
— И кто это?
— Доктор Первоедов, из Обуховской больницы. Он в этом качестве нам уже неоднократно помогал, и всегда успешно.
— Но заставлять нас эдак вот дожидаться, — с неудовольствием заметил Липутин, демонстративно указывая на понятых. — Господа специально выразили согласие участвовать в этой… процедуре…
Понятые с достоинством закивали.
— Я уверен, что им отрадно выполнять свой гражданский долг.
— А есть ли чувство долга у этого вашего патологоанатома? Вы, надеюсь, в курсе, что ваше следственное управление полномочно штрафовать за…
К облегчению Порфирия Петровича, в этот момент в помещение торопливо вошел нестарый еще краснолицый мужчина, толкая перед собой двухколесную тележку с обитым жестью сундучком. Вошедший был без головного убора; над воротником кургузого, в крупную клетку пальто топорщились длинные растрепанные волосы. Его неопрятная, можно сказать, неряшливая внешность смотрелась вопиющим контрастом благообразному виду Липунина.
— Прошу простить, тысяча извинений, — с ходу заговорил доктор. — Задержался исключительно из-за инфлюэнцы. Сразу пять новых случаев. Пять!
Липутин с непроницаемым лицом опустил часы в карман.
— К нам это не имеет никакого отношения-с. Вы, надеюсь, сознаете свои законные обязанности?
— Конечно, ваше превосходительство. Несомненно, не-сом-нен-но!
Первоедов, остановив, накренил тележку вперед, с возможной аккуратностью опуская с нее на пол сундучок. Несмотря на всю осторожность, в недрах сундучка что-то приглушенно звякнуло. Доктор поспешно отпер и открыл крышку, тревожно оглядев содержимое.
— Все в порядке, ничего не побилось. Колбы с формальдегидом целы. Я лишь за них и беспокоился.
— Полагаю, вашей пунктуальности безусловно пошло бы на пользу, будь у вас поменьше сторонних занятий, — сказал Липутин. — Через них вы в основном и запаздываете, а не от лечения ваших больных.
— Остроумно, ваше превосходительство, в высшей степени остроумно…
— Итак, наш следователь, — продолжал прокурор, — наш уважаемый Порфирий Петрович указывал на необходимость вызвать вас для проведения вскрытия этих двоих бедолаг.
— Да-да, конечно, — спешно кивнул Первоедов, напрягшись лицом.
— Он говорит «конечно»! — вспылил вдруг Липутин. — При чем здесь это самое «конечно»! — Он обратился к понятым. — Господа, а что скажете вы? Стоит ли нам учинять весь этот фарс?
— Да, действительно, а надо ли? — в тон ему воскликнул Волоконский, майор.
— Я, честно сказать, тоже не вижу особой целесообразности, — поддакнул и советник Епанчин.
— Но коли уж мы все здесь собрались, — растерянно заметил Никодим Фомич, — и доктор инвентарь свой доставил…
— А как же, — сказал доктор Первоедов. — Не привези я инструмента, мне и вскрытие делать было бы нечем. Подумайте над этим, Порфирий Петрович, прежде чем звать меня на выручку в очередной раз.
— Закон не обязывает следственное управление располагать врачом для судебной экспертизы, — машинально процитировал Липутин, очевидно зная эту фразу назубок.
— Да, но было бы наверняка удобнее, если б следственное управление позволяло проводить экспертизу где-нибудь в больнице или анатомическом театре, где инвентарь, подобный моему, наверняка есть в распоряжении, — с улыбкой, но твердо сказал доктор.
— Вам-то удобнее, сомнения нет, — холодно кивнул Липутин. — Но о вашем удобстве, знаете ли, вопроса не стоит.
— Я непременно учту ваше предложение на будущее. — Порфирий Петрович учтиво поклонился доктору.
— В том нет нужды-с, — бесцеремонно перебил Липутин. — И я не вижу логики в аргументе, что лишь оттого, что, дескать, доктор озаботился принести свои инструменты, мы должны позволять ему пускать их в ход. Это бесполезное занятие, пусть он хоть в лепешку разобьется, пытаясь услужить.
— Я б хотел привлечь ваше внимание вот к какой детали, — полуприкрыв глаза, перевел неожиданно разговор Порфирий Петрович. — На стволе березы, с которой сняли этого служивого, была одна вертикальная зарубка…
— Да, и я обратил внимание, — кивнул Салытов.
— …по размеру сопоставимая с лезвием топора.
— Ну и? — бросил Липутин.
— Кто бы мог ее оставить?
— Какая разница, кто? При чем вообще здесь это?
— Зарубка находилась несколько выше того места, где была повязана веревка.
— Что вы нас все той зарубкой донимаете, Порфирий Петрович? Я слышать не желаю об этой вашей зарубке!
— Самоубийца до нее дотянуться бы не смог, ну а уж карлик и подавно.
— Топор могли метнуть, — предположил наугад Липутин. — А он возьми да и выпади, — добавил он уже с меньшей уверенностью.
— Топор? Какой именно? Тот, которым убит был карлик? Но на зарубке нет следов крови. Да и по лезвию не видно, чтобы им недавно делали надрез: в таком случае с лезвия частично стерлась бы кровь, хотя бы с краешка. Если, конечно, зарубка не была сделана до того, как карлик был убит. Но мы уже установили, что карлика не могли убить на том месте, где обнаружены были тела. Так что возникает подозрение, что зарубка на стволе могла быть сделана другим топором. Или топор был тот же, но удар по голове последовал позже.
— Я еще раз повторяю: при чем здесь вообще зарубка на дереве? Это может быть совпадение. Вы об этом не думали?
— Разумеется, думал. Однако странное какое-то совпадение. Ни на одном из деревьев в окрестности я ничего подобного не заметил. Так что можно хотя бы предположить, что зарубка действительно имеет некое отношение к делу.
— Никаких таких «возможностей» я рассматривать не желаю! Порфирий Петрович, вы, право, испытываете мое терпение. У меня и без того голова последнее время кругом, протаскивать все эти дела через суды. А тут еще вы разыгрываете защитника этого негодяя, даром что покойника.
— Тем не менее, отношение к делу есть, поскольку сам собой напрашивается вопрос о присутствии некоей третьей стороны, — не уступал Порфирий Петрович.
— Да зарубку ту можно было в любое время сделать!
— Она совсем свежая. И даже если не соотносится с делом, все равно остается вопрос: кто мог сделать ее и с какой целью?
— Если зарубка та не связана с делом, мне на нее абсолютно, черт побери, наплевать.
— Смысл в ней есть только в том случае, если она как-то сопряжена с делом.
— Но как? Каким образом, в каком смысле?
— Пока не знаю, — признался Порфирий Петрович. — Но выясню непременно.
— Каких ответов вы ожидаете от медэкспертизы? — подал голос Первоедов.
Липутин лишь шумно вздохнул: дескать, ваша взяла.
— Меня более всего интересует, какова причина смерти в каждом из случаев, — сказал Порфирий Петрович.
— Чушь собачья, — проворчал прокурор.
Доктор, коротко кивнув, снял пальто и вручил его статскому советнику. Тот, машинально приняв это тряпье на руки, тут же с негодованием бросил его на пол. Первоедов тем временем, отвернувшись, уже извлекал из сундучка резиновый фартук.
— У одного трупа петля на шее! У другого пролом в черепе, с лезвие шириной! — негодующе крикнул Липутин.
Первоедов, успев вооружиться скальпелем, вновь лаконично кивнул.
— Ну что, начнем с этого, — сказал он, при этом словно указывая острием на прокурора. И хотя стоял Первоедов возле одного из трупов, все как один почувствовали, что фраза адресована Липутину.
* * *
— Взгляните-ка на его глаза, — подал голос Первоедов.
— А что такое? — живо отреагировал Порфирий Петрович.
— В них нет крови. В случаях удушения типичная картина совершенно обратная.
Веревка въелась в мягкие ткани шеи. Доктор Первоедов аккуратно, чтобы не задеть кожу, отделил ее скальпелем и подцепил длинными щипчиками.
— Ага, вот это любопытно, — ни к кому не обращаясь, протянул он. — Ох как любопытно-о.
Рукой в перчатке он поднял повешенному бороду, чтобы все видели.
Присутствующие сомкнулись над трупом, едва не касаясь друг друга головами. Взглядам открылась глубокая борозда, оставленная на шее веревкой. Все с ожиданием посмотрели на доктора.
— Минутку. Сделаем так, чтоб было заметней. — Первоедов достал из сундучка бритву и подбрил самоубийце в одном месте бороду.
— Я по-прежнему ничего не вижу, — нетерпеливо сказал прокурор.
— Тут вот в чем дело, ваше превосходительство, — попытался объяснить Порфирий Петрович. — Мне кажется… — Он перевел вопросительный взгляд на доктора.
— Будьте так добры, не изъясняйтесь загадками, — потерял терпение Липутин.
— Кровоподтека нет, — определил Салытов. Доктор Первоедов энергично кивнул.
— Молодец, Илья Петрович! — одобрил его догадливость Порфирий Петрович. Похвала коллеги поручику вначале польстила, но затем уязвила еще сильней.
— Что означает! — сердито подытожил Липутин.
— Что предполагает, — поправил Порфирий Петрович, — что на березу было вздернуто уже мертвое тело.
— У живого организма кровоподтек вызывается притоком крови к пораженному участку эпидермиса. На трупе возникают характерные пятна сродни синякам, так сказать post mortem. Здесь же впечатление такое, будто тело все это время не висело, а лежало на земле. — Параллельно объяснению доктор Первоедов большими ножницами разрезал на трупе одежду — рукава, штанины, весь перед. — В общем, справедливо будет заметить, что на мертвом теле синяков не возникает.
Между тем нагой труп уже лежал на груде лохмотьев. От присутствующих не укрылся лиловатый обод, идущий вкруг объемистого живота.
— А вот здесь, наоборот, кровоподтек есть, — задумчиво произнес Первоедов, на минуту прерываясь черкнуть что-то у себя в тетрадке.
— Ну и что с того? — потребовал выводов Липутин.
— Да ничего пока, — ответил Первоедов. — Пока я так, просто наблюдаю.
Он в нескольких местах пощупал труп пальцами, отчего майор брезгливо скривился, а советник сопроводил действия доктора недоуменным взглядом.
— Если б кто-то из вас, господа… — Первоедов жестом показал, что труп надо бы помочь перевернуть, но у понятых энтузиазма на этот счет явно не возникало.
— Тело надо бы перевернуть, — пояснил доктор, — чтоб осмотреть также со спины.
Понятые застыли в безмолвном ужасе.
— Поручик Салытов, — указал Никодим Фомич. — Соблаговолите помочь доктору.
— Давайте и я помогу, — вызвался также Порфирий Петрович, поняв необходимость уяснить кое-что на ощупь. Очень странно было ощутить под ладонью не трупную окоченелость, а податливую, словно живую, плоть.
Втроем они перевернули голое тело с живота на спину. Спина как спина, волосатая.
— Интересно, очень интересно, — заметил и здесь доктор Первоедов.
— Ну а теперь что? — переспросил Липутин.
— Как вы видите, на спине след от рубца не продолжается.
— И какой вы делаете из этого вывод?
— Вывод? Выводы делать рано. Их, если таковые появятся, я предоставлю в своем заключении. Оно будет у вас достаточно скоро, — сказал Первоедов и, значительно поглядев на Порфирия Петровича, добавил, — ваше превосходительство.
Втроем они вернули труп в исходное положение.
Доктор взял скальпель и сделал первый надрез, от лопатки к правому плечу. Порфирий Петрович стоял затаив дыхание, с гулко стучащим сердцем: интересно, что чувствуют сейчас остальные, в том числе Липутин? «Ты сам-то рад, что живой?» — хотелось ему спросить у прокурора.
Процедура вскрытия продолжалась. От плеча скальпель наискось скользнул к грудине. Затем по той же траектории от другого плеча к середине туловища, вокруг пупа и, наконец, описав дугу, в область паха. Темный лоснящийся надрез был до странности бескровным. Порфирий Петрович на миг задумчиво перевел взгляд на проломленную голову второго трупа.
Затем прикурил и стал наблюдать, как доктор Первоедов оттягивает на трупе кожу.
Глава 6 АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА
Щеки у Порфирия Петровича рдели от морозного воздуха, несмотря на жаркий кокон енотовой шубы, придающий его фигуре сходство с меховым колоколом. Внушительности придавала и высокая, барского вида шапка. Запорошенный снегом город, с его величавыми каменными зданиями и словно наспех умещенными меж ними деревянными хибарами, был в этот час молчалив. Присыпанные белым покровом, они, казалось, взирают вокруг себя с дремотным равнодушием, не сознавая того высокомерия или, наоборот, приниженности, которые им при возведении придали их создатели.
На рынок Порфирий Петрович попал через Апраксин двор, с той стороны, где Садовая соприкасается с Апраксиным переулком. Пройдя под висящей над деревянными воротцами иконой Николая Чудотворца, он ступил в освещенную призрачным светом густую людскую толчею — ни дать ни взять чистилище. Зудение шарманки смешивалось с припевками тачальщиков и зычными криками лотошников и зазывал из лавок. Сверху, звучно взмахивая крыльями, то и дело планировали голуби. Они бесцеремонно усаживались возле равнодушных кошек, взволновать которых могло разве что появление мыши. Торговые ряды связывались меж собой перекинутыми через верхние ярусы мостиками, которые увенчивали непременные образа. Сосредоточенные в тех или иных частях рынка ремёсла нетрудно было опознать по присущим им запахам, из которых особо забористые исходили от рядов специй с пряностями, а также чая с кофеем и табака. По ходу их сменяли не такие сильные, но тоже притягательные ароматы от прилавков с сотовым медом и благоухание выпечки. Приятный запах чуть забродивших фруктов шел от рядов, где торговали вареньями. И наоборот, те лавки, где держали негашеную известь и деготь, словно гнали поскорее мимо себя — никакие украшения в виде расписных балалаек не спасали. Уже не оглядываясь, Порфирий Петрович миновал ряды с конской упряжью, будки сапожников и жестянщиков, а также несколько ювелирных лавок. Иной раз к характерным запахам примешивался запах снеди от корзины проходящего мимо пирожника, или перегарная вонь из встречного трактира, или же благочинный запах свечного воска из рыночной часовенки.
На противоположной части, как бы на отшибе, располагался Блошиный рынок с обилием старьевщиков и общей атмосферой затхлости. Здесь, в малоприметном углу, находилась лавка процентщика Лямхи.
Приход посетителя возвестил своим дребезжанием дверной колокольчик. Из полумрака пронафталиненной, не вполне чистой лавки проступало ее беспорядочное тесное убранство — престранное смешение драгоценного и бесполезного. Ювелирные изделия за стеклом соседствовали с полками, загроможденными щербатыми горшками. Висела на плечиках не первой свежести одежда, от роскошных некогда мехов до полунищенских заношенных юбок. Кое-кто из побывавших здесь заложил даже манишки и воротнички с манжетами. Сундуки обуви и корзины очков и пенсне, ящики табакерок и подносы с россыпями наперстков. Все эти предметы, словно оставленные себе на произвол, демонстрировали некую прелесть, эдакий магнетизм покинутости. Ну и разумеется, то, что все находящееся здесь, в лавке, было некогда частью чьей-то жизни. За каждым из предметов, неважно, сколь малозначительным на вид, скрывалась история человеческого отчаяния, а то и трагедии.
Едва войдя, Порфирий Петрович заслышал бубнеж низкого мужского голоса. В драматично дрожащем теноре было что-то искусственное, можно сказать театральное. Декламатор обратил на себя внимание почти сразу: краснолицый, щекастый, с объемистым выпирающим животом. Не меньше, чем выспренный монолог, внимание привлекала его жестикуляция. Поток сценического красноречия сводил ему лицо словно судорогой, и ему приходилось компенсировать застывшую мимику колыханиями туловища — выходило внушительно. Судя по всему, мужчина разыгрывал перед процентщиком некий сценический монолог. Взгляд свой «артист» (именно так определил его амплуа Порфирий Петрович) опустил долу. Все это действо на слух воспринималось довольно необычно. Речь персонажа произносилась нетрезвой скороговоркой, но вместе с тем все слова в ней звучали вполне отчетливо. Более того: голос, даже звучащий вполсилы, заполнял собой все помещение. Процентщик — тощий как кощей субъект, считающий, вероятно, дурным тоном представать перед клиентами в упитанном или преуспевающем виде, стоял осклабясь, закинув голову набок. Руки в перчатках без пальцев поглаживали лежащую перед ним на прилавке семиструнную, с бантом гитару.
Наконец прозвучала последняя реплика мизансцены: «Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится — верно, это он идет».
— Браво! — бодро возгласил Порфирий Петрович, хлопая в ладоши. Тем не менее, процентщик ограничился лишь кривой ухмылкой и принялся оглядывать гитару. — Монолог Осипа, из «Ревизора»!
Человек артистической натуры оглянулся с польщенным видом и церемонно поклонился, дохнув перегарцем.
— Лично играл в пятьдесят шестом-с, в тогдашнем составе Мариинского-с! А вы, осмелюсь спросить, ценитель драматических искусств?
— Я ценитель Гоголя.
— Семь рублей, — проворчал процентщик, кладя загудевшую струнами гитару обратно на прилавок.
— Сколько? Семь? Да ты шкуродер! Кровопивец, жидовская морда! Она мне самому в десять раз дороже обошлась! Ты знаешь, кому она принадлежала? Самому Саренко! Вдумайся, чудак-человек: Са-рен-ко!
— Семь рублей.
— Да один мой монолог на все семь потянул!
— Монолог твой у меня никто не купит. Если докажешь, что вещь принадлежала Саренко, дам девять рублей.
— Слово свое даю!
— Тогда семь с полтиной.
— Семь с полтиной! Не сердце, а камень. Вот жидовин! — страдальчески пробасил артист, словно за поддержкой обращаясь к Порфирию Петровичу.
— Да ты сам вдумайся, — подал голос процентщик. — Я же, парень-брат, даю, лишь сколько сам смогу за нее выручить.
— Да ты за нее озолотишься! Сотню огребешь, не меньше!
— Семь с полтиной. Хошь бери, хошь нет.
— Что ж, будь по-твоему! — голосом трагика завибрировал артист. — Но вот вы, смею вас заверить, бойтесь фармазона сего: всю-то кровушку он из вас выпьет! — назидательно сказал он Порфирию Петровичу. Приняв от процентщика деньги, артист отступил на шаг-другой, но уходить не собирался. Он как будто чего-то выжидал. Порфирий Петрович, подавая процентщику закладную, чувствовал присутствие актера за спиной.
Глаза на изможденном лице оглядели Порфирия Петровича с подозрительностью.
— А деньги при вас есть?
Порфирий Петрович выложил на прилавок десятирублевую ассигнацию. Краем глаза он замечал, что артист неотрывно за ним наблюдает. Между тем процентщик, дежурно осклабясь, с непроницаемым лицом отошел и возвратился со стопкой перевязанных бечевкой книг.
— Но ведь вы не Виргинский, — заметил он.
— Разрежьте мне, пожалуйста, бечевку, — попросил Порфирий Петрович. — Хочу рассмотреть книги поподробней.
— Но вы же не Виргинский, — повторил, словно с намеком, процентщик.
— А кто такой Виргинский?
— Ну, этот… Который заложил эти книги.
— Ну и какая разница? Я оплачиваю его долг. И сумма предостаточная, чтобы выкупить залог от его имени. Прошу вас, разрежьте бечевку.
Процентщик, по-прежнему колеблясь, еще сильнее втянул пергаментные щеки, и без того туго обтягивающие скулы. Сунув, наконец, лезвие перочинного ножа под бечевку, он неприкрыто, в упор разглядывал странного посетителя.
Первые четыре книги оказались русскими переводами «Круговорота жизни» Молешотта, бюхнеровской «Силы и материи», «Суеверия и науки» Фохта и «Диалектики природы» Дюринга. Пятая — альманах в бордовом переплете — именовалась «Тысяча и одна девичья головка».
— А-а, — послышалось над ухом как раз в этот момент. — Так вы, я вижу, завзятый поклонник «Приапа»!
Порфирий Петрович, спешно захлопнув книгу, оглянулся на артиста с видом нарочито неприветливым.
— «Приап» — мое излюбленное издание, — поспешил объяснить, явно пытавшийся завязать знакомство, артист. (Название и в самом деле значилось на корешке.) — Нет ничего сравнимого с тем наслаждением, что испытываешь, разрезая страницы свежего «Приапа»! Случись вам, мой друг, испытать когда-либо потребность в дружеском содействии по взрезанию оных, смею вас заверить, что рука у меня на подобное деяние очень даже наметана!
— Прошу простить, сударь, но я не вполне вас понимаю.
— Что, право, дурного в том, что два благородных мужа занимаются вместе изысканным времяпровождением? Это вполне сродни тому, как если б мы совместно откупоривали бутылочку-другую доброго вина или, под стать североамериканским краснокожим, трубку с зельем. Но стоит ли останавливаться перед взрезанием девственного листа бумаги, когда вместо того можно вожделенно вонзаться острием в лакомую, девственную плоть? Ведь вокруг нас, сударь, столько юных, пресладких, податливых дев! Лично вам стоит лишь сказать — мы все устроим.
— У меня нет подобного желания.
— Разумеется, я понимаю. Наиредчайшая услада уединенно, интимно практикуемой методы, можно так выразиться. Тут еще и вопрос гигиены, не говоря уже о проворстве. Сие есть рациональный выбор. И, тем не менее, рука помощника здесь может ох как пригодиться, скажу я вам. Признаюсь вам как другу, зачастую это, пожалуй, самый что ни на есть идеалистичный подход…
— Сударь, я возмущен!
— А я, напротив, потерян! Однако, судя по остальному вашему чтению, вы, сдается мне, в едином лице и материалист и идеалист. При таких воззрениях какие же иные цели могут над вами довлеть?
— Я в своем вольнодумстве до этого еще не дошел.
— Тогда мне вас жаль!
— А мне — вас.
— О, не стоит!
— Между прочим, я из управления.
— Гм?
— Да-да, из полиции. По уголовному делу.
— Пршу пардона-с… — Театрал уже летел к выходу, даже не попрощавшись.
Весьма позабавленный этой стычкой, Порфирий Петрович обернулся к процентщику, глянувшему на него с неприкрытой дерзостью. Цепкий, колючий взгляд на миг показался едва ли не более непристойным, чем тот пресловутый альманах про девиц.
— Как вы сказали? Виргинский? — переспросил, возобновляя разговор, Порфирий Петрович.
— Павел Павлович. Пал Палыч.
— Вы, я думаю, догадываетесь, что речь идет о полицейском расследовании?
— Мне о том ничего не известно.
— Вы мне можете его описать? Процентщик пожал плечами.
— Он отличается, скажем, ростом? Или, наоборот, как бы это выразиться, миниатюрностью?
— Да не особенно.
— Понятно. В общем, никаких особых примет?
— Ну, бледный. Внешности, я бы сказал, предосудительной. Хотя студентов пол-Петербурга таких ходит. Так что ничего приметного и нет.
— А из вашего знакомства с ним, получается, он ваш регулярный клиент?
— Да, вроде того.
— Вам не известен адрес этого Павла Павловича?
— Почему, известен.
Ко все еще лежащей на прилавке красненькой Порфирий Петрович добавил еще одну.
— Надо всего-навсего пойти в доходный дом Липпенвехселя. Там и спросите Пал Палыча Виргинского.
Процентщик взял обе банкноты, но при этом одну из них протянул Порфирию Петровичу.
— Здесь у нас все по закону. Вы мне долг, я вам сведения. — Порфирий Петрович слегка поклонился. — Я хотя и еврей, но верноподданный.
Их взгляды встретились; в смоляных глазах процентщика читалась глухая неприязнь. Порфирий Петрович принял купюру.
— Не соблаговолите ли снова мне их обвязать? — попросил он насчет книг, убирая ассигнацию в кошелек.
Процентщик с протяжным вздохом повиновался.
Глава 7 АЗАРТ ИГРЫ
Доходный дом Липпенвехселя на Гороховой походил скорее на непомерно разросшийся в разные стороны живой организм, чем на нечто планомерно продуманное и построенное. Обветшалые, с облупленной штукатуркой, разномастные фронтоны и крылья опоясывали пространство замусоренных дворов, в колодцы которых с трудом пробивался солнечный свет. Налетающие порывы ветра ощущал каждый жилец, неважно где — у печи ли, за самоваром, под коконом тряпья или сидя скрючившись в шкафу. Возле Каменного моста дом выходил фасадом на Екатерининский канал — в эту пору скованный льдом, летом же служивший открытой сточной канавой. В долгие жаркие дни зловоние впитывалось в зияющие трещины стен и растекалось по всему строению, смешиваясь с запахами кухни и проникая в саму жизнь постояльцев, въедаясь в сокровенную ее суть и заражая сны.
Внутри дом разделялся шаткими перегородками и лабиринтом коридоров, кое-как и кое-где подсвеченных масляными лампами. Двери по большей части были незаперты, а то и отсутствовали вовсе. Семьи ютились чуть ли не друг на друге. Многие комнаты дополнительно делились на углы: наиболее оборотистые сами брали к себе жильцов, и таким образом экономили на своем проживании. По одну сторону занавески мог раздаваться пьяный op и звуки побоев, по другую — шумное сопенье совокупляющихся. И везде, где-нибудь на заднем фоне, неброским лейтмотивом слышались тягостные вздохи и приглушенный плач, непреходящий, как тихий шум прибоя.
Порфирий Петрович все с той же связкой книг стоял на разветвлении скупо освещенного лабиринта коридоров. Сняв шапку, он вдохнул сырой и затхлый запах этого многоэтажного узилища. Тут и там коридор пронизывали поверху пунктиры бельевых веревок. С визгом сновали оборванные дети, не признавая невидимых границ, отмежевывающих одно жилье от другого. Где-то в дебрях, судя по всему, была в разгаре карточная игра: слышались смех и брань, хлесткое шлепанье карт и звяканье монет.
Пытаясь машинально определить, где бы это могло быть, Порфирий Петрович неожиданно увидел появившуюся на пересечении одного из коридоров девичью фигуру. Она шла быстро, слегка наклонив голову. Несмотря на скрывающий ее черты полумрак, ему показалось, что где-то он ее уже встречал.
Он окликнул. Девушка обернулась, но, увидев Порфирия Петровича, вдруг повернулась и заспешила прочь. Порфирий Петрович, притиснув к груди книги, тронулся следом, ускоряя шаг. В тот миг, когда девушка вскинула лицо, он ее узнал: та самая Лиля, которую приводили давеча в участок.
Впереди на некотором расстоянии скользила ее длинная юбка, то и дело скрываясь за очередным коридорным изгибом, а то и просто проходя через кое-как занавешенные комнаты. Таким образом, погоня представляла собой сплошное нарушение границ, не вызывая, однако, при этом особых нареканий со стороны обитателей — как будто нарушитель был невидимкой. Поставили его на место единственно тогда, когда он случайно вломился к тем самым картежникам, и то — заругались они лишь потому, что он потревожил их столбики из монет. Пока Порфирий Петрович извинялся, беглянки и след простыл. Заглянул за угол: никого, лишь духами чуть припахивает.
Порфирий Петрович возвратился к игрокам.
— Господа, простите великодушно, что невольно прерываю вашу игру. Я так, на минутку.
Стол огласился негодующим ревом. Причем из играющих глаза так никто и не поднял: все как один поглощены были картами. Кто-то лениво ругнулся в адрес Порфирия Петровича, вызвав за столом всплеск хрипловатого смеха, вполне беззлобного. Слово «игра» было здесь употреблено явно не к месту: оно не передавало всего накала страстей.
— Тут сейчас прошла одна юная особа, — повторил Порфирий Петрович. — Вы, часом, не заметили куда…
Бесполезно: всем сейчас было явно не до него — настолько, что в его адрес уже и реплик никто не отпускал. На столе стоял полупустой штоф; большинство сидящих курило трубки. И ничто, выходящее за пределы окутывающего стол табачного облака, их сейчас не занимало.
Порфирий Петрович, подтянув к себе скрипучий стул, сел поближе к играющим, стопку книг поставив на пол. Подождав, пока закончится очередной кон, он подал голос:
— А вот я ищу Пал Палыча Виргинского.
Сидящие переглянулись. Постепенно взгляды сошлись на одном из игроков, небритом хлыщеватом прощелыге с прилизанным пробором. Одет он был в донельзя заношенный, латаный-перелатаный фрак. Почесав грязными ногтями щеку, прощелыга цепко оглядел незваного гостя, что-то прикидывая.
— Ну а с господином Штосом ты знаком? — спросил он наконец.
— Штосом? Которым таким Штосом?
Стол грянул раскатистым смехом, кто-то даже восторженно грохнул кулаком по столешнице. Впрочем, взрыв веселья тут же утих. Все выжидающе уставились на заводилу во фраке.
— Штос, друг мой, не человек. Штос — игра!
— В таком случае не знаком, — сказал Порфирий Петрович. — Я в карты не особо.
— Да пустое, — отмахнулся заводила. — Штос — штука нехитрая. Она фартовых любит.
— Понятно. А как в нее играют?
— Да проще простого. Алешка, дай-ка гостю колоду! Какой-то юнец (маляр, судя по засохшим брызгам краски на посконной робе) подал Порфирию Петровичу колоду карт.
— Ну так вот. У тебя одна колода, — пояснил фрачник, — а у меня другая, вот эта. — Он выудил из кармана еще одну. — Для начала назначим ставки. Играем мы двое. Если ты выигрываешь, я говорю тебе, как найти этого твоего Виргинского.
— А если проиграю?
— А если проиграешь, шубу твою махнем на мой фрак! Судя по тревожному гудению, даже сами игроки сочли такой расклад не вполне справедливым.
— Нет, годится не вполне, — покачал головой Порфирий Петрович. — Лучше давайте так. Если я выигрываю, вы мне показываете, как пройти к Виргинскому. А коли проиграю, то посылаю за вторым штофом, и вы его разыграете уже меж собой.
Действительно, даже в случае проигрыша можно будет таким образом удержаться в компании. Кто-нибудь все равно от его щедрости разговорится и покажет, как и куда пройти. Предложение Порфирия Петровича было встречено так бурно, что заводила невольно вынужден был сдаться.
— Ну ладно, ладно. Всё, играем. Бери из своей колоды любую карту и клади вниз лицом на стол, так чтоб я не видел. Так, ладно. А вот теперь моя колода. Надо, чтобы ты ее мне подрезал. Знаешь, как это делается?
Порфирий Петрович молча кивнул и сделал так, как сказали.
— Благодарю, — бросил фрачник, сноровисто складывая половинки колоды по новой. — В штосе я вскрываю в своей колоде две верхние карты. Первая карта кладется справа, вторая слева. Эдак вот. — Он вскрыл червовую девятку, а после нее тройку пик. — Так. Если твоя карта совпадает по числу с моей первой — скажем, если это девятка любой масти, — ты проиграл. А если, наоборот, со второй, что слева, — ты выиграл. Если не совпадает ни с одной — сдаем еще пару и продолжаем играть, пока не составится партия. Ну что, идет?
— Идет.
— Тогда будь любезен, вскрой свою карту. Оказался трефовый валет.
— Мимо, — сказал фрачник. — Ничего, валяем дальше. Сыграли еще на раз, и еще: шестерка бубен, затем бубновая же десятка. Затем пиковый король — тоже безрезультатно.
Фрачник, угрюмо кивнув, сдал еще две карты — опять невпопад.
Игроки пристально смотрели друг другу то в глаза, то на руки, словно могли тем самым привлечь на свою сторону удачу. У Порфирия Петровича даже вспотели ладони. Между тем игра захватывала, безотчетно хотелось продолжения. При каждой сдаче сердце всякий раз замирало, вторя остроте момента. Тут уж и неважно, выиграешь или проиграешь — само ощущение чего стоит!
Рано или поздно момент истины все же наступил: Порфирию Петровичу выпала-таки семерка, червовая.
— Похоже, я… выиграл? — как бы не веря глазам, проговорил он. Радость выигрыша чуть омрачало то, что игра окончена (вот бы еще конок!).
— Что ж, твоя взяла, — нехотя протянул фрачник. — Значит, так: сейчас сворачиваешь налево, вон там, где чахоточная кашляет за занавеской. Сразу упрешься в переход, там начинается крыло дома. Виргинский как раз там внизу и обретается, в полуподвале у Кезеля, шкатулочника.
Вслед за спадом напряжения, вызванным концом игры, за столом воцарилось бесшабашное веселье. Остроты и колкости теперь приходились на долю фрачника, который для восстановления подмоченной репутации не замедлил послать за свежим штофом.
Из-за стола Порфирий Петрович вылезал с неохотой, едва ли не с разочарованием, несмотря на «выигрыш». Разбитная компания игроков тут же про него забыла. Оставалось лишь вернуться к выполнению служебных обязанностей.
* * *
«Кезель», — гласила выведенная на двери мелом надпись.
Самого Кезеля дома не было; открыла его жена — тихая запуганная женщина со следами побоев на лице. Она и подвела Порфирия Петровича к крохотной каморке, где за занавеской обитал студент Виргинский. Процентщик описал его вполне правдоподобно: нездоровая бледность, одежда истрепана. К тому же, судя по всему, недоедает — да так, что темные круги изнеможения вокруг остекленелых глаз. Студент трясся от озноба. Что странно, при появлении посетителя он не выказал никакого удивления, словно сам сидел и дожидался. А может, изнеможение достигло такой степени, что человек уже и эмоций особо не выказывает. Приподнявшись было при появлении нежданного гостя, Виргинский тут же снова упал на кровать. Кроме как на постель, сесть в каморке было некуда, потому Порфирий Петрович остался стоять. Против ожидания, в каморке веяло духами.
Оглядев вызывающую жалость худую фигуру на кровати, Порфирий Петрович невольно вспомнил прошлогоднее дело о совершенном студентами двойном убийстве. Так что жалость жалостью, а все же…
— Вы будете Павел Павлович Виргинский? — спросил он чуть более сухо, чем намеревался.
— Я.
— Позвольте представиться. Порфирий Петрович, из следственного управления. Направлен сюда Департаментом расследования уголовных дел.
Виргинский на это никак не отреагировал.
— Вам знакомы эти книги?
Тот, оглядев обвязанную бечевой стопку, вяло кивнул.
— Вам известно, кому они могут принадлежать? Виргинский снова кивнул.
— Как они к вам попали? — чуть приподнявшись, просипел он. Спросил, впрочем, без всякого любопытства. Даже глаза вслед за тем прикрыл.
— Я выкупил их у процентщика Лямхи, — пояснил Порфирий Петрович.
— Это невозможно, — проронил Виргинский, не открывая глаз.
— Почему же, Павел Павлович?
— Потому что закладной билет у меня.
— У вас!
Виргинский кивнул.
— Очень вас прошу, это крайне важно: вы не могли бы мне его показать?
Виргинский открыл наконец глаза. Секунду-другую его оживший было взгляд вселял надежду. Но, увы, вскоре он опять затуманился и потускнел.
— Павел Павлович, — со всей серьезностью спросил Порфирий Петрович, — вы когда в последний раз ели?
— Ел?
— Да, ели.
— А… А что, у вас еда какая-нибудь есть?
— Нет. Но я мог бы достать.
Виргинский лишь выдавил из себя хриплое подобие смеха. Так посмеиваются над каким-нибудь сумасбродом, сулящим тебе почем зря золотые горы.
— Мне надо только переговорить с хозяйкой.
— Она… Я ей… должен, за жилье.
— Ну так что ж. Ведь это вопрос элементарной человечности! Не даст же она вам умереть с голоду.
— Муж… Ее муж. — Виргинский лишь безнадежно махнул рукой.
— Понятно, — сказал Порфирий Петрович, ставя книги на краешек кровати. — Я сейчас все устрою.
Хозяйку он застал на кухне; женщина помешивала в котле щи. При виде вошедшего она испуганно отвела взгляд.
— Тот юноша, — начал Порфирий Петрович. — Как вы только можете: человек умирает от голода, даром что в доме полно еды!
— Мне муж запрещает.
— Но его нет дома!
— А ну как дознается.
— Каким же образом?
— Он всегда дознаётся. У Пал Палыча выпытывает, а тот по слабости и выдает подчистую.
— И сколько вам Пал Палыч должен?
— У мужа спросите.
— Если б Павел Павлович рассчитался с долгом, ваш муж не против, чтобы вы кормили вашего постояльца?
Женщина кивнула.
— Так вот. Я из следственного управления. Долги Павла Павловича я, таким образом, беру на себя. А теперь, бога ради, дайте ему хотя бы миску щей!
— Мне муж запретил даже нос к нему в комнату казать.
— Хорошо. Дайте миску мне, я сам отнесу.
— Значит, из управления, говорите?
— Да.
— И деньги, стало быть, уплотите?
— Уплачу.
Жена Кезеля, с обреченным видом вынув из шкафа миску, наполнила ее жидковатыми щами и подала вместе с ложкой и куском черствого хлеба.
— Вы только скажите ему, чтоб мужа не благодарил…
— Понимаю.
— Да и меня. Не надо нам ихних благодарностей. Порфирий Петрович отнес миску в каморку к Виргинскому. Студент лежал закрыв глаза, с посеревшим, осунувшимся лицом. Однако аппетитный запах мало-помалу начал его воскрешать. Дрогнули ноздри; облизнув губы, он сглотнул. Проступила улыбка; должно быть, студенту грезился сейчас царский пир. Наконец настал момент, когда до него дошло, что происходящее, вся его неимоверная прелесть — явь, а не сон. В открывшихся глазах мелькнуло пугливое изумление.
— Вы сесть можете? — поинтересовался Порфирий Петрович.
Виргинский на локтях придвинулся к стенке и сел, покорно позволив кормить себя с ложечки. Временами он чуть отворачивался от ложки, не успевая прожевывать очередной кусочек хлеба, смоченный щами. Наконец силы в бедолаге восстановились настолько, что последним кусочком он самолично вытер миску. Порфирий Петрович, за отсутствием мебели, поставил миску на пол. Виргинский с удовлетворенным, слегка мечтательным видом тоненько отрыгнул.
— Так кто вы? — задал он вопрос уже иным, подкрепленным пищей голосом.
— Я уже говорил: Порфирий Петрович, из следственного. Мы беседовали насчет ваших книг. — Он указал на перевязанную стопку.
— О! Мои книги! — радостно изумился Виргинский.
— Значит, ваши?
— Конечно ж мои. А как они у вас оказались?
— Я же вам говорил. Вы, наверное, запамятовали? Виргинский, помолчав, слегка нахмурился.
— Кажется, припоминаю. Но это… Нелепица какая-то получается!
Виргинский поднялся с кровати и, чуть покачнувшись, сделал шаг к противоположной стенке — каморка была такая крохотная, что из середины можно было без труда дотянуться куда угодно. Он поднял рулон отпавших обоев, под которым открылась изрядных размеров дыра. Увиденное почему-то вызвало у Виргинского удивление, причем неприятного свойства. Повернувшись с дрожащим от негодования лицом, он разразился смехом — упругим и нервическим, не то что недавнее его немощное перханье.
— Горянщиков. Вот с-сволочь! — процедил он.
— А кто это такой? — поинтересовался Порфирий Петрович.
— Горянщиков, Федор Дмитрич, — пояснил Виргинский. — Сын той прости-господи, что утащила мою закладную. Я ее здесь держал.
— Утащила, закладную? Интересно, зачем? Это ж то же самое, что украсть чей-нибудь долг.
— О-о, вы Горянщикова не знаете! Это еще тот хлыщ: на любую подлость готов! — Виргинский между тем изучал переплеты своих книг. — Ну слава богу, хоть эти все на месте, — заключил он, румянясь от неловкости за альманах с девицами. — Спасибо за возврат. Премного благодарен. Хоть выкупать теперь не надо.
— Прошу простить, но книги я вам вернуть не могу. По крайней мере, пока. Они — улика в текущем следствии.
— В котором таком следствии? — не понял Виргинский.
— Вы, кстати, не могли бы описать внешность того самого Горянщикова?
— Его-то? А он что, куда-нибудь вляпался? Вообще-то он человек неплохой, скажу я вам. Все эти закладные, книги — так, ребяческие выходки; я на него совсем не злюсь. Уж я его и так и эдак, а он все за свое. Уж такая, видно, натура. Шутник!
— И тем не менее настоятельно прошу описать мне вашего друга.
— Ну что ж, друг так друг. Я и несправедлив к нему бывал, но все равно мы с ним товарищи. Если речь идет о долгах, так я готов написать отцу. Для себя, сами понимаете, мне ничего не надо, но вот для Горянщикова…
— Вернее всего ему помочь — это описать поподробнее.
— Ну, темные волосы. Бородка клинышком. Глаза, кажется, темные, широко посажены. Нос, можно сказать, выдающийся. Да, и еще бородавка на запястье — по-моему, на левом.
— Это все?
— Ой, совсем забыл! — Виргинский смешливо прыснул. — Он к тому же карлик!
Было видно, что собственная шутка его развеселила.
— Павел Петрович. Прошу вас, сядьте. Похоже, у меня для вас дурные вести. Дело в том, что не так давно в Петровском парке было обнаружено тело как раз с такими приметами.
— Как понять, тело?
— Красноречивые факты приводят меня к очевидному выводу: это было именно тело вашего друга. К тому ж и ту закладную обнаружили как раз при нем.
Виргинский, осев на край кровати, закрыл лицо руками.
— Но… как? — простонал он сквозь пальцы.
— Убийство, я полагаю.
— Боже мой! Нет, не может быть!
— Сожалею, но это так.
— Я предупреждал его! Сколько раз остерегал!
— Остерегали? От чего?
— Ему всегда нравится… точнее, нравилось, — исправился Виргинский, — ну, подшучивать. — Он взялся тереть себе глаза, словно пытаясь прогнать сон. — Он был любитель поразыгрывать, иной раз натурально на грани провокации. Я знал, что это добром не кончится.
— Понятно. А враги у него были? Недоброжелатели?
— Что вы! — Виргинский даже руками всплеснул. — Откуда! Хотя меня он иной раз прямо-таки доводил. Да так, что вот взял бы да придушил.
— Нам нужен кто-нибудь, кто опознал бы…
— У меня на это достаточно сил! — перебил Виргинский.
— Заранее соболезную.
Взгляд студента остановился на стопке книг. Он с отсутствующим видом погладил верхнюю, бюхнеровскую «Силу и материю». А потом отдернул руку так, будто обжегся.
— Но не из-за них же его убили? Закладная при нем — это, видно, случайное совпадение, не так ли?
Порфирий Петрович многозначительно промолчал.
— С вашей хозяйкой я условился, что улажу ваши долги. Этой суммы достаточно?
Он силой вдавил студенту в ладонь полусотенную.
— За что мне от вас такая милость?
— Потому что, мне кажется, вы достойны лучшей будущности. А вот нищета и голод, боюсь, способны привести вас к опасному безрассудству, о котором потом пришлось бы сожалеть.
— Откуда вы так хорошо знаете мою натуру? Ведь мы с вами едва знакомы.
— Мне не раз уж доводилось встречать молодых людей вроде вас.
— Скажите откровенно: вы подозреваете, что это я убил Горянщикова?
— Оговорюсь сразу: подле вашего друга был обнаружен еще один труп. Может статься, вы поможете нам опознать и его. Если это кто-то из знакомых Горянщикова, то, может, он был знаком и вам.
— Вот так, прямо сейчас взять и пойти?
— Если вы чувствуете в себе силы. По опыту скажу: лучше перестрадать все это как можно скорее.
Виргинский, коротко кивнув, поднялся было, но его тут же шатнуло в сторону; пришлось подхватывать. Случайно сблизившись со студентом лицом, Порфирий Петрович уловил все тот же запах духов, обративший на себя внимание еще при входе в каморку.
— А… некая Лиля вам, случайно, известна? — спросил внезапно Порфирий Петрович.
— Лиля???
— Ведь она заходила сюда? Причем, можно сказать, совсем недавно. Вы ведь с ней близки? Как друзья?
— Д-да… А вы ее тоже знаете? — растерянно и вместе с тем с горечью переспросил Виргинский.
— Не сказать чтобы близко, но в некотором смысле да. Хотя не в том, что вы думаете. Ее недавно приводили к нам на дознание.
— Она хороший человек!
— Я в этом уверен, — серьезно кивнул Порфирий Петрович, перекладывая стопку книг из руки в руку, чтобы правой сподручней было поддерживать Виргинского. При этом студент в таком положении передвигался как бы с неохотой — не то из упрямства, не то из принципа.
Глава 8 В ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Унявшийся на время голод вновь дал о себе знать. Город, казалось, мечется вокруг в бессвязном танце. Сам снег покрывал все сущее будто саваном. Отныне так будет всегда. Голову слегка кружило. Должно быть, от голода. Хотя нет, не только от него. Что-то должно свершиться. И как, каким образом очутился он в этих тряских дрожках, рядом с этим престранного вида незнакомцем? Кругленький господин меж тем сосредоточенно закуривал папиросу.
— Порфирий Петрович, — расслышал Виргинский свой голос будто со стороны.
— Аюшки? — живо отозвался попутчик, пуская дым.
— Холодно, — зябко поежился студент.
Порфирий Петрович плотнее укутал его меховой полостью.
— Ничего, скоро уж подъедем.
— Куда?
— К Обуховской больнице. Вы что, запамятовали?
— Я, наверно, болен?
— Вполне может быть. Доктор вас там осмотрит. Но мы не за тем едем.
Виргинский, превозмогая озноб, пытался соображать.
— А зачем? — спросил он наконец.
— Едем-то? Затем, чтоб вы нам помогли. Долг свой выполнили гражданский. Не совсем приятный, боюсь, но…
Ах вот оно откуда, это ощущение, что что-то должно свершиться.
— Город никогда уж не будет для меня прежним, — произнес Виргинский вполголоса под визг полозьев. Дрожки между тем скользили через Фонтанку по переправе, помеченной с боков рядами вбитых в лед березовых колов. В отдалении на реке рабочие загружали ледяными глыбами сани.
Порфирий Петрович сидел молча.
— Вы из полиции? — тупо переспросил Виргинский.
— Следователь. Из управления.
— А он в самом деле мертв?
— Судя по всему.
Дрожки замедлили ход у заснеженного бюста Екатерины Великой, что на въезде в основанную ею больницу. Императрица словно их дожидалась.
— Порфирий Петрович?
— Угу?
— Я мерзну.
* * *
Все так же со стопкой книг в руке, Порфирий Петрович повел студента по людному коридору общественной больницы. Одни посетители стояли прислонясь вдоль стен, другие — кто не мог держаться — лежали прямо на полу. Некоторые безудержно слонялись из угла в угол. Одеты были по большей части в рванину: больница для бедняков.
Следователя и его подопечного провожали взгляды — отчасти враждебные, отчасти исполненные зависти или смутной надежды.
У Виргинского — видимо, из-за болезни — обострилась чувствительность. От кашля саднило грудь. Даже идущий от тела запах, казалось, борется с наседающими на него чужими запахами. Голову эйфорически кружило.
— Похоже на магнит. Огромный притягивающий магнит из камня, — пробормотал он в минуту прояснения.
Порфирий Петрович вопросительно покосился.
— Это здание, — пояснил Виргинский, — оно подобно магниту, притягивающему отчаяние сих несчастных. А уж отчаяния-то, видит Бог, здесь с избытком.
— Вы говорите так, будто сами не из их числа.
— Вовсе нет. Меня сюда точно так же привлекло. Все тем же отчаянием.
— У вас причина несколько иная. Скорее участие.
— А оно подразумевает меньше страдания?
— Может, и меньше. Может, в ваших силах покончить со страданием сразу, как вы только сами пожелаете.
— Это не в моих силах.
— Вот вы говорили о своем отце…
— Я не помню. Видно, всему виной болезнь. Говорить об отце — это на меня не похоже.
— У него имение?
— Мне-то что с того? Лично мне он и копейки не даст. — Они миновали согбенного старика, заходящегося у стены надрывным кашлем. — Да и с чего он должен мне помогать?
— Но ведь он ваш отец. А как же кровные узы?
— Есть, знаете ль, узы посильнее кровных.
— Это какие же?
— А любовь?
— А-а… Вы, наверное, про Лилю? — спросил Порфирий Петрович осторожно.
— Нет! — вскинул голову Виргинский. — То есть не только о ней. Хотя не знаю. Да у нее к тому ж ребенок…
— Я не знал.
— Что ж.
— А вы будете… отец?
— Нет, конечно. У нас… Между нами никогда такого не было.
— А кто ж тогда отец? Уж извините за прямоту.
— Не знаю. Она никогда не говорила. Я вижу, вам это небезынтересно. С чего бы?
— С вашей Лилей связана одна загадка. Некто Константин Кириллович — фамилия неизвестна — обвинил ее в краже сторублевой ассигнации. Она же утверждает, что он ей ее дал. Лилю у нас допрашивали, но ввиду того, что обвинитель по дороге исчез, отпустили.
— Она ни за что не пошла бы на кражу!
— Охотно верю. Она даже от денег тех отказалась, когда их ей предложили забрать. Вы никогда от Лили не слышали что-нибудь о том Константине Кирилловиче?
— Нет.
— Мне бы очень хотелось снова с ней увидеться. — Виргинский в ответ промолчал. — Я бы, пожалуй, еще разок к ней наведался. Как там называется ее заведение? Что-то на немецкий манер. Не то Келлер, не то Кельнер. Помнится, значилось у нее в билете.
— Келлер. Там хозяйкой немка.
— Вы там с Лилей познакомились?
Виргинский поморщился, как от боли. Даже остановился.
— Как-то раз я оказался в компании друзей. Вернее, не друзей, а так, знакомых. Бывших товарищей по гимназии. Ну, устроили ужин. Точнее, кутеж, попойку. И меня потащили с собой в заведение. Там я ее и повстречал. Что-то в ней меня очень тронуло. Такая юная… Я даже не в силах был остаться. Просто выложил деньги и ушел. А потом… как-то раз, случайно, встретил ее на улице. Может показаться странным, но… мы подружились.
— Заведение это, оно на Садовой?
— Под салоном модистки. Такое нередко бывает.
— А больше вы ничего не припомните?
Виргинский покачал головой, и дальше они шли молча, пока не остановились перед закрытой дверью с табличкой «ПАТОЛОГИЯ».
* * *
Всюду здесь царил запах формальдегида. Помещение было просторным, с похожими на верстаки длинными столами по периметру. Вопреки ожиданию, никаких трупов или разбросанных внутренностей здесь не было. А если и были, то, наверно, где-нибудь в потайном месте. Матово поблескивали надраенные поверхности и многочисленные инструменты. В изобилии громоздились всяческие флаконы и бутыли, а также эмалированные тазы и пробирки на стеллажах. Тут и там виднелись микроскопы, за которыми работали люди в белых халатах. Вот один из них — не старый, с растрепанной шевелюрой — отвлекшись при виде вошедших, поднялся и бойкой походкой пошел им навстречу.
— Порфирий Петрович, дорогой вы наш! — поприветствовал он на ходу, сердечно потрясая следователю руку.
— Бог в помощь нашему атеисту Первоедову! — в тон ему отозвался Порфирий Петрович.
— Ну что ж, правы вы были, Порфирий Петрович. Вне всякого сомнения, правы! — с волнением сказал доктор.
— Отчет успели подготовить?
— Какое там! Вы коридоры наши видели? Больной на больном, инфлюэнца народ так и косит. Тут уж не до отчетов.
— Понятно, лично мне. А вот нашему начальству…
— Прокурору свой отчет предоставлю непременно, в должный срок. А вот что я обнаружил, не желаете ль узнать?
— Разумеется, предварительные выводы меня очень даже интересуют. Только тут у нас дело оказалось понеотложнее. Вот этот господин, — доктор мельком поклонился Виргинскому, — возможно, поможет нам опознать жертвы.
Доктор Первоедов помрачнел.
— Тэк-с, понятно. То, что вы увидите, — обратился он к Виргинскому напрямую, — требует от вас некоторой подготовки.
— Я вполне готов, — сказал студент решительно.
Следующий вопрос медика был адресован Порфирию Петровичу:
— Вы предупредили, что именно мы ему покажем?
— Все необходимое я изложил, — дрогнув ресницами, ответил следователь.
Доктор глянул Виргинскому прямо в глаза.
— Надо будет вас усадить. Так оно лучше. — Он подтянул табурет. — А то, знаете, лаборатория наша — место не из комфортных.
Порфирий Петрович отвел Первоедова в сторонку.
— Вы как считаете, он сейчас в кондиции!
— Да какая уж теперь разница, скажи я хоть «да», хоть «нет»?
— А в том разница, что я в зависимости от ваших слов отложу опознание.
— Ну ладно. Дайте минутку поразмыслить.
Первоедов подошел к ссутуленному на табурете Виргинскому. Проведя ладонью у студента перед лицом, он велел ему открыть рот и деревянной лопаточкой поочередно отвел Виргинскому губы, осмотрев при этом зубы и десны.
— Тэк-с. Расставьте-ка теперь руки, вот так. — Виргинский, помедлив, повиновался. — Согните правую в локте, — велел доктор, после чего пощупал студенту трицепс. Виргинский болезненно поморщился. — Что, побаливает? — живо переспросил Первоедов. Виргинский в ответ прикрыл глаза. — Я имею в виду, в суставах ощущаете боль?
— Не знаю. Наверно, да. Я внимания не обратил. Не особо. Иногда. А что? — Виргинский, открыв глаза, посмотрел дерзко, с вызовом.
— А теперь снова выпрямите руку. Держите перед собой. А теперь наддайте снизу, как следует, ладонью в ладонь. Вот так. — Виргинский подчинился, но получилось, судя по всему, не слишком ловко. — Можете расслабиться, — сказал Первоедов, взглянув меж тем на Порфирия Петровича критично и вместе с тем озабоченно.
— Ну и? — спросил следователь вполголоса.
— Налицо признаки недоедания. Реакция замедлена, боль в суставах. Атрофичность мышц, слабость. Я совершенно без усилий удерживаю его руку. Ну и разумеется, головокружение. Видите, его натурально шатает. А уж зубы, десны. — Доктор лишь удрученно махнул рукой. — Впрочем, подобное я наблюдаю едва не каждый день.
— Он недавно ел. Я лично проследил.
— Лишь на то и надежда.
— Павел Павлович, — обратился Порфирий Петрович. — Вы как сами чувствуете, мы можем приступать?
— А какой у нас иной выход?
— Ну, можно пока отложить. До следующего раза.
— Что раньше, что позже, все едино, — обреченно вздохнул Виргинский. — Четкого ответа не прозвучало; Порфирий Петрович выжидательно посмотрел на юношу. — Так что уж давайте не будем тянуть, — закончил тот.
— Ладно, тогда приступаем, — решительно кивнул доктор. Пройдя в другой конец помещения, он возвратился, толкая перед собой тележку с двумя большими колбами. По мере приближения Виргинский сквозь мутноватую темно-янтарную жидкость различил в ближней колбе раскрытые глаза.
Первым смутным желанием было тут же отречься от любой, даже самой мимолетной связи с этим предметом — да что там, со всем происходящим! Ведь в самом деле, не может же этот предмет быть головой, человеческой головой! Между тем взгляду открылся безвольно, как в греческих масках, отверстый рот, прядки волос и борода. Но помимо волос и бороды там было еще что-то — какие-то длинные толстые не то волокна, не то нити. А что это там, над глазами? Словно еще один грубой формы зев, расположенный на лбу вертикально. Сквозь него виднелась какая-то блеклая, бесцветная масса.
— Вы его узнаете? — осведомился Порфирий Петрович. — Виргинский немо кивнул. — Это ваш друг Горянщиков?
Виргинский не мог отвести взгляда от зияющей раны в этой отделенной от туловища голове. Он смотрел как завороженный, словно даже боясь, что его сейчас лишат этого зрелища. Было в этом что-то непристойное, но это-то и влекло, не давая отвести глаз.
— Э-это был он, — вытеснил он наконец.
— Очень сожалею, — сказал Порфирий Петрович. Он кивнул Первоедову, не замедлившему повернуть тележку так, что перед Виргинским предстала вторая колба. — А этого человека вы узнаете?
На Виргинского вдруг нашло странное спокойствие — такое, что самому впору изумиться; нечто на грани отупелой черствости.
— Это не человек, а лишь голова от него.
— Тем не менее, вы его узнаете?
— Да Тиша это.
— Что еще за Тиша?
— Хм, даже странно. Если приглядеться, у Горянщикова голова заполняет колбу куда плотнее. У него действительно череп был крупноват. Я-то считал, что это так кажется из-за маленького росточка. А у Тихона-то голова в сравнении куда меньше.
— Очень вас прошу, нам бы хотелось побольше узнать об этом Тихоне.
— Умом он особым не отличался, так что удивляться такому концу не приходится, — Виргинский скрипуче хихикнул. — Горянщикова же, напротив, хлебом не корми, дай лишь вволю пофилософствовать. Вот оно, видно, на уме и сказалось, эвон как голову разнесло. Как оно там в медицине именуется — гипертрофированность?
— У него горячка, — вслух определил Первоедов.
— Вовсе нет, доктор, — перебил Виргинский. — У меня, наоборот, еще никогда не было такой ясности рассудка. Поначалу я боялся, что меня при виде всего этого попросту стошнит. А оказывается, на тошноту и намека нет. И на аппетите это зрелище, полагаю, вряд ли бы сказалось. Так что мне теперь, волосы на себе рвать? Горянщиков был мне товарищем, я любил его как друга, но уживаться с ним было не просто. Что же касается Тихона, то, кроме обаятельности, он, пожалуй, иных чувств и не внушал.
— Он располагал к себе? — уточнил Порфирий Петрович.
— Так что благодарю за оказанную привилегию. Лицезреть подобное, оно ведь отнюдь не каждому дано.
— Эти двое были меж собой знакомы?
— И грусти я никакой не чувствую. Странно, правда? Хоть бы самую малость. Ощущаю лишь… можно сказать, едва ли не счастье. Нет, не счастье. Счастья не бывает. Есть радость. Да, пожалуй, именно она. Что это значит? Что у меня, быть может, нет души? Что я и не человек вовсе?
— А отчего, вы считаете, у вас радость?
— Оттого, наверно, что это не моя голова торчит в колбе, как какой-нибудь кочан. — Виргинского начинала бить крупная дрожь, по лицу теперь безудержно текли слезы. — Я плачу по себе, а не по ним, — жестко сказал он. — Плачу, потому что лишен души. Потому что я изувер и нелюдь: смотрю на отрубленные головы своих друзей, а сам между тем жив, и по-прежнему дышу, и сердце мое радуется оттого, что бьется. Потому что я выродок такого же выродка-отца, замыкающий эту длинную цепь презренных трусов, и что бы я ни делал, все тщетно и ничего не переменится. А я все так же буду есть и спать, а потом сяду за письмо к своему ненавистному отцу, а там, глядишь, еще и женюсь. И вид этих кочанов в формалине тоже ничего не изменит. Потому что я жалок, ничтожен. Во мне нет величия духа. И даже признание в собственном ничтожестве меня не поднимает; скорее наоборот, опускает еще больше.
— Ну уж, зачем вы так…
— Да что вы в этом смыслите! — почти прорыдал Виргинский.
— Смыслю достаточно, чтобы различить человека глубоко потрясенного. Вы согласитесь со мной, доктор?
Первоедов знающе кивнул.
— Так что как видите, это я убил их.
— Это что, исповедь самообличителя?
— Я же прекрасно понимаю, как вы работаете. Уже сам факт, что я знал их обоих, превращает меня в подозреваемого.
— Вы больны. Я сейчас распоряжусь, вас отвезут домой. Виргинский кое-как поднялся с табурета и шагнул было к двери, но, шатнувшись, вынужден был для опоры ухватиться за тележку.
— Я сам доберусь. Не желаю ничьей помощи. — От нечаянного толчка головы в колбах укоризненно покачнулись, потом снова застыли. — Благодарю за то, что показали мне это… этих… Что явили мне самого себя.
— Вот именно сейчас вы меня отчаянно ненавидите. А вам бы лучше ненавидеть тех, кто убил ваших друзей.
— А вы, я вижу, неплохой знаток людей.
— Так кто же такой Тиша?
— Кем бы ни был, его больше нет.
— Очень вас прошу, присядьте. Вам просто нельзя идти в таком виде.
— Вы меня арестовываете?
— Я вас прошу о помощи.
— Вот как!
— Итак, Тиша… точнее, Тихон?
— Был дворником в доме Горянщикова. Теперь я могу идти?
— А адрес? Дома, где жил Горянщиков.
— Откуда я упомню такие детали? Да и какая теперь разница, после всего этого?
— Разница колоссальная, и важность тоже. Это может нам помочь разыскать истинных убийц.
— Он проживал у Анны Александровны и ее дочери. В доме по Большой Морской.
— А номер того дома?
— Ах да. Номер определенно был. — В явно изменившемся настроении, Виргинский сосредоточенно потирал переносицу. — Номер безусловно был.
— Вы были вхожи в тот дом?
Виргинский с безутешным видом разглядывал свои ноги.
— Н-да. Сапоги бы мне новые…
— Определенно, — согласился Порфирий Петрович, посмотрев в ту же сторону.
— Семь. Такой, кажется, номер. Я вроде как вспомнил. Там точно есть семерка. Да, семь. Или семьдесят семь, или семьдесят. А то и семьсот семьдесят семь. — Виргинский сипло рассмеялся. — Нет. Точно семь: семерка там одна, я помню. Во всяком случае, на номерном знаке.
— Благодарю вас.
— Теперь напишете моему родителю, доложите, что я славный верноподданный?
— Вы мне это рекомендуете?
— Не особо.
— Вам домой надо.
— А сапоги?
— Насчет этого не беспокойтесь.
— А ведь он был мне другом, Горянщиков. А Тихон… Вот уж блаженная душа. Ох, а как они меж собой, бывало, схватывались… Странно, что все это так закончилось, — флегматично, вполголоса сказал Виргинский и начал боком заваливаться с табурета.
* * *
Доктор и следователь, участливо склонившись, приводили студента в чувство.
— Как вы себя чувствуете? — спрашивал Первоедов.
— Ох, Павел Павлович, и напугали ж вы нас, — качал головой Порфирий Петрович.
Виргинский пытался было самостоятельно подняться.
— А ну, а ну! — силой усадил его доктор. — И не вздумайте! Сидите тихо.
— Со мной все в порядке, — слабо оправдывался Виргинский. — Это я от потрясения.
— Разумеется, — увещевал Порфирий Петрович. — Реакция совершенно предсказуемая.
— Я не ожидал… — Голос у Виргинского сорвался, лицо посерело. С неожиданной силой встав, он с ненавистью посмотрел на следователя. — Вы не предупредили меня. Что это будут головы, просто головы. В колбах. Их что, в таком виде и нашли?
— Нет. Головы отделил и сохранил патологоанатом. Просим прощения, если это вас так потрясло.
— Это было жестоко! Зачем вы так поступили? Это что, обычные ваши уловки?
— Искренне сожалею, — ответил Порфирий Петрович. — Но нам действительно приходится иметь с этим дело. Это наша, так сказать, каждодневная рутина. Возможно, мы действительно невольно черствеем и забываем, как это может воздействовать на посторонних.
— Ничего вы не забываете, господа хорошие! Я чувствовал, что вы пытаетесь сделать. Вы пытались, вызвав у меня потрясение, побольше выпытать для своего дознания!
— Вы говорите так, будто я вас в чем-то подозреваю. А между тем вполне отдаете себе отчет, что подозревать вас в чем-либо у меня нет причин.
— Ну и как, сработало? Эта ваша гнусная уловка? Вызнали-таки свое?
— Что ж, буду с вами предельно откровенен. Вы образованный молодой человек, Павел Павлович, и вполне мне симпатичны. Я надеялся как-то сломить барьеры, которые вы в себе могли воздвигнуть против того, чтобы работать со следствием. Не потому, что я вас подозреваю, а в силу того, что вы видите во мне представителя власти — сатрапа, так сказать — и уже в силу этого пытаетесь мне внутренне противодействовать. Примерно так же, как, возможно, противостоите своему отцу. Может статься, вы, даже не отдавая себе в том отчета, знаете что-то крайне важное для раскрытия данного преступления, но сами не ведаете, что невольно скрываете это от меня. Эдакий безрассудный принцип поступать назло. А я надеялся, что пусть жесткое, но необходимое открытие…
— Это не жестко, это жестоко!
Порфирий Петрович в ответ на нападку промолчал. Виргинский же с видом обличителя воскликнул:
— Может, я и сам мог рассказать вам о том треклятом доме!
— Возможно, вы бы так и поступили. Если вдуматься. Тем не менее, объясняться с вами не считаю необходимым. — Порфирий Петрович чуть сузил глаза. — Знаете, кого вы мне напоминаете? Типичного скубента. Сицилиста, как их называют в народе. Кичащегося своей бедностью. И до высокомерия гордого. Возможно, даже чересчур.
— А что, у бедного студента не может быть причин для гордости? Вы так считаете?
— Гордыня — небезопасная вещь, скажу я вам.
— Вот здесь вы заблуждаетесь. Гордыни во мне нет.
— Зато есть ее, в некотором роде, аналоги. Эдакая дерзкая напряженность в манерах. С долей непредсказуемости; я бы сказал, даже дикарства.
— Я могу идти?
— Разумеется, можете. Я к вам завтра загляну.
— К чему? Мы уже досконально объяснились. Хотя понимаю, у вас на то свои соображения.
Виргинский, сухо кивнув Первоедову, с неожиданной твердостью пошел к двери и, не прощаясь, вышел.
Чувствуя во взгляде доктора немой укор, Порфирий Петрович чуть язвительно спросил:
— Ну-с, наше светило, и что вы там обнаружили насчет причин смерти? Вы, помнится, горели желанием поделиться.
Доктор, на какое-то время, видно, утратив связь улик с происходящим, слегка растерялся. Не дождавшись ответа, следователь взглянул на коллегу, причем на этот раз, против обыкновения, не сморгнув. — Вы же что-то хотели сообщить?
— Ах да, конечно! Сейчас скажу. Но прежде всего, при всем к вам уважении, замечу: подобные методы не вызывают у меня особой симпатии.
— Не удивлюсь. Вы врачеватель, потомок Гиппократа, а я следователь по уголовным делам. И цели у нас, получается, ох какие разные. Но спрошу вас именно как врачевателя: вам было б больше по душе, примени я наши всегдашние приемы выбивания сведений?
— Заменять одну форму жестокости другой — не есть прогресс.
— Да, мне б вашу роскошь досужего самокопания. А вот когда расследуешь изуверские убийства…
— Вы думаете, он и есть убийца?
Вместо ответа Порфирий Петрович, трепетнув ресницами, с лукавой улыбкой закурил папиросу.
— Ну так, уважаемый наш Гиппократ, на что вы там такое набрели?
— Ах да, конечно. Куда уж нам, врачевателям, против вас, стражей закона, — с деланной покорностью доктор выдвинул ящик похожего на верстак стола и достал оттуда папку. — Н-да, кое-что интересное удалось-таки отыскать.
Порфирий Петрович посмотрел с живым интересом.
— Ну что, начнем с того, что покрупнее, — предложил Первоедов, перебирая листки.
— С Тихона?
— С него самого. Помните, я обратил ваше внимание, что на шее нет следов кровоподтека? Это безусловно показалось мне подозрительным. Так вот, осмотрев легкие, я обратил внимание, что, несмотря на в целом здоровый вид, плевра, однако, воспалена. А затем, проверив содержимое желудка…
— Вы обнаружили..? — нетерпеливо подсказал следователь.
— Водку. Причем столько, что уж и не знаю, как бедняга на тот момент мог стоять на ногах. Она и скрыла запах…
— Запах чего?
— Синильной кислоты.
— Вот как?
— Именно так. Проба на синильную кислоту оказалась положительной. Симпатичный такой синеватый цвет, индиго.
— Получается, он оказался отравлен.
— Выходит, так.
— Ну и как это могло, по-вашему, произойти?
— Думается, через водку. Порфирий Петрович призадумался.
— Фляжка у него была полная.
— Совершенно верно. Та водка, что в желудке, была ему налита неизвестным. Или неизвестными.
— Которые затем вздернули его на березу, чтоб смотрелось как самоубийство. Уж не оттого ли тот рубец вокруг живота?
— Очень может быть, Порфирий Петрович. Очень даже.
— Ай да молодчина, доктор. А Горянщиков что?
— Есть вполне обоснованная уверенность, что рана на голове нанесена уже после гибели.
— Я тоже так подумал: крови на лице почти не было. Какова же причина смерти? Тоже яд?
— Следов известных ядов я не обнаружил. Тем не менее, отделы легочной паренхимы демонстрируют чрезмерное вздутие протоков, характерное для удушья. Да, и вот еще что любопытное я извлек у него из гортани.
И доктор вынул из папки пакетик, в котором оказалось мелкое перышко.
Порфирий Петрович подошел к месту, где стояла тележка, и пристально вгляделся в колбу, где находилась голова Горянщикова со скорбно отверстым ртом и зияющей раной-зевом во лбу.
— Подушкой, значит, удавили, — произнес следователь.
Глава 9 ПОД САЛОНОМ МОДИСТКИ
Виргинский уныло брел по снеговой каше вдоль Фонтанки, на северо-восточную оконечность города. По ту сторону скованной льдом реки раскинулся Апраксин двор. Льдистый холод проникал снизу и поднимался через ноги вверх, пробирая все тело.
А между тем конец всему этому можно положить так легко. Черкнуть короткое письмо отцу, больше ничего и не надо. Знай старик, в какой отчаянной нужде обретается сын, он бы не преминул выслать денег. А что, сесть и написать. Причем, не унижаясь мольбами о прощении или, паче чаяния, покаянно уповая на чужую милость. Просто намекнуть на обстоятельства — лишь это одно и требуется.
Отец, пишет Вам Ваш сын. Я крайне стеснен в средствах. У меня их нет ни на пропитание, ни на кров, ни даже на новые сапоги.
Остаюсь Ваш, Павел.
Всего-то и делов. Ну может, добавить что-нибудь, вроде как из великодушия:
Об остальном договорим как-нибудь в другой раз.
Да, вот так: звучит вроде как с намеком на примирение. Подбросить старику малость надежды; самую малость, без каких-то там уступок или попятных.
Хотя что скрывать: за письмо он не возьмется никогда.
Может, и прав был дознаватель. Может, и в самом деле гордыня. Как часто он, Виргинский, ощущал болезненную униженность, особенно в подобных обстоятельствах. Видно, одно шло рука об руку с другим: обостренная чувствительность униженного вкупе с дерзостным, на грани высокомерия ощущением уязвленного достоинства. Если б хоть как-то от них отрешиться, сбросить их вериги. Единственным путем к тому могла бы стать независимость в средствах, но никаким письмом к отцу ее не достичь. Чтобы как-то, в чем-то быть должным отцу, да еще после того, что случилось между ними, — сама мысль о том была несносна. Если уж не независимость в средствах, так хотя бы воля духа, а если и не она, то хоть свобода в собственных поступках. Но и здесь никто был не в силах чем-либо помочь или хотя бы посоветовать.
А можно б написать и по-другому. Допустим: Вы мне более не отец, и я Вам не сын! Я так бедствую, что у меня нет средств даже на новые сапоги, не говоря уже о пропитании или крове. И, тем не менее, мне ничего от Вас не надобно. Если Вы и сочтете нужным выслать мне денег, то это будет сугубо на Ваше усмотрение. Сам я ничего от Вас не прошу, и не ожидаю. Я не считаю и не буду считать себя Вашим должником. Если же Вы решите не слать мне денег, то так оно даже лучше. Вас не будет более в моих мыслях, и я прошу и Вас оставить все мысли обо мне. Более не Ваш…
Человеческая сущность, некогда известная под именем Павла Павловича Виргинского, не признающая более родства с кем бы то ни было под такой же фамилией (т. е. с Вами).
О, как ненавистно ему было свое имя.
Разумеется, существовал и еще один способ покончить со всем этим. Он то и дело приходил Виргинскому на ум. Просто бездумно улечься в снег и дождаться, пока холод и голод не свершат свое дело. Конец наступит достаточно быстро, без особых мучений.
Томительно-сладкая, исполненная жалости к себе картина полонила ум; тем не менее, Виргинский брел, не спеша воплощать ее в действие. Чувствовалось, что с каждым шагом все дальше становятся и те чертовы головы в колбах, и тот дознаватель, а заодно и все, что его с ними связывало.
Внезапно Виргинский проникся мрачной решимостью, что вся эта пошлая, вздорная круговерть лиц и событий длится уже никчемно долго. Пора бы ее и в самом деле прервать, и, скорее всего, выбор падет именно на второй из замысленных им способов. Оставалось совсем немногое — то, ради чего Виргинский убыстрил вдруг шаг и через Фонтанку по Семеновскому мосту двинулся в направлении Гороховой.
* * *
Когда он добрался до Садовой, уже стемнело.
Виргинский шел, разгребая ступнями мерзлую кашу и избегая глядеть на лица прохожих. Ноги сейчас двигались, казалось, совершенно обособленно от тела. Не чувствовалось ни холода, ни голода, ни изнурительной усталости; все поглотила жажда конечной цели.
Ему нужно было увидеться с Лилей.
Однако отыскать салон модистки оказалось не так-то просто. Он-то надеялся, что его выведет туда напрямую некая мистическая сила. Куда там! В тот раз — тогда, давно — стояла такая же темень, к тому же сам он был во хмелю; ни дать ни взять игрец в жмурки с повязкой на глазах. А уходя, наоборот, спешил, и вскоре заплутал в дебрях этого города, который никогда не считал своим.
Впереди что-то смутно обозначилось. Непроизвольно вскинув взгляд, Виргинский различил темный расплывчатый силуэт и пятно зыбкого оранжевого света, постепенно отплывшее в сторону, где и исчахло. Оказалось, фонарщик, запаливающий фитиль рожка. Все так же избегая глядеть прямо, Виргинский ощутил в себе знакомый взмыв унизительного страха вперемешку с обидой. Между тем фонарщик как ни в чем не бывало обогнул его, сутулого субъекта, и удалился, унося с собой в темноту лучик света. Преображение, привнесенное тем тлеющим фитильком, было столь мгновенным и полным, что впору диву даться. Виргинский ощутил себя словно входящим в некий призрачный, иллюзорный мир; мановение, противясь которому, он инстинктивно встряхнулся. Виргинский жаждал увидеться с Лилей; единственное желание, что упорно влекло его сейчас, заставляя месить и топтать хрусткие льдистые кристаллы под ногами.
От Лили он знал, что заведение мадам Келлер находится на Садовой, но где точно, она никогда не говорила. Ей мучительно не хотелось даже заговаривать о том месте — настолько, что она умоляла его даже не упоминать о нем.
Помнится, в лавку модистки вел еще боковой вход из пристройки, которая одновременно служила и входом в заведение; в подвал надо было спускаться по железной лестнице. Но ни одна лавка вокруг не напоминала своим видом ту самую.
Впереди на расстоянии послышались голоса — группа молодых офицеров, явно подшофе: вон как зубоскалят. Обманчивый свет тускло играл на пуговицах шинелей, кокардах и погонах. Судя по куражливым голосам и шуточкам, аппетиты у них сейчас примерно те же, что тогда завели к мадам Келлер и их собственную разбитную компанию. А может, они как раз сейчас туда и направляются? Надо бы держаться за ними. Виргинский так и поступил: чуть помедлив, пошел следом.
Передвигались они не спеша, по пути то и дело останавливаясь, но Виргинский приноровился и соблюдал примерно одинаковую дистанцию. При этом он старался держаться в затенении, подальше от света фонарей. «Все равно обнаружат, непременно обнаружат», — опасливо трепетало внутри. Виргинский попытался представить, что ему придется лепетать в свое оправдание, очутись он и впрямь в кольце этих спесивых, да к тому ж еще и нетрезвых благородий. Но ничего внятного на ум не приходило. «Измордуют», — напрашивался единственный обреченный вывод. Оставалось одно: сносить побои. Куда ему против них. Лучше уж не сопротивляться; зажаться посильнее и терпеть их лютые, железные кулаки — дескать, поделом мне, господа! И тут, ни с того ни с сего, Виргинского начал вдруг разбирать дьявольский соблазн: к чему вот так прятаться, как презренному филеру. Не лучше ли крикнуть этим барским отродьям что-нибудь обидное, оскорбительное. А вдруг они в темноте и не разглядят, кто он, этот таинственный смельчак? Момент соблазна был поистине ослепителен. Дать волю убийственному безрассудству помешало лишь то, что один из офицеров вдруг, картинно пав на колени, разразился романтичным «В крови горит огонь желанья», и вполне приличным тенором:
В крови горит огонь желанья-а-а, Душа тобой уязвлена-а, Лобзай меня: твои лобзанья Мне слаще мирра и вина…От такой неожиданности Виргинский оторопело застыл, при этом как будто опомнившись. Подумать только, он сейчас был на грани того, чтобы все погубить своей пагубной взбалмошностью! За офицерами он пошел из соображения, что они, может статься, выведут его к Лиле. Мысль о том, что у нее с этими молодыми повесами может быть какая-то связь, обожгла черной ревностью, придав вместе с тем твердости: начатое нужно довершить до конца. Ему нужно найти Лилю, именно сейчас. Задать ей все те накипевшие, не дающие покоя вопросы.
Он и прежде хотел ее расспросить, да не решался. «Сколько их у тебя было? Сколько раз?» И другие вопросы, даже не оформленные в слова. Но Лилино мучительное умалчивание неизменно действовало на него обезоруживающе. Однако, говоря начистоту, в нежности Виргинского тлела скрытая ярость, направленная в общем-то и на нее, Лилю. А повеса в погонах все не унимался:
Склонись ко мне главою не-ежной, И да почию, безмятежный, Пока дохнет весенний день И двинется ночная тень…Эти выродки, это пьяное хамоватое офицерье, с их похотливостью и сентиментальным лицемерием — и это с ними, с ними! — Лиля была. «Была» — боже, какой пошлый, гадкий эвфемизм, скрывающий ужасающий смысл! Может, нынче же, этим вот вечером, эти благородия будут в числе ее клиентов. Виргинскому представилась Лиля в окружении этих распутных барчуков, ухоженными пальцами похотливо лапающих ее тело. А она, она — разрумяненная, чуть навеселе, прельщает их бойкими игривыми взглядами, — где детская невинность перемежается с показной развращенностью… Тот детски невинный взгляд Лили — его Лили — он видел лишь однажды, когда впервые уединился с ней в заведении мадам Келлер. Но он не сомневался и в существовании той, другой Лили, с совсем иными глазами, полными распутства. И ее он ненавидел точно так же, как и этих хозяев жизни.
Певца между тем подняли с колен и с криками «браво» потащили дальше. Всю эту компанию неудержимо влекло к осязаемо близкой цели. Виргинский по-прежнему следовал по пятам и тогда, когда офицеры свернули на проспект, где тенор огласил морозный воздух по новой:
Но кто ее огонь священный Мог погасить, мог погасить, Тому уж жизни незабвенной Не возвратить, не возвратить…Виргинского эти слова почему-то неизъяснимо тронули. Действительно, жизнь уходит в забвение, и ее не возвратить. Стоит поменяться местами, и возникает ощущение, что этот гаер видит изнутри его душу, озвучивает его мысли.
Довольно скоро они опять остановились. Что-то новое в их смехе, напряженном волнении вывело Виргинского из задумчивости. Отблескивая кокардами в тускловатом свете витрины, офицеры договаривались о деньгах. Несомненно, это и есть то место — вон и пристройка сбоку.
Офицеры о чем-то негромко спорили. Воспользовавшись этим, Виргинский за их литыми спинами проскользнул вниз по лестнице — в темноте, чуть не запнувшись на нижних ступеньках. А впрочем, туда ли он попал? Вопреки ожиданию, голоса у входа начали отдаляться.
Постепенно привыкнув к полутьме, глаза различили массивную дверь. Руки сами нащупали шнур от колокольчика. На звонок никто не отвечал.
Мало-помалу Виргинского начали разбирать сомнения, причем в себе самом. Как так получилось, что он поддался соблазну увязаться за теми офицерами? В таком поведении, если вдуматься, не было ни логики, ни последовательности. Несмотря на раздражение, Виргинский, однако, был доволен тем, что он все еще, пусть и отчасти, способен на подобный самоанализ. Значит, рассудок ему еще не изменил. Если место все же то самое, то он, возможно, добрался до него по старой памяти; так сказать, по протоптанной дорожке. А если так, то и за офицерами он увязался из того, чтобы как-то свалить на них порочность своего поступка, частично снять с себя ощущение вины. Может, они и знать не знали, кто такая мадам Келлер, а просто шли себе мимо и здесь оказались по чистому совпадению. И вся эта греховность с лицемерием лежит исключительно на нем. Они же, наоборот, невинны как агнцы, по крайней мере, в этом смысле. А коли так, то будь они трижды прокляты!
В двери неожиданно открылось похожее на заслонку окошко, обнажив резанувшую глаза прогалину света. Изнутри доносился шум голосов, отзвуки развязного смеха.
— Здравствуйте, — наугад сказал Виргинский, невольно сощурившись.
— Чего изволите? — спросило его хрипловатое контральто с различимым акцентом.
— А… А Лиля здесь? Мне бы с ней поговорить. — В этот момент где-то в помещении грянул раскат хохота. Столб слоистого от табачного дыма света и взрыв смеха словно слились воедино, своим воздействием заставив Виргинского болезненно съежиться. — Скажите, что это Виргинский.
Заслонка защелкнулась. Спустя какое-то время дверь отворилась, и на пороге очертилась хрупкая, как статуэтка, девичья фигура. Дверь за нею тотчас же захлопнулась.
— Павел Павлович? Откуда вы здесь?
— Лиля? Лиля, это вы, да? — Виргинский различил ее скупо освещенный силуэт лишь мельком. Но уже краткого взгляда было достаточно, чтобы заметить некую перемену в ее внешности.
— Конечно же я, — отвечала девушка. — Что это с вами? Вы как-то странно спрашиваете.
— О-о, я вижу, у вас новое пальто.
— Да, и что?
— Даже с меховой опушкой.
— Ну, и что такого?
— Видно, дела идут как надо.
— Павел Петрович, умоляю, зачем вы так. Это совсем не то, что вы думаете.
— И каково оно, когда вас трогают руками?
— Павел Петрович, умоляю!
— Наверно, получаете от того удовольствие? Иначе, зачем же этим заниматься, если оно не в усладу…
— Павел Павлович, это жестоко!
— Вздор! Неужто мужчина и женщина не могут со всей откровенностью называть вещи своими именами? Ведь так? Да разве я могу вас судить. У меня и права такого нет. Лицемерие, вот что я ненавижу. Насчет всего этого.
— Так что же? Что с этой вашей правдой? Что мне от нее?
— Вы не можете меня о том спрашивать! Вернее, ловить меня на моем же ответе. Вы лишь должны понять: нам нельзя строить наши отношения на лицемерии и лжи! Я должен знать правду!
— Так уж и хотите? — спросила она с запальчивостью; Виргинский даже опешил. — Что ж, я скажу. Скажу лишь одно. Эта дверь захлопнулась сейчас за мной навсегда. Теперь я уже никогда, никогда не вернусь ни в это место, ни в эту жизнь. Лучше с собой покончу и на Вероньку руки наложу!
Она толкнулась мимо, да так, что, несмотря на ее миниатюрные пропорции, Виргинский буквально отлетел. В эту секунду он вдруг отчетливо ощутил, что более всего ему хочется ее ударить, причем чем больней, тем лучше.
— Ваш Горянщиков..! — крикнул он вслед.
Замерев на середине лестницы, она обернулась — высвеченный фонарем призрачный силуэт.
— Что — Горянщиков? — не спросила — потребовала она. И в самом деле, что? Как-то само вырвалось. Виргинский собирался сказать, что видел его голову в колбе, однако вместо этого мстительно воскликнул:
— Он был одним из них, разве не так? Я замечал это по вашим глазам, когда видел вас вдвоем, — страх, что он вас нечаянно выдаст. А? А у него, наоборот, во взгляде что-то такое гнусное и вместе с тем злорадное, властное.
— К вам это все не имеет никакого отношения.
— Что ж. Никакого так никакого. В самом деле, кто я такой, чтоб учинять вам подобный допрос. Я даже сам удивляюсь, как вы такое допускаете. Действительно: вы сами вольны решать, как поступать со своим телом, с кем ложиться в постель, и по какой причине. Я же здесь и вправду ни при чем.
— Ну вот и хорошо, — сказала она, все еще медля уходить.
— Лиля. — Да?
— Он мертв. Горянщиков. Я как раз пришел, чтобы это сообщить.
Скудный свет помешал разглядеть выражение ее лица.
— Мне пора, — сказала она односложно, прежде чем бесшумно скрыться наверху лестницы.
Виргинский уткнулся лицом в ладони.
Глава 10 И ВНОВЬ ПОД САЛОНОМ МОДИСТКИ
Порфирий Петрович прикурил, заодно оглядев в мерцающем огоньке спички подвальные стены. Выхваченная из темноты дверь с окошком-заслонкой смотрелась неожиданно внушительно. Спичка догорела до пальцев; пришлось бросить. Вместе с тем исчезла и дверь. Порфирий Петрович сморгнул, словно пробуя темноту ресницами на ощупь. Безуспешно подождав, пока кто-нибудь ответит на неслышный уху звонок, осмотрительно кашлянул — скорее машинально, чем по необходимости. Честно признаться, ощущение такое, будто за ним, несмотря на темень, кто-то следил. В подобные минуты Порфирий Петрович непроизвольно ловил себя на некоей нарочитости своих действий.
Наконец в двери приоткрылось окошко, вытеснив наружу столбик света.
— Слушаю, мой господин?
— Мадам Келлер?
— А что, мы с вами знакомы?
— Нет, но очень бы хотелось.
Ее смех — звучное сипловатое контральто — словно подчеркивал разом и неприличие и абсурдность подобной затеи.
— Что ж, мне очень даже по душе новые знакомства, особенно с солидными господами вроде вас.
Открывшая дверь особа оглядела гостя с улыбкой скорее ироничной, нежели кокетливой. Но, даже несмотря на это, а также на возраст (судя по всему, хозяйка разменяла уже пятый десяток), сердце у вошедшего при виде этой женщины гулко стукнуло. Причем дело здесь было не в привлекательности ее, а, скорее, во взгляде, исполненном эдакой хищной искушенности. Лицо, изнуренное привычками, о которых можно лишь догадываться. И едва ли не самая изнурительная из тех привычек — открывать двери незнакомцам и, угадывая при этом их потаенные склонности, стремиться насытить их порочные аппетиты. Ее улыбка раздевала донага, скрывая при этом готовые цапнуть зубы.
В ней не было ничего от сводни или от куртизанки. Модное, подобранное со вкусом, даже с некой целомудренностью, платье, подчеркивающее ее до сих неплохо сохранившуюся фигуру. Держалась она с некоторой надменностью, но видно было, что это напускное — иного ждать и не приходилось. (Такое, кстати, с легкостью лечится увесистой пощечиной, но, право, какой же воспитанный мужчина поднимет руку на женщину.)
Порфирия Петровича провели в коридор — кстати, вопреки ожиданиям, интерьер вполне благопристойный, даже сдержанный. Не какой-нибудь вульгарный бордовый плюш, а зеленоватые, чуть чопорные пастельные тона; на стенах — офорты с лошадьми. На суть заведения намекала лишь узость коридора, вынуждающая проходящих по нему интимно льнуть друг к другу.
Мадам Келлер протянула руки снять с гостя шубу — жест, Порфирия Петровича слегка настороживший. Отрешиться от одежды, пусть и верхней, в подобном заведении — это уже не безделица, а некое намерение. Кроме того, шуба здесь — хоть какая-то видимость защиты (даром, что от такой вот улыбки оберега попросту нет и быть не может). Странно и то, как ему вдруг захотелось, едва лишь войдя, уже поскорей отсюда ретироваться. Нет, шубу лучше оставить; в конце концов, таково желание клиента.
На его неуверенность она мгновенно отреагировала язвительной улыбкой.
— Мадам Келлер, — не стал терять времени Порфирий Петрович, — я из следственного управления.
— Да неужто. А потому снять шубу — свыше ваших полномочий? Не беспокойтесь, учтем.
— Нет-нет. Дело в том, что я здесь, так сказать, по официальному делу.
— Что ж, птицу видно по полету, а начальство по чину. Так, что ли? — Мадам Келлер рассмеялась было, но, видя серьезность гостя, сменила тон с шутливого на нарочито серьезный. — Но у нас все легально. И искать тут нечего. — Словно в подтверждение, она открыла дверь одного из приватных номеров, вроде наугад. Взгляду открылся будуар с вычурной ореховой мебелью и чрезмерным обилием зеркал в изысканных рамах. Здесь еще и горел камин, трепетными языками огня будто намекая на чье-то совсем недавнее в этих стенах присутствие. — Вы в ваших мехах здесь совсем разморитесь.
— Я ищу одну девушку…
— Разумеется, кого ж еще у нас искать.
— В связи с расследованием.
— О ja, ja, — издевательски протянула хозяйка на иноземный манер, — я понимайт.
— Звать ее Лилия Ивановна Семенова, — не обращая внимания на ерничество, продолжал Порфирий Петрович. — По моим сведениям, она значится у вас.
— Больше, кстати, не значится. Ушла из дела.
— Ах вон оно что.
— Бывает. Девушки иной раз обзаводятся богатыми покровителями. Становятся при них содержанками, все из себя счастливые. Но, как правило, ненадолго. А потом приходят обратно, стучат в эту самую дверь: «Мадам Келлер, мадам Келлер!
Этот негодяй меня бросил, завел себе какую-то актриску! Мадам Келлер, на коленях прошу, пустите обратно!» От жизни-то никуда не денешься. Это у них в крови: урожденные шлюхи.
— А когда вы в последний раз видели Лилю?
— Когда? Собственно, сегодня. Вернулась, дурочка, за галошами. Будто не понимает: новый покровитель ее первое время не галошами — жемчугами засыпать будет.
— Она не рассказывала вам, что это за… покровитель!
— А зачем? Какая разница. Кабы не он, куда б ей отсюда деваться?
— А может, она просто сменила род занятий?
Мадам Келлер взглянула на него с циничной жалостью.
— И как вы только преступников ловите, при такой-то наивности?
— Девушки, что работают на вас, — они живут здесь же, при борделе?
— Боже, слово-то какое ругательное. А еще благовоспитанный человек.
— Где сейчас Лиля, вы не знаете?
— Не мое дело.
— У нее еще, кажется, был ребенок? Кто за ним присматривал, когда она работала, вы не знаете?
— У меня, видите ли, помимо этого забот хватает. Может, для вас больше будет толку поговорить с кем-нибудь из наших девушек. А что, я вас представлю. Причем с удовольствием. Можете даже с кем-нибудь из них уединиться, побеседовать, так сказать, в приватной обстановке. А это уже будет вам в удовольствие. Вот увидите.
Она опять протянула руки за шубой.
— А что, если я побеседую с ними со всеми?
— А вы, я вижу, жадный. Ай-ай-ай, так зариться на наших барышень: хотеть всех разом!
Словно обретя от таких слов уверенность, Порфирий Петрович стал, наконец, высвобождаться из шубы.
* * *
Несмотря на иссушающий жар камина, от шампанского Порфирий Петрович отказался.
— Что, «Мадам Клико» вам разве не по вкусу? — спросила хозяйка заведения с издевкой.
Отверг он и деликатно предложенный стул в стиле рококо, с парчовой обивкой.
— Ничего, я постою.
Перед ним, продефилировав через вторые двери, выстроились четверо «барышень». Порфирий Петрович, стойко держа себя в руках перед их декольтированными, соблазнительно приоткрытыми прелестями, мысленно пожалел и о предложенном бокале, и о стуле. Да и вообще, работать в такой обстановке ох как непросто: вон как сердце ухает, в висках стучит, а уж иные места… да, не ожидал он такого от себя.
Машинально закурив, Порфирий Петрович по очереди вгляделся в каждую из девиц. И тем самым, по-видимому, нарушил некое здешнее табу. Дело в том, что в их глазах он не заметил распущенности — так, лишь некая отстраненность. Причем это было свойственно каждой из них. Иными словами, их подведенные глаза выдавали совсем другие чувства: быть может, скуку, тихое отчаяние, боязнь, или же просто равнодушие. Распущенность, похотливость — все это было лишь напускное.
Сразу стало ясно, что Лиля Семенова из всех была, пожалуй, самая молодая, да и наиболее обаятельная.
— Это все барышни? — спросил Порфирий Петрович, пуская дым.
— Те, что сейчас не заняты. Неужто ни одной не приглядели?
— Вы знаете, я здесь не за этим.
— Ну, как скажете. Так кого ж выберете? Вот Ольга. Надюша. Сонечка. Рая.
Девушки поочередно, в такт словам, жеманно приседали в книксене. Комичность происходящего особенно подчеркнула последняя, как бы невзначай выкатив перед Порфирием Петровичем одну сдобную грудь.
— Прошу вас, только без эксгибиционизма.
— О-о, Рая у нас сама любвеобильность. Гляньте-ка, все при ней!
Рая была как раз той, в чьих глазах Порфирий Петрович углядел боязнь.
— Что ж, ладно, — вздохнул он. — Рая так Рая.
* * *
Методичным движением он отвел ее руки от своего лица.
Альков был величиной без малого с комнату, так что входящие вынуждены были невольно валиться на кровать. Возле кроватной спинки стояла ширма с узором в виде летящих зимородков. На нее было наброшено шелковое кимоно.
— Тебе что, не нравится? — удивилась Рая.
Он задумчиво провел пальцем по ее коже. Ишь какая холеная. Блондинка, причем натуральная.
— Ты не русская?
— Прошу прощения, финка.
— За что прощения-то. Ты Лилю знаешь?
— Само собой. Только она у нас больше не работает. Мадам Келлер говорит…
— Сколько тебе лет?
— А сколько бы ты дал?
— Я из следственного. Отвечай все как есть.
— Двадцать семь.
— И как долго уже проституируешь?
— Уж и не помню. Да и лет не считаю.
— Ты знаешь Константина Кирилловича?
— А что?
— Имя такое слышала: Константин Кириллович?
— Что-то не припомню.
— А ты подумай.
— Ну, может, и слыхала.
— Кто он такой?
— Фотограф. Иногда фотографирует наших девушек. А потом снимки распечатывает.
— А тебя он не фотографировал?
— Меня-то? Да нет.
— Почему же?
— Он моложеньких любит.
— А с Лили делал фотоснимки?
— Кажется, да, разок-другой.
— А что. Наверно, не так уж плохо: фотограф, делающий твои снимки. А не что-нибудь там еще, похуже. Представляю. — Рая пожала плечами, не выказывая никаких эмоций, несмотря на свое неглиже. — Константин Кириллович, Константин Кириллович… А как его фамилия? Что-то подзабыл.
— Все его только так и зовут: Константин Кириллович.
— Потому я, видно, и вспомнить не могу. — Порфирий Петрович улыбчиво подмигнул. — А вот ты сейчас к моему лицу притронулась. Зачем?
— Не знаю.
— Может, потому, что хочешь, чтоб я сам тебя приласкал?
— Ну да, наверно.
Он провел ладонью ей по щеке — горячей, с мелкими катышками пудры. Она вкрадчиво провела ему рукой по бедру.
— Ну, ну. — Отведя ее руку, Порфирий Петрович встал, не давая барышне расшалиться.
— Зачем же ты тогда пришел? — Рая недоуменно подняла васильковые глаза.
— Как ты думаешь, где я могу найти Лилю?
— Так тебе Лиля нужна?
— Хотелось ее кое о чем расспросить. Ты не знаешь такого студента Виргинского?
Рая мотнула гривой шелковистых волос.
— А Горянщикова, карлика?
— Карлика-то? Карлика знаю. Он частенько к нам захаживает. И все Лилю спрашивает. Он что, и есть ее новый ухажер? — спросила она удивленно.
— Какой же ухажер, если он мертвый. — В глазах девицы ожил страх. — Судя по всему, смерть насильственная.
— Ты думаешь, это Лиля?
— Как мне ее найти?
— У Зои, наверно.
— Что еще за Зоя?
— Да есть тут одна шалава — старая, из бывших, — за Лилиным дитем присматривает. Вот они вместе и ютятся, на Лилины-то деньги.
— А Лиля разве не здесь, не у вас проживала?
— Только на ночь, бывало, оставалась. Мадам Келлер ее с дитем бы не пустила.
Одетая в нижнее белье Рая вздрогнула как от озноба, даром, что в комнате было жарко натоплено.
— Прикройся, — велел Порфирий Петрович.
Рая, потянувшись, сняла с ширмы кимоно и накинула себе на плечи с несколько растерянным видом.
— Я скажу мадам Келлер, что ты меня ублажила, — успокоил ее Порфирий Петрович.
— Не пойму. Так тебе что, вообще ничего от меня не надо?
— Ну почему. Адрес Лили.
— Я-то откуда его знаю?
— Ну как. Может, и знаешь.
— Компаньонка ее, Зойка, вроде как возле Сенного обитает.
— Что ж, и на том спасибо.
— Так ты и впрямь-таки ничего от меня и не хочешь? Мадам Келлер велела: дескать, сделаешь все, что ему заблагорассудится.
— Так тебе ж работы меньше.
— Меньше, не меньше. Я для того здесь и живу-бедую.
— Тебе в самом деле все настолько безразлично?
Рая опять потянулась было к его лицу, а когда он не дался, искренне растерялась.
— Нет, право, ничего не надо.
Из боязливого ее взгляд сделался лукавым.
— Так зачем же ты сюда пришел? — спросила она в очередной раз.
— Лилю ищу.
— Значит, тебе только с ней в удовольствие.
— Не в том смысле, что ты думаешь. Я просто хотел с ней поговорить.
— Знаю я вас, адово племя. Небось потому не хочешь меня отделать, чтоб я потом за то век благодарна тебе была. Мол, «вот какой мужчина порядочный»!
— Думай что хочешь, — ответил он тоном, пришедшимся странно в унисон ее собственному. — По мне, так лучше б ты благодарности не испытывала. Благодарить-то, в сущности, не за что.
— Ну так иди, чего встал! — воскликнула она так, будто его присутствие ее смущало.
Порфирий Петрович чуть было не сказал, что она не имеет права вот так выставлять клиента за дверь. Вместе этого он откровенно спросил:
— Рая, скажи: а чего ты так боишься? Вопрос застал ее врасплох.
— Да того же, что и все, — произнесла она, помедлив. — Старости боюсь, немощи. Что внешность потеряю. И нужна никому не буду.
— Боишься, что когда-нибудь обретешь свободу от этой кабалы?
— Голод — не свобода.
— А ты умная. И возможно, заслуживаешь лучшего поприща в этой жизни.
Она лишь ухмыльнулась такой расхожей банальности. А потом попросту махнула рукой — дескать, будет тебе, барин. Нашелся моралист.
Порфирий Петрович опять закурил и не уходил, пока не дотлела папироса. Молчал; а уходя, глубоко заглянул в васильковые Раины глаза.
Глава 11 ОБРАЗЦОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
На следующее утро, как и обещал, Порфирий Петрович появился у Виргинского. С собой он принес грубые рабочие башмаки на толстой подошве — не новые, но вполне годные к носке.
Виргинский, сгорбясь, сидел на краешке кровати и бездумно смотрел на пару башмаков у себя между ступнями. Сквозь дырки в чулках проглядывали пальцы ног с желтыми нестрижеными ногтями.
Щеки студента рдели пятнами гневливого румянца.
— Зачем это все?
— Вы нуждаетесь в добротной обуви. Вам же носить нечего.
— Я много в чем нуждаюсь! Это что, ваша обязанность, осуществлять надо мной попечительство?
— Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтоб мы вместе наведались в тот дом на Большой Морской.
— Я вам что, не вполне ясно объяснил адрес?
— Вполне. Но думаю, вам будет небезынтересно прогуляться туда со мной.
— Это у вас что, такая манера ведения следствия?
— Вы очень подозрительны. Вам бы юриспруденцию изучать.
— Я как раз ее и изучал. Пока деньги были. Может, когда-нибудь и снова займусь. Когда средства позволят.
— А не задумывались, куда податься по окончании обучения?
— Возможно, что и в адвокатуру. Стану защитником в суде. Существующие общественные устои надо в корне менять.
— Значит-таки, верите в торжество закона?
— Верю в то, что смогу оправдывать обвиняемых, в том числе тех, кто шел против режима.
— А вы, смотрю, не так циничны, как мне казалось.
— Чем же еще заниматься прогрессивно мыслящему человеку, да еще с юридическим образованием?
— Ну, скажем, пойти служить в управление. Следственное.
— В таком случае я буду выполнять функцию прямо противоположную. Засуживать невиновных.
Порфирий Петрович вкрадчиво улыбнулся.
— Беру свои слова назад. Насчет цинизма. Виргинский, между тем, осторожно сунул одну ногу в башмак.
— Великоваты.
— Можно надеть еще одни носки. К тому ж теплее будет.
— У вас при себе что, еще и носки есть?
— Конечно же нет. А у вас…
— Все, что на мне, и есть моя единственная одежда.
— Такой аскетизм, знаете, вовсе необязателен… Виргинский перебил, надевая второй башмак:
— Где вы их раздобыли?
— А вы как думаете?
— С мертвеца, что ли?
Порфирий Петрович смешливо поджал губы.
— А хотя, сойдут и такие, — сказал Виргинский, вставая.
* * *
Вместе они направились вверх по Гороховой. Впереди, пронзая яркое погожее небо, горел золотом шпиль Адмиралтейства — стилет в сердце города. Струями шел дым из бесчисленных труб зданий, обступивших матово лоснящуюся мостовую. Громады жилых домов тянулись вдаль, отблескивая рядами окон, за каждым из них протекала чья-то жизнь. При виде окон само собой напрашивалось невольное сравнение с намалеванными театральными декорациями. Хотя нет, однообразные эти фасады напоминают скорее непроницаемый каменный занавес. И драмы и трагедии людские происходят скорее не по эту, а по ту, скрытую его сторону.
Виргинский, следя, как носки его новых ботинок уверенно продавливают корочку сероватого наста, втихомолку чему-то ухмыльнулся.
— Вы о чем? — поинтересовался Порфирий Петрович.
— Да так. Выходит, вы меня вроде как купили за пару ботинок. Как все же дешево я заложил вам свою душу. Кабы она, впрочем, была.
— Вы не верите в существование души?
— Я так не говорил. Я говорил, что у меня ее нет. Тем не менее, отвечая на поставленный вопрос, отвечу: в душу я действительно не верю. Ни в бога, ни в дьявола. Ни в какую другую сверхъестественную чушь. В самом деле. Появись сейчас передо мной хоть сам Мефистофель со своими посулами, я бы и то вряд ли польстился.
— Так вы меня сравниваете с Мефистофелем? Помилуйте, ведь здесь дело не в душе — заложил, не заложил. Вы же хотите выяснить, кто убил ваших друзей, не так ли? Эх, вы, а еще в юристы метите. Право, нельзя же разом быть и нигилистом и законником. Позиция, чреватая противоречиями.
— Именно. За то я себя, наряду с прочим, и презираю.
— Ну как, ботинки вам ваши нравятся? — спросил Порфирий Петрович еще через несколько шагов.
— Хотя б потому, что не пропускают сырости.
— Вот это здоровое суждение.
— Скажите, — остановившись, сказал вдруг Виргинский, как-то разом утратив показную надменность.
— Что именно?
— Вы меня не считаете подозреваемым? Помолчав, Порфирий Петрович ответил:
— Я подозреваемыми пока не располагаю.
— Скажем, подозреваемый — я. Но ведь, вовлекаясь в ход следствия, я тем самым могу его запутать? Пустить по ложному следу?
— Скажем, подозреваемый — вы. Тогда я кое-что разузнаю уже из того, как вы будете реагировать на людей в доме, где жили Тихон с Горянщиковым.
— Так я у вас действительно под подозрением? — Порфирий Петрович опять улыбнулся, поджав губы. — Вы со мной играетесь, — упрекнул Виргинский.
— Хорошо. Скажем, вы вне подозрений. Сам я сторонник именно этой версии. Однако при всем том обе жертвы входили в круг ваших знакомых. Возможно, убийца — кто-то из известных вам людей; может, даже из числа проживающих в том доме. Более того, быть может, мы его нынче там застанем. И потому само ваше присутствие может невольно вызвать некое интересное откровение… Кстати, спрошу-ка я вас вот о чем. Это, между прочим, позволит избежать лишних хлопот. У вас нет никаких предположений, кто именно мог их убить?
— Вы полагаете, я бы до сих пор об этом умалчивал?
— Нет, конечно. Но вы как-то сказали, у Горянщикова было изрядно недоброжелателей. А у Тихона?
— У Тихона недоброжелатель был единственный: сам Горянщиков. Забавно, правда?
— Да не совсем. Убийца — кто бы он ни был — постарался обставить все так, будто Тихон якобы вначале прикончил Горянщикова, а затем покончил с собой. Я уже предвкушаю: мне сейчас предстоит порядочно выслушать, как они друг с другом при жизни, извиняюсь, грызлись.
— Похоже на то.
— Я прошлым вечером наведался к мадам Келлер, — проронил Порфирий Петрович. Виргинский непроизвольно замер на ходу. — Что, ботинки великоваты? — простодушно спросил он студента.
— Да так, малость…
— Вашей знакомой, Лили, я там не застал. По мнению мадам Келлер, она обзавелась состоятельным покровителем.
— Прямо так и сказала?
— Да, если вы относитесь к ее словам всерьез.
— Почему вы так уверены, что Лиля имеет ко всему этому какое-то отношение?
— Уверенности особой нет. Однако она волей-неволей снабдила меня некой загадкой. Тот таинственный Константин Кириллович. — Следователь пристально вгляделся в Виргинского. — Вначале Лиля попадает в наше поле зрения буквально накануне того, как мы получаем анонимную записку, где фактически указывается местонахождение тех двух тел в Петровском парке. Простое совпадение? Ладно, допустим. Но затем — а именно вчера — я ее застаю в доходном доме Липпенвехселя, на пути к вам. Опять совпадение? Как следователь я по опыту должен такие совпадения учитывать. И наконец, я узнаю, что она ваша знакомая. А вы, боюсь, единственный, кого я пока могу логически увязать с этими двумя… трупами. А потому увязывается и Лиля.
— Вздор какой-то. Невнятица. Вы этим ничего не докажете.
— Пока — да. Но это единственное, на что я могу пока опираться.
— Кроме того, у них и помимо меня знакомых пруд пруди. Вы с ними просто пока не сталкивались.
— Сегодня я и думаю этот недочет исправить, — подытожил Порфирий Петрович, замедлив шаг. Незаметно они добрались до Большой Морской. — Ну вот. Что там у нас: семь, семнадцать или семьдесят? Который из них?
— Вон он, тот дом, — кивком указал Виргинский на трехэтажный особняк с мезонином по ту сторону улицы — розовый, сравнительно недавней постройки, с тяжеловатыми барельефами в виде львиных голов. Второй этаж обрамляли ионические полуколонны, а проход во внутренний двор обступали гипсовые фигуры кариатид.
— Элегантное какое строение, — вслух заметил Порфирий Петрович, хотя и без особого тепла. — Кто б мог подумать, что еще недавно в этом доме обитали наши убиенные. Может, кариатиды что подскажут? Знаете, при виде каменных истуканов Петербурга мне частенько почему-то думается о несчастных жертвах нераскрытых злодеяний.
— А у вас богатое воображение.
— Н-да, действительно. Видно, издержки профессии. Слишком много нераскрытых дел, знаете ли. Куда ни глянь, мертвые словно из тьмы взывают: «Справедливости, отмщенья!» А смотрите, какие у этих фигур бесстрастные лица. Вам не кажется? Как будто б они смирились со своей нелегкой участью.
— Подпирать собою арку?
— Хотя бы так. Или вон верхние этажи, — улыбнулся Порфирий Петрович.
— Быть женщиной — уже само по себе участь не из легких. Это же женщины?
— Женщины, женщины. Только какие-то, на мой взгляд, слишком мускулистые. Лично мне они больше напоминают мужественные фигуры атлантов. Ну что, заходим?
Повернувшись к Виргинскому, следователь заметил у него на лице еле сдерживаемое возбуждение.
— Вы не смеете меня принуждать, — проговорил студент, не отрывая взгляда от дома. При этом голову он держал слегка на отлете, словно та противилась хозяину обособленно от тела.
— Друг вы мой, да разве ж я осмелюсь…
— Вот и ладно. Я с вами не пойду. Хватит и того, что я вас сюда привел. С меня довольно!
Отвращение охватило уже все его тело — настолько, что он начал пятиться и наконец, повернувшись на пятках, припустил прочь тяжелой трусцой. — Эх, башмаки вы мои, башмаки! — крикнул он на бегу не оборачиваясь.
Умом тронулся, что ли?
* * *
Номер дома на поверку оказался 17. Еще одна табличка указывала, что он принадлежит вдове статского советника С. П. Иволгина.
Одна из дверей — та, что слева от центрального прохода с кариатидами, — выходила прямо на улицу. На стук открыла горничная в аккуратном сером платье с накрахмаленным передником. Волосы убраны под чистый белый чепец. Лицо приятное, умное; взгляд открытый, даже немножко дерзкий. На незнакомца она поглядела вопросительно, но без подозрительности. Судя по плохо скрытому нетерпению, нежданный гость отвлек ее от чего-то важного. На вид горничной было лет около тридцати.
— Добрый день, — поздоровался Порфирий Петрович. — Студент Горянщиков, случайно, не здесь проживает?
— Здесь, а что?
— Могу я его увидеть?
— Его нет, вот уж несколько дней.
— А вы, часом, не знаете, где он? — Женщина посмотрела на него более пристально. — Позвольте представиться: Порфирий Петрович, из следственного управления. Прошу прощения за неурочный визит, но дело не терпит отлагательств. Совершено серьезное преступление. — Серые глаза женщины не выдали никакого страха. — Позвольте войти.
Горничная не противясь впустила нежданного визитера, закрыв следом дверь.
Порфирий Петрович оглядел прихожую — безупречно натертый паркет, меблировка добротна и в то же время непретенциозна; на полу и на стенах персидские ковры. И приятный, чуть пряный запах откуда-то из комнат.
— Вам, наверно, лучше к Анне Александровне.
— Она и есть вдова Иволгина, хозяйка дома?
— Да.
— Безусловно, я к ней обязательно пройду. Но вначале мне бы хотелось поговорить с вами. Как вас звать?
— Катя.
— Катя, когда вы последний раз видели Горянщикова?
— Степана Сергеевича?
— Видимо, да. Так когда вы последний раз его видели?
— Дня четыре тому, — подумав, ответила горничная.
— А такое по времени его отсутствие — это, так сказать, в порядке вещей?
— Да не совсем. Ну бывает, пропадает где-то денек-другой. Но чтоб вот так, четвертые сутки кряду…
— Вы ничего на этот счет не думаете?
— Да уж впору и подумать.
— Что же именно?
— Что именно? Да что он, попросту выражаясь, деру дал. Он же Анне Александровне за проживание уж целое состояние должен.
— Вон оно что. А Анна Александровна что по этому поводу думает?
— Анна Александровна? Да то же самое. Мы уж и впрямь думаем: дожидаться его, не дожидаться? А уж денег с него — тем более. А вы это все к чему? — спросила она напрямик.
— Боюсь, что Степана Сергеевича больше нет в живых. Новость эту Катя приняла спокойно, но уже спустя секунду, распахнув глаза, с неподдельным ужасом всплеснула руками:
— Тихон?!
— При чем здесь Тихон?
— Неужто и в самом деле порешил? Ох, тут у них был скандал, чуть не до крови! Тихон аж за топор схватился. А потом, вскоре, Степан Сергеевич взял и куда-то исчез.
Руки у горничной чуть заметно дрожали.
— Отчего же они повздорили?
— Да откуда ж я знаю. Мало ли из-за чего. Следующий вопрос Порфирий Петрович задать не успел.
Откуда-то из глубины дома послышалось призывное:
— Катя! Катюша, ты где? Ты мне нужна!
Отдаленный женский голос перемежался стуком кухонной утвари.
Катя, словно опомнившись, глянула на гостя с укоризной: дескать, навязался бедоносец на нашу голову. Судя по всему, к хозяйке она относилась с большой привязанностью, чтобы не сказать преклонением.
Тем временем в прихожей показалась и сама хозяйка — прямая, чуть чопорная осанка выдавала недовольство некстати исчезнувшей прислугой. При виде Порфирия Петровича она вопросительно посмотрела на Катю, как бы ожидая разъяснений. Горничную строгий вид хозяйки, судя по всему, не смутил: она ответила той смелым взглядом.
Одета Анна Александровна была просто. Стянутые в тугой пучок волосы заколоты шпилькой. Лицо моложавое, с румянцем. Одним словом, цветущая, но уже увядающая красота женщины, умудренной жизненным опытом, который, кроме разочарования, мало что приносит. Встретившись с ней глазами лишь на секунду, Порфирий Петрович отметил, что выглядит она моложе своих лет. (Кстати, Виргинский в разговоре как-то обмолвился насчет дочери. И еще интересно, что за человек был тот статский советник, муж этой дамы. Конечно же состоятельный, судя по дому, который оставил супруге: богатый особняк, с претензией на шик.)
— Так у нас гости? Я и не знала. — Она растерянно отвела взгляд. — Катюша, я там корицу молола, ждала, что ты поможешь. А к нам, оказывается…
Было что-то трогательное в ее смущении. Помимо запаха корицы от женщины исходил тонкий аромат духов. Нежный, суховатый — истинный контраст приторно-сладкому Лилиному амбре.
— Этот господин из полиции, — хмуро сказала горничная.
— Из управления. Следственного управления, — поспешил уточнить Порфирий Петрович со смущенной улыбкой. — Порфирий Петрович, — представился он с легким поклоном.
— А… а что произошло? — спросила Анна Александровна взволнованно.
— Степан Сергеевич скончался, — произнесла Катя дрогнувшим голосом.
Порфирий Петрович украдкой следил за реакцией хозяйки. Трудно было сказать, как на нее подействовали эти слова. Судя по судорожно стиснутым ладоням, сообщение было воспринято с вполне искренним потрясением.
— Боюсь, что и это не все, — уточнил Порфирий Петрович. — Тихон — ваш дворник, я полагаю, — тоже мертв.
— Ой! — вскрикнула Анна Александровна, разом побледнев. — Тиша! Ужас-то какой! Какой ужас!
Она закрыла лицо руками. Катя, подлетев, порывисто ее обняла.
— Мне крайне, крайне неприятно сообщать вам эти горестные известия, — сказал Порфирий Петрович со скорбным видом.
— Бедный, бедный Тишенька, — безутешно раскачиваясь в объятиях Кати, причитала Анна Александровна. Наконец она совладала с собой. — Катюша, не надо. Отойди, милая. — Но стоило горничной отойти, как она беспомощно покачнулась. Порфирий Петрович протянул руку, чтобы ей помочь, но она покачала головой. — Спасибо, не надо. Извините, забыла, как вас…
— Порфирий Петрович.
— Прошу вас, Порфирий Петрович, пройдемте со мной в гостиную. — Хозяйка указала на створчатые двери. — Катюша, душенька, принеси нам чаю.
* * *
Стены гостиной покрывали синеватые жаккардовые гобелены с золотистыми карнизами в стиле рококо. Шелковистые, в тон, шторы пышными воланами обрамляли три больших окна. Струящийся сквозь тюль свет отбрасывал на темное платье Анны Александровны молочные блики. В мраморном камине тлели угли, то и дело выбрасывая мелкие язычки огня. Натоплено было жарко.
Жестом хозяйка пригласила гостя сесть на диван, золотистый с бордовым. Как раз в этот момент снаружи в стекло дунул резкий порыв ветра.
— Господи, какое потрясение, — вздохнула Анна Александровна, глядя за окно, будто бы речь шла о погоде. — Как это произошло?
— Боюсь, оба они были, как это ни прискорбно, убиты.
— Нет, не может быть! — вскрикнула она умоляющим голосом, словно не веря собственным ушам.
— Их тела обнаружили по соседству, в Петровском парке.
— Как, в Петровском? — при упоминании Петровского парка Анна Александровна как-то странно встрепенулась. Или так лишь показалось; спустя мгновение она уже взяла себя в руки и выражение ее лица сделалось непроницаемым. Она сцепила перед собой пальцы рук. Порфирий Петрович выжидательно смотрел на женщину, но хозяйка, судя по всему, переборола свои эмоции, и мимика ее ничего уже не выдавала.
Порфирий Петрович, мельком кивнув, принял стакан чая с поднесенного Катей подноса. Взяв из сахарницы щипцами кусочек наколотого сахара, он поставил стакан возле себя на миниатюрный, красного дерева столик.
— Катя мне сообщила, что у Тихона и Горянщикова — то есть Степана Сергеевича — в тот день вышла ссора. Я имею в виду, незадолго перед тем, как Степан Сергеевич исчез.
— Да, именно так. Весь дом всполошили. Аж перед домашними неловко.
— Домашними? А в доме живет кто-нибудь еще?
— Дочь моя, Софья. Потом еще Осип Максимович. И Вадим Васильевич. Правда, Осипа Максимовича в тот день не было.
— Осмелюсь спросить, кто эти господа?
— Осип Максимович снимает второй этаж. Вадим Васильевич проживает у него, выполняет обязанности секретаря. У него также есть слуга, Артур.
— Это всё?
— Нет, еще Марфа Прокофьевна. В свое время была у Софьи няней, да так при нас и осталась. Потом Лизавета, кухарка.
— И вы, при кухарке-то, да сами толчете корицу? — с притворным негодованием воскликнул Порфирий Петрович.
— Кое с чем на кухне я люблю управляться сама: мне и в удовольствие, да иной раз бывает так, что другим и не доверишь.
Следователь понимающе кивнул, часто при этом моргая: дескать, уж вы не обессудьте, что суюсь не в свое дело. Анна Александровна между тем выглядела несколько обеспокоенно.
— Нам надо будет переговорить со всеми вашими домашними, — сказал он серьезно. — Нынче же после полудня к вам подойдет кто-нибудь из моих подчиненных, снимет со всех показания.
— Что ж, извольте. Только Осип Максимович с Вадимом Васильичем будут к тому времени у себя в издательстве.
— В издательстве?
— Осип Максимович — издатель.
— Вон как. Вы сказали, Осипа Максимовича на момент ссоры здесь не было. А где он был, если не секрет?
— Он обитель навещал, под Козельском.
— Оптину пустынь?
— Да. Уединиться хотел на время.
— И когда он, говорите, уехал в обитель?
— Да где-то недели две тому.
— Он уехал один?
— Один. Вадим Васильич его только до станции довез, проводить.
— А на момент ссоры Вадим Васильевич был уже снова здесь, дома?
Анна Александровна чуть помедлила с ответом.
— Думаю, да. Точно сказать затрудняюсь.
— Когда Осип Михайлович возвратился, не припомните?
— Осип Михайлович? Вчера под вечер.
— Только вчера вечером? Что ж, ладно. А Тихон… Когда вы его хватились? Вы, видимо, обнаружили, что дворника все нет и нет?
— Да, разумеется. Только… Тихон, он частенько пропадает. Может и день и два отсутствовать.
— Попивает он у нас, — неожиданно подала голос Катя. Вопреки ожиданию, она не вышла из комнаты, а стояла в эркере, на полпути к дверям.
— Получается, он был в подпитии, когда повздорил со Степаном Сергеевичем?
— Да когда он не в подпитии, — горько усмехнулась горничная.
— Катя! — одернула ее хозяйка.
— Анна Александровна, а вы, часом, не знаете, что могло послужить причиной ссоры?
— Да у них вечно все не слава богу. Понимаете ли, Степан Сергеевич любил над Тихоном, так сказать, поязвить. Он же человек образованный, с иронией, вот он на Тихоне в своей иронии и упражнялся. А тот — душа бесхитростная, верующая. Степан же Сергеевич всю-то ему веру эдак навыверт выставлял. Надсмехался, стало быть.
— И где же у них нашла коса на камень?
— Где коса на камень, не знаю, — сказала она нерешительно. — Да уж оно теперь, наверно, и не важно.
— Катя сказала, Тихон грозился Степана Сергеевича убить.
— Тихон? Да Господь с вами! — Анна Александровна даже руками всплеснула. — Он и мухи не обидит.
— Но как, все же, по-вашему: эта именно ссора отличалась по накалу от предыдущих?
— Ох уж да. Тут такие слова летали…
— Какие ж именно?
— Ну уж увольте. Этого мне еще недоставало…
— Прошу прощения. Так где ж происходила та перепалка, не скажете?
— Во дворе. Тихон находился в дворницкой, а Степан Сергеевич на дворе, что-то там в дворницкую ему кричал…
— Что на нем было?
— На ком?
— Я имею в виду, во что при этом был одет Степан Сергеевич?
— Кажется, в шубу. Да, должно быть, как раз в нее. Он, знаете, никогда не упускал случая в ней пофорсить. На заказ ему шили, чтобы точно по размеру подходила.
— Вот любопытно. Насколько я понимаю, Степан Сергеевич ходил у вас в должниках. А вот тем не менее на шубу деньги у него нашлись.
— Он время от времени выполнял работу для Осипа Максимовича. Переводы делал. И плату, надо сказать, весьма щедрую получал. Только денежки у него долго не задерживались.
— Есть у меня к вам один вопрос, довольно деликатный. Заранее прошу за него прощения, но уж коли спрашивать, так спрашивать. Ничего не поделаешь, интересы следствия…
Анна Александровна настороженно притихла.
— Как такой человек, как Степан Сергеевич Горянщиков, мог вообще возникнуть, да еще и прижиться в вашем доме?
— Он еще при муже у нас поселился.
— Понятно. Значит, это ваш покойный супруг пожелал, чтобы Степан Сергеевич остался при вас?
— Мой муж ничего не имел против, а значит, таково и было его желание, — ответила она с неожиданной категоричностью; Порфирий Петрович даже несколько растерялся.
— Мне бы хотелось осмотреть комнату Степана Сергеевича, — сказал он наконец. — А заодно и дворницкую. Кстати, у Тихона не было, случайно, топора?
— Как же не было. У него их там целая выставка.
— Да, разумеется, какой дворник не держит у себя с полдюжины топоров. Просто, знаете, хотелось бы лишний раз убедиться. Тем более что, сдается мне, один из тех топоров сейчас как пить дать не отыщется.
— Так он топором его решил! — ахнула от своей догадки Катя.
— Топор здесь, сказать правду, действительно задействован, — обернулся к ней Порфирий Петрович. — Но интересно, с чего вы вдруг подумали, что это Тихон убил Степана Сергеевича? Я этого не говорил.
— Бореньку же, Катюша, тоже убили, — напомнила Анна Александровна, не сводя при этом глаз со следователя. — Вы же сказали, их обоих… того?
— Очевидно.
— Топором? — не унималась Катя.
Порфирий Петрович улыбнулся, но ничего не сказал.
— Вы не проводите меня в комнату Степана Сергеевича? — спросил он, вставая и опуская пустой стакан на поднос.
* * *
Чтобы войти в крохотную, с покатыми стенами каморку в мансарде, Порфирий Петрович вынужден был нагнуться.
— Тесно-то как, — сказал он стоящей сзади Кате.
— Степан Сергеевичу хватало, — отозвалась та из коридора. Двоим в такой тесноте было не повернуться. — Он и не жаловался. Мне, говорит, как раз по размеру.
Следователь не спеша оглядел жилище карлика: детских размеров кроватка под книжными полками; стол со стулом (и тот и другой с укороченными ножками). Была еще кажущаяся огромной оттоманка и резной сундук темного дерева. Небольшое мансардное окно выходило на Среднюю Мещанскую. Небо подернулось тучами; возможно, надвигалась пурга. В каморке, кстати, было жарко: дом снизу отдавал свое тепло. Пол был не паркетный — дощатые половицы. В целом вид у жилья был опрятный (беленые стены, надо отметить, абсолютно голые, без намека на иконы).
На столе рядом с аккуратной стопкой бумаги лежала открытая книга. Порфирий Петрович, подняв, взглянул на обложку; «Philosophie de la misere» Прудона.
— «Философия нищеты», — перевел он вслух.
Книга была раскрыта на 334-й странице. Внимание невольно привлекала фраза посередине, подчеркнутая красными чернилами: «J'insiste done sur mon accusation». Порфирий Петрович, возвратив книгу на стол, взял со стопки верхний листок, исписанный размашистым почерком, тоже красными чернилами — русский перевод той самой страницы. Фраза «Следовательно, я настаиваю на своем обвинении» была также подчеркнута. В русском переводе следом шли слова: «Отец Веры станет разрушителем Мудрости». Фраза показалась настолько необычной, что Порфирий Петрович вернулся к исходному французскому тексту. За подчеркнутой фразой там шло: «sous le regime aboli par Luther et la revolution francaise, l'homme, autant que le comportait le progres de son industrie, pouvait etre heureux…» На русском фраза «При режиме, отмененном Лютером и Французской революцией, человек мог быть счастлив в пропорции с ростом промышленности…» следовала лишь за вставкой насчет «отца Веры».
Положив листок на место, Порфирий Петрович обернулся к Кате с улыбкой:
— Это вы тут порядок за ним наводите? Сдается мне, хозяйство у Анны Александровны просто образцовое. Она, я бы сказал, великолепная хозяйка.
— Лучше и не сыскать.
— Вот-вот. А скажите мне, не было ли еще чего-нибудь необычного в день той ссоры? Может, к Горянщикову или Тихону кто-нибудь приходил? Какие-нибудь, к примеру, визитеры?
— А и вправду, — удивилась своей беспамятливости Катя. — Приходил, мальчик какой-то.
— Мальчик? Что еще за мальчик?
— Не знаю. Я его прежде не видела. Странно как-то: упрямый такой мальчишка, требовал видеть Степана Сергеевича. А на выходе заглянул еще и в дворницкую, кликнул Тихона. Как раз вскорости после той ссоры. А потом, буквально сразу, Степан Сергеевич засобирался, спешно так, и ушел.
— В той своей шубе?
— Ну да. В точности как Анна Александровна сказывала.
— А как скоро после ухода Степана Сергеевича вы обнаружили, что Тихона тоже нет на месте?
— Ну понятно, хватились под утро: двор-то чистить некому. Из-за снега уже дверь было трудно открывать. Пришлось слугу Осипа Максимовича упрашивать — ох и хлопотное это дело, скажу я вам. Замашки у него чисто барские: и то не по нему, и это.
— Кто же тогда следил за двором в отсутствие Тихона?
— Да вот, пришлось с соседским дворником договариваться. Он иногда приходит, когда Тихон у нас в загуле.
— Меня интересует тот мальчик. Это, наверно, друг дочери Анны Александровны?
— Еще чего! — Катя даже вспыхнула от негодования. — Этот простой был совсем, из дворовых. У Софьи Сергеевны с таким ничего общего и быть не может. К тому ж ему от силы лет десять.
— А Софье Сергеевне сколько?
— Тринадцать недавно справляли.
— Понятно. Ну, и что мальчишка? Вы с ним разговаривали?
— Только дверь открыла. Да так бы перед ним, мозгляком, и захлопнула, кабы Степан Сергеич сверху не услышал и не спустился.
— Получается, Степан Сергеевич знал того мальчика?
— Вряд ли. Просто услышал, как тот его по имени-отчеству спрашивает.
— Получается, он пропустил его в дом, позвал к себе наверх. И долго он там пробыл?
— Да нет. Минут десять от силы, а то и меньше.
— Степан Сергеевич, видимо, дает частные уроки?
— Раньше давал, теперь нет. Да какие тому оглоеду уроки! У него на физиономии одно озорство написано.
— Что-то вам, я вижу, тот сорванец не приглянулся.
— Ага, вот уж ангел небесный! Наследил по всему дому, подтирай потом за ним.
— А что Степан Сергеевич? Кстати, вы сами с ним ладили? — Вопрос остался без ответа. — Катя, будьте со мной откровенны.
— О покойниках дурно не говорят.
— Тем не менее. Наверно, непростой был человек?
— Да сущий дьявол.
— А вам не знаком такой Виргинский, Павел Павлович, — тоже друг Горянщикова?
— Да, знаю такого, захаживал сюда иногда.
— Он не заходил к вам в день исчезновения Горянщикова?
— Нет. Хотя странно, что вы его упомянули… Он как раз вчера наведывался, спрашивал Степана Сергеича.
— Прямо-таки вчера? И когда именно?
— Поздно, чуть не за полночь. Анна Александровна с дочерью уже и спать легли. А он как давай ломиться, чуть весь дом не перебудил.
— Он что, хотел видеть Степана Сергеевича?
— Нет. Просто требовал, чтобы я его к нему в комнату впустила.
Порфирий Петрович вынул было из кармана эмалевый портсигар, но под строгим взглядом Кати раскрыть не решился. Лишь подержался за него, словно за некую опору.
* * *
На улице Порфирий Петрович закурил, наконец, вожделенную папиросу. Пурга, приближение которой он заметил из окна каморки, унялась. Более того, и двор после нее уже успели подмести. Бедный Тихон: вот так сгинул человек, и следов после него не осталось. Снег и тот убрали, будто его и не было вовсе.
Дворницкая выглядела так, словно все предметы в ней скорбели по пропавшему хозяину и покинуто ютились, высвобождая место в надежде на его возвращение. В углу, возле складного ломберного столика, притаился старый заляпанный краской стул с лоснящимся протертым сиденьем. На столе угрюмо высится самовар — стоит горюет по своему хозяину в сочувственном окружении щербатых спутниц-чашек. На полу опилки и стружки, из которых торчат разные чурки. К одной из стен прислонено днище бочки. Жизнь трепетала лишь в волокнах паутины, успевшей захватить инструменты и жестяные банки со всякой всячиной.
Порфирий Петрович искусным жестом фокусника провел рукой вдоль аккуратного рядка топоров. Хотя делать это было вовсе необязательно: и так было видно, который именно из них отсутствует. А заодно и то, что по размеру в своем ряду он как раз соответствует тому окровавленному, что найден был при Тихоне.
Интересно, что же подвигло убийцу выбрать среди четырех прочих именно его? Взят был топор третий по размеру. Возможно, что схватили его в спешке. Но даже коли так, должна была быть какая-то элементарная логика, почему выбор пал именно на него. Почему, скажем, преступник не взял самый маленький топорик — казалось бы, самый удобный? Топор — точнее, его отсутствие — явно что-то подразумевало. Деталь настолько явная, что могла бы выдать и самого преступника.
Порфирий Петрович сверху вниз провел ладонью вертикальную линию, как раз в том месте, где раньше находился топор. Получилось, кстати, что-то вроде крестного знаменья. Рука сама собой легла на небольшой березовый туесок, как раз на полке под топорами. Туесок на поверку оказался заперт.
* * *
Сверху, у себя в комнате, разглядывала свои руки в бородавках Марфа Прокофьевна, сидя в одиночку за карточным столом. Она неспешно раскладывала пасьянс, мирясь с положением карт так же фатально, как и со своими бородавками, без радости и без огорчения — мол, на все воля Божья.
Марфе Прокофьевне было шестьдесят шесть лет, как раз вровень с веком. Удобно даже: коль забудешь, сколь тебе лет от роду, так надо лишь спросить, который на дворе год.
Лицо ее было изрезано морщинами; уж ни губ, ни глаз толком из-за них не видать. Тело вон тоже с годами высохло. Одна сердцевина и осталась. Ну да что Бога гневить: ведь ходим-таки еще, не ползаем. Она сидела, набросив на плечи большую черную шаль. Изящный кружевной чепец не вполне уместно смотрелся на жидких седых волосах, собранных на затылке в шишечку.
На приход Анны Александровны она даже головы не подняла.
— Что, ушел?
— Ушел.
— Кто таков?
— Говорит, следователь.
— Чего хотел?
— Степана Сергеевича с Тишенькой нашли. — Марфа Прокофьевна вскрыла пикового туза. — Неживые, оба, — устало произнесла Анна Александровна.
Марфа Прокофьевна передвинула червовую семерку, возложив ее на восьмерку пик.
— Марфа Прокофьевна, вы слышите? — в голосе Анны Александровны сквозило что-то похожее на мольбу.
— Да слышу, слышу.
— Он спрашивал насчет той ссоры.
— И что? Чего сказала?
— Да как было, так и сказала.
— Ну вот и упокоился наш Степанушка. Чему быть, того не миновать. Господа, видать, прогневил. Наказал, должно, за уродство-то.
— Да разве ж такое наказуется. Его-то греха в том не было.
— Не он один, не ему одному и кара.
Марфа Прокофьевна, отложив карты, взглянула опять себе на пальцы. Надо же, ни одного уж, чтоб без бородавки; даже суставы вон как-то искривились. Последнее время перстами омахиваться и то затруднительно. Она снова взялась за карты.
— Он сказал, они еще раз придут. Из полиции-то. Показания с нас всех снимать будут, — поежилась Анна Александровна.
Марфа Прокофьевна наконец подняла глаза, глубоко запрятанные в сетке морщин.
— За меня не бойся. Я от родни вашей сроду не отрекалась, не отрекусь и теперь.
— Да я и не боюсь особо.
Марфа Прокофьевна продолжала в тишине раскладывать карты.
— Раньше кто обо всем заботился? — сказала она наконец. — Я, нянька ваша. Вот и опять, надо будет, обо всем позабочусь. Богу богово.
Глава 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО КНЯЗЯ
— Разумеется, вы этого ожидали! — горячился Никодим Фомич, суперинтендант.
— Да у меня такого оборота событий и в мыслях не было! — горячился и Порфирий Петрович.
— Порфирий Петрович. Давайте взвешенно. — Никодим Фомич растопырил по столешнице пальцы, как будто играл на рояле или, паче чаяния, боялся, что стол сам собой оторвется вдруг от пола и взлетит. Постояв так немного, он словно для верности нажал пальцами на зеленое сукно и лишь тогда сел. — Прокурор решил…
— Прокурор — спесивый чинуша и болван!
— По его мнению, дело решенное. Карлик погиб от руки того дворника. Дворник совершил самоубийство. Ваши же следственные действия выявили несколько, скажем так, неожиданных свидетельств, вызвавших в управлении большие споры. Поручик Салытов взял недавно показания у всех жильцов того дома. И кстати, некоторые из них утверждают, что дворник во всеуслышание — можно сказать, громогласно — грозился того карлика убить.
— Однако медицинское освидетельствование…
— По мнению прокурора, оно не вполне достоверно. «Подозрительное» — так он, кажется, выразился.
— Доктор Первоедов в заключении указал: налицо самый что ни на есть наглядный случай отравления синильной кислотой.
— Прямо так и указал?
— Прямо так, — запальчиво подтвердил Порфирий Петрович.
— Прокурор, между нами, о вашем докторе не самого высокого мнения…
— Какое это имеет отношение к делу!
— Другой врач, назначенный уже прокурором, заключил, что следы синильной кислоты возникли из-за загрязнения в химической лаборатории. И что Первоедов ваш вообще занимается не тем, да и переработал, возясь с больными, порядком. Так что начальство наше вряд ли станет впредь допускать его к нашим делам. Прокурор вообще высказался в том духе, что надо бы его, дескать, наказать за некомпетентность, из-за того самого загрязнения. Факты, в его понимании, просто не вяжутся с каким-то там отравлением.
— Вздор, вздор, вздор! — сорвался Порфирий Петрович. — Глупость какая!
— Будет вам, Порфирий Петрович, полноте. В конце концов, это на вас даже не похоже.
— Никодим Фомич, но вы же сами прекрасно видите всю нелогичность таких, с позволения сказать, заявлений!
— Порфирий дорогой вы наш Петрович. Не забывайте, где мы: в России. А потому не логикой руководствуемся, но распоряжениями начальства. Вы же это не меньше моего знаете. И этот ваш Первоедов, можно сказать, еше легко отделался. Прокурор поначалу даже склонялся было, что он намеренно подделал результаты, в интересах своего служебного роста. Это уж я его разубедил.
Порфирий Петрович, рухнув в кресло, некоторое время удрученно молчал.
— Ну и что теперь делать? — проговорил он наконец.
— Что делать? Да плюнуть и растереть. Забыть все к чертям собачьим.
— А мертвые как же? Убиенные?
Горянщиков с бедолагой-дворником словно преобразовались у него в воображении в каменные изваяния, подпирающие теперь каменные своды. Только, в отличие от петербургских атлантов и кариатид, бремя это они удерживали с мучением, присущим живым.
— Мертвые, они и есть мертвые. И, по мнению прокурора, нечего им путать нам карты. Ишь чего удумали!
— Тогда почему он мне сам, в глаза это все не высказал? В конце концов, я же ему подотчетен, не вам.
— Хотите знать, что я на этот счет думаю? Он вас попросту боится. Вы же умнее его, и это налицо. За ним-то, помимо протекции да чина, особо ничего и нет. А у вас напротив. Проницательность есть, ум и сострадание.
Комплименты Никодима Фомича подействовали лишь удручающе.
— Вы мне о сострадании? Вот уж чего за собой не замечал. Хоть того же Первоедова спросите.
— А иначе зачем так биться, дознавая, кто убил тех двоих?
— Да нет, я об этом не из сострадания пекусь. К мертвым у меня участия нет. Им теперь все равно. Зачем им оно, мое сострадание.
— Я знаю, что вами движет, Порфирий Петрович. И от чего в вас сострадание.
— Что ж, в таком случае вам известно больше моего.
— Участь злоумышленников. Безнаказанность их преступных деяний.
Порфирий Петрович, сжав кулаки, костяшками пальцев подпер себе подбородок. Поза получилась почти молитвенная.
— Вы подразумеваете того мальчугана, — сказал он, глядя перед собой.
— Нет, не только его. А всех. Души людские, вот ради чего вы действуете.
— Эк куда хватили, Никодим Фомич. Да что мне дела до всех их душ? Мне б хоть свою уберечь. Это раньше я подобную околесицу нес. Но это была так, хитрость, чтобы вывести людей на откровенность. Не более чем профессиональная уловка. Тогда все на поверхность и выходит.
— Вот и я о том.
— Но не из сострадания! По мне, пусть они катятся ко всем чертям. Никакого сострадания у меня не может быть к хладнокровному убийце.
— А вот и есть, Порфирий Петрович. И вы все это на деле подтверждаете. Что и отличает вас от нашего многоуважаемого прокурора.
Порфирия Петровича сковало странное напряжение. Состояние его колебалось между уязвленностью и гневом.
— Заблуждаетесь, Никодим Фомич. Глубоко заблуждаетесь. Я единственно о славе, так сказать, радею. И амбиций у меня не меньше, чем у прокурора.
Смотреть на сослуживца он по-прежнему избегал, словно боясь увидеть в его глазах подтверждение своим словам.
* * *
Письмоводитель Заметов поджидал возле дверей в кабинет. Порфирию Петровичу сейчас страх как не хотелось сносить затаенную строптивость этого щелкопера. Тем не менее на этот раз в его поведении сквозило нечто заискивающее, не сказать подобострастное.
— Порфирий Петрович, — голос у Заметова был сама угодливость, — не смею ль я вас, ваше превосходительство, на минуту отвлечь, буквально самую малость?
Следователь, чуть нахмурясь, увидел на одном из стульев — где имеют обыкновение дожидаться очереди просители и жалобщики — изящной наружности молодого человека. Живые глаза посетителя тотчас обратились на Порфирия Петровича с мольбой и отчаянием. Вид у незнакомца был щеголеватый: галстук с крупным узлом, пальто с воротником из чернобурки, накинутое поверх костюма горчичного цвета с изумрудной жилеткой. Руки юноши нервно мяли бобровую шапку с уложенными в нее лайковыми перчатками. Волосы, похоже, с недавней завивкой; гладко выбрит — если он с такой нежной кожей вообще бреется. В самой его осанке и театральности молящего взгляда угадывалось нечто, так или иначе связанное с заискивающим тоном Заметова.
— Что тут у вас, Александр Григорьевич?
— Тут один мой друг… — молодой человек при этих словах искательно улыбнулся, — просит аудиенции в следственном управлении, по одному деликатному делу. Вопрос, я бы сказал, ну просто архиделикатный. Так вот я, Порфирий Петрович, естественным образом подумал-с, что лучше вас у нас в департаменте…
— Помилуйте, Александр Григорьевич, вы меня такой лестью просто в краску вгоняете.
Заметив, как столоначальник, открывая перед ним двери в кабинет, щелкнул каблуками, Порфирий Петрович не мог сдержать улыбки.
— Так что же мне сообщить посетителю? — заглянул в двери Заметов.
Порфирий Петрович из-за своего казенного стола бесстрастно взглянул на чиновника.
— Так вы говорите, дело деликатное? — переспросил он. — А есть ли в нем вообще, так сказать, состав преступления? Если нет, так это не ко мне. А в таком случае я вашему другу, боюсь, не помощник.
У Заметова вытянулось лицо.
— Здесь дело, в некотором роде, неоднозначное. — В своей озабоченности Заметов не заметил слегка насмешливого тона следователя. — Поскольку я сам не из следственного, мне об этих вопросах судить затруднительно.
— Да будет вам, Александр Григорьевич! Я вас сегодня, право, не узнаю.
Мимика письмоводителя сменилась с заискивающей на раздраженную. Он наконец понял, что над ним подтрунивают.
— Так что, видно, вам решать, не мне, уголовное это дело или нет.
— Вот, наконец-то!
— Так вы его примете или нет?
— Принять его — моя обязанность. Просите, Александр Григорьевич.
Молодой человек заглянул осторожно, с видом самым что ни на есть просительным. Заметову даже пришлось слегка его подтолкнуть, чтобы тот прошел к столу.
— Вы можете идти, — обратился Порфирий Петрович к выжидательно застывшему Заметову, не замедлившему, разумеется, выразить свое неудовольствие строптивым взглядом. Он вышел, закрыв дверь громче обычного.
— Ну-с, прошу. — Порфирий Петрович указал вошедшему на стул.
Молодой человек занял место осторожно, если не сказать опасливо, словно боялся, что у стула подпилены ножки. Внятного представления об этом человеке у следователя никак не складывалось.
— Итак, вы у нас…
Вопрос визитера как будто удивил, во всяком случае, озадачил — настолько, что он помедлил с ответом, не то из робости, не то из осмотрительности.
— Быков, Макар Алексеевич, — представился он наконец голосом высоким и слегка сдавленным. После чего, не заметив на лице у следователя никакой реакции на свои слова, полушепотом добавил: — Князь.
— Неужто и впрямь князь? — переспросил Порфирий Петрович; вышло слегка насмешливо.
— Вы, видимо, обо мне наслышаны?
— Да нет, — тоже помедлив, отвечал следователь.
— А ведь я пьесы пишу.
— Вы, стало быть, драматург?
— Причем вполне известный, в определенных кругах. Может, вам про них доносили, так сказать… по вашей служебной линии?
— Спешу разочаровать. Ни о вас, ни о ваших пьесах я не слышал. — Порфирий Петрович попытался улыбнуться ободряюще.
Вид у молодого человека сделался совсем уж нерешительный.
— Крамолы в них, понятно, нет, как я сам считаю. Произведения все глубоко патриотичные.
— Вот и похвально, — одобрил Порфирий Петрович.
— Только вот если их ставить, то есть опасность, что они могут быть неверно истолкованы. В смысле превратно поняты. Хотя смысл пьес досконально ясен.
— Да уж надеюсь.
— Вот Александр Григорьевич и убедил меня, что вы сможете мне помочь.
— С пьесами, извините, вам не ко мне. Я все же следователь, а не импресарио.
— А я к вам вовсе не из-за пьес пришел.
— Ах вот как. А то уж я было подумал…
Князя вдруг обуяла доподлинная буря эмоций. Притиснув руки к груди, он выпалил:
— Ратазяев пропал!
— Ратазяев?
— Да, он! — истово кивнув, князь смахнул навернувшиеся слезы.
— И кто же это?
— Это… — князь Быков даже зажмурил глаза от чувства, — очень, очень близкий мой друг.
Он открыл глаза, словно проверяя, как следователь усвоил его слова. Взгляд у него был теперь не робким и уклончивым, а полным неподдельного горя. В общем-то, проситель оказался вполне честным и не таким уж пугливым человеком.
— Понятно, — сказал Порфирий Петрович, действительно поняв, что к словам князя Быкова надо отнестись вполне серьезно. Только почему Заметов навязал этого человка именно ему? Вопрос поистине любопытный; а впрочем, сейчас не до этого. — Прошу вас, расскажите, как так вышло, что ваш Ратазяев исчез, — попросил он, закуривая.
— Я никак, никак не могу себе этого простить! Это все моя вина. Понимаете ли, у нас с ним случился разлад.
— И как именно?
Князь Быков поморщился, будто от боли.
— Видите ли, Ратазяев вдруг разжился деньгами. Я отнесся к этому с подозрением, поставил ему на вид. Даже упрекнул его. Он же мне сказал, что у него появился ангажемент, сценический. Он по профессии актер, хотя на подмостки не выходил вот уж бог весть сколько лет. Я ему так и сказал: дескать, что-то верится с трудом. И во многом его тогда обвинил. Вот смотрите. Играть он должен был в Тосно, и собирался туда якобы на неделю. На неделю, не больше. Но я вас спрашиваю, какой может быть в Тосно театр? А? И что это за сезон такой, что длится всего лишь неделю? Не-де-лю! Что можно поставить за неделю? Или он что, думает играть вовсе без репетиций? Ах да, то есть нет, не неделю, а две. Небольшой такой ангажемент, приватный. Единственный спектакль. Мол, и репетиции как раз для него предусмотрены. Дескать, все это в честь князя Строганова-Голицына, у них же имение как раз под Тосно. Якобы по случаю юбилея князя. Особое такое представление, от друзей. Что ж, ладно. А что за пьеса? Он мне, дескать, «Пир во время чумы». Вот уж действительно, самая что ни на есть пьеса для юбилея, а? Он тогда: «Ой, то есть не „Пир во время чумы“, а „Снегурочка“». Восхитительно! С Пушкина сразу на Островского! Он: «Ой, да нет, то есть не „Снегурочка“, а „Борис Годунов“». Прямо-таки весь «Годунов»? Вы что, всю постановку думаете подготовить за пару недель? Он мне: «Да нет же, нет. Так, отдельные сцены да арии». Сцены, видите ли! И какую ж ты роль думаешь там играть? «Главную». Нет, вы представляете: глав-ну-ю! Да тебя там, говорю, весь зал освищет, Борис ты Годунов. Ври, мол, да не завирайся. Все у тебя шито белыми нитками. Ох, он тогда взвился! Схватился чемодан укладывать: все, мол, уезжаю в Тосно, и точка. А меня с собой брать наотрез отказался. Даже чемодан не дал к экипажу поднести. «Не смей, — говорит, — даже приближаться». Ну да ладно, не смей так не смей. Я и не навязываюсь: ты человек вольный, поступай как знаешь. Хочешь в Тосно — поезжай в Тосно, я на дороге стоять не буду. Но лгать, мне! Этого я не потерплю! А что это, как не ложь?
Он того не знал, что я в кадетском корпусе состоял вместе с кузеном князя Строганова-Голицына. И что мы с ним иной раз в Английском клубе видимся. Вот я кузена там и спросил насчет всех этих чудесных приготовлений к юбилею, да еще с театром. А он мне: «Какой еще юбилей? Какой театр? У князя день рожденья летом, в августе». Говорю: «Может, ты ошибаешься?» — «Да нет же», — отвечает. И рассказывает, как в прошлом году самолично был зван к князю на день рожденья, и не было там никакого театра, а был фуршет и живые картины в саду. Кузен даже сам в том действе участвовал: сцены из Троянской войны; он, кажется, Патрокла изображал. Думаю, раз так, то ничего я Ратазяеву говорить не стану: сил моих нет. Не могу больше выносить такой лжи. Тем более от человека, которого я так… — князь Быков замялся, но быстро нашелся, — которым я так восхищаюсь. Тем более я его этим лишь сильнее уязвлю. — Князь посмотрел страдальчески. — А между тем лучше б мне было поступить именно так. Возможно, выложи я ему все начистоту, я бы его сейчас не потерял. А теперь это лишь так, отговорки. Однако это не все. Я за ним решил проследить. Прямо так, изменил внешность и проследовал за ним до Николаевского вокзала, откуда поезд отходит на Тосно.
— Изменили внешность? Как это?
— Да разве это важно?
— Важнее, чем вы думаете. Если б он вас увидел и узнал, это могло бы повлиять на ход дела.
— Но он меня не узнал.
— Откуда у вас такая уверенность?
— Я переоделся в женщину. — Вот как.
— Поэтому он меня не узнал, даже когда взглянул в упор.
— Итак, вы проследовали за ним на Николаевский вокзал.
— Да, и стоял как раз за спиной, когда он брал билет до Тосно. Он именно так в кассе и сказал. Я даже сам билет видел.
— Вы были так близко, и он все равно вас не распознал?
— Нет же, уверяю вас! Так вот, я сам тоже взял билет до Тосно и сел в поезд. Разумеется, не в одно с ним купе, но он все равно был так или иначе на виду. Я его на том поезде видел своими глазами.
— Ну, и что произошло?
— В Тосно я сошел на станции одним из первых. И наблюдал за всеми выходящими пассажирами.
— И?
— Ратазяев из поезда не появился.
— Возможно, он решил продолжить поездку?
— Мне вот что бросилось в глаза…
— Я весь внимание.
— Я увидел человека, мужчину, ехавшего с Ратазяевым в одном купе. Он сошел в Тосно на перрон с чемоданом Ратазяева.
— Но это был не Ратазяев.
— Именно.
— Так. А вы уверены?
— Тогда, в тот момент, уверенности особой не было. Так сказать, глазам своим не верил. А теперь уверен, точно.
— Почему же сейчас вы уверены?
— Потому что Ратазяев не вернулся. Из той поездки. Уж где б его ни носило, но возвратиться-то он был должен! Он мне клятвенно это обещал, а прошло уже без малого три дня. Тем не менее ни его самого, ни хоть какой-то весточки за все это время. Это на него не похоже. Размолвки у нас случались, не отрицаю, но так он меня никогда не наказывал. И слезы у нас бывали, и упреки. Но все кончалось полюбовно. Я прощал его, а он меня.
— Вы мне можете описать этот чемодан? — спросил Порфирий Петрович, подождав, пока князь совладает с собой.
— Чемодан? Коричневый. — Князь промокнул щеки большущим носовым платком. — Кожаный коричневый чемодан.
— Но откуда вы уверены, что это был именно чемодан Ратазяева? Мало ли у кого из пассажиров коричневые чемоданы.
— Тот был именно той формы и размера, к тому ж на нем еще и царапина приметная есть.
Князь Быков машинально проводил взглядом руку следователя, сующую папиросу в хрустальную пепельницу.
— Все равно, этого не вполне достаточно, — сказал Порфирий Петрович. На князя больно было смотреть. — Тем не менее, если вы немного потерпите, я вам кое на что предложу взглянуть.
* * *
Чемодан отыскался не сразу. Не было даже уверенности, что он вообще в участке. Поручик Салытов поначалу было воспротивился:
— Вы же в курсе, что расследование на сегодняшний день официально прекращено?
— Я-то в курсе, Илья Петрович. Только был бы очень признателен, если б вы все же выполнили эту мою просьбу. Этот господин — между прочим, князь, не кто-нибудь — заявил о пропаже человека. Причем в свидетельстве фигурирует некий чемодан, как часть багажа. Так что для большей точности показаний мне необходимо сверить его с тем, что вы нашли в Петровском парке. Только и всего.
Салытов помедлил, всем своим видом выказывая вопросительность, не сказать подозрительность. Пускаться на поиски ему явно не хотелось. Однако в конце концов чемодан все же нашелся. Из хранилища его успели убрать, но в участке он тем не менее остался. Кто-то из чинов приспособил его у себя под столом для папок со старыми делами. Папки пришлось выложить.
Едва завидев чемодан, князь нервно кивнул.
— Он самый, ратазяевский. Вон и та царапина на крышке.
Глава 13 СТРАННЫЙ ДОКУМЕНТ
Здание Департамента полиции Санкт-Петербурга впечатляло не только своим видом, но и ухоженностью. Контраст с участком на Сенной был налицо. Даже сами мундиры полицейских — пусть таких же по чину, как и на Сенной, — смотрелись как-то более ладно, парадно. Идешь все равно что в гости к богатым родственникам, где надо блюсти себя с удвоенной тщательностью.
Департамент располагался на Гороховой, 2, рядом с Адмиралтейством. Здесь на третьем этаже и находился кабинет прокурора Липутина. Порфирий Петрович не спеша поднялся по мраморной лестнице, слыша эхо собственных шагов.
В приемной, как он и ожидал, пришлось промаяться довольно долго, прежде чем его наконец впустили в кабинет — куда просторнее, наряднее и светлее, чем его собственный. Прокурор сидел за добротным, орехового дерева столом, углубившись в изучение какого-то дела. Подняв наконец глаза, он кольнул вошедшего строгим взглядом.
— А, Порфирий Петрович, — сухо сказал он.
— Ваше превосходительство.
— Какими судьбами-с?
— Хочу испросить вашего разрешения на возобновление следствия по убийству мещанина Горянщикова.
— Горянщикова, Горянщикова… Это тот карлик, что ли?
— Так точно. Появилось новое свидетельство.
— Вы что, все еще ищете Новые свидетельства?
— Я сам его не искал. Оно само объявилось.
— Ну, и Что это за свидетельство?
— Показания некоей особы княжеского рода. А, как известно, достоверность показаний свидетеля закон требует уравнивать с его чином. Так что свидетельство княжеской особы со счетов сбрасывать никак нельзя.
— Князь? А что за князь?
— Князь Быков.
— Так что у него, говорите, за свидетельство-с?
— Он опознал чемодан, в котором был найден труп Горянщикова. Тот чемодан, как выяснилось, принадлежал компаньону князя, некоему Ратазяеву. Так вот, Ратазяев объявлен в розыск как пропавший.
Лицо Липутину скривило как от уксуса.
— Каким таким образом тот чемодан попал ему на глаза?
— Я ему его показал.
— Вы! Да как вы смели!
— На чемодане были характерные отметины, что само по себе помогло установить его принадлежность Ратазяеву. Мне подумалось: если князь Быков признает тот чемодан из Петровского парка, это поможет ему описать и багаж исчезнувшего друга.
— Опять вы за свои игры, Порфирий Петрович!
— Я лишь хотел установить связь между этими двумя…
— Кто этот Ратазяев?
— Актер.
— Ах акте-op, — протянул прокурор иронично.
— Очень близкий друг князя Быкова, который, между прочим, вхож в высший свет. И надо сказать, тепло отзывается о Строгановых-Голицыных.
— Карлик был убит дворником. Дворник убил сам себя, — забубнил прокурор, словно пересказывая Ветхий Завет.
— Что ж, может, оно и так. Но остается вопрос: как тело Горянщикова в итоге очутилось в чемодане Ратазяева? И где, в конце концов, сам Ратазяев?
— Да откуда он знает, что этот чемодан — тот самый? Подумаешь, кожаный коричневый. Да таких по одному Петербургу, должно, тьма тьмущая. Нет, это не факты. Занимайтесь исчезновением Ратазяева, но и только. И чтоб никакой мне связи между этими двумя делами! — Видя искреннюю разочарованность на лице подчиненного, прокурор с натянутой улыбкой добавил: — Да я ж о вашем только благе и радею, Порфирий Петрович! Не ровен час, сядете еще с этим делом в лужу перед начальством. Да ну его! К тому же вам ли, с вашим либерализмом, плясать под дудку какого-то там аристократишки.
* * *
В тот вечер Порфирий Петрович ужинал у себя в кабинете: стерляжья уха и расстегаи из ресторана на углу Садовой и Вознесенского. Вернее, не ел, а так, ковырнул да бросил. Ужин как был подан, так почти в том же виде и унесен Захаром, пожилым лакеем, состоящим здесь в услужении.
— Надо ж, и не притронулся, — покачал головой Захар, исчезая с подносом в людскую. — Ну да ладно, их дело. А я свое справил, — и в два счета разделался с почти нетронутой трапезой.
За вином Порфирий Петрович не посылал. В конце концов, сейчас был пост: канун Рождества. Вместо этого он ограничился крепким кофе. И когда Захар, убирая поднос, посягнул было и на кофейник, он остановил его предостерегающим жестом. Вот так только за весь вечер и пообщался с верным слугой.
Перед Порфирием Петровичем лежали выкупленные в ломбарде книги. Среди них и та французская, над которой корпел Горянщиков; перевод тоже был здесь. Порфирий Петрович намеревался продолжить знакомство с текстом, а заодно и с тем, насколько перевод соответствует оригиналу, но на него вдруг нашла какая-то дремотная вялость. Хотя оно и понятно: его же отстранили от дела, как тут не впасть в немоту. Оживил его, в конце концов, крепкий кофе. В животе заурчало (зря, пожалуй, отказался от ужина). Порфирий Петрович закурил: так оно сподручней думается. Но и при этом не удавалось собраться с мыслями настолько, чтобы суметь тщательно сличить исходный текст с рукописным русским переводом.
Он нехотя переключился на философские опусы: русские издания «Силы и материи», «Суеверия и науки», «Круговорота жизни» и «Диалектики природы». Правда, усердия хватило разве что на титульные листы. Но и этого, кстати, оказалось достаточно, чтобы уяснить: все книги опубликованы одним и тем же петербургским издательством — «Афина», Невский проспект, 22.
Досадуя на себя за то, что никак не может сосредоточиться, Порфирий Петрович остановил наконец взгляд на лежащем рядом альманахе пикантного свойства. Именно эта самая пикантность, замешанная на непотребстве, мешала ему раскрыть эту книжицу с самого начала. Хотя, пожалуй, надо было это сделать, едва лишь выкупив ее у процентщика. (Можно только догадываться, как ходил вокруг нее кругами, изнывая от скоромного любопытства, Захар.)
Хотя, надо полагать, эту самую «Тысячу и одну девичью головку» Порфирий Петрович все равно бы открыл, неважно, в связи или вне связи со следствием. А уж после нынешней аудиенции с прокурором и подавно. Он теперь был как тот околоточный, что приспособил под свои нужды чемодан Ратазяева. Уликами эти книги более не считаются, ведь хозяин их мертв. Так что, получается, он тоже волен распоряжаться ими по своему усмотрению. Просто как частное лицо.
Адреса на титульном листе не значилось, только символ «Приапа» да еще имя (а скорее псевдоним) переводчика. Надпись гласила: «Переведено с французского „Алкивиадом“».
Страницы книжки были не разрезаны. Подносить к ним нож почему-то не хотелось, словно это могло как-то осквернить лезвие. Судя по количеству девиц (1001) и страниц (около 200), усекновений голов на лист должно было приходиться примерно по полдесятка. Получается, на само повествование, а уж тем более на развитие сюжета места отводилось не густо. Но, взглянув лишь мельком, Порфирий Петрович с удивлением обнаружил, что автор, вопреки ожиданиям, позаботился и о связности сюжета, и об увлекательности. Причем первая девица, прежде чем расстаться с головой, продержалась аж несколько страниц, на которых она сноровисто входила во вкус любовных утех, прежде чем лишиться девственности, а с нею и головы. Первую треть книги соития шли хотя и по нарастающей, но все еще вдвоем. Однако к середине повествования любвеобильный злодей, поднаторев, стал уже затаскивать на всевозможные ложа по нескольку красавиц одновременно. Ну и наконец, венчалась книга оргией страниц на пятнадцать — в закрытом пансионате, где головы (общим числом 321) в некую вальпургиеву ночь посыпались градом, чуть ли не наперегонки. Последняя голова принадлежала настоятельнице — шестидесятилетней старой деве, разрыдавшейся при открытии, какой услады она себя лишала на протяжении долгих лет.
Поглощенный сей трогательной развязкой, Порфирий Петрович дошел наконец до последней пары неразрезанных страниц, оказавшейся неожиданно выпуклой на ощупь. Выяснилось, что между ними всунут сложенный вдвое бумажный листок, который он невзначай чуть было не распорол, торопясь закончить скабрезное, но презабавное чтиво. Осторожно вынув двумя пальцами листок, он развернул его и прочел (буквально) следующее:
Сей документ является достоверным и обязательным к исполнению Договором, в коий не по принуждению и по своей воле вступают нижеуказанные стороны, в чем и подписуются:
Павел Павлович Виргинский (подпись) Степан Сергеевич Горянщиков (подпись)
В двадцатый день одиннадцатого месяца года 1866-го сторона первая — сиречь Павел Павлович Виргинский — вверяет душу свою стороне второй — сиречь Степану Сергеевичу Горянщикову — безоговорочно и навсегда, за исключением разве что кончины Степана Сергеевича Горянщикова, в коем случае вышеозначенная собственность переходит к наследникам Горянщикова; либо, в случае если наследников у оного не окажется, собственность на душу Павла Павловича Виргинского возвращается обратно к вышеозначенному Павлу Павловичу — но лишь в случае, если Степан Сергеевич Горянщиков не распорядится оной собственностью своею — как-то, живой и вечной душою Павла Павловича Виргинского, — иначе: путем завещания, передачи либо иным каким скрепленным свидетельскими подписями документом.
Подписано в присутствии свидетелей:
Константина Кирилловича Говорова (подпись) Алексея Спиридоновича Ратазяева (подпись)
* * *
— О-о, да вы, я вижу, опять к нам пожаловали! — Порфирий Петрович кивнул, избегая глядеть мадам Келлер в глаза. Для того чтобы почувствовать ее сарказм, это было совершенно излишне. — А вы, я вижу, быстро схватываете! Вон и шубу свою драгоценную изволили без уговоров снять. Надеюсь, теперь и от шампанского не откажетесь?
Порфирий Петрович лишь молча кивнул.
— Ну уж на этот-то раз, уповаю, вы к нам не как официальное лицо? — все задирала гостя мадам Келлер, наполняя искристым напитком бокал.
— Скажите, Лиля сюда после моего прошлого визита не наведывалась?
— Да вот все не дождемся. Забыла, видно, нас Лилечка-то. Ну ничего, мой господин, мы вам другую девушку подыщем. Не желаете снова Раю? Нет? Она вам разве не по вкусу пришлась?
— А помоложе кого-нибудь у вас нет?
Мадам Келлер игриво хохотнула: дескать, ох уж я вас, развратных шалунишек, насквозь вижу.
— Если вы насчет девственниц, так у нас их нет. Увы, не держим!
— Лиля из девушек была самой юной, по возрасту?
— Всё Лиля да Лиля, уж будто на ней свет клином сошелся. Она, знаете, тоже далеко не девственница. Как там у вас, русских? Лучше синица в руках, чем куропатка на ветке? Да?
— Не совсем. Тем не менее, если б мне захотелось… ну, скажем, совсем юную девушку — именно девственницу, — есть у вас кто-нибудь, кто осуществил бы такое мое пожелание?
— Это как? Схватить с улицы привести, что ли?
— У вас это так делается?
— Есть у вас еще одна поговорка: любопытной Варваре нос — что?
— Оторвали.
— Вот то-то. Не знаю, как вам, а мне бы его действительно того.
— Вам не известен такой Константин Кириллович Говоров?
— Нам в нашем деле ой сколько имен слышать доводится.
— А некто Ратазяев?
— Вот уж этот-то точно нет. — Мадам Келлер качнула головой. — Такую фамилию запомнить несложно.
— И еще: вам не знакома проститутка — пожилая, из бывших — Зоя Николаевна? Она еще приглядывает за Лилиной дочуркой?
— Дочуркой? Да господь с вами, mein Herr. Малютке и пяти нет!
— Я, безусловно, плачу.
Глаза мадам Келлер вдумчиво сузились — видимо, ее впечатляла хладнокровная настойчивость клиента.
— Раньше, быть может, оно бы и возможно. Но теперь, когда у Лилечки богатый покровитель… думаю, вряд ли. Деньги в таком случае ничего не решают. Стену, знаете, лбом не прошибешь.
— А Зоя? Может, как-то через нее? Вас мы, безусловно, тоже не обделим — если, разумеется, вы меня выведете на старую потаскуху.
— А вы решительный человек. — Мадам Келлер бросила красноречивый взгляд. — Я вас недооценивала. Если в подряснике, то еще не значит, что монах. Так, кажется, у вас говорят?
Порфирий Петрович, смело выдержав ее взгляд, пригубил шампанского. Которое, кажется, словно разом утратило свой вкус — настолько вдруг похолодело внутри.
Глава 14 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДУШИ
Шкатулочнику Кезелю снилось, будто бы он возводит лестницу для царских чертогов — длинную-предлинную, а из-за этого не вполне прочную. Все попытки объяснить, что в возведении лестниц он не дока, успехом не увенчались: дескать, делай как велено. Ценнейшую белую древесину доставили для этой цели в столицу откуда-то издалека. Количество дерева на возведение той лестницы было, кстати, скрупулезно просчитано, чтобы точь-в-точь соответствовало приложенному чертежу. Малейший просчет был совершенно недопустим. Все это Кезелю предварительно якобы разъяснили. Но вот беда: лист с чертежом постоянно взметался налетающим ветром, а потому приходилось поминутно отвлекаться, чтобы его как-то расправить. В конце концов от чертежа Кезель решил отказаться. Дерево он пилил и подгонял по памяти. Поначалу все шло гладко, как будто и не с тяжелой древесиной работаешь, а так, балуешься. Невесомые бревна и доски тесались и подгонялись легко, играючи. Венцы сами собой, по мановению руки, становились на место. Весело схватывали дерево шпунты. Как вдруг, взглянув вверх, Кезель обомлел: лестница-то, оказывается, совершенно ушла набок от верхней площадки, куда ее надлежало приладить. И тут все пошло наперекосяк. Тщательно вымеренные венцы перестали стыковаться, хоть плачь. Попробовал было сшивать их гвоздями — преогромными, — да куда там. Сколько по ним ни лупи, никак не входят. Кезель упорно колотил гвоздь по шляпке, но после временного поражения тот неожиданно выпирал обратно, как будто древесина зарастала сама собой, вытесняя гвоздь наружу. Уж он и темп, и силу удара менял — все впустую. Как он ни усердствовал, проклятущий гвоздь не входил, и все, хоть ты тресни.
Очнувшись от смутного сна, Кезель по-прежнему слышал дробный стук — только, как выяснилось, не молотка, а просто кто-то снаружи ломился в дверь. В остывшем за ночь жилье стояла кромешная темень. Вслушиваясь в грохот со злобой и вместе с тем с опаской, Кезель медлил: открывать, не открывать? Тем временем вопрос решился сам собой: дверь попросту высадили. В комнате затрепетал свет фонаря. Сзади угадывались силуэты людей — судя по отблеску блях и пуговиц, вроде как в мундирах. Жандармы, что ли, нагрянули?
— Студент Виргинский! — выкрикнул тот из них, что держал фонарь. — Где он?
Кезель, моргнув, молча указал на комнату своего постояльца.
Двое из ворвавшихся, что-то неразборчиво крича, бросились к двери. Еще секунда, и дверь была выбита, а голоса раздавались уже в комнате Виргинского.
Между тем в квартиру вошел еще один человек — приземистый, плотный, облаченный в шубу. Кезелю он мрачновато кивнул.
Слышно было, как из комнаты кричит Виргинский:
— Да иду же, иду! Дайте хоть ботинки надеть, сатрапы!
Обувь ему надеть, судя по всему, не дали — так и выволокли в незашнурованных башмаках и в таком виде поставили перед человеком в шубе.
— Ах… ах вот как! Сначала подношения, а потом арест, да?!
— Ну что ж. — Человек в шубе чуть прищурился. — Милости просим с нами, господин Виргинский.
* * *
Виргинского, наспех покормив, препроводили в кабинет Порфирия Петровича. На дверях поставили жандарма.
У следователя на столе лежал листок с тем самым договором. Виргинский, лишь пробежав его глазами, уничижительно хмыкнул:
— Нашли в чем обличать. Подумаешь. Уж и пошутить нельзя. Вы что, в самом деле полагаете, что я из-за этой белиберды мог его убить?
— Кто эти люди, Говоров с Ратазяевым?
— Откуда я знаю. Так, знакомцы Горянщикова. Он с кем только не знался. А с этими, кажется, прямо там, в трактире, и познакомился. Я их раньше и не видел. Актеры, должно быть. Или бывшие.
— То есть они оба актеры?
— Наверно. Точно не помню. Я пьян был. Судя по их манерам, да.
Порфирий Петрович взглянул на листок.
— Говоров, Константин Кириллович… Надо же, странное какое совпадение. И все одно, опять же сходится на вашей знакомой, Лиле. Помните, я вас как-то спросил, говорит ли вам что-нибудь это имя?
— Не знаю. Может быть. Не упомню… И вообще, все совсем не так было! — вскинулся вдруг Виргинский. — Вы меня не о том спрашивали! А о том, если не изменяет память, слышал ли я когда-нибудь это имя от Лили!
— Да неужто? А из вас, знаете, действительно вышел бы толковый адвокат. Как это резко меняет дело. Хотя в невиновности вашей это меня убеждает не особо. Вначале вы говорите, что ничего не помните. А следом вдруг оказывается, что помните очень даже подробно.
— Я сейчас только вспомнил, неожиданно для себя. Я изнемогаю от усталости. Меня силой подняли с постели. Вы бы сами при подобных обстоятельствах ручались за четкость своего рассудка? Ну да, вам небось оно только на руку. Вам лишь бы человека на слове поймать и от него потом разматывать!
— Не буду притворяться: я не вполне понимаю, чем вы руководствовались, подписывая этот, с позволения сказать, договор.
— Я был тогда пьян. Мы затеялись играть в карты, и я Горянщикову оказался должен уйму денег, которых у меня на самом деле в помине не было. Но не мог же я, поступившись честью, отказаться от своего карточного долга! Вот он и предложил мне такой выход. А я подумал: «Почему бы и нет?» Тут уж или пан, или пропал — не писать же, в конце концов, отцу. Я и выбрал из двух зол наименьшее.
— И где же вы заключили этот самый договор?
— Да в каком-то кабаке, прямо-таки кружале, возле Сенной. А вы-то где его отыскали?
— Где? Да между страниц одной из заложенных вами книг. — Виргинский зашелся сипловатым смехом. Порфирия Петровича между тем стало разбирать некое сомнение. — Разве не вы его туда поместили? — Виргинский мотнул головой. — Тогда как он там очутился, не подскажете?
— Должно, Горянщиков подложил.
— Зачем же? Зачем ему было прятать договор в одну из ваших книг?
— Так те книги были не мои, а его.
— Но ведь вы же их заложили?
— Да, я. Сознаться честно, я их попросту у него украл. Утащил и заложил, чтоб хоть какие-то деньги раздобыть. А потом бы их выкупил и вернул назад. Клянусь! Сразу же, как обзавелся бы хоть какими-нибудь средствами.
— И как вы, интересно, надеялись ими разжиться? Через отца?
— Нет, только не это! Я… я не знаю. Есть же разные пути. Вон Горянщиков, тот всегда как-то умел обернуться. Я думал, может, в журналисты подамся.
— А вы знаете, мне кажется, Горянщиков воспринимал этот договор куда серьезнее, чем вы. Потому, видно, и украл у вас закладной билет, что надеялся вернуть договор себе.
— А может, ему те книги просто понадобились для работы. Он же их переводил.
— Переводил? — Порфирий Петрович поднял брови. — Прямо-таки все!
— Все не все, но, по крайней мере, те, что по философской тематике. Его на это подрядил тот субъект.
— Который именно?
— Ну, тот, что проживает у Анны Александровны.
— Осип Максимович? — догадался Порфирий Петрович. — Это не он, часом, заведует публикациями от «Афины»?
Виргинский в ответ неопределенно промолчал.
— Отец у вас, должно быть, ужасный человек, — сменил вдруг тему разговора следователь.
— Это уж точно. Сущее чудовище, — не стал запираться Виргинский.
— А вы, видно, погрязли в житейских невзгодах из нежелания принимать от него помощь.
— Да я из его рук гроша ломаного не приму!
— Может, вы все же усугубляете?
— Я бы еще посмотрел, кто из нас усугубляет! — взвился Виргинский. — Уж не тот ли, кто похищает у своего сына всякую надежду, всякую возможность на счастье! — Порфирий Петрович хотел было спросить, что же это за похищение, но Виргинский его опередил. — Речь идет… о девушке, — выдавил он.
— Вон оно что.
— Я любил ее. Да, любил; что вы на это скажете! А он знал. Он все знал. Но при этом… При этом он еще и вожделел ее. Стремился обладать ею точно так, как он стремится обладать всем, на что положит свой алчный глаз! А то, что в нее влюблен был я, его единственный сын, для него лишь подливало масла в огонь.
— А что же та девушка? К чему, собственно, стремилась она?
— Она-то? Я не мог противостоять его лжи. Ни лжи его, ни богатству. В общем, они поженились. А мать моя давно уж в могиле.
— Мне кажется, что эта девушка вас попросту недостойна. И возможно, именно сознавая это, вы так сердитесь на своего отца. Вы вините его в ее несовершенстве.
— И потому вы, исходя из такой логики, считаете, что это я убил Горянщикова? — спросил Виргинский с сарказмом.
— Я считаю, что это повлияло на ваше решение вступить в тот престранный сговор. Вы дошли до такого отчаяния, такого нигилизма, что решили: уж лучше это, чем попросить денег у отца.
— Какой, к черту, сговор! Всего лишь никчемный клок бумаги!
— За которым вы, однако, возвратились в тот дом на Большой Морской, не так ли? Я имею в виду вашу попытку попасть позавчера ночью в комнату Горянщикова и вернуть ту бумагу себе.
Виргинский растерянно потупился.
— Да, не стану отрицать. Я туда приходил, и именно за ним. Но все равно я в это не верю. Ни в какую такую чертовщину, слышите! Я рационалист. Можете меня даже материалистом назвать, я не стану спорить. Просто, знаете, было как-то надежней иметь его все же при себе.
— Потому-то вы и отказались зайти со мной назавтра в тот дом. А ну как горничная скажет что-нибудь и тем самым вас выдаст. Что, разве не так?
— Мне не в чем себя упрекнуть!
— Ну, разве что в ваших словах Кате насчет того, что Горянщиков цел и невредим, даром что вы уже прекрасно знали о его смерти. — Порфирий Петрович поджал губы с таким видом, будто именно этот нюанс у Виргинского огорчает его более всего.
— Я в тот момент не владел собой. Смалодушничал.
— Да уж. Однако давайте вернемся к Константину Кирилловичу. Этот человек был вам известен. Вы этого не можете отрицать. И тем не менее вы не сказали мне этого, когда у вас была такая возможность.
— Еще раз повторяю: я не знал никакого Константина Кирилловича. Вообще никого с таким именем. Мало ли с кем мог снюхаться в том кружале Горянщиков! Он что, всех своих бражников по имени-отчеству мне представляет?
— Некая девица у мадам Келлер мне сообщила, что этот самый Константин Кириллович делает порнографические снимки.
— Вполне может статься. Ну и что?
— Самых что ни на есть молоденьких девушек.
— Зачем вы адресуете подобные вопросы ко мне? Я знать о них не знаю!
— Данная ваша бумага крайне компрометирующего характера. В ней вполне может прослеживаться мотив для убийства. — Виргинский устало мотнул головой. — По ней можно предположить, что вы убили Горянщикова, а виновным якобы выставили Тихона. Теперь вот еще и Ратазяев пропал. По логике вы могли устранить и его. Теперь Говоров. Где он? Мотив опять же налицо. Само собой напрашивается дело, где красной нитью проходит, что в ваших интересах было избавиться от всех, кто так или иначе имел отношение к данному договору.
— Но ведь это неправда! — буквально взмолился Виргинский.
— Ах, вы мне о правде, — вздохнул Порфирий Петрович. — Вот станете юристом, Павел Павлович, тогда быстро уясните, что как раз на правду полагаться особо не приходится.
* * *
Заснеженные тротуары Невского пестрели черными пятнами следов. Порфирий Петрович шел, наклонив голову. Он словно вчитывался в прихотливые цепочки с оттисками подошв, как будто те могли вывести его к разгадке тайны; иными словами, к загадочному убийце. Хотя на тротуар он смотрел скорее потому, что избегал смотреть на небо — напоминание о вечности, словно отстраненно взирающее сверху на людскую суету. Столь же безучастно взирали на нее и громады зданий. Живым теплом согревала шею лишь цепочка с нательным крестиком.
Было уже около полудня, но день выдался сумеречным, блеклым. Серость улиц разбавлялась лишь светом витрин да фонарями экипажей, плывущими в промозглой сизоватой дымке. Местами проезжую часть пересекали густые вереницы прохожих. Чтобы не мешать себе и другим, приходилось поневоле встраиваться в немолчный ритм людского движения. Встречные колонны пешеходов смотрелись эдаким строем неприятельской армии.
И над всем этим реял сонм колких снежинок.
Номер 22 представлял собой трехэтажное здание на северной стороне, как две капли воды похожее на номер 24, что высился на той стороне проспекта возле лютеранской церкви. Летом здесь как раз находилась солнечная сторона, хотя в такой день, как сегодня, все стороны были одинаково пасмурны. Первый этаж — магазины: кулинария, бакалейная лавка с ярко намалеванной вывеской, салон меховщика, мужская галантерея, и, наконец, «Механические приспособления». Остальное — присутственные помещения с конторами, и прежде всего — Издательский дом Смирдина. Здесь же, кстати, располагался и объект поиска — издательство «Афина», указанное на философских книжках, выкупленных у процентщика Лямхи.
Оставив галоши в мраморном вестибюле под присмотром неприступного на вид швейцара (надо же, какая глыба: судя по бакенбардам и грозному взгляду, ну чисто генерал), наверх Порфирий Петрович поднялся в сопровождении его более подвижного сотоварища (судя по всему, отставного солдата, для которого сидеть сложа руки — сущее мучение). С готовностью вскочив, тот всем своим видом выразил живейшее желание проводить их благородие до места. «Сами-то ни в жисть не найдете, вашскородь, — жизнерадостно сообщил он, — хоть тыщу лет ищите!»
Разумеется, впереди ждали лестничные пролеты, лабиринт коридоров, многочисленные углы и бессчетные нумерованные двери с табличками присутственных мест.
— Вот видите, вашскородь! Куда б вы без меня! — бодрым голосом возгласил провожатый. Но вскоре, судя по всему, запутался и он, хотя виду не подавал. Это было ясно лишь по тому, что он несколько замедлил шаг. Наконец, встретившись в одном из коридоров с молоденьким посыльным, несущим под мышкой стопку бумаг, он начальственно его окликнул:
— Эй! «Афина» где?
— Этажом ниже, в семьдесят втором!
— Как будто б я сам не знаю! Они что, переехали, что ль?
— Отродясь там были, в семьдесят втором! — крикнул посыльный, отдаляясь.
— Вот болван молодой, — пробормотал провожатый. — Я ж точно помню, они в прошлый раз где-то тут находились.
На этот раз Порфирий Петрович повел поиски сам; к счастью, успешно.
Дверь в 72-й номер была открыта. Еще приближаясь, Порфирий Петрович расслышал голоса — мужские; один высокий и непринужденный, другой напористый баритон. Судя по всему, между ними шел какой-то оживленный спор, хотя и весьма добродушный. Создавалось впечатление, что дискутируют двое закадычных друзей.
— Нет-нет, я просто-таки настаиваю: мысль философа как бы заключена в его исходном языке!
— Но таким образом вы невольно утверждаете, что любая попытка перевода философии либо чревата неудачей, либо вовсе тщетна!
— Второе подразумевает первое.
— Но вы же сами посвятили этому всю свою жизнь! Это то, чем мы по сути занимаемся. Это наше… дело!
— Нет ничего благороднее, чем посвящать жизнь заведомо проигрышному предприятию, — прозвучало в ответ с эдаким сладострастным ехидством, после некоторой паузы.
Раскланявшись напоследок с провожатым, Порфирий Петрович легонько постучал по притолоке, тем самым заставив собеседников прервать спор и оглянуться на неожиданного визитера.
Своим голосам они соответствовали, можно сказать, в точности. Тот, что помоложе, — высокий и тощий, эдакий циркуль с продолговатым лицом и преждевременными залысинами. Сидя на краешке стола у своего сослуживца, на Порфирия Петровича он посмотрел льдистым взглядом поверх книги, которую подпирал снизу длинными пальцами. Бледное лицо несколько насуплено, а губы, и без того тонкие, поджаты, видимо в поиске встречного аргумента своему оппоненту. Его сидящий за столом коллега был, напротив, покат и гладок, с ухоженной бородой и аккуратно зачесанной седеющей шевелюрой. На вид ему было лет около пятидесяти. Проворные черные глаза за стеклами изящных очков светились умом и ироничностью. Тучноватый, но не обрюзглый; даже, можно сказать, все еще привлекательный мужчина, как ему только это удавалось. Длинный прямой нос придавал его профилю некую медальную четкость; если же смотреть на лицо анфас, то на кончике носа виднелась мелкая ложбинка. Сочные губы при виде посетителя растянулись в бравурной улыбке, что лишь усилило контраст с внешностью его насупленного, угловатого коллеги.
— Добрый день, господа, — поздоровался Порфирий Петрович. — Это, если я правильно попал, издательство «Афина»?
— «Афина», — кивнули оба сослуживца одновременно.
— Тогда, если не ошибаюсь, я имею удовольствие лицезреть Осипа Максимовича с Вадимом Васильевичем? Тех самых господ, что проживают в доме Анны Александровны Иволгиной?
Сослуживцы растерянно меж собой переглянулись.
— Именно так, — отозвался наконец старший по возрасту (как раз ему и принадлежал тот голос, что повыше). — Лично я Осип Максимович Симонов. Чем могу-с?
— Позвольте представиться: Порфирий Петрович, из следственного управления. — Фраза не вызвала никакой реакции. — Я по делу о Степане Сергеевиче Горянщикове. Он, кажется, у вас одно время работал?
— Ах вы вот о чем, — понял наконец Осип Максимович. — Прошу вас, присаживайтесь.
Правда, на всех стульях в кабинете громоздились груды книг и бумаг, а кое-где и то и другое одновременно.
— Да мы уж вроде как давали показания полиции, — заметил Вадим Васильевич с вызовом, поворачивая книгу к себе лицом, а одну ногу закидывая на другую.
— Да-да, — поспешил согласиться Порфирий Петрович. — Кажется, поручику Салытову. Я с ними ознакомился. Только я здесь не по этому вопросу. Да и дело то уже закрыто.
— Я про это знаю, из газет! — живо откликнулся Осип Максимович. — Вы, кажется, там сообщили, что Тихон вначале убил Горянщикова, а затем покончил с собой? Вот тебе и Тихон! А Горянщикова жалко. Потеря, можно сказать, невосполнимая. Ведь он у нас, прямо скажем, одним из самых добротных переводчиков значился. Вы ведь понимаете, переводить философию — дело наитончайшее, не какая-нибудь там физика-ботаника. Мы вот сейчас только что между собой обсуждали: здесь чутье, воображение необходимы. Переводчик должен вначале уловить сокровенный смысл философа, и уж затем только вживлять его в рамки иного языка. Взять Гегеля. Его и свои-то, немцы, отнюдь не все понимали. Как он сам изволил выразиться: «Был лишь один человек, что меня понимал, да и тот неверно истолковывал». Оно и неудивительно! Язык, единственно доступное нам средство выражения мысли, — инструмент, безнадежно далекий от совершенства. Можно с уверенностью сказать: есть вещи, для описания которых слов попросту не существует. Слова лишь упрощают, сужают вселенную. Есть, более того, целые разновидности идей и понятий, фактически не отражаемых в нашем сугубо условном, однобоком мире слов. Тот же Гегель, кажется, сказал, что сама идея способна содержать в себе свое же отрицание. Со словом такого не бывает. Я с ним безусловно согласен. — Он вдруг помрачнел. — Н-да, Горянщиков. Такой талант пропал!
— Вы в своих показаниях изволили утверждать, что те двое меж собой повздорили?
— Я? Да Господь с вами, — отмахнулся Осип Максимович. — Меня и в городе-то не было. Я в восьми сотнях верст отсюда находился. Вот Вадим Васильевич, говорят, что-то там слышал.
При упоминании своего имени Вадим Васильевич слегка насторожился.
— Ах да, точно, — спохватился Порфирий Петрович. — Помнится, Анна Александровна мне говорила, что вы, кажется, были на тот момент в Оптиной пустыни. Вы, выходит, человек набожный?
Порфирий Петрович со значением посмотрел на икону, прилаженную в одном из углов.
— А что, вы находите это предосудительным?
— Вовсе нет. Просто смею полагать, что некоторые из ваших авторов, извините, — отъявленные безбожники.
— Почему, коли дело закрыто, вы вообще донимаете нас всеми этими расспросами? — неприязненно спросил вдруг Вадим Васильевич баритоном еще более звучным, чем во время недавнего спора.
— Вадим Васильич, дорогой вы мой, — одернул коллегу Осип Максимович, глянув на него с укоризной.
— Да я вовсе не о том деле расспрашиваю, — Порфирий Петрович затрепетал ресницами, — а так, из интереса. Вы правы, то дело закрыто. Однако я пришел потолковать с вами о другом, с позволенья сказать, происшествии. Я сейчас расследую исчезновение некоего Алексея Спиридоновича Ратазяева.
Наступила пауза. После чего Вадим Васильевич сказал:
— Нам такой неизвестен.
— А вам, Осип Максимович? Может, вы что-нибудь от себя скажете?
— А я, кстати, где-то это имя слышал. Ратазяев. Хм. Не из актеров, часом? Да-да, кажется. Я его, сдается мне, видел в какой-то постановке. Вы ту пору, Вадим Васильич, не застали, — снисходительно улыбнулся он коллеге. — Ратазяев, Ратазяев… Да, определенно был такой актер, к тому ж достаточно известный. А потом, кажется, что-то с ним такое случилось. Не то пьянство его сгубило, не то еще какая напасть.
— Так вот, именно он и исчез.
— А мы-то, собственно, здесь при чем? — спросил Вадим Васильевич, выпрямляясь наконец в полный рост.
— Имя его упомянуто в одном документе, принадлежащем Горянщикову. Там, помимо этого, значится еще один господин, некто Константин Кириллович Говоров. — Вадим Васильевич на это лишь с тягостным вздохом захлопнул книгу. Осип Максимович бесцветно улыбнулся. — Горянщиков был с вами связан постольку, поскольку выполнял для «Афины» определенную работу. Кажется, он и непосредственно перед убийством делал для вас какой-то перевод?
— Да, определенно. «Философию нищеты» Прудона. — Осип Максимович удрученно вздохнул.
— У него также был найден ряд философских трудов, изданных «Афиной». Все произведения переводные. Видимо, его работа?
— Молешотт, Бюхнер, и Фохт с Дюрингом, — перечислил по памяти Вадим Васильевич. — Да, книги все в его переводе.
— Вот-вот, именно они, — кивком оценил его памятливость Порфирий Петрович. — Так что, как видите, Ратазяев некоторым образом увязывается с Горянщиковым. А тот, в свою очередь, невольно выводит меня к вам.
— Вы говорите, Ратазяев исчез, — заметил Осип Максимович раздумчиво. — А по мне, так это обычное дело, для нашего-то города. Может быть, он вообще взял да и перебрался в ту же Москву, и концы в воду. Или вон на Выборгскую сторону. А старые порочащие связи да знакомства попросту порвал, чтоб не отягчали новую жизнь. Иными словами, спрятался. И с прежним актерским амплуа своим раз и навсегда покончил. А что, взял да и поступил на службу, вон хотя бы на учительскую должность. Или, наоборот, спился окончательно да где-нибудь на улице и замерз. У нас в городе чего только не бывает, вам ли не знать.
— Теории, безусловно, интересные, — улыбнулся Порфирий Петрович, — и доводы убедительные. Только вот обстоятельства, сопутствующие его исчезновению, нами расцениваются как весьма подозрительные.
Вадим Васильевич нервозно зашевелился.
— Прошу меня простить, господа, но дела есть дела, — сказал он, сухо раскланиваясь. — Мне свои непосредственные обязанности выполнять надо.
— Не смею задерживать, — сказал Порфирий Петрович. — Только, с вашего позволения, перед уходом я к вам загляну еще раз, буквально на пару слов.
Вадим Васильевич, натянуто улыбнувшись, прошел в боковую комнату.
— Нас здесь всего двое, — улыбнулся Осип Максимович, словно оправдываясь. — У нас не то что у богатея Смирдина, нам все самим делать приходится. А сейчас как раз заказ срочный свалился от Московского университета. Для нас оно как манна небесная.
Порфирий Петрович, сдержанно кивнув, спросил:
— Осип Максимович, а это для вас обычное дело, вот так все бросить да и отправиться на богомолье в обитель?
— Не совсем. Нынче первый год. Но вот съездил и осознал, что душа-то у меня всю жизнь именно к этому и стремилась, чтобы рождественский пост с покаяния да с мыслей светлых начать. Может, оттого, что старею. Возраст, знаете ли. О бренности сущего начинает думаться. Когда смерть уже не где-то там, вдалеке, а вот она, за спиной из мрака сгущается. Вы, кстати, верно вопрос обозначили, верую ли я. Я же не сразу к вере-то пришел. Вы уж, наверно, у себя в ведомстве выяснили, что сам я из семьи священника. В семинарии некогда обучался, думал по стопам отца пойти. Но вот, как и многие из моего поколения, открыл для себя философию. Вкупе с наукой. А с ней, понятно, и сомнение. Оттого тогда и решил, что вера и знание — явления меж собой непримиримые, исключающие друг друга. Что вера по определению отрицает истины, обретаемые через знание. Истины нелегкие, лишь упорным трудом дающиеся. Чтоб овладеть последними, необходимо отречься от первой, и никак иначе. И настолько очаровало меня искусство логики, что я и впрямь веру отверг. А теперь вот понял, как их меж собою примирить.
— И каким образом вы к этому, интересно, пришли?
— Через Гегеля. Именно через него я уяснил, что подлинное знание — истинный субъект и объект философии — есть дух, познающий себя как дух.
— А вот я в Оптиной пустыни так ни разу и не был.
— Обязательно побывайте. Просто непременно. Я уже по голосу вашему чувствую, что у вас душа этого жаждет. Я еще и потому туда наведался, что там как раз один из тех монахов обитает, отец Амвросий, который меня еще в бытность мою семинаристом наставлял. Теперь-то он уж старенький совсем, преставится скоро. Так что если б я в этом году не съездил, то может, его бы уже и не застал. Вот уж действительно святой человек, таких по России теперь считай что и нет.
— Далековато она, Оптина пустынь-то.
— Да уж не близко. Сначала поездом до Москвы, а оттуда до Козельска. В саму же обитель ничем и не доберешься. Пешком надо, или по реке. Или как я нынче.
— Как это?
— А на коленях.
Порфирий Петрович впечатленно помолчал.
— Может, и мне надо будет как-нибудь отправиться.
— Я вас к этому просто-таки призываю!
— И когда вы, говорите, отбыли из Петербурга?
— Так, надо посчитать. Судя по всему, двадцать восьмого. Ноября, разумеется. И поезд, кстати, был на восемь двадцать утра. Интересная игра цифр, не правда ли?
— Значит, в Оптину пустынь вы прибыли..?
— Назавтра, уже вечером.
— А в Петербург когда изволили возвратиться?
Осип Максимович, чуть прищурившись, некоторое время сосредоточенно прикидывал.
— Кажется, два дня тому. Или нет? А то, знаете, в такую суету окунулся после возвращения — полная противоположность миру и покою обители. Будто целая вечность с той поры минула.
— Премного благодарен, Осип Максимович. Сведения самые что ни на есть полезные. — Порфирий Петрович учтиво поклонился. — А теперь, если не возражаете, я лишь на минутку отвлеку Вадима Васильевича. Буквально один вопрос.
Он без стука заглянул в соседнюю комнату, всполошив такой внезапностью секретаря (ишь как кинулся упаковывать пачку книг; наверняка ведь, шельма, до этой поры стоял подслушивал).
— Вадим Васильевич, вы ведь в день отъезда провожали Осипа Максимовича на вокзал?
— А как же!
— Непосредственно до поезда?
— Да, покуда он в вагон не сел. Даже с перрона ему вслед помахал.
— И все это время, пока его не было, вы сами находились в Петербурге?
— А где ж еще.
— Благодарю, — сказал Порфирий Петрович с поклоном. Он собрался было уходить, но секретарь, судя по всему, собирался что-то сказать, и он взглянул на него вопросительно.
— Позвольте спросить, — нерешительно обратился Вадим Васильевич. — А вот та работа, которую для нас делал Степан Сергеевич… Что с ней?
— Она сейчас у меня.
— Вы знаете, мы были бы так благодарны, если б вы нам ее вернули. Мы, вы же понимаете, книгу к изданию готовим. А теперь, с кончиной Степана Сергеевича, придется нового переводчика искать. Надо же как-то работу заканчивать. А то и вообще самим придется за дело взяться, мне или Осипу Максимовичу. Нам бы знать, сколько там Сергей Степанович успел сделать.
— Боюсь, не имею пока такой возможности. В смысле вернуть. Мне нужно досконально все изучить. Это довольно важное свидетельство.
— И как долго, вы думаете, тот перевод будет у вас?
— Не берусь сказать.
— Вам, наверно, от него и пользы-то особой нет.
— А вот это уже мне решать.
Вадим Васильевич пристально посмотрел следователю в глаза.
— Уверяю вас: Осип Максимович — кристальной души человек, — произнес он наконец негромко.
Порфирий Петрович в ответ кивнул, словно принимая это к сведению.
Глава 15 ИЗОБИЛИЕ ИКОН
По Апраксину двору она продвигалась со столь же несгибаемой решимостью, с какой несколько дней назад шла по Петровскому парку. Те, кто успевал ее заметить, спешили посторониться. Не успевшие отлетали от неожиданного толчка плечом или локтем, успевая затем лишь обернуться с сердитым недоумением да вполголоса ругнуть неряшливо одетую старуху со странным, истовым блеском в глазах. Внимательный взгляд мог определить, что ее застывшее в подобии улыбки лицо таит некий неизъяснимый секрет. Но что именно за секрет, щелки этих прищуренных глаз не выдавали.
Она дошла до угла рынка, где располагались торговцы иконами. При ее появлении враз оживились сидельцы в овчинных зипунах, кивая друг дружке и перемигиваясь. Было что-то неискреннее и корыстное в том, как они с напускным радушием взялись ее приветствовать. Спеша привлечь внимание и вместе с тем отбить у конкурентов, торговцы наперебой голосили: «Эй, хозяюшка!», «Матушка!» Те же, кто знал покупательницу по имени, елейно, нараспев окликали: «Зоя Николавна, а Зоя Николавна!»
Однако что сегодня, что в предыдущие дни она постоянно шла к одному и тому же из них, который привлечь ее даже особо и не пытался. А все потому, что уже сам его облик — лицо, глаза — привлекал ее, как, должно быть, влечет к себе бабочек свет ночника. Дело в том, что взгляд у него был точь-в-точь как у Христа Спасителя. И волосы длинные вьющиеся, совсем как на иконе, что у него же на прилавке, да еще и бородка такая же, слегка раздвоенная снизу. Из всех торговцев он был, судя по всему, самый молодой. Вид у него был неизменно серьезным, даже каким-то торжественным; прямое воплощение возвышенной отрешенности, подобающей его ремеслу. Дескать, святым товаром заведую, не то что вы, самоварники-аршинники: образами как блинами торгуете.
На приближение к прилавку преданной покупательницы он отреагировал всего-навсего молчаливым поворотом головы. Она же в ответ лишь что-то беззвучно прошептала.
Глазам упоительно было созерцать нарядные ряды икон, расположенных сообразно иерархии святых. В серединке, разумеется, Иисусы: Христос Спаситель, Сошествие во Ад, Бегство в Египет, Крещение Христа, а также Вход Господень в Иерусалим и Спас Нерукотворный. Рядом с Христом — иконы Богородицы (в основном, понятно, сцены из Рождества): Умиление, Владимирская Богоматерь, Суздальская, Казанская, Всех Скорбящих Радость, Богоматерь Заступница. А далее святые: Николай Угодник, Апостол Иоанн, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский и прочие. Мягко сияла позолота рам и самоцветные каменья в венцах наиболее дорогих икон.
Помимо тех, что выставлены напоказ, множество образов — помельче и подешевле — лежало также в больших корзинах. Руки так и тянулись потрогать их, приласкать. Зоя Николаевна даже глаза прикрыла от искушения, но все-таки не выдержала и погладила один такой лаковый образок, а затем и вовсе сунула руку вглубь корзины — так приятно было ощущать пальцами гладость красок, легкий изгиб дощечек, контуры уголков. Так бы и сунула руку в это изобилие до самого дна, или хотя бы по локоть. Наконец она, вздохнув, вынула руку и оглядела себе пятерню, словно ожидая увидеть там некое сияние, вызванное прикосновением к святости. Нет, не было сияния — ни божественного, ни какого.
А было лишь то, что молодой торговец иконами кротко и отрешенно смотрел куда-то вдаль, не обращая на чудаковатую бабу внимания, должно быть, из вежливости. Зоя Николаевна, однако, усмотрела в его взоре что-то иное, чем просто вежливое равнодушие. Смиренность и сострадание, вот что она в нем усмотрела.
Оглядывая увешанные образами стены лавки, она неожиданно увидела икону Спасителя, которую прежде здесь не замечала: вся в каменьях, нимб из нитей жемчуга с вкраплениями сапфиров и лазурита, и все это на червленом серебре. При виде такого великолепия у нее аж дыхание зашлось. Но не столько от обилия драгоценностей, сколько от того, каким контрастом на этом фоне смотрелся аскетичный образ самого Христа, облик которого — отрешенный, возвышенный — совершенно, казалось, не трогают ни земные богатства, ни мирская суета. Влекущий лик этот ввергал в сладостный трепет.
— А я… раньше эту что-то не замечала, — призналась она наконец продавцу.
— Она только сегодня поступила, — ответил тот, поймав ее растерянный взгляд.
— Наверно, древняя?
— Семнадцатый век.
Зоя Николаевна втайне даже огорчилось: такая красота должна быть непременно старинной, в возрасте.
— Я и постарей видала, — оценивающе пригляделась она. — Из храма, наверно?
Молодой человек молча кивнул.
— И почем?
— Эта-то? Эта дорогая будет. Одни камни чего стоят.
— Ну так сколько?
— Сто рублей.
Зоя Николаевна цокнула языком.
— Да что мне те камни.
Торговец пожал плечами, дескать, «не хочешь — не бери».
— Мне ж разве камни нужны, — гнула свое Зоя Николаевна. — За камнями я бы вон в Фаберже прогулялась.
— Тогда я точно знаю, чего вам нужно, — сказал торговец, проникновенно на нее посмотрев. — Тут еще одна нынче поступила. Специально для вас отложил.
Он куда-то нагнулся и, торжественно выпрямившись, явил на свет Божий чуть вогнутый прямоугольничек из дерева, на котором потемневшими от времени красками выписан был вечный образ Богородицы с младенцем. Торговец протянул его, словно для благословления. Приняв дрогнувшими руками иконку, Зоя Николаевна всем сердцем ощутила исходящий от нее потаенный жар веры.
Золотистый фон на образке успел от времени потускнеть и частично облупиться. Более плоскими из-за поблекшего лака сделались складки одеяний. Но время не посмело затмить прямоту и непередаваемую, задумчивую кротость взора Богородицы. У Зои Николаевны по лицу непроизвольно потекли слезы. Невольно подумалось о всех тех мужчинах, что исторгали в нее свое семя, семя жизни; о нерожденных, некрещеных младенцах, которых она носила, да не выносила в своем чреве до срока. И ни это, ни что иное не могло укрыться от этих всепонимающих, всемилостивых глаз. Взгляд Богородицы проникал во все, видел все и при этом все прощал. Заступница, избавительница. Какой надеждой веяло от этого взора, без утайки смотрящего в душу и видящего ее насквозь…
— Вот эта — двенадцатый век. Более шестисот лет. Представьте только. — Зоя Николаевна кивнула, неловко смахивая слезы. — Представьте, сколько людей простиралось перед ней ниц, сколько молитв ей доводилось слышать. Шестьсот лет — это ж скольким она помогла, сколько чудес совершила!
— Беру, беру, — проговорила Зоя Николаевна, — обе беру. Она и цены не спросила. И все золоченые ангелы и святые, все лакированные апостолы дружным незримым хором благословили ее на покупку.
* * *
На углу дома по Средней Мещанской возилась в снегу ребятня. Внимание Порфирия Петровича в этой шумной ватаге привлекла девочка лет четырех, в пушистой шали. Уж не Нилина ли дочка? Одета куда приличнее своих оборвышей сверстников — вон и шубка новая, и ботики. Может, и права немка насчет богатого покровителя. Да, сходство с матерью несомненно: распахнутые синие глаза, очертания губ. Жаль, шалью многое скрадывается. Вот только нос явно не материн — пряменький сильный клювик с чуть заметной ложбинкой на кончике, совсем непохожий на бесформенные пипки сверстников. А так вся в мать, в Лилю. Мордашка на морозце раскраснелась. Презабавная шалунья.
Сколько ж усилий пришлось приложить, прежде чем сюда наконец попасть. Перед глазами, подобно иллюстрациям книги, прошествовали все те места, где ему с этой целью предварительно пришлось побывать. Ну да ладно, теперь к делу — в смысле к уголовному.
Бодро шагнув из-за угла, Порфирий Петрович зычно кликнул:
— А ну, хлопцы-молодцы! Кто гостинцев желает? — Детвора, застыв, обернулась — без всякого страха, с живым любопытством. — Кто меня к Зое Николавне отведет, тому сейчас же пятачок новехонький, серебряный!
К нему, взвившись, дружно устремилась вся ватага. Порфирий Петрович между тем не отводил взгляда от девчурки, которую заприметил как Лилину дочку. Приоткрыв от волнения рот, она неслась вровень со всеми.
— Вот ты, малышка, знаешь Зою Николавну?
— Так это моя баба Зоя!
— А тебя как звать?
— Вера!
— Здравствуй, Веруня. А я дядя Порфирий. Может, ты меня к бабе Зое и отведешь? — Порфирий Петрович с загадочным видом вынул из кармана пятачок, на который дети воззрились как завороженные.
— А ее нету, — пролепетала Вера растерянно.
— Что, дома вообще никого? — спросил Порфирий Петрович, мысленно коря себя за то, что так пошло пользуется неискушенностью ребенка.
— Так мама дома! — бойко воскликнула малышка, добродушно дивясь несообразительности взрослого дяди.
Порфирий Петрович торжественно вручил ей монетку под разочарованный гомон остальной ребятни. Пришлось и им раздать по грошику.
— Мама? Ее, наверно, Лиля звать? Девчушка энергично кивнула.
— Ну ладно, к маме так к маме. Веди!
Ребенок посерьезнел от важности возложенной задачи. Почувствовав в руке мяконькую жаркую ладошку, Порфирий Петрович проникся к ребенку трогательной симпатией.
* * *
Дверь приотворилась едва-едва. В открывшуюся щель стали видны голубые глаза матери, полные тревожного недоверия. Что-то в ее лице Порфирия Петровича несказанно удивило. А-а, понятно что: на ней теперь не было той, уличной, косметики. Нежная светлая кожа придавала Лиле уязвимость, словно оберегая тем самым от посягательств. Румяна, как видно, намеренно создавали эффект прямо противоположный.
— Лиля, вы меня не помните?
Разумеется, помнила: видно по глазам. Только никак не могла взять в толк, как он здесь очутился. А увидев, что дознаватель еще и держит за руку ее дочь, Лиля вперилась в него уже не с волнением, а с откровенным страхом.
— Вера, что ты натворила?
— Ничего, ничего. Все в полном порядке, — поспешил успокоить Порфирий Петрович, улыбнувшись как можно обаятельней. — Лиля, я к вам буквально на минуту. Мне только переговорить, и все. Позвольте, я все же зайду.
Покладистость была явно свойством ее натуры — тем не менее открывать она медлила, взглядом словно умоляя не лезть к ней в душу, оставить в покое. Раздираемый противоречием человек, которому есть что скрывать и вместе с тем мучительно хочется в этом сознаться. Однако спустя секунду страх за дочь взял свое, и Лиля, как, впрочем, и можно было предугадать, открыла дверь.
Дочка, обогнув дядины ноги, стремглав влетела в комнату. Мать проводила своего ребенка взглядом одновременно любящим и вместе с тем не без покровительственной гордости: мол, видите, какая наша кроха шустренькая.
Порфирий Петрович, вежливо сняв шапку, ступил за порог и буквально обмер. Повсюду здесь горели свечи — сотни, самых разных форм и размеров — и в канделябрах, и на витых подсвечниках, а то и просто в бутылках или на блюдцах. А стены-то, стены! Порфирий Петрович невольно ахнул. На него во множестве взирали лики святых — да не один или два, а невесть сколько. Бесчисленные лампады освещали или, наоборот, скрадывали их изображения, создавая перед поблескивающими киотами завесу изменчивого света. Возникало ощущение, что вот они, души спасенных в раю, а здесь мы, неприкаянные грешники. Стены были увешаны буквально сплошь — в стык, рамка к рамке. От свечной гари и запаха ладана трудно было дышать.
Не веря своим глазам, Порфирий Петрович растерянно поглядел на Лилю. Та лишь стыдливо потупилась. Вот ведь как. Насчет уличного своего ремесла разговаривать — пожалуйста, а набожность свою выдавать — так ведь ни в какую, словно речь идет о чем-то постыдном.
— Я столько икон, право, и не видывал, — признался Порфирий Петрович, — даже в церкви.
— Да будет вам. В рядах-то у торговцев их побольше будет. Порфирий Петрович удивленно взглянул на Лилю: мол, что это?
— Да не мои они! — крикнула вдруг она, словно на что-то рассердившись. — Я их не покупала!
Вера между тем, явно пытаясь произвести впечатление, демонстративно бухнулась на пол и принялась читать молитву, с детской непосредственностью имитируя манеру того, кто ее этому научил или надоумил:
— Богородице, дево, радуйся, благодатная Мария…
— Зоя Николаевна? — догадался Порфирий Петрович. Лиля нехотя кивнула.
— Но… как? Откуда у нее на это деньги? — Порфирий Петрович обвел комнату руками. — Я, простите, в том смысле что… На это же целое состояние требуется. К тому же в таких количествах транжирить средства на подобное… — Называть данную статью расхода сумасбродством он постыдился.
Лиля не ответила. Хотя ее скованность уже сама по себе что-то выдавала.
— Я вот о чем хотел вас расспросить, Лилия Ивановна, — уже другим, представительным тоном начал Порфирий Петрович. Он, кстати, только сейчас обратил внимание на то, что одета она теперь модно, с эдаким неброским шиком: белая муслиновая шемизетка и темно-синяя юбка — шелковая, с парчовой оторочкой.
Лиля кивком пригласила пройти в другой угол комнаты — подальше от Веры, которая, забыв уже про молитву, увлеченно играла с новенькой фарфоровой куклой. Порфирий Петрович, повинуясь жесту хозяйки, сел возле печи за стол.
— Я был у мадам Келлер, — не стал скрывать он. — Она между прочим обмолвилась, что вы теперь при деньгах. Что у вас богатый не то покровитель, не то жених. Словом, новый ухажер.
Лиля яростно тряхнула головой.
— Мадам, как всегда, судит по своему разумению.
— Что правда, то правда, — усмехнулся Порфирий Петрович, сразу же, впрочем, посерьезнев при воспоминании, через что ему пришлось пройти, чтоб раздобыть у мадам Келлер желаемые сведения. — И вот смотрю я на вас — на ваше платье, на Верины игрушки. Но ведь тогда, в участке-то, вы были, извините, в каком-то жалком тряпье!
— Как раз тогда я должна была носить именно, как вы выразились, то самое тряпье.
— Да, разумеется. Но скажите, как, откуда на вас обрушилось все это богатство?
— Как? Да вот… Зоя Николаевна нашла какие-то деньги. Вот, собственно, и все.
Видя ее нерешительность, Порфирий Петрович скептически хмыкнул.
— Вот уж действительно, свезло так свезло. А она, часом, не подумала, что эти деньги могли кому-то принадлежать?
— Да вам ли об этом судить! Вы не знаете, что такое нужда!
— Я, кстати, не собираюсь Зою Николаевну ни судить, ни тем более осуждать.
— Тогда зачем вы вообще сюда пришли?
(Именно такой вопрос, кажется, задала ему тогда Рая в заведении мадам Келлер.)
— Вам известен один студент, Павел Павлович Виргинский, — не спросил, а констатировал дознаватель.
— Да, — выдохнула Лиля, не в силах почему-то отвести взгляд от этих странно белесых трепещущих ресниц.
— Так вот, в данный момент он задержан, в связи с одним невыясненным пока преступлением. — В ответ — лишь сердитый короткий возглас и вопрошающий взгляд. — И любой ваш ответ сейчас может оказаться для него неоценимой помощью.
— Но вы же… Вы же не считаете…
— Что именно?
— Что он как-то причастен к Горянщикову?
— А откуда вы знаете про Горянщикова?
— Павел Павлович сказал. Это…
— Что «это»?
Лиля, не в силах больше глядеть глаза в глаза, отвела взгляд в сторону.
— Это Зоя Николаевна его нашла. Его, и еще одного. Оба мертвые. В Петровском парке.
— Да она, я гляжу, просто-таки следопыт, ваша Зоя Николаевна. Чего только не находит!
— И деньги, те деньги она тоже нашла там. У того, который… повешенный. В кармане.
— Сколько? Какую сумму?
— Я не знаю. Я… — Не в силах укрыться от пронзительного взгляда, она тихо созналась: — Шесть тысяч.
Порфирий Петрович, присвистнув, вдруг рассмеялся.
— И что она, вот так взяла да на иконы со свечками все и просадила?
— Почему. Она и н-нас не забыла, — совсем уже шепотом, чуть не плача, произнесла Лиля.
— Да уж, легко быть щедрым, на чужие-то деньги, — сказал Порфирий Петрович с ироничной улыбкой.
— Но он же мертвый. Хозяин-то. При ком они были.
— Тот, при ком они были, — всего-навсего дворник, — пояснил Порфирий Петрович. — Откуда, по-вашему, у дворника могли взяться такие деньги, шесть тыщ?
— Не знаю.
— Как вы понимаете, это сказывается на ходе следствия. Надо было поставить в известность полицию. И вы, когда писали мне ту записку, могли бы хоть упомянуть в ней про те шесть тысяч рублей.
Лиля остолбенела. Порфирий Петрович меж тем взглянул на нее укоризненно.
— Вот видите, я попал в точку. Благодарю вас задним числом за предоставленные мне сведения, даром что неполные. Однако, если б к нам явилась сама Зоя Николаевна, хлопот бы у нас было куда меньше.
— Но как вы обо всем прознали?
— Вы об убийстве в Петровском парке? — в тон ей, драматичным полушепотом переспросил Порфирий Петрович. — Я, честно признаться, до этого момента толком и не знал. Пока вы сами не сказали, что Зоя Николаевна обнаружила тела. — Порфирий Петрович внутренне напрягся, прежде чем задать следующий вопрос. — Горянщиков был вашим… клиентом?
Видя, как болезненно его слова подействовали на Лилю, он поспешил с разъяснением.
— Видите ли, имя Горянщикова вы упомянули несколько… ну, словом, не так, как обычно произносится имя малознакомого человека. Более того, вас действительно должны были связывать с ним какие-то отношения — иначе с чего бы вдруг Павлу Павловичу сообщать вам о его гибели? Или откуда б вы знали, что обнаруженное Зоей Николаевной тело — именно его? А уж что вопрос я поставил именно так, а не иначе, то вы не обессудьте — ведь мужчины становились вам знакомы в основном через ваше ремесло.
— Он действительно приходил туда, к мадам Келлер. И меня всякий раз спрашивал.
— А Виргинский?
Лиля насупила брови. Губы у нее дрожали.
— С Виргинским все было совсем не так.
— Но ведь он наверняка знал о ваших отношениях с Горянщиковым? И скорее всего, ревновал?
— Уж если ревновать к Горянщикову, так почему бы заодно не ко всем сразу?
— А может, как раз и ко всем. Некоторым образом.
— Но разве это не тот верзила его убил, который повесился? Мне Зоя Николаевна именно так рассказывала. Она еще топор на нем нашла, весь в крови.
Порфирий Петрович утомленно вздохнул.
В эту минуту дверь в комнату отворилась, и через порог вперевалку вошла закутанная в шарфы и платки округлая женщина в возрасте, с хитровато прищуренными глазами. С собой она несла завернутый в бумагу сверток, перетянутый бечевкой.
— Бабушка! — радостно крикнула Вера, бросая куклу. Подбежав к вошедшей, она цепко, насколько могла дотянуться, обхватила ее ручонками и от бурного чувства взялась натираться круглой щечкой о бабушкину овчину. Не выпуская бабушку из объятий, девчурка подняла голову и, хитро поглядев снизу вверх, спросила: — Баб, а баб! А чего ты мне нынче принесла?
Между тем вошедшая, успев заметить за столом непрошеного гостя, на приставания внучки отреагировала, судя по всему, сдержанней обычного.
— Ну же, ну, крошечка. Разве бабушку так встречают. Внучка же, не унимаясь, тянула коричневый сверток к себе.
— Это мне, да? Мне?
— Нет, крошечка, это бабушкино.
— Вера, оставь бабу Зою в покое! — прикрикнула на шалунью мать.
В ответ девочка лишь тесней прижалась щечкой к любимому существу. Зоя Николаевна тоже, в свою очередь, из объятий ребенка высвобождалась неохотно. Одной рукой она нежно погладила девочку по голове, другой прижала к груди сверток.
Порфирий Петрович, встав, учтиво поклонился. Лилина нервозность от Зои Николаевны, безусловно, не укрылась (видно, успела ненароком проболтаться — вон глаза какие виноватые и вместе с тем упрямые: мол, «что я такого сделала»). Ребенка она прижала к себе словно для защиты.
— А это, видно, та самая госпожа, о ком я столь наслышан, — сказал с улыбкой Порфирий Петрович. — Не вы ль будете Зоя Николаевна?
Льстивое «госпожа» женщину никак не тронуло — в ответ она лишь искушенно улыбнулась: дескать, видали мы таких.
— А я Порфирий Петрович.
— Этот господин, Зоя Николаевна, из полиции.
— Нет-нет, я из следственного управления, — уточнил было Порфирий Петрович, но махнул рукой. — А впрочем, какая разница. Из полиции так из полиции.
— А в чем, собственно, дело?
Женщина прижала к себе сверток с таким видом, будто незваный гость собирался его у нее отнять.
— Я расследую исчезновение некоего господина, Алексея Спиридоновича Ратазяева.
Лиля при этом насторожилась еще больше; Зоя Николаевна, наоборот, расслабилась — даже вон слегка улыбнулась.
— Это еще кто? Мы про такого и слыхом не слыхивали.
Лиля между тем смотрела на следователя с нелегким сомнением, словно внезапно в нем разуверившись, — смотрела, можно сказать, гневно. На ее хмурый взгляд Порфирий Петрович отреагировал улыбкой.
— Этот самый Ратазяев, судя по всему, был связан с одним известным вам, Лилия Ивановна, господином. — В глазах Лили вновь мелькнула обеспокоенность. — А именно с Константином Кирилловичем. Фамилия его, как я выяснил, Говоров. Вы, должно быть, помните — именно так звали того человека, что обвинял вас в краже ста рублей?
— Помню.
— Вот-вот, Говоров Константин Кириллович. Тот самый загадочный господин, что обвинил вас в краже, а сам незамедлительно скрылся, не дождавшись даже, когда вам предъявят обвинение. Почему он, как вы думаете, так поступил?
Лиля, глядя в пол, пожала плечами.
— Быть может, он, как и многие, считал, что человеку благородному достаточно лишь обвинить блудницу, а уж власти сами собой примут его сторону? Все, мол, и так ясно, никаких формальностей не надо? Но в таком случае он не в курсе происшедших в нашем ведомстве перемен. У нас теперь и суды присяжных, и адвокатура, и представители защиты работают. Теперь одного лишь голословного обвинения недостаточно, чтоб человека в ссылку или на каторгу упечь — будь то хоть вор, хоть проститутка. А кстати, тот Константин Кириллович — он из благородного сословия или нет?
— Я с благородством на своем пути не встречалась, — нашлась наконец с ответом Лиля, твердо взглянув дознавателю в лицо.
— Какое там у них благородство! — подала рассерженный голос Зоя Николаевна. — Уродство одно.
— Тот Константин Кириллович, насколько мне известно, делал с вас фотографические снимки?
— Делал, — помертвевшим голосом выговорила Лиля.
— С вашего добровольного согласия? — Да.
— Ну, сама-то фотография не так уж и плоха. По крайней мере, не столь уж…
— Это наихудшее, что можно вообразить! — выкрикнула Лиля, чуть не плача.
— А вы тогда, я понимаю, были молоды — в смысле не по годам молоды? — уточнил Порфирий Петрович со значением.
Лиля поспешно кивнула.
— Это было… еще тогда, в самом начале, — сказала она, совсем по-девчоночьи шмыгнув носом.
— Но тем не менее вы тогда на это пошли, — заметил Порфирий Петрович тоном вполне нейтральным, без всякого обвинения. Он словно высказывал вслух ее собственные мысли.
— Ну, пошла, — сказала она сдавленно. — Куда ж мне было деваться.
При этом она взглянула ему в глаза, словно ища в них понимания, а может, и сострадания.
— Однако на сей раз, как я понимаю, дело обстояло иначе, — продолжал допытываться Порфирий Петрович. — Чего же он добивался от вас на этот раз?
Лиля — ни на кого уже не глядя, с распухшими покрасневшими веками — молча покачала головой. Подобно иконописным ликам на стенах, взгляд ее словно созерцал сейчас мир иной, однако, судя по всему, вовсе не рай небесный.
— Да оставьте ж вы ее в покое! — крикнула в сердцах Зоя Николаевна.
— Мне необходимо разыскать Константина Кирилловича Говорова, — бесстрастно напомнил цель своего визита Порфирий Петрович. — Лиля, скажите, где примерно он делал с вас те самые фотоснимки?
Но Лиля была уже совершенно ко всему безучастна.
— Прошу вас, присмотрите за ней, — поняв, что уже вряд ли чего от нее добьется, обратился он к Зое Николаевне. Та в ответ энергично кивнула. — Ну, а вы ничего мне не скажете про этого человека? — В ответ она столь же решительно мотнула головой. — Или насчет денег, которые вы взяли?
— Почему взяла. Нашла, и весь разговор, — отрезала Зоя Николаевна.
— Но как, как нашли! На убиенном. Знаете, что за это бывает — коли кто вводит в заблуждение следствие? Более того — тут еще вопрос, кому те деньги принадлежали. Вполне вероятно, что они были у кого-то похищены.
— Знаю я, как они были похищены! — выкрикнула вдруг женщина так, что даже Лиля очнулась. — Он, аспид, их у того карлика, отнял! Потому-то его сперва и укокошил! Так что какая теперь разница: карлик-то все одно мертвый! На что ему теперь те деньги?
— Зоя Николаевна, прошу вас, — умоляющим, измученным голосом произнесла Лиля, — не называйте его так. У него же имя есть: Степан Сергеевич.
— А теперь, ради Бога, успокойте меня: уж вы, надеюсь, не потратили все деньги вот на это] — Порфирий Петрович красноречивым жестом обвел стены комнаты. — Ведь вам здесь всем — слышите, всем, — он со значением посмотрел на Зою Николаевну, — об этом свете печься надо. Уж на тот-то свет мы все так или иначе попадем. Хотите — молитесь. Эта услуга, в конце концов, бесплатна. — В его голосе сквозило раздражение.
— Но ведь… благолепие-то какое, — потупив голову, сказала Зоя Николаевна.
— Благолепие оно, конечно, да, но учтите: если ей когда-нибудь придется через это возвратиться к мадам Келлер, вы у меня пулей в Сибирь полетите…
— Да вернем, вернем мы вам те деньги! — выкрикнула сквозь слезы Лиля. Зоя Николаевна на это укоризненно покачала головой.
— Я бы вот что еще хотел знать, — продолжал Порфирий Петрович, сделав вид, что не услышал Лилиных слов, — что вы еще обнаружили тогда в Петровском парке? Может, что-нибудь такое еще взяли, помимо денег?
— Ну, что еще… Ах, верно! Колоду карт еще нашла, похабных таких, у карл… у коротышки, — спешно исправилась Зоя Николаевна.
— У Степана Сергеевича, — упорно повторила Лиля.
— Только я их продала, карты-то. — И Зоя Николаевна махнула рукой с эдаким шаловливым, институткам свойственным кокетством.
— Что-нибудь еще?
— Ну, разве вот это, — порывшись с минуту в складках одежды, Зоя Николаевна вынула оттуда резной ключик.
— Где вы его нашли? — осведомился Порфирий Петрович, внимательно оглядывая вещицу.
— У верзилы того.
Ключ Порфирий Петрович сунул в карман, достав при этом оттуда портсигар. С незажженной папиросой в губах он какое-то время цепко смотрел на Зою Николаевну, словно решая, что с ней делать. Потом посмотрел на девочку, которая, замерев, испуганно прижалась к любимой бабушке.
— А кто, кстати, отец ребенка? — спросил он наконец. Лиля навзрыд, прерывисто вздохнула.
— Она и мне-то не говорила, — стойко снося его взгляд, ответила Зоя Николаевна, — а уж вам и подавно не скажет.
Порфирий Петрович, степенно кивнув, прикурил от подсвечника.
— А почему? Ей что, самой не известно?
— Она об этом не скажет ни за что, — сквозь сжатые зубы, словно обет, произнесла женщина. — Ни за что. — Повтор придавал фразе фанатичную страстность заклинания. — Ни за что, — прозвучало в третий раз.
Глава 16 НАДУШЕННОЕ ПИСЬМО
Приглушенно ухнула пушка на Петропавловской крепости: полдень. Как будто торопясь уйти подальше от раскатистого эха, Порфирий Петрович ускорил шаг и, зябко поежившись, толкнул дверь здания в Столярном переулке. Полицейский участок на Сенной располагался в четвертом этаже. Из открытых дверей по ходу доносились запахи кухни из расположенных вдоль лестницы частных квартир. Поднявшись по крутоватым ступеням до второго этажа, Порфирий Петрович остановился на лестничной площадке прикурить. Синеватый клуб пущенного дыма завис в сумрачном узковатом пространстве. Приходилось тесниться, чтобы пропускать в обе стороны курьеров и полицейских чинов. Целеустремленно спеша мимо, каждый из них словно своим долгом считал взглянуть на мешающего пройти курильщика с подозрением. Однако сдвинуться с места Порфирий Петрович не спешил. Вначале хотелось дождаться, пока отрадно разойдется по телу никотиновая волна, после чего уж взлетать по ступеням, как на гребне.
Войдя в участок, он с екнувшим сердцем обнаружил в приемной князя Быкова, который не замедлил взглянуть на него с жадным любопытством и тут же устремился навстречу.
— Порфирий Петрович! — с чувством вскрикнул он на ходу.
— Князь Быков? Рад. Честно сказать, не ожидал.
— А уж я-то как рад, Порфирий Петрович! Спешу, между прочим, сообщить нечто, что, по моему скромному разумению-с, поможет вас в вашем следствии. Александр Григорьевич позволили мне здесь вас дождаться.
— Надо же, как предусмотрительно с его стороны. — Порфирий Петрович покосился на Заметова, зыркнувшего в ответ с типичным для него дерзким ехидством. Щелкнув каблуками и поклонившись, Порфирий Петрович принял бережно протянутую князем фотографию. Это был снимок видного мужчины лет сорока, с чертами, еще не утратившими мужественной красоты, — сильный, с трепетными ноздрями нос, волевой подбородок, лепные скулы. Каким-то образом именно они бросались в глаза, выделяясь из заметно обрюзгшей плоти. Да, лучшие годы у этого человека явно миновали; вон как успел раздобреть. Однако светлые редеющие волосы лишь подчеркивали благородную высоту лба, а пристальный, решительный и вместе с тем чувственный взгляд мог по-прежнему притягивать взоры своей силой и скрытой ранимостью. Поза у человека была до театральности выспренна — впрочем, немного лукавое выражение лица выдавало, что он вполне это сознает. За напускной этой буффонадой скрывалась, впрочем, достаточно искренняя натура — хотя и, разумеется, палец в рот такому не клади; искренним подобный тип людей бывает разве что наедине с собой. Что, впрочем, не мешает им быть душой любой компании.
— Это и есть Ратазяев? — догадался Порфирий Петрович.
— Он, — кивнул князь.
— А он старше, чем я представлял, — сказал следователь, задумчиво поглядев на титулованную особу. Что же, интересно, может связывать юного аристократа с немолодым уже актером? И каким боком причастен к их компании Заметов?
— Как, кстати, продвигается следствие? — живо поинтересовался князь.
— Ничего, идет понемногу, — Порфирий Петрович слегка помедлил, прежде чем обратиться к аристократу с подобающим титулу почтением, по имени-отчеству — Макар Алексеевич.
— Но Ратазяева-то нашли?
— Вам ничего не говорит такое имя: Константин Кириллович Говоров?
— Говоров? Где-то, кажется, слышал-с.
— Он некоторым образом знаком с вашим другом Ратазяевым.
Щеки у князя зарумянились.
— Вообще-то у Алексея Спиридоновича знакомств было множество. Просто он не всем меня представлял-с.
— А вы, кстати, не подскажете, где бы мы могли найти этого самого Говорова? Мы весьма заинтересованы в разговоре с ним. Возможно, он располагает и сведениями, относящимися к исчезновению вашего друга.
— К сожалению, ничем не могу помочь. Разве что вот эту фотографию оставить.
— А Виргинский? Павел Павлович Виргинский, студент? Вы такого не знаете? — Князь в ответ лишь пожал плечами. — Фамилию Ратазяева мы нашли в некоем документе, относящемся к Виргинскому.
— Нет. О таком не слыхивал-с.
— Что ж, и на том спасибо, — задумчиво пряча фотоснимок в нагрудный карман, поблагодарил Порфирий Петрович. — Нам любая крупица на пользу.
Хотя в душе он не ощутил ничего, кроме разочарования. И уже рассеянно смотрел куда-то собеседнику через плечо.
* * *
— Ратазяев Алексей Спиридонович, тот самый исчезнувший актер, — сказал Порфирий Петрович, выкладывая снимок Никодиму Фомичу на стол.
— Где-то я его и вправду видел, — призадумался главный суперинтендант, рассматривая фото. — В какой-то постановке. Хотя столько лет прошло.
— Есть приказ прокурора расследовать его исчезновение. — Никодим Фомич на это степенно кивнул. — Надо бы, чтоб кто-нибудь из ваших обошел с этой карточкой трактиры возле Сенной. По словам Виргинского, бумагу Ратазяев подписывал в одном из тамошних кабаков. Начать следовало бы с Сенного рынка и уж дальше плясать от него.
— Что ж, кажется, подходящее занятие для нашего Салытова. Порфирий Петрович с чуть заметным кивком дрогнул ресницами.
— При расспросах неплохо бы ему еще и упоминать фамилию Говорова.
— Не вижу к тому противопоказаний, — не стал возражать Никодим Фомич и о чем-то задумался, поджав губы. — А вы знаете, — сказал он наконец, — Виргинский-то ваш на волю просится.
— Странный он юноша. Непредсказуемый, — произнес Порфирий Петрович, прикуривая.
— Что ж в том странного, на свободу стремится.
— Какая же это свобода, мытарствовать да голодать. Здесь его хотя бы кормят.
— Он, кажется, одно время юриспруденцию изучал? Вот, видно, из лекций в правах своих и поднаторел. Обвинения же против него не выдвинуто? А потому, если вникнуть, удерживать мы его не можем. Что же касается исчезновения Ратазяева, так вы, Порфирий Петрович, преступного деяния в том пока не установили. А по делу того карлика, так оно и вовсе закрыто, если мне память не изменяет.
— Мне этого знатока подле себя держать надобно, — заметил Порфирий Петрович, хмурясь на плохо прикуренную папиросу.
— А вот если прокурор Липутин…
— Ой, только его еще здесь не хватало! Уж лучше я сам с Виргинским переговорю.
В голосе сослуживца Никодим Фомич уловил нотку усталости. Вон и круги под глазами.
— Не щадите вы себя, Порфирий Петрович. И курите что-то многовато.
Порфирий Петрович лишь шумно затянулся и, пустив струю дыма, сказал в ответ:
— Это все ничего. Думать, знаете ль, помогает.
* * *
— Вы не вправе меня здесь удерживать, — строптиво сказал Виргинский.
Порфирий Петрович со вздохом посмотрел на студента, который, прикрыв глаза и сцепив руки за затылком, лежал на откидной койке. Щеки у него уже не были впалыми, сошла и нездоровая бледность — явно давало о себе знать регулярное питание.
— Это так, — согласился Порфирий Петрович. — Как раз об этом я и зашел сообщить. Уйти отсюда вы вольны в любую минуту.
Судя по разом открывшимся глазам, данная фраза Виргинского слегка озадачила.
— Ну и прекрасно, — сказал он садясь, впрочем без особой уверенности.
— Мне хочется верить, что вы невиновны, — продолжал между тем Порфирий Петрович. — Будем от этого и отталкиваться. Однако, выйдя, вы тем самым подвергнете себя опасности. Тот, кто убил Тихона и Горянщикова, все еще где-то бродит.
— Но по официальной версии, именно Тихон и убил Горянщикова, после чего покончил с собой?
— По официальной. А по сути, убийца и Тихона и Горянщикова по-прежнему разгуливает на свободе. Причем субъект этот крайне опасный. Может статься, он на этом в своих злодеяниях не остановится. Так что, находясь здесь, вы по крайней мере в безопасности.
— Вы говорите, он не остановится. Но с какой стати ему покушаться на мою жизнь?
Порфирий Петрович знающе ухмыльнулся.
— Давайте-ка посмотрим под другим углом. Пока вы здесь в роли основного подозреваемого, истинный убийца считает себя в безопасности. А потому может себя выдать какой-нибудь случайной оплошностью. Если же мы вас выпустим, он вновь почувствует себя под подозрением. Типичный невроз преступника, уж поверьте мне. И он начнет ломать голову над тем, что же вы такое здесь у нас сказали, или могли сказать. Будет мучительно выискивать какую-нибудь связь, заново обдумывая любой самый незначительный с вами разговор, покуда наконец не установит: вот он, тот единственный раз, когда он меня действительно уличил.
— А если я того человека вообще не знаю?
— О-о, не тешьте себя иллюзиями, мой юный друг. Убийца — кто-то из известных вам людей. Вы знакомы с ним, а он с вами.
— Откуда вы знаете?!
— Я это чувствую.
— Ну и что я должен делать?
— Я лишь попрошу вас задержаться здесь еще на какое-то время; сами понимаете, добровольно. Условия здесь, прямо скажем, спартанские, но уж мы постараемся как-нибудь скрасить ваше пребывание.
— Но зачем это все?
— Для меня это помощь. Неоценимая помощь в розыске убийцы Горянщикова и Тихона. И настанет момент, когда я, может статься, попрошу вас об услуге еще более ценной и небезопасной.
— Какой же именно?
— Выйти отсюда на свободу. Этим своим поступком вы, вполне возможно, выманите преступника наружу. Но и себя при этом подвергнете риску. Скажу откровенно: этого не избежать в любом случае, просто пока этот риск не вполне оправдан.
Виргинский нервным движением запустил себе пятерню в волосы.
— Нет, — сказал он наконец, посмотрев на следователя. — Уж лучше погибнуть на свободе, чем вечно прозябать в тюрьме. К тому же у меня и свои дела есть.
Порфирий Петрович не выказал никакого удивления — лишь сухо кивнул.
* * *
Уже у себя в апартаментах Порфирий Петрович поставил на письменный стол ту шкатулку, что взял в дворницкой у Тихона. Судя по всему, она была сделана из карельской березы — янтарного цвета древесина, восхитительно гладкая на ощупь. Шарниры и застежка были из меди, с бляшкой в форме орла на крышке.
Раздобытый у Зои Николаевны ключ, найденный ею все у того же Тихона, подошел безукоризненно. Щелчок, и шкатулка открылась. Внутри лежал лишь сложенный вдвое лист писчей бумаги, цвета слоновой кости.
Порфирий Петрович не раскрывая поднес тот лист к носу — запах показался знакомым. На хрустком листе аккуратным почерком было написано короткое письмо.
Помнишь ли ты наше лето? Помнишь, как мы на исходе дня встретились в Петровском парке? И то место возле пруда, где раскинулась береза? Разве ты мог такое забыть? Если да, то я тебя возненавижу. Но ты, конечно же, сберег все это в памяти. Я это увидела по твоим глазам. Это, как и все прочее, запечатлелось в твоем сердце навеки. Я столь многое прочла в твоих глазах. И волшебную доброту твою, и страх. Но ты не бойся. Лишь доверься ей, своей доброте. Встреть меня там, нынче же в полночь. Все это должно продлиться. Если любишь меня, в чем я никогда не сомневалась, то ты придешь.
«А. А.», — значилось в конце. Порфирий Петрович снова поднес лист к носу. Да, именно так пахли духи Анны Александровны.
Впрочем, сам по себе приятный запах не способствовал сосредоточению мысли. На это требовалась как минимум папироса, и никак иначе.
И тут откуда-то из участка донесся высокий не то крик, не то причитание. Порфирий Петрович со стыдливой поспешностью сунул лист обратно в шкатулку и, захлопнув крышку, запер. Крик между тем не утихал — напротив, становился все слышней, и даже вроде как приближался к дверям апартаментов. Порфирий Петрович едва успел обернуться, как двери распахнулись и на пороге возникла Катя, горничная Анны Александровны, — да не одна, а с чумазым мальчуганом лет десяти-одиннадцати, которого держала за ухо. Мальчишка в кургузом зипуне, страдальчески кривясь, верещал:
— Пусти, ну! Ухи оторвешь!
— Вот он! Вот он, паршивец! — невзирая на сопротивление упрямца, с победной решимостью вскрикнула Катя. — Мальчишка тот!
Она в очередной раз крутнула ему ухо, отчего мальчуган, ойкнув и выгнув шею, встал на цыпочки. По лицу его текли слезы.
— Ну, ну! — Порфирий Петрович немедленно встал с кресла. — Это, видимо, тот мальчик, что приходил тогда к Горянщикову?
— Опять вот нынче объявился. Я его углядела: за домом нашим шпионил.
— Да ухо же оторвешь! — хныкал мальчуган.
— Вы бы, право, отпустили мальчика. Ему же больно.
— Видали страдальца! Да отпусти я его, он вмиг прочь сиганет! Вы только гляньте на него! Всю дорогу сюда пришлось вот так его вести.
— Боже правый. Нет, я в самом деле прошу вас его отпустить. Свидетельство, полученное под физическим воздействием, незаконно в нашем правосудии. — Порфирий Петрович, пройдя к дверям, запер их на ключ. — Вот так, — сказал он, опуская ключ в карман домашнего халата и строго кивнув Кате.
Та в ответ нахмурилась, все еще не решаясь отпустить мальчугана.
— Вы его, шельмеца, еще не знаете!
— Ничего-ничего. Дверь заперта, бежать ему некуда.
Катя наконец отпустила мальчугану ухо — неохотно и с оглядкой, как будто бы он в тот же миг мог взять и упорхнуть. Причем чувствовалось в ее неохоте еще и скрытое желание построжиться, показать свое превосходство, которого она теперь явно лишалась. Порфирий Петрович, вполне угадывая эти чувства, с церемонным видом поклонился:
— Очень вас прошу остаться, пока я беседую с нашим молодым человеком.
Мальчуган, обретя таким образом нежданное для него покровительство, дерзко глянул на свою обидчицу, потирая покрасневшее ухо.
— Стой давай смирно! — прикрикнула на сорванца Катя.
— Ну что, хлопец, как тебя зовут? — осведомился Порфирий Петрович.
— А че я такого сделал? — спросил малец с вызовом.
— Тебя никто ни в чем и не обвиняет. Просто может статься, что ты нам поможешь — знаешь в чем? В раскрытии убийства.
— Убийства! — ахнул мальчуган. Глаза на чумазой физиономии завороженно заблестели.
— Именно так.
— А что мне за это будет?
— Ну, лично тебе, как славному малому, душевное спасибо. За гражданскую, так сказать, доблесть.
— Тю-ю! А я-то думал…
— Я тебе попробую кое-что разъяснить. Видишь ли, есть такая штука — гражданский долг. Если ты его выполняешь, тебя награждают, а если нет, то, бывает, и наказывают. Так что выбирай. Ведь я, если ты откажешься разговаривать со мной начистоту, могу и в кутузку тебя посадить.
— Вот-вот, да еще и высечь! — не преминула вставить Катя.
— Ну, до этого, надеюсь, дело не дойдет, — успокоил встрепенувшегося мальца Порфирий Петрович. — Лишение свободы уже само по себе достаточное наказание. А вот если ты нам в самом деле поможешь, я могу рапортовать о твоем поощрении. Может, благодарность тебе вручат, а то и медаль.
— А как это — бладарность вручат?
— Это бумага такая почетная, с твоим именем. Мол, такой-то и такой-то сильно нам помог и через это отличился.
— И что мне с той бумаги?
— Как что? Может, о ней сам государь когда прознает!
— Да ну! А ему-то что с того?
— Ему? Он знаешь, брат, как обрадуется!
— А целковый он мне за это даст?
— Тоже заладил: даст, не даст! Радовался бы, что он в кутузку тебя не упрячет да высечь не велит, — сказал Порфирий Петрович, утомляясь уже от подобного диалога. — А вот коль захочет, может даже медаль тебе золотую пожаловать, за верную службу. Только это, брат, зависит от того, как ты нам поможешь. Ты вон даже имени своего не называешь — что ж нам в благодарственной бумаге писать?
— И то правда. Меня Митькой кличут!
— Вот видишь, Митя. По крайней мере, есть уже что в грамотку ту записать. А живешь ты где? — Глаза у мальчугана настороженно прищурились. — А то вздумает вдруг государь награду тебе пожаловать, а послать-то ее и некуда.
— Да там, при гостинице я живу. «Адрианополь» называется. Я там на посылках. А то, бывает, и на дверях замещаю.
— Что ж, славно. «Адрианополь», это у нас…
— На Большом прешпекте! На Васильевском!
— Ах да, точно! И что же тебя, Митя, к тому дому на Большой Морской занесло? Чего ты там высматривал?
— Да не высматривал я ничего!
— Ах, врун ты эдакий! — опять вмешалась Катя.
— Я там карлу одного караулил!
— Вон оно что. — Порфирий Петрович заговорщически поглядел на Катю. — Карлу, значит. А зачем?
— Хотел повыспросить, как он все эти штуки проделывает.
— Какие еще штуки?
— Ну, эти. Фокусы.
— Фокусы? Так. Давай-ка, Митя, по порядку. Ты прежде уже встречал Гор… того карлика? — Мальчуган нахохлился, уставясь в пол. — Эта вот барышня утверждает, что ты уже как-то навещал их дом. Причем поднимался непосредственно к господину Горянщ… к тому карлику. Это так?
— Ну, так.
— Зачем ты к нему приходил?
— Барин посылал.
— Что за барин? — Мальчуган пожал плечами. — Откуда ты его знал?
— Он, это, в гостинице у нас останавливался.
— Постоялец, значит?
— Ага.
— Так зачем он посылал тебя туда, в тот дом?
— С письмом каким-то.
— К тому карлику? Мальчуган кивнул.
— И ты то письмо, стало быть, вручил? Тот снова кивнул.
— И?
— Че «и»?
— Я в том смысле, зачем же ты потом снова туда приходил, вокруг ошивался? Ну да ладно. Ты вот сейчас про фокус какой-то обмолвился. Что хоть за фокус-то?
— Ну, это… — Митя неловко переступил с ноги на ногу. — Пришел он тогда в гостиницу…
— Кто?
— Да карлик тот!
— Ага. То есть ты ему передал вроде как приглашение? И вот он пришел в гостиницу. Что дальше?
— Дальше? Поднялся к тому барину в нумер.
— Так, и что?
— Сам коротюсенький такой, меньше меня, а по виду прямо-таки взрослый дядька. Чудно!
— И впрямь. А потом, когда он поднялся в номер?
— Потом-то? Потом тот барин оттуда вышел — тот, что обычного росту. Кликнул меня. Я думал, он хочет, чтобы я ему чемодан с лестницы снес. А он сам его вниз стащил.
— Ну а карлик?
— А карлик-то как раз возьми да исчезни! Тот, другой, расплатился, да еще и денег вперед за цельную неделю оставил. За неделю, за цельную! Говорит, мол, новый постоялец в нумере моем всю следующую неделю жить будет… Вот в чем фокус! Я в тот нумер следом поднялся, стучу в дверь: «Чего, дескать, изволите? Будут ли какие указания?» Стучу, а ответа никакого нет — вообще ни шороха. Я тогда дверь открыл нашим ключом, гляжу — а там никогошеньки, все как есть пусто. Карлика и следа нету.
— Может, он вышел, пока ты с тем барином болтал?
— Да откуда! У нас проход-то всего один: по коридору, вниз да к выходу. Я бы его хошь как заметил, даже и говорить нечего! — воскликнул мальчуган запальчиво. — У меня и мышь не проскочит, не смотри, что мал! Хошь карлик, хошь кто!
— А может, он через окно вылез? — подначил Порфирий Петрович.
— Ага, через окно! — Митя прямо-таки подивился такой несообразительности. — В том нумере и окна-то нету! Он у нас как раз в лестницу упирается.
— Ах вот как. Оч-чень интересно.
— Вот я и кумекаю: может он, того, колдун какой?
— Я полагаю, причина может быть несколько иная. Более рациональная.
— Или фокусник?
— Гораздо вероятней, — трепетнув ресницами, заметил Порфирий Петрович, — что ты чуть ли не своими руками снес его, как ты говоришь, с лестницы вниз.
Растерянность на лице мальчугана сменилась чуть ли не страхом.
— В чемодане, что ль?
— Тот постоялец — барин, что посылал тебя с запиской к карл… его, кстати, Степан Сергеевич звать; ты, часом, не помнишь, как того барина звали?
— Так он его что — укокошил, карлика того? И в чемодан упрятал? А я чуть было чемодан тот не взял и не понес?
— Вполне вероятно.
— А… а если он вернется, чтоб еще и меня укокошить?
— То-то и оно. Вот если ты мне поможешь его поймать, я уж точно позабочусь, чтобы он туда к тебе снова не нагрянул, укокошить. Ни тебя, ни кого другого.
— Ага! Говорить все мастера!
— Моим словам ты можешь верить. А теперь ну-ка, вспомни, как звали того постояльца?
— Это, как его… Говоров.
Порфирий Петрович, признаться, особо даже не удивился. Иного он словно и не ожидал. Только сердце гулко стукнуло. Говоров — вот уж кто явно держит ключ к разгадке. Одно лишь это имя вызывало разом и настороженность, и всякого рода опасения.
— Ну что, напишешь теперь царю? — деловито спросил меж тем Митька. — Теперь мне точно медаль полагается! Он же меня чуть тогда не угробил!
Порфирий Петрович даже не сразу собрался с ответом.
— А? — переспросил он. — Ты насчет благодарности? Да-да, надо бы похлопотать. Только у меня к тебе еще один вопрос. Ты, когда доставил письмо Горянщикову, потом еще, наверно, заглянул в дворницкую? Так?
Тут, к удивлению, рожица у Митьки перекосилась от непередаваемого наплыва горестных чувств. Порфирий Петрович как-то позабыл, что имеет дело, в сущности, с ребенком. Мальчуган раскраснелся, а из глаз по чумазой мордахе струйками потекли слезы.
— Так нече-естно, — затянул он. — Я все-превсе рассказал, а ты опя-ать выспрашиваешь! Че я такого сде-елал! Че вы меня здесь все мурыжите! Ты мне медаль обещал! Давай сюда мою медаль!
Порфирий Петрович растерянно оглянулся на Катю — дескать, что же делать? Та в ответ с угрюмой решимостью потянулась было снова ухватить мальчугана за ухо. Порфирий Петрович сделал шаг, чтобы ее удержать.
И тут Митька с кошачьим проворством выхватил у следователя из халата ключ и метнулся к дверям. Миг — и дверь уже открыта. (Прав был, видать, Никодим Фомич. Возраст да табачишко берут свое. Покуда он провожал пострела оторопелым взглядом да хлопал себя запоздало рукой по пустому карману, шельмец уже успел прошмыгнуть — уж и след простыл. Порфирий Петрович так и сел.)
— Держи его! — крикнул было вслед беглецу Порфирий Петрович, но, как назло, закашлялся. На внезапный шум обернулось несколько озадаченных и любопытных, но в целом равнодушных лиц — просители да штатские. Лишь один пожилой уже унтер при виде стремглав летящего пострела сообразил, что что-то здесь неладно. Сообразил правильно — а потому, растопырив руки-ноги, живо встал в позу ловца в проходе между столами, отрезав тем самым воришке единственный путь к бегству. Сверкнув с былым озорством помолодевшими враз глазами, он дожидался, что беглец вот-вот угодит в ловушку. Однако Митька от этого не только не затормозил, но разогнался еще сильней. В решающий миг, когда напрягшийся унтер уже готов был прянуть, как коршун на добычу, мальчуган вильнул вбок и взмахнул на один из столов — да так смело и ловко, что просто диву даться, причем ни на секунду не сбавив ход. Стоптанные сапожонки взметнули веером стопку бумаг и опрокинули чернильницу, не замедлившую пустить на зеленую гладь стола унылую струю. Выровнявшись практически на лету, сорванец вильнул, мартышкой пролетел от стола к уличным дверям и был таков. Сидевший за столом писарь успел лишь беспомощно всплеснуть руками.
— Эт-ть! — падая на него, крякнул восторженно унтер. Порфирий Петрович, наблюдая эту сцену, задумчиво разминал папиросу.
— Да как же вы его упустили! — возмущалась Катя, в то время как Порфирий Петрович, не спеша прикурив, подался обратно к себе в апартаменты. — Я знаете сколько сил положила, чтоб сюда его приволочь! Уж мне-то царской награды точно не ждать!
Порфирий Петрович снял с губы прилипшую табачинку.
— Ничего, я знаю, где его найти, — сказал он непринужденно. — А вам я, Катюша, благодарен. И как представитель властей скажу, что и сам государь был бы вашим поведением доволен.
И он, потаенно улыбнувшись, с церемонным видом поклонился, словно тем самым выражая официальную благодарность от лица державы.
Глава 17 НЕУЛОВИМЫЙ ГОВОРОВ
Ну вот, опять поручение, и опять глупее некуда.
В самом деле, за сегодня поручик Салытов обходил уже седьмой трактир кряду. От перегарно-водочной и табачной вони уже дышать было невмоготу; глаза начинали непроизвольно слезиться, в горле першило. На входе его бесцеремонно пихнули двое выбирающихся из кабака пьяниц — толкнули не по злобе, а просто не рассчитали амплитуду движения, оттого и навалились.
Заношенные грязные армяки, неуклюжее радушие — от всего этого Салытова буквально воротило. Просто абсурд какой-то. И чья это дурацкая затея, с обходом этим, будь он неладен? Просто зла не хватает.
— Пшел прочь! — брезгливо отпихнул он одного из забулдыг рукой в перчатке. Мужичина от толчка тяжело качнулся и медленно, не сразу сфокусировал на поручике мутный взгляд.
— Ну же, — еле сдерживаясь, прикрикнул Салытов, — живей, разлюбезные!
Прозвучало вполне миролюбиво, и вместе с тем как бы ставя преграду между ним и этими двумя чуйками. В ответ пьяница пробурчал что-то невнятное.
Его товарищ ухватился за перильца крыльца и качался теперь эдаким штурманом терпящего бедствие корабля. Он вдруг громко чихнул, от чего его опасно накренило — еще немного, и он повалился бы на Салытова. Пришлось осмотрительно обогнуть эту пару, прежде чем не оглядываясь войти в трактир.
Над полудюжиной столов и на прилавке кабатчика, чадя, потрескивали свечи. Неверный свет, перемежающийся с островками тени, придавал силуэтам сидящих за столами выпивох некую покинутость. На вошедшего никто даже не обернулся. Из угла доносились унылые звуки шарманки, которую крутила баба в рваном полушалке. Незатейливая мелодия наслаивалась на сдержанный гомон голосов. Ни смеха, ни веселого шума, свойственного дружеским застольям, — лишь вздохи да унылое бормотание, под стать монотонному зуденью старенькой шарманки.
Салытов, тяжко вздохнув, прошел к прилавку, за которым тощий паренек-половой с угрюмым видом протирал несвежей тряпкой стаканы. Временами он вдруг прерывал свое занятие, словно в такт нестройному звучанию мелодии, как будто находясь с ней в невидимой связи. Подпоясанная рубаха топорщилась на пареньке пузырем, вышивка местами отпоролась.
— Кто тут за главного? — начальственный бас поручика поверг полового в оторопь. — Где тут хозяин, дубина стоеросовая? — Салытов в сердцах грохнул кулаком по прилавку. Вышло бы внушительнее, если б на прилавке стояла посуда, но и такого удара оказалось достаточно, чтобы половой остолбенел окончательно — кстати, заодно с шарманкой, которая на минуту тоже озадаченно притихла. — Ну чего ты на меня пялишься! Хоть слово-то молви, одно-единственное! Или ты глухонемой? Бол-ван! — Глаза у паренька наполнились страхом, отчего Салытов осерчал еще сильнее. — Ты мне, любезный, хотя бы вот что скажи… — Тут Салытов на секунду замешкался, поскольку сам теперь запамятовал, чего бы ему хотелось от этого дурня услышать. Криком, как видно, ничего не добьешься. А потому он сменил тон на более сдержанный.
— Я поручик Илья Петрович Салытов, из Сенного полицейского участка. — Теперь половой еще и открыл рот. — Ты по-русски вообще соображаешь, нет? Где он?
— Кто «он»? — переспросил наконец паренек дрогнувшим голосом.
— Хозяин твой, ирод, черт тебя побери!
— Он, это… в зале, в соседней.
— Ну так зови его сюда! Ну нар-род, вообще ничего не соображают, — искренне жалеючи себя, прорыдал Салытов. Нечто вроде омерзения волной прошло по телу. Кочевать и дальше по всем этим кружалам становилось решительно невмоготу. Он брезгливо оглядел пол, рассчитывая увидеть на нем тараканов — и, честно сказать, не ошибся.
Когда он поднял глаза, вместо паренька возле него стоял бокастый мужик с кудлатой бородой и сальными волосами, поглядывая на него с постной миной. Под липким на вид кожаным фартуком грушей торчало пузо.
— Ступай, Кеша. Сам разберусь, — пробасил он куда-то на сторону. В голосе чувствовалась настороженность. Кабатчик цепко оглядел незваного гостя.
— Ты тут, что ли, заправляешь этим… — Салытов оглядел стены кабака, словно на них могло быть написано соответствующее слово. — …заведением? — бросил он с сарказмом.
Кабатчик ограничился скудным кивком.
— Поручик Салытов, из Сенного околотка, — отрекомендовался Салытов. — С официальным расследованием. Так что будь любезен, иначе сам знаешь что бывает! — Салытов полез в карман шинели и вынул оттуда фотографию Ратазяева. — Вот этого признаешь?
Кабатчик молча изучил фотоснимок, после чего моргнул с совершенно непроницаемым лицом.
— Да мало ли кто здесь шляется, — хмыкнул он наконец, возвращая карточку.
— Но ты его таки узнаёшь?
— Да не особо.
— Что значит «особо», не «особо»! — в очередной раз сорвался Салытов. — Ты мне четко изъясняй, узнаешь его или нет!
— Ну раз так, то нет.
— Ты что, дурака из меня делать вздумал? Ты мне это брось! Я тебе покажу, как со мной дурака валять!
Кабатчик в ответ лишь упрямо возвел бровь.
— И бровью нечего тут играть! Ишь чего, бровями он играть со мной вздумал! Дерзить?! — Салытов хлестко шлепнул кабатчика по щеке перчаткой. Появившийся в этот момент за прилавком половой побледнел. Кабатчик же в ответ лишь повернулся другой щекой — дескать, «на, хлещи!» — и уставился на поручика по-бычьи, исподлобья. — Вот они мне где, брови твои, понял? — И разгневанный Салытов провел по шее ребром ладони.
Кабатчик понуро кивнул.
— А теперь, я опять тебя спрашиваю, ты узнаешь этого человека? Смотри внимательно! — Салытов ткнул кабатчику карточкой чуть ли не в физиономию; тот даже попятился. — Ну?
— Ну вроде, если присмотреться, бывал такой здесь, разок-другой, — тихим голосом, но без страха отвечал кабатчик.
— Да он тут по всем вертепам шлялся! — хмыкнул поручик. — Куда ж ему мимо вас пройти! — Поняв, что попытка пошутить не удалась, Салытов продолжил дознание. — И когда он был тут в последний раз?
— Не упомню, ваше превосходительство, — льстя не высокому, в общем, чину поручика, почтительно отвечал кабатчик. Салытов воззрился на него с подозрением.
— Врешь! А сегодня? Сегодня его разве не было?
— Не было, ваше превосходительство.
— А давеча? Скажем, вчера?
— И давеча не было. Он к нам уж давненько не заглядывал, — сдавленно произнес кабатчик и, словно заново приглядевшись к Салытову, добавил: — Ни он, ни тот, второй.
— Второй? Ах вот как, был еще и второй? — Салытов от неожиданности даже позабыл про строгость.
— Да они частенько, бывало, вдвоем захаживали. Он и тот, второй.
— Кто таков?
— Ей-бо, не знаю, ваше превосходительство! Нешто я их поименно сюда запускаю?
— А вот я возьму да и привлеку тебя как сообщника серьезного преступления, — пугнул Салытов без особого, впрочем, рвения, скорее из привычки. — За укрывательство лиц, разыскиваемых полицией. Что, съел? — спросил он с прежней резкостью, словно опомнившись.
— Да откуда ж я про то знал, что они в розыске, ваше превосходительство! — с показной истовостью взмолился кабатчик. — Я б, коли про то знал, вмиг бы спросил, кто такие! А я тут, если вникнуть, вообще никого толком не знаю. — Он беспомощным жестом обвел свое заведение, посетители которого сидели в полутьме, все как один в остолбенении. — Что мне до них! Приходят, пьют да уходят. Мне до них и дела нет. Может вон Кешка что подскажет. — Кабатчик снисходительно кивнул пареньку-половому, который враз обмер от предстоящего разбирательства с полицейским.
— А что, и впрямь, — недобро усмехнулся Салытов. — А ну давай, выкладывай!
Кеша лишь глазами зарябил между строгим хозяином и грозным жандармом.
Салытов предъявил ему фотографию.
— Ну что, знаешь этих людей? — Кеша спешно кивнул. — Так говори! — рявкнул Салытов.
— 3-знаю.
— Как звать? Как они друг к другу обращались?
— О-о-обращались…
— И то хорошо. И как же обращались?
— Один, это, Ра… Ра… Ра… — силился выговорить паренек.
— Что еще за «ра-ра-ра»? Говори, как подобает человеку, остолоп!
— Ра… Ротозяев, — справился наконец половой.
— Я уже понял, что Ра-тазяев, дурища! Ты мне теперь не Ра-та-зяева называй, а того, второго! С которым он сюда таскался!
— Говоров, — выпалил Кеша скороговоркой, на этот раз без запинки.
— Точно Говоров?
Кеша опять отчаянно кивнул.
— Так. Говоров. И что ты про этого Говорова можешь мне сообщить?
Паренек беспомощно съежился, словно боясь, что его сейчас ударят. Судя по всему, он готов был выложить про этого Говорова все, что угодно, лишь бы знать, чего добивается от него этот суровый жандарм. Наконец он кое-как совладал с собой и выдавил единственную фразу:
— У него фотографии были.
— Так. Далее. — Половой опять поежился. — Ну давай, давай дальше! Что за фотографии? Кто был на них?
— Глупости.
— Какие еще глупости?
— Ну… просто.
— Глупость ходячая — это ты сам! Говори толком, что там было, на тех фотографиях!
— Ну, девицы разные.
— Девицы? Что ж такого глупого в девицах? Ты что, от карточек с девицами глаза воротишь?
— Они, того… без одежи. Салытов вальяжно расхохотался.
— С чего это ты вдруг? Разве ж это глупость — девки голые! Ну-ка, покажи мне, какие у тебя фотокарточки с ними имеются!
— Я на них сроду смотреть не могу, — признался Кеша.
— Ну да, поверил я тебе! Парень, в твоем-то возрасте! Да ты не дрейфь, не арестую я тебя за пару-тройку скабрезных карточек. Ты лучше мне, Иннокентий, правду скажи: что ты с теми снимками делал?
От официального к себе обращения половой заробел еще сильнее.
— Я их не брал! Попросту смотреть на них не мог! — с жаром воскликнул он.
— С чего бы вдруг? Ты что, скопец, что ли? Или у тебя корешок отвял, с орехами заодно? А может, ты… — В глазах у Салытова мелькнуло брезгливое подозрение.
— Нет-нет, я не потому! Просто у них на лицах… Как будто они боятся.
— Боятся? Шлюхи-то?
— Из них некоторые… совсем еще девочки. У меня сестренка в таком возрасте. Так нельзя.
— Они, девочки эти, потаскухи сызмальства! Для чего они, по-твоему, всем этим занимаются!
— Мне на них смотреть было поперек души.
— Гляди, а у тебя в половых-то, оказывается, святой, — усмехнулся Салытов, обращаясь к кабатчику.
— Кеша у нас славный парень.
— Враль он, твой Кеша! Я парней знаю. А этот — враль, если не хуже. — Салытов презрительно поглядел на Кешу. — А ну-ка скажи мне, скопец, не показывал ли тот тип фотографии здешней публике?
— Непременно показывал. И продавал всем, кто мог купить, да еще и… — Под остерегающим взглядом хозяина Кеша испуганно осекся.
— Мол-чать! — с прежним пылом крикнул на кабатчика Салытов. — Говори!
— Я теперь его тоже вспомнил, — спохватился тот. — Он как-то раз пробовал такими карточками за водку рассчитаться.
— Вот ведь как странно память к тебе возвращается. Так ты порнографию принимал в виде оплаты?
— Он мне зубы заговаривал, что он артист. Мол, артистичные позы. О порнографии тогда и речи не шло.
— А ну неси их сюда!
Кабатчик нехотя стронулся с места — вначале туловищем, и лишь затем головой.
— А ну живо! — прикрикнул поручик, с ухмылкой глядя, как мужичина вперевалку заспешил к себе в закуток.
Фотокарточки размером с игральные карты мало чем отличались от тех, что поручику доводилось видеть прежде. Лица у некоторых моделей выглядели и вправду несколько смущенно, но это лишь добавляло им пикантности. Поручик шелестел снимками быстро, с напускной небрежностью, стремясь не задерживаться на них взглядом — словом, демонстрируя отсутствие любого интереса, помимо служебного. Хотя, если честно, изысканная бледность кожи и интимные темненькие треугольнички (у иных по возрасту и волос-то на сокровенных местах не было) исподтишка все же волновали — кровь бежала быстрей. На одной фотографии среди аляповатых декораций он, кстати, признал ту юную блудницу, что попала к ним тогда в участок по обвинению в краже сторублевки. «Груди, надо сказать, что надо», — успел отметить он.
На иных фотокарточках были мужчины. Причем лица у них были или повернуты от объектива, или вне фокуса, или смазаны за счет движения. Мужчины, в отличие от женщин, были одеты; обнажены лишь их половые органы в разной стадии эрекции. На одном из снимков было запечатлено семяизвержение: брызги обильно сеялись на голый низ женского живота. Партнерша следила за этим орошением без особой приязни. Перевернув пачку, поручик стал просматривать снимки повторно, на Этот раз с обратной стороны. На обороте одной из карточек был записан какой-то адрес.
— А ну-ка прочти, — скомандовал Салытов кабатчику, бросая снимок на прилавок.
— Спасский переулок, три, — прочел тот.
— Это адрес того самого Говорова?
— Может, и он. Я раньше внимания не обращал, — отвечал кабатчик, избегая глядеть Салытову в глаза.
— Да неужто? А мне сдается, он специально для тебя его записал. Чтоб ты знал, куда тебе при надобности наведаться за этим товарцем.
— Да не помню я. Можно подумать, мне только и делов, что на оборот карточек любоваться.
— Так. В целях расследования улику я конфискую, — не без злорадства объявил Салытов, пряча пачку снимков в карман. Кабатчик протестовать не стал, лишь недоуменно пожал плечами. — Если увидишь кого-нибудь из этих двоих, Ратазяева или Говорова, мигом посылай Иннокентия ко мне в участок на Столярный. Подозреваемых удерживать до нашего прибытия. Все понял?
Ответа он дожидаться не стал — лишь монументально кивнул, словно отсекая этим любые возможные пререкания. Снова загудела шарманка — впечатление такое, что звук не заунывный, а какой-то недужный, словно чахоточный гнусит. Повернувшись, Салытов покинул заведение. Чувство брезгливости не покидало даже после того, как он вышел на улицу. Он невольно ускорил шаг.
* * *
Семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять…
Виргинский шел, считая свои шаги. Но сколько ни иди, а расстояния между собой и собственным своим унижением не изменишь. Оно вот оно, всегда с тобой, смотрит тебе прямо в лицо — в виде башмаков, полученных в дар от ненавистного дознавателя. Вот оно до чего дошло: принял подачку из рук этого злодея! Сам принял, своими руками, от эдакого исчадия. Как они тогда ночью к нему вломились, схватили, будто преступника, — разве такое забудешь! «Вот он, Виргинский». Иуды! И потом еще у этого главного иуды достает наглости уговаривать его добровольно остаться в тюрьме! Сатрапы!
«Дьявол, сущий дьявол», — выговаривал себе Виргинский. — «Подумать только, я чуть было не пошел у него на поводу».
До Виргинского дошло, что он уже не отслеживает количество шагов: считать и одновременно думать достаточно сложно. В том, что он считает, был определенный смысл. Если сосредоточиться на счете, не так неотступно думается об унижении. На чем он, кстати, остановился? Ладно, начнем наугад:
Восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь…
Виргинский шагал вдоль замерзшего Екатерининского канала, в сторону Невского. Без причины в такой день на улице делать явно нечего: льдистый ветер хлещет в лицо, насквозь продувает пальтецо на рыбьем меху — и все это яростно, с пронизывающей силой. В одном месте канал шел на изгиб, вместе с ним к северу изгибалась и протоптанная в снегу тропа. Справа от канала надменно высился Имперский банк, всем своим видом словно заявляя: «Тебе к моим богатствам путь заказан». С другой стороны канала, по иронии судьбы, тянулось унылое здание сиротского приюта.
Виргинский остановился, невольно задумавшись над скрытым во всем этом смыслом. Вот он, слабый, неспособный от голода даже связно думать человек. И вместе с тем ему вдруг показалось невыразимо важным задуматься над тем, что значит стоять вот так, между державным банком и приютом для сирот.
В эту минуту мимо прошаркал бродяга — еще более опустившийся, чем он сам, в рванине, под которую для тепла подложены были солома и газеты. Нищий брел почти бесшумно, возникнув словно из ниоткуда. Таких неприкаянных бедолаг по Петербургу бродило множество. Все они казались на одно лицо — один загнется, другой его сменит. Избегая смотреть на нищего, Виргинский тем не менее остановил взгляд на его обуви — точнее, на расползающихся опорках, которые были когда-то валенками.
Какое-то первозданное, на суеверии основанное чувство не дало ему взглянуть бродяге в лицо. Вспомнился читанный некогда рассказ про человека, преследуемого собственным двойником.
Дав бездомному скрыться за поворотом, Виргинский продолжил сбивчиво отсчитывать шаги. Девяносто, девяносто один…
Бродяги за поворотом не оказалось — куда-то словно канул.
Девяносто три, девяносто четыре…
Тропа вывела Виргинского к Невскому, на пятачок возле Казанского собора. Вольготная ширина проспекта вселяла неуютное чувство, сродни боязни. Казалось, несущийся ветер сейчас негодующе сдует, унесет прочь, в никуда. Место для променада здесь — только хозяевам жизни, богатым, в мехах.
Виргинский решил укрыться в колоннаде Казанского собора. Несмотря на свой атеизм, к этому месту он относился без антипатии. Подкова колоннады была подобна рукам, раскрытым для объятия, — величавость, не принуждающая падать ниц. Нечто, влекущее своей возвышенной кротостью. Человечностью веяло от этого храма, возведенного руками крепостных зодчих.
Между колоннами ветер надувал поземку, то и дело смещая тонкие слои снега или нанося новые. Созерцание путаницы следов на ступенях привело Виргинского в некое оцепенение. Он теперь не мог даже вести счет собственным шагам.
И все же постепенно в нем снова проснулось ощущение собственной приниженности, а вместе с тем и смутное припоминание того, как он с нею наконец разделается. Некий план, сложившийся еще в камере, если не раньше. Развязка, которую он близил самой своей жизнью. Найти бы лишь силы привести этот план в исполнение.
Только что это за план — придется повременить, прежде чем вспомнить. А пока:
Раз, два, три…
Он двинулся вдоль колоннады.
Нет, это не рассудок притупился. Просто голод. Найти бы лишь выход из всего этого — голода, униженности, на какую они его обрекали. А, вот оно. Вспомнилось. Вот почему он сейчас на Невском: покончить наконец с голодом.
Четыре, пять, шесть…
Незаметно для себя он шел сейчас по цепочке чьих-то следов — судя по всему, наиболее свежих, но не вполне разборчивых; толком не понять, где здесь пятка, а где носок. Иногда следы переходили в продолговатые чиркающие линии, будто прохожий пробовал скользить или подволакивал то одну, то другую ногу. Виргинский огляделся, но никого не приметил. И все равно ощущение такое, будто он здесь не один. Словно чье-то присутствие угадывалось в проплывающей мимо череде колонн.
Семь, восемь, девять…
И тут он увидел его — того самого бесприютного нищего, что проходил возле канала; сгорбленную фигуру, вкрадчиво скользящую меж колонн.
«С каким проворством он движется, — подумал Виргинский. — А по виду так совсем доходяга, еще хуже меня».
Впрочем, не это выгнало Виргинского из уютного безветрия соборной колоннады. Просто ему невыносимо было терпеть близость — пусть и умозрительную — этого бродяги. Она вселяла невольный ужас. Виргинский проникся вдруг уверенностью, что стоит этого нищего нагнать и взглянуть ему в лицо, как он непременно узнает в нем самого себя.
А потому Виргинский выбрался на Невский проспект, как раз напротив квадрата трехэтажного здания по ту сторону мостовой — в это время, по счастью, пустынной. Ветер, озорно взвыв, не замедлил накинуться на бедного скитальца.
* * *
— Мне бы к Осипу Максимовичу.
Холодный взгляд Вадима Васильевича прошелся по голодранцу, невесть как проникшему в помещение издательства «Афина».
— А вы кто будете? — спросил он после паузы, разомкнув скептически сжатые узкие губы.
— Да вы меня знаете. Помните, я бывал в доме у Анны Александровны? Я Виргинский, Павел Павлович.
— А по какому делу?
— Я бы хотел видеть Осипа Максимовича.
— Осип Максимович — человек занятой. И не может вот так все бросать и принимать всех подряд.
— Скажите ему, что я друг Горянщикова, Степана Сергеевича.
— И всего-то?
— Не только. Я к тому же писатель. Точнее, учусь. Но я писал в свое время очерки.
— Писателей по Петербургу пруд пруди.
— Горянщиков сказал, что я могу найти у вас работу. Говорил, что за меня поручится.
— К сожалению, Горянщикова нет в живых. Как он может за кого-то ручаться?
— Я очень вас прошу. Позвольте мне пройти к Осипу Максимовичу. Горянщиков мне говорил…
— И что же он вам такое говорил? — послышался второй голос, высокий, со смешинкой, и в комнату вошел сам Осип Максимович, прервав тем самым унизительный допрос. В стеклышках его очков светлячком мелькало отражение лампы.
— Насчет работы, которую он для вас выполнял, — оживился Виргинский. — По переводу Прудона. Мы с ним об этом беседовали.
Осип Максимович, сняв очки, вдумчиво вгляделся в посетителя антрацитово-черными глазами.
— Прямо-таки о Прудоне? — Да.
Осип Максимович снова водрузил на нос очки, за стеклами которых глаза у него казались меньше.
— И вы полагаете, что в самом деле могли бы потянуть работу, которую осуществлял Степан Сергеевич?
Он явно хотел спросить что-то еще, но сдержался.
— Мы и о многом другом с ним беседовали.
— Да-с? И о чем же?
— Ну, вообще о философии. О философах. О том же Гегеле. Осип Максимович задумчиво потер подбородок.
— Неужто и о Гегеле?
— Очень вас прошу. Я хочу на вас работать. Дайте мне на исполнение хотя бы отрывок, я непременно справлюсь, вот увидите. Если результат вас устроит, я готов буду сделать весь перевод до конца. Я готов даже за полцены, которую вы давали Горянщикову.
— Это потому, что вы как работник вдвое хуже его? — кольнул Вадим Васильевич.
— Это потому, что я не жадный. А просто голодный. Судя по улыбке Осипа Максимовича, ремарка пришлась ему по вкусу. Настроение начальника, похоже, частично передалось и его сумрачному коллеге.
— К сожалению, мы вам мало чем можем помочь, — заметил он. — Перевод Горянщикова у нас конфисковала полиция. Мы даже не знаем, сколько он успел сделать.
— Я знаю, что он не успел закончить, — отреагировал Виргинский.
Настроение у Осипа Максимовича вдруг переменилось. Он удрученно вздохнул.
— Бедный Степан Сергеич. Его смерть для нас — ужасный удар. — Он потерянно улыбнулся Виргинскому. — Он же был мне как сын.
— И зачем так люди говорят, — тоже нахмурившись, заметил студент. — Абсолютно пустые слова.
— Но как же. Я ведь… тоскую по нему. — Виргинский на это промолчал. — А он хоть когда-нибудь, хоть однажды… отзывался обо мне тепло! — с непонятным волнением спросил Осип Максимович.
— Для вас что, есть какая-то разница, любил он вас или, наоборот, ненавидел?
— Он говорил, что… ненавидел?
— Нет, почему. Просто такое чувство я испытываю к своему отцу. Потому что, если Горянщиков был вам как сын, удивительно ли, что он испытывал к вам нечто схожее.
Неожиданно Осип Максимович рассмеялся.
— А что! Думается мне, переводчик философии из вас выйдет очень даже недурственный. Попробуем доверить вам заключительную главу Прудона. Если справитесь с ней на уровне, дадим предпоследнюю главу. И так далее в обратном порядке. Когда, даст Бог, выцарапаем-таки из полиции текст Степана Сергеича, зазор в серединке останется минимальный.
— Это безрассудство! — воскликнул Вадим Васильевич, воздевая руки.
— Ничего-ничего, Вадим Васильевич. Годится ли он, мы уясним достаточно скоро. Ну что, мой друг, принимаете наши условия?
— А как насчет денег? Мы еще это не обговорили.
— Ах деньги. Это, знаете ли, зависит от качества работы. Если она оставит желать лучшего, то, боюсь, денег мы вам дать за нее не сможем.
— Но мне нужны деньги, прямо сейчас! — Поняв, что вспылил совершенно некстати, Виргинский тут же сбавил тон: —
На материалы. Бумага… Перья… Чернила, свечи. Ну и… et cetera, — добавил он после паузы.
— Et cetera? — переспросил Осип Максимович насмешливо. — Что же это, интересно?
— Например, еда.
— Это элементарное попрошайничество! — опять вмешался Вадим Васильевич.
— Что ж. По мне, так лучше иметь дело с попрошайкой, чем… — Осип Максимович сжал губы, подбирая подходящее слово, — чем с иным каким негодяем.
Вадим Васильевич строптиво отвел глаза: дескать, шутка не удалась.
— По крайней мере, не дадим же мы нашему переводчику умереть с голоду, — с добродетельным видом воскликнул Осип Максимович. — Так и быть, даем вам полтинничек авансом. Если работа нас устроит, получите пять рублей и следующую — в смысле предыдущую — главу на перевод. Ну а если нет, то уж не обессудьте: полтинничек этот будет нашим единственным взносом в данное предприятие, и на этом мы расстанемся раз и навсегда. Годится?
Виргинский кивнул, глядя в пол.
— Вадим Васильевич, прошу вас, шкатулку с кассой! Угрюмый циркуль направился в смежную комнату, осуждающе качнув головой.
* * *
На свежем пронизывающем ветру Салытов наконец-то почувствовал облегчение. Хотя, в общем-то, преждевременно. Вон пьяный беззастенчиво блюет на мостовую, а сосед его о чем-то запальчиво спорит с фонарным столбом. На углу Сенной площади, выходящем в Спасский переулок, дрожащая на холоде женщина предлагает всем купить у нее шарф. И в самом деле — скорее уж можно на шарф позариться, чем на нее саму.
Вон студенты облепили стайками прилавки, полки и столы книжных лавок на Спасском — книги по большей части подержанные. Вообще студенческую братию Салытов недолюбливал: вся эта расхристанность вызывала у него глубокое негодование. Мозгляки — худющие, кожа да кости, — одеты кое-как, а туда же, гнут из себя невесть что. О времена, о нравы! Видно, все летит в тартарары: где ж это видано, чтоб нахальные эти куцехвосты еще и тщились представлять собой цвет державы, ее гордость и надежду! Да чем они лучше неграмотных темных мужиков из глухого захолустья? Скорее напротив — хуже, куда хуже! Те хотя бы исправно, безропотно несут свой крест, делают что положено. Мужик, у него хоть душа в целости. А у этих «скубентов» — одно безверие да отступничество, сплошной нигилизм.
Салытову представилось, как он громит все эти лавки на манер Христа, изгоняющего торговцев из храма.
Подъездная дверь в третий дом была открыта. Попытка прикрыть ее за собой не увенчалась успехом. Сумрак в парадном быстро сгущался вместе с угасающим днем. Видны были лишь прямоугольники квартирных дверей в первом этаже. От пинка подъездная дверь открылась шире, но видимость от этого не улучшилась. Свет снаружи истаивал окончательно. Подъездная лестница различалась скорее на ощупь; собственную вытянутую перед собой руку и то уже, считай, не было видно.
Уже в полной темноте Салытов постучал в первую попавшуюся дверь. Подождав около минуты, постучал еще раз, сильнее. Подъезд вторил стуку гулким эхом. Ощущение было такое, будто за дверью простирается необитаемая пустыня.
А может, зряшная это затея? Может, не стоило соваться сюда в одиночку? Надо было хотя бы предупредить людей в участке.
Салытов представил, как бежит сейчас, унося отсюда ноги, всем на смех. Или, скажем, такая сцена: вот выходит кто-то из темноты и без слов всаживает ему меж ребер нож. А потом так же молча уходит, не оставляя следов.
Тут у Салытова вспыхнул запоздалый гнев на Порфирия Петровича. Надо же, как он его тогда выставил перед сослуживцами. Дескать, как же вы упустили того самого, как потом выяснилось, Говорова! А он-то, Салытов, здесь при чем? Мерзавец на тот момент уже скрылся! Нехорошо получилось. Обидно.
Ну да ладно, мы этому Порфирию покажем. Добудем ему того Говорова самостоятельно: знай наших!
И Салытов решил остаться — была не была.
Между тем где-то в недрах квартиры послышались шаги. Ну что: двум смертям не бывать, а одной…
Дверь приотворилась, в открывшуюся щель блеснул свет фонаря. Из щели на Салытова пристально смотрел один глаз из-под изогнутой брови.
— Говоров где? — отрывисто бросил поручик, мимоходом подивившись сиплости собственного голоса.
— Выше, — ответили из-за двери, причем как будто и не ртом, а этой самой бровью. Пахнуло водкой и квашеной капустой.
— Покажи где. — Бровь в ответ взметнулась, выражая сердитый отказ. — Я из полиции. Делай как сказано — добром предупреждаю.
Дверь открылась шире, отчего свет веером рассеялся по парадной. Фонарь держал у груди приземистый лысый мужичок лет сорока. Прежде всего в глаза бросались его брови — кустистые, вьющиеся. Не человек, а джинн какой-то — правда, в миниатюре. К тому же брови эти были на редкость подвижны, действуя словно обособленно от лица. Лишь немного спустя Салытов вобрал в себя всю его физиономию. Морщинистая кожа, широкие скулы — внешность скорее азиатская. Острая бороденка придавала его голове сходство с перевернутой луковицей.
— Не буди лиха, пока тихо, — сказал мужичонка. — Дом у нас добропорядочный.
— Вот и хорошо. Ты кто будешь?
— Леонид Семеныч я. Толкаченко. Дворником я здесь.
— Стало быть, у тебя и ключи от всех квартир есть?
— Стало быть, да.
— Тащи, живо.
Вместе с дворником уплыл и источник света. Всюду по темным углам начал невольно мерещиться Говоров.
— А чего он такого натворил? — осведомился строгим голосом дворник Толкаченко, возвращаясь со своей коптилкой и со связкой ключей.
— Не твоего ума дело, — буркнул ему в спину Салытов, поднимаясь следом по скрипучим ступеням.
— Знал я, что все это скверно кончится, — вздохнул на ходу Толкаченко.
— Ты о чем?
— Говорил же я ему: прекрати!
— Что такое?
— Да девок он сюда притаскивал. А сам все отнекивался. Но меня-то не проведешь: я каждый скрип слышу, а не то что ихнюю там бордель сверху. Вот и доразвлекался, подлец.
Они поднялись на второй этаж. Толкаченко кивком указал на дверь, что справа.
— Отпирай, — велел Салытов.
Их встретила непроглядная темень.
Толкаченко, как мог, осветил плотно занавешенную комнату.
— Нету его, — сообщил он с некоторым удивлением. — А ведь был недавно, я нюхом чую.
Дворник еще раз обошел комнату, даже потрогал для верности оконную раму.
— Странно как-то, — посветив еще и в окошко, подытожил он наконец.
— Может, он по перилам съехал, а ты и не расслышал? — осклабился Салытов. — Дай-ка сюда фонарь. Да живее же, ч-черт! — прикрикнул он нетерпеливо, заметив в углу очертания какого-то темного предмета.
Предмет на поверку оказался не чем иным, как дагерротипом на треноге.
— Ага. Вот он где свои картинки делает.
В эту секунду его пробила жгучая ненависть к Говорову. Теперь ему по-настоящему хотелось изловить этого прохвоста — чтобы тот непременно понес наказание, неважно даже какое.
В скудном свете колышущегося фонаря темная комната представала не вся сразу, а как бы по фрагментам: тахта с пестрым покрывалом, стол с неубранной посудой, незаправленная кровать, открытый секретер, этажерка с книгами, прислоненная к ней гитара с бантом… Осмотреть секретер было небезынтересно. Салытов уже на расстоянии понял, что забит он по большей части фотокарточками известного свойства — вроде тех, что он изъял у кабатчика. Но что примечательно, изображение оказалось в основном одно и то же; отпечатан был, можно сказать, целый тираж — все та же блудница, которую тогда задержали за кражу сторублевки. На снимке она возлежала на говоровской тахте, заложив руки за голову и картинно согнув одну ногу в колене. У Салытова невольно пересохло во рту. От обилия схожих меж собой образов голова буквально шла кругом.
— Срамотища-то какая, — шумно сглотнув, вымолвил пораженный увиденным дворник. — Подумать только, и все это буквально у меня над головой проистекало! Ну Говоров, ну держись!
— А ну тихо! Об увиденном никому ни слова, понял? Чтоб не возникало подозрений. Этот жилец, скорее всего, — опасный преступник. Речь идет об убийстве; точнее, о его расследовании. Как только Говоров этот вернется, сразу дашь мне знать. Я — поручик Салытов, из Сенного полицейского околотка, на Столярном.
— Да нешто мы не знаем. Мы полицию завсегда уважаем, — с готовностью заявил Толкаченко.
— То-то. Когда он, этот Говоров, в основном дома бывает?
— Да пес его знает. Он то есть, то его нет. То весь день спит, то цельную ночь где-то пропадает.
Салытов подошел к этажерке. Книги на ней были примерно одной формы и размера, и даже обложка преимущественно одного цвета, бордового. Ну и соответственно, названия:
«Гарем: сцены из жизни», «Похождения распутника», «Тайная страсть Пандоры», «Белые рабыни», «Пребывание в Содоме», «Право первой ночи», «Плеть и плутовка», «Сладость через боль (продолжение „Плети и плутовки“)», «Плоть и кровь», «Отдавшись мавру», «Тысяча и одна девичья головка», «Монах и девственницы» — и далее в том же духе. На корешках изданий значилось: «Приап».
Салытов победоносно кивнул. Не дворнику, боже упаси (о нем он сейчас напрочь позабыл), а просто представив, как он эти книги предъявляет Порфирию Петровичу.
Глава 18 ГОСТИНИЦА «АДРИАНОПОЛЬ»
Сани неслись через Неву по Биржевому мосту. Извозчик то и дело, привстав, с гиканьем подхлестывал своего жеребца. Тот в ответ, изогнув шею, тряс гривой. От лоснящихся каурых боков шел пар. Конское всхрапывание, звяканье сбруи и резкий скрип полозьев по накатанному насту — что может быть отраднее в ясный, морозный зимний день; пожалуй, самый погожий за всю зиму.
Порфирий Петрович сидел, закутавшись в уютный кокон своей шубы.
— Вот дурачье, — подал голос сидящий рядом Салытов.
Порфирий Петрович обернулся взглянуть, чем вызвана такая ремарка. Взгляд Салытова был прикован к ледяной горе посреди замерзшей реки. Стояло субботнее утро, которое искатели острых ощущений проводили с пользой для себя, карабкаясь на горку, а затем ухарски бросаясь по крутому склону вниз, рядком по три-четыре человека. Чистый морозный воздух доносил их восторженный рев и визг. Катались в основном ребята, но попадались и девушки — лица у всех разрумяненные, полные радостного возбуждения. Порфирий Петрович улыбнулся, наглядно представляя себе веселый ужас и бойкий, искристый восторг этого головокружительного спуска.
— А ты молодец, Илья Петрович! — сказал он как мог громко, стремясь перекрыть шум езды и как-то развеять меланхолию своего попутчика. Горка осталась позади, а вместе с ней поутихли и звонкие крики катающихся.
Салытов не ответил, даже не обернулся.
— Найти лежбище Говорова — это уже кое-что!
— Да ну. Так, обычная сыскная рутина. Все равно бы след всплыл, рано или поздно. Ну, всплыл чуть пораньше. Подфартило, только и всего.
На Порфирия Петровича поручик при этом не глядел — он говорил через плечо. Приходилось напрягать слух, чтобы его расслышать.
— Не скажи, Илья Петрович! Удачу свою человек сам делает, а уж особливо в нашем-то деле! — Салытов в ответ лишь хмыкнул. — Разумеется, вопрос, поднятый твоей находкой, — это с чего вдруг человеку, живущему в Спасском, брать себе номер на Большом проспекте! — Молчание Салытова в ответ показалось намеренным. — Да ты что, Илья Петрович? Иль я тебя обидел чем?
Поручик обернулся вполоборота, не глядя при этом в глаза.
— Да никто меня не обидел, — выдавил он наконец.
— Ну вот и славно. Тогда позволь мне тебя спросить… — Порфирий Петрович вдруг осекся. — Нет, что-то здесь не то! — Чуя, что попытка вызвать Салытова на откровенность не удалась, он вгляделся в него пристальней. — Илья Петрович, а ну-ка скажи прямо, что ты такое против меня имеешь!
Салытов глубоко вздохнул и наконец повернулся к начальнику лицом. В глазах у него стояла горькая невысказанная обида.
— Я свое место знаю. Я так, простой службист: что мне из управления велят, то я и делаю. Так что, если есть какие ко мне нарекания, милости прошу с ними к моему начальству, Никодим Фомичу.
— Да что ты, какие нарекания, Илья Петрович! Я лишь дивлюсь, чем я тебе не по нраву прихожусь последнее время! — опять как можно громче сказал Порфирий Петрович, отчего голос слегка осип.
— Да мы и не обязаны вовсе друг дружке нравиться. Ни вы мне, ни я вам.
— Это так. Да только ты того, видно, не понимаешь, что я всей душой тебя уважаю, Илья Петрович. Я потому тебя и назначил на это дело, чтоб мы с тобой в одной упряжке были.
В глазах у Салытова сверкнул вдруг гнев, будто эти слова его больно задели.
— Да что с тобой, Илья Петрович? Чего ты?
— А то ты не знаешь!
— Нет, конечно, — искренне удивился Порфирий Петрович.
— Хочешь, чтоб я сам тебе сказал? — Порфирий Петрович кивнул. — Что ж, изволь! Думаешь, я не вижу, что ты надо мной надсмехаешься! Посылаешь меня по всяким дурацким поручениям! Интригуешь у меня за спиной, чтоб если какой-нибудь вздор, то непременно ко мне. И у тебя еще совести — нет, наглости — хватает говорить, что ты меня уважаешь!
— Ох, как ты ошибаешься, Илья Петрович.
— Ничего я, Порфирий Петрович, не ошибаюсь! Просто тебе доверяться нельзя. Ты с товарищами своими те же приемчики пользуешь, что и со своими подследственными! Со мной, скажем, лесть и неискренность. Она у тебя, кажется, «психологией» зовется?
— Да ты что, всерьез ли, Илья Петрович?
— Вот видишь, ты и сейчас напрямую говорить со мной избегаешь, а еще хочешь, чтоб я с тобой открыт был!
Порфирий Петрович, шумно вздохнув, полез за папиросами.
— А может, ты и прав, а? Интересно на себя взглянуть через призму чужого, так сказать, восприятия. Не очень лестный портрет, признаться, получается.
— Да уж куда там! Я человек прямой, ты знаешь.
— Знаю, ох знаю. Такая уж у меня метода. Прости меня за то. И все как есть тобою сказанное на свой счет принимаю. Видать, как в себе ни прячься, как ни скрытничай, а рыло все одно наружу. Со стороны оно видней.
Дружелюбная улыбка Порфирия Петровича поручика, судя по всему, не тронула. Он вдруг прижался чуть ли не вплотную и сказал буквально на ухо:
— Это ты мне, видно, за то не простил.
— Это еще за что? Интересно, — в тон ему откликнулся теперь и Порфирий Петрович.
— За то, что он мне тогда сознался, — бросил Салытов с вызовом.
— Кто? В чем? Ничего в толк не возьму.
— А студент тот. Раскольников. Как он меня тогда выискал и сам во всем сознался.
— Так я тому лишь рад был, Илья Петрович! Что он вообще хоть сознался! Какая разница кому, — главное, что признался в содеянном.
— Вот опять ты виляешь. Это ж тебя наверняка тогда по самолюбию резануло. Уж будь добр, не криви душой.
— Чувствую, не удастся мне тебя убедить в том, чему ты сам наотрез отказываешься верить.
— Да. В искренности твоей меня убедить не удастся, если ты о ней.
Прикурить не удалось. Порфирий Петрович досадливо отбросил спичку, а следом и папиросу.
— Жаль мне, Илья Петрович, что ты в таком свете все представляешь. Душа страдает. — Салытов в ответ пожал плечами. — Ну да ладно. Давай попросту условимся: забудем про наши различия и сосредоточимся целиком на деле, — подытожил тогда Порфирий Петрович голосом нарочито сдержанным.
Салытов придвинулся снова.
— Но хоть в нем-то, в деле этом, ты будешь со мной честным? — спросил он с какой-то просительной ноткой. — Чтоб я хоть знал, о чем ты успел проведать? Или ты опять будешь… того, все от меня скрывать?
— Если тебе кажется, что я что-то скрываю, то, виноват, лишь потому, что открыть мне тебе особо и нечего. Я ж ничего еще толком не проведал. И ключ к разгадке дается мне так же, как и тебе. То есть пока никак.
— Но есть же у тебя какие-то… подозрения?
— Есть, нет. Любые подозрения на этой стадии следствия — пустой звук.
— Вот видишь, ты даже подозрениями не хочешь со мной поделиться!
— Ну, скажем так. Я не верю, что Горянщикова убил Тихон. А также что он сам на себя руки наложил.
— Это мне известно. Ну и что?
— Что же касается Виргинского…
— То ты его отпустил.
— Мне ничего иного не оставалось. Хотя чувствую я, он каким-то образом опосредованно связан с разгадкой. И все так или иначе сходится к тому вздорному на вид договору. По крайней мере, в нем прослеживается мотив. Только вот что это за мотив? Что за ним стоит? Здесь, подозреваю, что-то кроется. И именно от этого я начинаю разматывать клубок, а ниточку привязываю к Виргинскому — уж куда он ее вытащит. А может, она ему и жизнь спасет — вроде, знаешь, как лодка на спасительной привязи.
— Ты полагаешь, ему грозит опасность?
— Если убийца решит, что он может его так или иначе обозначить.
— А кто он, по-твоему, тот убийца? Порфирий Петрович подавленно вздохнул.
— Я ощущаю некое чувство вины, ты в этом прав. Вины сугубо русской. Ты меня понимаешь? — На мгновенье взгляд у следователя сделался растерянным, даже робким. — Я человек суеверный. Ты, кстати, знаешь, что у меня бабка по материнской линии из татар, алтайских? Захомутал ее в жены один есаул. Не знал? Ну так вот. Иногда бывает, кажется мне, что в родне у нее непременно шаманы водились. Или знахари какие. Оттого, видать, и суеверность, и скрытность во мне такая, тобой столь порицаемая, — вижу вещи изнутри. Наследственность, стало быть. Но ничего такого, не подумай. А потому — уж как бы мне тебя не разочаровать — все тайны эти подчас отнюдь не умом постигаются. Разум твой тут тебе не поможет. А чего я подчас даже сам побаиваюсь — иной раз вдумаюсь, так даже оторопь берет, — это как оно у меня само собой все выходит: р-раз, и вот он, ключ к разгадке! А дело в том, что есть в каждом человеке некое место, сродни пустоши бескрайней. У преступника в нем как раз все его темные замыслы и вызревают, словно травы черные, и пробиваются затем на поверхность. Но и в нас есть место сокровенное, где замыслам тем создаются, наоборот, противоядия. По крайней мере, у меня так. Вслух-то всего и не скажешь: люди не поймут.
— Ну так ты о чем?
— А о том, что туман там пока, в этом месте. Ощупью приходится брести. Но кое-что уже проглядывает, брезжит. Глядишь, куда и выйдем.
Салытов с тягостным вздохом отстранился и какое-то время молчал, обдумывая.
— Нет, Порфирий, — вымолвил наконец он. — Что ни говори, а опять ты что-то крутишь, себе на уме. Все думаешь, как секреты свои при себе удержать, чтоб я до них вперед тебя не докопался. От меня вон прямоты требуешь, а сам… Зря ты так.
— Н-да, — словно очнувшись, произнес Порфирий Петрович. — Курить будешь?
Он протянул свой портсигар. Салытов в ответ сердито мотнул головой.
Сани умерили бег. Порфирий Петрович сунул портсигар в карман. Папиросу доставать не стал.
* * *
Того бродягу Виргинский углядел в подворотне на Гороховой, с грязным мешком на голове. Узнал его по расползшимся опоркам, торчащим из-под мешковины.
Хорошо, что лицо бездомного было скрыто. Так проще было справляться со страхом, который владел теперь Виргинским неотступно: страхом узнать в этом получеловеке свои черты. Он вдруг непостижимым образом проникся уверенностью, что сгорбленная эта фигура возле лестницы действительно не кто иной, как он сам в будущем. Абсурд, но тем не менее. Атеистические воззрения не допускали в студенте «слепую веру», но убежденности придавал какой-то диковатый, языческий страх. Он заставлял воспринимать эту мысль как вполне достоверную.
«Я сошел с ума», — чуть ли не вслух выкрикнул Виргинский.
Хотя само осознание происходящего вселяло некоторую надежду.
«Я мыслю, следовательно, я не безумен».
Согбенное туловище под мешковиной, словно почуяв на себе посторонний взгляд, шевельнулось. Скорее прочь! И главное — не смотреть. Почему-то казалось, что стоит хоть на мгновенье встретиться с этим мытарем взглядом, и они с ним сольются воедино. И быть ему этим самым мытарем до конца дней. Какое чудовищное и унизительное суеверие — да, именно унизительное, как и все теперь в его жизни! И тем не менее он проникся им настолько, что шагал теперь как завороженный, боясь отвести взгляд от мостовой.
Чувствуя за спиной присутствие бродяги, Виргинский предпочел переключиться мыслями на скорый ужин в какой-нибудь дешевой харчевне. Что тоже унизительно, учитывая то, к чему ему пришлось прибегнуть ради этого полтинника на пропитание. Он его не просто выклянчил — он ради него солгал. Переводить ту книгу у Виргинского и в мыслях не было. К издателям он явился единственно с целью выжать из них ну хоть что-нибудь. Однако он при этом не чувствовал ни стыда, ни раскаяния. Даже намека на них.
Получается, спасибо голоду. Именно он заставлял сейчас Виргинского вожделенно мечтать о пироге с требухой как о царской трапезе и оправдывал любые, самые низменные поступки.
Однако надо было сделать и кое-что еще. Виргинского влекли в себе сияющие буквы над витриной аптеки Фридлендера. Он с какой-то изумленностью уставился на освещенные изнутри бутыли с разноцветными жидкостями. А потом машинально обернулся туда, на подворотню с бродягой. Уму непостижимо — там никого не было.
* * *
Гостиница «Адрианополь» представляла собой деревянное приземистое строение на углу Большого проспекта — серый квадрат под белесым небом. Дощатая стена в одном месте была явно опалена, словно кто-то пытался это строение поджечь.
Внутри было сумрачно и тихо. Комната при дверях была минимальна по размерам: так, конторка с откидным прилавком и связками ключей на стенке, а далее сразу узкий сводчатый коридор. Освещение, и без того скудное, еще и частично поглощалось грязноватыми желтыми обоями.
Порфирий Петрович нажал тускло звякнувший звонок на прилавке.
Через какое-то время из боковых дверей навстречу показался небритый то ли швейцар, то ли носильщик. Одет он был в невпопад застегнутое подобие мундира, из-под которого виднелась надетая на голое тело жилетка. На вошедших он взглянул с явным неудовольствием.
— Чего, комнатенку на часок, что ли?
— Что-о? Да как ты, каналья, смеешь… — угрожающе начал Салытов, распаляясь так быстро, что забеспокоился даже Порфирий Петрович.
— Мы ищем одного мальчика, Митю, — поспешил с объяснением он. — Причем по полицейской части. Я из следственного управления, а этот господин — полицейский поручик.
— Чего он натворил, бесенок этот?
— Передайте, что мы к нему с наградой, от царя.
Швейцар, недоверчиво хмыкнув, набряк вдруг лицом и рявкнул, не сводя с вошедших глаз:
— Митька!
Порфирий Петрович между тем негромко попросил Салытова:
— Илья Петрович, очень тебя прошу. Ты уж не забывай, что это всего лишь мальчишка. — И, видя, что коллега не вполне его понял, добавил: — Пугать его — значит вообще ничего не выведать.
Салытов в ответ угрюмо кивнул.
— Вы тут о какой-то награде упоминали-с, — заюлил за прилавком швейцар, алчно блеснув глазами.
— Да, для Мити, — подчеркнул Порфирий Петрович.
— Вам ее, ваши благородия, лучше у меня оставить, — предложил швейцар с кривенькой улыбкой. — Чтоб, знаете ль, не подевалась куда. А то неловко будет-с. Этого пострела пока еще дождетесь; знаете ль, неловко-с…
— Награды, стало быть, хочешь? — нехорошо усмехнулся Салытов, надвигаясь на прилавок. — Ох, я тебя сейчас награжу!
Грозная поступь дюжего поручика заставила швейцара забиться в угол. Умоляюще глядя на Порфирия Петровича, он еще раз позвал: «Ми-итя!», на этот раз даже как-то просительно.
Спустя секунду в дверь выглянула уже знакомая чумазая мордашка в картузе набекрень. При виде следователя глаза у мальчишки распахнулись; похоже, в этот момент он подумывал снова задать стрекача.
— Митя, дружище, рад снова тебя видеть! — уловив его настроение, как можно радушнее воскликнул Порфирий Петрович. — А я тут к тебе с наградой, от самого государя! — И он разжал ладонь, явив на ней новенький серебряный рубль. Мальчуган невольно шагнул вперед. Однако прежде чем он схватил монету, Порфирий Петрович проворно сомкнул ладонь.
— Тю-ю. Да это ж серебро, а не золото, — с напускной разочарованностью протянул Митька.
— Да. Зато, глянь, новенькой чеканки — как раз для тебя изготовлено. Да еще и с портретом государя.
— Ну так давай сюда!
— Ишь ты. И впрямь бы дал. Кабы ты тогда деру не сделал, пока мы еще разговор не закончили. Чего ж ты так, а, Мить? Неужто сдрейфил? Эх, ты!
— Почему сдрейфил. Не сдрейфил.
— Тогда чего же смылся?
— Просто ты меня вопросами своими допек.
— Да работа у меня, брат, такая.
Порфирий Петрович полез за папиросой. Заметив, с какой жадностью мальчишка следит, как он прикуривает, Порфирий Петрович предложил портсигар и ему. Тот не замедлил выхватить угощение и деловито прикурил.
— Славный табак! — одобрил он после первой затяжки. — Небось турецкий?
— Ну и хорошо, что нравится, — кивнул Порфирий Петрович. — Помнишь, мы тогда говорили насчет дворника? Когда ты отнес письмо тому карлику, Горянщикову, а потом еще в дворницкую заглянул. Так вот, Говоров не давал тебе записку еще и для дворника?
— Да, давал, — подумав, отвечал Митька.
— Ну и чего ж ты об этом молчал?
— Не знаю, — пожал плечами мальчуган, глядя на огонек своей папиросы, зажатой большим и указательным пальцем. — Может, он чего-то такое мне сказал.
— Что же именно?
— Да так, ничего особенного, — сказал Митька, избегая смотреть следователю в глаза.
— Разумеется ты прав, ничего особенного. Жаль, конечно. Если б это оказалось как-то полезным…
— Смотри осторожнее с этим.
— Осторожнее с чем?
— Да это он так сказал. Смотри, говорит, осторожнее с этим.
— А еще что?
Мальчуган пожал плечами.
— Вот так только и сказал. Ну, и осклабился как-то. И на меня посмотрел. Да так… — Малец мелко вздрогнул, припоминая. В эту секунду глаза у него непроизвольно сузились, и в них мелькнуло совершенно недетское выражение — как будто бы он припоминал события изрядной давности. — Да так, что у меня аж сердце захолонуло.
Порфирий Петрович, поджав губы, украдкой поглядел на Салытова, который, надо сказать, смотрел на мальчишку с вполне серьезным видом.
— Н-да, интересно, — вздохнул следователь.
— Ну так что, как с наградой-то? — спросил Митька, протягивая ладошку.
Порфирий Петрович, моргнув, раскрыл ладонь, открывая монету. Одними посулами из такого собеседника много не вытянешь.
— Молодец, брат. Государь доволен будет, — и он передал целковый по назначению.
Митька при этом гордо огляделся, нахохлившись лишь под ехидным взглядом швейцара.
— А ты чего, и вправду царя знаешь? — спросил он, спешно пряча целковый в карман.
— Да не так чтобы совсем уж на короткой ноге. Но могу доложить о твоей помощи вышестоящему начальству, а оно еще выше, и так, глядишь, до самого государя. А уж он, разумеется, будет доволен.
— Разыгрывают они тебя, дура, а ты и уши развесил, — усмехнулся швейцар.
— Вовсе нет. У нас все заведено именно так, — спокойно возразил следователь. — Монаршая милость, а то бывает и наоборот, немилость, нисходит по инстанции сверху вниз. А потому могло все кончиться не целковым, а и вовсе поркой. — И он с напускной строгостью посмотрел на наглеца швейцара.
К Митьке же Порфирий Петрович повернулся, наоборот, с улыбкой. — Ну что, брат. У меня к тебе, пожалуй, еще лишь одна просьбишка осталась. Отвел бы ты нас в номер, где Говоров останавливался. Хочу посмотреть.
— Свеча понадобится, — знающе сказал Митька, с бывалым видом затягиваясь.
* * *
Выходя от Фридлендера, Виргинский внимательно оглядел Гороховую в оба конца. Бродяги видно не было. Но было темно, и в воздухе обильно кружились снежинки, тем самым ограничивая видимость. Может, нищий где-то сейчас подкарауливает. Пристроился небось где-нибудь возле костра, что дворники разжигают вдоль мостовых для сугрева.
В животе у Виргинского бурчало. Снежинки летели в лицо, тая на щеках.
Он двинулся по улице вниз. Ботинки почти не скользили — вот что значит новая обувь. Хотя было по-настоящему скользко, и приходилось поминутно балансировать, глядя под ноги. Когда же мимо прогромыхал едущий встречно тарантас, Виргинский, поддавшись вдруг безотчетному порыву, резко развернулся и побежал следом, используя его как прикрытие. Бежалось на удивление легко. Порыв, что и говорить, странный, но вполне объяснимый: ветер не дует в лицо. Да и мытарь, если находится по другую сторону улицы, не различит его за этим прикрытием, да еще в эдакую метель. Так получилось, что на первом же повороте Виргинский, сам того не ожидая, попал на Морскую улицу. Тарантас пронесся дальше. Пробежав еще некоторое расстояние, Виргинский, растопырив руки, проехал пару саженей юзом, после чего перешел на быстрый шаг, лишь раз оглянувшись через плечо.
С такой же безотчетностью, что побудила его развернуться и припустить по Гороховой, он теперь остановился перед каким-то не то салоном, не то лавкой. Вывески он толком не видел, не знал и того, чем здесь торгуют.
А пахло между тем новыми тканями и кельнской водой — причем запах на удивление знакомый. И тут Виргинский вспомнил, что он здесь уже единожды был, только давно. Да-да, именно здесь, на Морской, в этом немецком шляпном магазине, куда случайно забрел вскоре после приезда в Петербург. Собственный франтоватый вид тогда вполне позволял ему свободно заходить в подобные места и без стеснения прицениваться к головным уборам, даже самым дорогим. Тогда у него и плечи были развернуты, и голова держалась гордо и прямо, и заботливая суета снимающего мерку шляпника казалась чем-то вполне естественным. Он и к товарам подходил так, будто за все уже заплачено, а в зеркала, примеряя щеголеватую немецкую шляпу, смотрелся с некой взыскательностью: ладно ли сидит? Шляпу он, кажется, тогда купил. Где-то она теперь? Не иначе, сгинула в каком-нибудь ломбарде из-за неуплаты.
Теперь же зеркала встречали его словно с презрением — так почтенная публика косится свысока на случайно затесавшегося в приличное общество попрошайку. А уж чтобы шляпу примерить — хотя бы примерить! — тут уж и думать не моги. Затея столь же немыслимая, как вальсировать на этом вот потолке.
Виргинский втянулся с улицы ровно настолько, чтобы прикрыть за собой дверь и вместе с тем видеть через нее, что происходит снаружи. Надо было еще и остерегаться внимания приказчика. К счастью, продавцы были сейчас по большей части заняты с посетителями.
Ждать долго не пришлось: нищий тут как тут, появился и зашаркал по улице. От изумления Виргинский буквально обомлел. К тому же он не успел внутренне собраться — подготовиться, чтобы вот так, в открытую, лицезреть мытаря в профиль. Не менее потрясло его, пожалуй, и то, что лицо незнакомца не имело сходства с его собственным. Нет, черты совершенно иные. Виргинский вначале даже подумал было, что обознался, тот ли это нищий. Хотя кто же, как не он, — вон и опорки, те самые. Только сейчас поверх них почему-то были натянуты добротные резиновые галоши.
Нищий нерешительно остановился на тротуаре фактически в двух шагах, и теперь пристально оглядывал Морскую улицу в обе стороны. Искать объект наблюдения в шляпном магазине ему попросту в голову не приходило. Действительно, кому взбредет в голову разыскивать полунищего студента в заведении с претензией на роскошь. А заодно и соваться туда самому, в таком-то виде. Так что нищий тронулся дальше. Виргинский в очередной раз подивился его сноровке и проворству.
— Чем могу-с? — послышалось сзади.
Виргинский обернулся. Напротив него стоял франт лет тридцати и, чуть накренив голову, взыскательно рассматривал заблудшего оборванца.
Ну что можно такому сказать? Набриолиненные волосы, глухой стоячий воротничок. Сюртук без единой складочки, под которым жилет и до скрипа накрахмаленная сорочка. А уж туфли такие, что можно в них глядеться вместо зеркала. Сама элегантность, по-враждебному неприступен. Запах парфюма и тот пронзителен, как игла.
— Да я тут как-то шляпу раз покупал, — пробормотал Виргинский с вызовом, чтобы как-то то скрыть свое смятение.
На слова побродяжки приказчик отреагировал тем, что, поморщившись, отпрянул, будто отгораживаясь от самих его слов.
— У меня отец, между прочим, помещик, — буркнул Виргинский и, униженно сгорбясь, покинул магазин. Такого стыда он прежде, пожалуй, еще не испытывал.
* * *
Митька вел их по мрачному коридору — такому тесному, что идти приходилось цепочкой, замыкал которую швейцар, которого, собственно, никто с собой и не звал. Вид у него был, надо сказать, довольно глупый (он шел с открытым ртом), а увязался он исключительно из любопытства.
Назвать этот закут гостиничным номером можно было лишь условно — так, чулан чуланом, в самом углу под лестницей. Дверь и та с угла подпилена, чтобы проходить под скат крыши. Пол здесь издавна не знал ни метлы, ни веника, а обои были желтыми скорее по старости, чем по исконному своему цвету. Хотя справедливости ради отметим, что на них таки проглядывали остатки узора. Почти все пространство номера занимала кровать со складным стулом, который при желании мог служить как прикроватный столик. Был еще и громоздкий сундук, на котором стоял подсвечник со свечными огарками. Их от своей свечи и зажег Митька.
— А кто, кстати, за простой нумера платить будет? — спохватился запоздало швейцар.
— Если вам невмоготу, можете предоставить счет мне. Я передам его на рассмотрение обер-полицмейстеру.
— Обер-полицмейстеру! — ахнул швейцар и тут же опасливо смолк, смекнув по общей серьезности, что лучше не связываться.
Одну свечу Порфирий Петрович подал Салытову, другую взял сам. Вместе они внимательно оглядели комнату. Порфирий Петрович не погнушался заглянуть и под кровать, где, разумеется, обнаружил целые сугробы пыли. Местами она даже свалялась в довольно плотные комки. Сняв перчатку, Порфирий Петрович попробовал субстанцию на ощупь. Как выяснилось, это была даже и не пыль.
Он кряхтя поднялся, держа между пальцев щепоть каких-то волокон.
— Что это? — поинтересовался Салытов.
— Точно не знаю, — Порфирий Петрович даже нюхнул щепоть, — но, сдается мне, что-то вроде конского волоса.
— Конского волоса?
— Вроде того.
Салытов сам опустился на колени и взялся оглядывать пол под кроватью.
Порфирий Петрович обернулся к Митьке.
— Митя, ты не припомнишь, не было ли чего-то странного, или не совсем обычного, во время или после пребывания Говорова в этом номере? Чего-нибудь, что привлекло бы твое внимание? Ну, скажем, какой-нибудь шум, крики? — Митька качнул головой. — Не просил ли чего-нибудь Говоров? Или, может, тебя за чем-нибудь посылал? Кстати, не ел ли он здесь? Может, ты ему в номер еду какую-нибудь приносил?
— Точно, приносил. И ел он здесь. — Что именно, не помнишь?
— Ну, это… Телятину заказывал. Потом еще винегрет. И чай.
— И все? Может, чего-нибудь выпить?
— Не, водки не заказывал, — подумав, отвечал Митька. — Я сам спрашивал, не принести ли. Нет, говорит, не надо.
— Как интересно, — заметил Порфирий Петрович успевшему выпрямиться Салытову.
— Да уж, — задумчиво кивнул тот. — Насколько я понял, малопьющим Говорова назвать нельзя. А уж тем более трезвенником.
— Может, у него своя водка была припасена? — предположил Порфирий Петрович. — Давай-ка прикинем. От водки он отказывается, но телятину тем не менее берет. Это в самый-то разгар рождественского поста?
Мальчуган утвердительно кивнул.
— Н-да, неважнецкий из него православный-то, — заметил Порфирий Петрович.
— Да где их нынче сыскать, тех православных? — горько усмехнулся Салытов. — И уж тем более где это видано, чтоб убийца постился, как праведный.
— Убийца он или нет, этого мы пока не знаем, — улыбнулся следователь с лукавинкой.
— У нас только такую еду подают, — пояснил Митька. — Не желаете телятины, пожалте куда-нибудь в трактир. Тут рядом.
— Да! И никто, между прочим, не жаловался, — подал обиженный голос швейцар.
— А больше ничего такого не было? — продолжал выспрашивать Порфирий Петрович.
— Нет, только телятина с винегретом, — сказал Митька.
— Я сейчас не о том. А в смысле не было ли еще чего необычного.
— Да так, ничего особого, — сосредоточенно нахмурясь, припоминал Митька. — Разве что он еще иголку с ниткой спрашивал. И ножницы.
— Да? — оживился Порфирий Петрович. — Интересно. Это до того, как пришел к нему Горянщиков, или после?
Митька, судя по всему, не понял.
— Ну этот, карлик? — подсказал следователь.
— А, карлик-то? Он как раз у него в это время был. Ему вроде как пинжак подлатать понадобилось.
— Вот как?
— Это он так сказал. В смысле тот Говоров. Мол, товарищу моему костюм подлатать надобно.
— Так это Говоров сам попросил? А самого Горянщ… карлика ты в тот момент видел?
— Нет. Он как раз в нумере был. А барин тот вышел и в коридоре со мной разговаривал. А дверь за собой прикрыл.
— Очень любопытно. Да и деталь достаточно важная. Ты, Илья Петрович, помнишь — у Горянщикова разве на костюме была заплата? — Салытов категорично мотнул головой. — Вот и я что-то не припомню. — Секунду-другую следователь стоял с задумчивым видом. — А ну-ка взглянем на саму кровать, — сказал вдруг он, стаскивая грубое одеяло и несвежие простыни на пол.
— Позво-ольте! — опять подал было голос швейцар.
Не обращая на это внимания, Порфирий Петрович провел пальцем по кромке матраса. — Ага. Здесь что-то зашито, — заметил он. — Довольно небрежно. Судя по всему, второпях.
Ногтем он без труда вытягивал длинные стежки. Салытов, Митька и швейцар — все со свечами — тесно обступили кровать, неотрывно следя за действиями следователя.
— Вы уж мне, будьте любезны, постель не подпалите, — сухо предостерег Порфирий Петрович. — А то, не ровен час, уничтожите улику.
Выдернув наконец всю нитку, он поднял вспоротый угол матраса. Все дружно ахнули.
Внутри, поверх набивки из конского волоса, лежала аккуратно уложенная шуба, по размеру почти детская. Рукава скрещены, как у покойника в гробу.
Порфирий Петрович вынул из портсигара папиросу. Те, что оставались, молча отдал Митьке.
Глава 19 ГОВОРОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Князя Быкова Порфирий Петрович заметил раньше, чем сам оказался замечен юным аристократом. Молодой человек сидел у дверей в кабинет следователя и со смиренным видом терпеливо дожидался. Одной рукой он машинально поглаживал свою шапку, как какого-нибудь ручного зверка. Порфирию Петровичу сделалось неловко; так бывает при напоминании о взятом на себя, но не до конца выполненном обязательстве.
Порфирий Петрович думал было свернуть незамеченным в боковой коридор, но был перехвачен окликом наглеца Заметова:
— Порфирий Петро-ович!
Князь тут же вскинул голову. Пришлось, растянув губы в улыбке, шагать навстречу вскочившему со стула Быкову, который одной рукой держал на отлете шапку, а другую отвел словно для объятия.
— Что ж, милейший, — с бравым видом воскликнул Порфирий Петрович, — как кстати, что вы заглянули к нам именно сейчас! У меня к вам как раз накопились интересные вопросы. — Князь тряхнул головой так, что рассыпались заботливо уложенные локоны. Видно было, что слова следователя его разом и обнадеживают и озадачивают. — Прошу. — Порфирий Петрович распахнул перед ним двери в кабинет. — У нас тут появилась одна важная зацепка.
— Вы нашли Ратазяева? — спросил князь с трогательным простодушием.
Сказать по правде, такая наивная прямота досаждала.
— Пока не нашли, — отвечал Порфирий Петрович, жестом приглашая садиться. Сам он при этом, отведя глаза от наверняка разочарованного лица князя, выдвинул из-за стола стул и грузно на него опустился. — Но зато мы вышли на Константина Кирилловича Говорова, того самого. Помните, я вас о нем спрашивал?
Князь в ответ нахмурился.
— Он рассказал вам, что случилось с Ратазяевым?
— Гм. Да нет, с ним самим мы пока беседы не составляли. Но зато нам теперь известно его местопребывание. И совсем скоро мы рассчитываем вызвать его на разговор. Дворник у него в доме оказался на редкость услужливым, и сразу же даст знать, как только Говоров объявится у себя.
— А если не объявится?
— Будем надеяться, что все же объявится, — выжав улыбку, Порфирий Петрович пустил дым от прикуренной папиросы.
— Вы, кажется, хотели меня о чем-то спросить, — напомнил князь без особого энтузиазма.
— Да, хотел. — Порфирий Петрович прикрыл глаза. — Тот студент, Виргинский, упомянул в разговоре и Говорова и Ратазяева как актеров. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, в какой связи слышали про Говорова лично вы. Вы, кажется, как-то сказали, что тоже о нем наслышаны. Быть может, в связи с актерским амплуа Ратазяева?
— Я, право, точно и не знаю. Может быть.
— Извините, но это не ответ. — Порфирия Петровича охватила вдруг усталость. — Вы, к примеру, не укажете, в какой именно постановке Ратазяев был задействован в последний раз?
Резковатый тон князя не уязвил, а скорее взбодрил, придав сосредоточенности.
— Последние годы ролями его, прямо скажем, не баловали, — помолчав, сказал он взвешенно. — Все друзья — то есть бывшие друзья — от него отвернулись.
— Отчего же?
— Прошла молва, что ему, как бы это… нельзя доверять. Но это несправедливо. Нельзя же так, из-за одной лишь нелепой выходки…
— Какой именно?
— Да вы небось и сами знаете. Разве нет? — Порфирий Петрович степенно покачал головой. — Однажды вышло так, что он… хватил лишнего. Точнее, напился, да здорово. Прямо перед спектаклем. И вышел на сцену пьян. Ну и… Нет, мне просто не верится, что вы не слышали о той выходке знаменитого Ратазяева! — Растопырив холеные пальцы, князь Быков закрыл себе лицо. — Вот за нее-то он и пострадал.
— Что же он такого натворил?
— Ох, право. Неужто я должен об этом излагать?
— Это может оказаться важным. Даже очень.
— В общем, он прямо перед залом измочился в оркестровую яму.
— Ах вот как.
— Да. А затем и вовсе упал со сцены. Скандал был неимоверный. Придя в себя, он скрылся. И после того с год о нем даже слуха не было.
— Так получается, исчезать для него — не впервой?
— Получается, так. Но это было давно. Еще до нашего с ним знакомства. Я, разумеется, слышал ту историю с чужих слов. Ну да кто ж про нее не слышал?
— Скажем, я, до этого момента. А скажите, на каком спектакле вышел тот, гм, конфуз?
— Это когда повторно ставили «Ревизора», в оригинальном составе Мариинского.
— Стало быть, в пятьдесят шестом году? — рассеянно переспросил Порфирий Петрович.
— А вы что, помните?
— Да, давненько оно было, — сказал следователь уклончиво. — Лет десять тому. Как же он, интересно, концы с концами-то сводил, без своего актерства?
— Ну как. Все же оставались у него и кое-какие доброжелатели. И друзья у него есть, истинные. До сих пор.
— Говоров, например?
Лицо князя страдальчески исказилось.
— Что ж, — вздохнул он. — Видно, придется рассказать об этом негодяе все, что мне известно. Прежде всего оговорюсь, что лично я с ним не знаком, и знакомиться никоим образом не намерен. Более того, он мне омерзителен. Да, с Ратазяевым он действительно водил знакомство, причем весьма близкое. И уж лучше бы Ратазяев держался от той близости подальше! Держаться возле гадюки — верный способ быть ею укушенным.
— Вы считаете, что меж собой они близки со времен ратазяевского актерства?
— Это он, Говоров, во всем виноват! Это он спаивал Ратазяева! Да еще и вовлекал в свои грязные делишки!
— Понятно. А если посмотреть на недавние их отношения? Князь сокрушенно покачал головой.
— Через этого Говорова он начал заниматься… всей этой пакостью.
Выдвинув ящик стола, Порфирий Петрович вынул изъятую Салытовым у кабатчика колоду и, выбрав из нее несколько снимков с мужским участием, протянул их Быкову.
— Вы, случайно, не про это?
Князь дрожащими руками принял фотографии. Лицо у него побледнело от негодования.
— Да. Это как раз Ратазяев. На всех этих карточках. Иногда он еще подрабатывал распространителем, на какое-то там издательство. Опять же через Говорова.
— На «Афину»? — собирая фотоснимки, неожиданно для себя спросил Порфирий Петрович.
— Нет, — отверг Быков. — Хотя про нее я тоже слышал. Какое-то другое название, не вполне пристойное.
— Видимо, «Приап», — прозвучал не вопрос, а скорее утверждение.
В ответ князь лишь молча кивнул.
* * *
Толкаченко Леонид Семенович тихо страдал (от явного переедания квашеной капусты).
Он сидел сейчас в качалке за чтением «Северной пчелы». Не мешало б, кстати, зажечь свечу — за окошком, даром что еще не вечер, а всего три часа пополудни, было уже сумрачно. А там, глядишь, уже и к делам пора приступать. Грехи наши тяжкие.
Жил он один-одинешенек, в квартирке по Спасскому переулку, 3, где и служил дворником. С женитьбой как-то не заладилось. Хотя и была одна особа — давно, по молодости лет, — с которой он чуть было не объяснился. Дочка того самого Девушкина, конторщика из Департамента внутренних дел, где он и сам тогда подвизался курьером. Толкаченко как раз и проживал у того семейства, снимая комнатенку размером со шкаф в их и без того небольшой квартире. Дочке их, Марье Макаровне, едва минуло тогда шестнадцать. Совершеннолетие, стало быть. Уж он ей и подарочки, и то-сё, несмотря на грошовое свое жалованье, и про книжку, ею читанную, разговор когда поддержит (а по большей части вид сделает, что читал). Однако родители ее (сами кое-как от получки до получки, а папаша так еще и пьяница) были не без гордыни. Всё хвастали — да громко так, специально чтоб он слышал, — что зреет, мол, их дочери партия от ах какого жениха. И хотя партии той все не складывалось, на сердце становилось все тоскливей, и в конце концов бросил Леонид Семенович и конфеты и платочки своей было избраннице подносить. А углубился окончательно и бессловесно в чтение газет — той же «Северной пчелы», к слову сказать. Марья же Макаровна смазливость свою шестнадцатилетнюю постепенно утратила — да сдается, не только ее, а и много чего еще. Потом папашу ее со службы уволили, а матушка у них померла — говорят, от разочарованности. Тогда и сама Марья Макаровна стала на него, все еще курьера, томно так очами поглядывать. И уже не он к ней, а она к нему с подарочками зарядила — в основном всё книжки, которые он читать потом так и не читал. И вздыхала, и на Фонтанку намекала прогуляться белыми ночами. Только он — может, к стыду своему, а может, так оно и к лучшему — страсть свою былую в себе приструнил, а снова распалять ее не решался. Поделом, мол, тебе, зазнобушка моя бывшая. Или уж просто боялся, как бы чего из-за той страсти не вышло, или, наоборот, стыдился втихомолку, что на страсть оную больше не способен. Словом, были грезы, да вышли все. И на свидание, совсем уж было назначенное, он тогда не пришел. А так, прогулялся сам по себе вдоль Фонтанки да воротился домой, белой ночью так и не насладившись. А возлюбленную свою бывшую, заплаканную, назавтра ни о чем не спросил — прошел мимо как чужой.
Вот уж тридцать лет как с той поры минуло. И сидел теперь Толкаченко Леонид Семенович один-одинешенек в темноте, за чтением всегдашним своим, при свечечке. Только после визита того полицейского как-то потускнело в нем удовольствие от «Северной пчелы». Особенно от колонки с новостями. Прежде, бывало, с каким упоением читаюсь о разных там женах, забитых мужьями до смертушки, или там о пьяницах, под лошадь угодивших, или об отцах с сыновьями, что в драке друг дружку порешили. Раньше оно воспринималось как будто в паноптикуме за стеклом. Теперь же все эти страсти-ужасы словно вдруг ожили и изливались с газетных страниц прямо в мир, где обитал он сам. И существовали прямо вот так, в действительности, перед самыми глазами. Читаешь газету — и уже не упоение тебе, а, напротив, смятение сплошное. Что ни передовица, то мутный ужас: вот оно, опять что-то поблизости творится. Хоть вовсе бросай чтение.
Как там жандарм тот сказал: расследование убийства? Кажется, да. Да еще, мол, опасное.
Получается, как раз над ним, наверху, тот самый убийца и обитает? Говоров, стало быть?
Брезгливо сглотнув гнусную изжогу, Толкаченко между тем продолжал читать.
В том, что Протопопов виновен, сомнения не было изначально. Он уже несколько раз, в присутствии свидетелей, угрожал расправиться со своей жертвой. Он не скрываясь направлялся в ее апартаменты. И вот прозвучал роковой выстрел из револьвера. Когда на место прибыла полиция, он преспокойно сидел возле бездыханного тела своей хозяйки с орудием убийства в руках. В своем преступлении он, однако, немедленно сознался. И вот теперь — «спасибо» изворотливости его адвоката и безмозглости вновь назначенных присяжных, не говоря уже о бездарности полицейских чинов, — этот отъявленный циник, хладнокровный убийца, выпущен на свободу. Жертва же за время процесса из потерпевшей сама превратилась едва ли не в преступницу. Из-за гнуснейшей клеветы и инсинуаций (разумеется, в материалы дела это не вошло) само ее существование публично оболгано. Нам же лишь предоставляют сделать вывод, что она, дескать, «сама удостоила себя такой участи». Естественно, самой ей в свою защиту сказать теперь нечего (тем не менее позвольте спросить: «А и надо ли ей было в чем-то оправдываться?»). Она мертва. А ее убийца — Протопопов. Тот самый, что сегодня самым возмутительным образом оправдан. Более того, оправдательный приговор был встречен в зале суда чуть ли не овацией. Подобное, возможно, и уместно где-нибудь во Франции, где нравственные устои давно под вопросом. У нас же сам факт того, что невинный выставляется вдруг виновным, а убийца нагло разгуливает на свободе, подвергает невольной угрозе существование каждого из нас.
Гулко хлопнула подъездная дверь. Толкаченко, рывком сев, цепко вслушался. По скрипучим ступеням застучали шаги, сам звук которых вызывал неприятную дрожь. Приход и уход жильцов дворник за годы отмечал совершенно автоматически, помня на слух поступь каждого. Только сейчас угадать, кто именно идет, было непросто — шаги звучали как-то сдвоенно. Сузив глаза, Толкаченко вслушался: да, действительно, идут двое. Может, один из них и есть Говоров? Трудно сказать. Представилось почему-то, что по лестнице Говоровых поднимается сразу двое.
Руки занемели держать газету на весу. Шаги постепенно отдалялись. Но и при этом Толкаченко боялся даже дышать. А вдруг это уловка? Даже сердце стало биться в унисон тем шагам, будто специально встраиваясь в их ритм. Вот сейчас эти двое Говоровых, перемигнувшись меж собой, разворачиваются и тихонько, на цыпочках, крадутся к двери его квартиры.
Выше этажом открылась и закрылась дверь. Уф-ф, пронесло…
Некоторое время Толкаченко сидел не шевелясь. Наконец, аккуратно сложив газету, бесшумно поместил ее на пол. Стук сердца гулом отдавался в голове. Колени при подъеме с качалки предательски хрустнули. Да тут еще и капуста в животе заурчала, пес бы ее побрал. Надо ж было так брюхо набить — а вдруг да наверху услышат!
Передвигался Толкаченко медленно, напрягшись всем телом и чутко вслушиваясь после каждого шага. Наконец, приблизившись к двери, и вовсе замер, после чего до онемения вцепился в дверную ручку. Ну что, была не была!
Дверь открылась без скрипа. Дворник даже в темноте знал, куда ставить ноги, чтобы ступеньки не скрипели почти вовсе. Он осмотрительно двинулся наверх — туда, где все слышнее становился рокот голосов.
Под дверью Говорова виднелась полоска света. Да, точно, за дверью переговаривались — не совсем внятно, но говоровский бас различался безошибочно. И был там еще кто-то (сообщник, что ли?), с голосом повыше. Не бас, а скорее тенор.
Судя по интонации, они о чем-то дискутировали, но вроде как непринужденно; во всяком случае, перепалкой здесь не пахло.
Толкаченко, вынув из кармана увесистую связку ключей, ощупью нашел и снял с нее тот, что от двери Говорова. Видимо, от звяканья ключей голоса на секунду притихли. Надо скорее! Дворник отработанным движением сунул ключ в замочную скважину и повернул, после чего специально оставил его там вполоборота. Вот так! Теперь никуда не денетесь, голубчики. С той стороны к двери кто-то подошел и сердито ее дернул.
— Это еще что? — рокотнул из-за двери голос Говорова (судя по всему, не вполне трезвый).
— Душегуб! — выкрикнул в ответ дворник Толкаченко, шалея от собственной лихости.
— Это ты, что ли, старый дуралей? Совсем уже спятил! Какой еще душегуб! Ты меня что, запер, что ли? — Слышно было, как Говоров с той стороны пробует вставить в скважину свой ключ — разумеется, безуспешно. — Эй! Это возмутительно!
— А душегубствовать, по-твоему, не возмутительно?
— Он опять за свое! Что ты несешь, старый ты осел! Это еще как сказать, который тут из нас душегуб! Нет, ты слышал? — обратился он, судя по всему, к своему спутнику.
— А ты не слышал, что полиция тут была? — обличающе вскричал Толкаченко. — Вот то-то и оно! Полиция была, тебя искала! Так что сейчас позовем вначале жандармов, уж они-то разберутся!
— Да зови, зови! Хоть зазовись, мне-то что! По мне, хоть жандармов, хоть… ч-черт… — Голос Говорову внезапно перехватило. Он как будто поперхнулся, после чего за дверью раздался ужасный шум, как будто что-то тяжелое грохнулось и разбилось. За дверью словно шла нешуточная борьба, завершившаяся вскоре сдавленным, резко оборвавшимся воплем. Кто-то будто силился дышать — трудно, сипло, со всхлипом, — и не мог. Звук по надсадности своей был поистине нечеловеческий. От такого хотелось, заткнув уши, бежать сломя голову — лишь бы его не слышать, не терзать слух. Однако ноги словно приросли к полу.
Затем все стихло. Тишина — да не простая, а какая-то звенящая.
Наконец Толкаченко, кое-как придя в себя, робко постучал. Из-за двери никто не ответил.
— 3-э… Константин Кириллович, — срывающимся голосом пролепетал дворник, — что там с вами? Эй, вы где? Вы как?
Где-то сзади, этажом выше, на лестнице послышались осторожные шаги. И почти одновременно приоткрылась дверь напротив, выпустив лучик желтоватого света. Яков Никитич, мелкая сошка из конторских, — хоть молодой, а уже как будто на ладан дышит. Весь бледный, перепуганный. Вместе с тем шаги на лестнице прекратились. Если там кто-то и был, то почти наверняка остановился и замер, прислушиваясь.
— Леонид Семенович? — опасливо подал голос чиновник.
— Яков Никитич, а Яков Никитич! Умоляю! Бегите немедля в околоток, что на Столярном, оповестите поручика Салытова! Скажите, Толкаченко послал! Мол, Толкаченко Леонид Семеныч Говорова схватил!
— Константин Кирилловича, что ли? Но зачем, с чего ради?
— Яков Никитич, времени нет совершенно на разъяснения! Заклинаю вас, бегите! Сейчас же!
— Но, Леонид Семенович. Вы же видите, я недомогаю. Даже вон в министерию сегодня не пошел. Вы же видите… — Он вышел на площадку, чтобы его действительно было видно. — Я вон даже все еще в халате.
— Да бросайте ж вы ваш халат, не до него сейчас! Время упускаем! Какой халат, в три часа пополудни!
— Я же ясно выразился, что мне неможется. Все та же история: нервы-с. Душа прямо ни к чему не лежит.
— Край как надо, Яков Никитич! Соберитесь, Христом-богом молю, мчитесь стрелой в полицию! Иначе… Иначе же он всех нас, душегуб, поистребит!
Сверху в темноте послышался довольно странный звук, будто кто-то с шипением всасывал воздух. Якова Никитича с площадки как ветром сдуло, хотя дверь он еще не закрыл.
— Кто здесь? — спросил ошарашенно Толкаченко. Ответа не последовало. — Ну же, Яков Никитич! — продолжил взывать Толкаченко. — Торопитесь, бегите в участок! Может, хоть там спасетесь, да и нас тем самым убережете!
Похоже, этот аргумент возымел-таки действие. По крайней мере, Яков Никитич, прежде чем закрыть дверь, поспешно кивнул.
Стоило двери за ним захлопнуться, как лестничную площадку поглотила тьма. По лестнице снова послышались шаги. Дворник Толкаченко, инстинктивно отпрянув, распластался по стене — как раз в тот момент, когда на площадку сошел смутный силуэт.
— Честь имею, — бросил он ироничным голосом, отчего-то показавшимся дворнику смутно знакомым.
Леонид Семенович ожидал худшего, но силуэт, миновав его, как ни в чем не бывало продолжил спускаться по ступеням.
— Ык, — только и сказал (точнее, рыгнул) Толкаченко вслед. Изжога проклятая.
* * *
Яков Никитич застал дворника все там же, у говоровской двери. Мрак вокруг обретал осязаемую плотность.
— Леонид Семенович! — позвал конторщик снизу. — Это я, Яков Никитич! Тут со мною жандарм, и еще один господин.
— А что, свет разве нельзя зажечь? — послышался чей-то незнакомый голос. Чиркнула спичка, и в подъезде зажегся газовый фонарь. По лестнице поднимались тот самый поручик и «еще один господин». Их присутствие почему-то не придало Толкаченко того спасительного облегчения, на которое он рассчитывал. Яков Никитич остался внизу, возле входной двери.
— Ну так что, он там, внутри? — осведомился негромко Салытов.
— Так точно, — тоже тихо, с подобострастием ответствовал Толкаченко. — Я здесь безотлучно. Он не выходил. И тот, который с ним, тоже.
— Так их там двое? — прошептал второй господин, часто моргая белесыми ресницами.
— Так точно, двое. Я слышал, как они поднимались по лестнице. И за дверью тоже два голоса было.
— Открыть дверь, — велел Салытов.
Толкаченко перевел неуверенный взгляд на второго господина.
— Минутку, Илья Петрович. А ты не думал, что они могут быть вооружены?
Поручик, усмехнувшись, вынул из-под полы шинели револьвер. Длинный ствол ткнулся в воздух, словно глянцевитый щуп.
— Ничего, Порфирий Петрович. Я, как видишь, предусмотрел.
— Ой, — испуганно выдохнул Толкаченко.
— Надо, думаю, дать им возможность сдаться, — рассудил Порфирий Петрович. — Хотелось бы, чтоб дело обошлось без стрельбы, или вообще какого-то кровопролития.
Салытов несколько раз грохнул ручкой револьвера по двери.
— Эй, вы там! Это полиция! У нас тут ордер на ваш арест — ущучили?
Из-за двери никто не отозвался.
— Я тут давеча кое-что слышал, — жарко зашептал Толкаченко. — До того как. Не то борьба, не то еще что-то. Что-то вроде как упало, разбилось. — Толкаченко смолк, болезненно зажмурившись, словно борясь с разыгравшимся воображением. — А потом все. Стихло.
Второй господин заморгал заметно чаще.
— Драка? — поинтересовался он.
— Ну что, возможность мы им дали, — подытожил меж тем Салытов, не дожидаясь ответа дворника.
Кивнул и Порфирий Петрович.
— Только надо б вначале свет погасить.
Салытов дал знак стоящему внизу Якову Никитичу — провел себе ладонью по шее и кивнул на фонарь. От такого брутального жеста чиновник сначала оторопело вытаращил глаза, и лишь затем, сообразив, укрутил фонарю фитиль.
— Отопри дверь, затем сразу отходи вбок, — приказал в темноте Салытов.
Толкаченко взялся нашаривать ключ в скважине. Все нетерпеливо пережидали этот момент, который, казалось, длился вечность. Наконец Толкаченко отскочил-таки в сторону, в самый дальний угол площадки. Салытов и Порфирий Петрович встали по обе стороны двери. Поручик, повернув ручку, рывком распахнул дверь. Наружу хлынул свет.
Держа револьвер наготове, Салытов осторожно заглянул в помещение; Порфирий Петрович следом. В комнате было холодно, и стоял водочный дух. Если исключить горяший фонарь, атмосферу можно было охарактеризовать как фактически безжизненную.
Лежащий лицом в пол, поверх сломанной гитары мужчина вставать в любом случае не собирался. Судя по позе, этот здоровяк несколько раз пытался-таки подняться с пола, но в конце концов сила притяжения взяла над ним верх, и, похоже, навсегда. Битву за жизнь он проиграл.
Порфирий Петрович, приблизившись, опустился на одно колено и повернул мертвому голову. Сощуренные в темные щели глаза и застывшая на лице гримаса смотрелись гротескной маской. Салытов крадучись обошел всю квартиру, бдительно держа перед собой револьвер.
Через некоторое время он возвратился, уже с более расслабленным видом.
— Нет никого.
— Точно?
— Уж куда точнее. Все оглядел. Тут еще одна комнатенка есть, смежная, вроде кухни.
— А окна?
— Все проверил. Заперты изнутри. Так это и есть Говоров? — спросил поручик, указывая на лежащее тело стволом.
Порфирий Петрович поднял с пола и нюхнул лежащий возле тела порожний штоф.
— Надо будет спросить у нашего друга с лестницы. Если это и вправду Говоров Константин Кириллович, то, похоже, вижу я его не впервые. — Салытов удивленно поднял брови. — Я с ним как-то раз сталкивался, случайно. В лавке у процентщика, как его, Лямхи. Он тогда гитару закладывал. — Следователь поднял обломок гитарного грифа, все еще связанного струнами с декой. — И гляди-ка. Похоже, он тогда нашел все же деньги выкупить сей драгоценный инструмент.
* * *
— Да, Говоров это, — подтвердил Толкаченко с видом почему-то возмущенным, как будто лежащий на полу человек его чем-то обидел.
Порфирий Петрович рассеянно кивнул.
— Но как вы сказали, их здесь было двое? Вы, кажется, заметили, что слышали два голоса?
— Точно так, два.
— Один голос, я понимаю, его? — Следователь ткнул незажженной папиросой на Говорова.
Дворник кивнул.
— А другой? Вы его как-то опознали?
— Тут странно все, — признался, помолчав, Толкаченко. — Поначалу я его не признал. А потом так и признал.
— Это как понимать? — грозно спросил Салытов.
— В смысле, видно, это он и был. Тот второй, когда по лестнице спускался. Он еще мне что-то сказал.
— Что же именно? — спросил Порфирий Петрович, разглядывая папиросу, будто видел ее впервые.
— Честь, говорит, имею. Да-да, так он и сказал: «Честь имею». — Судя по интонации, этот эпизод происшествия уязвлял Толкаченко больше всего.
— Вот как.
— И вот что мне странным показалось… Что голос был как бы тот самый, что и у второго. У сообщника, стало быть.
— Что значит «тот самый»? — нетерпеливо перебил Салытов, багровея лицом.
— Ну, что это он сам и был.
Казалось, еще секунда, и поручик отвесит дворнику оплеуху.
— То есть вы полагаете, — поспешил вмешаться Порфирий Петрович, — что голос прохожего на лестнице принадлежал тому самому человеку, которого вы слышали в квартире у Говорова?
— Так и есть, — сбивчиво ответил Толкаченко.
— Но это невозможно! — всплеснул руками Салытов.
— Так точно! — готовно кивнул дворник с растерянной улыбкой.
— Что ж, Илья Петрович, — сказал следователь, прикуривая. — Получается, перед нами очередная загадка. — С этими словами он выпустил клуб дыма. — Вопрос в том, — он глубоко затянулся, — что это за человек находился в квартире у Говорова? — Еще затяжка. — И что еще более озадачивает, как он мог одновременно находиться взаперти и вместе с тем преспокойно спускаться по лестнице?
Порфирий Петрович, с каким-то недоумением взглянув на недокуренную папиросу, передал ее дворнику, а сам все с тем же растерянным видом закурил другую.
— Н-да, вот уж действительно загадка, — снова затягиваясь, произнес он. — Хотя, думаю, совладаем постепенно и с ней. Ты как считаешь, Илья Петрович? — Салытов не ответил, сосредоточенно о чем-то размышляя. — Логика. Нужно применить логику. Холодную, бесстрастную. Не идти на поводу у своего темперамента. Не давать волю эмоциям. Раздражением своим задачу не решишь.
— Но это и вправду невозможно! — пробурчал Салытов.
— Почему. По большому счету возможно бывает все, — спокойно возразил Порфирий Петрович. — Возьмем это за первый неопровержимый довод. Это произошло, а следовательно, это возможно. Имеющий место факт уже сам по себе предопределяет достоверность происходящего. — Салытов нетерпеливо тряхнул головой. — Ты вдумайся, Илья Петрович.
— А ты уже сам до чего-то додумался?
— Ко мне само пришло логическое умозаключение.
— Это какое же? Как оно могло прийти… из этого!
— Быть может, у меня в сравнении тобой есть некоторая фора. Ведь я уже раз встречал этого господина.
— Ты говорил. У процентщика. Ну и что с того?
— Он меня действительно впечатлил цитированием из гоголевского «Ревизора». Он же когда-то был актером, этот Говоров. Очень так, знаешь, натурально. Прямо-таки полностью отождествлялся со своим персонажем.
Вид у Салытова был откровенно растерянным.
— Ну и что?
Порфирий Петрович искал, куда бы девать окурок.
— Не все сразу, Илья Петрович. Не все сразу.
Глава 20 СВИДЕТЕЛЬ С ТОГО СВЕТА
Порфирий Петрович смотрел из окон прокурорского кабинета на улицу Гороховую. Курить хотелось — сил нет. Поэтому, чтобы как-то отвлечься, он озирал сейчас цепочку фонарей в тумане пасмурного утра. Сзади слышался шелест бумажных листов и прокурорские вздохи.
Прокурор Липутин как раз закончил ознакомление со следовательским отчетом и закрывал сейчас папку с делом. Оно, наряду с прочим, включало также показания Толкаченко и Якова Никитича, а плюс к тому официальный запрос самого следователя на медицинскую экспертизу тела, идентифицированного как Константин Кириллович Говоров.
Лицо у Липутина было откровенно кислым.
— Ну так что, Порфирий Петрович, вы в самом деле полагаете, что все это составляет достаточные основания для процедуры вскрытия?
— Именно так, ваше превосходительство. Иначе я бы не стал вас беспокоить по этому вопросу.
Липутин поморщил нос.
— Скончался человек скоропостижно, в запертом помещении. У себя в отчете вы сами же утверждаете, что нет никакого свидетельства насилия. Ни крови, ни ранений, ни даже синяков. Кожные покровы не повреждены.
— Я констатировал, что не было внешних следов насилия. Между тем дворник заявил, что слышал шум борьбы.
— Нет, нет и нет! Мы не вправе брать за основу дела чьи-то там показания о якобы шуме, да еще через закрытую дверь. Не говоря уже о том, что это вообще логически не вполне объяснимо.
— Почему же. Объяснимо, — заметил Порфирий Петрович. — Если предположить, что Говоров боролся не с человеком, а, скажем, с воздействием химикалий. — Липутин недостаток уверенности скрыл за раздражением, а потому нетерпеливо покачал головой. — Я подозреваю отравление, ваше превосходительство. Как и в случае с…
— Вы ведь не будете мне опять напоминать об отравлении того дворника, — сердито воскликнул прокурор. — То дело, насколько нам обоим известно, закрыто.
— Если даже о нем не упоминать, то существует еще и связь покойного с пропавшим актером, Ратазяевым. Вскрытие могло бы определить…
— Да что вы мне все о вскрытии! Вот в самом деле, заладили. Он что, ваш Говоров, не мог от естественных причин скончаться?
— Мог, вполне. Только странное получается совпадение, учитывая обстоятельства.
— Какие еще обстоятельства?
Судя по мелькнувшей в глазах растерянности, прокурор уже пожалел, что задал этот вопрос.
— Как вы изволили прочесть в отчете, дворник слышал, как в здание заходят двое.
— Ну, говорить можно всякое. Он мог попросту ошибиться. Что же до его россказней о двух голосах в квартире, то это опровергаются элементарной логикой.
— Согласен. Учитывая то, что окна были заперты изнутри, а Толкаченко находился у дверей безотлучно, присутствие в говоровской квартире второго человека логически не объяснимо.
— Ну вот видите? Согласны же? — Липутина согласие подчиненного скорее удивило, чем обрадовало. Он поспешил закрепить это неожиданное преимущество. — Ведь согласны? — переспросил он еще раз.
— Согласен.
Липутин, сосредоточенно кашлянув, насупил мохнатые брови.
— Но, однако, как вы в таком случае объясните…
— Наличие в квартире двух голосов? Липутин так же хмуро кивнул.
— Говоров был актером, опытным лицедеем. Не исключено, что он попросту разговаривал сам с собой. Да еще и был пьян. А если под воздействием яда, так при этом, возможно, еще и бредил. Мы и сами-то иной раз воссоздаем или репетируем у себя в голове какие-нибудь словесные дебаты. Вот и он, может, попросту озвучивал нечто подобное.
— Точно! Вы буквально вслух изложили мои собственные мысли. За исключением яда. Версию отравления я бы рассматривать не стал. Просто пьяный лицедей, можно сказать, в предсмертном бреду…
— Да, только вы не учитываете присутствие на лестнице того загадочного субъекта, о котором упоминают оба свидетеля. Толкаченко к тому же сказал, что голос показался ему знакомым. На допросе он заявил, что голос был тот же самый, что у человека в квартире — того, что находился там вместе с Говоровым. Или же, если представить, Говоров сам имитировал его голос.
— Что же это доказывает? — осведомился прокурор сердито.
— А ничего. Быть может, предполагает, что Говоров за непринужденной беседой с этим самым человеком взялся вдруг озвучивать сцену с участием их двоих. Так просто, потехи ради изображая собеседника вместо него самого. По всей видимости, оба уже успели расстаться в дверях квартиры. Только тот загадочный субъект вслед за тем из дома почему-то не вышел. А поднялся этажом выше и стал выжидать. Чего? Может, того, когда Говоров грохнется?
— Что-то у вас и не то, и не это, и не разэто…
— Что ж, ладно. Буду придерживаться лишь того, что мне достоверно известно. Скажем, тех слов, что Говоров выкрикивал Толкаченко через дверь. Например, «это еще как сказать, который из нас душегуб». Похоже не просто на заявление о собственной невиновности. Звучит скорее как встречное обвинение. Что ему, дескать, известен истинный убийца. Таким образом, он сам провоцирует преступника убрать его как опасного свидетеля. При подобном раскладе подозрение вполне обоснованно падает на человека, поджидающего на лестнице.
— Только вы одно упускаете из виду, Порфирий Петрович. Что истинного убийцы у вас и нет, поскольку и убийства-то по сути никакого не совершено. Где оно? Уж не про карлика ли вы того опять? Мы уже, кажется, давно постановили, что человек, убивший карлика, сам потом наложил на себя руки.
— Но новые свидетельства…
— Вы, наверно, об исчезновении того артиста, как его, Ратазяева? А у вас есть свидетельства, что Ратазяев действительно убит? Или вы обнаружили его труп? Если так, то я, право, удивлен, почему вы до сих пор не поставили меня в известность о столь значимой улике.
Прокурор усмехнулся, довольный своим сарказмом.
— По меньшей мере, сама эта внезапная кончина в общем-то вполне здорового человека во цвете лет…
— Вы мне о Говорове? А откуда вы знаете, что он был здоров?
— Вот и я о том. Закон предусматривает установить истинную причину его смерти. А для этого требуется медицинская экспертиза.
— Какая еще экспертиза! Так и реактивов не напасешься — обследовать всякого там забулдыгу, допившегося до чертиков. Вы вон сами пишете в докладе, что возле его тела был обнаружен пустой штоф.
— А что, если мы напрасно отмахнулись от результатов доктора Первоедова, о причине смерти того дворника? Предположим хотя бы на минуту, что дворник тот Тихон был намеренно отравлен через водку. Тогда у нас что, налицо безнаказанное продолжение того самого преступления? Эдакий сложившийся, преступный modus operandi?[1] Чтобы газеты потом всюду раструбили, что из желания поскорей замять дело полиция-де позволила убийце совершить еще одно, повторное злодеяние? Говорова от смерти мы уберечь не сумели. Но представляете, какой скандал поднимется, если мы повторно допустим аналогичную ошибку?
— Порфирий Петрович, милейший. Лично я ошибаться не могу. Чин не позволяет. Для прокурора, знаете ли, это вообще противоестественно. Закон предопределяет это вполне однозначно. Однако… — Липутин цепко вгляделся в следователя. — Однако вам ошибку допустить иной раз простительно. Скажем, неверно истолковав мои предписания.
— Я уверен, господин прокурор, что именно так оно и было.
— Вот-вот. Поэтому на сей раз я буду изъясняться предельно четко, чтобы исключить недопонимание. Вам вменяется немедленно — слышите, немедленно! — привлечь Первоедова для судебно-медицинской экспертизы того самого Говорова. Выяснить все доскональнейшим образом. Если проба на синильную кислоту окажется положительной, необходимо будет возобновить дело того карлика, как его…
— Горянщикова, Степана Сергеевича.
— Да, его. И того дворника. Все понятно?
— Так точно, ваше превосходительство!
— Ну и если синильную кислоту медики обнаружат и у Говорова, мне ничего не останется, как подвергнуть вас дисциплинарному взысканию. Вы меня поняли, Порфирий Петрович?
— Так точно, ваше превосходительство!
Порфирий Петрович согнулся в поклоне так, что аж в спине хрустнуло.
* * *
Двое санитаров в резиновых фартуках подняли с тележки завернутый в зеленую ткань труп. Принимая, судя по всему, недюжинную ношу, они явно напряглись, но не издали при этом ни звука — в конце концов, вопрос профессиональной чести. Ноша была как дубовая — не согнулась, не обвисла. Даже видавшие виды санитары, похоже, несколько удивились. Кто знает, может, и в их профессии еще оставалось место для удивления. Или наоборот. Кто знает.
Ношу они дружно сронили на смотровой стол. Его исчирканная инструментами, в пятнах поверхность имела сходство с разделочной доской в мясницкой, с покатыми краями и стоком над эмалированным корытом. Сбоку стоял еще один стол, поменьше, с набором всевозможных весов.
— Как восхитительно, какой поистине новаторский подход! — возбужденно делился доктор Первоедов, разворачивая ткань на землистом трупе. — Экспертизы теперь проводятся непосредственно в больницах. Никуда не нужно мотаться, все проводится по месту, со всеми удобствами для специалиста, все принадлежности под рукой. Ну разве не прогресс? Он самый! Наш славный самодержец, видно, знал, что делал, со всей этой реформой. Новаторство поистине революционное! — Похоже, это слово было приятно ему настолько, что он употребил его несколько раз кряду — Вот-вот, новаторство! И где! Здесь, у нас, в Обуховской больнице!
Согласно официальному протоколу, при вскрытии опять присутствовали все те же отставные советники Волоконский с Епанчиным. Краснобайство доктора не вызывало у них ничего, кроме брезгливости.
— Меня, честно сказать, впечатлило, как господин прокурор произнес слово «немедленно», — поделился и Порфирий Петрович с улыбкой. — Равно как и вообще его тон. Эдак твердо, прямо-таки державно. Я уж, как мог, дал ему понять, что любая задержка с нашей стороны будет исключена.
— Он что, тоже прибудет на вскрытие?
— Вряд ли. — Улыбка следователя сделалась скептической. — У меня ощущение, что он теперь будет держаться от дела на почтительном расстоянии. По крайней мере, пока не будет четкой картины.
— Ишь, на расстоянии. Чтобы ручки не марать? Нам бы так. — Первоедов вздохнул и, принимаясь за работу, сосредоточенно смолк. Действовал он в тишине; роль ассистента взял на себя один из санитаров. Сам доктор в свое время обучался анатомии у немецких профессоров и по их же книгам, которые бережно хранил. С ассистентом он, помимо малопонятных латинских терминов, общался преимущественно мимикой и жестами, в основном своеобразными кивками. Первым делом патологоанатом осмотрел открытые участки тела, глаза и ногти. Затем кивнул ассистенту, и они вместе начали удалять с трупа одежду. Сам покойник с застывшими глазами отчужденно сносил это последнее для него раздевание.
Голый, землистого цвета труп уложили на спину. Вздувшийся живот был словно набит комьями ваты; мелко торчал внизу сиротливо сморщенный пенис. Вот тебе и герой-любовник. Невольно припомнилась сцена, как они тогда с этим человеком случайно столкнулись у процентщика. Порфирий Петрович брезгливо отвел глаза.
Слышно было, как тело перевернули.
— Внешних признаков насилия нет, — подытожил Первоедов.
Труп, судя по звуку, перевернули опять.
— Нам особенно интересно, нет ли здесь каких-нибудь признаков отравления. Скажем, синильной кислотой, — произнес Порфирий Петрович в потолок.
— Не все сразу, Порфирий Петрович. Не все сразу. Краем глаза следователь видел, как патологоанатом делает на трупе глубокий треугольный надрез, позволяющий оттянуть кожу.
Одной рукой орудуя длинным скальпелем, другой Первоедов сноровисто поднял кожу вместе со слоем подкожной ткани. Пахнуло мясницкой. Ассистент уже держал наготове изогнутые ножницы для разделывания ребер. Доктор, в очередной раз кивнув, сменил скальпель на ножницы.
Ребра он разделывал со скрупулезностью педанта, стригущего ногти. Всякий раз хрусткое щелканье сопровождалось сосредоточенным насупливанием бровей.
Наконец с этой операцией было покончено, и Первоедов опять взялся за скальпель. Ассистент, руководствуясь очередным кивком, поместил ножницы на боковой столик. Затем, склонившись над отверстой грудной клеткой трупа, он утопил обе руки непосредственно под грудину, миновав остатки ребер. Последний надрез скальпеля, сильное движение рук, и вот уже отделенная грудная пластина лежит обособленно от тела на соседнем столе.
— Если мне не изменяет память, — подал голос Порфирий Петрович, — в том деле с дворником Тихоном вы указали, что оболочка легких была воспалена. Кажется, именно тогда у вас и зародилась версия о возможном отравлении. А в данном случае не может быть чего-нибудь похожего?
— Непременно посмотрим, Порфирий Петрович. Я, по счастью, практикую метод доктора Вирхова. — Первоедов взрезал трупу брюшину. Кожа под давлением раздутых внутренних органов разлезлась в стороны. Патологоанатом отошел, уступив место ассистенту, который не замедлил заняться какими-то манипуляциями в брюшине с помощью ниток и ножниц, все это под взыскательным наблюдением своего старшего коллеги. — По методу Вирхова, как вам известно, все органы отделяются и изучаются отдельно. Достаньте-ка мне, голубчик, вначале легкие, — попросил он ассистента.
Сунув руки в открытую полость, ассистент не спеша вынул оттуда продолговатый кусок влажно-розовой массы.
— Это левое? — уточнил Первоедов. Ассистент кивнул.
— Розоватость, я бы сказал, чрезмерная. Вид явно нездоровый. Я бы сказал, совсем нездоровый. Явно воспаленный. А, Порфирий Петрович?
— Я не разбираюсь. Вы же у нас специалист.
— Ха, специалист! Весьма любезно с вашей стороны, — ответил доктор скорее машинально, внимательно следя, как ассистент помещает легкое на весы.
Чаша весов увесисто стукнула, словно сетуя, что на нее кладут лишнего. Ассистент с помощью гирьки на шкале постепенно уравновесил положение обеих чаш.
— Вес в пределах нормы, — приглядевшись, констатировал Первоедов. — Так. Поместите-ка легкое на стол, я еще погляжу на него через микроскоп.
— А нельзя ли вначале обследовать содержимое, скажем, желудка? — с некоторым нетерпением поинтересовался Порфирий Петрович. — Хотелось бы поскорей узнать, есть ли вообще какие-либо основания подозревать здесь отравление.
Подобное предложение доктора несказанно удивило.
— Но как! Это же не метод Вирхова. По его методике, я должен сначала завершить изучение легких, и уж затем переходить к следующему органу. А вы мне какой метод предлагаете? Рокатинского, что ли?
— Да почему. — Порфирий Петрович смешался, но лишь на секунду. — Назовем это методом Первоедова. А? Измененный порядок ознакомления, с целью как можно скорее подтвердить или опровергнуть подозрения следствия. Каково?
— Хм. Метод Первоедова, говорите?
— А что. Вполне тянет на научную статью. Для общероссийского журнала патологоанатомов.
— Да бросьте вы. Российский журнал, эко диво. Вот кабы в Германии напечататься — это дело другое, — мечтательно вздохнул Первоедов.
— Ну так что ж. Напишите на немецком, оно и в Германии опубликуется.
— Метод Первоедова… А что, звучит, — усмехнулся доктор. — Только, к сожалению, предлагаемый вами метод с научной точки зрения полный нонсенс. И подпись моя под такой статьей поставила бы на научной моей карьере полный крест.
— Зато судебные органы такую публикацию оценили бы по достоинству.
— Ах вот вы как. Очень может быть. Только тут вот в чем дело, Порфирий Петрович. Интересы науки, с одной стороны, и задачи следственного управления, с другой, меж собою абсолютно несхожи. И чем больше я свое дело делаю, тем больше в этом убеждаюсь. Так-то.
— А вот я полагаю, что интересы наши совпадают. Ведь обе стороны одинаково нуждаются в истине.
— Ага. Даром что вы изволите настаивать, каким путем эту истину добывать.
— Несправедливо, милейший мой доктор. Я лишь смею рекомендовать очередность, с какой важные и нужные всем нам истины извлекаются на свет.
Ассистент тем временем взвесил второе легкое и ждал дальнейших указаний.
— А вы, кстати, слышали, что он пытается подвергнуть меня какому-то там взысканию? — спросил неожиданно Первоедов с искренним огорчением.
— Прокурор-то? Я думаю, нам удастся переубедить его по ходу, так что до взыскания дело не дойдет.
Доктор, поглядев на следователя, с легкой иронией покачал головой.
— Ну ладно, давайте-ка сюда желудок, — обернулся он к ассистенту.
В эмалированном тазу была подана раздутая до бесформенности груша в тонких прожилках, которую патологоанатом аккуратно вскрыл. Выпустив лужицу мутной жижи, груша пожухла, превратившись в сморщенный кожистый мешок.
— Хорошо хоть, он твердую пищу накануне не употреблял, — заметил по ходу Первоедов. — А вот спиртного, судя по всему, в избытке. До сих пор запах стоит.
— Мы, кстати, возле его тела пустой штоф обнаружили, — сказал Порфирий Петрович. — Возможно, водка еще частично впиталась в ковер.
— Ее бы тоже не мешало проверить.
— Сделаем, — кивнул следователь.
В одном из своих лабораторных столов Первоедов выдвинул ящик.
— Жаль, господин прокурор нынче не присутствует, — досадливо заметил он. — Пусть бы сам за всем пронаблюдал.
В руке у доктора был язычок лакмусовой бумаги, которую он окунул в натекшую лужицу. Язычок тут же заалел. Бумажку Первоедов молча предъявил официальным лицам, которые, впрочем, мало что поняли, лишь ограничившись чопорными кивками.
— Ну вот, господа. Хоть вы засвидетельствуете, что я действовал по всем правилам и согласно предписаниям.
Вобрав шприцем немного жидкости, он выцедил ее в стеклянную реторту, изогнутым горлышком напоминающую шею умирающего лебедя. Далее Первоедов со строгим видом продемонстрировал свидетелям коричневую бутыль. «Серная кислота», — значилось на этикетке. Свидетели, переминаясь с ноги на ногу, растерянно улыбались — ни дать ни взять нерадивые школьники. Доктор, покачав головой, повернулся к ним спиной. Капнув пипеткой в реторту несколько капель кислоты, он легонько ее встряхнул, после чего перенес к другому столу, где газовая горелка грела снизу наполненный песком глубокий жестяной поднос. Заткнув реторту стеклянной пробкой, Первоедов сунул ее в горячий песок, предварительно зажав горлышко посудины специальным зажимом.
— Ну как, достаточно? — спросил он, стоя к официальным лицам вполоборота. Те спешно закивали: дескать, вполне. — Вправду, что ль? Да я еще ничего и не начинал. Разве можно судить с такой поспешностью? Подводите вы меня, господа! А я-то на вашу компетентность полагался.
По кивку Первоедова ассистент, взяв стакан, подошел к проему окна анатомического театра. Зимняя тьма, глыбой сгустившаяся снаружи, затеняла даже наружные решетки. Открытая ассистентом фрамуга впустила колючую струю знобкого ветра, мечущегося сейчас, должно быть, по всему городу. Стаканом ассистент зачерпнул с карниза снега, после чего резко захлопнул фрамугу. Было в его движении что-то от тюремщика, запирающего сейчас камеру с опасным преступником.
К горлышку реторты Первоедов приладил пробирку, умещенную в стакан со снегом.
— Надо же, — едко усмехнулся он сам себе, — представить только! На чем меня хотели поймать: что я не стану собирать дистиллят!
Официальные лица стояли с совершенно ошарашенным видом. Довольный наконец своими манипуляциями, Первоедов возвратился к тазу, где в луже мутной жидкости лежал скукожившийся желудок.
Одним ловким движением доктор вывернул орган наизнанку, обнажив ему стенки с бороздками мускулатуры.
— Так. Изнаночная ткань признаков эрозии не выказывает, — с некоторой разочарованностью заключил доктор.
— То есть синильная кислота исключена? — переспросил следователь.
В ответ Первоедов рассерженно глянул на официальных лиц — дескать, «вы лучше их спросите». Однако раздражение свое он сдержал:
— Вовсе нет! Никоим образом. Даром что исключается наличие любой другой кислоты, неважно какой. Уж что иное, а синильная кислота, если она и вправду была, распознается в любом случае. Надо лишь дождаться результатов анализа.
— А это… долго?
Пробирка постепенно запотевала капельками дистиллята.
— Теперь уж недолго, Порфирий Петрович. Уже вот-вот.
* * *
— Чем же он занимался, этот человек, при жизни? — спрашивал Первоедов, отделяя между тем пробирку от реторты. Прозрачного дистиллята в ней скопилось буквально с ноготок. Доктор вращал ее, словно дегустатор — бокал с дорогим вином.
— Кажется, актером был, — отвечал Порфирий Петрович.
— Актером? — Задумчиво поиграв бровями, доктор перелил жидкость в другую пробирку, воткнув ее в деревянную подставку. — Сульфат железа мне сюда, — распорядился он, — и еще раствор едкого калия. Да, и соляную кислоту не забудьте!
Ассистент, кивнув, принес ему из стенного шкафа три колбы. Взяв первую, Первоедов аккуратно ее накренил и вытряхнул на венчик бумажного фильтра несколько зеленоватых гранул. Затем, поднеся бумажку к пробирке, пальцем стряхнул одну гранулу туда. Дождавшись, когда она растворится, капнул следом несколько капель калиевого раствора.
— Что ж, — буравя взглядом подавленно молчащих официальных лиц, сказал он, не переставая помешивать содержимое стеклянной палочкой. — Сейчас посмотрим, есть ли у этого господина посмертный талант к чревовещанию!
Откупорив третью колбу, Первоедов набрал из нее с полпипетки, после чего быстрой струйкой выпустил череду капель все в ту же пробирку.
Прозрачное содержимое пробирки не замедлило полиловеть.
— Ну вот вам и результат! — возгласил патологоанатом. — Вот оно, свидетельство Говорова. Точнее, его желудка. Получается, чревовещатель в буквальном смысле.
Глава 21 БУМАГА ЦВЕТА СИРЕНИ
Порфирий Петрович отбросил папиросу тотчас, как дверь дома на Большой Морской, 17 перед ним открылась. В нос уже на входе ударил тяжелый, неприятный запах — тошнотно сладкий, с маслянистым и слегка металлическим привкусом. И как они только здесь, в доме, им дышат — от такого, извините, ненароком стошнить может!
— Что это еще у вас? Здесь, в воздухе? — удивленно спросил он Катю.
— Да так, матрасы окуриваем, — отвечала она как ни в чем не бывало. — Марфа Прокофьевна жалуется, что ее, дескать, клоп давеча укусил.
— Окуриваете? И чем же?
— Вы что, насчет рецепта узнавать пришли?
— Да нет. Я с Анной Александровной увидеться хотел.
— Ну так проходите, я ей сейчас доложу.
* * *
Следуя за Анной Александровной в гостиную, Порфирий Петрович тайком любовался ее изящной осанкой. «Что-то в этой женщине, буквально в каждом ее движении, одновременно и трогает и печалит», — отметил он про себя.
— Может, чаю? — обернувшись, спросила она, и Порфирий Петрович понял: более всего это сосредоточено в ее взгляде.
Он с улыбкой качнул головой.
— Спасибо, не надо. Я не смею задерживать вас дольше, чем оно необходимо. Тем не менее у меня есть один-два вопроса, которые я хотел бы задать в свете новых обстоятельств…
— Новых? — Пустой стакан в руках хозяйки едва заметно дрогнул.
— Вам известен некто Говоров, Константин Кириллович?
Облегченность словно омолодила Анну Александровну, разом сделав ее симпатичней и привлекательней. Она отчаянно тряхнула головой. «Ей легче оттого, что она отвечает без утайки», — понял следователь.
— Тот Говоров водил знакомство со Степаном Сергеевичем, — пояснил Порфирий Петрович. — И вот он найден мертвым. Убийство. Точнее, отравление. Причем тем же веществом, каким был устранен ваш дворник Тихон.
— А… а Тихон, он разве не повесился? Мы про то в газетах читали.
— Та версия оказалась ошибочной. Нас пытались ввести в заблуждение. Я и сам до недавней поры полагал, что виновник их гибели и есть тот самый Говоров. Ан вот оказалось, что искать теперь приходится кого-то другого.
— И искать, значит, непременно у нас? Вы за этим пришли? — В тревожно дрожащем голосе Анны Александровны слышалась нотка протеста.
— Вовсе нет. Просто у меня появились некоторые дополнительные вопросы, только и всего. Мне необходимо четко, в полном объеме уяснить, какого рода ссора вспыхнула тогда между Тихоном и Горянщиковым.
Под бескомпромиссным взглядом следователя Анна Александровна невольно сжалась.
— Но ведь я уже рассказывала. Зачем вы снова меня пытаете? Я все вам выложила, что знала.
— Ой ли?
— Да!
Лицо у нее пошло пятнами нервного румянца. Она метнула в следователя негодующий взгляд, но тут же отвела глаза, не в силах вынести встречный напор.
— Кем приходился вам Сергей Степанович Горянщиков? — жестко спросил Порфирий Петрович.
— Жильцом! — бросила она сердито, но тут же смягчилась: — Комнату у нас снимал.
— А Тихон?
— Тихон? Дворником.
— И всего-то?
— Как вас понимать?
— А так, что предметом ссоры были, скорее всего, вы.
— О нет, вы ошибаетесь. — Ответ женщины прозвучал спокойней, чем можно было ожидать. Порфирий Петрович чуть склонил голову, моргая. — Степан Сергеевич… — Тут голос у Анны Александровны сорвался. Продолжать она не решилась.
— Место в Петровском парке, где были обнаружены их тела… — Анна Александровна, сжав губы, молча покачала головой. — Помните, в прошлый раз, когда я упомянул Петровский парк… — продолжал между тем следователь.
— И что с того?
— Я заметил… И думаю, не без основания…
— Что? Что вы заметили?
— Знаете, есть такое выражение, «задеть за живое».
— Вот как?
— Так что же там произошло, в Петровском парке?
— Неужели так уж необходимо в это вдаваться?
— Боюсь, что да. И прошу вас, ненужно бояться правды. Я вполне понимаю…
— Что, что вы понимаете, Порфирий Петрович?
— Что все это откровенно причиняет вам боль.
Анна Александровна заговорила — трудно, прикрыв глаза.
— Мы как-то раз отправились туда, летом. Там тогда выступал театр на эстраде, и оркестр. Вначале мы устроили пикник, в парке.
— Вы говорите «мы»?
— Да, мы с дочерью, Софьей Сергеевной. Марфа Прокофьева тоже была с нами. И Осип Максимович, — добавила она после некоторой паузы.
— Понятно.
— Ну а с ним, разумеется, и Вадим Васильевич, — сказала она словно в пояснение.
— Очень вас прошу: расскажите, что произошло.
— Тихон, — выдохнула наконец она.
— Вон оно что.
— Да. Там был Тихон. То есть он, видимо, следовал как-то позади нас. Не в нашей компании. Может, просто по совпадению, взял и набрел на нас в… таком виде.
— В каком?
— В пьяном. Изрядно навеселе. Это единственно, чем можно объяснить его тогда поведение.
— А что он такого сделал?
— Мы расположились на пикник в крохотном таком ложке, под березой. Остальные все потом отправились на прогулку. Я же не пошла, что-то подустала. Осталась читать роман. И тут вдруг Тихон — и откуда только взялся! Выходит, и на меня прямо-таки падает. И…
— Ничего-ничего, бояться совершенно нечего. Говорите напрямую; поверьте, так лучше.
Глаза у Анны Александровны рассерженно блеснули.
— И начал со мной объясняться, в любви!
— И как вы на это отреагировали?
— Так он же дворник! — вскрикнула она изумленно.
— Он прежде всего человек.
— Помилуйте!
— Вы его отвергли?
— Это было ужасно! Прежде всего, он был пьян. Я что, должна отвечать чувствам пьяного дворника?
— Вас кто-нибудь застал за этим?
— Боже упаси! По счастью, нет.
— Точно?
— От всей души надеюсь.
— А что Степан Сергеевич? Он был в тот день с вами?
— Да собственно, нет.
— Степан Сер-ге-е-вич, — задумчиво, по слогам произнес следователь; Анна Александровна нахмурилась. — А вашу дочь звать…
— Софья.
— Софья Сергеевна? — Да.
— Стало быть, супруг ваш Сергеем именовался?
— Сергеем Павловичем. А что?
— Сергеевна… Сергеевич…
— О чем вы?
— Как интересно отчества совпадают.
— Совпадают, только и всего.
— А не могло быть так, что супруг ваш чувствовал к Степану Сергеевичу некое отцовское расположение? Что-нибудь вроде родительского долга?
— Я за мужа отвечать не вправе. Порфирий Петрович утвердительно кивнул.
— И не возможно ли то, что Степан Сергеевич намеренно подзуживал Тихона насчет чувств, которые он испытывал к вам? Не могло ли это послужить причиной ссоры?
— Я, право… — Профиль женщины был таким беззащитным и трогательным, что невольно сжималось сердце.
— Или, может, они были меж собой соперниками?
— Ну, знаете! — вскрикнула Анна Александровна. — Вы смеете на одном дыхании заявлять, что этот человек, с одной стороны, был сыном моего мужа, а с другой, так и вовсе моим любовником!
Порфирий Петрович слегка наклонил голову; вышло похоже на утвердительный кивок.
Тут двери в гостиную распахнулись, и на пороге возникла дородная фигура Осипа Максимовича Симонова; очки, как всегда, на месте.
— Что здесь происходит? — воспросил он с видом решительным, можно сказать грозным.
— Осип Максимович! Слава Богу! — как к спасителю, устремилась к нему Анна Александровна, простирая руки. Однако, не встретив ответной теплоты, замешкалась.
— Я требую разъяснений, сударь! — гневно сказал Осип Максимович, прикрывая за собой двери.
— Разъяснений? Извольте. Я провожу расследование об убийстве троих человек.
— И вы что, подозреваете Анну Александровну?
— Я лишь восстанавливаю объективную картину. Кому, как не вам, это должно быть понятно более всего; вы же книжки философские издаете.
— Анна Александровна — всеми почитаемая, уважаемая женщина! У вас нет никакого права являться сюда со всякого рода провокационными вопросами!
— Откуда вы знаете, провокационные они или нет? Вы что, извиняюсь, под дверью подслушивали?
Порфирий Петрович улыбнулся весьма натянуто.
— Не считайте людей за дураков-с, милостивый государь! Я очень даже представляю, какие гнусные вопросы вы, должно быть, задаете!
— Прошу поверить на слово: уж кому подобные вопросы в тягость, так это именно мне.
— Ну так не задавайте их!
— Боюсь, это моя работа.
— Такая работа благородному человеку не к лицу.
— Возможно. И тем не менее надо же ее кому-то делать.
— Но как! Подвергать Анну Александровну унизительному допросу!
В глазах у Порфирия Петровича мелькнула лукавинка.
— А вот вы как считаете, Осип Максимович: благородный человек способен на убийство?
— Да мало ли кто из нас на что способен, — слегка опешил Осип Максимович. — Тут уж одному Богу известно. Неразумно было б отрицать, что и дворянское сословие иной раз берет сей грех на душу.
— А бывает, например, такое, чтоб дворянин, благородный человек, — и вдруг топором кого по темени? — спросил следователь с хитрецой.
— Ну и вопрос! Хотя отчего же: вот писали как-то, вполне свежий пример. Какой-то студент двоих топором укокошил, старуху с сестрой.
— А и вправду. Хотя образ топора, согласитесь, увязывается скорее с каким-нибудь простолюдином, разве не так? С тем же Тихоном, если на то пошло.
— Соглашусь.
— А вот благородный человек, он какое бы орудие выбрал? Дворянин или, скажем, дворянка?
— Ладно, хватит. Надеюсь, вы закончили допрашивать Анну Александровну? В таком случае, думаю, нам пора раскланяться.
— Да, разумеется. У меня теперь всего один вопрос. И еще просьба. Анна Александровна, у вас нет соображений, каким образом при Тихоне могло оказаться шесть тысяч рублей?
— Тихон? — Щеки у нее побелели. — Да я… Я понятия не имею, — выдохнула она.
— Украл, должно быть, — ответил за нее Осип Максимович. — Ах он шельма! Вот и верь людям.
Он бросил на хозяйку ободряющий взгляд.
— Деньги-то немалые, — раздумчиво заметил Порфирий Петрович, неотрывно глядя на совершенно растерянную женщину.
— На этом, надеюсь, все? — нетерпеливо переспросил Осип Максимович.
— Да, все. Осталась только просьба. Анна Александровна, вы не могли бы мне что-нибудь такое написать? Буквально пару фраз?
— Вы все-таки ее подозреваете! Какая бестактность! В то время как истинный убийца…
— И что же вам написать? — Несмотря на внешнее спокойствие, голос у Анны Александровны предательски дрогнул.
— Да неважно. Лишь бы на вашей личной бумаге.
— Осип Максимович, — Анна Александровна бессильно оперлась лбом о ладонь, — позовите, милейший, Катюшу.
* * *
Катя внесла письменные принадлежности. Сразу же бросалось в глаза, что сиреневатая бумага на подносе точь-в-точь соответствует по цвету конверту, в котором было найдено шесть тысяч.
Горничная прошла сердитым шагом, на Порфирия Петровича даже не взглянув. За ней, преодолевая робость от присутствия посторонних, но горя любопытством, кралась девочка лет тринадцати. Черты ее чем-то напоминали Анну Александровну, хотя в силу возраста были еще не вполне оформившимися.
— Маменька! — выпрыгнув из-за Кати, девочка кинулась к матери.
— Да-да, душечка. — Анна Александровна, ласково обняв дочь за плечи, поцеловала ее в лоб, после чего решительно отстранила.
Осип Максимович, завидев девочку, повернулся к ней спиной и отошел к окну, якобы утратив к происходящему интерес.
Катя поставила поднос на низенький полированный столик, за которым Порфирий Петрович однажды чаевничал. На подносе были перо, чернильница и тонкая стопка бумаги.
— Так что ж, в самом деле, писать? Прямо-таки что угодно? — еще раз спросила Анна Александровна, присаживаясь возле столика на тахту.
Порфирий Петрович кивнул.
— Что-то на ум ничего не идет, — растерянно призналась она.
— Ну, тогда хотя бы… Что-нибудь вроде: «Помним ли мы лето», — предложил Порфирий Петрович непринужденно.
Анна Александровна, подняв голову, посмотрела вопросительно, но ничего не заподозрила. Затем перевела взгляд на Осипа Максимовича, который по-прежнему стоял к ней спиной в сердитой позе. С тоскливым вздохом она взяла перо и занесла над бумагой. Приняв лист с написанной фразой, Порфирий Петрович мельком на него взглянул, помахал в воздухе, а затем, сложив вдвое, сунул в карман.
— Кончится когда-нибудь, наконец, этот фарс? — не выдержал все же Осип Максимович, резким движением оборачиваясь от окна. — Вы все получили, чего хотели?
— От Анны Александровны — все, — невозмутимо отвечал Порфирий Петрович.
— Ну и что решили? Взять ее под арест?
— Пока нет.
— «Пока нет»! То-то я и вижу, что «пока»! Мы им все уже сыты, этим вашим «пока»! Оправдывает ли оно вообще всю эту хамскую процедуру? — Ответа Осип Максимович дожидаться не стал. — Кстати, пока мы все подвергаемся этой самой экзекуции, позвольте спросить: когда вы, наконец, возвратите перевод Прудона, который вы столь бесцеремонно изъяли из комнаты Степана Сергеевича?
— Пока не могу. Я еще не закончил изучение.
— Какое еще изучение! Это перевод философического текста. Какое отношение он имеет к вашему пресловутому делу?
— Там имеется ряд неточностей. В переводе есть места, коих нет в оригинале.
— Да как можете вы судить о неточностях! — вспылил Осип Максимович. — Что вы вообще смыслите в переводах философии! Переводить ее дословно — настоящий абсурд! Степан Сергеевич в своих переводах был поистине гением интерпретации!
— Да что вы вообще об этой книге так печетесь? — Порфирий Петрович недоуменно пожал плечами.
— Потому что она принадлежит мне! — окончательно теряя терпение, выкрикнул Осип Максимович. — И я нашел для ее завершения переводчика! Мне необходимо знать, сколько Степан Сергеевич успел сделать до своей кончины.
— Я ее возвращу, непременно возвращу, как только будет возможно. А сейчас я бы хотел переговорить с еще одним лицом, проживающим в вашем доме.
* * *
Марфа Прокофьевна слышала, как открылась и захлопнулась дверь в ее комнаты. При этом она не выпустила, а лишь крепче сжала костлявыми пальцами колоду карт.
— Ну что, вот и ко мне тебя принесло, — недобро улыбнулась она ввалившимся ртом.
— А вы меня знаете? — слегка удивился Порфирий Петрович.
— Да уж как не знать. Тот, что все выведывает да вынюхивает.
Следователь с улыбкой кивнул.
— Звать меня Порфирий Петрович, я из следственного управления. Из полиции, проще говоря. Расследую обстоятельства смерти Степана Сергеевича и Тихона, дворника. А также смерть еще одного человека, некоего Константина Кирилловича Говорова. — Старуха вскрыла в колоде бубнового туза. — Сколько вы уже проживаете с этим семейством, Марфа Прокофьевна?
— Да всю жизню, — отвечала она.
— Вы сами из крепостных?
— Из них. Из дворовых, Сергей Иваныча отца.
— Получается, вы и после вольной у них остались?
— А куды мне было? Да и Софьюшку надо было кому-то пестовать, сызмальства-то.
— Софью Сергеевну?
— Ее, голубушку.
— Мне бы хотелось поговорить с вами о Степане Сергеевиче. — Марфа Прокофьевна неспешно кивнула. — Он, кажется, был должен вашей хозяйке денег?
— Да хоть и должен, а что? Какая разница-то.
— Это как понимать?
Старуха пожала костистыми плечами.
— Эко диво, деньги. Деньги на свете не главное. Ну, бывало, и затягивал с оплатой за жилье. Но ведь рассчитывался же как-то, уж как его там Бог выручал.
— Вы, кажется, обмолвились насчет некой связи между Степаном Сергеевичем и Анной Александровной?
Марфа Прокофьевна вместо ответа положила червовую восьмерку на тройку пик, возле бубновой девятки. Вскрыла червового валета.
— Ну что, быль-небыль тебе разве рассказать? Уж Софьюшка как любит, когда бабка ей сказки сказывает. Бабушка, говорит, расскажи мне сказочку! Хотя сама уж большенькая.
— Да, бабушка, расскажите, пожалуйста, — в тон ей попросил и Порфирий Петрович.
— Так вот, жил-был однажды барин один, красавец молодой, из дворян. Богатства несметного. Одних крестьян почитай что тыща душ у них была. И заприметил раз тот барин девицу, тоже недурна собой, на речке. Она как раз одежу там стирала. И как увидал он ее за тем занятием, так и понял, что это она не рубаху какую, а будто само сердечко его как есть в руках держит да в воде той полощет. И вышел тот барин молодой из кустиков, откуда за девицей тайком той подглядывал. А как обернулась она к нему, так они разом и поняли, что любы друг другу. Ан девица-то было всего из крепостных, куда ей до него по знатности. Не пара, стало быть, ему, а потому и любви ихней не бывать. Ан пошли они тогда судьбе наперекор, и родился у них через любовь ту запретную мальчишечка. Степаном крестили. И вот как-то ночью, пока мать того дитятки спала, выкрали у нее ребеночка и в приют сиротский свезли, в Петербурх. С той поры сколько лет прошло. Барин тот красавец остепенился, да и уехал в город от зазнобушки своей крепостной. А у нее через то сердечко все как есть закаменело. Ну да ничего, как служила она их семье верой-правдой, так даже и в город потом перебралась им прислуживать, даром что барин-то уже на другой, благородной, женился, и девочку она ему родила. Вот нянька крепостная та, даром что все в памяти сыночка своего держала, стала теперь чужое дитятко как свое родное пестовать. А мальчик тот, Степанушка, к той поре подрос — да только рот росточком не вышел. Видать, грехи родительские так на ём сказались, что рученьки-ноженьки у него толком не выросли, так крохотные и остались. А умом вот, наоборот, выдался. Ужу него и отец был вон какой образованный, да и мать не дура набитая. А надо сказать, что когда его младенчиком в приюте том пристраивали, то на шейке, на ленточке перстенек с печаточкой фамильной ему оставили. А ему, по уму-то его прыткому, только того оказалось и надобно. И вот он, большой уже, даром что росточком дитя дитем, по перстеньку тому папашеньку своего и разыскал. Ну а уж тот в слезы — прости, мол, мне, окаянному! — и признал-таки в нем сына. Только чтобы в тайне все сохранить, выдал его отец якобы за жильца, а жене своей ничего про тайну ту не сказал. А через годок после того взял да и помер в одночасье. Неизвестно от чего. — Старуха, покачав головой, сгребла карты. — Не складывается нынче чегой-то.
— А… теперь? — спросил Порфирий Петрович осторожно. — Теперь она знает, Анна Александровна?
— Теперь-то? Теперь знает. Я ей все как есть рассказала. Подчистую.
— А зачем?
— Вам всем и не понять. На то Степан Сергеича нашего знать надо было. Ох человек был! Бывало, как глянет глазищами своими — ажио оторопь берет. Никакая девица перед взглядом таким устоять не могла, как бы поначалу над малорослостью его ни потешалась. Бывало, иная какая хохочет при встрече — вот, мол, уродец, — а как сойдется с ним глазами — так уже и сидит сама не своя. И не то что покорство в ейных глазах, а уж и кое-что похлеще: вся как есть в его власти. Вот так он всех нас своими глазищами в устрашении и держал, не смотри, что карлик.
— А что случилось, когда вы ей обо всем рассказали?
— С Аннушкой-то? С ней враз припадок нервный сделался. Даже сорвало, прямо за столом. А потом все вздыхала и плакала втихомолку. Мол, почему вы от меня все утаивали. Ну а потом и вовсе ей что-то примстилось. Будто б он на Софьюшку ее как-то странно поглядывает. Хотя в одном она права: Степан Сергеич наш иной раз ну прямо как сущий дьявол делался, впору аж перекреститься. Что правда, то правда. Убогие так себя и не ведут. Тут что-то иное…
— Как вы думаете — а могла Анна Александровна решиться на убийство, чтобы не допустить… немыслимое?
Марфа Прокофьевна молча раскладывала очередной пасьянс. Так ни слова больше и не проронила — хотя бы из вежливости, когда гость перед уходом прощался.
Глава 22 СВЯТЕЙШИЙ СТАРЕЦ НА РУСИ
День едва занимался, когда в восьмистах верстах к югу от Петербурга, под Калугой, в короб открытых саней забрался Евгений Николаевич Улитов, молодой капитан-исправник из следственного управления. Усевшись рядом с возницей, он довольно бесцеремонно перетянул на себя его овчину, даром что сам был в толстой шубе, меховых рукавицах и ушанке.
Глаза у него сами собой смежались от недосыпа, а тело пробирал легкий озноб — не столько от мороза, сколько от давешних излишеств: позволил себе вчера усугубить в земском собрании, где провел бурную ночь в дебатах об устроении земства, а также о свободе слова и существовании (или, наоборот, отсутствии) человеческой души. Потом еще дискутировали насчет безумия (как в юридическом, так и в сугубо психиатрическом его аспекте), а также насчет невежества, просвещения, церкви и положения крестьянства. Потом еще, кажется, спорили о вольности крепостных, о реформах, даже монарший дом косвенно задели. Затем спор сам собой перетек на женский вопрос, который постепенно свелся исключительно к обсуждению достоинств двух сестер, актрис местного театра. Ну и далее о красоте и уродливости современного искусства, литературы, архитектуры, и вообще что может ждать Петербург через сотню-другую лет…
Неизменным антагонистом Улитова во всех этих спорах без конца и без начала (и, разумеется, без результата) был земский врач Артемий Всеволодович Дроздов, которого сам Улитов во всеуслышание объявлял единственным цивилизованным существом во всей Калуге.
Во рту с ночи, честно сказать, будто эскадрон ночевал. Заиндевевшие усы облепили Улитову губы, и лишь присутствие рядом ямщика сдерживало соблазн хищно облизать их, а заодно и расчесать ногтями бакенбарды. Шампанского за вечер, помнится (хотя и смутно), откупорено было преизрядно — Улитов даже прикрыл себе варежкой рот, словно сморозил невзначай какую непристойность.
Какие бы споры ни возникали у них с Дроздовым, а заканчивалось все одним: собственно Петербургом. А именно как их так угораздило застрять в этом захолустье, когда однокашники их по университету вымостили себе вон какие карьеры, всем на зависть, пробившись чуть ли не в цвет столичного общества. Иной раз друзья даже не столько спорили, сколько с мечтательной завистью вздыхали, произнося одни лишь названия центральных улиц и площадей столицы: «Ах, подумать только, Невский! Возле самой Дворцовой площади!» После чего нависала угрюмая тишина, казалось лишь оттеняемая гротескными силуэтами откупоренных бутылок в скупом свете свечей. Так наступала ночь, вслед за которой брезжило безрадостное утро, принося с собой унылую череду служебных будней.
Кучер Улитова Матвей не спеша раскуривал трубку. Закончив с этим делом, он наконец с покровительственным видом повернулся к своему седоку.
— Ну что, ваш бла'ародь, куды нынче? — спросил он снисходительно, берясь за вожжи. (Ишь расповадили их, мужланов: дали вольную.)
— В Оптину пустынь.
— Куды? В пустынь!! — У изумленного Матвея аж вожжи опустились.
— Ну да. Да трогай ты, наконец!
— Так далеко же!
— Знаю. Оттого и времени терять нельзя.
— Так до ночи оно небось и не доберемся!
— Почему это?
— А коли метель? Так и вовсе не доедем, с пути собьемся!
— Так что ты предлагаешь, друг мой? Торчать здесь, вместо того чтобы выполнять приказ начальства? Прикажешь телеграфировать в Петербург, что, дескать, исправник Улитов вынужден оставаться здесь? Кучер, мол, сомневается, что ехать далековато?
— Так ведь коли буран да в дороге завязнем, вы ж мне потом сами нагоняй сделаете. Это еще если Бог милует, то бишь в снегу не замерзнем.
— Нагоняя тебе как раз не будет, если в Оптину пустынь поспеем благополучно. Мне туда знаешь к кому попасть нужно? К отцу Амвросию.
— Да неужто к нему?
— Вот тебе и «неужто».
— К самому святому старцу?
— Уж не знаю, какой он святой…
— Да святой, истинно святой! Вот моя эта… дочка родственницы жены моей. Точнее, сестры свекрови ее кума дочка, кажись. Или не она, а кто-то из ее родни, — в общем, он ее и впрямь-таки исцелил! Ей-бо!
— Да, я тоже что-то такое слышал про его деяния.
— Доктора совсем уж было на нее рукой махнули. Угасала прямо на глазах. Все нутро ей наружу выворачивало. — Матвей изобразил как; Улитов брезгливо отвернулся. ~- Да только говорят, слабеет он, старец-то, — продолжал кучер, — недолго уж ему на этом свете осталось. Зато на том небось сразу в раю окажется.
— Что ж, тем более надо поторопиться, чтоб в живых его застать, — рассудил Улитов.
Матвей взглянул на исправника так, будто тот брякнул невесть какую чушь. Но все же поднял и дернул поводья, укоризненно качнув при этом головой. Пара лошадей, всхрапнув, тронулась с места в морозную даль — неспешно, словно чуя неохоту возницы.
* * *
Когда сеево снежинок сгустилось до хлопьев, Матвей ничего не сказал, а лишь на мгновенье обернулся к седоку. Оба уже долгое время молчали.
Вскоре кружащиеся хлопья полонили уже все видимое пространство. Они вихрились и кружились в воздухе, но всего обильнее падали на проторенную в снегу дорогу. Первым делом скрылись из виду окружающие перелески. Затем верстовые столбы. И вот уже сквозь неистово кружащуюся порошу Улитов различал разве что конские зады впереди.
Матвей натянул поводья, и сани вскоре остановились.
— Ну вот и сбились с пути, — подытожил он, делая руку козырьком в попытке что-нибудь разглядеть сквозь разгулявшуюся непогоду.
Улитов промолчал.
Матвей вдруг спрыгнул с облучка и, хлопнув рукавицами, что-то сказал и скрылся в пелене бурана. Как в воду канул.
Исправнику сделалось очень неуютно. Сквозь завывание пурги слышалось лишь, как, встревоженно переминаясь, скрипят копытами по снегу лошади. Помнится, прошлой ночью Улитов с Дроздовым дискутировали насчет души — а именно сохраняется ли она после смерти. Со свойственной молодости бесшабашностью они развили диспут, можно сказать, до вселенских масштабов. Дроздов, будучи медиком, отстаивал сугубо физиологическую концепцию человеческой личности. При этом аргументы выдвигал поистине неопровержимые. Дескать, если личность индивидуума до неузнаваемости меняется в ходе какой-нибудь тяжелой болезни — скажем, слабоумия, — то логично будет предположить, что у личности как таковой нет некой неизменной, не подверженной эрозии сердцевины. И уж если в ходе болезни личность необратимо меняется до неузнаваемости, то логично будет заключить, что смерть и вовсе кладет конец существованию личности как таковой.
И вот теперь, сидя в полном одиночестве среди беснующейся вьюги, Улитов вдруг почувствовал, что отвергать эту версию не так уж просто. Вернее, и хотелось бы, да вот не получается.
Он прикрыл глаза. Сами собой, против воли, приходили на ум слова молитвы. Как-то даже унизительно.
Тут сани качнулись — это на облучок взобрался Матвей. Улитов, похоже, никогда еще так не радовался постороннему человеку.
— Ставрогина Роща! — перекрикивая вьюгу, сообщил кучер. — Коль слева ее обогнем, как раз на Козельск-то и выйдем!
Улитов бездумно вперился в сторону, куда указывал ему Матвей. Но ничего, кроме оголтелого мельтешения снежных хлопьев, так и не разглядел.
* * *
Уже в Козельске, в земской избе, их покормили и напоили чаем. За едой оба путника то и дело смотрели в окно, за которым ярилась вконец осатаневшая вьюга. Улитова эта картина повергала в такую тоску, что он наконец не выдержал и отвернулся. Вместо этого вынул и еще раз перечел полученную накануне депешу:
«прибыть оптину пустынь тчк допросить о тчк амвросия зпт подтвердить пребывание Симонова осипа Максимовича опт пуст 29 ноября 11 декабря вкл тчк»
Улитов с безнадежным видом сложил телеграфный бланк. Депеша была послана неким Порфирием Петровичем из Департамента по уголовным делам Санкт-Петербурга. Само название ведомства звучало как музыка, словно бы приобщая исправника к столице или, по крайней мере, давая волю мечтам, с нею связанным. Даже сердце чаще забилось от этой депеши. А вдруг да вожделенное продвижение по службе? Невольно представились хлопочущие о его, капитана-исправника, повышении высокие должностные лица — может статься, что и в самом Департаменте. А он, скромный службист, сидит тем временем в здешнем захолустье и пережидает в земской избе треклятую эту метель.
Как, интересно, выглядит этот Порфирий Петрович? Когда представить загадочного столичного чиновника не получилось, Улитов вместо этого представил самого себя — как он уже в новом чине дефилирует летней порой по Невскому.
— Гляньте-ка, ваш бла'ародь!
Улитов, досадливо обернувшись, увидел, что Матвей показывает на окошко. Оказывается, метель за это время унялась и небо, хоть и по-прежнему хмурое, уже не сыпало снегом.
— А ну готовь лошадей!
— Да вы что, ваш бла'ародь! Уж не ехать ли надумали?
— Нельзя медлить ни минуты! — окрыленный собственными грезами, исправник был уже на ногах.
— Да господь с вами, — сказал кучер с укоризной. — Не ровен час, опять посыплет. Да и стемнеет скоро, я и сани за ворота выгнать не успею. Надо б до утра обождать. Утро, оно вечера мудренее.
Вспомнив свое мучительное ожидание запропавшего слуги, Улитов решил на этот раз послушаться. Однако глянул на депешу, и так жалко себя сделалось, что прямо ком в горле. Не хватало еще при кучере слезу пустить.
* * *
К монастырю сани приближались по замерзшей Жиздре. Золотые кресты словно реяли в погожем небе, отсверкивая под зимним солнцем яркими, радостными бликами. При виде этой картины сладко замирало сердце. «Да ну, это всего лишь обшитое позолотой дерево!» — не верил своим глазам Улитов. Хотя себя не обманешь: первое впечатление действительно такое, будто кресты чудесным образом сами плавают в небесной лазури. «Но как такое возможно? В чем здесь фокус?» И лишь по приближении, где река делала изгиб, кресты в воздухе с величавой плавностью повернулись, и причина чуда стала ясна. Кресты крепились к куполам, синие маковки которых на расстоянии неразличимо сливались с небом. По приближении же купола словно сгустились из морозной сини, крупными лазоревыми каплями застыв под крестами.
От сторожки у реки к стенам обители нужно было подниматься по крутому, поросшему лесом склону. Некоторые из паломников, по рассказам, проделывали тот путь на коленях. Сани вместе с кучером Улитов оставил возле сторожки, а сам отправился дальше пешком, в сопровождении монашка, который, очевидно, специально его дожидался.
«Надо же, как у них тут устроено, — думал исправник по дороге, — из всего готовы тайну делать».
Провожатый попался на редкость общительный, говорливый, и избегал почему-то смотреть в глаза. Разговор был, в сущности, ни о чем. Вообще беспричинной своей жизнерадостностью монашек напоминал какого-нибудь ребенка в канун праздника.
«Блаженный, что ли? Нет, скорее слабоумный», — подумал Улитов.
— Вы, должно, к отцу Амвросию, — определил монашек, представившийся братом Иннокентием. Одет он был в одну лишь рясу, но холода будто и не чувствовал, а по протоптанной в глубоком снегу тропке шел ходко, так что Улитов еле за ним поспевал.
Исправник, раздраженно нахмурившись, все свое внимание сосредоточил на ходьбе.
— К нему, к нему, к кому ж еще, — с загадочной улыбкой тараторил монашек. — Тут уж сколько народу перебывало. Все нашего старца видеть хотят — что ни день, то еще кто-нибудь приходит. Вам, пожалуй, даже в очереди придется подождать, чтоб к нему попасть.
— Вот еще. Я не паломник вовсе, а по поручению начальства. Из следственного управления.
— Тогда он вас до себя и не допустит. Мирские дела его не занимают.
— Дело чрезвычайной важности. У меня указание из Петербурга, от полицейского департамента. Об уголовном расследовании. Вникаешь?
— Он о том и слушать не будет. Ему подобные вещи в тягость. Он от этого когда еще отрешился. — Брат Иннокентий глянул на Улитова искоса и как бы с лукавством. — Уж лучше со мной поделиться. Авось чего подскажу, — добавил он с вкрадчивой улыбкой.
— Я направлен именно к отцу Амвросию.
— Говорю же, он во встрече вам откажет. По таким делам старец попросту не принимает. Если б о душе, тогда еще куда ни шло. — Брат Иннокентий хихикнул, как от какой-нибудь скабрезной шутки. — Ему жить-то осталось всего ничего. Может, пока мы до монастыря добираемся, он уж и преставиться успеет. Вот вам на меня лишь уповать и останется. — Монашек снова скривил губы не то в улыбке, не то в усмешке.
Улитов, почувствовав усталость, пошел медленнее. Да и от монаха с его болтовней хотелось держаться подальше.
Брат Иннокентий, тоже замедлив шаг, дождался путника и повел дальше, улыбнувшись не без скрытого, как показалось исправнику, злорадства.
* * *
Брат Иннокентий завел исправника в комнату с низким сводчатым потолком, где уже толклось порядком добротно одетых паломников — все как один одержимы той же возбужденной словоохотливостью, что и этот монах. Все дружно обернулись навстречу вошедшим; гул голосов при этом на секунду утих, но тут же загудел с новой силой.
Улитов проникся к умирающему старцу невольным сочувствием. «Ишь чего, — подумал он желчно, — чуда им подавай. Святоши: пришли за чудом, а сами, кого ни копни, упыри упырями».
К брату Иннокентию тут же гурьбой потянулись помещики в богатых шубах и дамы в чопорных одеяниях.
— Ну скажите же, как он? — исходил один и тот же вопрос от их горящих жадным любопытством лиц.
— Не ведаю, — с плохо скрываемым удовольствием отвечал инок, радуясь возможности попривередничать, — я сам только что из сторожки.
— Неужто он нас вскоре уже покинет? — с сокрушенным видом вопрошала особа средних лет, ханжески возводя глаза к потолку, что не мешало ей, однако, держать на отлете лорнет и через него прицельно разглядывать вошедших.
Тучный красномордый купчина выкатил вперед, на всеобщее обозрение, кресло-коляску с девушкой лет восемнадцати.
— Пусть он Лароньку мою вперед всех примет! Скажите ему, пускай непременно ее первую посмотрит!
Девушка зарделась (что было ей, кстати, весьма к лицу). На секунду встретившись взглядом с молодым исправником, она отвела глаза.
— Старец знает, что вы все здесь, и все вы за чем-то пришли. Но вызывать он будет вас сам, как сочтет нужным, — взялся наводить порядок брат Иннокентий.
— Вы вспомните, сколько я денег на храм пожертвовал! — одышливо наседал купчина.
— Папенька! — одернула его Лара.
— Добродетель и щедрость ваша не осталась незамеченной. Но может, у других еще более срочная духовная нужда. А времени крайне мало. Так что на всех его все равно не хватит.
— Надо бы начать с меня, — голосом, не терпящим пререканий, бросил капитан-исправник Улитов.
Инок задумчиво на него посмотрел.
— А может, и так, — сказал он наконец негромко и вышел из комнаты.
«Нет, не слабоумный. И не простофиля», — определил Улитов.
Тучный купчина ухватил его под локоть.
— Христом-богом прошу, — взмолился он, — пусть он после вас мою Лароньку примет!
* * *
В первую секунду лежащий на узкой постели старик и вправду показался Улитову неживым. Седые волосы окаймляли ему голову словно нимбом, черты аскетичного лица заострились. Неподвижное тело было, видимо, настолько невесомым, что под одеялами почти не различалось — то ли есть оно там, то ли нет. Одно слово: мощи. Между тем глаза у старца были открыты и отрешенно смотрели куда-то вдаль, вряд ли замечая кого-либо в комнате.
Это была скорее опочивальня, чем келья. Ложе старца окружали понуро стоящие иноки. Все негромко, слегка вразнобой, читали из Евангелия. Судя по всему, шло соборование.
— На старца то ясность нисходит необыкновенная, то он вдруг в забвение впадает, — пояснял шепотом брат Иннокентий. — Господь к нему, видать, уж взывает. Но я таки сумел насчет вашего прихода до него донести. Мол, высокий чиновник прибыл из управления, по неотложному делу.
— Да какой я высокий, — даже зарделся Улитов. Нашел тоже, как его фигуру представлять.
«Глупо. Глупо и фальшиво, насквозь, — смятенно думал он. — Оттого я и покраснел. Ишь вон как она на меня действует, вся эта братия».
— Только он все равно бы вас не принял, — продолжал брат Иннокентий. — Лишь когда я ему сказал, что вы неверующий, он кивнул — дескать, зови.
— Откуда ты знаешь, что я неверующий? Может, совсем наоборот?
— Вас по глазам видать. — Брат Иннокентий скрытно улыбнулся. — Сейчас как подойдете к ложу, тотчас на колени опуститесь и ждите, покуда он вас не заметит. Первым голоса не подавайте — он сам заговорить должен. А как очи прикроет, сразу уходите.
Улитов так и поступил. В то же время брат Иннокентий подобострастно прильнул к старцу, словно собираясь поцеловать, и пошептал ему что-то на ухо, после чего проворно отстранился (исправнику показалось, что он, отходя, подмигнул).
Невольно вдруг вспомнилось, как он сам ощущал себя под натиском бури — один, покинутый всеми, даже слугой. Вот когда рационализм его, можно сказать, дал трещину.
Глаза старца медленно, с неизъяснимой тоской обратились к казенному гостю.
— Спросить чего хочешь? — подал он голос. Губы умирающего едва шевелились, поэтому впечатление было такое, будто голос доносится откуда-то извне.
Улитову почему-то сделалось стыдно.
— Прошу прощения, что нагрянул в такой час, — произнес он вполголоса пустые слова.
Отец Амвросий устало прикрыл глаза. Как, неужто всё? И хотя вопросы задавать было считай что и необязательно (указание попасть к келейнику так или иначе выполнено), подниматься исправник медлил. Почему-то хотелось продлить этот момент. Но когда он наконец решил уже вставать, отец Амвросий открыл глаза снова.
— В Бога, стало быть, не веруешь?
— Ни, простите, в него, ни в бессмертие души.
Тонкие губы в волнах седой бороды тронуло подобие улыбки — или же это был отзвук страдания.
— А что ж тогда?
— Простите, что именно?
— Что ж службу свою справляешь, коль в Бога не веруешь? Зачем оно?
— Ну как. Есть же законы. Они должны как-то соблюдаться. Люди должны уважать права друг друга. Право на жизнь, например. Таковы общественные устои. Все объясняется рациональностью. — Неожиданно для себя Улитов понизил вдруг голос и сообщил спешно, будто в свое оправдание: — Да это не мое дознание. Это я так, по указанию из Петербурга.
— Начальство, стало быть, прислало? — Да.
— И чего ему надобно, тому начальству?
— Хотелось бы знать, не был ли здесь в Оптиной пустыни некто Симонов Осип Максимович, числа эдак с девятого ноября по двенадцатое декабря?
— Брата Иннокентия спроси. Он за всеми ими приглядывает — кого пищей, кого беседой взбодрит.
— Мне было велено спросить именно у вас.
Взгляд старца как-то осовел, ушел вглубь себя. Улитов уже пожалел, что докучает ему всеми этими расспросами.
— Был кто-то под таким именем.
— Именно в эти дни?
— У ключаря спросишь, он им учет ведет.
— Благодарю.
Исправник собирался было встать, но взгляд келейника, исполнившись вдруг неведомой силы, удержал его на месте. Чувствовалось, что каждое движение старца может оказаться последним, и это придавало происходящему некую таинственную значимость.
— И ничего больше узнать не хочешь?
Прежде чем ответить, Улитов смущенно помолчал.
— Зачем… Почему вы согласились меня принять?
— Скажу, — трудно сглотнув, откликнулся старец. — Хотел напоследок безбожнику в глаза взглянуть. Безверие исцелить.
И действительно взглянул: проникновенно, с печальной возвышенной кротостью.
— И… и что вы видите? — спросил Улитов, теряя вдруг в себе всякую уверенность.
— Страх вижу. — Отец Амвросий устало смежил веки. — А вот мне не страшно, — чуть слышно выдохнул он.
Улитов смутно ощутил, как его кто-то поднимает на ноги и уводит.
— Господи, верую! — выкрикнул он уже на пороге. Крик этот, похоже, никого особо не удивил.
* * *
Возвратясь в комнату с чопорной публикой, Улитов стыдливо избегал смотреть на девушку в инвалидном кресле. Он ощущал, что предал ее в угоду какой-то низменной, а главное, совершенно никчемной цели.
— Ты сказал старцу-то про Лароньку? — допытывался у него купчина. — Сказал, чтобы он ее принял?
Улитин лишь сокрушенно покачал головой. Через какое-то время в комнату вышел брат Иннокентий. Губы иноку коверкала странная улыбка.
— Отец наш Амвросий преставился! — возгласил он и заплакал.
Все со скорбными вздохами стали опускаться на колени и истово креститься, в их числе и Евгений Николаевич Улитов, некогда капитан-исправник. Лара в своем кресле-каталке тихо плакала.
Глава 23 БАСТАРДЫ ЮПИТЕРА
— Это что, правда? — грянул с порога Никодим Фомич, не успев даже прикрыть за собой дверь в апартаменты Порфирия Петровича. Проходить в кабинет он, судя по всему, не намеревался, а просто дожидался от следователя ответа.
Порфирий Петрович, пустив синеватый клуб дыма, смахнул с рукава случайно попавший пепел.
— Вы насчет чего? — моргнув, переспросил он, отвлекаясь от разложенных на столе бумаг.
— Насчет чего? Насчет того, что наше превосходительство господин Липутин тронулся окончательно!
— Ах вот вы о чем. — Порфирий Петрович с невозмутимым видом подал главному суперинтенданту рескрипт с прокурорским вензелем — Тут говорится, чтобы я передал на доследование господину Липутину дела о смерти при подозрительных обстоятельствах Степана Горянщикова, Тихона Кутузова и Константина Говорова. Доследованием займется он лично. Аудиенции с господином прокурором я жду всякую минуту.
Никодим Фомич, пробежав глазами рескрипт, бросил его на стол.
— Но это же чушь несусветная, Порфирий Петрович! «Серьезные процедурные просчеты», «безосновательное отклонение фактов медицинской экспертизы»… Кто, как не ты, доказывал ему справедливость выводов Первоедова! Ведь это же не ты, а он от них отмахнулся!
— В прокурорском ведомстве не ошибаются.
— Его превосходительство, я извиняюсь, осел! Он все дело загубит, и результатов следствия ему не видать как своих ушей!
— Я полагаю, он считает, что следствие я уже провел.
— Вот как! В самом деле? И каков итог? Порфирий Петрович пожал плечами.
— Да так, есть кое-какие начатки. Круг подозреваемых действительно сузился.
— И насколько?
Следователь закатил глаза, подсчитывая.
— Человек до шести.
— Ну, Порфирий Петрович, скажу я тебе! И это ты называешь «сузился»?
— Нет, скорее до семи.
— И как ты можешь преспокойно в таком духе рассуждать! — все еще горел негодованием Никодим Фомич.
— А что мне еще делать?
— Подавать апелляцию!
— Да уж проще смириться, — вяло улыбнулся Порфирий Петрович. — Это по-нашему, по-русски.
— Скажешь тоже, — фыркнул суперинтендант. — Этот твой стоицизм все и губит. И русскому характеру он совершенно не свойствен. Более того, он ему претит!
— С моей стороны надо лишь всеми силами способствовать прокурору в скорейшем распознании убийцы. Вот что сейчас действительно важно. А разочарован я или нет, это к делу не относится… Тот, кто стоит за всеми этими убийствами, — добавил он, помолчав, — может ими и не ограничиться.
— Именно! Вот почему ты должен довести дело до самого конца!
В дверь осмотрительно постучали.
— К вам их превосходительство, господин прокурор Липутин, — елейным голосом доложил Заметов, как всегда не без ехидства.
В кабинет решительным шагом вошел прокурор. Никодиму Фомичу он сухо кивнул, Заметова же попросту проигнорировал.
— Порфирий Петрович, будьте добры сюда папку с делом, — с ходу потребовал он.
— Сию минуту, ваше превосходительство, — собрав толстую стопу листов и завязав тесемки, следователь подал папку Липутину.
— Благодарю. Теперь извольте дожидаться, покуда я изучу эти бумаги, а затем ответить на вопросы, которые у меня к вам, возможно, появятся. От ведения дела вы отстраняетесь до особого распоряжения.
— Ярослав Николаевич, — твердо заявил Никодим Фомич. — Я против подобного шага решительно возражаю. В этом нет ни справедливости, ни уж тем более смысла.
Липутин в сторону суперинтенданта намеренно не взглянул. Вместо этого он с придирчивой внимательностью рассматривал папку.
— А ваше здесь присутствие, Никодим Фомич, я вообще считаю необязательным. Вы должны заниматься своими непосредственными обязанностями: работой полицейского департамента.
— От имени Порфирия Петровича я буду вынужден ходатайствовать об апелляции!
— Которая так или иначе пройдет через меня, — скривив губы, произнес прокурор.
Порфирий Петрович проводил своего сослуживца вкрадчивой улыбкой.
* * *
Прокурор обосновался за столом следователя. Время от времени (в частности, разглядывая порнографические снимки из говоровской квартиры) он бросал на Порфирия Петровича неодобрительные взгляды, словно за эти непристойности был в ответе именно следователь. Сам Порфирий Петрович устроился на кожаном диване, куря папиросу за папиросой. Иногда прокурор, судя по мимике, собирался что-то спросить, но всякий раз сдерживался. Наконец, перевернув последний лист дела (пару строк, написанных Анной Александровной), он со вздохом откинулся в кресле.
Взгляд прокурора уперся в Порфирия Петровича, в этот момент раздумчиво гасящего очередной окурок в хрустальной пепельнице, умещенной на подлокотнике дивана.
— Ну так что, Порфирий Петрович, — сказал прокурор. — Вы полагаете, что убийца — Анна Александровна? Однако где основания? Женщина, причем из благородного сословия — уже одно это должно удерживать ее от преступных намерений, вам не кажется? Скромность, даже стыдливость…
— Оба эти качества в равной мере могли способствовать обратному. А именно превратному представлению о скромности и стыдливости. Желанию сохранить определенные вещи в тайне. Яд — орудие убийства типично женское.
— Но ей был бы необходим мужчина, хотя бы в подручные. Того же дворника вздернуть.
Порфирий Петрович пожал плечами.
— У меня на этот счет свои соображения. И основное, кстати, в том, что записка, найденная мной в шкатулке Тихона, писана не ее рукой. А именно та записка, судя по всему, и привела его к гибели.
— Что значит «не ее рукой»? — с некоторым удивлением переспросил Липутин. Порывшись в папке, он стал сличать меж собой оба листка. — Бумага, вне сомнения, разная. Но это еще ни о чем не говорит.
— Да, бумага разная. И вы правы, дело действительно не в этом. Но есть некоторое различие в почерке. У Анны Александровны он более округлый; я бы сказал, женственный. А вот другая записка писана была мужчиной, пытавшимся сымитировать ее почерк.
— Хм. Но где конкретные доказательства?
— Вы правы, четких доказательств того, что это писал мужчина, у меня нет. Но в том, что это имитация с целью подделки, я не сомневаюсь.
— Однако вы определили, что бумага пахнет ее духами?
— Да. Хотя купить флакон таких же духов ни для кого не составит труда.
— Но при том это должен быть кто-то, кому аромат ее духов знаком, не так ли? — Порфирий Петрович кивнул. — Скажем, ее горничная? — предположил Липутин.
Следователь в ответ поджал губы, как бы под впечатлением.
— В тот свой недавний визит к вдове Иволгиной я обратил внимание на специфический, весьма неприятный запах в доме. С эдаким, знаете, железистым привкусом. Как раз перед этим я погасил папиросу. А известно, что именно такой привкус дает курение вблизи синильной кислоты. Я спросил горничную, откуда этот запах, и она ответила, что в доме окуривают матрасы. Так вот это окуривание как раз и есть один из, так сказать, бытовых способов использования синильной кислоты. И безусловно у горничной к этому веществу имелся свободный доступ.
— Получается… горничная?
Порфирий Петрович в сомнении поднял брови.
— Опять же, такой же доступ мог быть и у всех домочадцев. Взять ту же старуху няньку, Марфу Прокофьевну. Или повариху Лизавету. Потом, у них еще есть двое жильцов — Осип Максимович и Вадим Васильевич, его секретарь. Кстати, в издательской конторе Осипа Максимовича как раз работал Горянщиков.
— Да, только у Осипа Мексимовича есть твердое алиби, подтвержденное тем старцем, как его… Амвросием из Оптиной пустыни. Этот же факт подтвержден депешей исправника из Калуги.
— Кстати, да.
— Что, между прочим, лишает алиби Вадима Васильевича.
— Да, но вместе с тем и мотива в совершении преступления.
— Нет, в самом деле, Порфирий Петрович, что у вас за манера изводить! Неужто нельзя просто назвать имя убийцы, да и дело с концом?
— Да если б я знал наверняка, ваше превосходительство, я бы вам незамедлительно сообщил.
Липутин, укоризненно покачав головой, взялся листать папку.
— Да, вы еще, кажется, выпустили из-под стражи того студента, Виргинского?
— Так точно.
— То есть по крайней мере с него вы подозрения сняли?
— В некоторой степени. Впрочем, как и со всякого, против кого нет неоспоримых улик. Из рапорта вам известно, что мы установили за ним слежку. А также что его видели в аптеке Фридлендера. Как раз накануне смерти Говорова.
— Вы допросили аптекаря?
— Да. Допрос проводил поручик Салытов.
Липутин порылся в папке, разыскивая соответствующий рапорт.
— Ага, вот. Оказывается, он пытался купить настойку опия. Правда, безуспешно. — Глаза прокурора заинтересованно блеснули. — Может статься, он тем самым аптекаря проверял? Если тот окажется настолько мягкотелым, что продаст опий подозрительному оборванцу, то его можно подбить и на сделку посомнительней, а? Правда, ваш филер его упустил. А может, он попытался что-то такое купить в другом месте, и на сей раз ему это удалось?
— Но ведь у убийцы уже имелся доступ к синильной кислоте, — усомнился следователь. — Факт, подтвержденный результатом вскрытия Тихона.
— Закупать изрядное количество чего-то из одного источника значит наверняка навлечь на себя подозрение, — категорично заметил Липутин.
— Тут вот еще что нужно иметь в виду, — рассудил Порфирий Петрович. — Деньги. У Виргинского их никогда особо не водилось. Так что, если ему нужна была синильная кислота, вряд ли он для отвода глаз спрашивал еще и опий. Человек в нужде так себя не ведет.
— А может, аптекарь солгал? Зачем ему признавать, что он продал смертельный яд убийце под подозрением?
— Аптекарь, начать с того, не знал, что его клиент подозревается в убийстве. Может, он решил, что перед ним коллекционер бабочек?
— Бабочек? Это в декабре-то, у нас в Петербурге? Ну и фантазия у вас, Порфирий Петрович!
— Я лишь о том, что он мог так оправдать свою покупку — как перед собой, так и перед присяжными.
— Ох уж эти мне присяжные! Ох, уж лучше не надо! — отмахнулся прокурор. — Даже если и так, надо привлечь Виргинского повторно. У него к убийству прослеживается явный мотив. Взять тот же престранный договор о вверении его души Горянщикову. А пока суд да дело, привлечь и аптекаря. В поручике Салытове я уверен: показания он из них вытрясет.
— Следствие теперь в ваших руках, ваше превосходительство, — заметил Порфирий Петрович почтительно.
Что-то в словах следователя заставило Липутина в нерешительности смолкнуть.
— Э-э… Да-да, конечно, — произнес тот наконец. — А что там у нас с философским тем переводом? — неожиданно сменил он тему.
— Я полагаю, Горянщиков знал, что его жизнь в опасности, и даже знал, кого ему опасаться. А потому оставлял в тексте некие намеки. Там есть фрагменты, которых нет в оригинале.
— Пассажи, которые привлекли ваше внимание?
— Можно так сказать. Вот первый из них: Отец Веры станет разрушителем Мудрости. Далее я обнаружил еще два несоответствия. Одно из них — это ссылка на Алкивиада и Сократа. Знаете, кто таков был Алкивиад? — Липутин кивнул как-то косо — не то утверждение, не то отрицание, не то просто непроизвольное движение. — Выдающийся и в некотором смысле совершенно не отягощенный нравственностью афинский полководец, — пояснил Порфирий Петрович. — Известный как воинскими подвигами, так и своими безнравственными, святотатственными деяниями. Вот цитата из «Пира» Платона. У Горянщикова в тексте значится следующее: И да разве не возлежал Алкивиад с Сократом под одним плащом, и не держал в похотливых своих объятиях сего духовного мужа?
— Да-да. Я хорошо осведомлен о порочных наклонностях, что были в ходу у древних греков.
— Так вот, у Прудона подобного упоминания об Алкивиаде с Сократом нет. Третье же расхождение…
Липутин вскинул руку, останавливая Порфирия Петровича, и сам дочитал отмеченный следователем третий отрывок:
Общеизвестно, что Минерва была дочерью Юпитера. Она появилась на свет непосредственно из головы своего отца. Данное чудо осуществилось лишь после того, как отец целиком пожрал ее беременную мать! Для нас неудивительно, что данное божество являлось также отцом многих бастардов. С иронией, которую по достоинству оценили бы древние, одна из внебрачных дочерей Юпитера звалась Фидес [2].
— Что, наконец, все это значит? — воскликнул на этом месте Липутин, откладывая запись и строго глядя на следователя.
— Пока не знаю.
— Вы не знаете? — Прокурор буквально поперхнулся от негодования.
— Может, знаете вы? Вы уже вполне подробно ознакомились с собранными материалами дела.
— Мне-то откуда знать всю эту нелепую, лишенную смысла белиберду! Боже мой, Порфирий Петрович, чем только вы все это время занимались?
— Выстраивал версии.
— И куда же они вас вывели, эти версии? — Порфирий Петрович деликатно развел ладони, как бы извиняясь. — Вот потому я, как видите, и вынужден взяться за дело сам.
— И каков же будет ваш следующий шаг? — с невинным видом поинтересовался следователь.
Липутин вместо ответа поводил пальцем по царапине в углу столешницы и наконец бросил нерешительный, можно сказать, робкий взгляд в сторону следователя.
— А ваш?
— Лично я возвратился бы к самым истокам. Для начала к той самой девушке, Лиле Семеновой.
— Проститутке, что ли? Порфирий Петрович молча кивнул.
— Вы считаете, убийца — она? — без особой уверенности спросил прокурор.
— Нет. Но полагаю, что она могла оказаться причиной тех убийств. А потому позвольте одно лишь предложение, ваше превосходительство. Наложенное на меня взыскание я полностью приемлю. Прошу лишь единственно ненадолго отменить мое отстранение от дела.
— Об этом не может быть и речи. Своих решений я не отменяю.
— Ярослав Николаевич, вы когда-нибудь играли в азартные игры? — Прокурор воззрился на следователя так, будто получил сейчас оплеуху. — Я предлагаю сыграть буквально один кон, — как ни в чем не бывало продолжал Порфирий Петрович. — Отмените мое отстранение надвое суток. Если я не успеваю раскрыть преступление, вы отстраняете меня на неопределенный срок, без выплаты жалования. Если я дело раскрываю, то прошу вас отозвать мое взыскание. Успех мой благотворно скажется на вашей и без того безупречной репутации. Ну а неуспех даст вам полное право сделать меня козлом отпущения.
Прокурор Липутин чопорно поджал губы.
— Что я вам скажу, Порфирий Петрович. Я русский человек. А какой русский не играет.
Глава 24 ПОКА ДЕВОЧКА СПАЛА
Внезапное вторжение зелени на заснеженный тротуар Порфирия Петровича несказанно удивило. Похоже, он один во всем Петербурге позабыл, что уже канун Рождества. Вспомнил только сейчас — толчком — при виде нежданно возникшего темно-зеленого массива.
У крытого Гостиного Двора появились елки всевозможных размеров и оттенков — в том числе и уже наряженные, в лентах и расписных безделушках. Между ними расхаживали торговцы, высматривая покупателей на свой товар, который сейчас свозили отовсюду, даже из Финляндии.
Порфирий Петрович тронул за плечо извозчика.
— Останови-ка, братец. — Сидящему рядом Салытову он пояснил: — Надо на минутку отлучиться. Дело, понимаешь, важное, — и спрыгнул с саней.
Возвратился он лишь минут через двадцать, с пестрым, перехваченным лентой свертком.
— Надо было ребенку что-то захватить. У нее же, понимаешь, дитя. Девочка.
— У лярвы той, что ли? — рассерженно уточнил Салытов, глядя, как извозчик щелкает в воздухе кнутом.
Порфирий Петрович лишь улыбнулся.
— Ох и лютовал ты в то утро, Илья Петрович. — Он чутко глянул на поручика, румяное от мороза лицо которого не замедлило помрачнеть; даже бакенбарды как-то поникли. — Аж на весь участок слыхать было. А вот не упустил бы тогда Говорова, глядишь, и дело бы уже раскрыли.
Салытов в сердцах крепко ударил по поручню саней.
— Да сколько раз повторять: никого я не упускал! Речи о том тогда не шло! Задержан был не он. А он как раз выдал себя за потерпевшего, и выдвинул обвинение. Кто ж знал, что он так возьмет и смоется! Да мы тогда и не знали, что он за птица, этот Говоров! Вообще не знали, кто он такой! — И лишь заметив краем глаза улыбку сослуживца, Салытов понял, что над ним подтрунивают. — Да ну тебя, Порфирий! Что за человек!
— Да ладно, ладно. Я тебя и вправду сейчас разыгрывал. Хотя и неспроста. Я хочу, чтоб ты эту Лилю — лярву, как ты ее назвал, — припугнул. Да не просто, а знаешь, так, по-настоящему, от души. А затем, по моему знаку, оставил меня с ней наедине. И уж тогда я за нее возьмусь. — И Порфирий Петрович приподнял сверток с детским подарком.
— Ох, Порфирий, Порфирий. А не кажется тебе, что твои приемчики когда-нибудь на тебя самого обращены окажутся?
Следователь в ответ с непроницаемым видом улыбнулся.
* * *
В дверь квартиры Порфирий Петрович постучал размашисто, браво, в одной руке держа на отлете подарок.
— Ты меня понял? Держись построже, — с улыбкой напомнил он Салытову.
— Слушаю и повинуюсь. Только в суфлерах не нуждаемся, — сосредоточенно глядя перед собой, откликнулся тот.
— Бог ты мой, Илья Петрович! Никак на старости лет шутить вздумал? Да ты ли это?
— Да уж будь добр. — Поручик неодобрительно поежился, по-прежнему не оборачиваясь.
— Только внутри шуточек не допускай, прошу тебя. Предоставь это мне.
— Если мы вообще внутрь попадем, — угрюмо заметил поручик и загрохотал кулаком по двери. В ответ на удары тишина за дверью словно сгустилась.
— Что такое. Неужто переехали? — подождав, растерянно пробормотал следователь.
Салытов толкнул дверную ручку, которая неожиданно поддалась. Приоткрывшись, дверь уперлась в какое-то препятствие.
Тогда Салытов приналег плечом и толкнул. Незримое препятствие с той стороны сместилось по полу со звуком, напоминающим вздох.
Вслед за поручиком следователь протиснулся в комнату.
— О Господи Боже, — выдохнул он, сжимая в руках подарок.
— Случилось только что, — определил Салытов, с хищной зоркостью оглядывая царящий в квартире беспорядок. — Кровь свежая.
— Нет, не может быть! — выкрикнул Порфирий Петрович.
— Если б мы без остановки, сразу сюда проехали…
— Но как так? Как такое могло произойти? — словно самого себя растерянно спросил следователь.
Малышка Вера лежала на кровати, как и подобает спящему ребенку — калачиком, подложив ладошки под щеку. Не было лишь того, что так умиляет в спящих детях. Безмятежность истинно детского сна; черты личика, вторящие сладости бесхитростных сновидений или чуть насупленные, — все это отсутствовало. Да-да, не было лица. Лишь кровавое месиво с ошметками кожи и обломками костей — словно кто-то специально, методично изуродовал лицо ребенка до неузнаваемости.
— Господи Боже правый, — выронив сверток с подарком, Порфирий Петрович грузно качнулся, угодив спиной на дверь, отчего та сама собой захлопнулась. — Ужас-то какой…
— Хоть бы уж ее, того, во сне, — хмуро произнес Салытов. Лишь сейчас они увидели мать девочки. Лиля лежала на полу возле печи; вымокшие в крови волосы свились липкими темными кольцами. Глаза и рот были приоткрыты, словно видя и тайком изрекая имя убийцы. Рану на вид из-за обилия крови и не определишь.
Салытов, шагнув к лежащей, опустился рядом на одно колено и оглядел ей голову в том месте, где кровь стекала на пол.
— Удар, видно, пришелся в затылок, — определил он. — А затем ее перевернули. Или она сама в последний момент нашла в себе силы повернуться. Вон, по всей печи брызги. Да и на стенке. А девочка, похоже, спала. Должна была спать. Уповать будем, что спала. Дай-то Бог. Мать, должно быть, обернулась на секунду, и тут последовал удар. Причем нападавшего она знала, иначе бы не обернулась. А затем убийца подступил к девочке.
Салытов повернулся, думая разглядеть следы убийцы, и тут, крупно вздрогнув, указал на пол неподалеку от того места, где находился Порфирий Петрович.
Теперь, когда дверь захлопнулась, стало видно, что именно мешало ей открыться. У плинтуса лежала Зоя Николаевна в песцовой шубе, мех которой испачкан был кровью, струившейся из разбитой головы.
А на стенах стыдливо отводили от мерзкого зрелища глаза золоченые лики святых. Они словно боялись оскверниться, хотя это им вряд ли удалось: алые брызги и мазки сообщали тускловатым образам новую, несвойственную ранее яркость.
— Мать он убил, пока девочка спала, — рассудил Салытов. — Затем убил ребенка. А тут некстати возвратилась старуха — он и ее уложил, прямо на пороге. Она и пикнуть не успела.
— Боже мой, да что же это! — сокрушенно воскликнул Порфирий Петрович, глядя на сверток с подарком, сиротливо, будто ничком лежащий на полу. — Это все моя вина. Моя… Если б мы там не задержались…
— Откуда тебе было знать, — заметил Салытов, явно в утешение сослуживцу.
Порфирий Петрович с тихим отчаянием посмотрел на поручика.
— Кто это сделал? — спросил он беспомощно.
Тот в ответ, как бы демонстрируя выправку, расправил плечи и прикрикнул:
— Господин следователь, извольте держаться достойно! Правда, вслед за этим сам потерянно сник.
Порфирий Петрович, толкнувшись, как пьяный побрел на поручика (вид при этом такой, что и не поймешь — не то обнять собирается, не то придушить). Неожиданно свернув на полпути, он деревянным движением нагнулся и, вытянув перед собой руки, поднял с пола сверток и, похоже, что-то еще, после чего так же машинально выпрямился.
— Что у тебя там? — чуть севшим голосом спросил Салытов.
Порфирий Петрович в ответ протянул сверток с подарком.
— Да не в этой руке. В другой!
— А ты знаешь, что я ей купил? От всего сердца выбирал. — Салытов не ответил. — Нет, ты глянь!
Поручик подчинился и развернул бумагу. Внутри оказалась пара разукрашенных деревянных фигурок, барышня с гусаром — оба на лицо неказистые, но залихватски веселые.
— А в той-то руке что? — повторил Салытов, игрушки оставив без внимания.
Порфирий Петрович разжал ладонь. Там лежал стеклянный флакончик. «Настойка опия», — значилось на этикетке.
* * *
На стук открыла жена шкатулочника Кезеля. Лицо распухшее, в синяках; нос и тот смесь лилового и сине-желтого. Салытов ворвался, чуть не сбив ее с ног.
— Виргинский где? — рявкнул он, заполоняя собой, казалось, все помещение — безупречно чистое, с простой, но добротной мебелью. — Крови нет, — оглядевшись, резюмировал поручик, обращаясь невесть к кому.
Порфирий Петрович вошел более осмотрительно и, прежде чем что-то спросить, пристально посмотрел женщине в глаза, словно заранее ища там ответ.
— Его здесь нет, — безучастным голосом ответила она.
— Почему муж вас бьет? — спросил наконец следователь, похоже сам дивясь своим словам. В глазах хозяйки отразились растерянность и страх. — Были бы красавицей, если бы не побои.
— Когда Виргинский был здесь в последний раз? — проревел Салытов. — Отвечать, живо!
— Да вот только что, — отвечала женщина, глядя при этом на Порфирия Петровича, словно не в силах отвести от него взгляд. Было в его глазах что-то такое; нечто похожее на ответ ее собственным мыслям.
— В каком он был состоянии? — продолжал дознаваться Салытов. — Было ли в его поведении или внешности что-то необычное?
Женщина взглядом обратилась к следователю за пояснением.
— Может, на нем была кровь? Пришлось ли ему как-то приводить себя в порядок? Может, умываться?
Жена шкатулочника смиренно кивнула.
— Кровь на руках была.
— Только на руках? — уточнил Порфирий Петрович. — А на одежде? Может, ему пришлось переодеться?
Женщина съежилась, как в ожидании удара.
— Я не знаю, — выдавила она слезливо дрогнувшим голосом. — Да какое переодеться. У него одежды-то кот наплакал.
— Ладно, — смягчился следователь. — А вот вы мне скажите, за что вам досталось от мужа в этот раз? Может, как раз из-за Виргинского?
В глазах у женщины опять мелькнул испуг.
— Из-за самовара.
— Какого еще самовара?
— У нас самовар пропал. Стащил кто-то.
— Вы что, серьезно? — не поверил своим ушам следователь. Совмещать пропажу самовара с недавно увиденным было попросту свыше сил. За спиной нетерпеливо завозился Салытов. Встретившись с поручиком взглядом (дескать, «надо бы к негодяю в комнату заглянуть»), он одобрительно кивнул, между тем уточнив:
— То есть он избил вас из-за того, что кто-то стащил самовар? На следователя нахлынула вдруг такая ярость, что, казалось, приди сейчас этот самый Кезель, так и разорвал бы его в клочья. Или, как минимум, задушил.
От охватившего омерзения самому сделалось тошно. Причем следом нахлынул приступ безумной, с истерикой граничащей веселости.
— А кто, по-вашему, мог это сделать? — спросил Порфирий Петрович, отчаянно борясь с тем, чтобы не расхохотаться во все горло.
Женщина лишь покачала головой.
Порфирий Петрович прикрыл глаза. Перед внутренним взором всплыл образ забрызганных кровью икон.
— Ну а муж ваш кого подозревает?
Вот Веронька играет в снегу со сверстниками — только личико разбито в кровавую кашу. Вот она подбегает к нему, пытается что-то сказать — но носика нет, а вместо рта кровавая дыра, потому и слов не выходит, а лишь изливается кровяная слизь.
Распахнув глаза, Порфирий Петрович вперился в ссадины на лице жены Кезеля. Страдалица. Так и хотелось потянуться сейчас к ее лицу, утешить, погладить…
— Пал Палыча, — отозвалась она наконец.
— Значит, все же его, — вздохнул следователь. — И как вы считаете, он прав в своей догадке?
Женщина молча потупилась.
— А ведь кражи не было, не так ли? Вы сами отдали ему тот самовар. Позволили его унести, даром что знали, что муж непременно спохватится — а как же иначе — и потом выместит на вас всю свою злость. Дорогая моя, да вы любите Виргинского почти так же, как ненавидите себя.
— Почему себя, — ответила она твердо, — я мужа своего ненавижу.
— Ох уж да. Как всякий добропорядочный мещанин, он любит почаевничать. А потому какой еще может быть способ с ним, деспотом, поквитаться, как не отдать самовар — эту святыню домашнего очага. А скажите, что Павел Павлович намеревался делать с тем самоваром?
— Он его заложил. Обещал, что вернет. Да он как раз за ним и побежал. Едва лишь увидел, как со мной супруг мой разделался.
— Так он направился к процентщику?
Из каморки Виргинского появился Салытов.
— Я там еще флаконы из-под опийной настойки обнаружил, целых несколько. И вот что еще.
Он протянул Порфирию Петровичу наспех накорябанную записку.
Отец,
Я твой сын. Теперь я это ясно вижу и, увы, не могу отрицать. Я такое же гнусное, низкое и преступное создание, что и ты. Оказалось, что я способен на самые мерзкие злодеяния, какие только можно вообразить. И ненавижу теперь себя даже больше, чем когда-то ненавидел тебя. Я не могу более уживаться с тем, чем я стал, — преступником и подлым трусом. Я собираюсь броситься куда-нибудь под поезд или хотя бы под лошадь (это становится модным у нас в России, ха-ха). По крайней мере, так я обрету свободу от тебя, а ты от меня.
Но как ты смел поднимать на нее руку? Как смел на нее посягать?
Весь в тебя — твой сын Павел.
* * *
Сипловатый, будто спросонья, звонок недовольно звякнул, когда Салытов распахнул дверь в лавку процентщика Лямхи. Так уж сложилось, что теперь всюду первым проникал поручик, и лишь за ним втягивался следователь. Помня предыдущую встречу с хозяином лавки, Порфирий Петрович внутренне напрягся.
В прошлый раз подержанные предметы вокруг вселяли невольный соблазн, облекая флером некоей таинственности. Некоторые он, помнится, пробовал даже на ощупь. Подспудный драматизм их участи и тот казался романтичным — так сказать, скорее грел, а не жег. Теперь же здешняя атмосфера казалась поистине удушающей. Все эти безучастные на вид предметы были воплощением отчаяния. Да, именно отчаяние — вот из чего они были изваяны, а не из фарфора, меди или бронзы. И веяло от них чем-то непередаваемо зловещим.
Хозяина за прилавком Порфирий Петрович тут же узнал; как, впрочем, и он его — ишь как сразу нахохлился.
— Илья Петрович, — тронув сослуживца за плечо, обратился следователь вполголоса, — дай-ка я сам с ним поговорю.
— Ну давай. Какая разница, — так же вполголоса буркнул в ответ Салытов.
Обогнув дюжего поручика, Порфирий Петрович подошел к прилавку. Хозяин, затаившись, ждал.
— Вы меня, я полагаю, помните, — обратился следователь.
— Ну. — Лямха кивнул.
— В прошлый раз мы здесь толковали о некоем студенте Виргинском. Вы его, часом, не видели? Я имею в виду, недавно.
— Вчера приходил, — не глядя в глаза, ответил процентщик.
— Видимо, заложить самовар?
— Именно. — В глазах у Лямхи мелькнуло удивление от такой осведомленности.
— А сегодня он не объявлялся, буквально недавно, чтоб его выкупить?
— Нет. Только вчера и приходил.
— Может, дело было в ваше отсутствие и вы просто не знаете?
— Да почему. Вон он, тот самовар. Он его и не выкупал.
— Где? Будьте любезны, покажите.
Лямха кивком указал куда-то поверх головы следователя. Порфирий Петрович обернулся — ага, вот она, полка с самоварами.
— Вон там, крайний справа.
Порфирий Петрович невольно поморщился, увидев, из-за какого невзрачного, по сути, предмета досталось жене Кезеля от супруга. На такой мало кто и позарится. Хоть бы уж надраен был.
Порфирий Петрович без слов повернулся и, махнув рукой Салытову, двинулся к выходу.
* * *
Миновав гулко шумящую галерею Апраксина двора, они вошли в суматошную пестроту блошиного рынка. Перекрывая прочие запахи, всюду царил аромат хвои и мятных пряников. Есть вдруг захотелось так, что под ложечкой засосало.
— Ну а теперь что? — спросил Салытов.
— Теперь? Постоим здесь. Понаблюдаем.
— Думаешь, он сюда придет? Порфирий Петрович пожал плечами.
— Если не придет, то хотя бы здесь пройдет. Правда, если у него есть деньги, чтобы выкупить самовар.
— А что. Может, он как раз у них деньги и взял. За ними, возможно, и вламывался.
— Не думаю, — резко, даже сердито бросил в ответ следователь. — Деньги он, может, и взял, но вламываться не вламывался. Здесь не в деньгах дело.
— Ну, тебе видней. А мне-то чем сейчас заняться?
— Ступай-ка, брат, в участок. Жди меня там. Поручик в нерешительности замялся.
— Он же, слушай, опасен быть может, — засомневался Салытов. — Ты его попробуешь задержать, а он…
— Задерживать его я не собираюсь. Мне с ним просто поговорить надо.
— Так его ж нельзя упускать!
— Попробую уговорить его сдаться.
— Нет, я остаюсь с тобой, — определился с выбором Салытов.
— В самом деле, Илья Петрович. Не надо, — слабо улыбнулся следователь. — Он здесь ничего такого не устроит. Глянь, сколько вокруг народу. — Порфирий Петрович мельком кивнул на людскую толчею.
— А не ровен час, запаникует? Кто знает, чего от них, блажных, ожидать.
— Это во всяком случае не он. Не злоумышленник. Я глаза его видел. Не он убийца.
— Да откуда ты знаешь! Следователь еще раз покачал головой.
— Говорю тебе, не он. Ну подумай: разве убийца мог бы так принять к сердцу синяки той бедолаги, жены шкатулочника?
— У него кровь на руках была! А записка! Это ж прямо-таки исповедь!
— Никакая это не исповедь. Во всяком случае, не в убийстве. Может, в каком-то другом преступлении. В той же краже самовара. В том, что из-за него досталось Кезелевой жене.
— Тогда объясни, как там оказался флакон из-под опия.
— Получается, он там был! — уже не сказал, а почти выкрикнул Порфирий Петрович. — Но ведь и мы там были!
— Мы! У нас на то причина была, веская.
— Иди давай, — потеряв наконец терпение, скомандовал Порфирий Петрович.
Салытов еще немного потоптался, с тяжким вздохом кивнул и, махнув рукой, побрел восвояси.
* * *
Неподалеку от лавки Лямхи располагался книжный ряд. Порфирий Петрович примостился там сбоку под навесом, чтобы, находясь вне поля зрения, наблюдать, кто к процентщику заходит и выходит. А сам для виду перебирал книги, вдыхая дразнящий запах свежей выпечки (книготорговец сейчас как раз закусывал).
Четкого плана действий, честно сказать, не было. Более того, трудно было избавиться от ощущения, что все сейчас делается понапрасну. Но надо было как-то действовать. По крайней мере, он сейчас не стоял без дела, а наблюдал — и то ладно. Хотя исподволь чувствовалось: торчать здесь да ждать у моря погоды — тоже не выход.
Прошел примерно час. Порфирий Петрович уже не столько наблюдал, сколько раздраженно прикидывал, маячить ли здесь еще или уж бросить это зряшное занятие. Машинально примеряя к прохожим приметы Виргинского, он уже понемногу склонялся к последнему. В самом деле, пора заканчивать. Первоначальное ощущение оправданности собственных действий мало-помалу развеивалось. На месте удерживало не столько оно, сколько тягостная мысль: что же теперь?
В руках он машинально вертел очередную книгу. Раскрыл, для виду полистал, на страницы толком и не глядя.
— Ну так берете, наконец, или нет? — спросил раздраженно торговец. Видно было, что этот бездумно слоняющийся господин ему изрядно надоел. Порфирий Петрович кивнул.
— Беру.
— Гривенник благоволите.
Порфирий Петрович протянул монету и взял покупку, на название книги даже не взглянув. «Вот ведь вздор. Торчу здесь как болван. Да и вообще все никуда не годится».
Глянув напоследок на лавку процентщика, он заметил, как к ее двери приближается рослый худощавый человек. Что-то в его угловатой фигуре показалось смутно знакомым. Прежде чем войти, человек бегло оглянулся через плечо. Узкое бледное лицо, тонкие сжатые губы, льдисто-серые глаза… Все, вспомнилось.
— Порфирий Петрович! — послышалось в этот момент на расстоянии, да так громко, что несколько прохожих обернулось. Ну конечно Салытов, кто же еще — мчится, аж полы развеваются.
— Чшшш! — Следователь бдительно вскинул руку. Поручик, запыхавшись, остановился в паре шагов.
— Уфф! Срочно, Порфирий Петрович. Уж я бегом бежал, чтоб известить. Слава богу, застал. Мне тут нарочного прислали: студент под колеса попал, на Казанском мосту.
— Как! Неужто Виргинский?
— Пока точно не знаю. Голову ему копытом размозжило. А вообще по приметам вроде совпадает.
Порфирий Петрович в растерянности смотрел на дверь лавки.
— Бред какой-то, — пробормотал он. — Никакой логики.
— Я сейчас туда, — сообщил поручик и, сощурясь как на солнце (которого в полумраке галереи и в помине не было), тоже посмотрел на дверь лавки. — Ты со мной или как?
Над дверью процентщика снова звякнул колокольчик.
— Смотри, — указал следователь на выходящую оттуда угловатую фигуру. — Узнаёшь?
— А то, — уверенно сказал Салытов. — Как его там: Вадим Васильевич?
— Он самый, — кивнул Порфирий Петрович. — И что это он там, интересно, выносит?
А выносил Вадим Васильевич узорчатую золотистую шкатулку, бережно держа ее перед собой, как какую-нибудь раненую птицу.
Видеть секретаря издательства возле лавки процентщика было безусловно странно. Оттого ум Порфирия Петровича заработал с удвоенной энергией, выстраивая умозаключения.
— Книги, — вдумчиво помолчав, произнес наконец он. — Ну да, конечно. Все сокрыто в книгах.
Азартно блестя глазами, он вслед за Салытовым заспешил через рынок в сторону Невского.
* * *
День был погожий, хотя и морозный. В лучах зимнего солнца город поблескивал, как лезвие клинка.
По дороге к Казанскому мосту Порфирий Петрович временами задумчиво замедлял шаг, что безусловно сказывалось на скорости хода. Салытов то и дело был вынужден останавливаться и ждать, досадливо теребя ус. Затем, дождавшись сослуживца, нервно кивал и брался снова задавать темп, хотя и тщетно. Оба молчали.
Казанский мост крутой дугой всходил над Екатерининским каналом. Уже на подходе стали видны спины сгрудившейся на проезжей части стайки зевак (некоторые из них поминутно теряли равновесие — что поделаешь, наледь, да еще и спуск). На зевак покрикивал городовой, но расходиться те упорно отказывались. Все взгляды были обращены в некую точку, пока еще скрытую подъемом моста. Еще один полицейский направлял в обход транспорт.
Сбоку на мосту черепахой застыл приватный экипаж с приспособленными под зиму колесами. Холеные рысаки, всхрапывая, нетерпеливо перебирали копытами, словно возмущаясь этой внезапной остановкой. Кучер на козлах (в ливрее) демонстративно прикладывался к шкалику, изображая полное презрение к происходящему. А в экипаже, за затемненными стеклами, бесстрастным истуканом восседала фигура пассажира.
Едва шагнув на мост, Порфирий Петрович тут же поскользнулся на наледи — если б не твердая рука Салытова, непременно бы шлепнулся. (Впрочем, заподозрить поручика в заботливости было бы сложно. Руку он тут же убрал — дескать, кати себе дальше на свой страх и риск.)
Вклинившись наконец в кольцо зевак, следователь ощутил, что вместе эту стаю удерживает не одно лишь праздное любопытство. Хищное, до непристойности жадное злорадство читалось на их лицах. Люд в основном был бедный — разномастная челядь, прачки, чернорабочие — сермяги, зипуны да полушалки, дрожащие на морозном ветру. Однако сейчас они — хотя бы на время — словно отрешились от бремени собственной приниженности, созерцая участь того, кому повезло еще меньше. В их глазах читалось некое единение, даже, можно сказать, сплоченность. И хотя пострадавший был им совершенно незнаком, смерть делала его для них своим, а на экипаж они поглядывали со скрытой, трусоватой враждебностью — дескать, «погодите, настанет и наше время». И еще одно читалось в их глазах — то, что они все старались, но не могли скрыть. Это победа, извечная победа живого над мертвым; немое торжество, что сплачивает оставшихся в живых, превозмогая в них даже жалость к умершим.
Проталкиваться сквозь сомкнутые спины и плечи зевак оказалось делом достаточно непростым. Пробившись первым, Салытов о чем-то негромко перемолвился с городовым, который, судя по виду, разом и обрадовался и удивился этому нежданному подкреплению.
— Ну прям как собаки, ваш бла'ародь, — разводя руками, оправдывался он перед поручиком, — лезут и лезут!
Детали происшествия Салытов выяснял у остановленного полицейским свидетеля — кавалерийского офицера, некстати оказавшегося в тот момент на мосту. Звание и выправка придавали его показаниям дополнительную весомость, причем заметно было, что двое военных (один, правда, бывший) сразу же нашли меж собой общий язык. Офицер излагал детали четко и неспешно, не впадая в эмоции и в то же время без скучливости. Видно было, что ему и самому доводилось бывать в переделках, и потому к стражам порядка он относился с должным уважением. Судя по всему, лошади у него вызывали больше сочувствия, чем угодивший под них растяпа.
За офицером Порфирий Петрович наблюдал лишь краем глаза. Большее внимание привлекала сидящая в экипаже фигура. Постепенно он приблизился к этому непроницаемому на вид, глянцевито поблескивающему коробу на колесах. Мрачная сцена на мосту во всей полноте отражалась в его затемненных стеклах, из-за которых сидящий внутри пассажир казался недосягаемым. Порфирий Петрович, вглядевшись, различил закутанную в меха юную особу лет двадцати. На фоне мехов ее красивое, с тонкими чертами лицо смотрелось подчеркнуто надменно. Особа, шевельнувшись, отреагировала взглядом на взгляд: величавое презрение к нахальной черни, смеющей беспокоить знатных персон по пустякам.
На мгновение пронзило острое желание выволочь эту спесивую аристократку из экипажа и силой подтащить к погибшему по ее вине человеку. Хотя какое там. И следователь, задумчиво накренив голову, взялся рассматривать украшенный листьями фамильный герб на дверце экипажа. Вслед за чем повернулся и зашагал непосредственно к месту происшествия, решимостью движений будто компенсируя потерянное попусту время.
Первым делом взгляд остановился на голове, напоминающей раздавленную тыкву. Снег успел впитать в себя крошево из костей, мозгов и волос. Глядя расширенными глазами на эту набрякшую грязно-розовую массу, следователь машинально пытался сопоставить ее с чертами лица Виргинского — занятие заведомо бесполезное. Затем взгляд сам собой перешел на встопорщенное, словно соломой набитое туловище, из которого под немыслимыми углами торчали словно наспех кем-то уложенные конечности. Не тело, а небрежно собранный конструктор, на котором не к месту смотрелась даже черная студенческая шинель.
А возле шинели валялся бурый заношенный башмак — треснутый верх, истертая подошва.
Сердце учащенно забилось. Стыдно стало собственного облегчения: «Кажется, не он». Вот был человек, и нет его. Низведен нищетой и отчаяньем. А то и просто алкогольным или наркотическим дурманом, что в принципе одно и то же. А ведь заслуживал лучшей доли.
Неожиданно с безоблачного неба пошел снег.
Повернувшись к мертвецу спиной, Порфирий Петрович размашисто зашагал прочь. Теперь поспевать пришлось уже Салытову.
Глава 25 ДИКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Весело манили яркие вывески винных, конфетных и деликатесных лавок, расположенных вдоль Невского. Непроизвольный восторг охватывал при виде всех этих фруктов, окороков и пирожных, картинно выставленных в витринах. Зайти б сейчас в какую-нибудь кондитерскую и сидеть там день деньской.
Но нет. Путь сейчас лежал к трехэтажному зданию, что на углу Невского и Большой Конюшенной, через дорогу от лютеранской церкви.
От услуг говорливого швейцара Порфирий Петрович на этот раз отказался и в издательство «Афина» поднялся сам.
Стукнув разок в дверь, он, не дожидаясь ответа, вошел, знаком указав Салытову дожидаться снаружи. Серебристо сверкнул из-за стола очками Осип Максимович Симонов — одет, как всегда, безупречно; борода ухожена, шевелюра пышная, напоминает чем-то античный шлем. В общем, презентабельный мужчина.
— Позвольте присесть? — учтиво, с поклоном спросил Порфирий Петрович.
Осип Максимович несколько натянуто кивнул. Сев напротив, Порфирий Петрович с задумчивой пристальностью посмотрел на хозяина кабинета.
— Н-да… Хотелось бы узнать вас поближе, Осип Максимович. У нас с вами, я чувствую, много общего.
— Разве?
— Безусловно. Я ведь, честно сказать, тоже в семинарии обучался.
— Вот как? Я и не знал.
— А разве не видно?
— Да я как-то не обращал внимания.
— Не забуду своих наставников-монахов, обучавших меня.
— Да, такое не забывается.
— Иногда вот думаю, а помнят ли они меня. Осип Максимович невнятно пожал плечами.
— Иногда так хочется, чтобы помнили, — продолжал Порфирий Петрович.
— Вы, должно быть, были запоминающимся учеником.
— Может, оно и так, да сколько лет уж прошло. Я с той поры вырос, так сказать возмужал. А потому признают ли они во мне теперешнем тогдашнего ребенка?
— Почему бы и нет. Хотя кто знает. Знаете ли, Порфирий Петрович, я сейчас крайне…
— Никогда не забуду, чему они меня учили.
— Что ж, значит, учение не прошло даром.
— Да я больше о нравственном.
— И я о том же. — Судя по натянутой улыбке, беседа Осипа Максимовича начинала тяготить.
— Вы вот в душу верите, Осип Максимович?
— Вы же знаете, что я верующий.
— Да? Тогда мне за вас боязно.
— Напрасно.
— А вот мой друг Павел Павлович Виргинский, например, утверждает, что ни в какую душу не верит.
— Весьма странно, что вы эдакого человека другом называете.
— Вот как? Отчего же?
— О-о. — Осип Максимович откинулся в кресле. — Мне о господине Виргинском много что известно. Например, о его пристрастии к опию. И привычке красть у людей вещи, отдавая их затем в заклад. И о насквозь богохульном контракте, что он на пьяную голову подписал с Горянщиковым.
— В самом деле?
— В самом деле. Мне Горянщиков его показывал.
— Интереснейший документ, не правда ли?
— Такой человек на что угодно способен.
— Это почему же?
— Да потому, что у него действительно нет души. Он заложил ее другому. Впрочем, такому же безбожнику.
— Но если вы не верите в существование души — как, скажем, Виргинский, — то логически получается, что вы не верите и в силу контракта, — рассудил Порфирий Петрович. — И бумага эта совершенно не имеет смысла. Смысл она имеет лишь для того, кто верует. В душу, я имею в виду.
— Думаю, вы правы.
— Как, кстати, поживает Анна Александровна? — неожиданно спросил Порфирий Петрович.
— Очень даже неплохо. — Осип Максимович снял очки и даже улыбнулся. — Мы же, знаете, думаем с ней пожениться. Вот уж и помолвка объявлена, как раз на Новый год.
— Ах вот оно что. — Следователь вздохнул. — Что ж. Теперь я вижу, что за всем этим стоите именно вы. Вы все и совершили. Убрали всех поочередно. Вначале Горянщикова. За ним Тихона, потом Говорова. А там и Лилю с Зоей Николаевной. Даже Вероньку не пощадили. Всех на тот свет отправили, душевнейший Осип Максимович. Я лишь раздумывал о мотиве убийства, ан вы мне его сами и изложили.
Осип Максимович сидел с совершенно непроницаемым видом, даже удивления на лице не изобразив.
— Вздор, — фыркнул он, водружая очки на переносицу. — А впрочем, скажите, как у вас сложилась эта нелепая версия? Любопытно.
— Извольте. Начнем с Тихона.
— Почему именно с него?
— Потому что он и положил начало моим подозрениям. Ведь он не сам повесился. Кто-то ему в этом поспособствовал. Воротник его шинели был пропитан машинным маслом. Откуда, казалось бы? Это я понял, когда наведался сюда в первый раз. Тут у вас в первом этаже, оказывается, лавка механических изделий. Так и есть! Кто-то, должно быть, вздернул его, тяжеленного, с помощью тали. Проще говоря, блока со шкивом. А потому веревку с петлей вы вначале обмотали вокруг сука, а через ту петлю продели еще одну веревку, один конец которой прикреплен был к тали, принайтовленной для верности к соседней березе. Другим концом вы обвязали Тихона вокруг пояса. Он, кстати, на тот момент все еще был жив, хотя и умирал уже от отравленной водки, которую вы ему подсунули. То, что он был еще жив, мы установили по опоясывающему его характерному рубцу. Возможно, вы тогда уже накинули Тихону на шею удавку, но еще не затянули. И когда подняли его на достаточную высоту, то обвязали ее вокруг сука. Затем обмотанный вокруг Тихона конец вы развязали, а ту веревку с петлей попросту перерубили его же топором. На коре от этого осталась зарубка, которая, надо признаться, некоторое время сбивала нас с толку. И вот наконец Тихон, даром что мертвый, висит, как положено удавленнику. Кровь у него к тому моменту уже перестала циркулировать, потому на шее не осталось кровоподтека, свойственного обычным повешенным.
— Но вы не объяснили, зачем мне вообще понадобилось, как вы выразились, вешать бедного Тихона.
— А вам, кстати, не столько его смерть была нужна, сколько смерть Горянщикова. Тихон — это так, для отвода глаз, чтоб было на кого свалить вину. Сам бы он, разумеется, на это не пошел. Вот вы и сымитировали картину самоубийства: дескать, совесть заела от убийства несчастного Степан Сергеича.
— Интересный вымысел. А я, надо сказать, люблю собирать интересные теории. Они меня занимают. Так что я вас вначале выслушаю, и лишь затем начну опровергать.
— Как вам угодно, — кивнул Порфирий Петрович. — Умертвить Горянищикова вы хотели потому, что он знал одну вашу тайну. А впрочем, почему одну — их было несколько. Первая состояла в том, что вы, Осип Максимович, как бы едины в двух лицах — и как «Афина» и как «Приап». То есть издаете разом и почтенные философские труды, и грязные порнографические историйки. Горянщиков это знал, поскольку был задействован у вас и в том и в другом лице. Об этом свидетельствует одна из цитат, которую он самопроизвольно внес в перевод философского текста: «И да разве не возлежал Алкивиад с Сократом под одним плащом, и не держал в похотливых своих объятиях сего благого мужа?» «Алкивиад», стало быть, — это псевдоним Горянщикова в переводах порнографии, а Сократ — просто одно из почтенных имен, фигурирующих в изданиях «Афины».
— Ну полно. Меня весь этот нонсенс, признаться, порядком утомил. Так что давайте взглянем на факты. Убийцей Тихона или Горяншикова, Порфирий Петрович, я не могу являться уже потому, что я на тот момент находился за полтыщи верст отсюда, в Оптиной пустыни. Если б вы как-то потрудились проверить мое алиби, то не тратили бы сейчас понапрасну время, излагая мне все эти нелепые и совершенно необоснованные доводы.
— А я, кстати, как раз потрудился. У меня всегда вызывают подозрение люди, стремящиеся обеспечить себе алиби прежде, чем их в чем-либо обвинят — как вас, в данном случае. А потому человек от следственного управления в Калуге был своевременно отряжен на аудиенцию с отцом Амвросием, царствие ему небесное. И по счастью, был им принят и все от него узнал, прежде чем тот преставился.
— Вот как? В этом не было никакой необходимости. Достаточно было просто свериться с книгой учета паломников в обители. Зачем было беспокоить святого старца.
— А мне, знаете, хотелось услышать это именно из уст отца Амвросия. В конце концов, почитаемый старец был вашим наставником по семинарии, не так ли?
— И что? — спросил Осип Максимович несколько севшим голосом.
— По счастью, посланный нами за сведениями человек отнесся к своим обязанностям самым тщательным образом. И все, что узнал от отца Амвросия, передал нам дословно.
— Что же именно?
— Что «был кто-то под таким именем».
— Ну вот, сами видите.
— А вам не кажется, что фраза эта кое на что намекает? Лично мне она намекает, что он ожидал увидеть иного Осипа Симонова, а не того, что предстал перед ним. Уж во всяком случае, старик наставник не удостоил бы такой уничижительной фразы своего бывшего воспитанника.
— Но ведь я лично отбыл в пустынь, на московском поезде. У меня и подтверждение тому есть: Вадим Васильевич меня провожал.
— Выйти из пункта А — еще не значит прибыть в пункт Б. На московский поезд вы, должно быть, действительно сели, но это лишь в начале пути. А затем сошли на ближайшей станции, в Тосно. Во время же поездки вы поменялись багажом с неким актером по фамилии Ратазяев. Который затем отправился в пустынь вместо вас и морочил там старца. Стыдно, Осип Максимович!
— Интересно, с какой стати тому актеру было все это проделывать?
— А с такой, что вы к той поре крепко взяли его за горло. Вы знали о его уранических наклонностях — проще говоря, что он гомосексуалист. А у нас содомия карается ссылкой в каторжные работы, с полным лишением гражданских прав. Разумеется, среди своих, в кулуарах, эту деликатность можно и замять. Но если дело предать огласке и довести до суда… Чем вы ему и пригрозили.
— Между прочим, где он, этот Ратазяев? Он что, подтвердил все это лично? Если так, то он бессовестный лжец.
— Честно сказать, Ратазяева мы пока не нашли.
— Вот! Вот в чем для вас разом и плюс и минус. Плюс в том, что это позволяет вам вставлять этот персонаж в любое место вашего неразгаданного ребуса. А минус — который, кстати, перевешивает этот плюс стократ — что ваши обвинения абсолютно бездоказательны.
— Позвольте мне продолжить. Сойдя в Тосно — где вас, кстати, случайно заметил, э-э… милый друг Ратазяева князь Быков, вы первым же обратным поездом возвратились в Петербург. Далее под именем Говорова вы сняли номер в гостинице «Адрианополь». Этот самый Говоров был вашим агентом, известным Горянщикову. Из гостиницы вы отправили Горянщикову с посыльным записку, завлекая его тем самым в гостиницу, якобы для встречи с Говоровым. У посыльного было и еще одно задание: передать некое любовное послание — поддельное — от одной дамы. Да чего скрывать — от Анны Александровны. В том послании Тихона той же ночью просили прийти в Петровский парк. В номере гостиницы вы разделались с Горянщиковым, удушив его подушкой. Тело запихали в ратазяевский чемодан, предусмотрительно приказав артисту, чтобы чемодан был пуст. Поскольку в своей шубе Горянщиков в чемодан не умещался, вы ее зашили в матрасе. Консьержу вы просто сказали, что господин Горянщиков будет занимать номер вместо вас, а чтобы хватились не сразу, заплатили им авансом за неделю вперед. Хотя спохватываться те сонные тетери особо и не собирались. Правда, малолетний посыльный что-то заподозрил — нуда ладно. Чемодан вы унесли в Петровский парк, на ночное рандеву с Тихоном. Тот, разумеется, ожидал увидеть Анну Александровну и, мягко говоря, удивился. И состоялся, как я представляю, примерно следующий диалог:
«А где же Анна Александровна?»
Вы ему: «Она прийти не смогла. Вместо этого прислала меня».
«Вас? В эдакое место?»
— Па-апрашу! — побагровев, рявкнул Осип Максимович.
— А что, не так разве было?
— Прекратите этот фарс!
— А вы посмотрели на Тихона — проницательно так, вы это умеете — и сказали: «Тихон. Анна Александровна очень просит тебя помочь». На что он, я представляю, не задумываясь, истово так сказал: «Да я за нее Богу душу отдам!»
Осип Максимович сердито отвернулся.
— Ну что, вырисовывается потихоньку? — поинтересовался Порфирий Петрович.
Собеседник точно таким же жестом повернулся обратно и мотнул головой.
— Ну так вот, — продолжал следователь. — И вот вы ему, сразу или чуть погодя, открываете чемодан и показываете его содержимое. То есть бездыханное тело Степан Сергеича Горянщикова. Которого Тихон, кстати сказать, ох как недолюбливал. И рассказываете ему, Тихону, какие домогательства терпела Анна Александровна от этого гнусного карлика и как похотливо он последнее время поглядывал на Софью Сергеевну — подумать, совсем еще ребенка! И наконец, раскрываете отчаянный замысел якобы Анны Александровны насчет того, чтоб избавиться от этого урода-сатаноида, прежде чем тот совершит какое-нибудь злодеяние, еще более страшное.
Тихон, охваченный ужасом, поспешно соглашается — дескать, пособлю, непременно пособлю! А вы ему: «Мы все представим как самоубийство. Помоги-ка мне обвязать вокруг этой березы веревку. Так. Я тебе на плечи встану, а ты меня подсади. Вот и славно. Ты не беспокойся, я знаю, что делаю. Теперь меня опускай. Тихон, голубчик, да ты весь дрожишь! На-ка вот, хлебни водочки. Я как раз шкалик припас». А когда он из дружеских чувств — знаете, как это у сообщников, — предлагает приложиться и вам, вы деликатно отказываетесь: «Нет, не сейчас. Одному из нас надо иметь ясную голову, следы замести». Я полагаю, что-то вроде этого? А, Осип Максимович?
— Что?! И все это из-за того, что я опубликовал какую-то пару скабрезных книжонок?
— Нет, вовсе не из-за этого. Я сейчас как раз приближаюсь к главному. Позволите продолжить?
— Вы ничего не докажете, — опечаленный будто именно этим, ответил Осип Максимович.
— Итак, вот бедняга Тихон уже и висит. Вы же, его топором, тюк Горянщикова по голове! И сунули орудие убийства дворнику за пояс. А тем временем истинному Говорову, Константин Кириллычу, вы поручили скомпрометировать Лилю. Для чего? Чтобы убрать ее подальше. Скажем, куда-нибудь в ссылку, в Сибирь. Вместе с малолетней дочкой. Вы ведь этого хотели? Но к несчастью для Лили с Веронькой, у Говорова этого не получилось.
— Вообще не возьму в толк, о чем вы. Что еще за Лиля?
— Да знаете вы. Проститутка. Она ею стала, но была таковой отнюдь не всегда. Родом она из вполне добропорядочной семьи. Впрочем, к этому мы еще вернемся. Итак, Говорова вы убили, поскольку он был вашим детищем. Не просто распространителем тех порнографических изданий. Это он нашел для вас Ратазяева. Ему вы поручили избавиться от Лили. Но, как и все слуги, он знал про своего хозяина слишком много. Во всяком случае, достаточно, чтобы вас низвергнуть. Возможно, он начал вас шантажировать. Или же просто перестал вас устраивать, так как проваливал ваши задания. Несомненно, вам было досадно брать на себя устранение Лили и ее ребенка. Но вам необходимо было уничтожить свидетельство своего более раннего преступления. Я имею в виду совращение Лили, которую вы изнасиловали. А потому вы ее убили. А с ней и ее дочь, Вероньку. Точнее, вашу общую дочь. Да-да, Осип Максимович, отец этого ребенка — именно вы. Можете отрицать, но это прослеживается даже в ваших чертах. В частности, нос — что у вас, что у девочки на кончике носа есть характерная ложбинка. Точнее, была. Это я о ребенке: у девочки от носика ничего теперь не осталось.
— Знать бы еще, о чем вы говорите.
— И все это, кстати, так или иначе фигурирует в тексте у Горянщикова. Вы являетесь основателем издательства «Афина». Скажем так, отцом Афины — или Минервы, как ее именовали римляне. Как указывает Горянщиков, ссылаясь на внебрачных детей Юпитера, отец Минервы является и отцом Фидес. Имя, которое на русский переводится как Вера.
— Ну и аргументы у вас — один фантастичней другого. А стоит один лишь убрать, как все построение рушится будто карточный домик.
— Тем не менее согласитесь, интересное совпадение: в желтом билете у Лили значится фамилия Семенова. Очень созвучно Симонову, вы не находите? В каком-то смысле она, вероятно, считала себя кем-то вроде вашей внебрачной жены, что отразилось даже на схожести фамилии. Ведь не кто иной, как вы, ее совратил, лишил чести.
— А может, это просто ее фамилия. Действительно, совпадение.
— Я научился не доверять совпадениям.
— Всё-то вы пальцем в небо тычете! Да даже если все обстоит действительно так — с чем я ни в коей мере не согласен, — вы все равно ни слова не докажете! И вообще: в чем здесь по большому счету мой мотив?
— Мотив? Поддержать свою респектабельность. Вещь тем более существенная с той поры, как вы стали вынашивать план жениться на Анне Александровне.
— Ну и выраженьица у вас. «Вынашивать план»!
— Именно план. Поскольку сама женитьба на этой женщине сопряжена у вас с тайным умыслом. Вы ведь женитесь на ней не по любви, а потому, что у нее есть нечто, чего вы втайне вожделеете.
— Денег мне от нее не надо.
— А я не о деньгах. Впрочем, об этом после. Итак, о ваших отношениях с Лилей узнаёт Горянщиков — от нее самой, поскольку является ее клиентом. Он приходит к вам, и между вами разгорается ссора. Возможно, он даже требует от вас для нее отступных — жест, свойственный свободомыслящей натуре, полной нынешних либеральных идей; в частности, о несправедливости общественных устоев, жертвой которых он, между прочим, считает и себя. Возможно, он вам тогда даже пригрозил выложить всю эту историю Анне Александровне. А именно что вы обесчестили Лилю — или, если угодно, «соблазнили». Во всяком случае, позабавились и бросили. Когда обнаружилось, что она беременна, вы заявили, что вы здесь ни при чем. После этого семья ее отвергла. Что, помолвка?! Какая помолвка может быть с беременной! К вам никаких претензий не возникло. Вам, добропорядочному жениху, была обещана девственница — и где она? Гляньте-ка на эту распутницу! Лилю же тогда слушать никто, разумеется, не стал — если у нее вообще хватило духу рассказать, как все было на самом деле. И вот теперь этот самый пигмей Горянщиков грозится раскрыть все Анне Александровне. В своем воображении вы рисуете жуткие картины последствий. Этого нельзя допустить. А вдруг этот склочник возьмет да и выложит, что вы порнограф, — даром что, согласимся, это попросту меркнет в сравнении с другими вашими неприглядными деяниями. Да прознай Анна Александровна о вас правду, разгляди в истинном свете — захотелось бы ей по-прежнему вступать с вами в брак? Сомневаюсь. А расторгни она помолвку, вы бы, Осип Максимович, думаю, безмерно огорчились.
— Боже мой! Что вы такое несете? Да, я бы безусловно огорчился. Но почему вы говорите исключительно… о низменном?
— И ведь на Анне Александровне вы женитесь не ради нее самой — ради ее дочери. Вот почему Горянщиков между строк упоминает: Отец Веры станет разрушителем Мудрости. Вера — буквальный перевод латинского Фидес. Как мы уже уяснили, речь идет о Вероньке, Лилиной дочери; вашей дочери. Что же касается Мудрости, то здесь безусловно подразумевается имя София, Софья. Горянщиков ясно дает понять, что вы представляете угрозу для юной Софьи Сергеевны. Вы любитель молоденьких девушек, не так ли, Осип Максимович? Это, кстати, заметно и по характеру фотографий, что изготавливал для вас Говоров. Он даже и Лилю по вашему указанию отснял — даже после всего того, что между вами было. Хотя к той поре она, должно быть, уже утратила в ваших глазах былое очарование. Ох и баловник же вы, Осип Максимович! Собеседник промолчал.
— Однако вы правы, — помолчав, сказал Порфирий Петрович. — Доказать я все это не могу. Это у нас так, просто беседа двух семинаристов, причем бывших. Я позволил себе несколько увлечься. Дикие, понимаете ли, предположения. Так что оставайтесь вы на свободе. Да и убийца, кстати, найден. Причем такой, с каким нет хлопот, поскольку он уже мертв. Видите, как вам опять повезло — это при условии, что все, о чем я сейчас говорил, правда. Павел Павлович Виргинский написал прощальную записку, смысл которой в том, что он фактически сознается в убийстве. А на месте последнего по счету преступления найден такой же флакончик из-под опийной настойки, что и у него в комнате. К тому же и кровь у него, по словам свидетелей, на руках была. Так что вы поступили прозорливо, сменив свой метод — я имею в виду, в последних тех убийствах. Пустили в ход топор. Орудие не благородного человека, но простолюдина, или какого-нибудь свихнувшегося студента, как вы однажды сами изволили заметить. К тому же топор в любой скобяной лавке приобрести можно. Так вот, в записке той он написал, что думает броситься под лошадь. И надо ж так случиться, что кто-то с похожими приметами погиб недавно именно таким образом! Так что дело считай что закрыто.
К тому же есть и еще один мотив — что он заложил душу Горянщикову. Сам Виргинский душу, может, и отрицает, но русскому человеку свойственны метания — мало ли что он заявил бы по прошествии времени.
— Тогда зачем же вы сюда пришли? — спросил Осип Максимович в искренней растерянности.
— Потому что сам я в мыслях не допускаю, что Виргинский мог быть убийцей. С ним это как-то не вяжется.
— Но… зачем ему сознаваться в убийстве, когда он его не совершал?
— Вот. Этот самый вопрос я себе и задаю, — отвечал Порфирий Петрович. — Может, он пытался кого-то прикрыть.
— А кого?
— Вас.
Осип Максимович посмотрел так, будто не понял, шутит собеседник или всерьез. Поняв, что всерьез, он разразился вдруг хохотом — громким, заливистым, — который, впрочем, оборвался так же внезапно, как и начался.
— Ему, прикрывать меня? Это еще зачем?
— Чтобы вас не арестовали. Чтоб вы оставались на свободе — а он мог сам выследить вас и свести с вами счеты. Виргинский был на квартире у'Лили, застав ее уже при смерти. Держал в руках ее окровавленную голову, чтобы как-то облегчить мучения. Лиля успела назвать ему убийцу. Так что, судя по всему, Виргинский с собой не покончил. Под лошадь попал не он, а кто-то другой.
— Может, Ратазяев? — все еще с усмешкой спросил Осип Максимович.
— Вряд ли, — серьезным тоном ответил следователь. — Вообще, мало ли по Петербургу нищенствующих студентов. Виргинский просто желает ввести нас в заблуждение, что его больше нет.
— И… что же вы думаете делать? — Впервые за все время в глазах у Осипа Максимовича мелькнула тревога.
— А что я могу сделать? — Порфирий Петрович пожал плечами. — Ничего не могу, даже при желании. Это все так, спекуляции. Доказать толком ничего нельзя. Вот если он вас действительно убьет, тогда другое дело. Ну ладно, я пойду.
И он поднялся с кресла.
Осипа Максимовича, судя по всему, охватил нешуточный испуг.
— Так вы что, оставляете меня… на гибель? — воскликнул он в сердитом недоумении.
И тут, к удивлению обоих, медленно открылась дверь в смежную комнату. В дверях стоял Вадим Васильевич — все так же с поджатыми губами, только с лицом бледнее обычного. Взгляд его, непривычно возбужденный, уставлен был на Осипа Максимовича. Перед собой он держал ту шкатулку, что вынес от Лямхи.
— Как? Вы разве здесь? — оторопел от неожиданности Осип Максимович.
— Ханжа! — входя в кабинет, выдохнул свистящим шепотом секретарь.
— Вадим Васильевич, прошу вас, тише.
— Вы думали, это вас спасет?
Натуральный голос Вадима Васильевича оказался на поверку вовсе не баритоном; словно надфиль по дереву, тонкий, скрипучий.
— Вы о чем? — с заискивающей улыбкой переспросил Осип Максимович, вместе с тем с опаской глянув на следователя.
— О чем? Лгать не надо, вот о чем! Поздно, я все слышал!
— Ничего вы не слышали. А теперь прошу вас, дайте сюда шкатулку. Она не ваша. Спасибо, кстати, что принесли. Давайте сюда.
— А я-то в вас верил! А вы меня предали. И выдали себя!
— Напротив, я был искренен перед собой!
Откинув крышку, Вадим Васильевич выхватил из шкатулки сложенный лист бумаги, а саму шкатулку бросил, как что-то ненужное, — она так и ударилась об пол с открытой крышкой.
— Неужто вы в самом деле считали, что это вас спасет? — взмахнул секретарь сложенным листом.
— Еще раз говорю, дайте сюда!
— Значит, в самом деле верите, да? — Вадим Васильевич желчно рассмеялся. — Только Бог — он всего лишь судия, а палачом-то у него дьявол! Эх, вы, а еще умный человек!
— Ну и ладно. Значит, с дьяволом объясняться и будем.
Осип Максимович, встав, осмотрительно приблизился к секретарю — долговязому, выше начальника больше чем на голову. Бумагу Вадим Васильевич держал в поднятой руке — ни дать ни взять журавль. Осип Максимович, как-то недостойно для своей солидности скакнув, так и не допрыгнул до документа.
— А вот я теперь… — злорадно пропел секретарь, — уж я теперь знаю, что мне делать.
Повернувшись спиной, он вдруг бросился в смежную комнату, хлопнув за собой дверью, которую не то запер, не то загородил. Во всяком случае, повернуть ручку Осипу Максимовичу не удалось.
Вскоре, однако, дверь распахнулась, и на пороге снова возник секретарь. Над головой он держал все тот же лист, только теперь его весело лизали оранжевые язычки огня.
— Вы чудовище!!! — крикнул Осип Максимович, бросаясь спасать горящий документ.
— Что, вообще, происходит? — подал наконец голос Порфирий Петрович, до этого безучастно наблюдавший за происходящим.
— Во-от она, его душа, — с упоением пропел Вадим Васильевич. — По крайней мере, как он про нее думает. Мол, сдал ее, и концы в воду. Он ее, видите ли, вверил на хранение третьему лицу — тому кощею-жиду, процентщику Лямхе. Дескать, поскольку она сейчас не при нем, то и злодеяния ее не пятнают.
Резко всосав воздух от боли — огонь достиг пальцев, — он выронил догорающий лист. Однако тут же бдительно шагнул вперед, не давая подступиться к листу Осипу Максимовичу.
— Моя душа чиста, без единого пятнышка! — беспомощно восклицал Осип Максимович, взывая к своему коллеге. — Вы видели контракт Виргинского с Горянщиковым. Мы о нем рассуждали. Вы сами соглашались — логика в нем безупречна. Если душа не находится у человека в непосредственном владении, ничто иное на нее не воздействует. Вы же сами это подтвердили! В конце концов, подписали!
— Да что я, — сник вдруг секретарь, даже став чуть ниже ростом. — Я так, забавлялся. Шутка, она и есть шутка. Нельзя ж воспринимать подобное всерьез. — Он устало рассмеялся. — О чем мы только не болтаем — обо всем! Сплошное словоблудие, весь день. И целые книги того же словоблудия публикуем — правда, хоть чужого.
— Нет, вы посмотрите на него, — с возмущенным видом обернулся Осип Максимович к следователю. — Взял и сжег официальный документ. Варварство какое! Нельзя ли этого вандала под арест?
Порфирий Петрович подошел к двери.
— Поручик Салытов! — громко позвал он. Поручик тут как тут. — Арестуйте этого человека. — И следователь кивком указал на Осипа Максимовича.
— Как! — опешил тот, впрочем тут же опомнившись. — Мы так не договаривались! Вы собирались оставить меня Виргинскому, чтобы счеты со мной свел он, а не вы. Мы договорились, я принял ваши условия. Я пошел на это. Думал, вы благородный человек. А вы — обманывать? Как это низко, бездушно!
— На вашу душу мне наплевать, — ответил Порфирий Петрович. — В отличие от души Виргинского.
Глава 26 ПОДВАЛ НА САДОВОЙ
В двери кабинета постучали. Порфирий Петрович, затушив недокуренную папиросу, поднялся с кресла. Медленно, словно стесняясь, приоткрылась дверная створка.
— Павел Павлович? Вот это да! — приветствовал следователь входящего с теплой ноткой удивления, которого, собственно, и не испытывал.
— Здравствуйте, Порфирий Петрович, — сказал Виргинский, смущенно отводя взгляд.
— Ох и напугали же вы нас. — Следователь поморщился, словно отгоняя неприятные воспоминания. — Я ведь и впрямь было подумал, что это вы, покуда башмаки не разглядел.
— А, вы про это. — Студент наконец решился взглянуть следователю в лицо. — Прошу прощения. Та записка… глупость несусветная. Хотя на тот момент я, действительно, вполне намеревался… А потом волею случая оказался на Казанском мосту — видимо, вскоре после вас. Он и вправду очень походил на меня. Я прямо как на себя посмотрел. И подумал: «Вот бы и мне так надо. Вот он, выход». Но не решился, смалодушничал. Может, и зря. Рано или поздно… Миг — и все.
— Не смейте так говорить!
— Мне надо было его убить. Это еще одно, что сидело в голове. По этой причине, может, и жив тогда остался. Но и тут рука дрогнула. Никчемный я человек.
Виргинский потупился.
— Я так не считаю.
— Да при чем здесь «считаю, не считаю». Надо было убить его, и все. А когда я понял, что на это не способен, окончательно понял: не место мне на свете. Она же… — Он замолчал, уронив лицо в ладони.
— Что, Павел Павлович?
— Она просила, чтобы я молился за его душу. — Когда Виргинский отнял от лица ладони, в глазах у него стояли слезы. — За этого Осипа Максимовича.
— И вы бы могли? — выжидательно спросил Порфирий Петрович.
— А вы?
— Я человек верующий. И все равно не всегда решаюсь беспокоить Бога молитвой.
— А я вот решился. Ради нее. — Виргинский задумался. Вскинулся, что-то вспомнив. — Она вот что мне передала. — Он вынул запечатанный конверт, адресованный какой-то Лебедевой Екатерине Романовне. Имя показалось Порфирию Петровичу смутно знакомым. С чего, казалось бы? — Это письмо для матери, которое она так и не отправила.
— То есть если я верно понял, это ее мать? — Порфирий Петрович не смог скрыть удивления. Он вспомнил, о ком идет речь.
— Очевидно, да. Лиля повсюду носила письмо с собой. Даже перед смертью держала. Может, оно придавало ей силы или надежды… Она просила отдать его матери. А я не могу. Не смогу ей в глаза взглянуть.
— Если не возражаете, это сделаю я, — взяв конверт, Порфирий Петрович еще раз взглянул на адрес. — А сами-то вы как теперь?
— Не знаю. Я все же написал отцу. Правда, письмо иное. Не то, что вы нашли.
Порфирий Петрович одобрительно кивнул.
— Хотите, я ту записку сожгу? Виргинский молча кивнул.
Следователь вышел из-за стола и твердым жестом протянул руку. Виргинский, встав, ответил на рукопожатие.
— Непростое нынче время, — заметил Порфирий Петрович. _ я бы сказал, очень непростое. Вы с отцом нуждаетесь друг в друге, Павел Павлович. Простите ему, и дайте ему простить вас.
Виргинский, глубоко вздохнув, отвел глаза.
* * *
Указанный на конверте адрес вывел к доходному дому по улице Садовой. Лебедевы, как выяснилось, обитали в промозглом подвале. Там не было даже двери. Тусклый свет сочился из крохотных не то окошек, не то отдушин под самым потолком. Стены жилища покрывала изморозь, подтаивая на трубах отопления.
Госпожа Лебедева лежала на кровати, укрытая всевозможным тряпьем. То, что это именно та женщина, что как-то раз приходила в участок, следователь понял уже по беспрерывному потоку заунывных причитаний. Она еще, помнится, во всем подряд себя тогда обвиняла. Супруг ее, Лебедев, сидел приникнув к трубе отопления, все с тем же выражением уязвленного достоинства на лице.
— Екатерина Романовна, — превозмогая внезапно вступившую глухую боль в груди, обратился Порфирий Петрович, — у меня для вас известие.
Подойдя к кровати, он протянул письмо. Женщина на него не взглянула. Поток хрипловатых причитаний не иссякал.
— Это от Лили, — пояснил следователь, — от вашей дочери.
— У меня нет дочери, — на секунду прервавшись, произнесла женщина.
— К сожалению, вы правы. Теперь ее действительно нет. Но она была.
Екатерина Романовна, сжав костистый кулак, хрипло закашлялась.
— Ну, ну, милая, будет, — подал голос Лебедев, не отлипая, впрочем, от нагретого местечка.
— Выслушайте меня, — пользуясь наступившей паузой, вклинился Порфирий Петрович. — Выслушайте правду. Вам давно пора ее знать. Ваша дочь действительно погибла. Как и ее дочь, ваша внучка. Ее погубил человек по имени Осип Максимович Симонов.
— Да как вы смеете, сударь, так говорить! — взвился Лебедев, на секунду даже оторвавшись от трубы отопления. — Осип Максимович — благороднейший человек! Извольте сейчас же прекратить эту клевету, или будете иметь дело со мной!
— А, так вы его знаете? — резко спросил Порфирий Петрович.
С кровати раздался вой. Екатерина Романовна раздирала себе ногтями лицо — нещадно, в кровь. Следователь, на секунду оторопев, бросился к ней, пытаясь схватить за руки. Это оказалось не так-то просто — пришлось навалиться всем корпусом, прежде чем она наконец затихла. По глазам было видно, что до нее дошло. Вина, которой она так жаждала, наконец ее настигла.
— Осип Максимович готовился стать нашим зятем, — жарко пояснял меж тем Лебедев. — Мы уже все решили, все оговорили. Нам выпала такая честь! Это бы положило конец всем нашим бедам, всем мытарствам. Он был к ней расположен, имел серьезные намерения; готов был снизойти до того, чтобы просить руки у нее, недостойной. У нее, глупой девчонки! А она — она же все перечеркнула, решительно все! Она… даже слов не могу найти…
— Тогда позвольте найти мне. Этот человек, вкравшись в доверие, ее обесчестил.
— Как вы смеете! Это… это не он! То был какой-то мерзкий прохвост. Ну и Осип Максимович, натурально, расторг помолвку. Да вы знаете, какие деньги он обещался нам дать? И даже приданого от нас не требовал. А ведь мог бы!
— Он ее изнасиловал, — односложно повторил Порфирий Петрович.
Лебедев яростно замотал головой.
— Не-ет! То был прохвост, мерзкий тип, — зачастил он как заведенный. — Она ему изменила. Неверная. Как мог после того такой благородный человек, как Осип Максимович, жениться на этой… падшей женщине! Она погубила нашу семью! Да, да! — ярился он, и даже ненадолго привстал с табурета. — Посмотрите, что она сделала со своей матерью! Она разбила ей сердце, наплевала в душу! Бедная от горя даже рассудком тронулась! Это она, она за все в ответе! Я до той поры в рот не брал. А теперь вот посмотрите, что со мною сталось — ни чина, ни тебе чего…
Екатерина Романовна вновь исступленно заметалась; Порфирию Петровичу пришлось приналечь. Унявшись наконец, она воззрилась на державшего ее следователя — взгляд мутноватый, но вполне вменяемый.
— Я верила. Я всегда в душе верила. Верила, что не она. Да ничего не говорила. Вот чем я сгубила ее. Молчанием.
Порфирий Петрович, отпустив ей плетьми упавшие руки, выпрямился. Бросив конверт на одеяло, подошел к Лебедеву. Вздел его с табурета за грудки и произнес в дышащее перегаром лицо:
— Да вы понимаете, что она дочь вам? — Тот в ответ с показной надменностью откинул голову. — Дочь ваша, Лилия И-ва-нов-на! Неважно, в чем вы ее обвиняете, — все равно, она же вам родная дочь. А он и есть тот самый прохвост, ваш благородный Осип Максимович. И денег обещанных он, кстати, давать вам и не собирался. Скорее наоборот: обобрал бы до нитки, а потом вас же и обвинил в чем-нибудь дурном. Неблагородном.
Он отпустил бывшего титулярного советника. Тот, качнувшись, остался стоять столбом.
— Да я… титулярный советник Лебедев-с! Иван Филимоныч! Да я… У меня вон чин! Положение-с! В обществе! — Он растерянно смолк.
— Да ничего у вас нет, — только и ответил Порфирий Петрович, направляясь вон из подвала.
Вслед уже неслась обычная слезливая околесица. Монотонно так…
* * *
Едва завидев Порфирия Петровича, карауливший у дверей кабинета князь Быков вскочил, нервно теребя в руках шапку. Следователь машинально притормозил. Делая вид, что нашаривает в кармане портсигар, попробовал было свернуть в боковой коридор, но путь к отступлению там уже отсекал Заметов. Что ж, придется сдаваться: вон как обложили.
— А-а, князь. — Порфирий Петрович из вежливости поклонился.
— Александр Григорьевич сообщил, что дело вроде как закрыто. Неужто правда? — спросил князь растерянно.
Порфирий Петрович кивнул — дескать, увы.
— Но ведь Ратазяев не найден!
На страдание в глазах молодого человека следователь отреагировал задумчивой улыбкой. Кашлянув, достал портсигар.
— Иногда поиски действительно ни к чему не приводят. Есть, знаете ли, люди, которые сами не хотят того, чтобы их разыскали. Возможно, ваш друг как раз из таких.
Князю буквально перехватило дыхание.
— А вдруг его нет в живых? И тот негодяй, что погубил остальных, расправился и с ним?
— Нам этого не известно, — попытался успокоить Порфирий Петрович, сочувственно глядя на поникшего молодого человека. — Есть основания полагать, что он все-таки жив.
— Но я его никогда не увижу?
— Всецело вам сочувствую, — вздохнул следователь. — Будем уповать, что он цел и невредим, и думает о вас с теплотой и любовью. — Отчего-то заломило в затылке. — И разумеется, нежностью.
Порфирий Петрович учащенно заморгал (что за привычка такая — ну никак от нее не избавиться). Зажмурившись, он ладонью прикрыл себе глаза. Когда отвел руку, князя уже не было. Перестало донимать и моргание.
Невзначай поклонившись пустому месту (вышло забавно), он мимо Заметова прошел к себе в апартаменты и там встал, прислонясь спиной к двери. Сосредоточенно прикурил. Головная боль, по счастью, быстро унялась. Порфирий Петрович посмотрел в окно, за которым закатное солнце багрянцем высвечивало интерьер кабинета, отчего клуб дыма обретал сходство с султаном пламени, пущенным огнеглотателем. Порфирий Петрович, невольно залюбовавшись, легонько сощурился.
Какой, кстати, сегодня день? Кажется, осталось еще что-то невыполненное. А как обворожительно, однако, смотрится в таком ракурсе пламенеющий клуб дыма — кто бы мог подумать.
Пепел беспрепятственно сеялся на пол. Дым стелился слоями, и не хотелось отводить от него глаз. Порфирий Петрович так и стоял, подперев спиной дверь, пока огонек папиросы, грозя прожечь сюртук, не упал вниз, словно ставя на лету гаснущую багровую точку. Тогда, словно очнувшись, Порфирий Петрович оглядел кабинет и вспомнил: ба-а, да ведь завтра Новый год! А нынче вечером его ждут в гости к Никодиму Фомичу, отметить в семейном кругу.
Примечания
1
Образ действия (лат.).
(обратно)2
Вера (лат.).
(обратно)


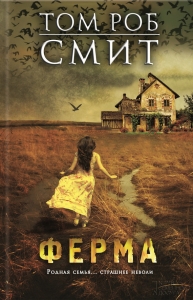

Комментарии к книге «Благородный топор. Петербургская мистерия», Р. Н. Моррис
Всего 0 комментариев