Ростислав Самбук Ювелир с улицы капуцинов
Глава первая Побег
Автоматная очередь хлестнула по улице. Богдан инстинктивно пригнулся. Выругался вполголоса и свернул в переулок.
— Пугают, гады… — буркнул. — Теперь минуту отдохнем… Сможешь стоять?
Наклонился, осторожно опуская Петра с плеч.
— Дальше я сам… — Цепляясь руками за стену дома, Петро сделал несколько шагов. — Видишь, порядок…
— Порядок… — иронически подтвердил Богдан.
Словно в ответ, опять застрочили автоматы. Богдан положил тяжелую руку на плечо Петру, втиснув товарища в узкую нишу возле ворот. Сам прислонился рядом. Стоял удивительно тощий, высокий, едва не упираясь головой в перекладину ворот. Задыхаясь, со свистом втягивал воздух — впалая грудь ходуном ходила под грязной, дырявой гимнастеркой. Петро слышал, как гулко бьется сердце Богдана.
— Присядь… — шепнул, показывая Богдану на урну для мусора. — Они, наверно, пошли туда… — Махнул рукой в сторону улицы, которая круто взбегала в гору. Автоматные очереди доносились глуше и казались нестрашными.
— О-о… — хрипло выдохнул Богдан, — они занимают выходы из города. А сейчас начнут прочесывать улицы. — Нагнулся, подставляя Петру спину. — Держись крепче, теперь каждая секунда — золото!
Улица была тесная и темная. Старинные дома с узкими готическими окнами и тяжелыми, обитыми железом воротами стояли плечом к плечу, образуя неподвижную хмурую шеренгу немых, безразличных ко всему великанов. Лишь поблескивали в лунном сиянии окна. И эти мертвые отсветы, казалось, свидетельствовали, что за толстыми каменными стенами жизнь давно остановилась. Петру хотелось крикнуть, чтобы нарушить гнетущую тишину, взбудоражить этот мертвый покой. Казалось, что от крика каменные черные великаны зашатаются, падут, и вся эта хмурая улица исчезнет, как исчезает порожденное болезненным воображением марево.
Петро на миг закрыл глаза. “Эта улица — отличная ловушка, — подумал он. — Просто капкан…”
Видимо, и Богдана тревожила эта же мысль, так как он ускорил шаг. Шел у самых домов, там, где темнее. Неуклюжие деревянные колодки, которые в лагере заменяли обувь, он выкинул еще за проволочной оградой и теперь шагал босиком, неслышно ступая по стертым плитам тротуара. В нескольких метрах от перекрестка вдруг остановился, метнулся к ближайшим воротам.
— Замри! — шепнул Петру. — Они…
Тот припал к воротам, поджав раненую ногу. Хотелось слиться с холодным камнем, стать незаметным, исчезнуть. И почему это твое хилое тело кажется таким огромным? Наверно, тебя давно уже заметили, следят из сотен затемненных окон.
Сейчас кто-нибудь резанет автоматом — не станет ни домов, ни темного неба, ни тебя, усталого, грязного, с поджатой простреленной ногой. А может, так и лучше — не будет жечь рана, никогда больше не увидишь обшарпанные бараки, часовых в черных мундирах, избавишься, наконец, от острого чувства голода, который терзает даже во сне.
Богдан лег у самых ворот прямо на грязную тротуарную плиту, притаившись за мусорным баком. Левую руку положил под голову, правой схватил валявшийся кирпич — вооружился…
Петро осторожно нащупал в кармане пистолет. Три патрона — три выстрела. Ему бы сейчас ручной пулемет. Лежал бы, сея свинцовую смерть, бил бы и бил короткими очередями…
Издали донесся гул моторов. Богдан напрягся, словно готовясь к прыжку. Гул заполнил всю улицу. Поблескивая фарами, на большой скорости пересекли перекресток три грузовика с солдатами. За ними — мотоциклисты. Один мотоцикл притормозил на углу. Богдан видел, как водитель нагнулся к сидевшему в коляске коренастому автоматчику, потом развернул машину и, включив свет, повернул к ним.
Петро вытащил пистолет. Еще секунда — и конец. Но мотоцикл свернул в переулок и скоро исчез из виду.
Богдан вскочил.
— Теперь скорее!
Подсадил Петра на спину и, согнувшись, побежал вправо. Перелезли через высокий забор. Богдан, обессиленный, упал на траву.
Нервное и физическое напряжение было так велико, что он долго лежал, уставившись в небо невидящими глазами. Петру стало страшно, и он схватил Богдана за плечо.
— Что с тобой?
Богдан на мгновенье закрыл глаза. Казалось, не сможет и пальцем шевельнуть — так сковала усталость; тело стало грузным и чужим. Это чувство собственного бессилия испугало Богдана: любой мальчишка легко одолел бы его сейчас. Но через несколько минут уже почувствовал себя бодрым — жизнь возвращалась…
Приподнялся, сел и улыбнулся Петру.
— Кажется, я немного устал. Но ведь и то сказать: год плена…
Петро придвинулся к Богдану.
— Скоро рассвет, — сказал тревожно. — Тут мы пропадем ни за понюх табаку.
— Пускай пан лейтенант не обременяет себя хлопотами, — пошутил Богдан. Он осторожно раздвинул кусты, оглянулся. — За этим садом — овражек. А там — огородами, и мы дома… Богдан Стефанишин, да простит меня пан лейтенант, не какой-нибудь фертик… — Тихо засмеялся. — Кажется, Петрик, опасность позади.
Небольшой под железной кровлей домик Богдана был окружен старыми ветвистыми яблонями. Он выглядел почти так, как Петро представлял его по рассказам Богдана. Петру казалось даже, что он уже бывал здесь, видел и этот столик под сиреневым кустом, и бочку с водой возле клумбы, и ведущую к огороду узкую тропку между кустами смородины…
Богдан притаился под яблоней, с опаской озираясь. В последний раз был здесь еще перед войной — за год всякое могло случиться…
Осторожно обогнул сиреневый куст. Возле сарайчика что-то белело на веревке. Потянул на себя — неожиданно глуповатая, счастливая улыбка расплылась по лицу: держал в руках старое полотенце, на котором мать вышила красных петушков. Запрятал лицо в мягкое полотно, вдыхая пьянящие, с детства знакомые запахи, — это полотенце обычно висело в кухне около венков лука и крепко пропиталось его горьковато-сладким ароматом.
Теперь Богдан почти не сомневался: Катруся здесь! Подошел к окну, тихо забарабанил пальцами по стеклу. И сразу же присел за бочкой — кто его знает, может, в доме кто-нибудь чужой.
Когда увидел в окне едва заметное в темноте лицо, забыл про всякую осторожность, выпрямился, припал к стеклу. Девушка испуганно отшатнулась.
— Что вам нужно? — донесся приглушенный голос.
Богдан облизал сухие губы.
— Катруся… сестричка…
Ему казалось, что он чуть ли не выкрикивает эти слова, и только по тому, как Катруся смотрела — испуганно, явно ничего не понимая, — сообразил: слова эти остаются в нем так и не произнесенными.
— Катруся, — сказал громко и жалобно, точно набедокуривший ребенок, — это я, Богдан…
Бледное лицо мелькнуло за занавеской, скрипнула дверь, и маленькая фигура в белом бросилась к Богдану. Увидев еще одного человека, Катруся вскрикнула и спряталась за брата.
— Тише! — сказал Богдан. — Ты одна?
— Кому же еще здесь быть?
— Хорошо. Это Петро, товарищ… Он ранен… Я ему помогу, а ты иди вперед…
После грязного барака эта комната с полированной мебелью и простеньким ковром на полу казалась необыкновенной. Петру не верилось, что такая роскошь может существовать в трех километрах от центра города, от Цитадели, где заживо гниют пленные… Особенно почему-то поразил кактус на подоконнике. Выходит, жизнь не остановилась.
Он лежал на диване, смотрел вокруг, и слезы невольно катились из глаз. Богдан и Катруся склонились над его ногой. Катруся, заметив слезы, сочувственно спросила:
— Больно?
— Нет… — покачал головой. Действительно, боли не испытывал, нога словно одеревенела… Кактус… Он вспомнил: точно такой же стоял в их киевской квартире…
Катруся нагрела воды, принесла белье.
— Простите, немного, правда, великовато, это брата…
“Смирительная рубашка”, — подумал Петро, переодеваясь.
А Богдан посмотрел и засмеялся. Смеялся долго от всего сердца. Петро понимал — хохочет не над его действительно комическим видом, а потому, что после всего пережитого почувствовал себя, наконец, человеком. Богдан неожиданно умолк. Опасливо покосился на окно, потом сказал:
— Катруся, постели нам в каморке, а к двери придвинь шкаф. Поговорим потом, теперь — спать!
Кладовая — длинная узкая комнатушка. Здесь трудно поставить даже одну кровать. Катруся постелила на полу. Свежие простыни и наволочки пахнут смородиновым листом — белье, видимо, сушилось в саду над кустами.
Петро закрыл глаза и долго лежал неподвижно, ощущая лишь боль в ноге и мягкую нежность подушки…
…Но вот неожиданно открылась дверь — и к нему подсел капитан Воронов. И это уже не кладовка с мягкой, чистой постелью, а их длинный темный барак. Рядом лежит Богдан, укрывшись грязной шинелью. Они снова начинают шепотом обсуждать план побега. Воронов почему-то сердится, повышает тон, и Богдан своей широкой ладонью закрывает ему рот.
Но где же это стреляют? Почему надсаживаются автоматы? Ведь заключенные еще только подползают к колючей проволоке — десятки изнуренных людей в изорванной одежде. Впереди Богдан с ножницами — неведомые друзья, рискуя жизнью, перебросили их сюда, за проволочную ограду. А позади он, Петро, с одним-единственным на всех пистолетом… Нет, оказывается, это не автоматные очереди, просто громко стучит сердце, кровь с шумом пульсирует в висках. Богдан перерезал проволоку — поползли один за другим.
Скоро и его черед — передние, вероятно, уже далеко. Вот и дыра. Осторожно, чтобы не задеть проволоку, приподнялся, опираясь на локти, и тут же припал к земле. Неужели часовой что-то заметил?! Заметался луч прожектора, вдоль ограды резанул пулемет. На секунду прожектор осветил в темноте фигуры людей, которые неслись по склону горы к городу.
Заметили…
Теперь уже нельзя колебаться — кинулся через дыру, обдирая руки и плечи, побежал под автоматными очередями, петляя как заяц. Споткнулся, покатился с горы. Видно, сильно зашиб ногу, так как не мог уже подняться. Лежал, кажется, целую вечность. И не заметил, когда его подхватил Богдан…
Опять темная узкая улица… Мотоцикл мчится прямо на него. Яркий свет фары по-театральному вытягивается в узкий длинный луч. Петро знает, луч этот смертельно опасен: если заденет — конец. И Петро вновь припадает к стене, стараясь быть совсем незаметным, но тело его почему-то растет и растет… Сейчас луч неумолимо врежется в сердце… Но, метнувшись, луч лишь ожег ногу и погас.
…Петро вскочил. Где он? Темно. Кто-то тяжело дышит рядом. Душно… Где же все-таки он? Коснулся подушки — и вспомнил.
Бред долго еще не оставлял Петра. Проснулся Богдан, зажег спичку, дал напиться чего-то кисловатого — должно быть, фруктового сока. После этого Петро крепко заснул и очнулся, лишь когда Богдан стал тормошить его.
Катруся открыла дверь, и в кладовке стало светло. Богдан пошел помыться. Через несколько минут вернулся в полосатой пижаме, которая мешком висела на его худых плечах. Пожаловался:
— Есть хочется, а она — бульон с сухариками…
Петро сказал смущенно:
— Я не отказался б и от бульона.
— Но ведь у нее есть картошка и целый кролик. Представляешь, что такое тушеный кролик!
Петро, конечно, представлял. От одной мысли о подрумяненной, пахнущей лавровым листом горячей картошке его замутило.
— Ничего не выйдет, — сказала Катруся. — Бульон, сухарик и немного черного кофе. Скажите спасибо, что у меня осталось еще немного довоенного кофе. Сейчас его ни за какие деньги не найдешь даже на “черном рынке”.
— Но ведь мы есть хотим, сестричка! — сказал Богдан умильным голосом. — Мы не ели уже…
— Именно поэтому только бульон! Слишком долго ждала Богданушку, чтобы снова потерять его! — Катря прижалась к брату, посмотрела на него. И столько доброты было в ее взгляде, столько преданности, что Петро понял, почему Богдан всегда с такой любовью говорил о сестренке. — Картошка и мясо для вас сейчас — смерть. Правда ведь? — обратилась за поддержкой к Петру.
Тот вяло согласился. Да, Катруся совершенно права, но так хотелось есть… Смущенно улыбнулся и судорожно проглотил слюну.
Катруся все поняла. Смотрела на них полными слез глазами.
— Бедные мои… Но нельзя же…
— Столько разговоров про бульон, но где же он? — воскликнул Богдан. — Лучше меньше, чем ничего!
Бульон был чудеснейший: горячий, душистый, покрытый желтым прозрачным жиром.
— В переводе на калории одну такую чашку надо было бы разделить по крайней мере на пятьдесят пленных, — сказал Богдан, дуя на горячую жидкость. Кожа на его впалых щеках порозовела, на лбу выступил пот. Продолговатое лицо казалось еще более длинным, нос заострился. Еще раз хлебнул, поставил чашку на колени и вздохнул: — Как там наши хлопцы? Неужели не прорвались?..
— Кому как посчастливилось, — сказал Петро. — Разве угадаешь? Основную группу повел Новосад. Он местный, говорил, чуть ли не каждую тропинку вокруг города знает. Должны были пробраться в район Злоч-ной и в тамошних лесах присоединиться к партизанам.
Богдан отставил пустую чашку. Уточнил:
— Если они, да простит меня пан, там имеются.
— В крайнем случае сами организуют отряд. У Новосада голова — дай бог каждому!
— Голова, может быть, — высший класс. Только чего она стоит без оружия?
— О-о, не говори. Оружие, правда, на дороге не валяется, но ведь, — Петро вытащил из-под подушки “вальтер”, — даже в лагере было.
— Один на всех… — пробормотал Богдан.
— С его помощью мы можем добыть еще не один!
— Именно об этом я хотел поговорить. — Богдан поднялся, собрал пустые чашки. — Позову Катрусю, устроим военный совет.
Катря принесла маленькую табуретку, примостилась у двери.
— Чтобы было слышно, если кто-нибудь постучит, — объяснила.
Богдан растянулся на матраце в ногах у Петра и начал:
— Так вот, взвесим все “за” и “против”. Гитлеровцы сейчас, прошу панство, перевернут в городе всё. Правда, подобные происшествия не новость, но все же таких массовых побегов еще не было. Выходит, наилучший вариант для нас — эта комнатушка, — обвел рукой кладовку. — Недели две носа отсюда не высунем. Нам это необходимо еще и для того, чтобы немного поправиться, — потер впалую щеку, — и подлечить Петру ногу. Что скажет по этому поводу Катруся? Сможет ли она прокормить двух таких лоботрясов?
Петро заметил, что, разговаривая с сестрой, Богдан часто переходит на своеобразную местную манеру обращения в третьем лице.
— Ой, с ума сойти можно от него! — негодующе воскликнула девушка. — Богдан мог бы подумать, прежде чем сказать такое. Город, правда, голодает, но ведь есть “черный рынок”. Дай бог, живы будем — не пропадем…
Петро залюбовался девушкой: стройна, как тростинка, под черным простым свитером высокая грудь, большие, в пол-лица, темные глаза поблескивают — хотят, кажется, быть сердитыми, но смеются. Щеки раскраснелись, а на них игривые, задорные ямочки. Совсем девчонка, хотя Богдан сказал, что Катрусе уже двадцать четыре.
— Мои золотые часы, которые припрятала, можешь продать, — подвел итог Богдан. — Дней на десять хватит?
— Вот еще, делать мне больше нечего! — отрезала Катря, но, встретив недовольный взгляд брата, закончила примирительно: — Пусть Богдана не касается, как все устроится. Это уж, простите, женское дело.
— Смотри мне — женское… — буркнул Богдан. Но спорить не стал. — Теперь вот что… Нам с Петром надо будет легализоваться хотя бы на несколько недель. Мне это проще сделать: есть документ о том, что учился в Киевском университете. Так вот, я в Киеве болел, теперь возвратился домой. Паспорт есть, зарегистрируем, где следует, — и порядок! Сложнее с документами для Петра — надо найти хорошую “липу”. Но для этого еще есть время.
Богдан перевернулся на живот, подоткнул под грудь подушку, перемигнулся с Петром и решительно сказал:
— Катрунця, наверно, понимает, что мы люди военные и обязаны до конца выполнить свой долг. И здесь для нас фронт! Стало быть, у нас есть два выхода — податься к партизанам или действовать в городе. В лагере, Катруся, мы слышали, будто здесь есть подпольная организация. Нам бы с ней связаться, вот было бы люксусово [1] !
Катря сидела, прикрыв глаза ресницами. Казалось, так углубилась в свои мысли, что не слышит брата. И только когда он прямо спросил, не знает ли она чего-либо о подпольщиках, осторожно ответила:
— Видела в городе листовки… Ну, и знакомые показывали… Выходит, кто-то есть… Вы только не торопите меня, попытаюсь узнать через одного человека…
Погода испортилась. Днем и ночью моросил мелкий скучный дождь. Катруся радовалась: что-то даст огород и какая-то прореха в ее бюджете будет заплатана. Вставала до рассвета, хлопотала на грядках, принося хлопцам на завтрак свежий лук и редиску, а в восемь часов уже убегала на железнодорожную станцию, где работала машинисткой.
Петро выздоравливал. Пуля не задела кости. Нормальное питание, лечение и отдых делали свое — рана быстро заживала.
Богдан томился от безделья и ворчал, что приходится отсиживаться в тесной кладовке. Он вынашивал планы операций против оккупантов — с каждым разом они становились все фантастичнее.
Петро, хоть и обладал трезвым умом, порою заражался буйной фантазией друга. Лишь в вопросах о методах борьбы не могли они прийти к единому мнению. Петро считал необходимым установить контакт с каким-нибудь партизанским отрядом. Богдан же был приверженцем индивидуальных действий.
— Меня очень удивляет твоя твердолобость, — горячо говорил Богдан. — Мы находимся в городе, где на каждом шагу можно добыть информацию. Большой железнодорожный узел — раз. Аэродром — два. Склады, госпитали, воинские части… Наладить связь со своими людьми, а они всюду имеются, — вот было бы ловко! Важнейшие данные о дислокации частей, железнодорожных перевозках… Ты понимаешь, что это такое?!
— Чего уж тут не понимать? Бесподобно!.. Но авантюристично. — Увидев недоуменный жест Богдана, Петро повторил: — Да, я не оговорился — это авантюра. Где они, свои люди? Сейчас ты меня начнешь убеждать, что они всюду. Согласен. Но как отличить своего от чужого? По шляпе или обуви? Это, брат, не такая уж простая вещь, и потребуется тут ого-го сколько времени и терпения! А знаешь, сколько теперь всюду провокаторов и шпионов? Да тебя гестапо в первый же день сцапает…
— Такой уж я идиот, чтобы лезть в гестаповскую западню! — вскипел Богдан. — Меня, откровенно говоря, беспокоит другое — представим себе, что мы добыли интересные сведения о гитлеровцах, как мы их передадим нашему командованию? Ведь нам понадобится техника. Да и не только она. Нужна не только рация, но и шифр, пароль для выхода на связь. В общем многое… Значит, все же остается твой вариант — партизаны. Другого не вижу. Лишь через них можно наладить связь с нашими.
— Все как-нибудь образуется, — Петро повернулся на бок. — Во всяком случае, боевая группа у нас уже существует. Как говорится: “Ты да я, да мы с тобой…”
Знали бы Петро и Богдан, чем сейчас занята Катруся, не спорили бы напрасно. Именно в это время решалась их судьба, а они не могли сказать ни “да”, ни “нет” тем силам, которые определяли их жизнь на многие месяцы вперед.
Катруся, укрывшись под зонтиком, спешила в центр города. Большая студенистая туча темнела над Крутым замком. Слякоть так оплела улицы, что воздух, казалось, пропитан был водой; она проникала не только под зонтики, но даже под плащи и куртки.
Катря шла быстро, не обращая внимания на лужи. Знакомый, встретивший ее в эту минуту, вероятно, удивленно оглянулся бы: потертое пальто, по-крестьянски повязанный темный платок и большие резиновые сапоги, в которых она энергично ступала по лужам, — все это создавало облик деревенской девушки, попавшей в большой город.
Миновав центр, Катруся постояла немного на углу, оглядываясь, потом вошла в ворота дома, на котором пестрело несколько вывесок. По ним можно было узнать, что здесь расположены редакции газет.
Катруся остановилась в длинном коридоре второго этажа. Мимо, не обращая на нее внимания, бегали озабоченные сотрудники редакции с рукописями и гранками. Девушка обратилась к одному из них:
— Не скажет ли пан, где тут принимают объявления?
Тот скользнул по ней любопытным взглядом, однако мокрая, закутанная по глаза платком девушка не произвела особого впечатления, и он небрежно бросил:
— Вторая дверь направо…
Катруся постояла на пороге большой комнаты, заставленной канцелярскими столами. Подошла к одному из них, за которым сидел среднего возраста мужчина с круглым как блин лицом.
— Прошу у любезного пана минуту внимания, — обратилась к нему. — Не могу ли я дать в вашу газету объявление?
Тот поднял на Катрусю глаза.
— Что хочет панна объявить?
— Ищу работу… Желательно в прислуги… За соседним столом презрительно хмыкнули.
— Ишь, чего захотела, — начал на высоких тонах маленький, рыжий и лысый человечек, — люди самих себя прокормить не могут, а она в нахлебники. Откуда приехала?
— Из Песчан, — поклонилась Катруся.
— Что ж, у вас в Песчанах разве не говорили, что великой Германии нужна рабочая сила? — продолжал тем же тоном маленький. — Что для разгрома большевиков потребуется напряжение всех сил? Благодари бога, девушка, — в Германии ты станешь человеком.
Поднялся, подошел к Катрусе, вкрадчиво зашептал:
— Станешь работать на заводе или еще где-нибудь… Работу хорошо оплачивают… выходные дни… продовольственные карточки… Будешь жить в большом городе… бывать в кино… А может, — заглянул под платок: глаза красивые, да и сама ничего, — жениха найдешь… Хи-хи… Ефрейтора, а то даже какого-нибудь фельдфебеля… В “высший свет” попадешь…
Катруся кланялась, благодарно улыбаясь.
— Большое вам спасибо!.. Сама никогда бы не догадалась… Может, пан редактор напишет мне адрес, куда обратиться? Еще раз премного благодарна… Извините…
Выходя, скользнула взглядом по полнолицему. Тот едва заметно наклонил голову.
Катруся пересекла улицу, постояла около витрины магазина и, увидев, что полнолицый, выйдя из редакции, направился вдоль сквера, пошла за ним. Вместе сели в трамвай, который шел к Крутому замку. Выйдя из вагона на последней остановке, полнолицый оглянулся, надвинул шляпу на лоб и свернул в переулок.
Катруся несколько задержалась на остановке — внизу в легкой пелене тумана лежал город. Железнодорожная станция с дымками маневровых паровозов, серые и черные дома, дождем отмытые тротуары… Где-то там, за этим нагромождением потемневших от времени черепичных крыш, и ее маленький домик — она даже разглядела ореховое дерево соседей. Вздохнула и тоже юркнула в переулок, куда только что свернул человек в шляпе.
Убедившись, что вокруг никого нет, полнолицый остановился и жестом подозвал девушку.
— Что стряслось? — спросил. — Я же говорил, ко мне только в крайнем случае…
— А я этого не забыла — из-за пустяка не пришла бы… — Катруся вытащила платок, вытерла мокрое лицо. — Дело, Евген Степанович, такое: возвратился Богдан. Точнее говоря, сбежал с товарищем из Цитадели.
— Так, так… Дело действительно серьезное… — Полнолицый сорвал с куста мокрый листочек, положил на пальцы и прихлопнул ладонью. — Так, так… Ну и что же они?..
— Изголодались, на людей не похожи. Товарищ его ранен в ногу. Я их подкармливаю, лечу. Что ни говорите, все-таки врач…
— А что они собираются делать?
— Я, собственно, за этим к вам. Хотят искать партизан. Богдан тоскует, горячится, вы же знаете его, а тот более спокойный. Сказали, в лагере ходят слухи о подполье — кровельные ножницы им кто-то перекинул… Расспрашивали меня, не знаю ли про подпольщиков… Я ничего им не сказала, решила с вами посоветоваться.
— Так, так… Это ты хорошо сделала… — Полнолицый сорвал еще один листочек. — А кто тот товарищ?
— Кирилюк… Петро Кирилюк… Богдан много рассказывал о нем… Лейтенант… Сам из Киева, аспирант университета, хорошо знает немецкий, жил в Берлине — отец работал в посольстве… Симпатичный…
— Симпатичный, говоришь?.. — Евген Степанович скосил глаза на Катрю. — Ну, ежели симпатичный, то я загляну к вам вечером.
— Да я не про то, — покраснела девушка. — Просто с ним приятно говорить.
— Вот и побеседуем. Только ты им — ни слова. Поняла?
У Модеста Сливинского плохое настроение. Во-первых, не зашел к нему, хотя и пообещал, Вальтер Мейер, этот собачник-шкуродер, как мысленно называл его Сливинский. Сам по себе Мейер хоть бы и век не появлялся, но ведь обещал принести какие-то золотые вещицы и намекал, что, возможно, будут доллары. Модест Сливинский целых три дня мечтал об этих долларах — и вдруг такое разочарование. Все же, что ни говорите, а недостаток воспитания дает себя чувствовать. Порядочный человек предупредил бы, что не может прийти, и ты бы не ждал его, не терял зря времени, маясь на диване.
Но чего ждать от этого недотепы? Из хама, простите, никогда не будет пана. От этого Мейера так дурно пахнет, что после его визитов приходится проветривать квартиру. Но ведь золото!.. Модест Сливинский любил золото больше всего на свете и ради него готов был терпеть не только дурной запах, но и дешевые шутки и пренебрежительное отношение этого грязного эсэсовца.
Разве он бросил хоть слово упрека этому головорезу, когда тот приносил золотые челюсти с обломками зубов? Разве хоть раз спросил, откуда у него такие массивные старинные часы, драгоценные серьги и броши? Нет, как человек интеллигентный и выдержанный, он ни разу даже не намекнул, что ему известно, откуда берет этот шкуродер драгоценности. И расплачивался честно. А после всего такая черная измена!
Правда, Вальтеру могло что-то помешать. Что ж, подождем до завтра.
Модест Сливинский достал свою любимую серебряную рюмку, налил коньяку. Что-что, а коньяк он мог себе позволить первосортный. Предпочитал французский, выдержанный. Коньяк — это его конек, и все в городе знают, что набор коньяков у Сливинского наилучший. Он долго принюхивался к горьковато-пряному аромату мартеля, прежде чем маленькими глоточками осушить рюмку.
Мартель немного успокоил. Что ни говорите, а жить еще можно. Пан Сливинский закутался в пушистый, почти невесомый зеленоватый халат — подарок панны Зоей (ах, эта панна Зося! Как она любила его и как элегантно стягивала прозрачные чулки со своих длинных стройных ног!), постоял у окна. Прескверная погода. Третий день моросит, и хвала богу, что не надо выходить на слякотную улицу, плестись по базарной грязи в поисках подходящей коммерции. Только он, Модест Сливинский, смог так ловко устроиться и заставить работать на себя этих мелких маклеров “черного рынка”. Голова на плечах у него все же есть…
Пан Модест придвинул столик к уютному дивану, покрытому пестрым персидским ковром. Теперь стоит лишь протянуть руку — и легко достанешь бутылку с коньяком, серебряную рюмку. Включил торшер — мягкий свет залил комнату, отразившись в стекле книжных полок. Сам пан Сливинский не любил читать, но полки забиты книгами. Тем более что их сейчас можно купить чуть ли не на вес — эта “вшивая (как любил выражаться пан Модест) интеллигенция” тоже хочет есть.
На этой полке лишь Винниченко. Говорят, неплохо умел писать. Сливинский даже попробовал прочитать какой-то роман — забыл теперь и название, — но дела помешали, так и не закончил. Зато историю Украины, которую написал Дорошенко, осилил: многоуважаемый пан аргументирует необходимость сотрудничества украинцев с немцами, почему же теоретически не подковаться… На самом видном месте — “Майн кампф”.
Пан Модест зевнул и достал с нижней полки детектив в дешевом мягком переплете. Нынче это единственная литература, которую можно читать. Растянулся на диване, подложив под бок мягкую подушку. Но и детектив не развлек его. Ныло в груди. Может, эта свинья Мейер нашел нового покупателя? Постойте, сколько же он заработал на этом эсэсовце?
Причмокивая губами, считал. Дай бог, сумма круглая! Приятно, однако, работать с деловыми людьми…
Сам пан Модест всегда считал себя деловым человеком. В кругу близких друзей, особенно после рюм-ки–другой, любил хвастать своим нюхом, который как будто никогда еще его не подводил. Никогда! Однажды он, правда, попал в передрягу, но вовремя выкрутился. Хотя, честно говоря, игра стоила свеч.
Два года назад Модест Сливинский сделал ставку на бешеную конягу — Степана Бандеру. Этот Бандера заверял, что имеется договор с самим фюрером — на Украине будет, наконец, создано правительство вольной, почти самостийной неньки Украины… “Почти”, ибо верховное руководство все же останется за немцами. Но это никого не тревожило: немцы так немцы, пускай хоть черти, лишь бы не большевики и разные коммунизированные элементы. Только бы свое правительство…
Модест Сливинский стал членом вновь созданного “самостийного” правительства. Боже мой, он сам себе не верил — заместитель министра! Чуть ли не министр Украины!
Направляясь как-то на заседание этого “совета министров”, пан Модест по пути заглянул на толкучку и увидел у спекулянта роскошные очки в массивной золотой оправе. Купил, не торгуясь (впервые за много лет), и появился перед изумленными коллегами во всем министерском величии — высокий, прямой (даже в плечах, кажется, стал шире), с седыми висками, в сверкающих очках. Правда, сквозь толстые выпуклые стекла было плохо видно, и Сливинский не мог оценить выражение лиц других министров, но потом узнал, что фурор был полный — коллеги едва не лопнули от зависти.
Эта неделя, когда пан Модест купался в лучах державной славы, была одной из лучших в его жизни. Не потому, что министерский портфель уже принес ему какие-то реальные блага — это было впереди, — а потому, что теперь только пан Модест понял, что значит быть “персоной”. Да, многое можно отдать за то, что прохожие останавливаются, указывают на тебя, перешептываются — вот, дескать, прошел сам ясновельможный пан министр Модест Сливинский!..
Пан Сливинский родился в семье западноукраинского адвоката средней руки и в бескрайних степях Украины никогда в жизни не бывал. А теперь ему казалось, что он вырос где-то на Днепре. Он представлял себе большой, белый, с колоннами панский дом, парк с вековыми липами и дубами, роскошный “мерседес” на аллее, а вдали поля и поля — жирный, как сало, чернозем. И все это принадлежит ему, пану украинскому министру!
Вот он — такой почтенный, в золотых очках (не забыть бы завтра заглянуть в мастерскую и вставить обыкновенные стекла) и строгом черном сюртуке — поднимается по мраморной лестнице дворца, который большевики когда-то называли, кажется, Верховным Советом. Когда это было и где эти большевики? Теперь здесь парламент, а еще лучше — конгресс Украины. Кстати, на ближайшем заседании правительства надо будет внести это предложение. Конгресс — это как-то возвышает! Ему, Модесту Сливинскому, предоставляют слово, или нет — он сам дает слово, так как уже председательствует в конгрессе. В перерыв выходит в вестибюль; господа депутаты, даже министры, подобострастно пожимают ему руку, кланяются…
А вечером можно скрыться в укромном кабинете ресторана. Разумеется, с девочками…
Ах, эти мечты! Как высоко вознесли они Модеста Сливинского и как низко пришлось упасть! Только он приготовился произнести свою первую речь на заседании правительства, как вдруг сообщили — правительства нет. И нет самостийной Украины, которая временно складывалась из западноукраинских земель, а есть лишь дистрикт[2] , и уже назначен губернатор дистрикта.
Сколько энергии и денег пришлось потратить тогда бывшему пану министру, чтобы доказать немецким властям свою лояльность! Еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Но, слава богу, не закатилась его счастливая звезда — как раз в это время в город возвратилась пани Стелла.
При случае пани Стелла любит намекнуть на свое аристократическое происхождение, хотя кто-кто, а пан Модест знал, что ее отец был когда-то мясником в Умани. В банде Махно не брезгал ничем, но оказался дальновиднее многих, вовремя подался на Запад, где с толком вложил свой капитал в депо. Имел прекрасный особняк и небольшой завод.
Когда произошло воссоединение западноукраинских земель с Украиной, и завод и особняк национализировали. Но пани Стелла жила в это время в Берлине, влюбляя в себя немецких офицеров. Она не забыла своего друга. Возвратившись уже при немцах, замолвила, где нужно, словечко и поразительно быстро уладила его дела. Пан Модест удивлялся в душе: сколько лет прошло с тех пор, как он сошелся с пани Стеллой, а она все-таки не бросала его, хотя была богаче его, обладала огромными связями и даже знала о многочисленных интрижках своего любовника.
Гитлеровцы на всякий случай перевезли куда-то членов “правительства”, а пан Модест Сливинский остался в городе. Как горько, как тоскливо было тогда у него на душе! Лишиться всего, когда ты только начал входить во вкус своего нового положения!..
Отчаянные мысли терзали его сердце. Боже правый, Модест Сливинский, кажется, начал немного недолюбливать немцев!.. Нет, он не окончательно разочаровался в них (все же они бьют этих головорезов-большевиков на Восточном фронте), но… Какая-то червоточина завелась в душе. Лежал целыми днями на кровати в грязноватом номере гостиницы, не зная, на что решиться. Однако недаром говорили, что у пана Сливинского есть голова на плечах. Счастливая мысль пришла вечером, когда, закутавшись в халат, он просматривал свежую газету. Мысль была до того неожиданна, что он отбросил газету, причмокнул языком и даже чуть ли не запел от радости.
Да, это гениально! Лишь глупец может пройти мимо таких золотых россыпей. Что правда, то правда: грязи при этом не оберешься, но что значат такие пустяки по сравнению с барышами, какие сулит Модесту Сливинскому “черный рынок”. Да, решено — “черный рынок”! Модест заставит работать на себя десятки, сотни людей, деньги потекут в его карманы; и тогда, уж извините, господа, мы еще посмотрим, кто выиграл, а кто проиграл.
Сливинский снял комфортабельную квартиру в центре города и начал изучать рыночную конъюнктуру.
Успех дела решило то, что пан Сливинский сумел сохранить кое-что из прежних сбережений. Это позволило ему рассчитываться с крупными, перспективными клиентами не какими-то паршивыми оккупационными, а настоящими рейхсмарками, в исключительных случаях — даже долларами и английскими фунтами. Черт с ней, с войной: валюта всегда остается валютой, а коммерция коммерцией.
Скоро почти ни одна крупная сделка на “черном рынке” не проходила мимо рук пана экс-министра, большинство мелких и средних спекулянтов работало уже на него. Модест Сливинский применил к ним давно проверенную политику кнута и пряника: разрешал своим маклерам совершать мелкие сделки, не скупился на проценты при осуществлении крупных махинаций, но не прощал малейшей попытки что-либо утаить от него.
Значительную прибыль давали пану Модесту дела, подобные тем, какие он вел с Вальтером Мейером, а также торговля картинами. Начало им положила афера с двумя полотнами Семирадского, которые Сливинскому посчастливилось приобрести за несколько килограммов сала и сбыть за немалую сумму. С тех пор ни одна стоящая картина в городе не миновала его рук. Фактически пан Модест создал целую контору, которая скупала шедевры живописи. Деятельность агентов конторы выходила далеко за пределы города, распространялась на Краков, Люблин; длинная рука Сливинского дотянулась до самого Киева. Пристрастием пана Модеста к искусству заинтересовалось гестапо, контора оказалась под угрозой ликвидации, и тогда Сливинский сделал ловкий “ход конем” — пригласил в компаньоны пани Стеллу.
Слухи о том, что пани Стелла пользовалась успехом у самого рейхсминистра Гиммлера, вероятно, не были лишены основания: во всяком случае, гестапо перестало вставлять палки в колеса Модесту Сливинскому.
Пан Модест попытался было выведать у любовницы, в какой мере соответствуют истине эти слухи. Пани Стелла лишь приложила свой длинный холеный палец к устам и укоризненно покачала головой. Модест Сливинский понял все и не стал больше допытываться. Он хорошо знал характер компаньонки. Деловая женщина, она не любила делиться своими секретами — большими или малыми. Не ревновала пана Модеста, ценя в нем то, что и он никогда ни единым словом не давал понять, будто знает о ее амурных делах. Может, за это и любила.
Вообще у пани Стеллы была репутация экстравагантной особы. Она рано потеряла мужа, ставшего жертвой автомобильной катастрофы. Вдове досталось большое наследство — охотников жениться на ней было немало, но она дала понять всем этим претендентам, что сама может растранжирить свои капиталы. Однако распорядилась деньгами разумно, вложив значительную сумму в акции одной перспективной фирмы. Часть денег, учитывая неустойчивость международной обстановки, обратила в ценности.
Как раз в это время пани Стелла вновь встретилась с Модестом Сливинским.
Они были давно знакомы. Еще когда ее отец-махновец только обосновался в городе, Стелла, которая тогда называлась просто Степанидой, влюбилась в гимназиста Модеста Сливинского. Стройный, высокий, с римским профилем и выразительными глазами, юноша нравился не ей одной. Степанида часами караулила у его дома, стараясь попасться на глаза красивому гимназисту, писала любовные письма, на которые так и не получила ответа.
Кажется, потом забыла, не вспомнила, а встретила — и зашевелилось что-то в груди. А пан меценас [3] почтительно склонялся перед ней, смотрел влюбленными глазами и был такой же стройный, красивый и желанный.
Местный бомонд удивлялся капризу пани Стеллы, но постепенно сплетни утихли. К пану Сливинскому привыкли, тем более что безупречные манеры пана отвечали самым изысканным вкусам.
Неудача постигла пани Стеллу в тридцать девятом году. Она сразу потеряла и надежные акции, и завод, и особняк. Хвала господу, что удалось еще бежать от этих варваров-большевиков в Варшаву, захватив драгоценности и валюту.
В Варшаве судьба свела пани Стеллу с ее бывшим поклонником — немецким офицером, успевшим стать обергруппенфюрером СС. Он забрал ее с собой в Берлин, где рассудительная, деловая дама сумела с его помощью завязать влиятельные знакомства. К сожалению, ее бедный Хорст — при этих словах панна Стелла обычно тяжко вздыхала — погиб во время воздушного налета, и ей пришлось вернуться домой. Новые знакомые помогли вернуть особняк (хорошо, что не растащили обстановку и ковры), а саму пани поручили заботам коменданта города. В такое трудное время для пани Стеллы и этого было достаточно. Положение обязывает, и, хотя это не льстило ее самолюбию, особняк пришлось превратить в подобие шикарной гостиницы для высокопоставленных приезжих — вернее сказать, в фешенебельный публичный дом. Правда, избави бог, никто не позволял себе вслух сказать такое про особняк пани Стеллы. Просто по вечерам к ней заглядывают молодые и красивые подруги, которым хочется потанцевать и выпить. А кто запретит молодой, свободной женщине пофлиртовать с мужчинами? Кто сказал, что это такой уж страшный грех?..
Потеряв надежду на встречу с Вальтером Мейером, Модест Сливинский позвонил Стелле.
— Целую ручки любимой пани… Очень уж соскучился, дорогая. Может, мы вечерком встретимся?
Секундная пауза подсказала ему, что пани обдумывает ответ. Значит, свидание не состоится. Стелла, правда, могла откровенно сказать, что уже назначила кому-то встречу. В некоторых случаях пани Стелла так и поступала, но все же обычно старалась находить благовидный предлог — ведь грубая правда никогда не бывает приятной. Но сегодня пан Модест как будто ошибся, пани Стелла ответила, что ждет его в семь, и лишь попросила: будет какой-то высокопоставленный гость, так не сможет ли пан Сливинский захватить с собой бутылку–другую французского мартеля.
— Для пани Стеллы я достал бы не только коньячные звездочки, но и звезды с неба… И это, прошу верить, не преувеличение. Целую ручку моей любимой пани. До вечера…
И все же интуиция не подвела пана Модеста. Пани Стелла встретила его в вестибюле, устланном большими пушистыми коврами, протянула для поцелуя руку с перламутровыми ногтями и предупредила:
— У нас сегодня важный гость — герр Отто Менцель. Надеюсь, вы понимаете… — Многозначительно посмотрела на Модеста и погладила его по щеке мягкой ладонью. — Мой любимый, вы сегодня пофлиртуете с панной Ядзей? Хорошо? Договорились?
Пан Модест отвел глаза. Все ясно: пани Стелла опять пренебрегла им… Не следует ли притвориться, что тебе это, скажем, несколько неприятно? Хотя бы из элементарного приличия. Может быть, даже запротестовать? Нет, не стоит — они ведь прекрасно понимают друг друга.
Пан Модест ограничился тем, что изобразил на лице недовольство. Пани Стелла на секунду прижалась к нему.
— Не печальтесь, мой любимый, мы же старые друзья…
Модест склонился к ее руке, чтобы скрыть предательскую улыбку. Кто сказал, что он удручен? Панна Ядзя — это же мечта! Счастье само лезет ему в руки. Он давно уже приметил эту молодую, красивую блондинку. Многолетний опыт подсказывал Сливинскому: в девушке что-то есть! Это чувствовалось по тому, как умело она вела себя с мужчинами — внешне сдержанно, но с вызовом, всячески распаляя их. Пан Модест однажды сам испытал на себе силу ее бесстыдного взора. Как-то, танцуя, он нежно прижал к себе панну Ядзю и получил в ответ такую улыбку, что даже у него зашлось сердце. Но ведь тогда между ними стояла пани Стелла. А сегодня!.. Модест Сливинский даже порозовел от удовольствия. Видит бог, он не хотел этого! Сама пани Стелла толкает его в объятия панны Ядзи.
В гостиной пани Стелла представила Сливинского гостям. Штандартенфюрер СС Отто Менцель сидел в глубоком кресле. Он небрежно кивнул пану Модесту. Второй гость, мужчина лет тридцати, высокий, худощавый, с умными, проницательными глазами, поднялся и подал руку.
— Гауптштурмфюрер Харнак, — отрекомендовала его пани Стелла.
Оба гостя были в штатском. Отто Менцель поначалу разочаровал Модеста Сливинского: в городе ходили легенды о жестокости шефа гестапо. А он увидел толстопузого коротышку с обвислыми красными щеками и тусклым взглядом. Ей-богу, попадись на улице такой, подумал бы: замороченный отец большого семейства, которого жена пилит за лишнюю стопку, за недостаток средств.
Пани Стелла подсела к Менцелю. Тот едва приподнялся в кресле, улыбнулся, шевельнул щеками. Что ни говори, а Стелла была восхитительна. В золотистом платье, подчеркивавшем ее высокий бюст, с нежными белыми руками, украшенными браслетами, она похожа была на статую работы античного мастера. Глядя, как игриво наклонилась она к гестаповцу, приблизив к его мясистым губам свое розовое ушко, как коснулась его руки с толстыми, словно обрубленными, пальцами, Сливинский на секунду почувствовал ревность. Но тут же одернул себя и оглянулся, отыскивая Ядзю.
Девушка сидела в углу, разглядывая журналы. Пан Модест подошел к ней. Ядзя подняла на него зеленые глаза. Смотрела долго, с вызовом, кокетливо надув губки.
— Почему же вы так долго не шли? — сказала с упреком. — Заставили меня скучать…
Шаловливо ударив пана Модеста журналом по руке, заложила ногу на ногу так высоко, что стали видны круглые колени.
“Святая дева Мария! — взмолился в душе Модест Сливинский. — Да за такие колени не то что душу — даже тело стоит всучить дьяволу, и то будет не такая уж дорогая плата!”
— Панна желает коньяк или вино? — спросил он у девушки.
— Любопытно, что это за бутылки? — указала пани Ядзя на столик с колесиками, который горничная вкатила в гостиную.
— Кажется, французский мартель… — Сливинский сделал вид, что не узнает принесенные им бутылки (такие вещи не разглашаются). — А впрочем, попробуем…
Он сделал знак горничной подать всем коньяк. Выпрямился, высоко держа рюмку.
— Уважаемые господа! — сказал громко, стараясь придать словам оттенок искренности. — Я предлагаю осушить эти бокалы, — искоса следил за выражением лица Менделя, — за здоровье того, кому мы, украинцы, обязаны нашей свободой. За фюрера!
Харнак подскочил с вытянутой рукой.
— Хайль Гитлер!
— Хайль!.. — Менцель едва поднял над креслом толстые короткие пальцы. — Мне нравится ваш тост, пан Сливинский. Так должен думать каждый украинец, — он поднял брови, отчего кожа собралась морщинками не только на лице, но и на лысом шишковатом черепе, — и мы добьемся этого. Всех, кто не с нами, — Менцель сжал свои короткие пальцы в кулак, поднял его, черный, волосатый, — мы уничтожим!
Модест Сливинский как загипнотизированный смотрел на этот кулак. Он казался ему символом немецкого могущества. Вот таким же бронированным кулаком раздавили они Францию, Бельгию, а сейчас уничтожают большевиков в приволжских степях. Да, это сила, и на нее следует рассчитывать.
Усевшись на краешек стула, пан Модест сказал неожиданным для себя тонким голосом:
— Пан Менцель может быть уверен в лояльности широких кругов украинской общественности. Немецкая армия принесла нам освобождение!..
Штандартенфюрер сощурил глаза, лицо его вдруг вытянулось. Шевельнул скулами, словно жуя, и жестко напомнил:
— Немцы не такие глупцы, чтобы проливать кровь за ваше освобождение. Солдаты фюрера завоевывают жизненный простор для своей нации! Мы знаем, кое-кто из вас еще рассчитывает на какую-то собственную державу. Глупости! — рубанул кулаком в воздухе. — Да, глупости! Украинские земли навеки станут немецкими, на них останутся лишь те, кто верно будет нам служить!
На несколько секунд Отто Менцель вновь нырнул в кресло. Пани Стелла подала ему полный бокал. Высосал, почти не разомкнув мясистых губ, снова сверкнул глазом на Сливинского.
— Это говорю не я, — промолвил вдруг подозрительно мягко. — Это сказал наш фюрер, а он умеет держать слово!
— Да, фюрер — железный человек, — согласился пан Модест, невольно вспоминая обещание Гитлера об украинском правительстве. — Как сказал, так и будет.
— Давайте лучше оставим политику, — вмешался Харнак. — Ко всем чертям и Украину, и Францию, и Польшу — ведь рядом такие женщины!..
Гауптштурмфюрср немного опьянел. Он пересел па подлокотник кресла своей дамы — дородной панны Стефы, обнял ее за плечи, начал что-то нашептывать. Та жеманно округляла глаза, громко смеялась.
— Прошу вас к ужину, — поднялась пани Стелла. Стол сверкал хрусталем и серебром.
— Простите за меню — не те времена… — лицемерно вздохнула хозяйка дома, явно напрашиваясь на комплименты: на столе, покрытом белоснежной скатертью, было много такого, что и в мирное время считалось редкими деликатесами.
“Откуда она достала икру?” — подумал пан Модест, усаживаясь возле Ядзи. Харнак галантно пододвинул стул своей даме и, оценив взглядом стол, сказал хозяйке:
— Вы волшебница, пани Стелла!
— Ну-ну… — буркнул штандартенфюрер Менцель, запихивая за ворот краешек салфетки. — Ну-ну… Ужин хорош… — Он придвинул к себе салат, положил на тарелку несколько кусков ветчины, столовой ложкоп начал накладывать икру.
“Хам, — подумал Сливинский, — хам и выскочка”. Менцель напоминал ему сейчас большую жабу. Глядя, как штандартенфюрер жадно запихивает в рот большие куски ветчины, как чавкает мясистыми губами и щурится от удовольствия, пан Модест испытывал омерзение. Но внешне ничем не проявлял этого: ухаживал за панной Ядзей, наливал всем коньяк и вино, успел ненароком прижать соблазнительное колено соседки. Та восприняла это как должное, и Сливинский зашептал:
— После ужина, крошечка, поедем ко мне… Я покажу панне…
Ядзя подняла на него свои дивные зеленые глаза и спокойно ответила:
— Конечно, поедем, но что это мне сулит?
Вероятно, со стороны смешно было смотреть на пана Модеста, застывшего с раскрытым ртом и шпротиной на вилке. Такого он не ожидал: все женщины одинаковы, все любят подарки, но чтобы сразу вот так! Придя в себя, подумал: “А может, это и лучше? Во всех случаях — финал один, но такой путь к нему проще. Без лишних разговоров и капризных выходок…”
— Не волнуйся, крошка, — ответил деловым тоном, — ни одна женщина еще не обижалась на меня. Надо только постараться, чтобы после ужина Харнак отвез нас…
Ядзя кивнула.
После ужина танцевали под радиолу. Панна Стефа пила наравне с гауптштурмфюрером, и теперь оба были пьяны. Танцуя, девушка чуть ли не висела на Харнаке; это нравилось ему, он, не стыдясь, целовал ее оголенные плечи.
Улучив удобный момент, Ядзя пошепталась со Стефой. После очередного танца Харнак предложил:
— Пан Сливинский, я могу подвезти вас домой…
— У нас с паном Менцелем еще деловой разговор… — объяснила панна Стелла, провожая гостей.
Поздним вечером трижды постучали в окно. Петро и Богдан на всякий случай спрятались в кладовке. В комнате кто-то загудел басом, шкаф с той стороны отодвинули, и к хлопцам заглянул высоколобый, полнолицый, курносый, осыпанный веснушками мужчина. Он приветливо поглядел на парней, лукаво подмигнул им.
— Евген Степанович! — обрадовался Богдан. — Неужели вы?
— Как видишь. Собственной, так сказать, персоной, — сощурился полнолицый. А ты того, малость похудел…
— М-да… — расправил плечи Богдан. — Теперь-то уже ничего. Еще неделя — и снова можно… — Сделал движение, каким подбрасывают штангу.
— Забудь, — махнул рукой полнолицый. — Это сейчас никому не нужно.
Петро стоял, упираясь в притолоку. Гость несколько раз посмотрел на него исподлобья, подошел.
— Почему же вы нас не познакомили? — попрекнул хозяев. — Давайте сами. Заремба…
Он пожал руку Петра так, что тот почувствовал — силы гостю не занимать стать.
Узкие глаза Зарембы поблескивали. Петру было крайне неприятно, но взгляда не отвел. Так и стояли, скрестив взгляды, словно мерясь силою. Заремба уступил первый.
— Мне нравится твой товарищ, — оглянулся на Богдана. — Может, Катруся угостит нас чаем?
Девушка побежала на кухню. Заремба примостился на диване, попросил:
— Расскажите, что в лагере.
Петро замялся. “Почему это мы должны рассказывать?” — подумал. Богдан, увидев его гримасу, сказал:
— Евген Степанович наш старый друг. Мы можем быть с ним откровенными.
Рассказывал Богдан. Евген Степанович смотрел немигающим взглядом. По выражению его лица нельзя было понять, о чем он думает. Петру казалось, что Заремба не слушает, хотел даже остановить Богдана, по вовремя спохватился, заметив, как задвигались желваки на щеках гостя. Петра поразило, как гладко течет речь товарища, какие меткие и точные слова находит он. Лишь раз Богдан сбился. Это случилось, когда он вспомнил, как гнали колонну пленных — босых, раздетых — по снегу. Вот тут-то он сбился, услышав всхлипывание: Катруся, застыв на пороге, вытирала слезы. Недовольно хмыкнул, сестра села за стол. “Прости, не удержалась”, — прочитал он в ее взгляде.
Катруся, подавая чай, предупредила:
— Сахара нет, придется вам пить с карамелью.
— И на том спасибо, — сказал Заремба.
Он начал расспрашивать хлопцев об их планах. Петро понял и одобрил тактику Зарембы — как можно меньше говорить самому и как можно больше вытянуть из них. “Он, пожалуй, прав. Я на его месте поступил бы точно так же…”
— Как ваша нога? — вдруг обратился к нему Заремба.
Петро поднялся, сделал несколько шагов.
— Теперь легче… Спасибо Катрусе, через неделю смогу танцевать.
— Так, так… Танцевать, говорите? И это неплохо…
— Евген Степанович, — взмолился Богдан, — вы все ходите вокруг да около. Может, все-таки посоветуете нам что-нибудь?
— Горячий ты, Богдан… Но, может, и посоветую!
— Скажите…
— Не кажется ли тебе, что лезешь поперед батьки в пекло?
— Но ведь душа горит…
— А ты ее чайком заливай, душу-то горящую, — указал гость на стакан. — Чай — это, брат, большая сила…
Богдан выжидающе замолчал. Заремба допил свой стакан.
— Так вот, — сказал. — Мне приятно видеть таких мужиков. Сейчас ничего не скажу, но дело найдется. Должен предупредить: трудное и опасное. Как на войне, — усмехнулся, — а может, и труднее… — Говорил ровным голосом, чуть растягивая слова. — Дней десять поживете еще здесь, — указал на каморку, — пока Петро выздоровеет. За это время мы приготовим ему документы.
— Кто это мы? — вмешался Богдан.
— А может, ты помолчал бы? — проворчал Заремба.
— Не думайте, вуйко [4] , что я не умею держать язык за зубами. Но руки чешутся.
— Успеешь, — успокоил Евген Степанович. — Потом, когда будут документы, товарищу Кирилюку придется переехать на другую квартиру.
Он произнес эти слова просто и обычно, но для Петра они прозвучали чудесной музыкой. “Товарищу Кирилюку…” Выходит, здесь, в глубоком тылу врага, они остаются теми же, кем и были, — людьми. Конечно, право называться человеком надо отстаивать, но ведь оружие у него есть, товарищи есть — вот и можно будет побороться! И Петро ответил просто и сердечно:
— Мы с Богданом — комсомольцы. Можете рассчитывать на нас, товарищ Заремба!
— Вот и хорошо. А так как вы комсомольцы, да еще с образованием, вам и задание — подготовьте листовку. Значит, так — фашисты принялись гнать молодежь в Германию. Надо разъяснить людям, что их там ждет… — Пододвинулся к столу, жестом подозвал Богдана. — Листовку передадите через Катрусю. Она знает, кому…
— Вот она какая, — сказал Богдан. — А еще сестра… Даже мне ни слова…
— Наш первый закон — строгая конспирация, — оборвал его Заремба. — Катруся, — ласково взглянул он на девушку, — золото! Если бы все были такие… — Задумался на минутку, потом продолжал: — Стало быть, к завтрему текст листовки должен быть готов. А основное ваше задание — набираться сил.
Перед тем как выйти, Евген Степанович долго прислушивался. Завернул за дом и бесшумно исчез в темноте.
— Пошел огородами, — сказал Богдан. — Далековато, зато вернее.
Вздохнул, внимательно всматриваясь в темноту, но так ничего и не увидел. Сказал со вздохом:
— Конспирация…
Заремба пришел спустя неделю. Снова попросил Катрусю вскипятить чаю и долго с удовольствием пил. Завел разговор об урожае на огороде, о том, что хлеб на рынке подорожал, что спекулянты окончательно распоясались — три шкуры сдирают с народа. Но хлопцы понимали, что вряд ли Заремба рискнул бы после комендантского часа пробираться на далекую окраину города для беседы о моркови на грядках и о вакханалии на рынке. Поэтому сидели молча, лишь поддакивая. А Евген Степанович, дуя на горячий чай, щурил глаза, аппетитно прихлебывал и очень серьезно обсуждал с Катрусей проблему удобрения для помидоров. Лишь раз, как бы невзначай, обратился к Петру:
— Катруся говорила, вы немецкий хорошо знаете. Верно?
— Почти как родной. Отец работал в торгпредстве в Берлине, и я вырос там.
— Так, так… — Глаза снова исчезли в узких щелках. — А ты, Богдан, почему нос воротишь?
— Да разговор уж больно любопытный — картошка, редька… Точно это самое важное…
— А зимою скажешь — картошки бы горячей!.. Или, прошу пана, супа с фасолью…
— До сих пор жили, как-нибудь переживем!
— Надо, чтобы не как-нибудь. Без пищи — какая работа! Еда — большое дело. Ihre Meinung darьber, mein junger Freund? [5] — вдруг обратился к Петру.
Тот вздрогнул от неожиданности и тут же ответил:
— Dies haben wir stattgestellt als wir in Kriegsgefangenenlager gewesen worden[6] .
— Прекрасное произношение, — довольно потер руки Евген Степанович. — Еще один вопрос. Вы разбираетесь в бриллиантах, золоте, ну и в разном ювелирном хламе?
— Полнейший дилетант…
— Это беда небольшая. — Заремба вышел в переднюю и принес оттуда несколько книг. — Вот посмотрите. Быстро подковаться сможете?
— Ничего не понимаю. — Петро бегло просматривал книжки. — Справочник ювелира… каталоги… ценники. К чему все это?
— Но ведь вы не ответили на мой вопрос.
— Я думал, вы шутите.
— Неужели похоже, что я пришел сюда, чтобы шутки шутить?..
— Нет, но ведь…
— Недели хватит?
Петро почесал затылок.
— Если надо, хватит.
Заремба поднялся, зашагал по комнате. Петро смотрел на него, ожидая объяснений. Богдан тоже хлопал глазами, и он никак не мог взять в толк, что к чему. Только Катря спокойно штопала чулок.
— Так, так… — начал вдруг Евген Степанович каким-то чужим голосом. — Такое, значит, дело… — Сел верхом па стул, опершись подбородком о спинку. — Можем начать большую игру, очень большую. Можем сразу и проиграть. Риск большой. — Помолчал несколько секунд, собираясь с мыслями. — Так вот, слушайте… Недавно на шоссе около города партизаны устроили засаду и перехватили машину. Все пассажиры погибли — два офицера и один штатский. У штатского нашли интересное письмо. Какой-то ювелир из Бреслау рекомендует племянника Карла Кремера своему давнему приятелю — нашему губернатору. Понимаете, самому губернатору!
Петро ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой. Богдан недовольно буркнул:
— Но какое все это имеет отношение к нам?
— Непосредственное! — Заремба оглянулся, продолжал чуть ли не шепотом: — Подумайте, что получится, если Петро явится к губернатору с документами этого Карла Кремера и письмом от дяди?
— Думаю, его сразу же схватят, — не задумываясь, заявил Богдан. — Неужели вы полагаете, что губернатор раньше никогда не встречался с тем Кремером?
— Так, так… А ежели не встречался?
Богдан выпрямился, лицо его окаменело; он произнес сухим, властным тоном:
— Я очень рад выполнить просьбу моего старинного друга, молодой человек. Кстати, что сейчас делает фрау Эльза? Я случайно встретил ее два месяца назад, и она говорила, что у Отто неприятности… — И ехидно спросил Зарембу: — Что же все-таки делает фрау Эльза?.. Ведь он разгадает Петра в две минуты.
— Дельно замечено! — Заремба повернулся к Петру. — А вы как думаете?
Тот заерзал на месте.
— Поймите меня… Я не боюсь и, если нужно, пойду… Однако, по-моему, Богдан все-таки прав — меня разоблачат в первую же минуту.
— Приятно иметь дело с разумными людьми, — улыбнулся Евген Степанович. — Ты как считаешь, Катрунця?
Девушка не ответила, лишь смотрела на Зарембу.
— Чего глазищи вылупила? — сказал тот грубовато. — Думаешь, так сразу и пошлем? Тут ой еще сколько предстоит думать!..
Снова поднялся, начал мерить комнату наискосок большими шагами.
— Стало быть, так, — продолжал. — Что надо делать? Первое. Тебе, Петро, — перешел на “ты”, — проштудировать эти книжки. Отныне ты — Карл Кремер. Имеешь документ о том, что освобожден от службы в армии, так как хромаешь на правую ногу. Непременно раздобудь себе трость. Сперва это будет очень кстати, — указал на вытянутую ногу Петра, — потом привыкнешь. Дальше. Богдан прав, мы обязаны предусмотреть все. Приготовим тебе документы, поедешь как друг и компаньон Карла Кремера в Бреслау. В гости к дядюшке. Постараемся достать ювелирные изделия, которыми попытаешься его заинтересовать. Остальное зависит от тебя. Ты должен знать все, начиная от мелочей и кончая крупными торговыми операциями. Характер дяди, облик родственников, обстановку квартиры, различные семейные истории — все это важно; незнание какой-нибудь детали может очень дорого обойтись…
Подсел к Петру на диван, положил тяжелую ладонь парню на плечо.
— Согласен?
Петро непонимающе взглянул на него.
— Согласен? — спросил еще раз. — Ежели что… подумай, взвесь все. Мы подождем…
— Вы спрашиваете моего согласия?! — воскликнул Петро. — Моего согласия?!. Я думаю вот про что: вы, Евген Степанович, черт его знает кто… Ну почему именно мне поручается такое? В душу вы мне заглянули, что ли? Конечно, согласен! Но это не то слово… Я хочу этого и убежден — вы не ошиблись. Не знаю только, почему выбор пал на меня…
— Не было другого выхода, да и время не терпит, — не лукавя, объяснил Заремба. — Мы не в Москве, перебирать сотни кандидатур не имеем возможности. Правда, и здесь свет клином не сошелся на тебе, кого-нибудь все равно подобрали бы. Однако не об этом сейчас речь… Я поручился за тебя. А поручился, потому что… Благодари вот ее, — указал на Катрю, — она мне столько наговорила…
— Скажете еще! Сами же расспрашивали… Тот лукаво повел глазом.
— Что, испугалась, красавица?..
— Вуйко Евген, — покраснела девушка, — и что это вы выдумали?
Богдан все время сидел в углу, лишь поглядывал на Зарембу.
— И везет же людям! — сказал вдруг. — Я на твоем месте, Петро, в бога начал бы верить: имеешь покровителя на небе… Вы только посмотрите: не успел еще из лагеря вырваться, рану еще не залечил — и вот тебе! А ты — здоровый, рассудительный — сиди да сало нагуливай. Только теперь я начинаю понимать, как права была наша мать, когда вколачивала в меня этот немецкий язык! Как бы он теперь пригодился мне!
— Это ты рассудительный? — язвительно улыбнулся Заремба. — Не шуми, есть и для тебя дело.
— Снова листовку писать? — скривился Богдан.
— А ты знаешь, чего стоит хорошая листовка?
— Согласен, буду писать, — поднял руки вверх Богдан.
— Э, нет, теперь мы тебе не это поручим, — улыбнулся Заремба. — Приготовься: завтра около двенадцати выезжаем…
— Куда?! — загорелись глаза у хлопца.
— Об этом потом. Оденься попроще — куртку какую-нибудь, сапоги… Поглядывай в окно. Увидишь, я на фире[7] проеду — выходи. Огородами обойдешь, ждать буду возле старого дуба. Не забыл еще?
— Понятно. Как с документами?
— Будут у меня. С собою — ничего!
Этой ночью Петро не спал. Лежал тихо как мышь, едва дыша. Все представлял себя в разных положениях. Как разговаривает с губернатором, как едет в Бреслау… Дядя Карла Кремера рисовался ему краснолицым, солидным субъектом, с кольцами на пальцах. Грубоватый коммерсант, которого он окрутит за день. А потом он, Петро, свой человек и в гестапо и в военной комендатуре…
Богдан ворочался с боку на бок и удивлялся Петру: так повезло человеку, а он лег и сразу заснул. Я бы на его месте… Но постой — и у нас завтра что-то наклевывается. Вуйко Евген предложил надеть сапоги и куртку. Следовательно, едем куда-то за город. Зачем? Неужели к партизанам?! К тем самым, которые ликвидировали этого Кремера. Боже мой, как истосковались руки по оружию! Вообразил себя в засаде над дорогой. Из-за угла на большой скорости выскакивает черный “лимузин”. В руках задрожал автомат… Так вас, так! Вот это жизнь!
Унтер-офицер в черной эсэсовской форме проводил Модеста Сливинского на второй этаж, подал знак подождать в приемной. Пан Модест опустился на стул у стены. Черт его знает что!.. Хотя пана Модеста и предупредили, что его примет сам Отто Менцель, который хочет по-дружески побеседовать с ним, колени у пана Сливинского предательски дрожали. От гестапо всякого можно ожидать и от “парафии”[8] Отто Менцеля лучше держаться подальше. Ведь и излишняя благосклонность шефа тайной полиции может оказаться не менее опасной, чем враждебность или недоверчивость.
Тяжелая дубовая дверь открылась, и тот же эсэсовец пригласил Сливинского в кабинет. Пан Модест, собрав все свои силы, переступил порог с высоко поднятой головой, всем своим видом показывая, что в кабинете Отто Менцеля он чувствует себя так же, как и в салоне пани Стеллы. То, что он увидел в первое мгновенье, придало ему храбрости. Да, он выбрал правильный тон — сам герр Менцель вышел из-за своего массивного стола и с приятной улыбкой поспешил навстречу Модесту Сливинскому.
— Очень рад видеть пана Сливинского у нас, — чуть ли не пропел, пожимая длинные холеные пальцы пана Модеста. — Наконец-то вы пожаловали к нам в гости…
Вспомнив, как его пригласили и везли “в гости”, Модест Сливинский снова почувствовал предательское дрожание в коленях, но, благодарение богу, Отто Менцель указал ему на глубокое удобное кресло. Пан Модест нахально вытянул ноги в модных пестрых носках, оглянулся вокруг и сказал с наигранной беззаботностью:
— У вас неплохой кабинет, герр Менцель. Светлый и со вкусом обставленный.
— Вы думаете? — захохотал тот. — Я уже привык к нему и не замечаю. Да и вкус у нас невзыскательный…
— Что вы, что вы! — возразил пан Модест. — Посмотрите, как гармонирует цвет этого ковра с тонами портьер! Какое богатство красок!
— Правда? — притворно усмехнулся Менцель. Ковры, портьеры и всю мебель притащили сюда из квартиры известного польского ученого, и Модест Сливинский был первым, кто обратил внимание на их изящество и красоту. — Мне очень приятно, что вы так высоко оцениваете мои дилетантские попытки…
Пан Модест смотрел на этого чурбана, который весь утонул в большом кожаном кресле. Какой идиот, простите, пустил слух о жестокости и зверствах Отто Менцеля? У этого краснолицего субъекта вид вполне добропорядочного человека. Как прислушивается он к его, Модеста Сливинского, суждениям, как предупредительно заглядывает в глаза! Пан Модест все больше утверждается в мысли, что перед ним уравновешенный пожилой господин. Вот разве только пальцы подозрительно грубоваты; но что поделаешь, у человека не может быть все абсолютно гармонично.
Пан Модест заложил ногу за ногу и, покачивая чуть ли не перед носом Менделя до блеска начищенным ботинком, уверенно, даже с оттенком некоей снисходительности, произнес:
— Должен вам заметить, герр штандартенфюрер, что вы мало знаете и плохо используете украинских патриотов. Мы могли бы принести значительно большую пользу.
— Вы так думаете? — Менцель сощурился. Эта беседа, которой он придал такой необычный тон, забавляла его. Смешно было смотреть, как пыжится и поучает его этот осел в модном галстуке. Но иногда можно позволить себе небольшой спектакль.
И, продолжая игру, Менцель произнес елейным голосом:
— Возможно, вы и правы… Мне лично очень понравилась та, гм… как бы это сказать?., лояльность, которую вы с такой откровенностью высказали у госпожи Стеллы Но это же только слова, — вздохнул, — а что в наше время слова? В лучшем случае — мелкая разменная монета. А ведь вы, герр Сливинский, привыкли иметь дело с крупными купюрами. Не так ли?
Пан Модест испугался. На что этот Менцель намекает? Нет, он не позволит залезать в свой карман!
— Не одни слова, — притворился, что не понял намека, — но и сердца… И не только я… Многоуважаемый наш шеф пан Бандера не раз заявлял, что лучшие силы украинской нации…
— Оставьте и вашего шефа, — небрежно махнул рукой Менцель, — и ваши лучшие силы… — Кто-кто, а штандартенфюрер знал, чего стоит вся эта шайка.
— Позволю взять на себя смелость возразить многоуважаемому пану, — обиделся Модест Сливинский. — Наша украинская полиция на деле доказала, что верно служит фюреру!
“Банда трусливых пропойц, — подумал Менцель. — Способны лишь на акции против мирного населения…”
— Украинская полиция и отряды ОУН[9] , — продолжал Сливинский, — будут и в дальнейшем вести решительную борьбу с коммунизированными элементами.
“Долго этот наглец собирается разглагольствовать? — подумал Менцель. — Пора прекратить комедию!..”
Штандартенфюрер грубо ухватил Модеста за пуговицу пиджака и резко оборвал разговор.
— Не только полиция. Вы… вы будете вести эту борьбу! — Усмехнулся, увидав, как вытянулось лицо “гостя”. — Да, вы!.. Мы надеемся, что вы поможете нам в нашей трудной будничной работе.
Пан Модест сник. Вот оно что!.. Теперь понятно, зачем они вызвали его…
Как бы прочитав мысли пана Модеста, Менцель взял со стола листок бумаги.
— Прошу ознакомиться и подписать, — сказал он. — И запомните: это большое доверие и честь!
Стараясь не показать гестаповцу, как дрожат у него пальцы, Сливинский взял бумажку. Так и есть — обязательство агента гестапо, а это ох как нежелательно! Собственно, Модест Сливинский не прочь помогать ведомству Отто Менцеля, но зачем оставлять следы? Многолетний опыт научил пана Модеста уклоняться от подписывания всяких там бумажек — кто может знать, как потом все обернется…
Делая вид, что внимательно вчитывается в пункты обязательства, Сливинский украдкой посмотрел на Менцеля и сделал попытку спастись:
— Герр штандартенфюрер может быть вполне уверен, что я никогда не откажусь помочь немецкой нации в ее героической борьбе. Все мы обязаны это делать в меру своих сил и возможностей. — Не заметив ничего угрожающего на лице шефа гестапо, Сливинский продолжал: — Однако зачем вам эта формальность, герр штандартенфюрер? Подпишусь я здесь или нет — мое отношение к великой Германии останется неизменным!
Отто Менцель медленно поднялся, заложил руки за спину, не спеша обошел стол, снова опустился в кресло и, откинувшись на высокую спинку, холодно и надменно уставился на своего собеседника. Он смотрел долго, с удовольствием наблюдая, как побелел этот развязный субъект, потом резко бросил:
— Меня не интересуют ваши соображения. Хотя, откровенно говоря, они несколько удивили меня. Будьте благодарны, что мы доверяем вам, пан Сливинский…
— Ха-ха-ха… Вы не так поняли меня, герр штандартенфюрер, — заискивающе произнес пан Модест, вскакивая с места. Угодливо улыбаясь, он стоял, как провинившийся гимназист. — Ха-ха-ха… Я всегда готов… — Потянулся за ручкой, подписался, непослушными пальцами пододвинул бумажку Менцелю. — А как же, это честь, великая честь…
Штандартенфюрер небрежно бросил подписанное обязательство в ящик стола, а оттуда вытащил какую-то измятую бумажку.
— Как это вам нравится, пан Сливинский? Ознакомьтесь!
Модест читал, но ничего не понимал. Буквы прыгали перед глазами, сливались в сплошные черные линии. “Большевистская листовка… — сообразил наконец. — Гляди, черт бы их побрал, еще шевелятся…” Заставив себя сосредоточиться, наконец прочитал:
“Граждане!
Наступил час расплаты, поднимайтесь на борьбу с захватчиками, за свободу народа, за родной край!”
— Ай-ай-ай, — покачал головой, — и такая дрянь в нашем городе. Это здесь, герр штандартенфюрер, распространяют коммунистические афишки?
Сказал, даже не подозревая, как больно терзает сердце Менцеля. Не мог же Сливинский знать, что начальство чуть ли”с ежедневно жестоко распекает шефа гестапо за листовки, которые систематически появляются в городе, за мятежные лозунги на заборах и стенах. А совсем недавно кто-то пристрелил ночью двух патрульных из числа эсэсовцев. И где — чуть ли не в центре города! Сколько ядовитых слов наговорил по этому поводу Менцелю сам губернатор! Конечно, не забудут ему и того, что позавчера на паровозе, вышедшем из депо после долгого ремонта и тащившем на Восточный фронт огромный эшелон, вдруг произошел взрыв. Пять вагонов полетели под откос — пять вагонов вместе с солдатами…
И все это — страшно даже подумать! — лишь небольшая часть неприятностей Менцеля. Впрочем, совсем не обязательно знать этому балбесу, что растравляет сердце шефа гестапо. Менцель, схватив листовку, затряс ею перед носом своего новоявленного агента и неожиданно разорался:
— А где же еще, кретин вы несчастный!
Раздраженно швырнул листовку обратно в ящик, немного успокоился и сказал примирительно:
— Слушайте меня внимательно, пан Сливинский. Ваша задача — вынюхивать все, что хоть сколько-нибудь пахнет большевизмом. Мелочей в нашей работе нет. Надо запоминать все — слова, выражение лица, интонацию… Ухватившись за кончик нити, можно распутать большой клубок. В городе притаились коммунистические элементы, они маскируются, но мы должны быть хитрее их.
Дома Модест Сливинский опрокинул подряд три рюмки коньяку. Пил, не ощущая вкуса, словно это вонючий шнапс. И надо же придумать такое: он — агент гестапо! Он, который любил говорить о чести и долге, о чистоте нации, о высоком призвании члена ОУН!.. Мезальянс, настоящий мезальянс… Натянул халат, согрелся немного под одеялом, выпил еще рюмку, на сей раз уже смакуя. Терзавшая его горечь прошла. Гестапо так гестапо- в конце концов в этом есть своя логика. Ведь и он и гестапо одинаково заинтересованы в уничтожении большевиков — стало быть, цель у них одна. А если одна, то ничего страшного не произошло. Не он же выдумал извечный закон — цель оправдывает средства. И вообще — разве он первый или последний?
Сливинскому давно уже было известно, что большинство руководителей ОУН поддерживает тесную связь с гестапо. От кого-то он слышал, будто даже сам Степан Бандера тоже агент. Так что…
Пан Модест заснул спокойно.
Солнце поднималось все выше, и деревья на опушке уже плохо защищали от горячих лучей. Громко трещали кузнечики — от их однотонного хора и дурманящего запаха цветов клонило ко сну, и Богдан едва не задремал. Чтобы взбодриться, незаметно потянулся, сорвал стебель полыни. Отмахиваясь от слепня, гудевшего над ухом, Богдан снова стал вглядываться в серую ленту дороги, которая метров через триста взбегала на большой пригорок и терялась среди огромных дубов. На одном из них еще с утра устроился непоседливый Микола — адъютант командира партизанского отряда. Правда, это звание он сам присвоил себе, но все, в том числе и командир — Василь Трохимович Дорошенко, улыбкой встретили это повышение. На заре, когда они устраивали здесь засаду, Василь Трохимович пошептался с Миколкой, и тот уже через минуту помахал с дуба белым платочком. Теперь оставалось лишь ждать, когда Миколка подаст не пробный, а настоящий сигнал.
Ладонь, которой Богдан сжимал трофейный автомат, взмокла. Хлопец положил оружие рядом, вытер ладонь о рукав и уперся кулаком в подбородок. Богдан почувствовал, как играют мышцы, отчего его большое тело стало казаться ему сильным и почти невесомым. Пожевал горький стебель и снова потянулся к оружию.
Этот обыкновенный автомат с вытертой ложей и пятнами ржавчины на металле манил его, как влечет ребенка самая любимая игрушка. Он и спал, не расставаясь с автоматом, положив его под бок и прикрывая полою шинели. Вчера вечером, щелкнув затвором и проверив обойму, Богдан впервые за много месяцев обрел уверенность в самом себе; наконец он избавился от чувства тревоги, которое не покидало его все последние дни, даже когда они с Зарембой попали в штабную землянку партизанского отряда. Вероятно, многое отразилось на его лице, когда он жадно схватил врученный ему автомат, ибо Дорошенко почему-то похлопал его по плечу, а Заремба как-то неестественно кашлянул и отвернулся.
Они лежат уже часа три, притаившись за кустами и деревьями, которые подступают к самой дороге. Три десятка парней с автоматами, винтовками и гранатами. Если проехать по дороге, то не увидишь ничего: замаскировались так, что, кажется, только споткнувшись о лежащих, можно их обнаружить…
На дерево над самой головой Богдана села птичка. Блеснула хитрым черным оком, подала тонкий голос. Богдан затаил дыхание. Птичка успокоилась, почистила клювом перышки, покачалась на веточке, потом пискнула и полетела куда-то дальше.
Богдан засмотрелся на птичку и не сразу заметил, что лежавший неподалеку Евген Степанович стал подавать ему какие-то знаки. Неужели едут?! Прислушался. Издалека доносился гул: казалось, он повис в горячем воздухе где-то там, за горизонтом. Ошибиться невозможно — идут автомашины. Богдан прилип горячей щекой к ложе автомата. Гул приближался, спустя несколько минут через пригорок перевалила машина. Вторая… третья… еще… Издали похожие на огромных серых жуков, они с каждым мгновеньем увеличивались и как бы плыли по серой асфальтовой ленте.
Богдан вопрошающе взглянул на Зарембу. Пьянящая волна залила его — сейчас нажмет на гашетку, подкосит длинной очередью машину, и она с разгону уткнется в кювет. Но что такое — какие знаки подает Заремба? Не стрелять?! Да, он помнит приказ: открывать огонь только после сигнала. Но ведь уже пора…
Загудела земля. Первая машина обдала Богдана волной горячего воздуха. Прошла почти рядом, полная солдат в железных касках. В кабине второй машины он заметил офицера — откинулся на спинку сиденья, дремлет. Под высокой фуражкой удлиненное лицо, тонкий нос с горбинкой.
Едкий запах отработанного бензина ударил Богдану в нос. Машины вое шли. Четвертая… пятая… Шесть больших грузовых автомобилей, полных вооруженных солдат. Минуту спустя машины скрылись за поворотом, гул моторов затих, ветер развеял бензинный чад — как будто ничего и не было, как будто и не держал только что на мушке холеное лицо под высокой офицерской фуражкой.
Только теперь Богдан понял: прошла войсковая часть. Завязать бой с ней было бы неосмотрительно: во-первых, силы неравные — на каждого из партизан не менее пяти вооруженных до зубов автоматчиков; во-вторых, задача перед ними поставлена совсем другая и выполнить ее необходимо любой ценой.
Несколько дней тому назад Дорошенко, чей партизанский отряд действовал на территории двух смежных районов, получил сообщение: гитлеровцы собираются перевезти в город награбленные ценности. Сообщал верный человек, которому удалось устроиться на работу в полиции. Эти ценности, погруженные на танкетку, должны были сопровождать полтора десятка эсэсовцев. Дорошенко немедленно связался с руководителями подполья. Решено было не упускать такого случая. Ведь одним махом можно решить множество важнейших проблем. В самом деле, располагая значительными средствами, подпольщики получали возможность приобретать все необходимое — начиная от документов и кончая оружием.
Для связи с отрядом Дорошенко были направлены в лес Заремба с Богданом. Вчера вечером Дорошенко вместе с Евгеном Степановичем разработали план операции — решили устроить засаду. Место было выбрано очень удачно: в случае чего легко будет отступить — метрах в ста от дороги начинается чащоба, в которой сам черт никого не найдет.
Солнце стояло уже высоко над лесом, а танкетки все нет. Неужели сообщение неточное пли гитлеровцы в последний момент изменили свои намерения? Дорога безлюдна, лишь изредка протарахтит деревенская телега, запряженная тощей лошадкой. Жара… Пот струйками стекал по лицу, рубаха намокла, а тут еще какая-то дрянь забралась под сорочку и не дает покоя. Богдан осторожно засунул руку под одежду — где же та проклятая букашка? Она казалась сейчас самым лютым врагом — спина чесалась так, словно на ней орудовал целый муравейник.
Ворочаясь, Богдан встретился с сердитым взглядом Зарембы. Хлопец посмотрел в сторону, куда указывал Евген Степанович, и замер: на вершине дуба едва заметно трепетал платочек — сигнал! Уже слышен и лязг гусениц: на пригорок выскочила танкетка, за ней показалась машина с солдатами.
Забыв про автомат, Богдан следил за танкеткой. Прет, вздымая на дороге клубы пыли, и кажется — ничто не остановит ее. Но вдруг кто-то из партизан поднялся над кустом и швырнул тяжелую противотанковую гранату. Раздался взрыв, подшибленная танкетка завертелась на месте.
Только теперь Богдан вспомнил про автомат — взял на мушку автомобиль и послал длинную очередь. Ему казалось, что стреляет лишь он один, но нет, строчил и автомат Зарембы.
Машина проехала еще несколько метров и сползла в кювет. Эсэсовцы выскочили из кузова, открыли огонь из ручного пулемета. Пули засвистели над головами партизан, срезая ветки.
Фашистам повезло — поврежденная машина сползла в кювет перед самым пригорком, укрывшись за которым можно было контролировать всю опушку. Длинными автоматными и пулеметными очередями гитлеровцы прижали партизан к земле. Положение сразу усложнилось.
Переползая от куста к кусту, чтобы выбрать позицию получше, Богдан оказался возле Дорошенко. Тот стал показывать ему в сторону врагов. “Чего он хочет?” — подумал хлопец, но тут же сообразил: надо обойти эсэсовцев. Сразу же приподнялся и, не обращая внимания на пули, побежал вдоль дороги. Вдруг зацепился за что-то, упал, ткнувшись лицом в колючую поросль. Попытался вскочить, но не смог, прижатый сильной рукой. Новое усилие, но тут же он услышал сердитый шепот:
— Ты что, взбесился? Скосят…
Богдан оглянулся. Рядом бородатый, но с горячими, молодыми глазами дядько.
— Давай за мной! — сказал дядько. — Только осторожно, чтобы не заметили… — И они быстро поползли, петляя в высокой траве.
Когда они скатились в кювет, бородатый сунул Богдану гранату и глазами указал на шоссе. Они оказались в тылу у эсэсовцев. От врагов их отделяла полоса густого кустарника.
Подав Богдану знак следовать за ним, бородатый, полусогнувшись, побежал, огибая кусты. Упали вместе в небольшую канаву. Выглянув, Богдан увидел немцев чуть ли не рядом. Бросил гранату, успел заметить, как округлились от страха глаза у пулеметчика…
Машина горела; подняв руки, из танкетки вылезал офицер. Какая тишина, она казалась просто невероятной после выстрелов и взрывов. Богдан подошел к танкетке. Партизаны переносили на подводы мешки с большими сургучными печатями. Рядом стоял Заремба. Он держался за щеку. Между пальцами тонкими струйками текла кровь. Богдан бросился к Евгену Степановичу.
— Вы ранены?
Не отнимая руки, тот выплюнул изо рта кровь и прошепелявил:
— Угодили-таки… Шуб выбили… А так… нишего…
Подбежал Дорошенко. Дружески похлопал Богдана по плечу.
— Молодец! — похвалил. И тут же, забыв о нем, замахал руками. — Подводы для раненых сюда! Давай, ч-черт, скорее!
В отряде было двое убитых и несколько раненых. Подобрав убитых и устроив раненых, отряд двинулся в лес. Дорошенко поторапливал всех, боясь наткнуться на какую-нибудь воинскую часть. Можно было опасаться и специальной погони, так как полицаи из окрестных сел, услышав шум боя, вероятно, поспешили оповестить об этом ближайшие гарнизоны. Но опасения командира оказались напрасными — под вечер отряд без приключений вернулся на базу.
Пуля угодила Зарембе в щеку и выбила зуб. Щека сильно опухла, но фельдшер Радловский, выполнявший в отряде обязанности и хирурга, и терапевта, и стоматолога, оглядев рану, лишь пошутил:
— Это, пшепрашам[10], только немножко испортит вам анфас. Небольшой шрам на лице — и все. Через десять дней, прошу пана, вшистко в пожонтку [11] …
Дал какую-то микстуру для полоскания, заклеил пластырем полщеки и занялся другими ранеными.
Заремба вышел из землянки Радловского. Над лесом сгущались сумерки, на поляне запылали костры. Партизаны готовили ужин.
Евген Степанович задумался. Эта рана нарушала все планы. В таком виде в городе не появишься, а его будет ждать в условленном месте связной. Он придет еще раз и еще, а если в продолжение двух недель Зарембы не будет, пойдет на другую явку. “Черт бы побрал эту проклятую пулю!” — выругался он, ощупывая щеку. Но ничего не поделаешь: без связного не будет документов, а без них все планы — мыльный пузырь.
В штабной землянке светила аккумуляторная лампа. Там Заремба застал Богдана и Дорошенко. Командир уже успел поужинать и был в хорошем настроении.
— Тебе, Евген, приготовили манную кашу, — сообщил он и, постучав по фляге со спиртом, добавил: — Это вроде бы под кашу не идет, но могу налить.
Заремба кивнул.
— Хотя и не употребляю, но давай. Настроение такое, что не помешает.
— “Настроение…” — усмехнулся в усы Дорошенко. — Другой бы радовался: гулять целых десять дней — и никакой тебе ответственности. Единственный недостаток — не будет больничного листа…
— Тебе бы все шутить…
— Нет, я серьезно. Роскошная природа, лесной воздух — чем не санаторий?
— Всю жизнь старался быть подальше от таких санаториев…
— Ну, брат, тут уж ничего не поделаешь. Какой есть. Немного похуже Хрустального дворца в Трускавце, но все же кое-кто хвалит…
Посмотрели друг Другу в глаза и рассмеялись.
— Что ж, товарищ “главный врач”, придется принять ваши условия, — сказал Заремба. — Но давай сначала посмотрим, какой у нас улов.
— Ого!.. — только и смог сказать Дорошенко, когда на стол высыпали содержимое первого мешка. — Ну и награбили!..
— Жалкие остатки награбленного, — поправил Заремба. — Основное прилипло к рукам.
На столе лежала куча колец, браслетов, брошей. Многие были с драгоценными камнями — алмазами, рубинами, топазами.
Заремба разгладил бумажку, которая лежала рядом.
— Опись. Сверять с наличием, думаю, не будем. Если и окажется недостача, все равно жаловаться некуда.
В другом мешке были часы, в третьем — лом драгоценных металлов. Заметив сплющенные в пластины золотые зубы, Дорошенко поспешно сгреб все обратно в мешок.
— Невозможно смотреть на это… — пробормотал он, побагровев от ярости.
Заремба пододвинулся к нему, обнял за плечи.
— Нам, Василь, выдержки и сил еще ой сколько понадобится! Сердцу не прикажешь, но действовать надо с умом. За все заплатят!
Богдан зачерпнул горсть колец, небрежно подбросил их и сказал презрительно:
— Безделушки… Из-за такого хлама люди извергами становятся! Тьфу!.. — Он поднес к лампе серьгу с большим камнем, который отсвечивал дивным блеском. — Драгоценная штучка. Верно, не у работницы отобрали…
— Что ты хочешь сказать? — гаркнул Заремба и схватился за щеку.
— Ничего, — пожал плечами Богдан. — Так, к слову…
— Смотри мне, умник… К слову… Будто его не понимают… Может, и в самом деле у какой-нибудь сволочи отняли — богачей тут вокруг до черта было. И может, если разобраться, мне их добра вовсе не жаль. Но разве об этом речь?.. Они ведь мучают и убивают всех подряд, особенно тех, кто светлого дня в жизни своей не видел. Тысячи и тысячи — вот что страшно…
— Что вы, вуйко, на меня кричите? Как будто я спорю…
— Да не на тебя я, — махнул рукой Заремба. — На себя… Сидим здесь, а они…
— Это уж ты, брат, загнул, — вмешался Дорошенко. — Сегодня — пятнадцать эсэсовцев, а это не первый день… Понимаю тебя, вон они уже где — за Доном, но мы ли в этом повинны? Тут, брат, нашей вины нет, — сказал уверенно. — Не терзай себя!
— “Не терзай”!.. А ежели больно?
— Спать! — ударил Дорошенко рукой по столу.
— Спать, — согласился Евген Степанович. — Спрячь это, — сказал Богдану, указывая на лежавшие на столе вещи. — Завтра возьмем на учет. Именем Советской власти. Это пот трудящихся…
Когда погасили свет, Заремба спросил Дорошенко:
— Василь, как ты думаешь: не лучше ли Богдана с частью этих… вещиц сразу отправить в город? Безопаснее будет. Посадим его на подводу, вроде бы на базар мужик едет. А я позднее, когда щека заживет, через Злочный отправлюсь по железной дороге.
— Думаю, правильно, — ответил Дорошенко. — Не понимаю только, как вы это добро в деньги превратите. Гестапо сразу на след нападет.
— Это уж пусть тебя не беспокоит. Задумали мы одно дело — первоклассное…
Менцель раздраженно бросил трубку и приказал позвать Харнака. В важных случаях он всегда советовался с гауптштурмфюрером. У Вилли Харнака умная голова и чутье подлинного следователя. Иной раз клубок так запутается, что сам черт голову сломит, а он именно за нужную нить ухватится. “Интуиция”, — улыбается. С такими способностями иной локтями проложил бы себе дорогу, а Вилли… Нет, не доведут его до добра вино и женщины!..
— Знаете, штандартенфюрер, — сказал он однажды, — то, что я себе позволяю, вы уже делать не решитесь. Вот, к примеру, не поедете же вы сейчас со мной в бордель? Видите! А я не желаю лишать себя такого удовольствия…
Менцель и сейчас не знает, шутил ли тогда Харнак или говорил правду. Вроде бы улыбался, а глаза серьезные.
А впрочем, черт с ним! Главное — что на гауптштурмфюрера можно положиться.
У Харнака под глазами синие круги, веки опухли.
— Что?.. — И Менцель сделал выразительный жест, намекая на то, что его подчиненный изрядно заложил за галстук.
— Как вы могли подумать, шеф?! — обиделся Вилли. — Вы же знаете, что с утра я не пью.
— В тем-то и дело, что уже не утро.
— Майн готт, действительно уже третий час! Но, надеюсь, вы вызвали меня не для того, чтобы сверить наши часы?
— Вы поразительно догадливы, Вилли. Снова неприятность…
— Листовки?
— Хуже.
— Кого-то из наших оболтусов прикончили?
— Хуже, Вилли, хуже…
— Еще хуже? Кажется, я становлюсь суеверным человеком: сегодня мне снилось…
— Ко всем чертям сны, Вилли!.. Подбита танкетка, которая везла в город драгоценности!
— Когда?
— Только что позвонили.
— Собираетесь ехать?
— Машина уже ждет нас.
Танкетка стояла на обочине — искореженный металл, запах горелой краски. Харнак обошел вокруг нее, зачем-то ткнул носком блестящего сапога по разорванной гусенице, заглянул внутрь.
— Двух мнений быть не может. Противотанковая граната… — Перепрыгнул через кювет. — Бросали вот отсюда. Даже окопчик выкопали. Умно…
— Можно подумать, что вы восторгаетесь этими бандитами, — скривил недовольную гримасу Менцель.
— Объективно оцениваю, штандартенфюрер. Если бы этих бандитов не было, нас с вами здесь не держали бы.
И вот так всегда! У этого Вилли чересчур острый язык. Никогда не знаешь, что он выкинет. И потом — никакого уважения к старшему по званию.
— Ох, Вилли, Вилли! — буркнул Менцель. — Вы когда-нибудь доиграетесь…
Собственно, такой именно тон в их взаимоотношениях ему как раз импонировал. Менцель знал, что при посторонних Харнак никогда не позволит себе фамильярничать. А с глазу на глаз пускай тешится…
Поднявшись на холмик, заросший травой, Харнак подозвал к себе Менделя.
— Вот здесь, шеф, охрана танкетки пыталась организовать оборону. Видите, сколько стреляных гильз? Потом наших солдат забросали гранатами.
Походил немного по опушке, что-то бормоча, а затем обратил внимание Менделя на свежий конский помет и следы, которые вели в глубь леса.
— Картина вырисовывается. Засаду хорошо продумали. Охотились именно за танкеткой — не обстреляли же колонны, которые проходили по шоссе утром. Выходит, хорошо информированы. А это, штандартенфюрер, свидетельствует о том, что действовал местный партизанский отряд.
— Вы открыли Америку, Вилли! Это я и без вас знаю.
— Но ведь вы не знаете, что партизан было около тридцати, что у них способный командир — наверно, бывший военный, что отряд вооружен нашими автоматами, что у партизан было несколько раненых, а возможно, и убитые.
— Об этом тоже нетрудно было бы догадаться.
— Чего же вы от меня хотите?
— Сами знаете.
Харнак развел руками.
— К сожалению, больше ничего не могу. А впрочем… — присмотрелся к асфальту. — Любопытно…
Менцель заглянул через его плечо. И что там любопытного? Кровавое пятно? Но ведь следов крови вокруг сколько угодно.
Харнак вырвал из блокнота чистый листок бумаги, поднял что-то с земли и аккуратно завернул в него.
— Все, шеф! Нам тут больше нечего делать.
— А это что? — показал Менцель на карман, куда Харнак положил бумажку.
— Да так… предположение… Необходимы лабораторные анализы.
Менцель знал: в таких случаях расспрашивать Харнака безнадежное дело. Все равно ничего не скажет. Потом сам доложит.
Харнак позвонил Менделю утром следующего дня.
— Вы свободны, шеф?
— Жду вас через десять минут.
По выражению лица Харнака Менцель понял — есть что-то новое.
Гауптштурмфюрер сел в кресло и не спеша закурил. Дымком сигареты прочертил в воздухе огромный восклицательный знак.
— Во вчерашнем налете принимал участие кто-то из города. Мужчина лет пятидесяти. Ранен в левую щеку. — Глубоко затянулся, пустил дым под потолок. — Вас это интересует?
— Откуда такие сведения?
— Данные экспертизы…
Харнак небрежно стряхнул пепел на ковер — сейчас он мог себе позволить это.
— Точнее?
— Помните, на асфальте возле танкетки лежал окурок, а рядом — кровавый сгусток?
Менцель понял: Вилли хочется немного пофорсить, ждет, чтобы начальник засыпал его вопросами. Не дождешься, мальчишка! Уперся подбородком в переплетенные толстые пальцы и ничем не обнаруживал своего любопытства.
Харнак медленно погасил сигарету.
— В том кровавом сгустке я нашел осколки зуба. Остальное — уже дело науки. Вы знаете, в нашем госпитале работает опытный стоматолог. Мы просидели с ним всю ночь. Пришлось-таки пошевелить мозгами, зато мы добились своего. Прежде всего установили, что осколки, если их собрать, имеют форму мужского левого коренного зуба нижней челюсти, по-научному — моляр. Эта старая перечница, наш зубодер, оказался наблюдательным и дотошным человеком. Он утверждает, что зуб был здоровый, что раздробила его пуля. А это, в свою очередь, означает, что мужчину ранили в левую щеку. Далее. Зубодер заверил меня: остатки зубных бугров и следы зубного камня позволяют утверждать, что зуб принадлежал человеку лет пятидесяти. Вот и все.
— Позвольте, Вилли, — ехидно заметил Менцель, — а что может сказать ваша старая перечница по поводу такого, к примеру, соображения: чем, собственно, отличаются зубы жителей этого города, ну, от зубов, скажем, краковчанина? Как он научно такую проблему обосновывает?
Харнак засмеялся.
— Вы забыли про окурок, штандартенфюрер. Окровавленный окурок, валявшийся рядом. Его бросил именно тот человек.
— Установить это не так уж и сложно, Вилли. Простейший анализ… Но почему вы думаете, что курил обязательно человек, прибывший из города?
— Итальянская сигарета, шеф. А итальянская дивизия прибыла в город пять дней тому назад. Хотя таких спекулянтов, штандартенфюрер, как эти итальянцы, свет не видывал, тем не менее полагаю, что за пять дней даже и они не могли успеть наладить торговые отношения с партизанами. Выходит…
— Не надо, не надо, Вилли! — поднял руку Менцель. — Все ясно!
— Остальное в вашей власти, штандартенфюрер. Приметы имеются, пускай поработают агенты.
— Если только мы нападем на след, Вилли, — торжественно произнес Менцель, — я возбужу ходатайство о награждении вас Железным крестом!
— Весьма благодарен, штандартенфюрер, но пока лучше освободите меня на сутки. Этот пройдоха Сливинский предлагает…
— Понятно, Вилли. Вечеринка с девушками?..
— А что в этом плохого, шеф?
В Злочном Заремба побродил с полчаса по базару и потом направился на вокзал. Шел, задумавшись, и почти не обращал внимания на прохожих. Чувствовал себя уверенно: документы ведь у него надежные — корректор солидной националистической газеты.
Немного беспокоило лишь то, что он пробыл в отлучке больше, чем предполагал. Но главный редактор вряд ли будет очень взыскивать за то, что его сотрудник загулял на свадьбе племянника. Шрам на щеке? Евген Степанович и это предусмотрел, тщательно продумав рассказ с комическими отступлениями: как перепил (кто же на свадьбе не перепивает!), как напала на него собака, как отбивался от нее палкой, как споткнулся и напоролся на ржавый гвоздь. Все правдоподобно…
Поезд опаздывал, и Евген Степанович присел на скамью в привокзальном сквере. Сидел, обмахиваясь газетой: должно быть, надвигалась гроза, дышалось тяжело. Случайно посмотрев в сторону, Заремба поймал на себе взгляд усатого человека в вышитой сорочке и потертом коричневом пиджаке. Усатый лениво жевал пирожок, бросая крошки голодным воробьям. Как будто ничего подозрительного не было в поведении усатого, но взгляд его встревожил Евгена Степановича. Старый конспиратор, за которым еще при Пилсудском гонялись агенты дефензивы [12] , Заремба хвалился как-то, что чует шпика за полкилометра. Человек в коричневом пиджаке как будто потерял интерес к Зарембе, но зато сам Заремба запомнил его взгляд — внимательный, изучающий и даже несколько насмешливый.
“Так, так… Неужели увязался за мной? — подумал Заремба. — Спокойно! Сейчас мы его проверим…”
Медленно поднялся и, не озираясь, направился к перрону. Знал: не очень опытный агент через несколько секунд последует за ним. Свернул за угол, остановился у газетного киоска. Постоял минуту — никого. Едва заметно выглянул из-за угла — усатый сидел на своем месте, даже позы не переменил.
“Ох! — вздохнул облегченно. — Вы, Евген Степанович, становитесь трусоватым…”
Подошел поезд. Во всех вагонах, кроме последнего, были военные — на площадках стояли часовые. Проверив документы Зарембы, кондуктор пустил его в последний вагон.
В тамбуре Евген Степанович едва не столкнулся с усатым. “Будь это агент, — подумал Заремба, — он обязательно вошел бы в вагон после меня”. Еще больше успокоило Евгена Степановича то, что усатый не сел рядом с ним и не стал караулить в тамбуре, а расположился в каком-то другом купе.
Когда поезд стал приближаться к Львову, Заремба снова проверил усатого: неожиданно поднялся и вышел на площадку. Усатый даже не пошелохнулся. Правда, соскочить на ходу было невозможно: в тамбуре стояли вооруженные военные.
Прежде чем выйти на привокзальную площадь, Евген Степанович прошелся по перрону. Усатого нигде не было. Но скоро он обнаружил его в толпе, дожидавшейся трамвая…
Заремба пропустил один вагон, усатый тоже остался, заняв удобную позицию, позволявшую ему уцепиться за вагон, если Заремба вздумает вскочить на ходу.
Евген Степанович решил: “Поедем, а там видно будет”. Сел в вагон с передней площадки. Усатый забрался в вагон с задней. Старенький трамвай с громыханием тронулся.
“Так, так, — подумал Заремба. — Возможно, мы едем в последний раз… Старый, травленый волк вышел на меня, от такого не так-то просто отвяжешься. Гестаповская школа, черт бы ее побрал!”
Сделал вид, что дремлет. Усатый отвернулся, выглядывая в окно. На остановке скользнул безразличным взглядом по вагону, потом снова высунулся в окно.
Евген Степанович понял: усатый хочет походить за ним, надеясь еще на кого-нибудь наскочить. Ну что ж, походим…
Возле ратуши Заремба неожиданно поднялся и чуть ли не на ходу выскочил из вагона. Усатый прыгнул вслед за ним. Евген Степанович быстро свернул за угол, зашел в магазин и сразу же вышел через другие двери. Сворачивая за угол, он обнаружил агента в нескольких шагах от себя. Значит, плохо знает город, боится потерять.
“Ну что ж, теперь мы заставим тебя понервничать”, — решил Заремба и юркнул в проходной двор. Выйдя на улицу, он остановился у витрины какого-то магазина, затем перешел на другую сторону улицы и быстро направился к редакции. Из полутемного вестибюля он устремился через узкий коридор на лестницу, перескакивая через ступени. Покамест усатый осматривался, Евген Степанович успел одолеть два лестничных пролета и взбежать уже на третий этаж. Еще один пролет… Снизу доносились тяжелые шаги и посапывание. Вот и четвертый этаж, коридор редакции…
Стал за дверью, стараясь не дышать. Шаги на лестнице все ближе, усатый запыхался. Вот он остановился на площадке. Теперь их разделяла только дверь. Собрав все свои силы, Евген Степанович ударил дверью усатого. Кряжистый шпик закачался, но не упал. Заремба нанес ему удар справа в челюсть. Усатый полез было в карман, но Заремба навалился на него всей своей тяжестью и прижал к перилам, выворачивая ему руку. Усатый все же как-то изловчился и нанес Зарембе сильный удар ногой пониже живота. Заремба напряг последние силы, еще раз ударил снизу в подбородок усатого и перекинул его через перила. Дикий крик ударил в уши…
Захлопали двери, послышались тревожные голоса. Заремба выскочил на балкон, опоясывавший весь этаж, пробежал по нему до двери, ведшей на мансарду. На площадке крутой лесенки — окошко. Осторожно открыл его, едва протиснулся через узкий проем и спустился на крышу соседнего дома.
Старое здание — таких в городе сотни, — построенное лет двести тому назад в готическом стиле: узкие стрельчатые окна, высокая, крутая кровля. Черепица от времени поросла мхом, стала скользкой, кое-где потрескалась.
Заремба прикинул: единственный путь — ползти по гребню кровли. На третьем здании крыша не такая крутая, можно будет добраться до слухового окна и попытаться через чердак выбраться на улицу. Вытянулся на гребне и, припав телом к скользкой черепице, пополз, обдирая ногти. Одна мысль сверлила мозг: успеть, пока не окружили квартал. Секунды казались минутами… Господи, зачем возводили такие длинные здания?..
Но вот и второй дом. Кровля его выше, однако дотянуться можно. Вцепился искалеченными пальцами в кирпич, торчавший под гребнем, и стал подтягиваться. Вдруг кирпич подался, и Заремба, потеряв опору, соскользнул по крутому уклону, едва успев ухватиться за кромку крыши. Замер, боясь шевельнуться, чтобы не сорваться вниз, чтобы не быть замеченным.
Осторожно начал подтягиваться, нащупывая носками сапог малейшие щели в черепице. Еще немного, ну, еще!..
Наконец вскарабкался, почувствовав такую усталость, что казалось, хоть убей его, не найдет в себе больше сил, чтобы подняться. И все же поднялся. Схватился за балку, оттолкнулся ногами от стены и лег грудью на крышу. Снова полз, ни о чем не думая, не чуя даже боли в пальцах.
В третьем доме слуховое окно рядом с коньком. Открылось легко. Повеяло свежестью сырого белья.
Евген Степанович постоял немного, чтобы глаза привыкли к сумраку чердака. Отодвинув простыню, переступил через балку. Дверь была почти рядом, в нескольких шагах. Однако раз тут белье, дверь, разумеется, на замке. Так и есть. Заремба слегка покачал дверь — тяжелая, сбита из крепких дубовых досок. Оглянулся в поисках какого-нибудь железного лома. Видимо, дворник в этом доме хороший — все вылизано, никакого хлама вокруг. Погоди, а что там в углу? Старомодная железная кровать с никелированными металлическими прутьями в спинках! Вот удача! Ухватившись за один из прутьев, Заремба принялся раскачивать его. Потом, напрягшись, дернул с такой силой, что едва не выломал пальцы. Не удержавшись на ногах, он упал, больно ударившись о балку, но так и не выпустил из рук железный прут. Теперь дверь подалась сразу. Евген Степанович выглянул на лестницу и, убедившись, что там никого нет, вышел на площадку. Стряхнул пыль и быстро сбежал по лестнице на первый этаж.
Главное теперь — спокойствие, не дать повода обратить на себя внимание. Сорочка, правда, порвана и пиджак испачкан, но это не так уж и страшно — просто рабочий спешит куда-то по своим делам. Для вящей убедительности сбросил галстук, расстегнул на груди сорочку и с деловым видом вышел из подъезда.
Сначала казалось, что все смотрят только на тебя и сейчас в спину уткнется дуло пистолета. Но люди проходили мимо Зарембы, даже не глядя на него. Немного успокоившись, Евген Степанович ускорил шаг и свернул за угол.
Еще квартал — и трамвайная остановка. Вагоны в эти часы почти пустые. Евген Степанович сел у окна, трамвай тронулся, и Заремба успел заметить, как большой грузовой автомобиль влетел в покинутый им только что квартал и из него выскакивают вооруженные эсэсовцы. Посмотрел на часы. Неужели стоят? Нет, тикают. Что же это такое?! Точно помнит время, когда вошел в редакцию: было семнадцать минут второго, а сейчас тридцать две. Неужели прошло всего лишь пятнадцать минут?!.
Вспомнил усатого — и холод подступил к сердцу. Болели искалеченные пальцы. Однако куда же он едет? А-а, все равно, лишь бы ехать.
Только через несколько остановок Евген Степанович совсем успокоился и начал трезво обдумывать свое положение. Конечно, домой ни в коем случае возвращаться нельзя. На явку, пока не уточнится обстановка, — тем более. Оставалось два варианта — пойти к Стефанишиным или к дядьке Денису. К кому же? К Стефанишиным не стоит соваться — там Петро Кирилюк, нельзя подставлять бежавшего из лагеря парня под удар. Стало быть, остается дядька Денис. К тому же со стариком он сможет встретиться на улице, когда тот будет возвращаться с работы.
Приняв окончательное решение, Евген Степанович пересел на другой трамвай. Так и путешествовал до пяти часов, когда дядька Денис кончает работу.
В начале первого Менцелю доложили: только что с вокзала звонил агент № 74. Следит от самого Злочного за человеком со свежим шрамом на левой щеке. Надеется выследить еще кого-нибудь.
Менцель позвонил Харнаку:
— Какое у вас настроение, Вилли? Голова болит? Меньше пейте, по крайней мере никогда не смешивайте. Что? Водку и вино? Это же яд, Вилли!.. Кстати, хочу вас поздравить — один из наших агентов напал на след человека со шрамом на левой щеке. Что? Вас это не волнует? Теперь я вижу, что вчера вы здорово перебрали…
Бросил трубку. Кажется, семьдесят четвертый — отличный агент. Если память не изменяет, это он раскрыл комсомольскую организацию в Злочном.
Вызвал секретаря и потребовал дело агента №74. Листая дело, убедился, что агент этот действительно надежный и опытный.
Вошел Харнак.
— Я не очень понял вас, штандартенфюрер. О каком человеке со шрамом вы говорили? Арестовали кого-нибудь?
— В том-то и дело, Вилли, что не арестовали. Агент оказался сообразительным.
— Понятно, — сказал Харнак, усаживаясь в кресло, — древняя интеллектуальная игра в кошки-мышки.
— Вы молодчина, Вилли! — торжественно произнес Менцель. — Через вашего человека со шрамом мы, если посчастливится, возьмем все их подполье.
— Так уж и все? Как я понимаю, вы не допускаете, что агент мог ошибиться? А вдруг у этого олуха шрам с детства.
— О господи!.. — рассердился Менцель. — Моя интуиция подсказывает… — Но тут раздался звонок, и шеф схватился за телефонную трубку. — Что? Какой агент? Наш агент?!! Слушайте же меня внимательно — ни один человек не должен выйти из этого дома! Головой отвечаете! — Вытер вспотевшее лицо. — Немедленно выезжайте, Вилли. С четвертого этажа редакции в пролет лестницы сбросили нашего агента. Возможно, того самого, который шел за этим коммунистом со шрамом. — Вновь схватил трубку. — Две машины с автоматчиками в распоряжение гауптштурмфюрера Харнака! Бог мой, вы идиот, Людке! Конечно, немедленно!.. Он ждет у подъезда.
Пока эсэсовцы окружали квартал, Харнак убедился — погиб именно агент №74. Понятно и без слов: не сам прыгал с четвертого этажа…
Вахтер показал: услышав крик и увидев, что кто-то упал в пролет лестницы, он сразу забил тревогу. К счастью, против редакции находится полицейский пост, и через несколько минут на месте происшествия уже были представители власти.
Видно, самолюбию вахтера льстило то, что он разговаривает с такой высокопоставленной особой.
— Пан полковник, — вытягивался он перед гауптштурмфюрером, — можете быть уверены: ни один человек не вышел из здания. Ежели вельможному пану угодно убедиться — вот ключ, которым я сразу же запер ворота. Заверяю пана полковника, другого выхода из здания нет. Обязан доложить пану полковнику, что все это, — он заговорщицки подмигнул, — коммунистические штучки.
— Уберите эту свинью, — скривился Харнак и спросил полицейского: — Кто мне может показать дом?
— Пан редактор Загородный работал здесь еще при поляках. Свой человек, — задышал он смесью спиртного перегара и чеснока.
Пан редактор издали поклонился гауптштурмфюреру. Подошел ближе и еще раз поклонился.
— Такое несчастье, пан офицер, — произнес сочувственно. — Такое несчастье…
— Довольно разглагольствовать, — сердито бросил Харнак. — Показывайте здание!
На первом этаже все окна были забраны решетками. Если бы кто-нибудь прыгнул со второго, его бы заметили. Придя к выводу, что человек со шрамом никуда не мог бежать, Харнак приказал.
— Обыскать все комнаты! Действовать осторожно: его надо взять живым!..
Дом был старый, с темными узкими коридорами, бесчисленными небольшими комнатами, переходами и разными кладовками. Эсэсовцы заглядывали чуть ли не в каждую щель, поднимаясь с этажа на этаж. Наконец Людке доложил, что поиски ничего не дали.
— Я начинаю понимать нашего шефа, — иронически скривился Харнак. — Воистину вы идиот, Людке. Неужели вы хотите убедить меня, что коммунисты научились летать?
— Мы обыскали все, гауптштурмфюрер, — настаивал Людке. — Я лично побывал даже на чердаке.
— Погодите! — Харнак отстранил шарфюрера. — Пусть кто-нибудь проводит меня на чердак.
Здание редакции стояло в конце улицы, и лишь с одной стороны к нему примыкал другой дом. Но он был этажом ниже, и Харнак решил, что перебраться с чердака на крутую крышу невозможно.
Приказав еще раз обыскать помещение, гауптштурмфюрер обошел чердак, заглядывая во все углы. Выйдя на балкон, Харнак заметил приоткрытую дверь, а за ней крутую деревянную лестницу.
— Там что?
— Пожалуйста! — Редактор услужливо распахнул дверь настежь. — Здесь помещение вахтера. Но ваши солдаты уже осматривали его.
Харнак безразличным взглядом скользнул по лестнице. Вдруг он насторожился и в несколько прыжков взбежал на площадку с узким оконцем. От окна до конька крыши соседнего дома было немногим больше метра. “Вот откуда он мог легко спуститься”, — подумал гестаповец. Так и есть: на покрытом пылью подоконнике остался след сапога. “Сорок второй–сорок третий размер”, — прикинул на глаз Харнак. Осторожно, чтобы не стереть след, пролез через окно и оседлал конек крыши.
— Вот так он и сбежал, — объяснил он Людке, выглядывавшему в окошко. — Подайте мне руку, болван…
Выломанный из кровати железный прут, исцарапанная дверь чердака в третьем от угла доме подтвердили правоту Харнака.
“Улетела птичка!” — понял гауптштурмфюрер, но на всякий случай приказал обыскать все квартиры этого дома.
— Улетела птичка и, думаю, надолго. — С этими словами Харнак вошел в кабинет Менцеля. — Но мне удалось установить, что это за птичка. Гарантии, впрочем, не даю, но почти убежден. Завтра окончательно выясним.
— Может быть, вы все же проинформируете меня?
— Наш агент оказался типичным ослом. Этот коммунист, видимо, раскусил его с первого взгляда.
— Все это слова. — Менцель начал сердиться. — Мне нужны доказательства.
— О-о! Доказательств сколько угодно, штандартенфюрер. Даже больше, чем нужно…
Харнак доложил о результатах расследования.
— Как же вам посчастливилось установить личность коммуниста?
— Очень просто. Если даже этот идиот Людке, — Харнак сделал ударение на слове “идиот”, — а я его считаю не последним идиотом, не обратил внимания на окно на лестнице, мог ли бы им воспользоваться человек, который впервые оказался в этом здании? Тем более что в его распоряжении были лишь секунды?
— Вы хотите сказать, что этим коммунистом был кто-то из сотрудников редакции?
Харнак наклонил голову.
— Но ведь это мог быть и человек, работавший там раньше.
Харнак снова наклонил голову.
— И я так подумал, — произнес с едва заметной иронией, — но мне удалось установить, что один из корректоров две недели тому назад выехал как раз в тот район, где было совершено нападение на танкетку. В какое-то село Квасы. Отпросился будто бы на свадьбу на три–четыре дня и не является уже две недели.
— Кто такой? — спросил Менцель.
— Заремба Евген Степанович.
Менцель нажал на кнопку звонка.
— Сделайте немедленно запрос, — приказал секретарю. — Заремба Евген Степанович. Корректор газеты. Две недели тому назад выехал в село Квасы на свадьбу племянника…
Глава вторая Первые шаги
Петро Кирилюк стоял у окна в проходе. Вагон был старый, его беспощадно качало, он весь скрипел и трещал, словно жаловался и на паровоз, который тянул его в такую даль, и на дождь, который стегал его по железным бокам, и на ветер. Но Петро не обращал внимания на поскрипывание вагона, не слышал затяжных и хриплых паровозных гудков, не замечал мокрых полей, которые проносились за окном. Нервы его были напряжены до крайности, в каждом взгляде ему чудились враждебность и подозрительность, движения его оставались скованными, напряженными, и он боялся выдать себя. “Какой же ты разведчик, если боишься первого встречного! — терзал он себя. — Какой же ты разведчик!.. — повторял. — Мальчишка, жалкий трус…”
Кирилюк достал сигарету, настоящую, ароматную сигарету, которая стоила бешеных денег на “черном рынке”, и глубоко затянулся.
“А я и в самом деле не разведчик, — подумал он вдруг, — с меня ничего и не возьмешь… Собственно, чего я мучаю себя? Не бояться? Так я не боюсь. Кабы боялся, то не ехал бы… Нервы…”
Поезд влетел под стальные арки моста. Внизу, под грибком, стоял солдат в шинели и каске. Петро на какое-то мгновенье встретился с ним взглядом и, удивленный выражением его лица, оглянулся, но уже не увидел ни солдата, ни грибка, ни ажурных арок моста.
Солдату было, вероятно, за пятьдесят; маленький, худой, с безбровым морщинистым лицом, он промок и с нескрываемой завистью и злостью смотрел на вагоны пассажирского поезда и людей, которые мелькали в окнах. Маленький окоченевший человечек с автоматом ненавидел его, Кирилюка, — это ясно можно было прочитать в его глазах, хотя он должен был принять Петра за немца.
Петро усмехнулся, опустил окно и высунул голову под дождь. Долой сомнения! В конце концов он хозяин жизни, у него есть то, что ценится здесь больше всего на свете и чего, конечно, не хватает надменному оберсту из соседнего купе. У Петра есть деньги, драгоценности, на нем прекрасный модный костюм, в кармане надежные документы, — он даже вправе позволить себе различные чудачества. Как ни странно, но именно то, что он, этот пассажир в дорогом костюме и белоснежной рубашке, вызывает своим поведением недоуменные взгляды соседей но вагону, придало Кирилюку больше уверенности. Чтобы окончательно развеять свои сомнения, он нарочно толкнул спесивого оберста, который с полотенцем на плече как раз направлялся в туалет. Тот было вздумал возмутиться подобной наглостью, но Кирилюк смерил его таким презрительным взглядом, что оберст неожиданно сам попросил извинения.
“Вот так и надо — расталкивать локтями”, — решил Петро. Еще немного он постоял в коридоре, потом решительно взялся за дверную ручку.
Его спутниками были двое военных с эмблемами танковых войск — толстяк майор средних лет и моложавый, но с седыми висками подполковник. Они как раз собирались обедать: майор аккуратно застелил белой салфеткой столик и разложил на нем бутерброды; подполковник откупоривал бутылки с пивом.
Майор даже не оглянулся на Петра, а подполковник бросил на него явно неприязненный взгляд. Кирилюк сделал вид, что не заметил этого, и достал свой саквояж. Вынул бутылку коньяку, нарезанную тонкими ломтями ветчину, круг ароматной украинской колбасы и предложил:
— Если не возражаете, господа, прошу распить эту бутылку. — Выдержал паузу. — Кстати, позвольте представиться — обер-лейтенант в отставке Герман Шпехт.
— С удовольствием! — расцвел в улыбке майор. — Это, — представил он седого, — оберстлeйтенант [13] Хауайс. Ваш покорный слуга — майор Кирстен.
Коньяк разлили по стаканам. Кирстен, смакуя, пил его маленькими глотками.
— Эликсир жизни, — вздохнул он и потянулся за ветчиной. — Вы, обер-лейтенант, давно сбросили мундир?
Петро указал на свою трость, стоявшую в углу, и состроил печальную гримасу.
— Шальная пуля под Харьковом. Хорошо еще, что ногу не ампутировали…
Подполковник посмотрел на него с любопытством и спросил:
— Все время на Восточном фронте?
— Даже под Москвой… Глаза майора округлились.
— Это правда, обер-лейтенант?
— Этим не шутят.
— Но ведь там был сущий ад!
Петро внимательно посмотрел на майора. Неужели провоцирует? По виду человек простой, но кто его знает?
— А война вообще не рай! — посмотрел на подполковника, как бы ища поддержки. — Русским посчастливилось: зима и мороз нам помешали.
— Если бы не это, — подтвердил подполковник, — наши танки давно были бы на Урале. Но и сейчас не так уж и скверно. Мы обойдем Москву с фланга и утопим большевиков в Волге.
— За Сталинград! — предложил майор, разливая коньяк.
— За Сталинград! — поддержал Петро, поднимая стакан. — За Сталинград! — повторил. И до боли зримо представил себе бои в городе, обгорелые дома и солдат в продымленных гимнастерках, которые до последних сил удерживают каждый рубеж.
— Генерал Паулюс, — сказал майор, отрезая большой кусок колбасы, — пообещал фюреру через месяц устроить в Сталинграде парад. А генерал слов на ветер не бросает.
“Ваш Паулюс — обыкновеннейший трепач”, — подумал Петро, но сердце у него сжалось…
— У вас такой вид, обер-лейтенант, точно вы яд проглотили, — сказал подполковник.
— Плохо пошло, — щелкнул Петро по стакану. — Разрешите глоток пива, майор.
Пиво было далеко не первосортное, но холодное. Петро пил его с удовольствием, ощущая, как с каждым глотком остывает его разгоряченная голова. “Меньше эмоций! — думал он. — С волками жить — по-волчьи выть…”
— Надеюсь, господа, — сказал весело, — что ваши боевые машины примут участие в сталинградском параде!
— Если не опоздаем, — буркнул подполковник сердито.
— Дело в том, что нас только сейчас перебрасывают на восток, — объяснил майор.
— По-моему, наш поезд идет в Берлин, а это кажется, на западе, — простодушно заметил Петро.
Майор рассмеялся:
— Путь на восток не такой уж прямой, обер-лейтенант. Порою необходима соответствующая подготовка.
Петро понял — это квартирьеры. Готовили переезд какой-то танковой части. Интересно!..
Ответил небрежно:
— Что ж, выпьем за то, чтобы вы не опоздали. Каждый немец должен внести свой вклад в нашу великую борьбу! Для такого случая у меня найдется… — полез в саквояж, — настоящий французский.
— Неужели? — жадно протянул руку майор. — Вы чародей, обер-лейтенант!
— Каждый творит чудеса в меру своих возможностей…
— Финансовых… — добавил майор. — За наши успехи, обер-лейтенант!
— Вы мне нравитесь, — неожиданно сказал подполковник, который до этого молчал, занятый своим стаканом. — Я чувствую, вы — подлинный ариец!
Петро почтительно склонил голову.
— Для меня, герр оберстлeйтенант, — сказал торжественно, — большая честь услышать это из уст столь заслуженного человека.
— Далеко едете, обер-лейтенант? — включился в разговор майор.
— В Бреслау.
— Жаль… У нас в Берлине несколько свободных часов. Можно было бы…
— Глупости, Кирстен, — махнул рукой подполковник, — неужели вы полагаете, что всем интересно знакомиться с вашей супругой и, — подчеркнул, — дочерью?
— Так вы не в Берлин? — спросил Петро с безразличным видом.
— Нам предстоит еще целую ночь трястись в поезде, — пожаловался майор. — До Гавра…
— Проклятая страна, — буркнул подполковник. — Кто это выдумал, будто французы галантный народ? Обыкновеннейшие свиньи.
— Не забывайте о француженках, Хауайс, — заметил майор. — Пикантные, скажу вам, есть штучки…
— Все равно свиньи, — с пьяным упрямством повторил подполковник. — И это не только мое мнение, Кирстен. Я повторяю слова самого фон Ауэрштедта. Вы это понимаете?
— Раз это сказал наш корпусной генерал, то мне остается только поднять руки. Тем более что тут нет малейшего противоречия. Ведь, — майор повернулся к Петру, — самая красивая француженка в то же время свинья. Не так ли?
Петро подлил коньяку и сказал:
— Я никогда не был во Франции, господа. Но слышал о ней много хорошего.
— Не верьте, — хмуро оборвал его подполковник. — Ложь! Что Гавр, что Ростов…
— Не могу согласиться с мнением господина оберстлeйтенанта. Русские кусаются сильнее.
— Это у вас чисто субъективное, — засмеялся майор, похлопав Петра по ноге.
— Тем более что русских ждет тот же конец, что и французов! Мы их, — подполковник сжал кулак, — вот так!.. Перемахнем через Волгу — и капут России! Для наших танков не существует преград. Я верю, наш корпус первым окажется на заволжских просторах!
— Я хотел бы служить под командованием господина оберстлeйтенанта, — патетически произнес Кирилюк. Он понимал, что его собеседники пьяны и порция грубой лести не помешает.
— Вот если бы все офицеры вермахта были такие, как вы, обер-лейтенант, — ответил тот, весьма польщенный. — За ваше здоровье!
Майор уже храпел в углу. Кирилюк закурил и вышел из купе.
Бывает же так — жалеешь, что выбросил деньги на лотерейный билет, а он вдруг выигрывает, да еще какой куш! Наверно, Кирилюк родился в рубашке. Впрочем, что рубашка!.. Вспомнил, как отец, рассказывая про одного проныру, который всегда счастливо выпутывался из различных передряг, развел руками и воскликнул: “Нет, он не в рубашке родился, а в драповом пальто!” “Так можно и про меня сказать, — подумал Петро, улыбаясь. — Черт подери, еще один такой случай — и я стану фаталистом”.
Шумело в голове. Петро зашел в туалет, умылся. Причесывая мокрые волосы, подвел итоги: танковый корпус, которым командует генерал фон Ауэрштедт, в ближайшее время перебрасывается из Нормандии на Сталинградский фронт. Выходит, у гитлеровцев не такие уж хорошие дела, если приходится снимать с Атлантического вала целый танковый корпус. А может, не один только корпус фон Ауэрштедта?.. Тревожила мысль: преступление — держать при себе такие важные данные. Но в конце концов он недолго задержится в Бреслау.
Оберстлeйтенант и майор спали. Кирилюк посмотрел на иссиня-красное лицо майора и вспомнил плакат первых дней войны, который предупреждал: “Болтун — находка для шпионов!” Что ж, совершенно верно; хорошо, если бы такие болваны, как эти квартирьеры, попадались ему почаще…
Вечером поезд прибыл в Бреслау. Попутчики еще спали, и Петро осторожно, чтобы не разбудить их, собрал вещи и вышел на перрон.
Ювелирный магазин Ганса Кремера считался одним из самых крупных и фешенебельных в Бреслау. Он занимал половину первого этажа нового дома на Фридрихштрассе — респектабельном бульваре в центре города. На этом бульваре да на прилегающих к нему нескольких улицах сосредоточена вся деловая жизнь города. Здесь находились банки, филиалы крупных берлинских и рурских фирм, всевозможные конторы и агентства, большие магазины.
По утрам улица кажется слепой — окна нижних этажей закрыты тяжелыми железными шторами. Их серый металл, серые плиты тротуара, серый асфальт проезжей части, хилые липы с желтой привянувшей листвой — все это создает атмосферу безжизненности. И ее не могут нарушить ни одинокие прохожие, ни дворники, подметающие холодный, мертвый камень. Но проходит несколько часов — и Фридрихштрассе не узнать: как будто бы и те же дома, и тротуары, и липы, однако все вокруг переливается яркими красками, витрины магазинов, за зеркальным стеклом которых стандартно-счастливо улыбаются манекены, приглашают заглянуть внутрь, золотом поблескивают вывески.
Петро шел медленно, опираясь на палку. Эту палку подарила ему Катруся перед самым отъездом. Отобрала противную палку, которую Богдан купил по дешевке на базаре, и вынесла эту — из красного дерева, инкрустированную серебром.
— Отцовская, — объяснила.
Петро посмотрел девушке в глаза и заметил что-то такое, чего раньше в них не было, — грусть, затаенную нежность.
— Не надо, — попробовал отказаться. — Это ведь память.
— Возьмите! — неожиданно рассердилась Катруся. — И не разговаривайте!
— Фью-ю-ю!.. — удивленно присвистнул Богдан. — Уж коль сестрица дарит Петру отцовскую палку, то, значит, в лесу медведь издох или…
— Замолчи! — процедила Катруся, покраснев.
Кирилюк взял палку и, опираясь на нее, прошелся по комнате. Богдан насмешливо следил за ним, и Петро заранее ждал какого-нибудь ехидного замечания друга. Ждать пришлось недолго.
— Такие батяры[14], прошу прощенья, — завел Богдан, — до войны гуляли по Студенческой. Одеты экстра-люкс, а в голове пусто. Пройдется такой тип несколько раз, подхватит какую-нибудь потаскушку и, простите…
— И тебе не стыдно? — вскочила Катруся. — И это называется брат — он погубит свою сестру. Знает ведь, что Петру такая палка просто необходима, а мелет, мелет… — Подошла к Петру, поправила на нем галстук. Глаза ее смотрели выжидающе, словно о чем-то спрашивали.
Он невольно сделал шаг в направлении Катруси, но тут снова загудел Богдан:
— Смотрю я на вас — и слов не нахожу. Если бы не знал сестрицу, то подумал бы — жених и невеста, а то и вовсе молодожены…
Катруся резко обернулась, как бы собираясь сказать что-то гневное, но вдруг оробела, смутилась, стала как будто даже меньше ростом. Устало махнула рукой и вышла на кухню.
— И с чего это она?! — удивился Богдан. Петро хотел было промолчать, но не смог сдержать раздражения.
— Что тебе от нее нужно?
Эта картина живо возникла в его памяти. И в поезде и сейчас его не оставляло чувство, что между ним и Катрусей что-то недоговорено. Вспоминал ее выжидающие, тревожные глаза и корил себя за то, что не нашел тогда слов, которые развеяли бы эту тревогу.
Задумавшись, Кирилюк столкнулся с пожилым человеком в черном старомодном костюме. Старик разглядывал витрину с камуфляжными окороками и колбасами из папье-маше. Он гневно посмотрел на Петра, побагровел и, брызгая слюной, грубо выругался. Этот инцидент возвратил Петра к действительности.
Вспомнился Берлин, каким он сохранился в памяти с детства, когда прилавки гастрономических магазинов гнулись от настоящих окороков. Теперь крикливые витрины и золотые вывески вставали перед Кирилюком в их подлинном виде — обшарпанные, но принаряженные и чуть-чуть подновленные, чтобы как-нибудь скрыть их убогость.
Это развеселило Петра, и он уже совсем уверенно перешагнул через порог магазина Ганса Кремера. На вопрос, можно ли увидеть хозяина, отозвался старый, с морщинистым лицом приказчик. Он смерил посетителя с головы до ног хитрым взглядом маленьких водянистых глаз и ответил вопросом на вопрос:
— Господин хочет что-нибудь приобрести у нас? Для этого отнюдь не обязательно вызывать хозяина.
— А если я ничего не собираюсь покупать? — спросил Петро.
— Тогда тем более незачем хозяина тревожить, — огрызнулся приказчик. — Но может быть, господин просто ошибся адресом?
— Вы хотите сказать, что я нахожусь не в магазине господина Ганса Кремера, — язвительно произнес Петро.
Это подействовало. Продавец что-то шепнул девушке, которая стояла рядом за прилавком, и юркнул в маленькую дверь. Прошло минут пять. Петру казалось, что портьера, прикрывавшая дверь, шевельнулась, точно кто-то подсматривал из-за нее. Еще через несколько минут явился приказчик и пригласил Кирилюка следовать за собой.
Они миновали загроможденный коридорчик, спустились по винтовой лестнице и очутились перед обитой железом дверью.
— Сюда, — сказал продавец.
Петро вошел в большой кабинет с зарешеченными окнами и массивными сейфами. Из-за письменного стола на него смотрел седой худенький человечек с усталым, бледным лицом. Не поднялся и не ответил на приветствие, а нетерпеливо постукивал пальцами по столу, всем своим видом показывая, что не имеет ни времени, ни желания вести пустые разговоры.
— Я привез письмо от вашего племянника Карла, — начал Петро, усаживаясь возле стола.
Ганс Кремер не проявил никакого интереса к словам посетителя. Петро не спеша вытащил конверт и подал его Кремеру.
Над содержанием письма думали долго вместе с Богданом и Зарембой, отклоняя вариант за вариантом, покамест, наконец, не остановились на немногословном деловом рекомендательном письме. Напечатали его на машинке. Подпись скопировал опытный гравер, который приготовил Петру и документы, — не какую-то там посредственную “липу”, а надежные, солидные документы, лучше даже настоящих, как уверял гравер.
Старик внимательно прочитал письмо, запрятал его в ящик стола. Петро внутренне напрягся: сейчас Кремер может задать один из тех вопросов, на которые он не сумеет ответить. Ведь Кирилюк и в глаза не видел этого племянника Карла, и старику легко будет уличить того, кто выдает себя за его приятеля. И все же он будет изворачиваться, как только сможет. В конце концов Герман Шпехт не такой уж и близкий друг этого юнца Карла Кремера, чтобы быть подробно осведомленным о его жизни. Если ювелир даже и заподозрит его, то не больше чем в мелком шантаже, а это не так уже страшно: уголовная полиция — не гестапо, он всегда успеет вовремя исчезнуть.
Ганс Кремер поднял на Кирилюка глаза, сухо сказал:
— Слушаю вас.
— Я думал, вам интересно будет побеседовать с человеком, который лишь вчера видел Карла…
— Вы думаете?.. — промямлил Кремер, но, должно быть, почувствовав, что хотя бы для приличия следует проявить какой-то интерес к родному племяннику, вяло спросил: — Как его дела?
— К сожалению, не блестящие. Я оставил его в Кракове. Карл заболел воспалением легких.
Кирилюку показалось, что в комнате кто-то вдруг начал пилить дрова. Иллюзия была настолько сильной, что он оглянулся, но, никого не увидев, понял: это смеется Кремер. Да, старик смеялся — с хрипом и дребезжанием; казалось, старая, ржавая пила врезалась в гнилое дерево.
— Ха-ха-ха… Этот шалопай уж всегда влипнет… Ха-ха… Я так и знал… Не одно, так другое… Однако почему он очутился в Кракове?
Ответ на этот вопрос был подробно продуман.
— Один из наших общих знакомых порекомендовал господину Кремеру встретиться со мной. Я тоже ювелир и помог ему провести одну интересную сделку. Он уже собрался ехать дальше, но вдруг заболел…
— И написал письмо, — продолжал Кремер, — рекомендуя вас как солидного человека, чуть ли не своего друга.
Сонные глаза старика моментально стали живыми и пронзительными. Кирилюк понял, что его первое впечатление о Кремере оказалось ошибочным: перед ним не утомленный жизнью, с притуплёнными рефлексами человек, а умный и энергичный делец, с которым не так-то просто меряться силами.
Кремер продолжал:
— И вот вы являетесь с этим письмом ко мне, надеясь одурачить старого колпака…
— Что вы, господин Кремер! — вскричал Кирилюк. — Я только имел в виду…
— Меня не интересует, что вы имели в виду. Вам надо лишь знать, что рекомендацию этого сопляка, моего племянника, я воспринимаю лишь как анекдот. Человек, который смог пустить по ветру такое наследство, какое оставил его отец, не имеет права на доверие.
“Так вот в чем закавыка!” — подумал Петро. Он готовился к нескольким вариантам встречи с Гансом Кремером, но такого предвидеть не мог. Придется перестраиваться на ходу — старик так легко не отделается от него.
Словно читая мысли Кирилюка, Ганс Кремер сказал:
— Вот так, молодой человек, — заглянул в ящик стола, куда спрятал рекомендательное письмо, — кажется, господин Герман Шпехт. Я благодарен за то, что вы передали привет и письмо от моего племянника, но, к сожалению, дела…
Он приподнялся, давая понять, что разговор окончен.
— Минуточку, господин Кремер, — твердо сказал Герман Шпехт. Уголки губ у него опустились, лицо приобрело упрямое выражение. — Я пришел к вам не затем, чтобы обсуждать характер и поведение вашего племянника. Меня привели дела. Я ювелир и хотел бы…
— Ювелир?.. — состроил гримасу Кремер. — Я не люблю шантажа и в случае чего могу вызвать полицию. Мне известны все ювелиры Германии, но Германа Шпехта среди них не припоминаю.
— И все-таки он существует, — весело сказал Петро. Он решил идти напролом. — Хотите вы того или нет, а существует и, надеюсь, всегда будет процветать!
— Но при чем тут я? — сухо спросил старик.
— Дело в том, что я решил установить с вами деловой контакт, — ответил Петро. — Вы меня устраиваете, господин Кремер. Вернее, не вы, а безупречная репутация вашей фирмы.
Лицо Кремера налилось кровью. Он хватал воздух раскрытым ртом, вытаращив глаза на гостя. Наконец овладел собою и сказал с иронической благожелательностью:
— Вы либо идиот, либо неопытный жулик. Идите, я не стану вызывать полицию…
Вместо ответа Петро вытащил из кармана коробочку и раскрыл ее перед самым носом Кремера.
Удар был рассчитан точно. Ювелир зажмурился, как от яркого света. Длинными бескровными пальцами схватил коробочку и чуть ли не ткнулся в нее носом. Не глядя, нащупал в ящике лупу и долго разглядывал небольшой камешек, поблескивавший на черном бархате. Нос у старика заострился, костлявые, царапающие пальцы дрожали, и весь он был похож на ястреба, который сейчас вцепится острыми когтями в жертву и примется клевать и рвать ее на части.
Наконец, сделав усилие, оторвался от бриллианта и поднял глаза на Петра. Вытер проступившую слезу белоснежным платком, закрыл коробочку и пододвинул ее к посетителю.
— Возьмите и больше никому не показывайте, — сказал равнодушно. — Краденое не покупаю…
Слова эти больно хлестнули Кирилюка, но он сдержался.
“О-о! — подумал Петро с уважением о хозяине. — А ты стреляный воробей!”
Медленно запрятал коробочку, вздохнул и поднялся.
— Что ж, я думал, мы найдем общий язык, господин Кремер, — произнес Петро спокойно. — Жаль… Мое почтение! — повернулся и направился к дверям, почти не сомневаясь, что ювелир сейчас остановит его, что все это игра, точно рассчитанная на несколько ходов вперед; партнер у него серьезный, и сейчас трудно предопределить результат поединка.
— Минуточку, господин Шпехт, — услышал Петро, берясь за ручку двери, — а чем вы можете доказать, что бриллиант принадлежит вам?
Петро усмехнулся: первый ход сделан правильно! Если бы он вскипел, заспорил — проиграл бы. Старик все равно не выпустит бриллианта из рук, он только хочет приобрести его за бесценок. Но теперь диктовать будет он, Герман Шпехт.
— Бриллиант — это пустяки, господин Кремер! — небрежно бросил Петро, возвращаясь. — У нашей фирмы значительно большие возможности… — Положив перед ювелиром документ сотрудника СД, он лицемерно вздохнул: — Но ведь вы несколько предвзято относитесь к нашим предложениям.
Этот документ был не очень высокого качества, и Петра предупредили, что им можно пользоваться лишь в крайних случаях. Но иного выхода не было. Кроме того, Петро знал: ювелир теперь думает только о бриллианте; вероятно, ему даже безразлично, краденый он или нет, и скорее всего в душе старик предпочитал бы, чтобы камень оказался краденым — все-таки меньше платить…
Кремер взглянул на документ и отодвинул его.
— Мы просто зря теряли время, господин Шпехт. Следовало начать с этого.
Петро спрятал документ в свой портфель.
— Как-то не подумал об этом. Ведь прежде всего я коммерсант.
— Ну, ну, — растянул свое длинное лицо в улыбке Кремер, но глаза оставались серьезными и сверлили Шпехта. — Приятно иметь дело с деловыми людьми. Вы хотите продать камень?
— Вы не ошиблись. — Петро снова выложил на стол коробочку.
Ювелир взвесил бриллиант.
— Восемь с половиной каратов.
Капнул на камень кислотой. Причмокнул бескровными губами и сухо сказал:
— Он стоит сорок тысяч марок. Могу предложить тридцать пять.
“Начинает приблизительно с половины цены”, — прикинул Петро и скучным голосом сказал:
— Вы же сами только что сказали, что любите иметь дело с деловыми людьми. За кого вы меня принимаете?
— Сколько же вы хотите? — спросил старик, привстав с места.
— Бриллиант стоит более восьмидесяти тысяч, коллега. Семьдесят пять мне заплатят с закрытыми глазами.
Ювелир опустился на стул.
— Да, вы знаете подлинную цену, — сказал с уважением. — Но сейчас война… Люди хотят покупать колбасу, а не бриллианты.
— Разница между ограниченным человеком и умным, — поднял брови Петро, — в том и состоит, что умный знает, когда покупать колбасу, а когда бриллианты. И лучше всех должны это знать мы, немцы, которые уже пережили одну послевоенную инфляцию. Сколько выиграли тогда те, кто вложил деньги в драгоценности? Вы знаете это лучше меня, господин Кремер.
— Не те времена, не те времена! — возразил ювелир. — Доблестная немецкая армия одерживает победу за победой.
— Учитывая именно это, — прервал хозяина Петро, — а также то, что это наша первая сделка, я возьму с вас всего семьдесят тысяч и лишь треть — в твердой валюте. Имею в виду доллары и фунты.
Ювелир скрипуче засмеялся.
— Доллары и фунты!.. Ха-ха… Валюта… Где же вы возьмете сейчас валюту?
— Ладно, двадцать процентов валютой, — вздохнул Петро. — И это мое последнее слово!
Ганс Кремер забегал по кабинету. Передвигался он необыкновенно легко — заложив руки за спину, задрав голову и немного подпрыгивая. Казалось, ювелир забыл про торговлю, про бриллиант и про посетителя. Молча попрыгав, сел на стул напротив гостя, уставился на него неподвижным взглядом бесцветных, почти белых глаз.
Петро выдержал этот тяжелый, неприятный взгляд. Кремер облизнул сухие губы и глубоко, с присвистом вздохнул:
— Хорошо… Пусть будет по-вашему… Так и быть, поскольку это наша первая операция…
— Первая или последняя, — ответил Петро, — какое это имеет значение? Я не позволю обирать себя никому — невзирая ни на возраст, ни на авторитет фирмы.
— Вы мне нравитесь, молодой человек, — засмеялся Кремер. — У вас настоящая деловая хватка.
— Немецкая, — поправил его Петро.
— Совершенно верно! — подхватил ювелир. — Полагаю, что, кроме этого камня, у вас найдется еще кое-что?
— Может быть, и найдется… — начал Петро.
Но Кремер не дал ему договорить. Опустив подбородок на свои белые руки, он начал монотонно:
— Мы живем в очень ответственный для немецкого народа период, господин Шпехт. Я имею в виду не только наши военные дела, но и, так сказать, ситуацию экономическую и торговую. В результате победного наступления наших войск происходит кое-какое перемещение ценностей. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду? С Востока на Запад!.. К сожалению, поток этих ценностей похож на жалкий ручеек, а он должен стать полноводной рекой. Конечно, отчасти виновата наша администрация, которая, я бы сказал, примитивно регламентирует деловую инициативу на невозделанной ниве. Все это приводит к тому, что значительная часть ценностей, захваченных нашими людьми на Востоке, оседает на месте, а это — я не боюсь громких слов — преступление перед нацией! — На миг остановился, пошевелил губами. Затем многозначительно изрек: — И каждый порядочный немец-патриот должен приложить максимум усилий, чтобы помочь нашей державе в деле перемещения ценностей и тем самым укрепить великую Германию!
“Ишь, какую идеологию подвел! — усмехнулся про себя Петро. — Вот что значит коммерсант! Ведь знает, негодяй, откуда берется это золото! И глазом не моргнул…”
— Вы совершенно правы, — воспользовался Петро секундной паузой, — говоря о временных э-э… непорядках в операциях с драгоценностями. Отдельные наши чиновники не понимают той простой истины, что карман немецкого коммерсанта есть в то же время и карман государства.
— О-о! Как справедливо сказано! — Кремер многозначительно поднял палец.
“Тебе только дай, сам черт потом не вырвет”, — подумал Петро и продолжал:
— Именно это я и хотел подчеркнуть перед тем, как условиться о продаже еще некоторых драгоценностей. Вовсе не нужно, чтобы чинуши узнали о характере наших с вами сделок. Это было бы невыгодно ни мне, ни вам…
Кремер стал совсем другим — теперь он был похож на прекрасно выдрессированную легавую, которая почуяла запах дичи и сделала стойку. Ноздри старика раздувались, в глазах замигали хищные огоньки. Ювелир потер руки и сладким тоном сказал:
— Это изъятое на Востоке золото там, на месте, очень дешево. Надеюсь, вы не станете требовать от старого и бедного ювелира слишком много за него? К тому же секретность сделок…
“Сквалыга!” — подумал Петро. Ему давно уже надоел этот разговор, противно было не только торговаться, даже глядеть на Кремера. Но поддаваться было нельзя — старый пройдоха быстро скрутил бы его в бараний рог.
— В конце концов меня мало беспокоит, будете ли вы афишировать наши сделки или нет. Просто это может повлиять на их дальнейший ход. И вообще такого рода делам реклама только вредит.
— Ха-ха… — проскрипел ювелир. — Я давно уже понял вас, молодой человек. Короче — мы достигнем согласия, если моя фирма получит тридцать процентов скидки от оптовой цены.
— Что?! — возмущенно поднял брови Петро.
— Фирма имеет слишком хорошую репутацию, чтобы рисковать ради какой-то мелочи.
— И пятнадцати процентов будет даже слишком много, господин Кремер. Кроме того, я помню ваши слова о том, что каждый порядочный немец…
— Двадцать пять… — замахал руками ювелир.
— Двадцать — мое последнее слово!
— Ладно. — Старик обошел вокруг стола, сел на свое место. — Но при условии, что товар удовлетворит нас.
— Я не собираюсь навязывать вам всякий хлам. Вы можете приобретать лишь то, что будет устраивать фирму.
— Когда я увижу товар?
— Хоть сейчас, — похлопал Петро по небольшому кожаному саквояжу.
— Как! — подскочил ювелир. — Вы носите драгоценности с собой? В такое тревожное время?..
— Именно поэтому, — улыбнулся Петро. Он вытащил из саквояжа шкатулку, искоса наблюдая за тем, как руки старика потянулись к ней. — Я знаю, вас трудно удивить, но кое-что тут есть…
Кремер склонился над шкатулкой. Долго рассматривал драгоценности. И когда, наконец, нашел в себе силы оторваться от шкатулки, то с уважением уставился на гостя и сказал:
— Воистину вы явились сюда из волшебной сказки, молодой человек!
— Я давно уже вышел из детского возраста, но даже в те далекие годы не увлекался сказками, — улыбнулся Петро. — Меня интересуют деньги!
— Оптом? — спросил ювелир.
Петро кивнул.
Прошло по крайней мере три часа, пока они достигли согласия. Кремер торговался за каждую марку, бегал по кабинету, хватался за голову и совсем заморочил Петра, который представлял себе владельца солидной фирмы респектабельным человеком. Все же каждый остался доволен заключенной сделкой. Петро радовался тому, что он выручил много больше, чем предполагал Заремба; Кремер же был счастлив, что в нынешние тревожные времена ему удалось так выгодно вложить деньги: что ни говори, а золото всегда остается золотом!
— Надеюсь, — сощурил глаза ювелир, — вы понимаете, что сразу рассчитаться фирма не сможет. Во всем городе не найдется сейчас коммерсанта, который смог бы сразу оплатить все это наличными. Могу предложить треть деньгами, остальные — надежными гарантированными векселями.
— Я деловой человек, господин Кремер, — возразил Петро, — для предстоящих сделок мне нужны деньги. Простите, но там, где я работаю, ваши векселя стоят не больше, чем мыльный пузырь. — Ювелир сделал вид, что обиделся, но Петро не обратил на это внимания. — Да, мыльный пузырь… И не забудьте, мы условились — двадцать процентов валютой.
— Этот человек заставит вылететь в трубу, — состроил гримасу ювелир. — Но все же вам придется немного подождать. Деньги на улице не валяются.
— Сколько?
— Около недели.
Увидев, как недовольно поморщился клиент, хозяин сочувственно произнес:
— Я вас понимаю: в чужом городе… скверная гостиница… одиночество… Вот что, — предложил он, подумав немного. — Не лучше ли вам поселиться у меня на это время? Во всем доме — лишь я, дочь и экономка. Надеюсь, вы понравитесь моей Лотте…
Петро даже заерзал на стуле — он и не мечтал, что ему так повезет. Но сразу согласиться было бы неосмотрительно.
Кремер по-своему понял колебания гостя: наверно, не хочет связывать руки, будет зондировать почву у других ювелиров. Но не такой он дурак, Кремер, чтобы упустить саквояж с драгоценностями! Ювелир нажал на кнопку звонка и, когда в дверях появился приказчик с маленькими хитрыми глазками, приказал:
— Вызовите такси. И предупредите фрау Лотту, что мы едем домой. За вашим багажом потом пошлем шофера, — бросил он Петру таким тоном, словно у них все давно уже было решено.
Петро поднялся и покорно склонил голову.
— Мне не хотелось бы обременять вас своей особой, но, — развел руками, — больше ничего не остается, как с благодарностью принять ваше любезное приглашение.
— Поехали, — потянулся Кремер за старомодным черным котелком. — Сегодня я имею право немного развлечься.
В тот вечер Харнак был в хорошем настроении. “Наконец пан Сливинский устроился на работу по специальности!” — хохотал он.
Модест Сливинский немного злился на гауптштурмфюрера, но не мог с ним не согласиться: этот чертов гестаповец был прав. Тем более что поручение, полученное от Менцеля, в глубине души нравилось ему, даже льстило его самолюбию. Он чувствовал себя как актер, который получил, наконец, роль, о которой давно мечтал, роль, для которой все готово и продумано — мизансцены, паузы, даже отдельные интонации, но никто этого не подозревает, — и он удивляет всех неким гениальным экспромтом.
“Трудно, но попробуем…” — ответил он тогда Менцелю, уверенный в том, что для него это поручение в самый раз. Но почему же не покуражиться малость перед этим откормленным немцем! Во всяком случае, это поднимает тебя даже в собственных глазах, придает солидность и вес. Вот только этот Харнак! Пан Модест все время видит смешинку в его глазах, как будто проклятый гауптштурмфюрер заглянул ему в душу и прочитал самые сокровенные мысли. Однако это уж слишком: “Устроился на работу…” Свинья этот Харнак, не может без своих вульгарных шуточек. Больше того, неблагодарная свинья — ведь всегда расплачивается он, Модест Сливинский, а напоить Харнака не так уж и просто.
Пан Модест не знал, что эту “работу” придумал для него сам Харнак.
Перед этим гауптштурмфюрер долго спорил с Менцелем. Шеф гестапо был сторонником кардинальных действий. Узнав, кем в действительности оказался скромный газетный корректор Заремба, шеф поднял на ноги всю свою агентуру, но добился очень немногого. Было установлено, что Заремба — старый холостяк, жил замкнуто, домой возвращался поздно и почти никого не принимал в своей квартире. Иногда его видели с соседкой, некоей Марией Харчук — молодой и красивой женщиной, вдовой довольно видного коммуниста, который погиб в первые дни войны. “При Советах”, рассказывал один из соседей, бывший мелкий лавочник, муж Марии Харчук работал то ли в обкоме партии, то ли в профсоюзах.
Менцель хотел немедленно арестовать Марию Харчук. Он считал, что молодая женщина не выдержит “физических методов допроса”, как он любил выражаться, и расскажет все, что знает. Харнак приложил немало усилий, чтобы убедить шефа гестапо не делать этого.
— Ваш план всегда можно осуществить, штандартенфюрер. — Эта фрау Харчук от нас не убежит. Но представьте себе на минуту, что она ничего не скажет… К сожалению, тут это уже стало системой… На свете будет меньше одной красивой женщиной. А нам какая польза? Опять начинай сначала?.. Давайте попробуем другой вариант, который, я уверен, гораздо надежнее. Надо завоевать ее сердце, шеф. Это будет не так трудно — ведь женщина в известном возрасте особенно жаждет любви…
— Но кто же способен сыграть эту роль возлюбленного? — все еще не хотел сдаваться Менцель.
— Вы удивляете меня, шеф, — позволил себе фамильярность Харнак. — Конечно, Модест Сливинский!
Менцель на мгновенье задумался. Хлопнул по столу мясистой ладонью и затрясся от беззвучного смеха.
— Ей-богу, замечательная мысль, Вилли! Более подходящего, чем этот надутый индюк, не найти.
Увидев Марию Харчук издали, Модест Сливинский откровенно обрадовался. Роскошная женщина! Какие формы! Полные плечи и красивая головка, украшенная тяжелой, туго заплетенной косой.
“Полное сочетание приятного с полезным!..” — подумал пан Модест, провожая ее взглядом.
Если бы еще не Харнак, то было бы “вшистко в пожонтку”[15] . (Модест Сливинский, хотя и считался одним из столпов украинского национализма, любил по старой привычке блеснуть польским выражением, считая это признаком высокой интеллигентности.) Этот гестаповец, особенно когда напьется до положения риз, становится ужасно циничным. Что он только мелет! Пан Модест притворился, что не расслышал слов гауптштурмфюрера, по тот с пьяным упрямством повторил вопрос насчет “работы по специальности” и еще добавил:
— Пан Модест не надорвался на той работе? Ха-ха-ха… Это очень опасно, мой милый друг…
“Циник, — с омерзением подумал Модест Сливинский. — Циник и пошляк…”
— Вижу по глазам, что вы думаете сейчас обо мне, — продолжал Харнак. — Дескать, какой циник. Ну скажите, не так ли?.. Ну, честно, так думаете?.. Не хотите признаться, черт с вами. Я уверен — думаете… Да, согласен, я — циник… А вы вдвойне! Смотрите на женщину влюбленными глазами, а готовы послать ее на виселицу. Так кто из нас циник?
— Зачем же так… — пан Модест запнулся, подыскивая слово, — заострять? Не в этом же суть!
— А в чем? Откройте мне эту тайну. Обоснуйте ее философски. Ха-ха-ха… Это будет новое слово в философии. Вы слышали о философии подлости, пан Модест?
— Не понимаю вас, — насупился Сливинский. — Я имею в виду те высокие интересы, которые мы отстаиваем вместе с вами. Ради них можно покривить и своими чувствами.
— И вы считаете, что это не подлость? — не унимался окончательно опьяневший Харнак.
— Это тактика, герр гауптштурмфюрер, — нашел себе оправдание Сливинский, — тактика, которую выдумали задолго до нас.
— Вы гениальный человек! — ухмыльнулся Харнак. — Налейте мне коньяку, непризнанный гений!
Они сидели в квартире Модеста Сливинского и доканчивали уже вторую бутылку. Харнак, узнав о коньячных запасах короля “черного рынка”, зачастил к нему. Сливинский не возражал: на бутылку–другую он всегда найдет деньги, а дружеские взаимоотношения с гауптштурмфюрером с лихвой окупят и не такие расходы.
“Непризнанный гений!” Харнак и не знал, что задел больную струну пана Модеста. Он, почти министр и чуть ли не вельможный магнат, вынужден собственноручно наливать коньяк какому-то паршивому гестаповцу. Вот почему его вдруг так задели слова немца. Он гневно сверкнул глазами и резко сказал:
— Наливайте сами, если хотите! Мне надоело хлестать с вами коньяк!
Сказал — и испугался: с огнем все же не шутят. Но Харнак лишь захохотал в ответ:
— Вам не удастся сегодня вывести меня из равновесия, пан Сливинский. У меня хорошее настроение, и я не стану обращать внимание на вашу неучтивость, хотя на всякий случай вам невредно поостеречься…
Но Сливинский уже спохватился.
— Я имел в виду предложить вам кофе, — угодливо улыбнулся. — Кофе с коньяком…
— Эх и хитрый же вы! — погрозил пальцем Харнак. — Ну да ладно! Расскажите лучше, как у вас дела с этой коммунизированной феминой [16] .
План знакомства Сливинского с Марией Харчук был детально разработан в гестапо. Собственно, ничего нового не придумали, да и к чему сушить себе голову, когда есть давно уже проверенные варианты, которые при участии опытных исполнителей всегда звучат свежо и убедительно.
…Мария Харчук возвращалась с работы. Работала в типографии во второй смене. Давно уже наступил комендантский час, и на улицах было безлюдно: лишь в центре патруль проверил ее пропуск. Шла, углубившись в безутешные мысли. Не так давно ей сообщили: Заремба вынужден перейти на нелегальное положение, и ей временно следует приостановить все отношения с членами организации. Приказ был суровый: запрещено было даже здороваться с товарищами по подполью при случайных встречах на улице.
Марию эта новость ошеломила. Надо было поставить точку на всем, что заполняло ее жизнь, придавало силы. Понимала — так надо, но разве легко с этим мириться? Выходит, уже не она, возвращаясь ночью с работы, будет расклеивать на стенах листовки, а кто-то другой. И какая-нибудь другая женщина возьмет корзинку и пойдет в лес будто бы за грибами, чтобы передать леснику аккуратно свернутую в трубочку бумажку с зашифрованным донесением.
Как часто думала она о дальнейшем пути этой бумажной трубочки — из рук в руки, вплоть до партизанского отряда! А там радист склонится над рацией. Ту-ту-ту!.. Полетели переданные в эфир цифры за сотни километров, а где-то там, за линией фронта, генерал, изучая свежие данные, может, помянет ее теплым словом… Он не знает ее, но все равно помянет, ведь обязан же он думать о ней и о тех многих других, благодаря которым бумажная трубочка легла расшифрованным донесением на его стол.
Задумавшись, Мария и не заметила, как с теневой стороны улицы наперерез ей направились двое мужчин.
— Минуточку, пани, — остановили они ее. — Не скажете ли, который час?
Мария остановилась, взглянула на циферблат. Двое подошли вплотную.
— Хороши часики, — схватил ее за руку один из них. — Подари мне, красавица!
— Что вам нужно? — испугалась Мария. — Я буду кричать.
— Спокойно! — пригрозил ножом второй и, обдав винным перегаром, грубо положил ей руку на плечо. — И платье ничего… А ну-ка снимай!
Мария хотела закричать, но перехватило дыхание. В каком-то отчаянии, едва соображая, что делает, она изо всех сил ударила в грудь пытавшегося снять с ее руки часы и побежала. Но второй подставил ногу, и Мария упала, больно ударившись головой о каменные плиты тротуара. От боли и страха она закричала. Кричала без надежды на помощь — патрули здесь бывают редко, а кто другой рискнет высунуть нос на улицу после комендантского часа?
— Замолчи! — Грабитель замахнулся ножом. — Жить надоело?
Мария зажмурила глаза. Вот он, конец… Только бы скорее!..
“Беги, Курносый!” — послышался вдруг испуганный возглас. Она открыла глаза. Возле нее еще стоял грабитель с занесенным ножом, другой исчез, но в это время чья-то длинная тень метнулась из ворот. Человек отвел руку с ножом и ударил грабителя с такой силой, что тот едва устоял. “Беги, Курносый!” — вновь донеслось издали, и грабитель, бросив нож, побежал, петляя между каштанами.
Человек склонился над Марией и помог ей подняться.
— Вас не ранили? Кажется, все в порядке.
У Марии от испуга стучали зубы. Человек снял с себя пиджак, накинул ей на плечи. Наконец она пришла в себя и сказала дрожащим голосом:
— Спасибо, я уже не думала, что останусь в живых…
— Что вы! — улыбнулся незнакомец. — Вам еще жить и жить!..
— Не знаю, как вас и благодарить. Вы спасли меня.
— Так уж и спас. Скорее всего ограбили бы — и все…
Мария внимательно посмотрела на своего спасителя. Высокий, с пышной, чуть тронутой сединой шевелюрой, с тонкими чертами лица, он казался ей в эту минуту воплощением благородства.
— Вы полагаете? — Она покачала головой, хотя понимала, что незнакомец, вероятно, прав, но ей неприятно было думать, что она так перепугалась из-за каких-то там часиков и платья.
— Впрочем, кто знает… — произнес незнакомец, подбирая с земли нож. Внимательно осмотрел его и спрятал в карман.
Мария с восхищением взглянула на него и подумала: “А он настоящий мужчина!”
— Вы домой? У вас пропуск? — спросил человек. — Разрешите вас проводить? Кстати, давайте знакомиться. Модест Яблонский, инженер.
Пану Сливинскому, конечно, не к чему было называть свою настоящую фамилию. Он шел рядом с Марией, поглядывая на нее и ласково улыбаясь.
Мария никогда не признавала уличных знакомств, а теперь вообще имела право поддерживать отношения лишь с близкими и проверенными людьми, но это был необычный случай, и она, подав руку, назвала себя.
Пан Модест рассказывал о грабежах в городе, но Мария через силу слушала его. В голове гудело: видимо, она сильно ушиблась, когда упала. Скорее бы домой! Не помнила, как добрела до дома, еще раз поблагодарила пана Модеста, но тут силы оставили ее — она покачнулась и упала.
“Немного переиграли, черти… — подумал пан Модест. — Но это на пользу”.
Он подбежал к колонке, намочил платок, приложил его ко лбу женщины. Мария пришла в себя.
— В какой квартире вы живете?
— Я сама… — Мария попыталась подняться, но ноги не слушались.
— Я спрашиваю, в какой квартире? — раздраженно повторил пан Модест.
Мария протянула ему сумочку.
— Там ключи, — прошептала. — В девятой… На третьем этаже.
Сливинский помог женщине подняться на третий этаж.
— Я сама… — начала было Мария, но Модест уже успел отворить дверь, зажег спичку и, отыскав в передней выключатель, включил свет.
— Дома кто-нибудь есть? — спросил он деловито.
Мария ответила, что живет одна.
Модест сделал озабоченное лицо и сказал:
— Боюсь, как бы у вас не было сотрясения мозга. Немедленно укладывайтесь — необходим полный покой. К сожалению, я тороплюсь… Утром приведу врача.
Мария не успела возразить, как уже щелкнул замок в передней. Тишина… Лишь стучит в висках… Боль такая, что кажется, искры сыплются из глаз, мириады ослепительных, жалящих искр. Мария упала на диван, обхватила руками голову и застонала.
Модест Сливинский, насвистывая, возвращался к себе домой. Все прошло как нельзя лучше. Ключ он захватил с собой (всегда можно объяснить это рассеянностью). Утром приведет врача — и узелок, так сказать, начнет затягиваться. “Теперь ты, птенчик, не упорхнешь”, — напевал пан Модест, чрезвычайно довольный собой. Что ни говори, а с женщинами он обращаться умеет! Вспомнил, как тепло и благодарно посмотрела на него Мария, когда он прощался с ней, и в предвкушении предстоящих успехов потер руки.
Врач признал легкое сотрясение мозга и запретил Марии вставать с кровати. Как-то уж так случилось, что Модест взял на себя заботы о больной. Позвонил в типографию, съездил на “черный рынок” и вернулся на Джерельную, где жила Мария, со скромными дарами: немного масла и белого хлеба, полкилограмма сахару, чаю на несколько заварок и круг колбасы. Увидев, как больная широко раскрыла глаза, сам себя похвалил. Главное — не переиграть. Ведь Модест мог бы приволочь целую кучу различных деликатесов, фрукты и даже апельсины, но и масло с колбасой многим казались вещами недосягаемыми — еще надо было объяснить, как удалось все это раздобыть.
— Нам посчастливилось, — сказал Модест, положив на стол свертки с продуктами. — Как раз вчера мне удалось выгодно продать какому-то спекулянту картину.
Мария прикрыла глаза рукой, чтобы они не выдали ее. Что бы она делала без Модеста Владимировича? В доме несколько картофелин и кусок черного хлеба — даже стыдно перед посторонними. Но пан Модест отлично все понимал.
— Теперь многие живут впроголодь, — продолжал он, и Мария с удовольствием слушала речи своего нового приятеля, благородного и такого тактичного. — Каждый перебивается, как может. Конечно, дело не в колбасе, хотя, — он бросил взгляд на свертки, — и без нее трудно. Признаться, люблю, грешный, поесть… Впрочем, ремень приходится затягивать не только мне одному. Такой войны еще никто никогда не переживал, и жаловаться на недостаток продовольствия было бы безумием.
Пан Модест смотрел на Марию своими выразительными черными глазами. Сейчас он сам верил в то, что говорил. Так нередко бывало с ним: сначала смеется в душе над своими словами, но постепенно распаляется, увлекается собственным красноречием и начинает верить в то, что говорит. Сливинский даже встал и в возбуждении зашагал по комнате.
— Да, безумием! — повторил он с пафосом. — Главное — выйти чистым из этой войны. Я имею в виду не то, что будут говорить о тебе, хоть и этого не сбросишь со счетов, а чтобы сам ты себя ничем не мог упрекнуть. Вот что важно! Чтобы можно было прямо смотреть людям в глаза, чтобы, когда возвратятся, наконец, наши, мог приветствовать их с открытой душой! Хотя, простите, — умело осекся, — не обращайте внимания на мою болтовню. Иногда меня что-то кольнет — и порю всякий вздор. Понимаете, все время душевное одиночество, не с кем поговорить… Извините и не обращайте внимания.
— Говорите, — подняла на него глаза Мария. — Вы так хорошо сказали, что я едва не заплакала.
— Что говорить! — махнул рукой Сливинский, а сам подумал: “На сегодня хватит, как бы не переборщить”. И оборвал разговор, заметив: — Легко слово молвится, да не скоро дело делается…
Принес чайник, налил Марии большую кружку. Поднимаясь с подушки, она нечаянно чуть оголила плечо. Покраснела, как девчонка, — ей почему-то все время было стыдно под внимательным взглядом пана Модеста. Мария сердилась на себя за то, что так опрометчиво впустила в свой дом совершенно незнакомого человека, но в то же время не хотела, чтобы он исчез. “Увлеклась, словно гимназистка, — бичевала она себя, но тут же находила оправдание: — Однако было бы просто неучтиво выпроводить его”.
Вновь и вновь вспоминала, как смело кинулся Модест Владимирович на вооруженного ножом бандита. Такой человек не может быть плохим. Правда, есть в нем что-то неприятное. Но что? Может быть, он чуточку сладковатый, что ли? Но нет, ей это просто кажется. Разве можно путать притворство с подлинным уважением? Да и как ему иначе себя держать с женщиной, оказавшейся в такой беде? Ее растрогало, что он такой деликатный: заметил, как она смутилась, когда сползло одеяло, и сразу отвернулся.
— Вы где-нибудь работаете? — спросила его вдруг Мария.
Насупился, махнул рукой.
— Предпочитаю дома сидеть. Когда-то я хорошо зарабатывал и, будучи любителем живописи, покупал картины. Постепенно составилась неплохая коллекция. Теперь приходится ее разорять, отрывая каждый раз кусок от сердца. — Вздохнул. — Хлеб насущный всем есть нужно…
— Но ведь можно было как-то устроиться.
— Это не для меня, — ответил серьезно. — Я инженер, как говорят, путный. — И бросив на Марию внимательный взгляд, добавил: — Мне размениваться на мелочи вроде бы неприлично.
“Так вот ты какой!” — обрадовалась Мария, а сама зевнула, как бы давая понять, что хочет спать. Модест сразу же встал со своего места.
— Разрешите завтра заглянуть? Если, конечно, я не обременяю вас своим присутствием? — Пан Модест поставил вопрос так, что трудно было отказать. И ключ он опять “забыл” возвратить…
Обо всем этом Сливинский коротко рассказал Харнаку. Гауптштурмфюрер лениво потягивал коньяк, наблюдая за паном Модестом из-под полуопущенных ресниц.
— Да, вам придется поморочить себе голову, — резюмировал. — Только запомните: тянуть нельзя. Вчера в городе опять появились большевистские листовки.
— Не беспокойтесь, мы вытянем из нее все, что она знает и чего не знает. За успех! — поднял рюмку Модест Сливинский.
Ганс Кремер любил свой дом. У каждого по-разному проявляется эта любовь: один любит собирать книги и уставляет ими все стены; другой ежедневно натирает пол до зеркального блеска; третий без конца переставляет мебель; четвертый не ходит в пивную, а сидит с кружкой дома в кругу семьи. Ганс Кремер любил украшать свой дом коврами. Все комнаты его двухэтажного особняка были увешаны и устланы коврами — персидскими, бухарскими, кавказскими, китайскими… Места не хватило, и ковры украсили коридоры. Даже на балконе лежала какая-то вычурно-фантастическая циновка.
— Думаю, у меня одна из лучших в Германии коллекция ковров, — похвастал ювелир, когда они со Шпехтом зашли в роскошно обставленную гостиную. — Кстати говоря, если попадется что-нибудь оригинальное, имейте в виду.
Кремер заглянул в холл.
— Лотта! — позвал. — Вечно эта девчонка куда-то исчезает.
Петро посмотрел на старика и подумал, что “девчонке”, вероятно, за сорок. Старик успел предупредить, что она осталась вдовой, и ему рисовалась жирная, с мясистым лицом и тяжелой походкой немка. Тем приятнее он был удивлен, когда увидел в дверях гостиной миниатюрную женщину, коротко подстриженную под мальчика, с мелкими, но правильными чертами лица и яркими пухленькими губками.
Лотта посмотрела на гостя откровенно любопытным взором. Видимо, он понравился ей, так как она приветливо улыбнулась и звонким голоском произнесла:
— Рада приветствовать вас, господин Шпехт, в нашей скромной хижине. Надеюсь, вам здесь не будет скучно! — Игриво опустила ресницы и объяснила: — Иногда у нас собирается приятная компания.
Петро поклонился.
— Уверен, что вес компании, даже самые приятные, можно с радостью променять па ваше общество, — отважился он на тяжеловатый комплимент.
Фрау Лотта бросила на него игривый взгляд.
“А вы мне нравитесь”, — можно было прочитать в ее взоре. Действительно, этот Шпехт недурен собою: не очень высок, но строен, с открытым лицом и презрительно-горделивой морщинкой между тонкими бровями. С характером мальчик!
— Обед через полчаса, — предупредил Кремер. — А сейчас я покажу вам вашу комнату.
Они поднялись на второй этаж. Комната с ковром во весь пол выходила окнами в сад. В одно из них заглядывала большая старая груша, осыпанная золотистыми плодами.
— Чудесно! — воскликнул Петро. — После гостиницы это кажется настоящим раем.
— А вот и райская деталь, — сказал ювелир, приподнимая висевший на стене ковер. — Видите: сейф надежный и хорошо замаскированный. Возьмите ключ. Есть, правда, дубликат, но вы можете быть уверены…
— Как вам не стыдно, господин Кремер! — обиделся Петро. — Ведь это не последняя наша встреча.
Стол был богато сервирован, но обед разочаровал Петра. Хлебая жидкий перловый суп, Кремер разглагольствовал о трудных для немецкой нации временах и о долге каждого внести свой вклад в дело героической борьбы. Произнося эти вычитанные из газетных статей слова, он аккуратно разрезал небольшой кусок мяса на миниатюрные доли и долго, старательно жевал их.
Петро, следуя примеру хозяина, тоже долго возился с куском мяса, который легко мог бы проглотить сразу. Вдруг он заметил, что Лотта подает ему какие-то знаки. Сразу не понял ее и лишь потом догадался — она рекомендовала ему не обращать внимания на болтовню старика.
После обеда Кремер попросил прощения у гостя и ушел к себе: он привык в этот час отдыхать. Лотта заговорщически подмигнула Петру и подала знак следовать за ней.
— Теперь мы пообедаем, — сказала, пропуская его в небольшую комнату. На столике стояли бутылки рейнвейна, на горячей сковороде шипели настоящие бифштексы. — У отца причуда, — объяснила Лотта, — афишировать, что мы довольствуемся лишь нормированными продуктами. Тот обед, вероятно, лишь раздразнил ваш аппетит… Не стесняйтесь, ешьте.
Она подала ему бифштекс, налила в бокалы золотистого вина.
— За что мы выпьем?
— За вас! — Петро поднял бокал. — За очаровательную фрау Лотту!
— И вам не стыдно? — погрозила пальчиком Лотта. — Вы же вовсе так не думаете…
“А сама требуешь заверений в этом”, — засмеялся в душе Петро. Эта игра немного забавляла его. Дочь хозяина привлекала непосредственностью, живостью характера. Казалось, какой-то чертенок вселился в эту коротко остриженную особу, руководил ее поведением, выглядывал сквозь широко поставленные глаза. Петро нисколько бы не удивился, если бы Лотта вдруг вздумала показать ему язык, а затем продолжала бы разговор как ни в чем не бывало.
После обеда они пили вино. Лотта рассказывала гостю о новых кинофильмах. Она уселась в кресло совсем по-домашнему, поджав под себя ноги.
Петро подошел к окну. Лотта включила приемник. Диктор бодрым голосом рассказывал об успехах гитлеровских дивизий под Сталинградом. Резким движением женщина выдернула штепсель из розетки.
— Не могу, — сказала она, и в голосе ее Петро почувствовал слезы. — Война… война… Скажите, когда это кончится?
Она сжала виски тонкими пальцами, унизанными кольцами, и смотрела на Петра жалобно, чуть ли не плача.
Петро вспомнил рассказ Кремера. Муж Лотты, физик, подававший большие надежды, погиб в Берлине в первые месяцы войны во время бомбежки. “У каждого свое, — подумал он. — Эта маленькая симпатичная немка ненавидит войну, как все женщины”. Ему стало жаль се, но сказал он совсем не то, что хотел, внутренне краснея за выдавленные им из себя фальшивые, напыщенные слова:
— Война принесет нам, фрау Лотта, невиданное процветание. Лучшие люди Германии всегда мечтали об этом, и мы счастливы, что на нашу долю выпало осуществить их мечты.
— И вам нравится ходить с этой палкой? — кивнула фрау Лотта на Катрусин подарок.
— Потери неминуемы, — тянул свое гость. — Но это ничего не стоит по сравнению с тем, что мы приобретем.
— С вами невозможно разговаривать. — Хозяйка безнадежно махнула рукой. — Все мужчины Германии точно обезумели — война, оружие, кровь… А мне ничего не надо… У меня было все, а остались только эти дурацкие, нелепые ковры и перстни на пальцах. А зачем они? Для чего все это, скажите?
“А ведь она вовсе не так проста, как казалось”, — подумал Петро.
Он стоял у окна и не знал, что сказать ей в ответ. В искренности Лотты не сомневался, но имел ли право ответить тем же? Нет, лучше промолчать.
Пауза затянулась. Петро смотрел в окно и сердился сам на себя. В конце концов почему он должен сочувствовать этой Лотте? Скорее всего муж ее был наци, да и сама кто она? Дочь богатого ювелира, барынька, которая всю жизнь ничего полезного не сделала. Да и небось легкомысленна…
И все же Петру было жаль Лотту — он смотрел в окно, а видел ее наполненные слезами глаза и тонкие пальцы у висков. Повернулся и увидел: ломая спички, она пытается закурить сигарету. Поднес зажигалку.
Немного посидели молча, пуская дым, потом Лотта предложила:
— Пойдемте вниз, в гостиную, я вам немного поиграю. Вы любите Бетховена?
Они вышли на лестницу, которая вела в холл. Прислуга как раз кого-то впускала. Лотта, опираясь на руку Петра, стала на цыпочки, чтобы увидеть, кто пришел. Вдруг захлопала в ладоши.
— Боже мой, неужели Роберт?!
Прислуга пропустила в холл двух мужчин. Впереди шел эсэсовский офицер — высокий, с неприятным лицом. Тонкие влажные губы под узкими усиками, недобрые черные глаза, словно мелкие маслины.
Петро невольно выпустил палку из правой руки и сунул руку в карман, где лежал пистолет. Ведь это же он! Никогда не забыть этих усиков и сердитых черных глаз. Еще секунда — и он бы стрелял, но, увидев тревожный взгляд Лотты, опомнился. Оперся на перила и сказал:
— С ногою что-то…
Лотта подала ему палку и побежала по лестнице вниз. Петро, тяжело ступая, последовал за ней в холл.
— Это Роберт, Роберт Мор — друг и сослуживец моего мужа, — отрекомендовала она лысоватого средних лет мужчину с глубоко посаженными глазами.
— Эрих Амрен! — стукнул каблуками эсэсовец, не дожидаясь, пока его представят.
— Наш страж. Можно даже сказать — нянька… — добавил Роберт иронически.
Петро до боли в суставах сжал трость и сдержанно ответил на поклон Амрена. Только что он, как мальчишка, едва не выдал себя. Но кто мог ждать такой встречи здесь, в холле, устланном ярким ковром?
…Петро хорошо помнил свою первую встречу с Амреном. Вблизи Житомира гитлеровцы организовали огромный фильтрационный лагерь. Огородили несколько гектаров колючей проволокой — и все. Тысячи пленных спали на голой земле под дождями, которые, будто нарочно, не утихали. Начались болезни, раненые умирали ежедневно десятками. В центре лагеря стоял полуразрушенный двухэтажный дом, где гитлеровцы на скорую руку организовали кухню: в огромных котлах варили немытую, полугнилую капусту и свеклу. Однажды Петру посчастливилось попасть в команду, подносившую овощи. Посчастливилось, потому что можно было украдкой оторвать листочек от кочана капусты или погрызть кусочек свеклы. После работы пленные забрались на чердак и, обрадованные тем, что можно, наконец, хотя бы немного подсушить одежду, уснули там. Утром их заметила охрана. Явился начальник лагеря — именно этот Амрен — и устроил кровавый спектакль, который Петро никогда не забудет.
На чердак ворвались эсэсовцы. Они заставляли пленных прыгать с чердака, подталкивая их прикладами.
Первый, кому пришлось прыгать, сломал себе ногу. Второй упал и не поднялся: он расшибся насмерть. Третий перехитрил эсэсовцев: ему удалось ухватиться руками за водосточную трубу и благополучно спуститься. Амрен выхватил пистолет, но парень запетлял, как заяц, и скрылся в многотысячной толпе пленных. Еще одному удалось удачно соскочить, но Амрен тут же пристрелил его.
Последний был Петро. Он увернулся от эсэсовца, который, громко хохоча, попытался столкнуть его, схватился за водосточную трубу и пополз вниз. Эсэсовец, пытаясь столкнуть Петра, сам потерял равновесие и плюхнулся спиной на кучу наваленного внизу битого кирпича. Это спасло Кирилюка — падение эсэсовца вызвало замешательство начальника лагеря, и Петру посчастливилось скрыться среди пленных. Но тогда начальник лагеря вставил новую обойму и стал стрелять но толпе. Семь пуль — семь раненых или убитых… С каким удовольствием Петро всадил бы сейчас пулю в этого палача! Чтобы сдержаться, он обратился к Лотте:
— Вы, кажется, хотели нам сыграть…
— Прекрасно! — подхватил Мор. — Фрау Лотта — отличный музыкант. Жаль, что она не выступает в концертах.
В гостиной уже были опущены шторы, но Лотта не разрешила включить свет. Она долго сидела за роялем, безвольно опустив руки, словно боясь нарушить очарование предвечерней тишины.
Когда прозвучали звуки “Патетической сонаты” Бетховена, Петро увидел перед собой совсем другую Лотту — не ту, подвижную и легкомысленную, которая только что кокетничала с ним, а умную, с вдохновенным лицом женщину. Казалось, существует какая-то таинственная связь между ее внешностью и музыкой. Ощущение было такое, что она не играет, а поет величественную песню. Петро весь отдался музыке. Когда последний звук растаял в полумраке, он с удивлением огляделся. Все вокруг — ковры на стенах, огромные окна, человек в черном мундире — казалось таким неестественным и нереальным, что Петру стало жутко. Он встретился со взглядом Роберта Мора и в его глазах прочел то же, что чувствовал сам. Тот подсел к нему и спросил:
— Понравилось?
Петро посмотрел на него с недоумением — вопрос показался ему бессмысленным, и он не скрыл этого. Мор не обиделся, наоборот, охотно согласился с гостем. Они с первых же слов почувствовали симпатию друг к другу, сразу преодолели тот барьер отчужденности, который обычно возникает у незнакомых людей, и заговорили, как давние добрые приятели. Начав с музыки, незаметно перешли к проблемам общественного значения литературы и искусства. Обоих радовала общность взглядов.
Амрен подсел к ним и, потягивая коньяк, который распорядилась подать хозяйка, стал прислушиваться к беседе. На его лице отразилась такая напряженная работа мысли, что Мор не выдержал и рассмеялся.
— Не ломайте себе голову, Эрих, — посоветовал он, — и не корите себя: нас трудно было бы понять самому генералу войск СС, а не то что простому штурмбаннфюреру.
— Не думайте, что вы ухватили быка за рога, Mop, — злобно проворчал Амрен. — Ваше университетское образование еще не доказательство ума. Не исключено, что оно не спасет вас от полосатой робы…
— И тогда вы в конечном счете докажете, — скривился в гримасе Мор, — кто из нас умнее? О, это удастся вам довольно легко и быстро…
— Благодарите судьбу за то, что вы нужны нам, — хмуро продолжал Амрен. — В противном случае вас давно уже ели бы вши на Восточном фронте…
— Поосторожнее, Эрих! — сказал Мор. — Или вы уже забыли слова рейхсминистра о том, что каждый из сотрудников нашего института стоит целой дивизии, а наше новое оружие…
— Шутить изволите, — повысил голос Амрен. — Вы всегда были шутником! Потому-то мы и не обращаем внимания на ваши выходки…
— Иногда хочется и пошутить, — как-то сразу сник Мор и резко переменил тему разговора — начал рассказывать фрау Лотте о концертах Берлинского симфонического оркестра.
Петро налил себе коньяку. Он чувствовал себя, как гончая, напавшая на след. Институт — охрана — новое оружие… Шутка? Но ведь Мор говорил совершенно серьезно и, когда Амрен осадил его, испугался. А ведь он, судя по всему, не из пугливых. Выходит, сболтнул такое, за что может поплатиться головой…
Оставив Мора с Лоттой, Петро подсел к Амрену. Тот смерил его недоверчивым взглядом, но выпить не отказался.
— Вы настоящий ариец, господин штурмбаннфюрер, — восторженно произнес Петро. — Вы очень верно подметили: университетское образование далеко еще не признак ума. Я тоже считаю, что гнилая интеллигентщина вредит нашей нации, расслабляет ее.
Эти слова явно пришлись по душе Амрену. Он уже мягче смотрел на гостя фрау Лотты, как бы поощряя его к дальнейшим излияниям. Петро не заставил себя ждать.
— Интеллигенты должны работать на армию, п только на нее. Я верю, что мы доживем до того времени, когда в школах будут преподавать литературу и историю лишь для того, чтобы укреплять патриотические взгляды нашей молодежи.
Маслянистые глазки Амрена округлились.
— Ты, оказывается, настоящий парень, — хлопнул он Петра по плечу. — А я, прости меня, думал, что ты такая же размазня, как и этот мозглявый, хилый тип, — кивнул в сторону Мора. — К сожалению, они нам нужны, но ты правильно сказал, что со временем мы их… — И он многозначительно воздел кверху свой огромный кулак. — А ты настоящий парень! Давай выпьем!
Петро налил ему полный фужер. Амрен выпил, не моргнув. Поманив собутыльника пальцем, он спросил, искоса взглянув на Лотту:
— Ты с пей не теряешь времени? Штучка ничего себе, по не по мне. У тебя здесь нет знакомых?
— Знакомых нет, но есть все для знакомства. — Петро показал набитый деньгами бумажник — аванс от Кремера. — Можем что-нибудь организовать.
— Ты мне сразу понравился, — с уважением сказал Амрен, — а теперь нравишься еще больше. Послезавтра мы выезжаем, завтра у нас свободный вечерок. Придумай что-нибудь…
Петро пообещал, и они снова подняли бокалы.
“Но зачем они приехали и откуда? — гадал Петро. — Только на два дня и все время торчат здесь. Что им нужно от Кремеров?”
Петро стал прислушиваться к разговору Лотты с Мором. Роберт рассказывал, что несколько дней тому назад встретил в Трептов-парке подругу Лотты, которая просила передать, что ждет ее к себе в гости.
“Выходит, они приехали из Берлина, — понял Петро. — Но зачем?” Вот бы разузнать! Только вряд ли это удастся — они умеют хранить свои тайны. Впрочем, все может случиться: узнал же Петро, и притом без всяких усилий со своей стороны, что Мор работает над каким-то секретным оружием. Однако какое оружие, какой институт? В Берлине не один десяток сверхзасекреченных учреждений, попробуй подступись к ним! Наверно, не одна голова слетела на этом пути — и какие головы!
Но зачем все-таки они приехали?
Лотта позвонила по телефону и пригласила двух подруг. Они не замедлили явиться. Амрен оживился — одна из подруг, высокая и полная блондинка, видимо, особенно понравилась ему, и он принялся ухаживать за ней, перестав прислушиваться к тому, что говорит Мор.
Петро попробовал что-либо выпытать у Мора. Но разговор не клеился. Почему-то исчезла та непринужденность, которая так приятно ознаменовала их знакомство. Мор коротко отвечал на вопросы и держался настороженно. Постепенно Петру удалось преодолеть эту отчужденность, но былой искренности между ними уже не было. Все же Петро не прекращал разговора, хотя вести его приходилось, что называется, на лезвии ножа. Его фразы были внешне невинны (за них не мог бы уцепиться даже самый опытный агент), но за ними угадывались некие подводные рифы. В конце концов Мор это почувствовал и стал смотреть на нового знакомого с явным подозрением. “Может быть, он думает, что я провокатор?” — мелькнула мысль. Что ж, для этого были основания — скользкие вопросы, подозрительное любопытство. Петро представил себя на месте Мора и решил, что тоже заподозрил бы в таком назойливом собеседнике мелкого гестаповского шпика. Стало быть, где-то просчитался, и Мор воспринял все это как хорошо замаскированную провокацию.
Пора было дать задний ход. К счастью, “тыловые позиции” уже были подготовлены: Лотта недвусмысленно требовала внимания. Она капризно надувала пухлые губки, отчего лицо ее совсем изменилось. Она выглядела совершенным подростком, иллюзия была так сильна, что Петро, который немного опьянел, поймал себя на том, что называет ее “деточкой”.
Лотта отобрала у него трость и заставила танцевать с собой. Со стороны это, вероятно, выглядело комично: Петро, прихрамывая, неуклюже топтался на месте. Однако никто этого не замечал, каждый был занят своей партнершей. На минуту заглянул к ним старый Кремер. Охмелевший Амрен, называя старика “папочкой”, пытался его напоить, и ювелир быстро исчез.
Петро пригласил всю компанию на следующий вечер в ресторан. Амрен бурно поддержал это предложение. Мора же оно явно удивило, но он старался не показать этого. Женщины с восторгом приняли приглашение Петра, а Лотта похлопала “милого Германа” по щеке и даже пообещала расцеловать.
Расходились поздно — веселые и возбужденные. Амрен зажал Петра в углу холла, желая непременно дознаться, что тот думает по поводу последней речи фюрера.
— У тебя умная голова, и я хочу услышать, что скажешь ты, — не унимался штурмбаннфюрер. — Я тебе верю, и ты должен это ценить!
Это было очень некстати, так как Мор, отозвав Лотту в сторонку, стал о чем-то шептаться с пей, а их разговор очень интересовал Петра. Грубовато оттолкнув Амрена, Петро сделал вид, что хочет помочь подругам Лотты отыскать свои шляпки. Таким образом, ему удалось близко подойти к Лотте и Мору. Но они уже прощались. Петро услышал лишь слова Мора: “Буду очень благодарен тебе…” — слова, которые могли значить очень многое или быть пустой светской фразой.
Гости ушли. Лотта присела в холле па диване и с вызовом смотрела на Петра. Он погрозил ей пальцем. Лотта пожала плечами и указала гостю на место рядом. Но Петро продолжал стоять, всем своим видом демонстрируя обиду. Лотта подошла к нему, положила руки на плечи, заглянула в глаза.
— Что с вами, Герман?
Петро пошел напролом.
— Вы, фрау Геллерт, — кокетка и, видимо, привыкли играть мужскими сердцами. А я не хочу довольствоваться второстепенной ролью и оставаться в дураках.
Лотта заморгала глазами.
— Но какие у вас основания так говорить?
— Не делайте из меня идиота, деточка! Вы флиртовали со мной, чтобы замаскировать свои отношения с Робертом Мором…
— С Робертом Мором? — засмеялась Лотта. — Это исключено!
— Но ведь, прощаясь, вы шептали ему нежные слова. Не отпирайтесь, я сам слышал…
— Не надо ревновать, Герман, — прошептала Лотта. — А то я вас не поцелую…
— Потому что храните свои поцелуи для Роберта?..
— Роберт слишком серьезен для этого, — рассмеялась Лотта. — Он просил меня разыскать старые тетради моего покойного мужа. Они вместе работали, и ему нужны какие-то формулы. Теперь вам ясно, что вы действительно ничего не понимаете? За это будете наказаны. Не поцелую вас…
— Это жестоко! — сказал Петро, притворяясь обрадованным и счастливым.
Он попытался обнять Лотту, но она ловко высвободилась и легко взбежала по лестнице. Остановившись наверху, она послала Петру воздушный поцелуй и крикнула: “Вот вам!..” — показала язык и побежала к себе. Петро услышал, как наверху щелкнул замок.
Утром за кофе Ганс Кремер заявил, что весь день будет очень занят и поручает дочери развлекать гостя.
— Господин Шпехт такой серьезный и деловой человек, — поморщилась Лотта, хотя глаза ее смеялись, — что я не знаю, смогу ли угодить ему. Я, конечно, буду стараться, но за результаты не ручаюсь.
— Постарайся, доченька, постарайся, — ничего не понял старик. — Я бы хотел, чтобы господин Шпехт не чувствовал себя чужим в нашем городе.
— Люди быстро акклиматизируются, не так ли, господин Шпехт? — прикидываясь наивной, спросила Лотта.
— Все зависит от условий внешнего окружения, — в тон ей ответил Петро.
Они посмотрели друг другу в глаза и засмеялись. Им понравилась эта игра. Между ними все время стояла какая-то преграда, и оба знали: стоит им захотеть — и преграда исчезнет…
Кремер поднялся.
— Лотта покажет вам город, господин Шпехт. Кажется, вы впервые в Бреслау?
— Но, надеюсь, не в последний раз. Мне так понравилось здесь, что буду считать дни до очередного приезда.
Старик с любопытством посмотрел на дочь; она опустила ресницы и покраснела.
Когда отец уехал, Лотта попросила гостя помочь ей разобрать бумаги мужа. Они поднялись в бывший кабинет Геллерта — огромную комнату, уставленную книжными шкафами. Лотта зябко повела плечами. Петро коснулся ее руки, но женщина отшатнулась от него. Видимо, воспоминания нахлынули на нее. Петро отошел в противоположный угол кабинета. Лотта провела рукой по лицу, словно отгоняя от себя прошлое. Потом попросила достать с верхних полок аккуратно связанные пачки бумаг.
— Отец после его гибели, — объяснила, — все это собственноручно привел в порядок. Не понимаю, чего хочет Роберт. Ведь у нас остались только конспекты лекций, которые муж читал в университете, да какие-то наброски. Главное хранилось у него на работе.
Лотта уселась на ковре, разбирая поданные ей Петром бумаги — письма, черновики, тетради. Письма она откладывала в отдельную стопку, а толстую пачку тетрадок в черных коленкоровых обложках пододвинула Герману.
— Там конспекты, если интересно — просмотрите.
Да, эти записи были большею частью конспектами лекций, прочитанных покойным Геллертом. Но попадались среди них и другие, явно не относившиеся к университетскому курсу. Бросалась в глаза хаотичность некоторых записей. Попадались страницы с одной лишь формулой, окруженной вопросительными знаками, выписанными с особой тщательностью. На одной из страниц рукою Геллерта было выведено крупными буквами: “Внимание!”, а под этим словом несколько загадочных формул, и все это перечеркнуто, а итогом всему было слово: “Вздор!” Встречались страницы и совсем чистые и разрисованные разными чертиками, карикатурными профилями каких-то людей.
Петро лихорадочно листал эти тетради. Вдруг на первой странице одной из них он наткнулся на выведенное четким почерком слово “Выводы”. Под ним были ровные строчки аккуратных записей, потом пошли целые страницы формул и цифр. Вероятно, именно эта тетрадь интересовала Мора. Петро незаметно сунул ее в карман, а остальные связал в пачку.
Углубившись в бумаги, он совсем забыл про Лотту и только теперь посмотрел на нее. Она сидела спиной к нему и, держа в руках пожелтевшее письмо, тихо всхлипывала. Петру стало искренне жаль ее. Он присел рядышком, но слов не находил. Лотта повернула к нему заплаканное лицо, горько всхлипнула и неожиданно припала к его плечу. Это движение, полное беспомощности и доверия, растрогало Петра. Он вынул платок и стал вытирать им слезы, которые катились по щекам женщины.
— Он любил меня, — сказала Лотта. Забрав у Петра платок, она сама вытерла глаза и жалко улыбнулась. — Видите, как мы скоры на слезы…
Они быстро закончили разбор бумаг Геллерта, отобрав из них те, которые, по мнению Лотты, могли представить интерес для друга ее покойного мужа. В основном, насколько мог судить Петро, это была деловая переписка и консультации.
Когда они покидали кабинет Геллерта, Петро сказал Лотте:
— Мне кажется, не стоит говорить Мору, что я помогал разбирать бумаги. Может статься, ему будет неприятно, что чужая рука касалась работ его друга.
— Как хотите, мой друг. — Лотта стояла перед Петром заплаканная, но почему-то именно такая она была мила ему: в ней было что-то от той Лотты, которая с таким чувством играла Бетховена. — Как хотите, — повторила она. — Пожалуй, вы правы.
Под вечер снова явились Мор и Амрен. После вчерашней выпивки глаза у эсэсовца заплыли и стали совсем маленькими.
— Голова не болит? — спросил он Петра. — Нет? Вот счастливчик! А у меня на части разламывается. Дайте рюмку коньяку, может быть, легче станет.
Выпил, не закусывая, две рюмки, поморщился и пожаловался:
— Кажется, здоровье у меня неплохое, но черт знает что такое, выпьешь бутылку–другую — и начинает жечь. Откуда эта изжога берется?
Лотта не выдержала и рассмеялась.
— Если после двух бутылок всего лишь изжога, то жить вам, штурмбаннфюрер, до ста лет.
После коньяка Амрен повеселел. Лотта и Мор удалились в кабинет покойного Геллерта. Амрен счел необходимым объяснить Петру причину их ухода.
— Роберт, видишь ли, переписывался с этим — как его? — Геллертом. Ну, и надо посмотреть, сохранились ли эти письма. Они зачем-то ему понадобились.
Продолжая насвистывать, он поднялся вслед за Лоттой и Мором.
Спустя час Петро услышал голос на втором этаже. Он прислушался. Говорил Мор:
— Хорошо, Лотта, что вы сохранили тетради Теодора. Он был очень талантлив, я снова убедился в этом, просматривая его записи. Мне казалось, он успел завершить свою главную работу. Это был бы большой вклад в науку. Но, к сожалению, я ошибся.
— Никто не интересовался бумагами покойного? — спросил Амрен. — Может, кто-нибудь из бывших коллег?
У Петра екнуло сердце…
— Все бумаги собрал отец, — ответила Лотта. — Никто не знал, где они спрятаны, кроме нас двоих. Мы не трогали их. Только перед вашим приходом я пыталась разобрать их.
— Что ж, — сказал Мор. — Будем считать нашу миссию неудачной.
Они спустились в холл. Петро отложил книгу, которую читал в ожидании Лотты и ее спутников.
— Новейшую литературу, — сказал он, — я воспринимаю умом, а не сердцем. Классики все-таки умели поковыряться в человеческой душе. Как вы думаете, Мор, скоро ли мы сможем забыть Шиллера?
— Шиллера? — переспросил тот. — А-а, вы про литературу. А я все про свое…
— Нашли письма?
Мор удивленно посмотрел на Петра.
— Какие письма?!
— Геллерт, вероятно, сжег их, — вмешался Амрен, толкая Мора.
Но Мор так и не понял, что происходит. Тогда Петро сказал:
— Вы, кажется, на машине? Давайте проветримся перед ужином.
“Моя дорогая Дора! Давно тебе не писала, так как не было верной оказии. Это письмо тебе передаст один близкий нашему дому человек. Да и честно говоря, не знала, что и как писать. Сама себя не понимала, блуждала в трех соснах. Еще и сейчас блуждаю между ними и не знаю, когда найду дорогу. Возможно, это потому, что меня (тебе первой признаюсь в этом) устраивает это блуждание. Не хочется разочаровываться…
Ты всегда понимала меня с первого слова и давно уже обо всем догадалась. Да, в мою жизнь вошел мужчина. Я бы сказала, что случайно вошел, но что не случайно в нашей жизни? А может, и сама жизнь — случайность, может, она не стоит ни переживаний, ни слез. Вот видишь, в какую меланхолию я впала. Не знаю, чего во мне больше — меланхолии или надежды…
Теперь — за дело.
Его привел отец — они заключили какой-то договор, и отец увивался вокруг него. Ты же знаешь, какой он, когда чует поживу. Почему отец привел его к нам, я поняла потом, — боялся упустить выгодного клиента, а пока что поручил его своей дочери. Мне было скучно, и я решила развлечься, тем более что этот человек импонировал мне.
Вообрази себе — среднего роста, стройный, темно-русый, с голубыми блестящими глазами. Несколько удивляла настороженность, я сказала бы, внутренняя сосредоточенность, с которой он держался вначале. Я пригласила его к себе, мы пили рейнвейн, вели легкую беседу; мне было приятно кокетничать с ним и, честно говоря, хотелось вскружить ему голову.
Прости, что я до сих пор не назвала его. Герман Шпехт — бывший обер-лейтенант, демобилизованный из армии после ранения. Пуля попала в ногу, и он ходит с тростью. Но все это не имеет значения — ни его дела, ни ранение, ни палка.
Случилось так, что из Берлина приехал Роберт с каким-то бурбоном штурмбаннфюрером; я пригласила подруг, и мы пили коньяк, танцевали, смеялись, флиртовали. Было весело, немного портил нервы бурбон, но с этим можно было мириться. В конце концов я все же вскружила Герману голову — он приревновал меня. И знаешь к кому? Тысячу лет будешь ломать голову и не догадаешься — к Роберту! Правда, Герман только что познакомился с Робертом, но ведь, кажется, с первого взгляда ясно, что Мора можно ревновать лишь к книгам или ретортам, в крайнем случае к его картинам. Не скажу, что ревность Германа не доставила мне несколько приятных минут, но не больше: сердце мое билось ровно.
Утром, когда я проснулась, первый, о ком я подумала, был он. И мне стало приятно, что сейчас я выйду пить кофе и увижу его; хотелось, чтобы этот миг настал скорее — я едва дождалась завтрака.
Он был взволнован — я это почувствовала сразу, и мне казалось, что причиной этого была моя легкомысленная особа. Я попросила его помочь мне разобрать бумаги, которые остались от Теодора, — Роберт интересовался ими.
Мы сидели в кабинете, Герман просматривал скучнейшие тетради, а я читала письма Теодора. Читала и плакала, забыв обо всем. Вдруг оглянулась и увидела такие сочувственные и добрые глаза, что не удержалась и совсем разрыдалась. Он не утешал меня, лишь вытирал слезы — мне стало легче, и я поняла: плачу не только потому, что мне жаль покойного мужа, а жаль и себя, хочется чего-то хорошего, настоящего, и это настоящее рядом, стоит только сделать шаг…
Право, от этого можно сойти с ума!
В тот вечер мы прощались с Робертом. Герман пригласил нас в ресторан. Было много вина и музыки, но все время какое-то беспокойство не покидало меня. Ко всему штурмбаннфюрер начал хвастаться своими подвигами. Благодарение богу, Герман догадался налить ему медвежью порцию коньяку — тот опьянел и начал увиваться за Эльзой. Не знаю, как Эльзу, а меня такой вариант устраивал.
Не удивляйся моей исповеди — такой путаной и непоследовательной, вся моя жизнь сейчас такая непоследовательная. И пишу это тебе потому, что больше не с кем поделиться ни мыслями, ни чувствами — отца интересуют только деньги, а немногие мои знакомые женщины сами готовы натянуть на себя черные мундиры. Боже мой, тебе не кажется, что наша Германия сошла с ума?
Но сейчас я не думаю ни про Германию, ни про черта-дьявола. Возможно, в тот вечер у меня было скверное настроение из-за того, что Герман случайно задел больную струнку Роберта. Он заговорил с ним о живописи, и тот уже не отставал от Шпехта весь вечер. Ты же знаешь причуды Роберта — от молекулы до Рембрандта у него один шаг, и я не знаю, чем в конце концов он увлекается больше. Я старалась попасть им в тон, но спасовала. Оказывается, Герман хорошо знает живопись, имеет несколько ценных картин и обещал Роберту оригиналы каких-то славянских художников.
Дора, дорогая, наверно тебе уже надоело мое пустословие?
Можешь представить себе мою радость, когда мы вышли из ресторана и, распрощавшись с компанией, направились пешком домой. Чуть ли не два часа брели мы по затемненным улицам, но мне было не страшно, и я совсем не устала, даже жалела, что так быстро увидела наш дом.
Я ощущала тепло руки Германа — и от этого самой становилось жарко; я опьянела от этой ночи и присутствия Германа, от его слов. Правда, он говорил мало, а меня, как на грех, одолела болтливость. Хотелось говорить, тем более что я чувствовала с его стороны искреннюю заинтересованность, — он иногда спрашивал о том, что может интересовать лишь близкого или расположенного ко мне человека. И потому он становился мне еще дороже и понятнее.
Кстати, Герман знает Карла. Именно благодаря кузену у Германа и возникла мысль о деловых связях с отцом. Наш легкомысленный Карл взялся за ум и начинает что-то делать. Дай бог!.. Отец махнул на него рукой и ограничился тем, что ради покойного своего брата дал Карлу немного денег и рекомендацию
У Германа с Карлом коммерческие дела, он много расспрашивал о нем — вероятно, хочет знать до тонкостей своего компаньона. Я просила Германа поддержать нашего чурбана — с помощью такого человека, как Шпехт, кузен, глядишь, и станет на ноги.
Мы возвратились домой поздно, но отец еще ждал Шпехта. У них произошел какой-то разговор, и утром следующего дня Герман сообщил мне, что дела заставляют его выехать.
Уехал…
Единственно, что мне осталось, — это фотография: в нашем саду стоим мы — он, я и отец. Он смотрит на меня с фотографии — серьезный, умный, и я поверяю ему свои самые таинственные думы…
Вот и вся эта, возможно, банальная история.
Надеюсь, ты не осудишь меня”.
С большими трудностями Кирилюк пробился к секретарю губернатора дистрикта. Высокий, рыжий, похожий на восклицательный знак человек с красными веками выслушал его, внимательно ощупал быстрыми глазами. С минуту подумал и, когда Петро уже хотел нарушить паузу, спросил:
— Письмо с вами?
— Да.
Секретарь протянул руку.
— Прошу…
— Оно адресовано лично господину фон Вайгангу…
Секретарь едва пошевелил тонкими бескровными губами:
— Мы теряем напрасно время, господин Кремер. Я передам письмо губернатору, и он сам решит, принимать вас или нет.
Минут через десять секретарь вернулся. Уже по одному его виду Петро догадался — рекомендация ювелира чего-то стоит! Секретарь приветливо улыбнулся и чуть ли не дружелюбно сказал:
— Подождите, пожалуйста, господин Кремер. Вот свежая газета и журналы. Губернатор примет вас.
Петро уткнул в газету невидящий взгляд. Никогда в жизни он так не волновался. Нечто похожее он испытывал, когда шел сдавать первый экзамен в аспирантуру, чувствуя, что от этого экзамена зависит вся жизнь. Какой он был тогда глупый юнец! К сегодняшнему экзамену он готов лучше, чем даже тогда, подумал он, улыбаясь. Губернатор — это установлено точно — никогда не встречался с племянником Ганса Кремера, а что касается подробностей жизни ювелира, то их припасено сколько угодно. А если окажется, что Карл чего-то и не знает, то ведь он не был в столь близких отношениях с семьей Ганса Кремера…
Секретарь вновь исчез за массивной дверью. Вернувшись, почтительно раскрыл ее перед Кирилюком.
— Господин губернатор ждет вас.
Кабинет длинный, светлый. Стол в противоположном конце кажется маленьким; человек за ним тоже кажется небольшим. Лишь подойдя ближе, Петро понял, что ошибается: за большим дубовым столом сидел высокий человек с квадратной челюстью, плечистый, коротко подстриженный. Подав через стол руку, приветливо сказал:
— Мне очень приятно видеть у себя племянника моего друга и бывшего коллеги. Вы давно видели своего дядю?
“Глупый вопрос, — подумал Кирилюк, — в конце письма обозначена дата”.
— Почти месяц тому назад.
— И вы так долго добирались из Бреслау?
— В Кракове простудился и чуть ли не месяц провалялся с воспалением легких, — объяснил Петро.
Фон Вайганг постучал карандашом по столу, словно отбивая марш.
— Как живет уважаемый Ганс?
— В последнее время ему удалось осуществить несколько выгодных операций. И на здоровье дядюшка пока что не жалуется — поскрипывает,
— “Поскрипывает”?!
Кирилюк заметил, как растянулись уголки губ губернатора. Это, должно быть, означало улыбку.
— Скрипит в прямом и переносном смысле, — ободренный этой улыбкой, позволил себе шутку Петро.
Шутка была благосклонно встречена.
— У Ганса даже смолоду был скрипучий голос, — промолвил губернатор, полуприкрыв глаза. — И он все еще собирает эти, как их?.. Ну?.. — Губернатор нетерпеливо щелкнул пальцами, как бы в ожидании подсказки.
Петро понял: проверка.
— Вы имеете в виду дядюшкину страсть к коврам?
— Ха-ха-ха… Удивительная страсть…
Поняв, что губернатор лишь начал прощупывать его, Кирилюк сам пошел навстречу опасности.
— В комнате, где вы жили, когда гостили у дяди перед войной, висят те же самые ковры. И та же самая старая груша заглядывает в окно… — сказал он, улыбаясь.
— Кажется, вместе со мной тогда гостил у Ганса и ваш отец? — небрежно бросил фон Вайгаиг.
— Мой отец? Возможно… — Петро едва не попал в ловушку, но вовремя опомнился. — Возможно, вы имеете в виду кого-нибудь другого? Моего отца тогда уже не было в живых.
Лицо губернатора разгладилось.
— Кажется, он умер в тридцать четвертом?
— В тридцать шестом, — уточнил Кирилюк.
— Разве? Я уже и не помню… — отстукивал карандашом марш фон Вайганг, и Петро понял — хорошо все помнит и лишь прикидывается, что забыл. — Интересно было бы встретиться сейчас с Гансом. Наверно, постарел.
Кирилюк вынул из кармана фотографию, подал ее губернатору и сказал:
— Вот как он выглядел месяц назад.
Это был один из главных его козырей: на фоне кремеровского особняка он снят вместе с Лоттой и ее отцом. Когда губернатор оторвал свой взгляд от снимка, Петро знал: больше каверзных вопросов не будет — по лицу губернатора расползлась благодушная, полная благожелательности улыбка.
— Какой взрослой стала эта девушка! Я помню ее еще младенцем.
— У Лотты большое несчастье, — сочувственно заметил Петро. — Ее муж Теодор Геллерт…
— Знаю… Геллерт мог бы стать гордостью нации. Как перенесла это горе ваша кузина?
— Время залечивает раны…
— Эта девушка всегда обладала силой воли, — кивнул фон Вайганг. — Лотта — подлинная арийка!
Петро увидел, что губернатор как бы смотрит сквозь него, ничего не замечая. По-видимому, беседа навеяла приятные воспоминания. Может быть, губернатор вспоминает, как рыбачил вместе со своим старшим товарищем Гансом, которого (если ювелир не преувеличивал) боготворил?
Петро понял — эта лирическая минута ему лишь па пользу. И он не ошибся.
— Что я могу для вас сделать? — нарушил, наконец, паузу фон Вайганг.
— Я хотел бы открыть собственное дело, — начал Петро деловым тоном. — Оно позднее могло бы стать филиалом фирмы “Ганс Кремер”.
— А в перспективе — “Ганс и Карл Кремеры”, — покровительственно улыбнулся фон Вайганг.
— Именно так, господин губернатор. Не стану скрывать — эта перспектива вдохновляет меня.
— Не так уж и дерзка эта мысль. Надо же кому-то продолжить дело Ганса. Однако мы отвлеклись от дела.
— Я хотел бы, — подхватил Петро, — открыть в городе магазин. Оборотные средства и кое-какие товары на первое время у меня имеются, а все зависит от того, как пойдут дела. — И, почтительно склонив голову, как бы заранее благодаря фон Вайганга, Петро добавил: — Конечно, я не могу рассчитывать на прямую поддержку такой высокой особы, как губернатор дистрикта, но доброе слово, сказанное вами, будет значить для меня очень много.
Фон Вайганг благожелательно выслушал эти слова посетителя. Постучав карандашом по столу, он сказал:
— Власти заинтересованы в обновлении коммерческой деятельности в восточных районах. Ваша инициатива, мой друг, заслуживает похвалы. Мы вам поможем, так как ваша деятельность будет способствовать укреплению великого немецкого государства. Обратитесь завтра к моему секретарю, он получит надлежащие инструкции.
Полагая, что аудиенция окончена, Петро поднялся. Но губернатор остановил его едва заметным движением руки.
— Где вы живете?
Петро понял: это проявление величайшей заботы со стороны губернатор.
— Пока что и гостинице.
— Если хотите акклиматизироваться здесь, — посоветовал губернатор, — подыщите себе приличную квартиру. — Подумал немного и добавил: — Я хотел бы, чтобы племянник моего давнего друга время от времени бывал у меня. Это, — надменно добавил он, — будет для вас наилучшей рекомендацией. О приемных днях вас известит секретарь.
Петро распрощался. Шел к двери, зная, что губернатор смотрит ему вслед. И он ступал медленно, хотя его так и подмывало запрыгать от радости. Вышел на улицу, миновал сквер, покрытый желтой осенней листвой, и только после этого позволил себе облегченно вздохнуть — все трудности позади, успешно сдан самый сложный в жизни экзамен.
Радовался и не знал, что испытания только начинаются…
Огородами Кирилюк пробрался к дому Стефанишиных. Его уже ждали Богдан с Катрусей, Заремба и незнакомый пожилой мужчина с волевым, спокойным лицом.
— Денис Васильевич Ковач, — представил его Заремба. — Метранпаж нашей типографии.
Петро с уважением пожал жилистую руку Ковача. Он знал: Денис Васильевич, или просто вуйко Денис, как все его звали, вместе с Зарембой руководит большой группой подпольщиков.
Богдан ходил вокруг Петра, глядя на него сияющими от радости глазами, и торопил:
— Рассказывай скорее! Мы тут чуть не умерли от волнения…
Стараясь не пропустить ни одной подробности, Петро рассказал о встрече с губернатором. Он воспроизвел его интонации и даже жесты, считая, что каждая мелочь может иметь значение.
Когда он кончил свой рассказ, в комнате воцарилась тишина. Ее нарушил Заремба.
— Ты, парень, сам еще не знаешь, какое дело сделал! Я и не мечтал, что все так ловко выйдет.
Богдан положил свою большую руку на плечо Петра и спросил:
— Но как же быть с магазином? Ты ведь там пропадешь. Представляю себе — Петро за прилавком. Умора!..
— Надо будет — и ты станешь, — оборвал его Заремба. — Магазин следует немедленно открыть. Во-первых, прекрасная явка; во-вторых, Петру необходимо завоевать авторитет в коммерческом мире. Вы как считаете, вуйко Денис?
— А он сам что думает? — кивнул тот на Петра. — Ему дело начинать, пусть и скажет.
— Свое соображение я высказал самому губернатору, — весело засмеялся Кирилюк.
— То вообще, а в деталях?
— В деталях тоже продумал. В центре города, на улице Капуцинов, есть торговое здание с большим подсобным помещением. Там можно открыть магазин. Торговать не только ювелирными изделиями — у нас для этого пороху не хватит, — но и разным хламом. Устроить нечто вроде комиссионного магазина. Думаю, с этим я справлюсь.
Ковач кивнул головой.
— Я тоже думаю — справишься. Ты парень ловкий. А вот для чего все это, понимаешь?
— Тут и ребенку понятно.
— Ой ли! Ну, будешь работать в магазине, так сказать, заворачивать коммерцией, — думаешь, все? А нам надо, чтобы и магазин был, и чтобы ты, то бишь Карл Кремер, не был прикован к нему, чтобы для него коммерция была также ширмой. Вот какие дела, хлопче.
— Как же быть? — растерялся Кирилюк.
— Не такая уж это сложная проблема, — улыбнулся вуйко Денис. — Найдем тебе помощников. Они будут торговать — и надо, чтобы с прибылью: нам деньги понадобятся. Была у меня мысль в подсобке подпольную типографию устроить, но Евген Степанович возражает.
— Почему? — воскликнул Петро.
— А ты не горячись, — сказал Заремба. — Не хочется такое дело под удар ставить. Надеемся, ты там ценную информацию сможешь собирать. Вчера получили ответ на твое сообщение о передислокации танкового корпуса. Тебе объявлена благодарность. А за тетрадью самолет высылают. Теперь понимаешь, что это такое?..
Петро почувствовал, что покраснел.
— Когда еще косовица, а мы уже сено возим, — произнес он смущенно. — А если та тетрадь — мыльный пузырь?..
— Может, и так, — сказал Заремба. — А может, и нет. Во всяком случае, это такая карта, на которую стоит делать ставку.
Ковач закурил, попросив у Катри пепельницу. Девушка поставила перед ним деревянную резную пепельницу гуцульской работы и опять забралась в угол, зябко укутавшись в темный шерстяной платок. Казалось, девушка дремлет, но Петро то и дело перехватывал ее внимательный взгляд. Ему захотелось услышать ее милый голос, посмотреть, как сверкнет она глазами, и он спросил:
— А что скажет Катруся?
— Что ж говорить! — пожала она плечами. — Все уже сказано. Начинаем большую игру, надо все тщательно продумать, а то какой-нибудь пустяк может все погубить.
— Вот это да! — сказал Ковач, поднимая желтый, обкуренный палец. — Сказала как ножом отрезала. А теперь, — поглядел на часы, — пора кончать. Итак, открываем магазин. Всю эту коммерцию мы финансируем. — Обращаясь к Кирилюку, он напомнил: — Учти, фирма должна кормить не только тебя. Дадим тебе двух помощников. Они явятся, когда уладится дело с помещением. Пароль: “Мы слышали, пан будет торговать не только ювелирными изделиями, но и мехом”. Ответ: “С мехами нынче дела скверные”. Люди надежные. Связными будут Богдан и Катря. Имейте в виду, непосредственные контакты, — улыбнулся, — с господином Карлом Кремером воспрещены. Все связи только через приказчиков. Предупреждаю, никаких записок, памяток и т.д. Обо мне забудьте. Собственно, все… Теперь — по домам. По одному.
Первыми ушли Ковач и Заремба. Петро еще посидел несколько минут. Богдан и Катря молчали, молчал и он, уставившись в пол.
— Как на похоронах, — усмехнулся Богдан.
— Хоронить, дружище, рано, — поднялся Петро. Подошел к Катре и увидел, как она покраснела.
Богдан смущенно хмыкнул и, буркнув что-то про чай, вышел на кухню. Петро взял руку Катруси, заглянул в ее черные влажные глаза, но сказать ничего не смог, хотя чувствовал, что она ждет его слов.
Вернувшись в гостиницу, долго лежал с закрытыми глазами и вдруг почувствовал такой прилив нежности к Катрусе, что едва не вскочил и не побежал на далекую темную улицу. Потом заснул. Во сне увидел Лотту — она сидела на пушистом ковре и плакала, затем вдруг усмехнулась и показала ему язык. Петро хотел обидеться, но Лотта прижалась к нему, и он почувствовал, как заныло сердце. Знал: все это уже снится ему, но сердце болело… Успокоился, лишь когда стало светать.
Менцель ругался: Мария Харчук оказалась крепким орешком. Неделя проходила за неделей, а она все еще не была откровенна с паном Модестом.
Сливинский уже целый месяц не показывался у пани Стеллы. И Ядзя несколько раз звонила ему, намекая на возможность свидания, но все напрасно — Модест думал лишь о Марии…
Как-то странно сложились их отношения. Сливинский определенно знал: Мария рада, когда он приходит к ней; он видел, как она буквально расцветала при его появлении, как тянулась к нему, и все же… Стоило пану Модесту заговорить о своих сомнениях, о необходимости не только трепать языком, но и бороться с оккупантами, как Мария сразу переводила разговор на другое. И даже когда она соглашалась с его словами, все равно выведать у нее что-нибудь не удавалось.
Марии нравился пан Модест, она чувствовала себя с ним хорошо, беспокоилась, когда он долго не появлялся, но в то же время что-то внушало ей страх к нему, боязнь совершить какой-то неосторожный, страшный по своим последствиям поступок…
Опали листья с деревьев. Модест Сливинский сидел в сквере, подняв воротник пальто, и носком ботинка разгребал слежавшуюся листву. На вершину молодого тополя напротив села ворона. Взглянула подозрительно на одинокую фигуру в сквере и недовольно закаркала. Пан Модест подобрал сухую ветку и швырнул в ворону. И без того скверно на душе, а она еще каркает…
Сливинскому сегодня изрядно попало от Менцеля. Когда шеф гестапо вызвал его, пан Модест думал, что, как всегда, дело ограничится руганью и стучанием кулаком по столу. Сливинский привык к бурному проявлению чувств Менцеля, у него даже выработался иммунитет — надо зарыться поглубже в мягкое кресло, всем своим видом показывая, что страшно боишься угроз штандартенфюрера. При этом можно придумывать острые реплики. Конечно, он не такой дурак, чтобы позволить себе хоть раз оборвать шефа, но все же приятно чувствовать превосходство над ним.
Сегодня Менцель не ругался и не стучал кулаком по столу. Он ласково встретил Сливинского, даже поинтересовался его здоровьем. Спросил о делах, но, не дослушав его очередных оправданий, сочувственно сказал:
— Я не завидую вам, пан Сливинский. Я не позавидовал бы и вашим многоуважаемым родителям, если бы они были живы. Между прочим, — вспыхнул на миг шеф, — я спросил бы у них, зачем они родили на свет божий такого тупого осла! — Повертел шеей в крахмальном воротничке, успокаиваясь, и продолжал притворно мягко: — Дело в том, мой дорогой пан Сливинский, что про ваш, — подчеркнул, — эксперимент с Марией Харчук стало известно самому губернатору фон Вайгангу. Он вызвал меня, и я доложил: дела подвигаются хорошо, не позднее чем через неделю будет положительный результат. Вы можете вообразить, что произойдет, если через неделю я не смогу доложить об успешном завершении операции?.. Нечего говорить, что я снимаю с себя ответственность за ваш — да, да, ваш! — эксперимент. Но это еще не все. Подумали ли вы о том, что ваша бесплодная возня с этой большевичкой может быть расценена как провокация? А вы должны знать — гестапо не любит провокаторов, пан Сливинский. Вы, вероятно, догадываетесь, как мы с ними поступаем? — Выдержав большую паузу, Менцель добавил: — Я не задерживаю вас, уважаемый пан. Всего наилучшего!
Модеста Сливинского шатало, когда он шел по коридору гестапо. Ужас охватил его. Да, с гестапо шутки плохи!.. Оказавшись в цейтноте, Менцель с легкостью пожертвует им. И не станет Модеста Сливинского. Не станет… От этой мысли пана Модеста замутило, и он поспешил на свежий воздух.
Может быть, бежать? Да, в лес, там он возглавит один из отрядов знаменитого бандеровского воинства! Он докажет, что в его жилах течет казацкая кровь! Но тут Модест Сливинский вспомнил о прочных связях гестапо с бандеровским руководством. Спасения нет.
Свернув в скверик, он в бессилии опустился на скамейку. Итак, через неделю развязка… Неделя?! Ба, да ведь у него впереди есть еще целая неделя! Семь драгоценных дней!.. За это время можно горы сдвинуть!
“Прочь уныние!” — сказал себе пан Модест и потер задубевшие на ветру руки. Черт знает что, перчатки в кармане, а руки закоченели — вот до чего доводит растерянность.
Поднялся, выпрямил затекшее тело, плюнул в сторону вороны, которая снова устроилась поблизости. Не накаркать тебе несчастья на Модеста Сливинского, не так-то просто затравить его — он еще поборется!..
Вечером пан Модест пришел к Марии с чемоданчиком. На ее удивленный взгляд ответил:
— Поставил точку… Тут все, что осталось у Модеста Яблонского!
Мария всплеснула руками и спросила:
— Что случилось, дорогой?
Это “дорогой” вырвалось помимо ее воли. Женщина покраснела, а пан Модест, почувствовав под ногами твердую почву, бросился в атаку.
— Точка поставлена, и жребий брошен, — продолжал он театрально. — Сегодня мой последний вечер в городе. Завтра я уже не увижу тебя, моя любимая…
— Не пугайте меня, Модест Владимирович… Что случилось?
Сливинский вынул из чемодана и поставил на стол две бутылки с коньяком и вином, а также кулечки с продуктами. В чемодане осталось белье, несколько пар носков, свитер.
— Все мое имущество, — хлопнул крышкой пан Модест. — Сегодня ликвидировал последнюю картину. Из квартиры меня выселили — дом перестраивают под офицерское общежитие. Ничто больше не связывает меня с городом, кроме тебя, солнце мое. Но чувство должно поступиться перед долгом — утром еду. В лесах, слышал, есть партизаны! А теперь, дорогая, давай праздновать — сегодня день моего рождения… И, я считаю, второго рождения тоже. Прочь пассивность! Модест Яблонский покажет фашистам, что у него твердая рука и мужественное сердце!..
Мария растерялась.
— А я как раз собралась к родственникам в деревню, — как-то некстати заметила она. — За картошкой. И на работе меня отпустили…
— Значит, обоим нам дорога… — пробормотал пан Модест, обнимая Марию.
Впервые она не сопротивлялась. Модест осмелел, нежно прижимая к себе до сих пор неприступную женщину; он с радостью увидел, как затуманились глаза Марии, и припал к ее губам.
Минуту спустя Сливинский весело хлопотал возле стола.
“Не торопись, все уладится…” — кажется, так сказала ему Мария. И каким тоном! Чертова женщина, столько крутила ему голову, шляк бы ии трафив[17] ! Камень, а не женщина! Но недаром говорится: вода и камень долбит.
Мария нарезала хлеб и смотрела на пана Модеста сияющим взором. После первого поцелуя исчезла граница, разделявшая их, и они почувствовали себя свободно и весело. Сказал бы кто-нибудь сейчас пану Модесту, что он мерзавец, — обиделся бы: до того нравилась ему женщина и настолько верил в свое благородство.
Сливинский налил Марии полстакана коньяку и заставил выпить все: мол, он человек суеверный, задумал что-то важное, и, если она не выпьет, его постигнет ужасная неудача.
Коньяк еще больше оживил Марию. Она смеялась и не запрещала пану Модесту целовать ее ладони, плечи. Сливинский подлил еще. Она решительно отодвинула стакан, но уже через минуту весело чокалась с паном Модестом.
— У тебя правдивые глаза, — сказала. — Они согревают меня!
Сливинский и вправду смотрел на Марию удивительно честными, любящими глазами, а про себя думал: “Пора уже выключать свет…”
…Счастливая и безвольная, Мария лежала, прижавшись к пану Модесту.
— Любимый, — шептала, — никуда я тебя не пущу. И тут для нас найдется много дел.
— Все это глупости, — скорбно произнес Модест. — Что я могу сделать один — без оружия, без связей?
— Но ведь существуют люди…
— Где они? Не верю я в эти сказки… — Я тебя сведу с ними.
— Ты?! — засмеялся Модест. — Не шути, дорогая!
— Да, я… — прижалась к нему горячей щекой Мария. — Ты не веришь мне, а я познакомлю тебя с вуйком Денисом. Хороший человек, настоящий, честный! Ты найдешь с ним общий язык.
— Это из вашей типографии?
— Да, метранпаж. Он печатает листовки у гитлеровцев под носом.
— И много вас?
— Перестань! — прошептала Мария. — О таких вещах не спрашивают. Ты разве не знаешь, что такое конспирация?
— Догадываюсь, — усмехнулся в темноте Сливинский.
— Умница ты мой… — погладила его по щеке Мария, и через минуту пан Модест услышал ее ровное дыхание.
Модест лениво потянулся и подумал, что у пани Стеллы сейчас пьют и танцуют. Наверно, там Ядзя. “Надо ей непременно завтра позвонить”, — решил. Повернулся на бок и тоже уснул.
Мария разбудила его на заре. Сидела на краю кровати, уже одетая, умытая и причесанная.
— Вернусь послезавтра.
— Я провожу тебя.
— Не надо, — нежно потрепала его шевелюру. — А про наш разговор забудь, никому ни слова!
— Я буду ждать тебя, моя дорогая.
— До послезавтра, — поцеловала его Мария.
На пороге она оглянулась и улыбнулась открыто и радостно.
Модест Сливинский поспал еще, затем встал, сделал гимнастику и направился в гестапо.
— Мой эксперимент, — пан Модест сделал ударение на первом слове, — да, мой, как вы совершенно справедливо изволили выразиться вчера, герр штандартенфюрер, завершился блестящим успехом. Я могу назвать вам имя одного из руководителей подполья…
— Кто? — выпалил Менцель.
— Метранпаж типографии, какой-то вуйко Денис. Надеюсь, фамилию установить не так уж и трудно.
Менцель вызвал Харнака, и Модест Сливинский выложил все, что узнал от Марии Харчук.
— Поздравляю, Вилли, — сказал штандартенфюрер, — ваш план оказался удачным. Поздравляю и вас, пан Сливинский, — подсластил пилюлю, — вы действовали неплохо. Теперь, господа, нам следует обсудить вторую часть операции… — Заметив знаки, которые подавал ему Харнак, шеф небрежно бросил: — Подождите, пан Сливинский, в приемной, вы, может быть, понадобитесь.
“Як напився, то й од криницы одвернувся” [18], — обиделся пан Модест, нарочито медленно двигаясь к выходу. Когда дверь закрылась, Менцель удивленно посмотрел на Харнака.
— Не понимаю вас, Вилли. Ведь с его помощью мы можем проникнуть в самое сердце организации.
— Не думайте, шеф, что там сидят идиоты. Они раскусят этого павлина в течение одного дня. Достаточно и того, что он обманул Марию Харчук. К тому же, гарантированы ли мы, что там его не знают как дельца черного рынка?
— Логично, — согласился Менцель. — Что ж вы можете предложить?
— Мадам Харчук не должна возвратиться в город, — твердо сказал Харнак. — Ей следует отправиться туда, — сделал выразительный жест рукой, — откуда никто еще не возвращался. Но мы должны быть в стороне. Лучше всего обыкновенная автомобильная катастрофа, в которой погибнет также кто-нибудь из наших людей. Ну, скажем, два полицая. Трупы увидит местное население. Сразу пройдет глух — все чисто и красиво. А мы в это время идем по следу того Дениса… Кстати, установлена ли его фамилия? Прекрасно — значит, Ковач? Дело поручаем самым опытным агентам. Вы согласны, штандартенфюрер?
Мария Харчук стояла на окраине местечка и ждала автобуса. На все местечко один старенький, обшарпанный автобус, но слава богу, что есть и такой, — все же не пешком. Шел дождь, дул холодный, пронизывающий ветер, и Мария плотно укуталась в теплый платок. Автобуса все не было…
Рядом топталось еще несколько пассажиров. Мария спросила у одного из них, не отменили ли рейс. Тот вытащил из кармана большие серебряные часы, щелкнул крышкой и лишь после этого ответил:
— На ремонте. Обещают, что с минуты на минуту подадут его на остановку.
Подошли два полицая. Видно, подвыпившие — пальто нараспашку, лица красные, нагло поглядывают вокруг. Мария еще плотнее закрыла лицо платком, сгорбилась. Теперь она была похожа на пожилую женщину, которая возвращается в город от деревенских родственников, прихватив с собою то, чем с ней поделились: ведро картошки, несколько вилков капусты, венок лука. По нынешним временам — богатство.
Автобуса не было.
Полицаи начали приставать к пассажиркам. Бросив несколько насмешливых реплик по адресу промокших и плохо одетых крестьян, они оттеснили от них молоденькую девушку, которая глядела на пьяных испуганными глазами.
— Эй, Грицько, — хохотал один из полицаев, — эта фрейлейн похожа на мою бывшую любовницу. Что ты смотришь на меня так жалобно? Улыбнись, девушка, я хочу видеть, как ты улыбаешься.
— Ты едешь в город, девушка? — допытывался второй. — Мы можем там неплохо повеселиться…
Девушка пятилась к Марии, но один из полицаев неожиданно подставил ей ногу, и она упала на мокрую траву.
— Ха-ха-ха! — захохотал полицай.
Мария увидела, как задрожали щеки у пассажира с серебряными часами. Переносица у него побелела, он порывисто обернулся к полицаю.
— Ха-ха-ха! — хохотали полицаи, глядя, как бежит в направлении местечка девушка. — Не пугайся, фрейлейн, мы пошутили!..
— За такие шутки… — начал пассажир, но Мария успела дернуть его за руку.
— Смотрите, — прошептала, — машина…
Из-за угла вынырнул крытый брезентом грузовик. Резко затормозил, обрызгав грязью столпившихся на остановке крестьян. Из кабины высунулось красное безбровое лицо шофера. Внимательно оглядев пассажиров, он сказал:
— Автобуса не будет. Можете ехать со мной. Полицаи заняли лучшие места возле кабины.
Мария повернулась к ним спиной, примостившись у заднего борта, чтобы видеть дорогу. Она любила смотреть, как убегают назад деревья и кусты, одинокие дома.
Шофер быстро гнал машину, грузовик подпрыгивал на неровном асфальте, Марию бросало в разные стороны. Думала: все-таки посчастливилось. Через полтора–два часа будет в городе, увидит Модеста Владимировича. Хотелось поскорее заглянуть в темные глаза Яблонского. Все теперь в нем нравилось Марии — даже морщинки в уголках губ, которые придавали его лицу несколько скептическое выражение. Завтра она расскажет о нем вуйку Денису, и Модест станет членом их организации. Вместе будут расклеивать листовки. Может быть, Яблонскому поручат более ответственную работу?
Машину подбрасывало на выбоинах, но Мария не замечала этого, мечтая о скорой встрече с любимым. Завтра Денис зайдет к ним. Конечно, он будет сердиться, что Мария не посоветовалась с ним, но разве же можно не верить Модесту?! Это все равно что не верить самой себе. Так она и скажет вуйку Денису: “Вы что же, не верите мне?” Ковач поймет ее и не станет ругать. Это же хорошо, когда в организацию приходит еще один надежный товарищ.
По обеим сторонам дороги — черные, голые поля. Машина несется с пригорка на пригорок, поля убегают назад, вот уже и показался осенний неприветливый лес. Лишь кое-где зеленеют поляны. Дождь хлещет по стволам и ветвям, рвы полны воды, из-под колес машины во все стороны летят брызги.
Скоро уже город. Еще немного — и покажется конус Крутого замка, шпили костелов. Здесь шоссе избегает на пригорок, справа лес, слева — глубокий овраг. На дне оврага небольшие кусты и ручеек, который теперь, в пору дождей, похож на маленькую речку. А вот и первые дома…
Безбровый открыл дверцу, оглянулся назад. Никого нет. Впереди тоже чистое шоссе. Шофер нажал на тормоза и, когда машина совсем замедлила ход, резко повернул руль, а сам выскочил на асфальт. Тяжелый грузовик налетел на придорожную вербу, сломал ее и полетел в овраг. Безбровый видел, как машина, несколько раз перевернувшись, врезалась кузовом в землю…
На другой день в местной газете была помещена заметка об аварии на окраине города. Репортер сообщал: на скользкой дороге машину занесло, и она рухнула в овраг. Погибло четырнадцать человек, в том числе два полицая. Среди тех, кто умер, не приходя в сознание, была и Мария Харчук…
Глава третья На земле и под землей
Снег выбелил грязные улицы. Стояли небольшие морозы — дышалось легко, снег поскрипывал под ногами. Карл Кремер, владелец ювелирного и комиссионного магазина на фешенебельной улице Капуцинов, не спеша шел по Центральному бульвару. Дело его процветало. Он был известен как человек с размахом, ибо платил на один–два процента больше, чем на “черном рынке”. За короткий срок молодой Кремер завоевал широкую клиентуру, поставлявшую товары их фирме. С помощью секретаря губернатора, которому для укрепления дружественных отношений пришлось подарить золотые часы, Кремер получил роскошную квартиру.
Итак, все шло хорошо. Старший приказчик магазина Кремера — Михайло Фостяк хвалился, что здорово прижал короля “черного рынка” Модеста Сливинского и скоро приберет к рукам всю комиссионную торговлю в городе.
— Этот Сливинский пусть балуется картинками, — посмеивался Фостяк в компании дельцов. — А попытается сунуть свой поганый нос в наши дела, ему головы не снести…
Пан Модест пожаловался Менделю на незаконные действия фирмы Кремера, который переманивает его клиентуру. Но штандартенфюрер иронически спросил его:
— Пан Сливинский был хоть раз в особняке губернатора? Не приглашали? А вот господин Кремер чуть ли не каждую субботу бывает у губернатора. И к нему благосклонна сама госпожа Ирма фон Вайганг… Понятно? Ну, а если понятно, какого черта вы морочите мне голову?
Модест Сливинский вспомнил древнюю истину, что против силы даже вол не потянет, и смирился, решив значительно расширить операции с картинами — тут он и поныне оставался монополистом.
Карл Кремер не спешил — обдумывал донесение, которое сегодня Фостяк передаст Богдану. Вчера губернатор в его присутствии позвонил коменданту и приказал усилить охрану военных складов на окраине города. Оказывается, там сейчас сконцентрированы огромные запасы горючего для самолетов, действующих против Сталинграда. Кроме того, на склады поступило теплое обмундирование для солдат и офицеров Восточного фронта; с будущей недели его начнут отгружать воинским частям.
Склады следовало бы поднять в воздух именно сейчас, но как это сделать? Охраняют их отборные части эсэсовцев. Через колючее проволочное заграждение пропущен электрический ток. Но ведь там горючее для самолетов, которые сбрасывают бомбы на Сталинград… Склады эти во что бы то ни стало надо уничтожить!
Богдан пришел около двенадцати, когда в магазине было полно людей. Сняв с вешалки сданное на комиссию пальто, Фостяк пригласил Стефанишина в примерочную. Богдан обносился, и хлопцы обещали ему подобрать что-нибудь приличное, хотя на его богатырскую фигуру найти что-нибудь подходящее было нелегко. К счастью, пальто подошло. Через несколько минут Богдан вышел из магазина, оглянулся и направился в сторону Люблинского базара. Полы его нового пальто разлетались. Богдан торопился сообщить друзьям о складах с горючим и обмундированием.
Люблинский базар — оживленнейший уголок города. Снег, смешанный с грязью, образует здесь липкое болото. В центре — деревянные ряды, сбоку, в стороне, — “раскладка”. Тут можно купить все, начиная от бронзовых канделябров и сентиментальных французских романов и кончая “почти новыми” сапогами.
Сразу за базаром — длинный ряд всевозможных мастерских. Тут ремонт примусов и кастрюль, портновские и сапожные мастерские и парикмахерские, “забегаловки”, где из-под полы завсегдатаям отпускают самогон стаканами. Дельцы в потрепанных пальто и черных шляпах, крестьяне в домотканых свитках, музейные пани в старомодных манто, полицаи, неопрятные, с подведенными глазами проститутки…
Богдан купил на базаре несколько немецких эрзац-сигарет и направился в мастерскую, над которой на огромном фанерном щите горел неестественным красным пламенем примус. В углу полутемного помещения, заваленного ведрами, кастрюлями, ковырялся человек в замасленной одежде. Около него топталась бабуся с дырявой кастрюлей.
— Завтра, бабушка, сделаем, — говорил ей человек, поблескивая живыми глазами. Круглое лицо его, обрамленное короткой бородкой (не поймешь, бородка ли это или человек просто давно не брился) немного вытянулось от нетерпения. — Сегодня нельзя, бабушка. Завтра заберете кастрюлю, как новая будет.
Когда старушка, наконец, ушла, мастер набросил на дверь крючок и обернулся к Богдану.
— Я же предупреждал — ко мне лишь по неотложным делам!
Богдан сел на табурет.
— Именно неотложное и есть, Евген Степанович.
— И не Евген Степанович я, а Василь Петрович, и не Заремба, а Воляпюк, — поморщился тот. — Когда я вас научу?..
— Так мы же одни, Евген…
— Василь Петрович! — перебил Заремба. — Привыкать надо, а то сболтнешь где-нибудь нечаянно.
— Ладно. Я только что из магазина. Есть очень сажное сообщение…
Выслушав его, Заремба посидел минутку молча.
— Трудная задача, — вздохнул он. — Не под силу нам. Голое место, к складам не подползешь. Подстрелят, как куропатку…
— А если подъехать на машине — вроде бы получить что-то? — предложил Богдан. — Будто бы из какой-то воинской части. Документы приготовить, ну и…
— Эсэсовская охрана, — покачал головой Заремба. — Они на этом зубы съели. И где ты найдешь образцы документов?
— Можно попытаться… напролом, — не сдавался Богдан.
— Тебе не подпольщиком быть, а разбойниками командовать! — вскипел Заремба. — Вот так всегда: как черт в воду. Не выйдет! Рисковать можно, когда есть хотя бы одна сотая процента надежды. А тут и этого нет.
Богдан помрачнел.
Заремба развернул газету, вытащил селедку, луковицу и полбуханки хлеба.
— Давай присоединяйся…
Вдвоем они быстро съели селедку. Богдан закурил. Стоял у окна, наблюдая, как дворники расчищают улицу, сбрасывая снег в люк канализации. Внезапно чуть ли не подпрыгнул.
— Идея! — крикнул он вдруг. — Евген Степанович, идите-ка сюда!
— Не Евген Степанович… — начал было тот, но, увидев возбужденное лицо парня, спросил: — Чего тебе?
— Посмотрите. — Богдан указал на дворников.
— Ну и что?
— Канализация…
— Ну, канализация…
— А ведь склады на территории города, понимаете?
— Не пойму…
— Если там проходит канализация, то через нее можно пробраться на…
— Постой, постой, — потер лоб Евген Степанович, — а ведь это и впрямь идея!
Богдан сел на перевернутое ведро, вынул еще сигарету. Закурил и спросил:
— Вы Илька Шкурата не знали? — Заремба покачал головой. — Он со мной вместе заканчивал школу, сейчас где-то на фронте воюет. В двух кварталах от нас жил. Так вот, его отец — большой специалист по канализации. Илько, бывало, говаривал: “Батько знает там ходы лучше, чем улицы в городе”.
Заремба поднял на Богдана глаза.
— Над этим стоит подумать, — сказал. — Может, это и есть та сотая часть процента. А старик Шкурат надежный?
— Вполне! Хотя, — вспомнил, как тот когда-то драл Богдану уши, поймав в саду, — сухарь и, кажется, эгоист… Но возможно, это субъективно…
— Добро, я расспрошу про него, — перебил Заремба. — Теперь беги. В восемь буду у вас.
Шкурат сидел за столом и посасывал почерневшую от времени трубку. Когда Заремба объяснил все начистоту, старик сдвинул мохнатые брови и сказал:
— Согласен. — Долго набивал трубку, пустил под потолок струйку едкого махорочного дыма и добавил: — Но ведь гитлеровцы кое-где завалили люки…
— Много выходов в районе военных складов? — спросил Евген Степанович.
— Если не завалили, выйдем! — ответил старик.
Был намечен следующий план диверсии. Из партизанского отряда Дорошенко доставить взрывчатку. Это задание поручили члену организации — ветврачу, имевшему возможность легально выезжать из города. К этому времени Шкурат должен был обследовать входы в канализационную систему в районе военных складов, а Богдан — добыть для трех участников диверсии электрические фонари, резиновые сапоги и ватники.
Через три дня ветврач привез из отряда тол. Шашки, похожие на мыло, лежали в чемоданчике, и Богдану не верилось, что в этих желтоватых кубиках таится адская разрушительная сила. Заремба научил его прилаживать капсюли. Пришел Шкурат. У него была сумка с едой. Посидел, пососал трубку, потом бросил:
— Пошли…
До условленного места добирались поодиночке. Уже совсем стемнело, когда сошлись на безлюдной улице. Шкурат поднял крышку люка и полез первым. За ним спустился Заремба. Богдан осторожно оглянулся и стал опускаться в люк. В соседнем доме громко хлопнули двери, послышались чьи-то голоса. Богдан спрыгнул и опустил за собою люк. Внизу уже мерцал фонарик-Богдан шел за Шкуратом. Старик двигался легко, опираясь правой рукой на короткую палку, а левой касаясь стены канализационной трубы. Все ему здесь было привычно; он не обращал внимания даже на зловонную жидкость, которая противно чавкала под ногами.
— Ничего, привыкнете, — бросил он, заметив, как Заремба и Богдан затыкают носы.
И действительно, притерпелись, постепенно тошнотворные запахи перестали их мучить, но идти было по-прежнему трудно. Пот заливал Богдану глаза, сердце колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Сколько же они прошли? Кажется, еще шаг — и силы иссякнут…
Шкурат остановился.
— Отдых, — сказал. — Дальше будет тяжелее.
— А я думал, хуже быть не может, — вздохнул Богдан.
Заремба молча оперся на стену, стараясь избавиться от нестерпимой боли в пояснице. Богдан видел, как дрожат у него колени. “Да, — подумал юноша, — как-никак возраст дает о себе знать… Мучается, а молчит… Из железа человек!”
Богдан осветил фонариком циферблат и свистнул: целый час уже бредут они. Сколько же еще? Он присел на корточки, опустив на пол мешок с толом. Отдыхать так отдыхать: ежели впереди еще труднее — значит, надо собраться с силами.
Прошли еще метров пятьсот. Ход постепенно суживался; Богдан двигался, опираясь руками на настил, поросший какими-то лишаями. К счастью, становилось суше, жижа уже не чавкала под ногами.
Шкурат опять подал знак остановиться. Ход раздваивался. Старик вынул из кармана бумажку, долго разглядывал ее, недовольно хмыкал.
— Подождите здесь, — сказал и повернул налево.
Через несколько минут вернулся, пятясь назад. Помолчал немного, снова вытащил бумажку.
— Дела наши усложняются, — сказал. — Там завал…
Заремба придвинулся к старику.
— Как же быть?
— Попробуем в обход. Это дальше, и путь хуже, но ничего не поделаешь…
Шли еще с полчаса. Вдруг Шкурат погасил фонарик. Поднял руку, призывая к вниманию.
— Гасите свет! — прошептал. — И тише!
Бесшумно шагая, добрались до поворота. Впереди мерцал слабый огонек.
— Там кто-то есть, — прошептал Богдан. — Подождите здесь, я пойду вперед.
Опустив на землю мешок, он вытащил из кармана пистолет и двинулся по направлению огонька, который проступал все явственнее. Скоро Богдан понял, что это свет от фонаря. Подняв пистолет, он сделал еще несколько бесшумных шагов, потом лег на пол и пополз. Услышав голоса, на мгновенье замер. Потом заглянул за угол.
Узкая, точно склеп, пещера. Фонарь, подвешенный к сырому потолку, освещал мужчину и женщину, которые сидели на сбитом из неструганых досок лежаке. Несколько книжек, кастрюля, миска. Рядом с фонарем свешивалась полотняная торба.
— Руки вверх! — крикнул Богдан. — Не двигаться!
— Ой! — испуганно воскликнула женщина. Мужчина, сидевший рядом с ней, медленно поднял вверх худые, белые руки.
За спиной у Богдана уже тяжело дышали Заремба и Шкурат.
— Кто такие?
— Не трогайте нас, — сползла с лежака и упала на колени женщина. — Мы бедные люди, не делаем ничего плохого.
— Кто вы? — повторил свой вопрос Богдан.
— Это мой муж, Арон Чапкис, — плакала женщина, — а я его жена. Не трогайте нас, мы бедные евреи, и ничего у пас нет.
— Прекрати! — вдруг злобно воскликнул мужчина. — Мне не страшно, стреляйте! — рванул на запавшей груди грязную сорочку, дико сверкнул глазами. — Стреляйте!
Заремба сказал:
— Спрячь оружие, Богдан. А вы успокойтесь, никто не собирается вас убивать.
— Не трогайте нас, господа, — рыдала женщина. — Мы и так не знаем, на каком свете живем…
— Замолчи, Циля! — набросился на нее муж. — Не унижайся!
Заремба сел на ящик, заменявший стул. Женщина отшатнулась от него и прижалась к ногам мужа. В свитере с порванными рукавами, небрежно причесанная, с изнуренным лицом и бескровными губами, она казалась выходцем с того света.
— Успокойтесь, — ласково промолвил Заремба. — Мы — ваши друзья.
Евген Степанович помог мужу уложить женщину на постель, укрыть ватным одеялом.
— Давно здесь скрываетесь? — спросил Заремба.
Арон сидел на лежаке, опустив костлявые руки на колени. Он смерил Евгена Степановича долгим взглядом и спросил:
— Кто вы такие? Как сюда попали?
— Люди… — усмехнулся Заремба. — А попали, потому что нужно…
— Тут никому ничего не нужно, — утомленно сказал Чапкис. — Тут лишь мы и крысы…
— Давно скрываетесь? — снова спросил Заремба.
— Год…
— Год?! — переспросил Богдан. — И все время тут?
Чапкис кивнул. Была в его позе, в безвольных движениях, в голосе такая безнадежность, точно человек давно уже отрекся от всего живого, но живет потому, что искра жизни все еще тлеет в истощенном организме.
Богдан ужаснулся. Год в сырой, вонючей пещере, где можно стоять, лишь согнувшись… Год без света, чистой воды, воздуха, тепла…
— А как же с продуктами?
— Там, — мужчина показал вверх, — осталась подруга Цили. Она, когда удается, спускает нам немного еды…
Заремба посмотрел на пустой мешочек.
— Когда вы ели в последний раз?
— Два дня назад, — ответил Чапкис. — Должно быть, у Зои, — снова показал вверх, — ничего не нашлось.
Шкурат уже развязывал мешок. Вынул хлеб и сало, разделил на дольки головку чеснока.
— Ешьте, дорогие мои, — положил все на большой ящик. — Ешьте, не бойтесь.
Мужчина пододвинул дары незнакомцев жене. Горькая гримаса пробежала по его лицу, когда увидел, как жадно набросилась она на пищу. Сам, уставившись в стену, жевал лениво, казалось, даже неохотно. Заремба налил ему немного спирта. Поморщившись, тот выпил.
— Вообще-то я не пью, — виновато сказал он, — но ради такого случая. Спасибо вам за все, пребольшое спасибо…
Потом Чапкис рассказал, как год назад, когда начались массовые расстрелы евреев, он попытался организовать в гетто сопротивление. Но руководители общины стали обвинять его в провокации. Каждую минуту его могли выдать. Пришлось бежать. Сначала думали пробраться по канализационной системе за город, но ничего не получилось. Пришлось отсиживаться здесь, рассчитывая на помощь Зои…
— И что же вы тут делали? — вырвалось у Богдана.
Чапкис пожал плечами.
— Прятались, — сказал безразлично. — Циля еще обучала меня испанскому. Она ведь окончила университет…
— И не пробовали даже выйти наверх? — спросил с невольной резкостью Богдан.
— По ночам я изредка рискую ненадолго выходить. Жена очень боится за меня…
— И медленно умираете в этой грязной дыре! — снова воскликнул Богдан.
— Извините меня, — вмешалась женщина, — но ведь там у нас нет ни капли надежды. А тут можно выжить.
Богдан от волнения вскочил и больно ударился головой.
— Так тебе и надо, — засмеялся Евген Степанович. — Не горячись!
Он положил руку на худое колено Чапкиса и сказал:
— Помирать очень просто. Для этого не нужно ни большого ума, ни силы воли. А ежели, скажем, предложим вам другой вариант? Хотите, мы переправим вас в партизанский отряд?
— В лес! — поднял голову Чапкис. Глаза его заблестели. — Я сплю и вижу во сне лес! Зеленая трава, цветы, пахнет сосной… И белые облака на синем небе… Мы уже год не видели солнца…
Заремба подозвал Шкурата.
— Дайте-ка вашу бумажку. — И развернул ее перед Чапкисом. — Это приблизительный план канализационной сети. Пунктиром обозначена территория военных складов. Вы знаете, где они?
Чапкис кивнул, а потом спросил:
— Вам надо выйти к складам? Туда есть один лишь выход, остальные завалены. Вы спросите, почему уцелел этот ход? Фашисты его просто не заметили. Вот здесь, — Чапкис ткнул пальцем в чертеж, — около нефтехранилища, стоял когда-то сарай или дом. Его разрушили, и битый кирпич завалил крышку люка. Потом все заросло бурьяном.
— Откуда вы это знаете? — удивился Заремба.
— Раньше я был более любопытным, чем сейчас, — горько усмехнулся Чапкис. — Я знаю в этом районе все выходы из-под земли…
— Так, так… Говорите, возле нефтехранилища… — задумчиво протянул Евген Степанович. — А внутренняя охрана там имеется?
— Разрешите клочок бумаги, я вам все начерчу, — волновался Чапкис, орудуя карандашом. — Это — люк. Он рядом с нефтехранилищем. Здесь пост внутренней охраны. Справа — склады. Второй пост вот здесь. За ним барак, где живет охрана.
— Послушайте, вы же молодец! — воскликнул Заремба. — И как вы все это заметили?
— Лежал в бурьяне и смотрел. Когда сменялся караул, они проходили совсем рядом. Много бы я отдал тогда за автомат с полным диском…
— А теперь? — спросил Богдан.
— И теперь! — решительно промолвил Чапкис. — Если возьмете, я пойду с вами.
— А дойдешь? — Богдан давно не слышал, чтобы Заремба говорил так сердечно. — Слаб ты…
— Дойду. Тут не так уж и далеко.
— А для чего, понимаешь?
— Догадываюсь, — пяло улыбнулся Арон.
— Тогда слушай. Нам нужно взорвать склады, чтобы вес полетело ко всем чертям!
Женщина беззвучно заплакала. Муж начал утешать ее. Заремба, тихонько посоветовавшись о чем-то со Шкуратом, обратился к ней:
— Выслушайте меня, пожалуйста. С вами останется этот товарищ, — показал на Шкурата. — Он сделал свое дело, и теперь его заменит ваш муж. Поймите, Арон становится бойцом! Не волнуйтесь, мы вернемся. Арон покажет нам дорогу, и никакая опасность ему не грозит.
Евген Степанович поднял мешок с толом. Циля упала и обняла ноги мужа. Тот молча отстранил ее и двинулся в темноту…
Шел третий час ночи, когда Чапкис остановился и осветил кирпичный колодец. Тяжело дыша, он прислонился к сырой стене и зажмурил глаза.
— Глотни! — протянул ему флягу Заремба.
— Не надо, — отвел руку. — Сейчас пройдет…
Вверх отвесными ступеньками поднимались ржаные металлические скобы. Отдышавшись, он ловко полез по ним. Тихо звякнула крышка люка, и сразу же потянуло свежим воздухом. Фонарик мигнул. Заремба поправил на плечах мешок и схватился за скобы. За ним полез Богдан.
Они притаились в зарослях бурьяна. Слева в сотне метров от них высились цистерны нефтехранилища, правее темнели длинные двухэтажные строения складов.
— Хорошо, что опустился туман, — обрадовался Евген Степанович. — Где пост внутренней охраны?
— За цистернами, — ответил Чапкис.
Евген Степанович задумался. Богдан и Арон ждали его решения.
— Понимаешь, Богдан, — шепнул Заремба, — надо, чтобы взрывы произошли почти одновременно.
— Понимаю… Вы возьмите на себя склады, а я — нефтехранилище, — предложил Богдан. — Там буду ждать вашего сигнала. Вы поджигаете шнур, возвращаетесь к люку и оттуда два раза помашите фонарем. Если даже заметят, не страшно. Мой шнур сгорит за полторы минуты, они и не успеют сообразить, что к чему, как раздастся взрыв.
— А ежели у меня не получится?
— Тогда стреляйте. Отстреливайтесь и отступайте к канализации.
Евген Степанович исчез в бурьяне. Богдан, приказав Чапкису в случае малейшей опасности бежать через канализацию, бесшумно пополз к нефтехранилищу.
Да, туман был очень кстати! Даже в нескольких метрах ничего нельзя было разобрать. Только по запаху нефти Богдан и догадался, что достиг цели. Под прикрытием цистерн он почувствовал себя увереннее. Выложил тол, приладил шнур, приготовил зажигалку и приподнялся, чтобы не пропустить сигнала.
В гнетущей тишине звонко тикали на руке часы. Богдан поднес циферблат к самым глазам — пошла уже десятая минута с того момента, как он расстался с Зарембой. “Пора бы уже…” — подумал Богдан.
Прошло еще несколько минут. Вдруг Богдана потрясла мысль, что сигнал давно уже был, но он не заметил его. От этой мысли его бросило в озноб. Он решил: если сейчас там раздастся взрыв, он подожжет шнур у самого капсюля… Но взрыва не было. Снова посмотрел на часы. Прошло уже двадцать минут. Неужели что-нибудь случилось?..
Богдан не знал, что предпринять. Решил ждать еще три минуты, а когда они миновали, добавил еще три… Наконец, окончательно изнервничавшись, он уже решил больше не ждать, но в этот миг одна за другой мелькнули две робкие полоски света. Накрыв полой ватника зажигалку, Богдан зажег шнур и короткими перебежками бросился к люку: теперь все равно, пускай замечают! Конечно, его заметили. Не успел он добежать к своим, как длинная автоматная очередь разорвала тишину и пули пропели над головой.
— Ложись, дурень! — услышал Богдан голос Зарембы. Но пьянящая радость кружила голову. Богдан встал во весь рост, погрозил кулаками в сторону цистерн и что-то громко крикнул.
Снова затрещали автоматы. Богдан бросился к люку. Оттуда торчала голова Зарембы.
— Давай, бешеный! — крикнул он.
Спускаясь, бросил последний взгляд на склады. Темное небо покрылось красным заревом…
Когда достигли “базы”, как окрестил Заремба пещеру Чапкиса, шел уже шестой час утра. Решили пока отсиживаться здесь. Сейчас гестаповцы и полицаи рыщут по всему городу. Лучше выйти между седьмым и восьмым часом вечера, когда стемнеет и можно будет успеть добраться домой до наступления комендантского часа.
Улеглись спать. Богдан долго ворочался с боку на бок. Евген Степанович толкнул его кулаком.
— Спи!
— Между прочим, — прошептал Богдан, — почему вы так задержались тогда возле складов?
— Я решил взорвать средний, чтобы от него загорелись и другие. Пристроился в углу под крыльцом, а тут вышли двое. Стоят и курят. Минут десять стояли.
— А-а… Понятно… — сказал Богдан, повернулся и тут же уснул.
…Натянув чистый плащ, Богдан приподнял крышку люка и выглянул на улицу. Темно, лишь снег поблескивает в лунном сиянии. Бесшумно отодвинул крышку, еще раз внимательно посмотрел вокруг. Тишина, ни одной живой души.
— Кажется, все в порядке! — шепнул он товарищам и выбрался из люка.
Но неожиданно что-то мелькнуло в садике напротив. Оглянулся и заметил немца в каске, прятавшегося между деревьями. Богдан упал на снег, хватаясь за пистолет. В саду затрещали автоматы.
— Бегите! — крикнул в люк. — Я их задержу!
Мысль о бегстве вместе с Зарембой и Ароном он сразу же отбросил, так как понимал, что фашисты успеют забросать их гранатами. Взял на мушку бежавшего на него эсэсовца и выстрелил. Тот упал. Та же участь постигла другого. Эсэсовцы спрятались под забором, усилив пальбу.
— Испугались, гады! — обрадовался.
Осторожно поднялся на локтях, чтобы осмотреться и попытаться отступить. Но пули подняли фонтанчики снега почти перед глазами. Черные фигуры мелькали все ближе. Положив пистолет на левую руку, Богдан стрелял, пока не кончились патроны. Поднялся и ударил рукояткой первого… Потом зазвенело в голове. Казалось, снова увидел небо в красном зареве — и темнота…
Петро почтительно поцеловал пальцы губернаторши и произнес патетически:
— В этот торжественный день я желаю вам цвести еще много и много лет на радость всем поклонникам. А чтобы пальчики ваши стали красивее, наша бедная фирма просит разрешения украсить их этим скромным подарком.
Дородная, полнолицая женщина лет сорока, но с претензиями на моложавость, засияла:
— Вы всегда так щедры на комплименты, господин Кремер? — сказала, манерничая.
Петро изобразил на лице отчаяние.
— Как можете вы, фрау Ирма, — пылко произнес, — хотя бы на миг взять под сомнение мою искренность!
— Успокойтесь, мой друг. — Фрау Вайганг кокетливо дотронулась до его руки. — Бог мой, какая красивая вещь!
Перстень был подобран с учетом вкуса губернаторши: массивный, украшенный большим рубином. Фрау Ирма сразу же надела его и показала мужу.
— Правда, чудесно?! — И, получив его одобрение, она обратилась к гостю: — Вы всегда знаете, что мне нравится, господин Кремер.
Петро склонил голову и подумал: “Не так уже и сложно это знать…”, но вслух сказал:
— Ваш утонченный вкус приводит меня в восхищение, фрау Ирма.
Петро знал, что делал. Губернатор группенфюрер СС Зигфрид фон Вайганг был женат второй раз. Его жена была много моложе его и вертела стариком, как хотела. Когда в губернаторском доме впервые появился молодой и элегантный коммерсант, он сразу же привлек внимание фрау Ирмы. Несколько вовремя сказанных комплиментов довершили дело. Комплименты, а главное — щедрые подарки скоро помогли Петру стать желанным гостем в доме фон Вайгангов. Перед ним заискивали даже влиятельные чиновники, и сам шеф гестапо Отто Менцель приветливо пожимал руку при встрече.
Сегодня день рождения фрау Ирмы. Правда, праздник омрачен вчерашней диверсией на военных складах. Хотя губернатор приказал распространить официальную версию, согласно которой ущерб оказался совершенно ничтожным — дескать, пострадал один барак и сгорело несколько тонн горючего, — но все знали о подлинных размерах катастрофы. Шептались по углам, испуганно говорили о сильном партизанском отряде, якобы организовавшем налет на склады. Кое-кто предсказывал конец карьере штандартенфюрера Менделя — армейская контрразведка постарается свалить вину за диверсию на гестапо. Однако когда явился сам Менцель, как всегда самоуверенный и нахальный, о нем заговорили иначе. Узнав о сегодняшних арестах, стали превозносить таланты Менделя, якобы сумевшего разгромить крупную подпольную коммунистическую организацию, которая, собственно, и осуществила диверсию.
Улучив минуту, когда Менцель остался один, Петро подошел к нему.
— Вас можно поздравить с большим успехом, штандартенфюрер. Говорят, в нашем городе покончено с коммунистическим подпольем.
— Абсолютно точно! — самодовольно подтвердил тот. — Мы поставили точку на деятельности враждебных элементов. И еще, скажу вам по секрету… — Шеф гестапо придвинулся к Петру, и тот понял, что Менцель хочет доверить ему тайну, про которую говорят: “Совершенно секретно — копия на базар!” — И еще скажу вам по секрету: мы задержали того самого диверсанта, который пытался взорвать склады.
“Пытался! — усмехнулся в душе Петро. — А то, что до сих пор горит, разве иллюминация?” Громко же сказал:
— Неужели? Кто же он такой?
Петро был уверен, что шеф гестапо просто бахвалится, чтобы укрепить свое пошатнувшееся положение. Но секрет Менделя поколебал эту его уверенность.
— Мы еще не установили. Впрочем, это не такое уж сложное дело. Хотя этот богатырь — сроду такого не видел! — пока что держится, мы ему скоро развяжем язык…
“Неужели взяли Богдана?” — оборвалось сердце у Петра. Разговаривал с гостями, шутил, щедро сыпал комплиментами, а мысль о Богдане все время сверлила мозг.
Едва дождавшись утра, бросился к Фостяку. Тот ничего не знал. Петро заперся в подсобном помещении магазина, приказав никого к себе не пускать. К вечеру зашел Фостяк. Петро взглянул на него и все понял.
— Богдана взяли… — подтвердил Фостяк. — Были и другие аресты… Взяли товарища Ковача и еще несколько членов организации, которые выпускали листовки. Есть строгий приказ: до выяснения обстановки — никаких встреч.
“А как взяли Богдана?” — хотелось спросить Петру, но язык не поворачивался. Однако Фостяк прочитал этот немой вопрос в его глазах.
— Кто-то заметил, как наши спустились под землю. Эсэсовцы устроили засаду. Богдан вышел первым. Заметив солдат, открыл огонь. Спас товарищей — они успели отступить и вышли в другом районе города.
“Ты всегда был таким, Богдан! Ничего не жалел для товарища. Рискуя жизнью, вытащил меня из плена. И теперь отдал жизнь за друзей. Отдал?.. Неужели ничего нельзя поделать?..”
Однако знал: гестапо не отдает своих жертв…
Богдана допрашивал Харнак. Гауптштурмфюрер уселся в кресле перед маленьким столиком с кофейником и чашками. Предложил Стефанишину место напротив, придвинул к нему чашку с кофе и любезно сказал:
— Угощайтесь.
Такое начало игры вызвало у Богдана усмешку — он ясно сознавал, чем она кончится, но чувствовал в себе силы выдержать любое испытание. Все же от кофе не отказался — когда еще доведется пить его? Глотнул ароматный напиток и посмотрел гауптштурмфюреру в глаза.
Посторонний человек, зайдя в кабинет, мог бы подумать: добрые знакомые мирно проводят время за чашкой кофе.
— Как-то неудобно, — приветливо говорил Харнак, — пьем вместе кофе, а я до сих пор не знаю, что вы за человек…
Такой стиль Харнак применял к людям, как он выражался, с размягченным мозгом, то есть к интеллигентам. Считая врачей, учителей, ученых неполноценными людьми, он старался усыплять их бдительность, расположить к себе, вбить им в голову, что ценою совсем мелких, несущественных признаний можно откупиться от пыток и сохранить жизнь. Иногда это ему удавалось, и гауптштурмфюрера считали в гестапо лучшим специалистом по делам “интеллектуалов”. Эту же уловку Харнак применял, стараясь добиться признания у людей сильных и мужественных. Ведь обычные гестаповские методы в таких случаях вообще не дают результатов, и он считал, что лучше иметь хотя бы один шанс из ста, чем ни одного.
Харнак не тешил себя надеждой, что с Богданом все будет просто и легко. Совершить такую смелую диверсию и отстреливаться до последнего патрона мог лишь человек большой воли и мужества. Ясно было, что этот богатырь вряд ли испугается пыток. И Харнак решил немного поиграть с ним.
Богдан оценил ситуацию почти сразу. Он понимал, что в гестапо есть люди с большим опытом, умные и коварные. Этот следователь, неплохо знающий русский язык, вероятно, из этого сорта. Серые глаза смотрят насмешливо и испытующе, хотя гауптштурмфюрер и старается быть любезным. Губы сжаты в прямую тонкую линию; длинные пальцы, держащие чашку с кофе, едва заметно дрожат. “Должно быть, алкоголик или наркоман, — подумал Богдан, обратив внимание на это дрожание и нездоровые синяки под глазами. — Впрочем, черт с ним! Все равно ничего он от меня не добьется”.
Не дождавшись ответа, Харнак поставил чашку на столик. Закурил и, пододвинув сигареты Богдану, сказал:
— Вы человек с головой и понимаете, зачем вас сюда привели. Уж, конечно, не для того, чтобы распивать кофе со следователем… Итак, ваши фамилия и имя?
— Петренко Микола Миколаевич, год рождения двадцать первый, место рождения — Москва.
— Чудесно! — Харнак что-то отметил на клочке бумаги. — Документы, конечно, потеряли?
— Откуда вы знаете? — с притворной наивностью воскликнул Богдан.
— Догадались, — усмехнулся Харнак. — Что ж вы делали в канализации?
— Спал. На дворе, знаете ли, холодно, вот я и залез туда.
— Прекрасно. — Еще более любезная улыбка появилась на лице гауптштурмфюрера. — Зачем же вы потом стреляли в солдат?
— Испугался спросонья. — Лицо Богдана виновато вытянулось. — Вижу, бегут на меня, ну я и выстрелил… А потом и они стреляли… Таким образом, считаю, мы квиты.
— Ай-ай-ай! — поднял брови Харнак. — Значит, испугались? А там, в канализации, вам не было страшно? Все же темно и, наверно, крысы.
— А крыс я не боюсь, — с идиотской наивностью ответствовал Богдан. — Я больше солдат боюсь…
Но Харнака нелегко было вывести из равновесия.
— Неужели? А я, например, почему-то больше боюсь крыс.
— Каждому — свое, — вздохнул Богдан.
— Где же вы потеряли документы?
Харнак взял карандаш, как бы собираясь записать.
— Не помню. У меня дырявая память. Где-то потерял.
— Как попали в наш город?
Богдан начал сочинять какую-то фантастическую историю. “Я его недооцениваю, — подумал вдруг, — нервы у него все-таки есть…” Действительно, гауптштурмфюрер выслушал его болтовню, не перебивая. И только когда Стефанишин умолк, весело заметил:
— А вы мне нравитесь! Шутник, не так ли?
— Люблю пошутить, — притворно вздохнул Богдан. — Но ведь в этом нет ничего дурного.
— Конечно, — согласился гауптштурмфюрер. — Пошутили — и хватит.
— Я вас не понимаю, — сказал Богдан с нарочитым удивлением.
— Оставьте, — сказал Харнак, — вы же умный человек. Я тоже не последний дурак. Давайте забудем эти детские забавы.
— Хорошо…
— Чудесно! Я почему-то верил, что мы легко договоримся. Итак, ваши фамилия и имя.
— Петренко Микола Миколаевич.
— Мы же условились прекратить шутки.
— А почему вы думаете, что я шучу?
Харнак начал терять терпение. Поднялся, постоял у окна. Потом промолвил, не глядя на Стефанишина:
— А вы более серьезный противник, чем я думал.
— Воспринимаю это как комплимент, — нагло развалился в кресле Богдан. — Но и вы более умный следователь, чем я думал.
Харнак снова сел. Налил себе кофе и молча стал прихлебывать.
— На что же вы рассчитываете?
— На силу духа! — твердо ответил Стефанишин.
— Значит, вы готовы к смерти? А ведь вы, собственно, еще не жили, ничего не видели в жизни.
— Понимаю. Теперь вы начнете рисовать мне прелести жизни, пользуясь голубыми и розовыми красками. Будете говорить, что у меня все впереди, а живем на свете только раз, что обидно разлучиться с жизнью навсегда. Господин следователь будет убедительно доказывать, что жизнь, какая она ни есть, все же остается жизнью и… лучше смерти. А потом добавит, что почти ничего не требует от меня — этак, мелочь, несколько имен, адресок… Ведь так?
Богдан умолк. Харнак смотрел на него с нескрываемым любопытством.
— И вы думаете меня поймать на этот крючок? — сжал кулаки Богдан. — Нет, тысячу раз нет! Я уверен, вам уже не раз приходилось слышать, что жизнь, купленная ценою подлости и предательства, для нас не жизнь. Сначала вы считали эти слова лишь красивой фразой, потом убедились, что мы не любители фраз. И все же стараетесь запутать нас, обмануть, залезть в душу с помощью чашки кофе. Примитивно, господин следователь! И…
— Вы недооцениваете нас, — перебил Богдана Харнак. — У нас есть куда более эффективные методы.
— Заимствованные у святейшей инквизиции? Это, дорогие господа, действительно испытанные методы. Герр гауптштурмфюрер их имел в виду? Признайтесь, однако, часто ли вам удается выколачивать признания из ваших узников?
— Какое это имеет значение? — безразлично пожал плечами Харнак. — Если бы даже я знал, что из ста арестованных все сто ничего не скажут, я попробовал бы вытянуть признания у сто первого.
— Логика вандала! — заскрежетал зубами Богдан.
— Это уж, простите, такое дело… — развел руками Харнак. — Итак, в последний раз спрашиваю вас: будете говорить?
Богдан сверкнул глазами.
— Неужели вы до сих пор ничего не поняли, господин палач?
— Вам не удастся вывести меня из равновесия, господин большевик, — ответил Харнак, хотя губы у него нервно подергивались.
Нажал на кнопку звонка и приказал коренастому эсэсовцу, который появился в дверях:
— Господина коммуниста необходимо познакомить с процедурами… Пока что по программе номер один… Пожалуйте в соседнюю комнату, — с издевательской вежливостью обратился он к Богдану, — там у нас все готово… — После короткой паузы Харнак добавил: — Впрочем, пожалуй, пройдем вместе. Знаете, когда наблюдаешь процедуры, кофе кажется вкуснее…
Петро шел по темной улице. Мороз крепчал, но Петро не поднимал воротника, только зашагал быстрее.
Город притих и молчит. Молчит, хотя Петро хорошо знает, что за окнами радостно шепчутся и поздравляют друг друга, словно наступил большой праздник. Праздник и есть! Правда, на улицах вывешены траурные флаги, но ведь потому и праздник. Трехсоттысячная гитлеровская армия разгромлена советскими войсками под Сталинградом. А еще две недели тому назад фашистское радио горланило, что Красная Армия разгромлена и Советам пришел конец…
Карл Кремер вынужден ходить с постным лицом, но с тем большим удовольствием Петро наблюдает, как радуются жители оккупированного города. Вчера даже на центральных улицах появились листовки. Даже на дверях его магазина налепили одну. На, мол, и тебе, фашистская сволочь, Карл Кремер! Замечательная листовка! Написана горячо, с пафосом. Вот вам, господин Менцель! Хвалились, что уничтожили подполье, но разве можно преодолеть сопротивление народа!
Свернув в темный, глухой переулок, Петро замедлил шаг и оглянулся. “Хорошо и вперед смотреть, но еще лучше назад оглядываться”, — вспомнилась ему поговорка. Хотя Карл Кремер и вне подозрения, однако береженого и бог бережет.
Заремба еще не пришел. В квартире была только Катруся. Петро едва узнал девушку — от нее остались одни лишь глаза. Щеки впалые, уголки губ скорбно опустились, в глазах застыла такая безнадежность, что Петру стало страшно.
Девушка улыбнулась ему вымученной улыбкой, закуталась в свой любимый шерстяной платок и прислонилась спиной к печке.
— Холодно, — пожаловалась. — Топить нечем.
Петро сел возле Катруси на стул, глядя на нее снизу вверх, думал: “Как пришибло ее несчастье с Богданом… Бедная девушка…”
— Катрунця, — так ласково он еще ни разу к ней не обращался, — у меня есть деньги. Возьми, пожалуйста, и купи дров.
— Для кого топить? — ответила она вяло. — Возвращаюсь поздно, сразу же в постель…
Петро понимал, что она думала о брате: глаза налились слезами, а губы горестно сжались. Петро не стал утешать девушку — это только еще больше растравило бы рану. Он начал рассказывать ей о последних радиопередачах Москвы, посвященных окружению армии Паулюса. Лицо Катри оживилось.
— Погоди, — остановила, — придет Евген Степанович, обоим расскажешь.
Долго ждать не пришлось. Заремба вошел красный от мороза, с сосульками на усах и бороде. Его появление как-то приободрило Катрусю. Она подставила ему щеку для поцелуя и побежала на кухню ставить чайник.
— Без меня ни-ни… — выглянула оттуда. — Может, вы, Евген Степанович, есть хотите? Борщ вам оставила. Пустой, но горячий. Господину Кремеру, — не удержалась от шпильки, — не предлагаю, потому что он у нас, извините, буржуй.
“Жизнь остается жизнью, — подумал Петро, — смех и слезы рядом…” Он вышел в переднюю, взял оставленный им там портфель, набитый продуктами, вытряхнул их на стол. Заремба воскликнул:
— Вот так, значит, живут Кремеры!
— Я — что… — смутился Петро. — Мне бы этого век не видать. Для форса нужно, сами же наставляли…
— Помолчи! — прикрикнул Заремба. — Разве тебя попрекают? По мне, хоть каждый день шампанское пей, лишь бы с умом.
Катруся вернулась из кухни, неся закипевший чайник. При виде яств на столе она ахнула, прижав в растерянности руки к груди:
— Ой, что же это делается?
— Вот так роскошествуют коммерсанты, не считаясь с трудностями военного времени, — усмехнулся Петро.
Евген Степанович и Петро вскрыли банки с консервами, нарезали колбасу, сыр, белый хлеб. В центре высилась горка конфет.
Пили настоящий, ароматный чай. Заремба без церемоний уплетал и колбасу, и сыр, и консервы.
— Соскучился по хорошей пище, — признался. — А сегодня даже положено — праздник!
Петро подробно рассказал о Сталинградской oneрации. Катря нервно помешивала ложечкой в кружке, не спуская с него глаз. Юноша несколько раз перехватил ее взгляд и понял: радуясь победе, девушка все-таки не может забыть о брате.
— Вот это наелся и наслушался до отвала, — сказал Заремба. — А теперь давайте обсудим, как дальше будем жить.
Наконец-то! Петро давно ждал этих слов. Конечно же, его приглашали в строго законспирированную квартиру не на чашку чая. Значит, что-то предстоит. Что именно? Этот вопрос не давал Кирилюку покоя.
Катря убирала со стола, и Евген Степанович увел Петра в другую комнату. Сели на диван возле ши-роколапого фикуса.
— Ну, хлопче, дело ты затеял большое… — начал Заремба и задумался, как бы не зная, что и сказать.
— Не тяните, Евген Степанович! — взмолился Кирилюк.
— Петро, привыкай к выдержке… Тебе сейчас терпение во как нужно… Имеется резолюция на твою историю с тетрадью…
— Ну, — насторожился Петро, — мыльный пузырь?..
— За мыльным пузырем не послали бы человека через линию фронта!
— Какого человека?
— Обыкновенного, офицера из нашей разведки.
— Неужели?!
— Да, дело, выходит, серьезное… Завтра он будет ждать тебя. Запомни адрес: Пекарская, 24, седьмая квартира. Позвонишь четыре раза. Спросишь: “Здесь продают рояль “Беккер”?” Ответ: “Не “Беккер” — “Шредер”.
— Вы не шутите? — растерялся Петро.
— Что я тебе, мальчишка? — вспылил Заремба, но тут же отошел. — Адрес запомнил? Быть там между тремя и четырьмя часами дня.
Петро кивнул.
— А что ему от меня нужно?
— Вероятно, он тебе скажет, — усмехнулся Заремба. — Из-за пустяков не прыгал бы с парашютом…
— Но ведь… — начал было Петро.
— Ничего не знаю, — оборвал его Евген Степанович. — Потерпи до завтра.
И несколько погодя виновато сказал:
— Что-то со мной стало. Стоит присесть, и глаза сами собой закрываются. Старость надвигается или болезнь какая?..
— А вы пробовали просто лечь и поспать? — улыбнулся Петро. — Хотя бы четыре-пять часов?
— Не до сна теперь, хлопче!.. — Потер лицо, зевнул. — Ах, как надоело петлять по городу!..
— А вы тут заночуйте.
— Нельзя. Одного человека повидать надо. Тут рядом. У него и переночую. — Обнял Петра, трижды поцеловал. — Счастья тебе, дорогой!..
Петру открыл дверь пожилой человек с отвислыми щеками. Узнав, что посетителя интересует рояль, так засуетился, будто действительно собирался продать инструмент.
— Пожалуйста, пожалуйста!.. Только не “Беккер”, а “Шредер”. Но это еще лучше… В очень хорошем состоянии, — сказал громко. — Прошу осмотреть…
Петро прошел тесную переднюю, заставленную сундуками и чемоданами, и оказался в большой комнате с книжными полками. Возле двери стоял диванчик, покрытый ярким шерстяным ковром. Большой письменный стол был завален бумагами.
— К вам, Борис Филиппович! — сказал хозяин.
Кирилюк удивленно осмотрелся, не понимая, к кому обращается хозяин.
— Спасибо, друже, — произнес кто-то за его спиной.
Петро оглянулся и увидел человека, выходящего из тайника, который находился за одним из стеллажей.
Петро был разочарован. Когда Заремба сказал ему о предстоящей встрече с офицером, который прибыл через линию фронта, Кирилюк представил себе его высоким, широкоплечим, с волевым лицом и умными, проницательными глазами. А перед ним стоял пожилой человек лет пятидесяти, с глубокими морщинами на щеках и некрасивым, мясистым носом. Он смотрел на Кирилюка светлыми, почти водянистыми глазами как-то настороженно, даже сердито. Но вдруг улыбнулся — морщины разгладились, глаза потеплели.
— Рад с вами познакомиться, — сказал он. — Надеюсь, вы знаете, с кем имеете дело?
Кирилюк ответил не сразу, продолжая осматривать своего нового знакомого: все же трудно было расстаться с выдуманным образом. Сказал:
— А я вас представлял себе иным…
И в то же мгновенье ему стало неловко за свои слова.
— Значит, не оправдал ваших надежд? — засмеялся Борис Филиппович.
— Нет… я хотел сказать… я думал… — растерялся Петро и махнул рукой. — Мне сказали, вы интересуетесь мной…
— Давайте знакомиться. — Борис Филиппович подошел к Петру вплотную и протянул руку. — Майор Скачков.
— Лейтенант Кирилюк, — ответил Петро, крепко пожимая протянутую ему руку.
Все же чувство разочарования, какое-то странное ощущение недовольства и огорчения не покидало его. Петро догадывался, что это не укрылось от проницательного взора майора и тот в душе подтрунивает над ним. Это рассердило его, и Петро подчеркнуто сухо произнес:
— Я вас слушаю…
Майор Скачков не обратил внимания на тон Кирилюка. Отступив на шаг назад, он принялся откровенно разглядывать Петра.
— Прекрасно! — сказал, наконец, как бы отвечая на какие-то свои мысли. Придвинул к себе стул, а Кирилюку указал на диван. — Садитесь, лейтенант, и рассказывайте о себе.
— Но ведь, — пожал плечами Петро, — я не знаю, что вас интересует. С моей биографией вы могли познакомиться там… — неопределенно махнул рукой. — Надеюсь, мое личное дело там есть?
— Я знакомился с ним, — перебил Кирилюка майор, — но это так… бумаги… — Лицо его покрылось морщинками, что, очевидно, означало крайне презрительное отношение ко всякой писанине. — Пускай ими занимаются кадровики, а мы с вами давайте просто поговорим. Итак?..
— Родился… — начал подчеркнуто официальным юном Петро.
— Я знаю не только, где вы родились, но и кем был ваш дед, — сощурил глаза Скачков. — Расскажите про Берлин… Как вы жили там…
Петро рассказал, как он с родителями попал к Германию, о своих первых детских впечатлениях в этой стране, вспомнил отца и его товарищей, своих сверстников по школе при советской миссии. Скачков слушал Кирилюка, не прерывая. Видно было, что каждая деталь рассказа была для него интересна и важна. Лишь время от времени он смешно, как-то по-детски сопел. Все это, а также доброжелательный взгляд острых глаз майора примирили Петра с разведчиком. Даже большой нос, морщины на щеках и лбу стали казаться симпатичнее, чем рисовавшееся ему раньше красивое, волевое лицо с пронзительными глазами. Подумав об этом, Кирилюк усмехнулся. Усмешка эта могла показаться собеседнику явно неуместной, ибо Петро как раз рассказывал о трагической истории одного из своих немецких друзей, которого искалечили парни из “Гитлерюгенда” [19] .
Движением руки Скачков остановил Петра и, вздохнув, сказал:
— Все это очень интересно… А теперь попрошу вас ответить на несколько вопросов. Вы помните Василя Кошевого?
— Это был комсорг нашего факультета.
— Что вы еще можете сказать о нем?
— Прекрасный боксер… отличник… хороший хлопец… Мой товарищ.
Скачков вынул бумажку, исписанную разными почерками.
— Где рука Кошевого?
Петро не мог не узнать мелкие закорючки Василя.
— Прекрасно! — Достал из кармана несколько фотографий. — Кто это?
На Петра смотрели девушки с комичными косичками, юноши в легких летних рубашках “апаш”. Боже мой, как не узнать в худеньком скуластом юноше с большими серыми глазами Вовку Варкова! А это — Таня Минко; она обычно сидела в аудитории впереди Петра, все время вертела коротко подстриженной головой. Валька Изотов — отличник, гордость их курса.
Перебирая фотографии, Кирилюк называл фамилии, давал короткие характеристики юношам и девушкам.
— Довольно, — сказал майор. Петро с облегчением вздохнул.
— Ну и проверку вы мне устроили!..
— Ничего не поделаешь, служба. — Скачков подошел к двери и широко открыл ее. Кирилюк увидел в передней хозяина с пистолетом в руках. — Порядок, Семен! — бросил ему майор и, указав глазами на пистолет, добавил: — Можешь спрятать пушку. — Оглянулся на Кирилюка, хитро подмигнул ему и повторил: — Слу-уж-ба!..
— Вам, я вижу, пальца в рот не клади! — усмехнулся Петро.
— Такая уж наша специальность, — подсел к нему на диван Скачков. — Наша с вами, — уточнил.
— Я — что?.. Обстоятельства…
— Не прибедняйтесь!
— Удачное стечение обстоятельств, — продолжал скромничать Кирилюк. — Жизнь заставила…
— Жизнь — жизнью, а голова — головой!
— Боюсь провала, — признался Петро. — Все время в напряжении… Во мне борются два человека… Один презирает другого. Иной раз ловишь на себе такой взгляд, что готов сквозь землю провалиться.
Скачков слушал исповедь Петра, опершись на подушку дивана. Кирилюку казалось, что в глазах майора опять запрыгали насмешливые искорки. Но он не успел обидеться. Скачков дружески сжал плечи Петра и сказал:
— От этого, брат, никогда не избавишься. Да так, собственно, и должно быть: постоянно в напряжении, даже на мгновенье не вправе забыть, кто ты и для чего существуешь. И запомни: малейшее расслабление смерти подобно для нашего брата. Им этом знаешь какие зубры горели… Один неточным шаг, и все окажется зря — все, что ты создавал годами — вживался, приспосабливался, кривил душой… Даже во сне ты обязан бодрствовать — не имеешь права на розовые сны…
— Не имею, — согласился Петро. — Но дело не в снах. Никак не могу привыкнуть к своему положению… Иной раз такой стыд охватывает…
— Ты, брат, свои переживания вот так… — сжал кулак Скачков. — Может, кто-нибудь тебе и посоветовал бы: дескать, забудь, кто ты, будь Кремером — и все… Таким советам не внимай. Как раз, повторяю, наоборот, — никогда не забывай, кто ты на гамом деле, не забывай ни на минуту, в этом твое спасение, это даст тебе силы преодолеть все преграды. Может, это и звучит несколько напыщенно, по суть именно такова. Да, болит сердце, и никто из нашего брата не в силах перебороть эту боль. Однако пойми: именно она, эта боль, и свидетельству-14, что мы — люди, она помогает делать то, что мы делаем. Трудно скрывать свои человеческие чувства, страшно трудно, но ведь это — первое условие нашей работы. Тем и отличается разведчик, что способен наступить на горло собственной песне.
— Так то настоящий, а я кто?
— Давай без самоуничижения, — серьезно сказал Скачков. — Ты же знал, на что идешь?
— Конечно.
— Не думал, что путь твой будет устлан цветами?..
—Не смейтесь!
— А я и не смеюсь. Конечно, цветов не будет. Но надо идти так, чтобы не исцарапаться о шипы.
— Поцарапаться не страшно, — заметил Петро и вдруг широко улыбнулся. — Поцарапаться — пустяки, а вот хорошенько им досадить, — тогда и жизни не жаль!
Скачков как-то особенно внимательно оглядел Петра, весь сжался, словно перед прыжком, причем его светлые глаза вдруг приобрели зеленовато-синеватую окраску и стали колючими, казалось, майор заглядывал в самую глубь его души, читал его мысли.
— Есть для тебя такое задание, дружище… Сложное и опасное… — начал он, наклонившись к Петру.
На этих словах майор запнулся, словно наговорил лишнего и спохватился. Наступила долгая, мучительная пауза. Петро не выдержал.
— Странную роскошь позволяет себе наша разведка, — произнес он язвительно. — Отрывают от дела офицера, заставляют его прыгать с самолета во вражеский тыл — и все для того, чтобы побеседовать с сопляком на абстрактные темы… — Выпалив все это, Петро перевел дух и подумал: пожалуй, майор может обидеться.
Действительно, Скачков зло сощурил глаза, уголки губ у него нервно дернулись, но он овладел собою и весело ответил:
— Все равно тебе не рассердить меня. Да, ты прав, я прибыл сюда для дела…
Майор помолчал, как бы ожидая вопросов собеседника, но Петро решил ничем не выказывать своего любопытства. Видно, это понравилось Скачкову, ибо он мягко сказал:
— Ты, лейтенант, и сам не знаешь, какую кашу заварил…
Петро опять промолчал.
— Благодаря твоей тетради, — продолжал майор, — мы набрели на институт, который бьется над созданием секретного оружия.
— Правда?! — нарушил, наконец, свое молчание Петро.
— Теоретические расчеты этого Геллерта имеют большое военное значение. Вот почему Мор и явился в Бреслау — ему нужны были некоторые выводы Геллерта. Они значительно ускорили бы работу.
— Выходит, — обрадовался Кирилюк, — тетрадь заинтересовала и наших ученых?
— В какой-то мере. Мне кажется, что мы уже завершаем разработку этой проблемы. Но тетрадь Геллерта помогла нашим ученым хотя бы приблизительно определить, как обстоит дело с этим у врага… Кроме того, разузнав с твоей помощью о Море, нам удалось установить, где находится одна весьма секретная лаборатория, ну и… — выдержал паузу, — раздобыть еще кое-какие данные…
— А теперь, — догадался Петро, — используя мое знакомство с Мором, необходимо установить с ним контакт?
Скачков не ответил на вопрос.
— Расскажи об этом Море, — попросил. — Коротко. Основные черты.
— Он произвел на меня двойственное впечатление, — начал Петро. — Сразу понравился мне. Должно быть, и я пришелся ему по душе. Начали беседу, как давние приятели. Но потом он вдруг запрятался, резко переменился и, как черепаха, ушел в свою скорлупу. Может, я что-то неудачно сказал… Человек он умный, наблюдательный, увлекается живописью. Показался мне несколько безвольным — плывет по течению, но не очень симпатизирует гитлеровцам.
— Почему так думаешь?
— Он приезжал с эсэсовцем Амреном, начальником охраны.
— Ну?
— К Амрену Мор относится с презрением. И… побаивается его…
— Одно дело — его взаимоотношения с этим эсэсовцем, другое — отношение к фашизму вообще, — отметил майор. — Мор ведь выполняет их задание, создавая новое оружие. И то, что он искал тетрадь Геллерта, только подтверждает это.
— Я ничем не могу подтвердить свое мнение, но внутренний голос мне подсказывает… Интуиция…
— Интуиция — большое дело, — пробормотал Скачков, — а все же… Факты не сбросишь со счетов… Однако, — потер виски, — тебе придется установить контакт с Мором.
— Я вас понимаю, товарищ майор, — поднялся с дивана Кирилюк, — и выполню задание, какое бы оно ни было.
— Какое бы оно ни было? — иронически переспросил Скачков. — А не переоцениваешь ли ты свои силы?
— Я имел в виду, что приложу все силы.
— Так, пожалуй, вернее, дружище, — сказал Скачков, пригласив Петра снова присесть рядом. — Как выяснилось, Лотта Геллерт — близкая подруга Доры Лауэр, падчерицы группенфюрера СС Лауэра. Мор часто бывает в доме Лауэров…
— Через Лотту познакомиться с Дорой и войти в дом Лауэров? — Глаза у Петра загорелись.
— Сможешь?
— У меня с Лоттой наилучшие отношения. — Петро почувствовал, что краснеет. — Это душевная и умная женщина.
— И красивая, — сказал майор.
— Откуда вы знаете?
— Знаем.
— А-а…
— Вот что, — жестко произнес Скачков, — в нашей работе нет места сантиментам…
— Давайте условимся, товарищ майор, — вспыхнул Петро, — я сделаю все, что от меня зависит, когда будет необходимо — отдам жизнь, но…
— Не горячись, чудак! — Скачков крепко пожал руку Петру. — О тебе же забочусь…
— Понимаю, Борис Филиппович. — Петро впервые так назвал майора, и в этом обращении было признание в Скачкове старшего товарища, уважение к нему и даже близость, которой очень дорожат. — Скажите, кто такой этот Лауэр?
— Один из руководителей аппарата Кальтенбруннера.
— О-о!.. — поднял брови Петро.
— Фирма солидная, — согласился Скачков, — и опасная. Но именно это поможет тебе.
— Как?!
— И он еще спрашивает! — пожал плечами майор. — Документы же у тебя на этого Германа Шпехта липовые. С такими документами и в нескольких километрах от Мора находиться опасно. Единственная надежда — знакомство с Лауэром. Это настоящий громоотвод…
Скачков поднялся, вздохнул.
— Вот что, лейтенант, — вдруг перешел на официальный тон. — Вы должны все взвесить и лишь после этого дать нам ответ. Дело с секретным оружием очень серьезное. Буду откровенен: задание крайне опасное… При других обстоятельствах мы никогда не пошли бы на это, но сейчас вынуждены использовать каждым шанс. Если гестапо заинтересуется Германом Шпехтом и запросит его личное дело, нас моментально разоблачат. Единственная надежда, что человека, принятого в доме Лауэра, не станут проверять. Но… Короче, вы начинаете опасную игру, в которой все преимущества на стороне противника…
— Я согласен, — не колеблясь, сказал Кирилюк.
— У вас есть время подумать.
— Зачем же? Вы открыли все карты; если бы у меня было вдвое меньше шансов, я ответил бы точно так же.
— Я сразу же понял, что вы согласитесь… — И вдруг: — Как вы сказали — внутренний голос?..
— Но ведь вы учили меня доверять только фактам…
— У тебя хорошая память! — снова перешел на, “ты” Скачков.
— Она необходима разведчику.
— Ну не будем терять времени. Нас интересует все, что имеет отношение к лаборатории Мора. Где она находится, объем и направление работ, система охраны, промышленная база. Особенно важны координаты предприятий… Все, даже любые мелочи — иногда и они дают ключ к решению важных вопросов. Очень важно добыть оригиналы или копии научной документации лаборатории, работ отдельных ученых, схем, формул, хотя, — вздохнул, — это почти невозможно.
— А случай с тетрадью Геллерта…
— Такие случаи почти не повторяются. Почти… Думаю, тебе надо под каким-нибудь предлогом вытащить Лотту в Берлин.
— И я думаю, что это единственно правильный ход. Без Лотты, пожалуй, ничего не выйдет — ни знакомство с Лауэрами, ни встречи с Мором.
— Жаль, что они знают тебя как Германа Шпехта, — досадливо поморщился майор. — Мы могли бы снабдить тебя такими документами!.. — Несколько секунд помолчал, обдумывая что-то. — Пятнадцатого марта, в три часа дня по берлинскому времени будешь ждать меня на углу Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе. Если не явлюсь до четырех, придешь в это же время шестнадцатого и семнадцатого. Если меня не будет и в эти дни, считай, что ты счастливее меня, и действуй по собственному разумению…
— К чему же такой пессимизм?
— Я вовсе не собираюсь попадать в гестапо. Но мы обязаны быть готовы к худшему. — Скачков, придвинувшись вплотную к Петру, заглянул ему в глаза. — Ты все понял?..
Глава четвертая В Берлине
В Бреслау Петро пробыл двое суток — ровно столько, сколько понадобилось Гансу Кремеру, чтобы уладить все финансовые дела с фирмой Германа Шпехта. Лотта, узнав о предстоящей поездке Германа в столицу, решила побывать в своем берлинском домике и повидаться, наконец, с Дорой Лауэр. Старик было насупился — опять лишние траты, — но потом быстро согласился: разве он враг своей дочери? Ведь Герман Шпехт не какой-нибудь там физик или военный, а солидный коммерсант. Коммерцию же ювелир считал движущей силой прогресса и людей, которые достигли на ее тернистом пути успехов, ставил выше всех.
Петро даже не надеялся, что все так быстро уладится. Он думал, что придется искать различные предлоги, долго уговаривать Лотту немного повеселиться в столице, а дело вот как обернулось! Что ж, начало неплохое! И Петро с удовольствием помогал Лотте в ее приготовлениях к поездке. Только теперь он окончательно понял, что означают для женщины сборы в дорогу. Лотта упаковывала свой чемодан полдня, открывала все шкафы, просматривая платья, костюмы и обувь. Перебирая наряды, она затеяла с Петром веселую игру, которая одинаково нравилась обоим. Лотта надевала платье и демонстрировала его, а Петро должен был вынести окончательный приговор — оставаться платью в шкафу или занять место в одном из ее больших дорожных чемоданов.
Они уже просмотрели большую часть гардероба: наконец, наступила очередь ее любимого платья, сшитого из какого-то блестящего, дорогого материала. Платье красиво облегало стройную фигуру Лотты — оно было без рукавов, и нежные белые руки с ямочками около локтей выгодно выделялись на темном фоне.
Даже не глядя на Петра, Лотта почувствовала, что он любуется ею. Подняла на него глаза — и вдруг, смутившись, убежала к себе. Она сбросила платье и осталась перед зеркалом в одной прозрачной рубашке, сама удивляясь пленительной красоте своего тела, готовая многим пожертвовать ради ласки Германа.
А Петро проклинал себя за то, что ему нравится эта женщина. Давал себе торжественнейшие обещания не увлекаться ею, но не был уверен, что сдержит их. Одно лишь знал твердо: ничто не помешает ему сделать то, ради чего ехал в Берлин.
Лотта и Петро выехали ночным поездом, а утром уже были в столице.
По-весеннему припекало солнце, звонкая капель радовала слух. Солнце отражалось в лужах и окнах; даже на длинном стволе зенитного орудия, стоявшего в привокзальном сквере, играли солнечные зайчики. Эта игра света и теней скрашивала уродство города, где все говорило о войне — разбомбленный дом напротив вокзала, длинная очередь у магазина…
Петро бросился было искать такси, но Лотта остановила его — их встречал роскошный черный “мерседес”.
— Это Дора позаботилась о нас, — объяснила спутница такую роскошь. — Ее отчим занимает высокий пост.
Машина быстро доставила их в Шенеберг, к дому Лотты. Построенный еще в начале столетия, он отличался от современной виллы Кремера в Бреслау. Стрельчатые окна, многочисленные и неудобные выступы и уголки, маленькие балкончики на втором этаже — все это украшало дом, но не создавало удобств для его обитателей.
Первый этаж занимали квартиранты из разрушенных бомбардировкой домов. Одну из двух комнат второго этажа Лотта предложила Петру. Он попробовал отказаться, боясь, что это может скомпрометировать Лотту.
— Я не боюсь за свою репутацию, — рассмеялась Лотта. — Но, может быть, вы опасаетесь скомпрометировать свое доброе имя?..
Петру отвели длинную темноватую комнату. Устраиваясь, он думал о Море, прикидывая, как получше намекнуть Лотте, чтоб она устроила встречу с Робертом.
В последнее время у Мора редко бывало хорошее настроение. Раньше, когда он занимался лишь теоретическими расчетами, разрушительное свойство адского оружия представлялось ему чем-то далеким и нереальным. Убедившись после поездки в Норвегию, что работы продвигаются значительно быстрее, чем он думал, и сознавая, что в недалеком будущем атомное оружие станет реальным фактом, Мор впал в черную меланхолию. Ему лучше других было известно, чем угрожает новая бомба человечеству, и он проклинал себя за то, что приложил руку к ее созданию, — он, который считал себя гуманистом и поклонником прекрасного!..
Да, было отчего прийти в отчаяние…
Стремясь забыться, Мор ринулся в музейные дебри, ежедневно открывая для себя что-то интересное. На многое он уже смотрел иначе, чем раньше. Переходя из зала в зал и простаивая иногда перед какой-нибудь поразившей его картиной целыми часами, Мор с удивлением обнаруживал в ней то, что прежде оставалось незамеченным искусствоведами и им самим. В такие минуты он забывал и о кошмарах, мучивших его по ночам, и о формулах, и о страшном чувстве вины перед людьми. Но действительность напоминала ему о себе наглой мордой агента гестапо, который заглядывал в зал, чтобы убедиться, торчит ли еще его поднадзорный перед этой мазней, на которую он, агент, и плюнуть бы не пожелал.
Дело в том, что Мор, как человек, непосредственно участвовавший в создании нового оружия, не имел права свободно передвигаться по городу. Но он сумел убедить свое начальство, что лучший способ восстановить трудоспособность и преодолеть наступивший творческий застой как раз и состоит в том, чтобы переключиться в совершенно другую область духовной жизни. Начальство уже привыкло к его причудам, и для Роберта было сделано исключение. Конечно, если бы его можно было заменить другим сотрудником, с ним бы не церемонились, но сейчас приходилось идти на уступки. Мору разрешили “свободный” образ жизни, предупредив, однако, что без предварительного разрешения он не имеет права ни с кем встречаться. Не очень полагаясь на соблюдение Мором этого условия, к нему приставили опытных агентов-охранников, которые следили за каждым его шагом. Мор уже привык к их присутствию и старался не обращать на это внимания.
Сегодня агент был почти деликатный: он не следовал за Мором по пятам, как это делали другие, дыша ему прямо в затылок. Агент отсиживался в соседнем зале, лишь иногда заглядывая к Мору. Впрочем, ему особенно беспокоиться не приходилось — музей пустовал, один лишь Мор сидел перед рисунками Даниэля Ходовецкого.
Этот художник все больше интересовал Мора. Привлекали небольшие по размеру картины Ходовецкого. его иллюстрации к произведениям Лессинга и Гёте, в особенности серия “Поездка в Дрезден”. Мор считал, что эта серия является наилучшим пособием для изучения истории Германии восемнадцатого столетия. Да, думал он, Ходовецкий лучше других немецких художников сумел заглянуть в душу человека, уловить наиболее характерные черты бюргерства!
Этот поляк сказал новое слово в немецкой живописи и стал более национальным художником, чем сотня жалких подмастерьев-немцев, которые возвеличивали деяния баварских, саксонских, прусских и многих других королей и курфюрстов. Сколько в его произведениях мягкого юмора и лиризма, любви к людям! А какая утонченность, способность одним–двумя штрихами подчеркнуть главные черты характера!
Мор уже около часа любовался работами Ходовецкого. Агент, видно, заскучал, ибо все чаще стал заглядывать в зал. Неожиданно Мору захотелось порезвиться. Когда настороженная физиономия агента вновь возникла в дверях, он поманил его пальцем. Тот сделал удивленный вид, но все же подошел.
— Садитесь, мой друг. — Мор придвинул ему стул. — Вы несколько раз заглядывали сюда, и мне показалось, что ждете, когда я уйду, чтобы наедине полюбоваться этими маленькими шедеврами. Не так ли?
Агент усмехнулся и кивнул.
— А посему я не буду вам мешать! — воскликнул Мор. — Я вижу, вы тонкий ценитель живописи, и мне хотелось бы услышать ваши соображения по поводу картинок этого, — подчеркнул, — поляка.
Услышав последнее слово, агент втянул ноздрями воздух, как хищник, почуявший добычу.
— Поляка? — спросил. — Какого поляка?!.
— Я имею в виду, многоуважаемый коллега, поляка Ходовецкого, чьи произведения украшают стены немецкого национального музея, — откровенно издевался Мор. — И хотел бы слышать ваше мнение о нем.
— Если поляк попал в немецкий музей, — авторитетно сказал агент, — значит, он прошел расовую комиссию!
— Вы думаете? Разве в те времена существовали расовые комиссии?
— Тут и думать нечего. — Агент почувствовал свое превосходство над этим паршивым интеллигентом, — Без расовой комиссии какому-то поляку и носа не позволили бы сунуть в музей. А что касается времени, то вы мне не говорите. Наилучшее время для Германии настало теперь; и каждый, кто смеет это оспаривать, — наш враг. Если же раньше не было расовых комиссий, то это шло лишь во вред немецкой нации. Потому и развелось у нас когда-то столько разных евреев, поляков и прочей погани…
— Глубокая мысль! — иронически усмехнулся Мор. — Но ведь вы ничего не сказали об офортах Ходовецкого. О его сатирических и морализующих тенденциях. Посмотрите внимательно на эту сценку. Не кажется ли вам, что художник противопоставляет здесь простоту и естественность бюргерства распущенности дворянства и военщины?
— Неужели? — удивился агент. — Тогда эта картина подлежит изъятию и уничтожению, а поляка следует отправить в концлагерь. Там ему быстро покажут, в чем заключается настоящий дух немецкой нации!
— Значит, концлагерь? — притворно вздохнул Мор. — Но есть одна причина, которая не позволит прибегнуть к этому верному средству…
— Никаких причин! — воскликнул агент. — Этого проклятого поляка ничто не спасет!
— Но ведь он умер около полутораста лет тому назад… — сказал Мор и увидел, как вытянулось лицо агента.
Что-то проворчав, гестаповец удалился в соседний зал.
Мор еще долго сидел, изучая прекрасные офорты. Беседа с агентом не развлекла, а опечалила его. Действительно, если бы Ходовецкий жил сейчас, не миновать бы ему концлагеря. Этот грязный тип прав — наци давно бы уже уничтожили художника Даниэля Ходовецкого, который стал национальной гордостью немецкого народа, послали бы на расовую комиссию!.. Большего издевательства не придумать!
Задыхаясь от гнева, Мор выскочил из музея, он не шел, а бежал по улице, не обращая внимания на прохожих и окончательно замучив агента.
Да, нацисты уничтожили бы Даниэля Ходовецкого! Как уничтожили книги выдающихся писателей, картины великих художников — все, что противоречило их идеям. Они одурманили не только туповатого немецкого бюргера, но и лучшие головы страны, они запугали интеллигенцию, заставив ее работать на себя. И один из примеров — сам Роберт Мор. Гуманист по своим убеждениям, он покорно служит гитлеровцам и, желает он того или нет, помогает им утвердиться и господствовать, совершать немыслимые преступления. Он, ценитель искусства, объективно содействует уничтожению лучших его образцов…
От этого можно сойти с ума!
Голод, наконец, заставил Мора остановиться. Вначале он не понял, куда попал, — вокруг небольшие домишки, много деревьев, газоны. Похоже, что прошел около десяти километров — ведь уже начинается предместье. Подумал: на трамвае за четверть часа можно доехать до Шарлоттенбурга и заглянуть к Доре; он не был у нее уже около недели.
Мора тянуло к Доре. Девушка понимала его с полуслова, с ней приятно поговорить. Между ними нет секретов. Правда, у Доры длинный язык, она любит щеголять своими свободными взглядами и порой высказывается настолько рискованно, что приходится оглядываться: хотя Дорин отчим и группенфюрер СС, за такие речи по головке не погладят…
Мор вошел в трамвай, агент вскочил в задний вагон. Трамвай был пустой. Роберт сел у окна, посматривая на жалкие домишки пригорода, на унылые лица редких прохожих. Настроение совсем испортилось. Возникла какая-то новая причина для беспокойства. Только что он знал эту причину, а сейчас вдруг забыл ее. Что же это было? Он стал мучительно напрягать свою память, ясно понимая, что не успокоится, покуда не выяснит, что же это такое. Наконец вспомнил! Вот-вот: “За такие речи по головке не погладят!” Именно так он думал, трусливо озираясь во время беседы с Дорой, хотя и разделял большинство высказанных ею мыслей. Выходит, он, считающий себя гуманистом и ученым, попросту жалкий трус.
Как ни странно, Мору почему-то стало легче, когда он понял, что мучило его. Не оттого ли, что правильно поставленный диагноз дает надежду на исцеление?
Ему хотелось излечиться от безволия, от позорной трусости. Однако хватит ли душевных сил? Привычка плыть по течению — плохая школа гражданского мужества.
Задумавшись, Мор едва не проехал нужную остановку. Взбежал на крыльцо большого особняка, стоявшего в тупике. Молоденькая горничная, впуская Роберта, сообщила:
— Фрейлейн Дора дома. У нее гости.
Агент облегченно вздохнул. Когда этот бешеный Мор заходит в особняк группенфюрера Лауэра, можно спокойно отдохнуть. Во-первых, он засиживается там допоздна, и не надо метаться за ним по городу; а во-вторых, начальство довольно, когда Мор бывает у группенфюрера Лауэра — здесь не может быть никаких беспокойств.
Дора принимала в большой, светлой гостиной Лотту и Петра. Увидев Мора, Лотта приветливо улыбнулась ему. Они были друзьями. Роберту всегда нравилась жена покойного друга — веселая, женственная, неглупая. Он был рад встрече с ней и с Дорой, но при виде Шпехта помрачнел. Петру даже показалось, будто Мор испугался его. Резкая перемена в настроении Мора бросилась Лотте в глаза, и она удивленно спросила:
— Вы разве не узнали нашего друга Германа Шпехта? Мы приехали сегодня вместе из Бреслау. Надеемся не скучать в вашем обществе.
— Гм… — неопределенно хмыкнул Роберт.
Он бросил на Петра взгляд, в котором сквозили настороженность и страх. Впрочем, может быть, Кирилюку это только показалось, ибо, поздоровавшись с дамами, Мор крепко пожал протянутую ему гостем руку и сказал:
— Откровенно говоря, я не рассчитывал вас здесь встретить. Но воистину лишь гора с горой не сходятся…
— Вы, кажется, чем-то недовольны? — перебила его Дора — худая, неуклюжая девушка с энергичными глазами и высоким лбом.
— Просто я голоден, как бездомный пес, — ответил Мор. — И если вы сумеете хоть немного накормить меня…
— В этом доме кое-что найдется. Правда, матери и отчима уже две недели нет, но… — Дора позвала прислугу — Как у нас с обедом? Готов? Вот видите, Роберт, все совершается по мановению волшебной палочки.
— Если бы все были такими волшебницами, как вы, Дора, — улыбнулся Мор, — то на свете жилось бы значительно легче.
— Вы типичный подхалим, — погрозила девушка Мору, — и вас следует наказать. Но ради Лотты…
— Амнистия? — поднял руки Мор.
— До первого проступка, — предупредила девушка.
Во время обеда Петро несколько раз ловил на себе испытующий взгляд Мора. Сделав вид, что только сейчас вспомнил что-то важное, он небрежно бросил Роберту:
— А я выполнил свое обещание, господин Мор.
— Какое? — встрепенулся тот.
— Насчет пополнения вашей коллекции.
— Неужели? — непроизвольно обрадовался Роберт, но тут же, что называется, осадил себя и совершенно равнодушным тоном спросил: — Что-нибудь интересное?
— Вы же просили славян. Вещи уникальные!..
— Что именно?
— Сами увидите! — деланное равнодушие Мора не обмануло Петра. Он понимал, что на самом деле его сообщение чрезвычайно заинтересовало Роберта, и решил несколько поинтриговать его.
— О! — воскликнул Роберт. — Сегодня уже имел случай говорить об искусстве, и меня теперь трудно удивить…
— Расскажите! — попросила Лотта. Ее обеспокоило странное поведение Мора, и она решила занять общество какой-нибудь оживленной беседой.
Роберт рассказал о своем разговоре с гестаповцем. Лотта весело смеялась, а Дора сердито сдвинула брови и с омерзением бросила:
— Гадость!
Один Петро промолчал. Роберту это явно не понравилось. Отложив вилку, он спросил:
— А вы почему отмалчиваетесь, господин Шпехт? Неужели вас это вообще не интересует?
“Э-э, тебе меня не поймать!” — внутренне усмехнулся Петро и начал долго и скучно говорить об искусстве вообще и его значении в подъеме общей культуры народа.
— Все вокруг да около, — раздраженно пробормотал Мор.
Но это как раз и устраивало Петра. Он ответил с предельной наивностью:
— Но ведь по этому поводу существует официальная точка зрения, и сам доктор Геббельс утверждает…
Лицо Роберта перекосилось, словно от зубной боли.
— Мы все очень хорошо знаем официальные мнения. Но иногда хочется услышать что-то оригинальное.
— К сожалению, за оригинальность частенько приходится сурово расплачиваться, — предостерегающе заметила Лотта.
— В этой комнате оригинальные, — Дора сделала ударение на этом слове, — мысли не преследуются. Друг Лотты может положиться на нашу откровенность, как полагаемся и мы на его.
— Ой, как тяжело жить сейчас в нашей стране!.. — вздохнул Петро. — И вы сами это хорошо понимаете…
— Справедливые слова! — воскликнула Дора. — Я подписываюсь под ними обеими руками. Да, из этой страны надо бежать. Но куда? — И Дора принялась разглагольствовать о необходимости бегства от мира — пускай кругом будут войны, революции, для настоящего человека все это не имеет никакого значения.
Как ни раздражала эта претенциозная болтовня хозяйки, Петро вовсе не намерен был вступать в полемику с ней. Однако он был приятно удивлен, когда вдруг в спор вступил Мор.
Они уже пообедали и отдыхали в гостиной. Мор ходил по комнате и, глядя себе под ноги, возбужденно говорил:
— Вы призываете отсиживаться в своих квартирах и не высовывать носа на свежий воздух. Да, да, в этом квинтэссенция ваших взглядов, Дора, никуда от этого не уйдешь. Но замечали ли вы как отличаются комнатные растения от тех, которые развиваются в естественных условиях? Они низкорослые и чахлые, но попробуйте пересадить их на настоящую почву — и они быстро наберут силы. Вместо этого вы вкупе со многими из тех, кто причисляет себя к духовной элите, проповедуете идею о крепких замках в дверях. Разве вы не понимаете, что это грозит утратой всех завоеваний цивилизации, открывает путь для пробуждения самых низких инстинктов и жестокости? Разрушительные силы победили бы — и все полетело бы вверх тормашками!
— Но ведь вы нарисовали картину, близкую к реальной! — воскликнула Лотта.
Оставив реплику Лотты без возражения, Мор продолжал:
— И все это стало возможным потому, что я и вы согласились с существующим порядком, спрятали голову под крыло, как страус. Спохватились, а уже поздно… Храбрейшие либо погибли, либо погибают в полосатых халатах за колючей проволокой, а мы стали послушной скотинкой, проповедуем покорность и прячемся за дверями с замками новейшей конструкции…
— Что же вы предлагаете? — спросила Дора.
— Я не врач и не собираюсь выписывать рецепты, — проворчал Мор. — Не надо задавать такие вопросы человеку, который сам себе бессилен помочь…
— И все же выход должен быть, — осторожно произнес Петро.
Мор посмотрел так, словно впервые увидел его.
— Конечно, конечно, — согласился, — только все это не для меня… — Он как-то сразу скис, быстро распрощался и исчез.
С уходом Мора разговор оборвался. Петро вспоминал испытующие взгляды Роберта, его встревоженность, которая так не вязалась с последующим поведением, таким неосторожным, даже вызывающим.
Лотта поднялась.
— Завтра мы будем целый день вместе, моя дорогая, — поцеловала Дору в щеку.
Отправились пешком. Под вечер немного приморозило, но все равно в воздухе чувствовалось дыхание весны. Шли молча. Лотта почувствовала: мысли Германа где-то далеко… Осторожно взяла его под руку. Петро крепко сжал ее пальцы, словно боялся потерять, и Лотта пожалела, когда навстречу вдруг выскочило такси. Уже возле дома Петро потер лоб и спросил:
— Я не кажусь сегодня слишком мрачным?
Лотта засмеялась и покачала головой.
Мор явился к Доре в полдень. Петро опередил его и успел развесить картины так, чтобы на них падал рассеянный свет. Роберт сразу оценил это. Он отступил на несколько шагов и долго стоял перед картинами.
— Матейко есть Матейко! — произнес он, наконец, и присел на стул перед картиной. — Я люблю его ранние произведения. Когда-то в Кракове я побывал в музее Матейко — и, скажу вам, такого баталиста поискать надо. Не холодный летописец, а исполненный страсти художник; невольно кажется, что он сам был участником запечатленных им событий. А этот этюд принадлежит к позднему периоду. Очень характерный для Матейко того времени. Бывают же такие метаморфозы — зрелый мастер уступает юноше. И все же, — вздохнул, — Матейко остается Матейко!..
— А мне больше нравится пейзаж, — вмешалась Лотта. — Посмотрите, сколько в нем воздуха и простора!
— Прекрасный пейзаж, — согласился Мор. — Я слышал о Васильковском, но вижу его картину впервые. Ее мог написать человек, знающий и любящий степь. Глядите… — вскочил он вдруг со стула и сделал шаг в сторону. — Если отсюда посмотреть, то видно, как марево повисло над степью. Зной, все притихло, и только жаворонок купается в вышине… Красота неповторимая… Где вы достали это чудо, Шпехт?
— У одного краковского спекулянта — монополиста по сбыту картин. Это лучшее, что он мог предложить.
— Я ездил в Краков еще перед войной. Хотел посмотреть на Вавель и знаменитый скульптурный алтарь Ствоша в Мариацком костеле. Между прочим, — обратился вдруг к Петру, — где вы живете в Кракове?
— Вблизи Вавеля, на улице Мицкевича, — без запинки ответил Петро. Он неплохо изучил Краков — прожил гам неделю перед поездкой в Берлин.
— Прекрасный район. Много зелени, эти величественные башни крепости…
— В Кракове я никак не могу отрешиться от мысли, что попал в средневековье. Закрою глаза — и вижу рыцарей верхом на конях, яркие знамена… Прекрасный город! — Петру снова показалось, что Мор смотрит на него внимательным насмешливым взглядом. Впрочем, может быть, это всего лишь плод воображения, результат обостренной настороженности.
Роберт решил отметить приобретение новых картин и пригласил всех в ресторан.
— Только, — предупредил, — мне хотелось бы пригласить еще одного человека. Вы его знаете — штурмбаннфюрер Амрен. Он немного потворствует мне, а такое заслуживает поощрения.
— Это тот, который был с вами в Бреслау? — удивилась Лотта. — Он ведь типичный солдафон!
Петро не мог упустить случая встретиться со штурмбаннфюрером!
— Но ведь это нужно Мору, — сказал. — Да и я не прочь встретиться с Амреном.
— Пожалуйста, — легко согласилась Лотта, — мне все равно.
В ярко освещенном зале ресторана играла музыка, пели безголосые, но глубоко декольтированные девицы. За большинством столиков сидели военные; певицы им нравились, и они громко аплодировали. Много пили и громко разговаривали, смеялись и танцевали, спорили и хвастались своими подвигами.
Петро сел так, чтобы рядом осталось свободное место для Амрена. Тот вскоре появился, блистая новым мундиром.
— Вы сегодня сверкаете, как новая монета, господин штурмбаннфюрер, — подал ему руку Петро.
— Обер… — поправил Амрен.
— Что — обер? — не понял Роберт.
— Оберштурмбаннфюрер, — не мог скрыть счастливой улыбки Амрен. — Вчера получен приказ.
— Поздравляю!
Петро начал разливать коньяк.
— Выпьем за успех еще одного оберштурмбаннфюрера! — провозгласил Роберт.
Слова “еще одного” звучали явно иронически, но Амрен, купавшийся в лучах славы, ничего не замечал. Он снисходительно похлопал Петра по спине, спросил о его успехах и, не дожидаясь ответа, почтительно наклонился к Доре — с падчерицей группенфюрера Лауэра следует быть особенно любезным.
— За что вам присвоили такое высокое звание? — спросила девушка; глаза у нее лукаво блеснули.
— За службу, — не моргнув глазом, ответил Амрен. — Конечно, за добросовестную службу.
— Когда же вы успели так отличиться? Может быть, подвиг?..
— А почему бы и нет?..
— Ах, как интересно! Расскажите, пожалуйста!
— Нельзя, это тайна.
— Подвиг не может быть тайной! — с пафосом провозгласила Дора, незаметно подмигнув остальным. — Он должен стать примером для всех!
Амрен налил себе коньяку.
— Порою подвиг внешне не отличишь от обыденных, будничных дел, — начал он, — но если посмотреть глубже, то именно эти будничные дела и являются основой, так сказать, корнем подвига… так сказать… — Запутавшись, Амрен потянулся за коньяком и залпом выпил его.
Петро пришел ему на помощь:
— Оберштурмбаннфюрер имеет в виду массовый характер героизма в нашей армии, господа. Он, должно быть, хочет сказать, что сама служба в нашей армии есть подвиг! — добавил он двусмысленно.
— Вот! — Амрен поднял палец. — Лучше не сказал бы даже сам доктор Геббельс.
Лотта не удержалась и прыснула, а Дора сделала вид, что разочарована:
— А я думала, что вы по крайней мере поймали шпиона…
— Что шпион! — пыжился Амрен. — Шпиона я за полкилометра чую.
— Неужели? — наивно спросила Дора. — И как же это вам удается?
— У оберштурмбаннфюрера превосходный нюх, — ехидно заметил Мор.
— Шутите… — благодушно усмехнулся Амрен. — Но доля правды в этом есть. Хороший контрразведчик чувствует вражеского агента. Интуиция, так сказать… Опыт, ум. Я сказал бы — талант.
— И всего этого, — поднял бокал Петро, — не занимать стать нашему оберштурмбаннфюреру. Пью за ваш новый мундир!
Мор с интересом наблюдал за Петром. Потом обратился к Амрену:
— Вижу, что вы рады встрече со Шпехтом? В Бреслау, кажется, вы нашли с ним общий язык…
Петро почувствовал в этих словах какой-то неясный намек. Поднял глаза на Мора, выдержал его долгий взгляд.
— Шпехт — замечательный парень! — воскликнул Амрен. — Мы, как настоящие фронтовики, понимаем друг друга с полуслова.
— Вы были на фронте, господин оберштурмбаннфюрер? — удивилась Дора. — А я и не знала.
— На Восточном! — с гордостью подтвердил Амрен. — И не один коммунист пал от этой руки!
Он поднял вверх кулак.
“Сволочь! — подумал Петро, вспомнив, как Амрен стрелял в пленных. — Сволочь и палач!” Глаза у него побелели от гнева, губа нервно передернулась. Но в эту минуту он услышал голос Мора:
— Я также доволен, что встретился с вами, Герман!
Петро уже овладел собою. Мор впервые назвал его по имени. Что это — тонкий психологический ход или дружеская помощь?
— Вы не танцуете, Герман? — спросил Мор. — В таком случая позволю себе пригласить вашу даму.
Перед Дорой вытянулся молодой лейтенант, сидевший за соседним столом. Петро и оберштурмбаннфюрер остались одни.
— Наконец мы сможем спокойно выпить, — облегченно вздохнул Петро.
— Люблю женщин без претензий, — подмигнул ему Амрен.
— Меньше хлопот, — поддакнул Петро…
Оберштурмбаннфюрер пил, почти не закусывая, но пьянел медленно. Лишь глаза покраснели да откровеннее начал ухаживать за Лоттой.
— У вас серьезный соперник, Герман! — предупредила Дора.
От вина она разрумянилась, глаза блестели, и Петро подумал: девушка не так уж и некрасива, как ему поначалу казалось.
— Я не боюсь соперников, — ответил он.
Лотта поблагодарила его едва заметным движением руки, а оберштурмбаннфюрер погрозил пальцем.
— Кабы ты не был моим другом, — сказал с пьяной откровенностью, — отбил бы я у тебя фрау Геллерт.
— Но ведь ты мой друг!
Мор с любопытством наблюдал за ними.
— Как быстро сходятся люди, — то ли насмешливо, то ли с завистью промолвил он. — И становятся друзьями…
— Не все такие нелюдимы, как вы, — упрекнула его Дора. — И не ждут, пока девушка пригласит их танцевать.
Вечер прошел быстро. Петро даже удивился, узнав, что уже первый час. Амрен развозил их в своей машине. Прощаясь с Петром, напомнил:
— Мы скоро встретимся. Я позвоню.
— У вас уже общие дела? — удивился Мор.
— А почему бы нет? — отрезал Амрен. Мор пожал плечами и ничего не ответил.
…Проходили дни, а Петру никак не удавалось установить дружеских отношений с Мором, хотя встречались они чуть ли не ежедневно. Осторожно, чтобы не показаться назойливым, прощупывал он Роберта. Мор бывал разговорчивым, смеялся, даже позволял себе рискованные высказывания, но когда Петро касался вопросов, связанных с его работой, умолкал или отделывался шуткой.
“Умный мужик, ничего из него не вытянешь”, — думал Петро, но не отступал, рассчитывая на какое-нибудь случайно оброненное ученым слово. Он по опыту знал, как неожиданно порой попадает в руки то, за чем тщетно охотишься целыми неделями. Не забывал он и про Амрена. Они еще раз встретились в ресторане, и эсэсовец познакомил его там с молодыми, красивыми девушками. Намечалась встреча в более интимной обстановке, но оберштурмбаннфюрер позвонил и сообщил, что на несколько дней выезжает из Берлина.
Пятнадцатого марта, в день, назначенный майором Скачковым, ровно в три часа пополудни Петро уже был в центре города. По широкой Унтер-ден-Линден проносились автомобили, мальчуган-газетчик охрипшим голосом выкрикивал последние новости. На углу Фридрихштрассе Петро увидел блиставшую золотом вывеску фешенебельного ресторана. Зеркальные витрины защищены мешками с песком и крест-накрест заклеены бумажными лентами. Одной буквы на вывеске не хватало. На противоположной стороне еще дымились свежие руины — вероятно, бомба угодила в здание во время вчерашнего налета. Пожарники разбирали еще не успевший остыть кирпич, отыскивая в руинах ход в подвалы. Люди шли мимо, не обращая внимания ни на пожарников, ни на пожилую женщину, которая плакала, сидя на куче какого-то тряпья… У каждого сейчас свои заботы, и, может быть, завтра придется самому плакать…
Петро сделал вид, что заинтересовался работой пожарников, даже отбросил в сторону обгорелый кирпич. До чего же медленно тянется время, когда ждешь! Постоял у входа в ресторан, как бы раздумывая — зайти или нет, но решил, что лучше стать в очередь за такси: их теперь приходится долго ждать. Он притворялся, что в нетерпении высматривает такси, а на самом деле внимательно следил за прохожими.
Вон мелькнула фигура в темном пальто — кажется, он. Петро сделал было шаг навстречу, но тут же вернулся на место — обознался. Достал из кармана газету. Снова пишут о сокращении линии фронта — кому не ясно, чем вызвано это сокращение. Закурил, поглядел на часы — пять минут пятого. Неужели майор опоздал? Но Скачков не появился и через полчаса. Напрасно Петро ждал его, как было условлено, и в последующие два дня…
На третий день Петро ждал майора чуть ли не до шести часов вечера. Зашел в ресторан, посидел над кружкой пива, следя в окно за улицей, потом вышел, слонялся по перекрестку. Знал: майора не будет, но не мог примириться с этим… Перед глазами стоял маленький человек с мясистым носом и светлыми добрыми глазами, а в ушах звучали слова, сказанные как бы шутя: “Если не явлюсь, считай, что ты счастливее меня…”
Но почему счастливее? Потому, что он еще ходит, засунув руки в карманы, по Унтер-ден-Линден и имеет возможность заказать в ресторане кружку пива? А тем временем гестаповцы, быть может, уже напали на его след, но не торопятся схватить, надеясь, что удастся выследить сообщников.
От этой мысли Кирилюка пробрала дрожь. Но он и в самом деле замерз — с трудом шевелил пальцами в легких ботинках. Надо уходить, довольно мозолить глаза.
И Петро решительно повернул в сторону Шарлоттенбурга.
Настал апрель, на деревьях набухли почки. Лотта получила письмо от отца — он торопил ее обратно в Бреслау.
Однако Лотта и слышать не хотела про разлуку со Шпехтом.
Петро нервничал. Он тяжело переживал провал майора Скачкова. Угнетало и то, что до сих пор ни на шаг не продвинулся вперед.
— Где Амрен? — спросил он как-то Мора.
Они сидели в гостиной, курили и лениво перебрасывались словами. К Доре пришла портниха, и женщины оставили их наедине.
Роберт пустил кольцо дыма, проткнул его сигаретой и сказал:
— А вы знаете, за один такой вопрос можно поплатиться головой.
— Что вы имеете в виду? — Петро все понял, но прикинулся простачком. — Чьей головой?
Мор подошел к окну.
— Во дворе сейчас пахнет весной. Давайте пройдемся по саду, — сказал он.
Они вышли в небольшой садик позади особняка. Роберт присел на скамейку рядом с Петром, поднял с земли веточку и, начав что-то чертить ею, сказал, не поднимая глаз:
— Вы мужественный человек, Шпехт, но это вам не поможет…
— Не люблю, когда говорят загадками, — проворчал Петро. — У вас сегодня настроение такое, что ли?
Мор сломал веточку, швырнул обломки на газон.
— У нас в Германии, — не обращая внимания на слова Петра, продолжал он, — и стены имеют уши. Я пригласил вас сюда преднамеренно, ибо разговор у нас будет не для чужих ушей. Между прочим, продолжать вас звать Шпехтом или вы откроете мне свое подлинное имя?
— Уж не спятили ли вы, Роберт?!
— На вашем месте я действовал бы точно так же. Но скажите, куда вы дели тетрадь покойного Геллерта?
Петро пожал плечами.
— Дора дала мне прочитать письмо Лотты, написанное сразу же после вашего отъезда из Бреслау. Итак, вы были единственным посторонним человеком, в руках которого побывали бумаги Геллерта. Стало быть, вы и забрали тетрадь.
— Почему же вы сразу не заявили в гестапо? — усмехнулся Петро.
— По двум причинам. Во-первых, у Лотты и ее отца возникли бы большие неприятности. Может быть, они не избежали бы даже концлагеря. Во-вторых, я был счастлив, что тетрадь не нашлась.
— Почему?! — вырвалось у Петра.
— Потому что я потерял интерес к своей работе. Больше того, я вообще с радостью прервал бы ее…
— Это ваше личное дело, — махнул рукой Петро. “Разговор что-то очень смахивает на провокацию, — подумал он. — Следует быть осторожным”.
— Не говорите… Вы много сейчас отдали бы за возможность узнать о работе нашей лаборатории. Но вы играете с огнем, и вам просто везет, что гестапо до сих пор не заинтересовалось вашей личностью. — Заметив протестующее движение Петра, он насупился. — Я — не гестапо и все же довольно легко установил, что в Кракове никакой Герман Шпехт не проживает. Для этого достаточно было запросить адресное бюро. Не говорю уже о мелочах, которые усилили мое подозрение. Возможно, я не обратил бы на них внимания, если бы не эта история с тетрадью. Возьмем, к примеру, такую “мелочь”. Как-то во время беседы с Дорой, в моем присутствии, вы привели слова Пушкина, — правда, не называя их автора. Но какой же немецкий коммерсант, даже образованный, знает Пушкина?! А ваши заигрывания с Амреном? Разве можно поверить, что общество этого негодяя может быть кому-либо приятно? Просто он вам нужен… — Мор потянулся к яблоне, отломил веточку. — Хватит? — спросил, подбрасывая ее на ладони.
Петро понял: играть в прятки больше нет смысла.
— Пожалуй, хватит. Вы, надо признаться, положили меня на обе лопатки. Но зачем вам все это нужно? — Мор непонимающе посмотрел на него. — Ну, эта игра?
— И вы до сих пор не догадываетесь?!.
— Я нужен вам, как и вы мне. Так?
— Почти так… Я не хочу вложить адское оружие в руки безумцев — они поднимут в воздух весь мир.
— Ваши условия? — быстро спросил Петро. — Если надо, мы переправим вас через линию фронта.
— Я немец, — с достоинством произнес Мор, — и не покину свою страну. Слушайте меня внимательно, Шпехт, или как там вас. Вы действуете безрассудно — Амрен не так уж прост, как кажется. В институт вам не проникнуть, если даже этого захочет оберштурмбаннфюрер, — у нас тщательнейшая система охраны, и от Амрена не все зависит. Кроме того, в Берлине не весь институт, а лишь филиал. Если бы вам и удалось здесь что-либо разузнать, вашим специалистам очень трудно будет установить главное — объем и состояние работ.
— Вы недооцениваете наших специалистов, — возразил Петро.
— Возможно. В конце концов дело не в этом. Я хочу вам сказать нечто более важное… Делаю это потому, что не хочу гибели миллионов мирных жителей, разрушения цивилизации… — Мор волновался, на лице у него выступили красные пятна; он все время облизывал сухие губы. — Вы запомните мои слова?
Петро наклонил голову. Волнение Мора передалось и ему. Слушал, отпечатывая в памяти каждое слово.
— Для создания нового оружия на базе энергии атома необходимы колоссальные запасы тяжелой воды. Завод по изготовлению этой воды расположен и фиордах Норвегии. — Мор назвал город. — От него на юг в скалах проложено трехкилометровое шоссе. Завод запрятан в пещере. Есть подходы с моря, гавань удобная, но, вероятно, заминирована. Все… Остальное довершат ваши военные…
— В каком состоянии работы по изготовлению оружия? — спросил Петро. — Есть ли у вас какие-нибудь чертежи, расчеты, схемы?
Мор покачал головой.
— Я не ударю палец о палец, господин Шпехт, чтобы помочь вам ускорить создание такого же оружия. Ведь у вас также работают над ним… Материалов этих у меня нет, да если бы и были, все равно я не дал бы их вам. Я немец — и этим сказано все.
— У немцев есть Тельман… — начал было Петро, но Мор оборвал его:
— Я не коммунист и вообще далек от политики. Просто не хочу жить с грязными руками… — Роберт поднялся и, не оборачиваясь, направился к крыльцу.
Петро остался сидеть на скамье, рассеянно сдирая кору с веточки, брошенной Мором. Непроизвольная детская улыбка блуждала по его губам. Потом двинулся за Мором. Из дверей выглянула Лотта.
— Вас к телефону, — позвала. — По-моему, ваш солдафон…
Действительно, звонил Амрен, Его бодрый бас гудел в трубке так, что Петро вынужден был держать ее на расстоянии. Оберштурмбаннфюрер сказал, что только сегодня вернулся в Берлин и желает встретиться. Лучше всего в девять, возле ресторана, потом — к девушкам…
Петро хотел было сослаться на головную боль, но передумал. “Черт с ним! — решил. — Посидим, а там пусть сам едет… И все — кончаем с Амреном!”
Дора ждала гостей, и Петро, сославшись на срочные дела, оставил у нее Лотту, а сам двинулся в центр. Он шел не торопясь, с наслаждением вдыхая свежий весенний воздух. Вдруг прозвучал сигнал воздушной тревоги. Передвигаться во время воздушного налета запрещалось. Петро свернул в тихую боковую улочку и, дожидаясь отбоя, присел на гранитную тумбу под высоким забором. Ничего не поделаешь — придется переждать.
Голубые сверкающие лезвия прожекторов полосовали небо. Застучали зенитки. Где-то на горизонте вспыхнуло красное зарево.
“Сбросили бомбы”, — понял Петро. Он впервые наблюдал налет авиации на вражеский город. Там, в темном небе, — свои! Это они бомбят звериное логово. Его охватила радость, захотелось выбежать на середину улицы, закричать, чтобы люди в темном небе услышали его и скинули часть своего смертоносного груза на завод, корпуса которого высятся неподалеку.
Казалось, люди на небе услышали его безмолвный призыв. Сверху донесся рокот моторов, и по небу забегали лучи прожекторов. Да, самолеты уже здесь! Петро вскочил с тумбы и устремил взор вверх. Ждал. Где-то поблизости раздался взрыв, и упругая волна воздуха прижала Петра к ограде. Новый яркий взрыв совсем близко, и Петро понял, что бомбят кварталы около Дориного дома. Бросился бежать назад: хотелось убедиться, что люди, которые отнеслись к нему с такой симпатией, избежали опасности. Бежал долго, пока не понял, наконец, что потерял ориентир. Остановился и огляделся. Справа дымились корпуса завода, впереди догорали какие-то дома. Вдруг заметил знакомую вывеску пивной. Да ведь это та самая пивная, мимо которой он всегда проходил, приближаясь к дому Доры. Где же дом? Неужели?!. Не хотелось верить своим глазам, но этот изуродованный бетон — все, что осталось от дома… Горит яблоня, под которой он только что сидел с Мором. Но где же сама Дора?.. Где Лотта?.. Вокруг дома суетятся какие-то люди, подъехала пожарная машина.
— Не мешайте! — грубо оттолкнул его пожарник, разматывая шланг.
А Лотты нет. И уже никогда не будет?.. Зная и не веря в это, он бросился к пылающим руинам. Его не пустили. Может быть, она успела уехать домой?
Отбой тревоги. Сел в трамвай, который долго петлял по затемненным улицам. Тихо открыл дверь, на цыпочках поднялся по лестнице и, не включая света, вошел в комнату Лотты. Хозяйки не было. Возможно, Лотту задержала воздушная тревога, как и его. Петро подошел к окну — увидит, узнает ее еще издали…
Из-за угла выскочила машина. Лотта? Нет, какие-то черные фигуры бегом бросились к дому, забарабанили в дверь: “Откройте! Полиция!”
Он понял: это за ним… Перебежал в свою комнату, доставая на ходу пистолет. Осторожно открыл окно и увидел за оградой еще одну машину.
Значит, все…
Сейчас они будут здесь — уже хлопает дверь, ведущая на второй этаж. Снова выглянул в окно и вдруг вспомнил про нишу в стене, которая казалась ему раньше столь нелепой. Почти не размышляя, действуя совершенно автоматически, ступил на узкий карниз, тихонько прикрыл за собой окно и стал передвигаться по направлению к нише. Как он не сорвался?.. Вот, наконец, ниша! Прижался спиной к холодному кирпичу и замер.
В комнате включили свет. Кто-то резко распахнул окно, бросил в темноту:
— Никто здесь не появлялся?
— Все спокойно, — ответили за оградой.
— Должно быть, он остался там, — услышал Петро знакомый бас Амрена.
Мор был прав: Петро недооценивал своего противника… Ясно, что оберштурмбаннфюрер что-то заподозрил и сообщил о нем в гестапо. Оттуда запросили из Кракова личное дело Шпехта, а когда выяснилось, что такого дела в природе не существует, — все стало ясно. Амрену, вероятно, велели продолжать играть с ним в прятки. Никуда он, конечно, не ездил — просто выжидал, пока выяснят личность Шпехта. Да, Петро совершенно случайно избежал сегодня ловушки. Должно быть, они не хотели арестовывать его в доме группенфюрера — Лауэр никогда бы не простил этого…
Амрен подошел к окну, высунулся — Петро увидел его лысеющую голову.
— Здесь все пути отрезаны, — сказал. — Выходит, погиб вместе с теми.
— Это еще не выяснено, — возразили ему.
— Но ведь Шпехт ничего не подозревал. Мы условились встретиться в девять возле ресторана, и если бы не тревога…
— Это только предположение, оберштурмбаннфюрер! — перебил тот же голос. — А мы верим лишь фактам.
В комнате передвигали мебель — должно быть, делали обыск. Прошло четверть часа. Стукнули дверью, и кто-то громко стал докладывать:
— Жильцы дома видели, как утром этот Шпехт и фрау Геллерт выходили на улицу. Все категорически утверждают, что ни он, ни она не возвращались.
— Хорошо, Хенш. Вы вместе с шарфюрером Крльбом останетесь здесь. Шпехт может еще прийти. Понятно?..
Хенш недовольно проворчал что-то в ответ. Снова стукнули двери, и через несколько минут Герман увидел, как машина, не включая фар, отъехала от дома.
В комнате погасили свет. Послышался голос шарфюрера Кольба:
— Надо было хватать его днем. Может быть, что-нибудь и вытянули бы из него. Но ему повезло: раз — и все кончено…
— Я тоже думаю, что его разнесло этой бомбой. Подумать только, почти прямое попадание!
— Как вы думаете, унтерштурмфюрер. Амрен выпутается из этой истории?
— В общем-то он оказался на высоте. Но на этой должности ему, видимо, не удержаться — обязан был обратить внимание на Шпехта еще в Бреслау.
Помолчали.
— Закрой окно, Кольб, — приказал один из говоривших, — холодно.
Его собеседник еще раз внимательно осмотрел двор и после этого выполнил приказ.
У Петра отлегло от сердца. Ведь стоило фашисту повернуть голову направо — и все… Шевельнулся, переступая с ноги на ногу. Что же предпринять? Не прошло и часа, а он уже с трудом стоит. Долго гак не удержишься. Попытаться спрыгнуть? Рискованно — высоко, да и могут услышать те…
Протянул руку вправо — водосточная труба. Как будто держится хорошо, но как спуститься по ней без шума? Вот если бы прогрохотала мимо грузовая машина, тогда, пожалуй, можно было бы рискнуть. Стоял, чувствуя, как постепенно холод сковывает все тело. Чтобы хоть сколько-нибудь согреться, переступал с ноги на ногу.
К счастью, вблизи загудел мотор грузовика. Петро схватился за водосточную трубу и повис на ней непослушным, отяжелевшим телом. Труба выдержала. Не чувствуя окоченевших пальцев, он осторожно спустился на землю, согнувшись, проскользнул под окнами первого этажа и перелез через ограду. На улице никого. Держась в тени, подобрался к углу, свернул и бросился бежать, но потом силой воли заставил себя перейти на нормальный шаг. Да и чего он боится: ведь Герман Шпехт погиб от фугасной бомбы…
Достал из потайного кармана документы Карла Кремера, а бумаги Шпехта разорвал на мелкие кусочки и спустил в канализацию. Нет ни Шпехта, ни Лотты, ни ее некрасивой подруги, ни Мора…
Две недели Богдана не вызывали к следователю, и юноша немного пришел в себя. Хотя кормили очень плохо, он чувствовал, как постепенно возвращаются к нему силы.
Тогда, в первый день допроса, на него сразу набросились трое эсэсовцев. Он долго сопротивлялся, причем одного хватил так, что тот перелетел через всю комнату.
Эсэсовцы, вооружившись металлическими прутьями, загнали Богдана в угол. Кому-то из них удалось нанести сильный удар Богдану по голове, и он потерял сознание. Озверевшие эсэсовцы били его, уже бесчувственного, топтали своими тяжелыми сапогами… Если бы Харнак не отогнал своих подручных от Богдана, те, наверное, замучили бы его до смерти.
Так начались трехмесячные, с короткими перерывами пытки Богдана. Потом его на две недели оставили в покое, а сегодня о нем снова вспомнили…
— Петренко! Встать!
Харнак стоял посреди кабинета и приветливо улыбался. Теперь Богдан знал настоящую цену его улыбкам и любезному обхождению. Не удивился бы, если бы услышал от Харнака: “Простите, но я вынужден сейчас вас повесить…”
Примерно в таком духе следователь и обратился к нему сейчас:
— Мне очень неприятно, что я побеспокоил вас, но захотелось, знаете, еще раз встретиться…
Богдан наблюдал за гестаповцем. Знал, что чем любезнее враг, тем подлее он будет себя вести. Но надо проявлять выдержку.
— Вы мужественный человек, Петренко, — продолжал гауптштурмфюрер, — и потому я хочу вам сообщить: с сегодняшнего дня наши встречи прекращаются. Вы выдержали испытание, теперь вам пора приготовиться в дальний путь — туда, откуда, как показал исторический опыт, никто не возвращался.
Харнак с любопытством заглянул в глаза Богдану.
“Вот для чего он вызвал меня!.. Посмотреть, не испугаюсь ли в последнюю минуту. Но погоди торжествовать!”
Ответил:
— Я знал, на что иду.
— Может быть, у вас есть какое-нибудь желание? — сделал последнюю попытку Харнак.
— Есть.
— Какое? — Гауптштурмфюрер даже весь потянулся к нему.
— Хотелось бы побриться, — усмехнулся Богдан.
Харнак скривился, точно уксуса глотнул. Он уже готов был разразиться бранью, но сдержался, понимая, что этим только расписался бы в собственном поражении.
— Ладно, — произнес сквозь зубы, — вас побреют.
Махнул рукой, и Богдана вывели.
Раньше, возвращаясь от следователя, поворачивали вправо. Но сейчас, когда Богдан по привычке хотел пойти прежней дорогой, конвоир толкнул его прикладом и повел на первый этаж. Там в конце коридора их ждал надзиратель.
— Прошу пожаловать пана подпольщика в отведенную ему резиденцию, — сказал тот издевательски. — Или, может, извините, пан пожелает лучшей?
Богдан и глазом не повел — пусть не думает, гнида, что на него кто-нибудь обращает внимание, — и переступил порог. Хлопнула железная дверь. Шаги солдата и надзирателя затихли в коридоре.
Одиночка! Значит, последние дни… И никого он больше не увидит, кроме этой бандеровской сволочи — надзирателя и палачей, которые поведут его на виселицу…
Богдан ощутил, как петля сдавила ему шею. Стало жутко. Лучше бы расстреляли. Выстрел — и конец…
Бедная Катруся, как она это переживет!..
Ходил по камере — четыре шага вперед, четыре назад — и вспоминал детство. Отца помнил плохо. Машинист-железнодорожник, он погиб во время крушения, когда Богдан был еще маленьким. Матери выплачивали небольшую пенсию; немного зарабатывала она и сама, будучи стенографисткой и секретарем у адвоката. Выбивалась из последних сил, чтобы дать детям образование.
Бедная мать! Ее больное сердце не выдержало — умерла так же тихо, как и прожила свою жизнь. Она всегда всего боялась: что потеряет работу, что заболеют дети, что молния ударит в дом, что сын сломает себе руку… Хорошо, что мать не дожила до этого дня. Как мучилась бы сейчас, сколько слез пролила бы…
В коридоре послышались шаги — надзиратель привел парикмахера. Сдержал-таки слово гауптттурмфюрер! Неожиданно Богдан понял его психологический расчет — напомнить, что ждет тебя. Но вам, герр следователь, не согнуть меня. Конечно, па сердце свинцом легла смертельная тоска, полные отчаяния мысли не выходят из головы… Да и страшна — это ведь ложь, что есть люди, которые совсем не боятся смерти. Но не узнать им о моей тоске и моем страхе!
Парикмахер брил его безопасной бритвой. Лезвие ныло тупое, больно царапало, и Богдан подумал, что, может быть, казнь окажется менее мучительной. “Юмор висельника”, — горько усмехнулся он; парикмахер вздрогнул и по привычке спросил:
— Не больно?
— Может, вы еще предложите пану большевику освежиться одеколоном? — насмешливо заметил надзиратель, который стоял на пороге. — Пан желает сиреневый или, извините, ему больше нравится запах роз?..
Богдан презрительно промолчал, и это окончательно вывело из себя надзирателя.
— Прошу прощения у пана, но нельзя ли узнать, сколько ему платили за подрывную деятельность?
— А мы не продаемся за тридцать сребреников, как ваши бандеровцы, — ответил Богдан, не глядя на противную харю надзирателя.
— Поговори у меня! — оскалился надзиратель. — Давно тебе морду не расписывали?..
Но больше уже не заговаривал. И снова мерил Богдан камеру — четыре шага туда, четыре сюда…
Лязгнул ключ в замке.
— Встать! — приказал надзиратель, — К стенке!
Богдан поднялся и стал лицом к стене. Послышался звон посуды, и дверь закрылась. Оглянулся — на грязном полу мисочка с баландой и маленький кусочек хлеба. Подавляя брезгливость, юноша принялся есть. Может быть, это его последний обед…
“После вкусного обеда положен отдых!” — невесело пошутил про себя Богдан и повалился на топчан. Укладываясь поудобнее, он обо что-то больно оцарапал ногу.
— Вот холера! — выругался. — И тут не дадут спокойно отдохнуть!
Внезапно сел. С опаской глянул на дверь, не подсматривает ли эта бандеровская сволочь, и стал выяснять, обо что он поцарапался. Это был треснувший железный кронштейн. Богдан попытался по трещине отломить часть кронштейна, но только ободрал ногти.
Мысль о кронштейне лишила его покоя. Вот если бы удалось отломить кусок железяки, тогда… Он соскочил с топчана и в волнении заметался по камере.
Убедившись, что в глазок никто не смотрит, он снова вцепился пальцами в металл. Не поддалось. А если раскачать? Навалился всей тяжестью, кажется, немного сдвинулось. Забыв обо всем, качал вверх-вниз, вверх-вниз — даже вспотел. Вдруг железо поддалось, изрядный кусок его отогнулся. Еще несколько усилий — и у него в руках тяжелый железный прут. Даже не верилось.
Но к чему все эти усилия? Что даст ему этот стальной прут? Надзиратель осторожный, заходя в камеру, ставит его лицом к стене. И все же…
Вечером, когда надзиратель принес кружку мутной жидкости, выдаваемой за кофе, Богдан притворился, что сильно ослабел. Он едва поднялся с топчана, тяжело дыша и шаркая ногами, с трудом доплелся до стены и беспомощно припал к ней.
— Я слышал, — издевался надзиратель, — пан коммунист обладал когда-то большой силой. Может, простите, пан так испугался, что и ноги отнялись?
Богдан ничего не ответил. Всем своим видом он показывал, что ему не то что говорить — даже дышать трудно.
Богдан долго не мог заснуть. Все же появилась маленькая надежда. Заманить бы эту сволочь в камеру… Он огреет его так, что тот и не пискнет. Когда его вели, Богдан заметил в конце коридора дверь. Куда она ведет? Это первый этаж — может, посчастливится?.. Если же ничего не удастся, все равно сделает доброе дело — одним мерзавцем меньше станет.
Утром, когда явился надзиратель, Богдан едва поднялся и стонал.
— Ежели пан большевик прикажет, я могу смотаться в аптеку, — ехидно бросил на прощание надзиратель.
К еде Богдан даже не прикоснулся. Лежал, стараясь не двигаться, — топчан держался всего на одном кронштейне.
Когда надзиратель принес обед, Богдан уже не поднялся и только стонал:
— Воды!..
— Пан большевик обойдется без воды, — ответил тот, не заходя. — Человек он закаленный, как-нибудь переживет эту маленькую неприятность…
Богдан заметил, что надзиратель чаще стал приникать к глазку. Вечером снова попросил воды, но в ответ услышал лишь хохот. На другой день, чуть приоткрыв дверь, надзиратель просунул в камеру бачок, говоря:
— Ваш завтрак, простите, остыл. Может быть, немного подогреть?
— Воды!.. — простонал Богдан, но дверь захлопнулась.
— Хитрая лиса, — выругался Богдан и подумал: “Однако долго я так не выдержу!” От голода кру-жилась голова.
Богдан отлично слышал, как надзиратель подкрадывался к глазку, и каждый раз успевал войти в роль тяжело заболевшего и предельно ослабевшего человека. Он ничего не говорил, только стонал:
— Воды…
В полдень надзиратель просунул в щель приоткрытой двери миску с баландой и снова услышал стон:
— Воды…
Через несколько минут вторично скрипнула дверь, и надзиратель внес кружку с водой. Едва он наклонился, чтобы опустить ее на пол, как Богдан изо всех сил ударил его прутом по голове и навалился на обмякшее тело. Надзиратель был мертв. Сняв с него куртку, Богдан кое-как натянул ее на себя и выглянул в коридор. Там никого не было видно. Осторожно прикрыл за собой дверь. По коридору шел на цыпочках. Вот и дверь, которую он заприметил, когда его вели в камеру смертников. Куда она ведет? Эх, была не была! Схватился за ручку, дверь легко поддалась, в глаза ударило солнце…
Длинный двор. Высокий каменный забор с железными воротами. В глубине двора два надзирателя лениво подметают асфальт.
На лестнице послышались шаги. Богдан выскользнул во двор, схватил оставленную кем-то возле крыльца метлу и тоже начал мести, стараясь держаться спиной к надзирателям.
Медленно продвигался к воротам. А если они закрыты? Неужели нет другого выхода из этого каменного мешка? Внимательно осмотрел двор — справа какой-то проход между строениями, но путь туда лежит мимо надзирателей. И потом неизвестно, куда этот проход ведет.
За воротами резко и требовательно загудела сирена автомобиля.
Волоча за собой метлу, Богдан бросился к воротам, откинул тяжелый металлический засов и широко раскрыл их. Большой черный “оппель-адмирал” поблескивал никелем. Богдан посмотрел на машину — и вдруг почувствовал, какими тяжелыми стали ноги, — рядом с шофером сидел Харнак. Гауптштурмфюрер обернулся, разговаривая с офицером в черной форме, который развалился сзади. Стоило ему лишь взглянуть вперед…
Машина прошуршала по асфальту в нескольких сантиметрах от него. А за воротами — улица, ходят люди. Несколько шагов — и воля!..
Дрожали руки. Заставил себя выглянуть на ворота. Метрах в пятнадцати эсэсовец с автоматом. Стоит, широко расставив ноги.
Стараясь не смотреть на солдата, Богдан подмел около ворот, затем вышел на улицу и стал мести тротуар.
Р-раз-два, р-раз-два… Четыре взмаха метлой — и шаг вперед. Еще шаг… Эсэсовец тупо смотрит на него. Богдан приветливо улыбается ему. Р-раз-два, р-раз-два — шаг…
— Перейдите, пожалуйста, на чистое место, чтобы я вас не запылил, — коверкая немецкие слова, обратился Богдан к солдату.
Часовой послушно обошел его и стал ближе к воротам. И снова р-раз-два, р-раз-два… Сколько еще до переулка? Метров десять? Как же длинны эти метры, и как медленно тянутся секунды…
Сделав первый шаг за угол, Богдан почувствовал: сейчас упадет. Голова кружилась, в глазах потемнело, во рту привкус свинца. Облокотился на метлу и простоял какое-то мгновенье, преодолевая слабость.
Придя в себя, оглянулся. Никого! Приставил метлу к стене дома — и двинулся. Шел медленно, а все внутри так и подмывало что есть духу броситься бежать.
Стоял один из тех дней, когда, наконец, после долгих зимних холодов и переменчивой весенней погоды в воздухе впервые почувствовалось дыхание приближающегося лета. Солнце припекало так, что Заремба сбросил плащ и вытер обильно выступивший на лице пот. В старой, выгоревшей на солнце черной шляпе, в свитке из домотканого сукна и в тяжелых юфтевых сапогах он был похож на пожилого хозяина, дела у которого не очень хороши, но, чего бога гневить, не столь уж и плохи. Такие хозяева с утра до вечера вертятся, как муха в кипятке, а по ночам просыпаются, вспоминая, до чего днем руки не дошли. Эту постоянную озабоченность подчеркивала и густая черная щетина на щеках — хозяин, видно, недели две уже не брился, — ей-богу, даже бритву направить некогда.
Кони утомились на песчаной дороге, шли тяжело, фыркая и отмахиваясь от мух, которые тучей висели над ними. Проселочная дорога взбегала с пригорка на пригорок — и все лесом. Деревья подступали так близко, что то и дело приходилось кланяться, спасаясь от колючих ветвей.
На душе у Евгена Степановича было невесело. В такое время остаться без рации! Правда, никто в этом не виноват, просто несчастливое стечение обстоятельств, но дело же не в том, чтобы искать виноватого. Нужна рация — и все! Нужна больше чем воздух, и он должен ее достать, чего бы это ни стоило.
Вчера, когда он, наконец, отыскал отряд Дорошенко и попросил его немедленно связаться с Центром, командир виновато сказал:
— Ты прости нас, Евген, но дело такое… Нет рации.
— Как нет? — ужаснулся Заремба. — Ты понимаешь, что говоришь?
— Понимать-то понимаю… Но случилось такое дело….. — И рассказал, как в последнем бою, который они вели с ротой карателей, рядом с рацией разорвалась мина, начисто уничтожившая аппарат.
— Что же делать? — разволновался Заремба.
Он должен передать сообщение Кирилюка, не теряя ни минуты, а тут…
— Рацию надо достать! — сказал твердо.
Дорошенко развел руками.
Евген Степанович попросил горячего чаю. Сидел в землянке и, дуя на темную дымящуюся жидкость в алюминиевой кружке, думал. Перебирал разные варианты, отклоняя их один за другим, и снова принимался думать. Вдруг он поставил кружку и позвал Дорошенко. Они долго шептались и сошлись, наконец, на том, что лучше трудно и придумать.
Утром молодой партизан запряг лошадей в крестьянскую телегу, положил автомат, прикрыв его сверху сеном, и доложил командиру, что все готово. Заремба забрался на телегу, и парень погнал лошадей. Ехали лесными просеками, всячески избегая оживленных дорог.
Солнце уже стояло высоко, когда лес кончился и вдали показалось село. Несколько в стороне от него среди фруктовых деревьев высилась черепичная кровля дома приходского священника. Заремба приказал ехать туда, и скоро телега остановилась на чистеньком дворе. Жили тут хозяйственно: возле сарая ходили индюки, из хлева доносилось сытое хрюканье свиней, а работник в заплатанном пиджаке запрягал пару сытых молодых коней.
— Отец Андрей дома? — спросил его Заремба.
— Егомосьць[20] отдыхают после обеда, — охотно объяснил тот, — но, верно, скоро встанут, так как приказали запрягать.
— Уезжать собрались?
— На хуторе, — указал работник в сторону леса, — родился ребенок, то должны крестить.
— А кто это меня спрашивает? — послышался из сеней тонкий голос.
На крыльцо вышел мужчина в черной поповской рясе и, облокотившись на перильце, выставил вперед свой солидный живот. Поп весь лоснился. Расширявшаяся книзу его голова напоминала грушу — пухлые щеки свисали на белоснежный воротник. Хитрые, пронзительные глазки терялись где-то в узких щелках.
Заремба направился к крыльцу.
— Добрый день, — поднял шляпу.
— Слава Иисусу, — ответил хозяин. — Кто вы?
— Не узнаете, отец Андрей?
Тот сощурил глаза, отчего они совсем куда-то скрылись.
— Много вас тут шляется… — махнул рукой, но все же присмотрелся внимательнее: теперь крестьянская одежда ничего не говорит. Ох, сколько раз отец Андрей ошибался, судя о человеке по внешнему виду!..
— А я тебя сразу узнал, отче! — Евген Степанович остановился у крыльца, вытирая пот с лица.
— Заремба?! — В голосе священника почувствовались удивление и испуг, — Ты?!.
— Может, егомосьць пригласит меня в дом? — Евген Степанович искоса посмотрел на работника, который подошел ближе и с любопытством прислушивался. — А если бы еще угостил холодным квасом или узваром, то было бы просто чудесно.
— Ганна!.. Ганна!.. — позвал священник. — Когда-нибудь я с ума сойду от этой девчонки!..
Из дома донеслось шлепанье босых ног, и на крыльцо выбежала растрепанная девушка лет двадцати, со смазливым личиком.
— Ганна, дай гостю холодного кваса, — приказал хозяин, а сам отступил на шаг, пропуская Зарембу в сени. — Добро пожаловать в нашу хижину, — сладко пропел, ощупывая Евгена Степановича внимательным взглядом.
Комнаты в доме священника выглядели совсем по-городскому. Большие окна пропускали много света, солнце играло на полированной под орех мебели, около стены стоял коричневый, под цвет мебели, рояль.
“Недурно устроился отец парох [21]”, — подумал Заремба, усаживаясь в мягкое кресло.
— Давно не виделись, святой отче. Как поживаете?
Отец Андрей ответил каким-то неопределенным междометием. Он думал: что нужно этому коммунисту? Может, выйти на кухню и послать Ганну за полицаями? Но решил, что это он всегда успеет. Зарембу он не видел лет десять. Слышал: при Советах тот занимал в городе приличный пост. Встречал в газетах его имя.
Евген Степанович посмотрел на священника. Как быстро пролетают годы! Неужели это Андрейка? Правда, и мальчишкой он был упитанным, его даже окрестили “Салом”, но так располнеть! Видно, хорошо живется егомосьци…
— Выглядите вы слава богу, — нарушил он молчание. — Да и здесь, — обвел рукой гостиную, — порядок.
Парох протестующе покачал головой. Он всегда любил прибедняться. А дела его теперь шли неплохо, совсем не так, как при Советах. Те два года вспоминал, как сплошной черный день. Люди словно обезумели, не обращали внимания на наставления отца Андрея, полезли в колхозы, взяли моду ходить в клуб, где пели нечестивые песни и танцевали под нечестивую музыку.
И куда подевалось уважение к Иисусу Христу и святым угодникам? А что уж говорить про самого приходского священника! Сопливый мальчишка — и тот не уступал дороги. Шляпу снимать при встрече со священником перестали. Раньше хоть можно было прикрикнуть на невежу, а сейчас — боже сохрани: каждый стал таким умным, каждый все законы знает.
Особенно допекал его этот сопляк Иванко. Давно ли носился без штанов, а тут, оказывается, — комсомолия. Да еще и какая наглая! В воскресенье народ в церковь собирается, а он созвал таких же, как сам, разбойников и чуть ли не против святого дома заиграл веселые песни. Старые люди ругаются, а тем что — насмехаются: мол, культурно-массовая работа, а не какое-то там религиозное одурманивание трудящихся.
Отец Андрей хотел как-то пристыдить их, но что тут заварилось!.. Этот самый бродяга Иванко выступил вперед и сказал:
— Гражданин Шиш! — Заметьте, не отец парох, не батюшка, не святой отче, а вот так и сказал — гражданин Шиш… — У нас теперь церковь отделена от государства, и вы не имеете никакого права вмешиваться в наши дела. Мы не позволим срывать нам массовые мероприятия!
Ишь, слов каких нахватался: мероприятия, гражданин… Дать бы тебе по морде, щенок бесхвостый!..
Отец Андрей ничего не забыл и расквитался с тем босяком. Когда пришла твердая немецкая власть, поехал в город со списочком. Немного — лишь восемь фамилий. Среди них, конечно, и Иванко. Говорят, вопли были на селе, когда их вешали… Егомосьць дипломатически побыл еще около недели в городе, а когда вернулся и услышал про несчастье, сделал большие глаза и даже бесплатно отслужил панихиду.
Но в душе отец Андрей не жалел о своем поступке — совесть оставалась чистой. Власть должна жестоко карать нарушителей порядка. А то разреши только — Иваны в замасленных штанах и Маруси в заплатанных юбчонках на голову сядут. И все из-за таких умников, как этот Заремба.
— Живем мы людскими молитвами, — лицемерно вздохнул отец Андрей.
“То-то долго прожил бы!” — подумал Евген Степанович и сказал:
— Я к вам по делу, отче.
— Какие же могут быть дела у товарища Зарембы с простым сельским священником, — слово “товарищ” священник язвительно подчеркнул.
— Дело несложное, отче. Не смогли бы вы разыскать Ромку?
Отец Андрей передернулся в кресле и ответил неуверенно:
— Кто ж его знает, где он шатается…
— Жаль, — сказал Заремба. — А я хотел предложить вам хорошую коммерцию.
Как он и предвидел, рыбка сразу клюнула.
— Какая сейчас может быть коммерция? — тяжело вздохнул хозяин, но глазки сверкнули и смотрели вопрошающе.
— Заработать можно было бы… — продолжал интриговать его Евген Степанович.
— Много?
— Да, полагаю, были бы довольны…
— А все же?
— На вашу долю, святой отче, несколько сотен перепало бы…
— Оккупационными?
— Как условимся. Можно и рейхсмарками.
Отец Андрей задумался. Если он выдаст этого коммуниста полиции, выгоды большой не будет. Да и кто его знает, может, этот Заремба спелся с новой властью — тогда стыда не оберешься. К тому же он предлагает какую-то коммерческую сделку, а коммерцию отец Андрей любил больше, чем даже крестины или свадьбы. Правда, неизвестно, как отнесется к этому Ромка. Ишь ты! Этот сопляк Ромка стал важной птицей. Как-никак, краевой проводник [22] . Снабжением ведает, а умному человеку больше ничего и не надо — деньги сами плывут в карман, только считай! Даже Заремба к нему интерес имеет… Верно, пронюхал что-то и хочет с ним дельце обделать.
Ромка, факт, не рассердится — он знает своего родного брата! Во-первых, они старые товарищи с этим Евгеном — вместе в гимназии учились. Хотя на это наплевать: братик с удовольствием повесил бы коммуниста. Но там, где звенят деньги, политика отступает, и Ромка может даже разозлиться, если потеряет выгодного клиента. Это во-вторых. Клиенты сейчас под ногами не валяются, потому как, извините, война.
Заремба глаз не сводит с егомосьци. А тот словно спит, глаза зажмурил, даже не шелохнется. Но выдают руки. Положил на тучный живот, нервно вращает большими пальцами. Наконец вздохнул и прогундосил:
— Ну, ежели, говорите, рейхсмарками, попытаемся разыскать Ромку. Пан торопится или располагает временем?
— Кто же сейчас располагает свободным временем, святой отче? — улыбнулся Евген Степанович.
— Ганна! Ганна! — завопил отец Андрей. Девушка просунула нос в гостиную. — Позови мне Дмитра.
Когда в дверях появился работник, поп распорядился:
— Распрягай, крестить сегодня не поедем. А сам верхом подскочишь к… — и что-то шепнул на ухо. — Скажешь, чтобы сейчас же прибыл сюда.
Заремба вышел во двор и приказал парню распрячь коней: он был уверен, что до приезда Ромки ему ничего не грозит. Хорошо знал Шишей — были когда-то соседями — и помнил, какие жадюги братья Андрей и Роман.
Когда-то в Коломне старый Шиш держал небольшую лавку с ярко разрисованной вывеской: “Бакалея и колониальные товары. Шиш и К°”.
Вот это “…и К°”, прибавленное на вывеске для солидности фирмы, стало отличной рекламой. Люди смеялись, но покупали с большей охотой у Шиша, чем у одноглазого Боруха Гольцмана. Может, потому, что в лавке Шиша был больший выбор товаров, а может, проще было произнести: “Петрик, сбегай в К°”, или “Скажи К°, чтобы записал, деньги потом отдам”.
И братьев Андрея и Ромку тоже звали “К°”. Они привыкли и не обижались. Братья всегда держались в стороне от других ребят. Старый Шиш заставлял своих детей помогать в лавке, и мальчики приучились из всего извлекать выгоду. Они крали отсыревшие конфеты и окаменевшие пряники, сбывая их мальчишкам со скидкой.
Андрей закончил духовную семинарию, а Ромка пошел по отцовской линии. Получив в наследство лавчонку, принялся расширять дело. Но времена настали не те — начался кризис, конкурировать с польскими и еврейскими коммерсантами было трудно. Они едва не задушили Ромку. Тут-то его осенила спасительная идея — объединить покупателей на национальной почве.
Роман Шиш выбросил лозунг: “Украинец покупает лишь у украинца!” Пожертвовал несколько сот злотых на развитие украинского движения в Галиции и стал одним из наиболее выдающихся националистических деятелей в Коломне.
Карта оказалась козырной. В самом деле, почему украинец должен покупать не у Шиша, а у какого-то Гольцмана, пусть даже у того на грош дешевле? Дело же тут не в гроше, а в национальном сознании.
Покупателям было невдомек, что на национальные интересы Ромке Шишу было в высокой степени наплевать — ему лишь бы торговля шла как можно лучше. Люди не знали, что сам Шиш ведет дела не с украинскими, а с польскими коммерсантами, так как это выгоднее, и совсем забывает украинский язык, когда это может дать ему хотя бы один Злотый прибыли.
Теперь Ромка Шиш важная птица у бандеровцев. Через него идет снабжение многочисленных отрядов этой банды. И когда возник вопрос о рации, Заремба решил, что проще всего купить ее у Шиша. Гитлеровцы поставляют бандам оружие и все необходимое — значит, должны быть у них и рации.
Отец Андрей позвал Евгена Степановича с крыльца.
— Пан Евген, наверно, устал с дороги. Отдохните до обеда. Вам постелют на диване.
— Ежели егомосьць не возражают, то лучше бы здесь… — кивнул Заремба в сторону копны сена, которая высилась у амбара.
Опять отец Андрей звал тонким голоском Ганну и хватался за сердце, так как девушка не сразу откликнулась. Наконец, та вынесла косматую подстилку, и Евген Степанович растянулся на сене. Лежал на спине и смотрел, как в бездонной голубизне плывут белые тучки. Покамест все идет не так уж и плохо. Он и не надеялся, что Ромка где-нибудь под боком. Видно, успел обзавестись в родных краях солидным хутором. Надо думать, и здесь не отдыхает, а через брата обделывает свои делишки. Хотя бы его дома застали, черт возьми!
Роман Шиш, один из видных деятелей УПА [23] (сам он величал себя генералом), прибыл к брату без промедления. Он сидел в рессорной бричке, а на узких козлах примостились два коренастых парня с автоматами на груди. Пан генерал был в зеленом жупане, синих шароварах и блестящих лакированных сапогах. Габаритами он уступал брату, но не очень, а в плечах так даже был шире отца Андрея. Разговаривал басом. Он хлопнул Зарембу по спине, показывая этим свое дружеское расположение, но Евген Степанович перехватил многозначительный взгляд, которым генерал обменялся со своими телохранителями — дескать, будьте настороже.
— Как раз и обед готов, — потирая руки, сказал отец Андрей и пригласил в дом.
Егомосьць предпочитал простую, но здоровую пищу. На столе стояли тарелки с холодцом, жареной рыбой, ветчиной, вареными яйцами и холодной поросятиной. Несколько бутылок с наливками и мутной жидкостью местного производства дополняли эту картину.
Ромка принялся разливать самогон. Заремба решительно накрыл рукой свой стакан.
— Не пью.
— А я слышал, большевики не гнушаются… — усмехнулся Ромка.
— Сухого закона у нас нет, но я в рот не беру даже сладкую, — и пояснил: — Сердце…
Младший Шиш, поколебавшись мгновенье, все же осушил свой стакан.
— Для аппетита, — оправдался, запихивая в рот изрядный кусок ветчины.
Евген Степанович проголодался и ел с аппетитом. Несколько минут жевали молча, пока не заморили червячка. Ромка снова потянулся к бутылке., но, посмотрев на пустой стакан Зарембы, воздержался.
— Сказали мне, — начал, вытирая рукой рот, — что ты был при Советах в большом почете. Вроде бы комиссар или как? Одним словом, продавал нашу Украину большевикам…
Евгену Степановичу не хотелось ввязываться в спор, и он сказал:
— Пустяки. Я работал в газете.
— Но ведь в коммунистической…
— Неужели ты думаешь, что я приехал в такую даль исповедоваться перед тобой?
— Прошу, прошу, господа, — поспешил вмешаться отец Андрей. — По-моему, лучше будет, если поговорим о делах.
— Золотые слова, — поддержал его Евген Степанович. — Слышал я, Роман, ты стал большим начальником и все в твоих руках. Вот и надумал предложить тебе одну выгодную сделку…
— С большевистскими элементами у нас один разговор, — отрезал тот, подняв кулак и повертев им под носом у Зарембы. — Вот какой!..
— Но ради нашей старой дружбы, — сказал отец Андрей, — можно было бы сделать и исключение.
“И когда это мы дружили?” — подумал Евген Степанович.
Ромка налил себе стакан самогона. Понюхал и выпил.
— Сегодня я добрый, — сказал. — Что тебе нужно? Если, конечно, деньги есть…
— Даже и не знаю, найдется ли у вас? — неуверенно произнес Заремба.
— Известное дело, у нас не армейские склады, но украинское воинство всем обеспечено!
— Ежели пану надобно даже оружие, — сладко вставил отец Андрей, — то можно и оружие достать, Трофейные автоматы…
— Оружие, говорите, — сказал с притворным удивлением Заремба. — За оружием я не осмелился бы приехать.
— А все прочее — тьфу! — хвастливо стукнул по столу Ромка, но тут же спохватился, вспомнив, что этим можно цену сбить. — Для кого — тьфу, а для кого и золото…
— За каким же бесом пан сюда приехал? — спросил священник.
— Чепуховая вещь, — небрежно махнул рукой Евген Степанович. — Мне нужна рация.
— Что?! — воскликнул вдруг Ромка, — А это видел?.. — сложил большой кукиш и сунул его Зарембе под нос.
— Я всегда знал, что ты невоспитанный человек, — спокойно отвел его руку Евген Степанович. — Чего ты испугался? Тоже мне редкость — рация!
— Чтобы пан, извините, переговаривался с Москвой? — Ноздри егомосьци задвигались. — Чтобы вы передавали туда информацию!..
— А то как же, для того и существует рация, чтобы передавать информацию. Разве для вас это новость?
Кровь бросилась Ромке в лицо, и он сунул руку в карман.
— Спокойно! — схватил его за руку Евген Степанович. — Я же не требую бесплатно!
— Да плевать я хотел на эти марки!.. — горячился Ромка. — Идея для меня дороже!
— А кто сказал, что я плачу марками? — удивился Заремба. — Для вас, господа, я нашел бы и доллары.
Ромка замер с открытым ртом.
— Что? — только и сумел он произнести.
— Пан не оговорился? — спросил отец Андрей. — У пана действительно есть доллары?
— А почему бы и нет, если предлагаю?
— Конечно, конечно… — наклонил голову егомосьць. — Я не сомневаюсь в кредитоспособности многоуважаемого пана, но хотелось бы увидеть собственными глазами.
— Нет дураков! — отрезал Заремба. — С собою денег не вожу. Во избежание всяких осложнений…
— Но если пан думает, что здесь отделение банка и он может рассчитываться чеками… — начал священник.
— Нет, — прервал его Заремба. — Пан так не думает. Рассчитываться буду наличными.
— Ой ли? Ишь ты! Наличными! — воскликнул потрясенный Ромка. — Не крути мне голову. Наскребли где-нибудь два–три десятка доляров и думают, что стали миллионерами…
— За исправную рацию с запасным комплектом ламп, — сказал Заремба, — заплатим триста долларов.
— О-о! Шлюхам морочь голову, а не мне, — не поверил Ромка.
Но егомосьць вытер губы салфеткой и быстро сказал:
— Четыреста!
Евген Степанович поднял глаза к потолку, как бы подсчитывая свои ресурсы, потом вздохнул и сказал:
— Триста пятьдесят…
Он бы дал и больше, но не хотел показать братьям, как остро нуждается в рации.
— Четыреста! — подхватил Ромка. — Четыреста — и ни одного доляра меньше!
— Но, господа, где взять столько? — не соглашался Заремба. — Это же доллары, а не какие-то там паршивые марки.
— Найдешь, — уверенно перебил Ромка. — Я тебя знаю захочешь — найдешь.
— Триста восемьдесят — хорошая цена, — подставил свою ладонь Евген Степанович. — Ну?
— Давай! — хлопнул тот по ладони. — Только как мы условимся?
— Привезешь завтра на хутор Сороки. Тот, что за Ивановкой. Знаешь?
— Как не знать!
— В три часа. И без плутовства. С тобою должно быть не больше двух человек. В противном случае не выйду из леса. А еще лучше, приезжай сам — к чему лишние свидетели?..
Видимо, мысль о том, что можно было бы захватить Зарембу вместе с долларами, возникла у Ромки, так как, услышав условие Евгена Степановича, вздрогнул, точно его батогом хлестнули.
— За кого ты меня принимаешь? — произнес он, натянуто улыбаясь. — Все же бывшие товарищи!..
— Ну, ну… Смотри у меня… — предупредил Заремба и решительно поднялся из-за стола.
— Но, позвольте, пан, обед только начинается, — попытался задержать его отец Андрей, однако Заремба, сказав, что торопится и дорога дальняя, распростился.
…С утра партизанские пикеты заняли пункты наблюдения в районе хутора Сороки.
— На случай провокации, — объяснил Дорошенко. — Тому бандиту я не верю.
— А кто ему верит? Но только, думаю, побоится потерять деньги.
— Береженого бог бережет, — положил конец разговору командир.
Опасения Дорошенко оказались напрасными. Около трех часов Шиш подъехал на своей бричке к хутору Сороки. Он был один, даже без кучера.
Радист Федько Галкин проверил рацию. Ромка тщательно пересчитал доллары и достал из брички литровую бутылку.
— Магарыч! — предложил.
— Сказал, не пью, — отрезал Заремба.
Шиш на радостях хлебнул сам.
Спустя несколько часов Федько Галкин, расположившись на укромной лесной поляне, настроил рацию.
— Нас слушают, — сообщил взволнованно.
Защелкал ключом, передавая сообщения. Заремба смотрел, как легко и уверенно отстукивает он шифр, и думал, сколько пришлось преодолеть опасностей и трудностей, прежде чем эта небольшая колонка цифр будет принята на Большой земле…
Глава пятая Фирма Кремера действует
В последнее время Петро стал постоянным посетителем офицерского казино. Перед крупным негоциантом, да еще принятым в доме самого губернатора, открывались все двери. В казино его ввел штандартенфюрер Менцель, и этого было достаточно, чтобы швейцар почтительно принимал шляпу у Петра, а официанты уже издали начинали кланяться.
Сегодня Петро прикатил на своем “мерседесе” в начале седьмого. Швейцар сказал, что гауптштурмфюрер Харнак уже ждет его.
— Ничего, пускай подождет, — бросил Петро, и швейцар понимающе усмехнулся.
Действительно, что для известного богача Карла Кремера какой-то там следователь из гестапо!..
— Привет, Вилли! — помахал рукой Петро, увидев Харнака за столиком. — И ты пьешь это? — пренебрежительно щелкнул пальцем по бутылке со шнапсом и подозвал официанта. — Коньяку. Самого лучшего… И чтобы я больше не видел, как мой друг пьет отраву…
Уже два месяца Харнака считали другом Карла Кремера. Но дружба дружбой, а служба службой. Следователь связался с городком, где родился и жил когда-то Карл Кремер. Ответ был положительный. К тому же хорошо отзывался о коммерсанте сам губернатор. После всего этого Харнак доверял Петру почти как себе — тем более что его новый друг располагал деньгами и в случае нужды мог замолвить за него словечко в губернаторском доме. Собственно, такая нужда уже возникла. Харнаку грозили неприятности…
— У вас сегодня такой вид, Вилли, словно вдобавок к шнапсу вы еще кислого пива хлебнули, — угадал настроение следователя Петро. — Что случилось?
Официант уже нес коньяк и закуски. Петро налил полные бокалы.
— Мне хочется выпить, Вилли!
Гауптштурмфюрер пожал плечами.
— Не морочьте мне голову, Карл. Вы ведь никогда не пьете.
— А сегодня буду! — засмеялся Петро. — У меня есть повод.
— Какой?
— О, это секрет, Вилли…
Мог ли он рассказать Харнаку, что несколько часов тому назад получил сообщение: шифровка уже в Москве. В самой Москве! А может, даже в Кремле?
— За успехи! — поднял бокал.
— Удачная сделка? — продолжал допытываться гауптштурмфюрер.
— Сверхудачная! — искренне произнес Петро. — Дай бог, чтобы всегда так было!
— За ваше счастье, — опрокинул бокал Харнак. — О, что за коньяк!
— Держитесь за меня, Вилли, не пропадете.
— Именно об этом я и хотел поговорить с вами, Карл, — натянуто улыбнулся Харнак. Ему не хотелось делиться своими служебными неприятностями, но иного выхода не было. Однако он не сразу решился на это.
— Вижу, вам легче глотнуть уксус, чем обратиться к другу за просьбой, — обиженно заметил Петро, от которого не укрылось колебание “друга”. Он уже несколько раз одалживал Харнаку деньги и полагал, что и сейчас разговор пойдет об этом же. — Мне стыдно за вас, Вилли. Вам деньги нужны?
— Если бы деньги, — вздохнул гауптштурмфюрер. — Дело значительно сложнее…
— Какие-нибудь осложнения по службе? Или неприятности с девушками?
— С этим я легко распутался бы без вашей помощи, — ответил Харнак и поведал историю бегства из тюрьмы опасного подпольщика.
“Молодец Богдан!” — ликовал Петро, узнав, какие неприятности причинил своим бегством его друг следователю гестапо, и деловым тоном спросил:
— Но при чем тут вы?
— Моей вины, собственно, нет. Но начальству надо на ком-нибудь отыграться. Вот и придрались ко мне. Дескать, этого партизана давно надо было прикончить, а я с ним нянчился, хотя ничего от него не добился.
Петро задумался. Он легко мог уладить это дело с помощью жены губернатора фрау Ирмы. Но стоит ли? Этот Харнак — умный и опасный враг, и лучше, если его перебросят куда-нибудь на Восточный фронт. Но тогда Петро лишится своей руки в гестапо… Нет, ножалуй, разумнее воспользоваться этим случаем…
— Хорошо, — быстро сказал Петро, — будем считать это дело улаженным. Ради вас, Вилли, я готов на все… — Увидев, как обрадовался гауптштурмфюрер, добавил: — Но услуга за услугу…
— Я сделаю для вас все, что смогу…
— О, сущие пустяки. Понимаете, у меня тут есть девушка…
— И вы хотите сказать ей “до свиданья”? — подхватил Харнак. — Для этого есть сотни способов…
— Не торопитесь, Вилли! Наоборот, она мне нравится. Нравится настолько, что я решил жениться на ней. Поверьте, это очень хорошая девушка! Но у нее один большой недостаток. Она украинка. Я не хочу, чтобы мне этим кололи глаза. Если бы моя Кетхен смогла доказать свою лояльность, больше того — проявить патриотизм, то все было бы, надеюсь, в порядке. Не правда ли? Сейчас она работает на железной дороге. Не могли бы ли вы порекомендовать ее военному коменданту нашей станции?
— Я сделаю это, Карл. Но я не знал, что вы такой скрытный. Иметь суженую — и до сих пор ее не показать!
— Она очень скромна. Но при случае я вас познакомлю. — Петро налил коньяк в бокал. — Я наливаю только вам, Вилли, так как хочу еще поиграть в покер, а для этого нужна ясная голова.
Петро подсел к столику, за которым играл его вчерашний партнер — моложавый генерал, командующий дивизией. Вокруг него вертелись подчиненные — оберсты и майоры. Как Петро понял из их разговоров, дивизия ненадолго остановилась в городе: скоро она выступит на один из участков Восточного фронта. Петро хотел разузнать, на какой именно.
— Разрешите? — спросил он, протягивая руку за картой. Генерал, как старший по званию, кивнул в знак согласия: вчерашний партнер ему нравился — играет легко, рискованно, не дрожит над каждой проигранной маркой.
Карта не шла к Петру. Он попробовал блефовать, но у одного из партнеров оказалась действительно выигрышная комбинация, и ему пришлось сдаться. Швырнул карты, как бы случайно показав, что не имел даже двух одинаковых.
Игра шла вяло, но вдруг генералу и еще кому-то из партнеров пошла карта. У Петра были лишь три шестерки, но он резко повысил ставку.
— Что вы делаете? — прошептал ему на ухо Харнак. — Они разденут вас!
Но партнеры не рискнули ответить, и Петро со смехом показал им свою единственную тройку.
— Боже мой! — схватился за голову пожилой майор. — У меня же было пять трефей!..
Генерал не показал своих карт, но Петро понял: и у него была хорошая игра.
По-прежнему Петру не шла карта, но тем не менее он повышал ставки и срывал банки.
— Вам сегодня везет, — заметил один из партнеров, когда Петро сгребал к себе очередной крупный выигрыш.
В ответ на это Петро раскрыл свои карты.
— Чистый блеф! — произнес кто-то восхищенно.
— С картой каждый выиграет, — засмеялся Петро.
Очередная сдача не принесла ему ничего хорошего: туз, валет, тройка, шестерка и восьмерка… Петро не думал на этот раз вступать в игру, но потом неожиданно отбросил четыре карты, оставив туза. Медленно открывал прикуп — туз, семерка, еще туз… Какая же четвертая? Осторожно приподнял карту — и глазам своим не поверил — джокер! Тузовое каре!
Полусощурив глаза, чтобы, чего доброго, они не выдали его, небрежно бросил в банк десять марок. Неужели ни у кого нет игры? Пас, пас… Кто-то ответил. И вдруг — пятьдесят сверху. Кто?
Встретил спокойный взгляд генерала. Значит, и ему пришла карта. Пожал плечами и поднял ставку еще на пятьдесят марок. Генерал ответил тем же.
“Заманивает, — понял Петро. — Посмотрим, что ты скажешь на это?” Вынул из кармана бумажник, отсчитал двести марок и бросил на стол. Сегодня это была самая крупная ставка.
Генерал посмотрел на Петра, подумал немного и поставил еще двести.
— Мне ничего не остается, как поднять игру еще на пятьсот, — улыбнулся Петро.
— На сколько?! — спросил майор с ужасом.
— На пятьсот, — повторил Петро, с удовольствием наблюдая, как партнер вытирает вспотевшее лицо.
Таких ставок никто еще здесь не видел. Вокруг стола собралась толпа любопытных. Генерал вздохнул — он должен был ответить на такой вызов, этого требовал его престиж. Закрыв банк, бросил на стол карты.
— Королевское каре! — произнес торжественно.
Петро выложил на стол три туза с джокером и спокойно ответил:
— Я не всегда блефую, господин генерал.
Генерал поднялся.
— Сегодня я выхожу из игры, — сказал он с достоинством. — Фатум!
— Но, господин генерал, хочу надеяться, вы не откажетесь принять участие в небольшой вечеринке.
Петро подозвал официанта и распорядился об ужине для всех присутствующих.
Генерал взглянул на него с уважением.
— Вы человек с размахом! К сожалению, такие встречаются теперь все реже…
Петро был героем вечера. Он стоял около буфета в окружении офицеров. Разговор шел о положении на Восточном фронте. Офицеры были настроены оптимистично. Один из них, юноша с едва пробившимися над губой усиками, запальчиво говорил:
— Трагедия Паулюса — явное недоразумение. Виновата русская зима, которая помешала танкам Манштейна прорваться к Волге. Русских надо бить летом. Надеюсь, солдаты нашей дивизии пройдут маршем по улицам Москвы.
— Но мы ведь очень далеки от Москвы, — остудил его пыл Петро,
— Скоро мы будем значительно ближе к ней.
— Русские просторы так велики, а фронт так растянут, — уныло произнес Петро, — что можно быть и в России и очень далеко от Москвы.
— Наш бронированный кулак нацелен в самое сердце большевиков, — с пьяной откровенностью сказал пожилой полковник. — Сколько от Белгорода до Москвы? — обратился он к товарищам. — Я боюсь слишком оптимистических прогнозов — сейчас ситуация несколько иная, чем в сорок первом году, — но считаю, что за две-три недели мы, конечно, дойдем до Москвы!
“Мало вас били под Москвой, заносчивых ослов!” — подумал Петро и пошел искать Харнака. Тот поил какого-то пожилого оберштурмфюрера, доказывая ему преимущество крепких спиртных напитков над винами. Когда Вилли начинал эту беседу, остановить его не было никаких сил. Петро уже собрался домой, как вдруг увидел на пороге зала двух офицеров в черной эсэсовской форме: Петра качнуло — в одном из них он узнал Амрена…
Петро резко обернулся к Харнаку, наклонился над столиком, словно заинтересовался разговором.
Гауптштурмфюрер обрадовался, что его аудитория увеличилась, подсунул Петру стул.
— Послушайте и вы, Карл, — я говорю, спирт хорошо пить…
Петро всем своим существом чувствовал приближение Амрена. Только бы он не сел за соседний столик…
Эсэсовцы остановились в нескольких шагах, осматривая зал. Петро слышал каждое их слово.
— Я впервые в этом городе, — говорил оберштурмбаннфюрер, — и он произвел на меня неплохое впечатление. Центр напоминает наши старинные города.
— Когда вы приехали? — спросил его спутник.
— Сегодня. И уже имел счастье встретить вас.
— Тут служит и Эрхард Шульц. Помните его?
— Еще бы. Замечательный парень!..
Позади Петра раздался скрип стульев. Так и есть, они сели за соседний столик!.. Сердце билось, кровь стучала в висках. Стоит Амрену бросить один только взгляд.
Осторожно сунув руку в задний карман брюк, Петро незаметно вытащил маленький браунинг. Опираясь на левую руку и изображая пьяного, положил пистолет на колено, прикрыв его ладонью правой руки. Шесть патронов для них, последний — для себя…
А что, если пробежать зал и выпрыгнуть в окно? Первую пулю Амрену, вторую — в того эсэсовца. Харнак и оберштурмфюрер пьяны, не успеют ничего понять. До окна — пять метров. А если оно закрыто? И потом — придется прыгать со второго этажа… Даже если не сломает ногу, успеет ли добежать до машины?..
А они разговаривают.
— Где вы остановились? — спросил эсэсовец.
— Пока не акклиматизируюсь, решил пожить в офицерской гостинице, — ответил оберштурмбаннфюрер. — Номер удобный и, главное, в центре.
— Что закажем? Вы мой гость, и сегодня я угощаю.
— Признаться, я проголодался. Может быть, рыбу, бифштекс с картошкой, салат? И конечно, что-нибудь выпить…
— У нас на столе нет почему-то прейскуранта.
— Можно попросить у соседей.
Заскрипел стул, кто-то приближался к их столику. Неужели Амрен? Петро сжал пистолет в руке… Кто-то дышит ему прямо в затылок…
— Простите, нельзя ли заглянуть в ваш прейскурант?
Нет, не Амрен. Харнак небрежно отодвинул на край стола карточку. Офицер поблагодарил и ушел на свое место.
“Спокойно!” — приказал самому себе Петро и низко опустил голову, притворяясь, что очень увлечен разглагольствованиями Харнака, а на самом деле старался не пропустить ни одного слова из разговора за соседним столиком.
— Какие у вас отношения с штандартенфюрером Менделем? — спросил Амрен у эсэсовца.
— Служебные.
— Я теперь буду ему подчинен.
— С Менцелем можно договориться. Человек с размахом и без старомодной деликатности.
— Где же официант? Ну и порядки у вас! Кажется, я умру с голоду, — заворчал Амрен.
— Обратите внимание на столик в углу. Видите того гауптштурмфюрера? Следователь из гестапо, правая рука Менцеля.
— Тот, пьяный?
— Да, это его недостаток. Коньяк и женщины… А так — светлая голова.
— А кто с ним?
Петро содрогнулся.
— Черт его знает! — безразлично ответил эсэсовец.
— Познакомьте меня с гауптштурмфюрером.
Стул заскрипел, Петро понял: это повернулся Амрен. Как медленно ползут секунды! Их можно отсчитывать по ударам крови в висках: раз… два… три…
— Сейчас не стоит. Он в дымину пьян и вряд ли запомнит вас.
Снова скрип стула. Неужели оберштурмбаннфюрер все-таки поднимается?
— Пошли в соседний зал, — предложил эсэсовец. — Наверно, с нашим официантом что-то приключилось.
— Кажется, там веселее, — согласился Амрен. — Больше народу и музыка.
— Пошли.
Петро незаметно следил за ними. Амрен и эсэсовец пересекали зал. Медленно поднял голову.
— Что с тобой? — спросил Харнак, увидев встревоженное лицо Петра.
— Нога заболела, — ответил он и, тяжело опираясь на палку, пошел к двери.
Быстро спустился по лестнице, залез в машину и погнал ее. Ехал, не зная куда и зачем. Уже в третий раз становится на его пути этот Амрен. И в третий раз Петро избегает опасности. Этак можно стать и фаталистом. Однако, как он понял, оберштурмбаннфюрер получил назначение в их город.
Неподалеку от Люблинского базара он свернул в переулок, остановил машину. Вылез, огляделся, юркнул за угол и пошел к дому, который украшала вывеска с большим примусом. Он не имел права этого делать, но ничего другого не оставалось.
Постучал. На окне колыхнулась штора, и сразу же щелкнул засов.
— ЧП, Евген Степанович, — вместо приветствия произнес Петро, переступая порог.
— Какое? — недовольно пробормотал Заремба. — Всегда горячку порете…
Но, выслушав рассказ Петра, призадумался.
— Когда, говоришь, отъехал от казино?
Петро взглянул на часы.
— Прошло тридцать пять минут.
— Думаешь, он еще там?
— Почти уверен. Амрен вряд ли упустит случай выпить…
— Подожди-ка минуту, — Заремба исчез в комнате, которая служила ему спальней. Прошло несколько минут. Скрипнула дверь, и Петро вздрогнул. Что за черт — откуда тут офицер?..
— Небольшой маскарад, — объяснил Заремба. — Без этого не обойтись.
Они вышли через кладовку в соседний переулок.
— Поезжай на окраину, — приказал Евген Степанович, когда сели в машину.
— Зачем? — не понял Петро.
— Не лезь поперед батьки в пекло…
Петро нервничал, но Евген Степанович был удивительно спокоен. Насвистывал даже мотивчик из какой-то оперетты. В глухом переулке велел остановиться. Здесь они быстро заменили номер на машине и двинулись в центр.
— Теперь так… — начал Заремба. — Остановишься метрах в ста от казино. Когда увидишь оберштурмбаннфюрера, трогай с места. Надо догнать его, когда будет один. Немного опередишь и остановишься, но мотор не выключай.
— А если тот эсэсовец его будет провожать?
— Это хуже, но что поделаешь…
Ждали около часа. Петро уже решил, что они проворонили оберштурмбаннфюрера или что он ушел до их возвращения. Но как раз в это время дверь казино отворилась, и Петро узнал коренастую фигуру Амрена. Вместе с ним вышел его спутник. Эсэсовцы постояли около казино, затем направились к центру.
— Трогай! — приказал Заремба.
Петро заметил, что Евген Степанович начал нервничать. Действительно, все осложнялось…
— Не так быстро… — сказал Евген Степанович.
Петро сбавил ход.
На углу эсэсовцы остановились, посмеялись и разошлись.
Заремба вытер вспотевший лоб.
— Давай! — положил руку на плечо Петра.
Оберштурмбаннфюрер шел, по привычке держась подальше от зданий. На машину он обратил внимание, лишь когда она остановилась в нескольких шагах от него. Дверцы “мерседеса” открылись, и кто-то пьяным голосом произнес:
— По-моему, это Амрен…
Оберштурмбаннфюрер остановился.
— Точно, Амрен, — повторил тот же пьяный голос, и на тротуар вылез человек в фуражке с высоким околышком.
Офицерская форма не вызывала у Амрена опасений, и он двинулся к автомобилю.
— Кто?..
Два выстрела оборвали его вопрос. Заремба бросился в машину, и “мерседес”, сразу набрав скорость, исчез за углом темной улицы.
Петро не знал, что его сообщение о передислокации гитлеровской 17-й стрелковой дивизии в район Белгорода было для командования Советской Армии одним из новых подтверждений того факта, что немцы накапливают в районе Орел–Курск–Белгород значительные силы. Это позволило вовремя перегруппировать наши войска и хорошо подготовиться не только к отпору, но и к новому удару по гитлеровским полчищам. Битва на Орловско-Курской дуге закончилась полным поражением врага. Именно отсюда начался освободительный поход Советской Армии, завершившийся взятием Берлина.
Фашистское командование старалось задержать наступательные операции советских войск, добиться стабилизации на фронтах. С этой целью из оккупированных районов Франции, Бельгии, Чехословакии на Восточный фронт перебрасывались свежие части. Второй фронт оставался миражом — гитлеровские генералы имели полную возможность ввести в бои против Советской Армии значительные резервы.
Огромное значение в этих условиях приобретала разведывательная работа в тылу врага, а главное — сбор данных о передислокации фашистских частей. Катря Стефанишина оказалась на переднем крае.
Каждое утро, ровно в восемь, она уже сидела за своим маленьким столиком в приемной военного коменданта железнодорожного узла. Скромно, но со вкусом одетая, с тяжелой каштановой косой, удивительно большими черными глазами и мягкими, выразительными чертами лица, девушка сразу привлекала к себе внимание, и возле нее всегда толпились офицеры, дожидавшиеся приема коменданта. Катруся уже выслушала не одно предложение весело провести несколько часов, которые оставались у майора или гауптмана до отхода эшелона.
Харнак сдержал свое слово. Для этого Петру пришлось пригласить его к себе на ужин и познакомить с Катрусей. Девушка уже знала, что ей придется играть роль невесты. В назначенный час Петро приехал за ней на своей машине. Катря была готова. Строгого покроя костюм и кофточка с высоким воротником подчеркивали спокойную красоту девушки. Посмотрев на нее, Петро подумал: этот скромный костюм идет Катрусе больше, чем самое нарядное вечернее платье.
— Ты сегодня удивительно красива! — не удержался от комплимента. Действительно, после того как Богдану удалось бежать, его сестра буквально расцвела. — Что слышно от Богдана?
— Я уже и не надеялась увидеть его… — радостно улыбнулась Катря. — Он теперь у Дорошенко правая рука. Возглавляет диверсионную группу.
Петро уже знал об этом. Спросил, зная, что девушке приятно поговорить о брате.
— Верно, не дает фашистам покоя?
Катруся заговорила быстро:
— Так ты ничего не знаешь?.. Да и откуда тебе знать — всё там и там… — неопределенно повертела рукой. — А Богдан уже два поезда под откос пустил. Ей-богу! Сам Евген Степанович рассказал, когда предупреждал про нашу… — кровь залила ее щеки, — нашу… ну… эту авантюру…
Петро пришел в замешательство. Еще направляясь сюда, почувствовал себя неуверенно. Решил держаться так, словно они были лишь друзьями. Но он обманывал самого себя: не безразличен он для Катруси, и она не чужая для него… Но что-то стояло между ними. Что же? Иногда вспоминал старомодный берлинский особнячок и маленькую женщину с широко поставленными глазами. Тем не менее он мечтал о встрече с Катрусей. Закрывал глаза и видел ее, родную и милую…
А тут Зарембе пришло в голову выдать Катрусю за суженую, чтобы устроить ее к коменданту железнодорожного узла. Идея неплохая, но ведь Евген Степанович не догадывается даже, что творится у Петра в душе. Правда, почему-то усмехнулся в усы, подергал свою короткую бородку и сказал:
— Она девушка красивая, но и ты хлопец заметный. Хорошая пара может выйти…
Сейчас Петро должен объяснить Катрусе, как им следует держаться.
— Сегодня, Катрунця, нам придется встретиться с гауптштурмфюрером Харнаком, следователем гестапо. От него многое зависит. Он должен устроить тебя к коменданту. Это умный враг, и с ним тебе следует быть осторожной. Не забывай, — почувствовал, что краснеет, — мы, как говорится, помолвлены, поэтому…
— Это, Петрусь, мне уже известно, и ты можешь быть спокоен…
— Карл, а не Петрусь, — поправил он. — Я уже и сам забыл свое настоящее имя.
Катря покачала головой.
— Это для меня хуже всего… Карл… Но не могу же я сказать — Карлик…
Петро засмеялся. Глядя на него, рассмеялась и Катруся. Они смеялись долго и от всего сердца. И Петро почувствовал, как вдруг исчезла натянутость, которая так мучила его.
Спустя полчаса Катруся придирчиво осматривала его квартиру. Три комнаты, обставленные новой мебелью и устланные дорогими коврами, не произвели на нее впечатления.
— Мебели много, а пусто и неуютно.
Петро согласился. Да, пусто в его квартире и неуютно. А все потому, что не чувствуется заботливой женской руки…
— Но ведь тут живет какой-то буржуй Карл Кремер, — весело улыбнулся он, — и я нисколько не возражал бы, если бы советские войска выкинули его из этой квартиры.
Катруся успела до прихода Харнака накрыть на стол.
— Счастливчик этот Кремер!.. — полушутя-полусерьезно сказал гауптштурмфюрер, знакомясь с Катрусей. — Везет ему и в любви и в картах… — И он рассказал ей об успехах Петра в офицерском казино.
— А я и не знала, что мой жених — завзятый картежник, — ворчливо заметила Катруся. — Но все до поры до времени…
Этот намек на ее будущие права вызвал у мужчин прилив веселья и придал ужину интимную, почти семейную окраску. Видно, Петро был доволен этим — изредка бросал на Катрусю взгляды, в которых Харнак читал нежность и приязнь, а девушка — настороженность, тревогу и еще что-то непонятное, чего раньше никогда не замечала. Девушка объясняла это присутствием гестаповца. Не боится ли Петро, что она может выдать себя каким-нибудь неосторожным словом или жестом? Но зря он беспокоится! Катруся сразу раскусила этого гауптштурмфюрера и не попадется в ловушку.
У Харнака была замечательная память. Раз что-либо услышанное прочно откладывалось в его голове. Несмотря на то, что к концу ужина он был изрядно пьян, утром следующего дня мог повторить все сказанное Катрусей. Девушка действительно красивая, но она оставила гауптштурмфюрера равнодушным. Спокойная славянская красота не волновала его, ему нравилась красота резкая, яркая, которая щекотала бы нервы. А впрочем, вкусы Карла Кремера не касались Харнака, его интересовало другое. Выяснив, что девушка благонадежна, он рекомендовал ее коменданту железнодорожной станции.
От восьми до пяти Катря сидит в приемной коменданта и стучит на большой черной “олимпии”. От восьми до пяти — приказы и распоряжения, отчеты и письма, развернутые сведения и объяснительные записки. И разговоры вокруг. Факты, факты и факты… Море фактов, из которых следует отобрать и запомнить самые важные. Вначале Катруся растерялась. Печатание на немецком языке поглощало почти все внимание, а Заремба предупредил, что иная случайно услышанная фраза порою стоит нескольких донесений о прохождении эшелонов через узловую станцию.
Опыт приобретается со временем, и Катруся уже через три недели научилась отличать важные документы от тех, которые не имели особого значения. Всегда занятая и педантично аккуратная, она скоро завоевала полное доверие коменданта майора Шумахера. Он поручал Катре регулировать поток посетителей, направляя второстепенных к другим офицерам комендатуры. Это сразу открыло перед девушкой новые возможности.
— Господина лейтенанта интересуют паровозы для эшелонов с углем? Этим вопросом занимается гауптман Вендт. Пожалуйста, обратитесь к нему, кабинет номер три… Вы, господин майор, из девяносто третьей дивизии? Комендант примет вас немедленно. И вас, господин гауптман… А вы, господин обер-лейтенант, пожалуйста, немного подождите.
Довольно часто Катруся встречалась с “суженым”. Это, конечно, не могло никого удивлять. Они отправлялись в варьете или ресторан, и никто не мог подумать, что девушка, с таким обожанием глядящая на своего жениха, шепчет деловым тоном:
— Девяносто третью стрелковую дивизию перебросили из Бреста под Киев. Дальше — три эшелона танков. Станция назначения — Днепропетровск.
А на другой день от шести до семи:
“Тире, две точки… Тире, точка, тире… Тире, точка, тире… ДКК… ДКК 93458… 35472… 83925… 13679… 42367…” Шифровальщики переводят: “Из Бреста под Киев переброшена девяносто третья стрелковая дивизия…”
Выходили в эфир регулярно через день–два. От старой, громоздкой системы передачи информации пришлось отказаться: пока бумажка с зашифрованными данными попадала в партизанский отряд, проходило несколько дней, отчего часто пропадало главное качество сообщений Катруси — оперативность. Кроме того, в последнее время Дорошенко приходилось часто менять расположение отряда, что усложняло работу связных и вносило дополнительные трудности. Петро предложил перебросить радиста в город. Так Федько Галкин стал водителем черного “мерседеса” шефа фирмы. А от шести до семи он выстукивал:
“Тире, две точки… Тире, точка, тире… Тире, точка, тире… ДКК…”
Катря сидела на скамейке в парке. Лето подходило к концу, и пожелтелые листья каштанов начали опадать. Глаза ласкали лишь могучие зеленые кроны кленов и роскошные темно-красные георгины, несколько кустов которых посадили весной чьи-то добрые руки. Эта единственная клумба на весь захламленный и запущенный парк притягивала сюда стариков, которые могли позволить себе роскошь дышать свежим воздухом. Молодежь не рисковала появляться в парках: часто бывали облавы, парней и девушек эшелонами увозили в Германию.
Катруся имела надежные документы и не боялась облав. Она любила эту скамейку, на которой сиживала, еще когда была студенткой. Почему-то здесь быстро запоминались латинские термины и симптомы разных болезней. Сюда же, еще будучи гимназисткой, она пришла на первое свидание с Семеном Войтюком — юношей, которого очаровали ее глаза и каштановая коса с пышным розовым бантом. Он угощал Катрусю конфетами, а потом осмелился поцеловать в щеку — это так горько обидело девушку, что она заплакала; после этого, завидев Войтюка, переходила на другую сторону улицы…
Катря подставила лицо лучам солнца и мечтательно зажмурила глаза. Думала, что, если бы Петро вот так же несмело поцеловал ее?.. Должно быть, тоже заплакала бы, но не от обиды и смущения…
— Почему такая красивая фрейлейн тоскует в одиночестве? — услышала резкий голос. — Если фрейлейн скучает, мы готовы составить ей компанию!
Раскрыла глаза. Наглые взгляды из-под надвинутых на лоб офицерских фуражек. Два лейтенанта. Нализались и ищут приключений.
— Пойдем с нами, крошка, — сказал один из них — с длинным носом и бесцветным, туповатым лицом. — Может, у тебя есть такая же красивая подруга? Поужинаем, потанцуем…
Он присел рядом, взял Катрусю за руку. А она словно застыла, не может вырвать руку из его холодных, потных ладоней. Видимо, лейтенант понял это как согласие и похотливо произнес:
— У тебя, крошка, чудная фигурка.
— Уберите руки! — вскипела Катруся и резко поднялась. — Хам!
Она убежала раньше, чем немецкие офицеры успели опомниться.
— Какая наглость?! — воскликнул длинноносый. — Я ей задам!..
Он уже хотел броситься вдогонку за Катрусей, но второй удержал его:
— Черт с ней! Наверное, путается с кем-нибудь из высшего начальства, иначе бы она не посмела… Пойдем поищем других. Все равно одной нам мало…
У выхода из парка стояли со своими старомодными “пушками” на треногах два плохо одетых фотографа, ожидающих клиентов. Девушка не обратила внимания на их умоляющие взгляды. Пошла Сикстуской улицей: здесь жил Петро, и девушка надеялась встретить его.
На углу стоял огромный грузовой автомобиль — настоящий дом на колесах. “Передвижная солдатская лавка”, — прочитала Катруся, проходя мимо машины. Неожиданно открылись дверцы, и оттуда выглянул человек в военном мундире.
— Они сейчас должны выйти в эфир, господин унтерштурмфюрер, — послышалось оттуда. — Обычно в это время всегда…
Дверцы за военным закрылись, но для Катруси и услышанного было достаточно. Вон дом на горе, где живет Петро… Теперь шестой час, через несколько минут начнет работать рация Галкина. А в “лавке на колесах” пеленгатор. Видимо, они уже обнаружили рацию и теперь подбираются к ней шаг за шагом; сегодня мышеловка может захлопнуться…
Катруся прибавила шагу. Если бы можно было, то побежала бы.
В квартире Петра прозвучал настойчивый звонок. Федько Галкин, уже приготовившийся к передаче, выдернул штепсель из розетки и сунул рацию в чемодан. Тревожные голоса в передней. Федько делал вид, будто так увлечен уборкой на письменном столе хозяина, что даже не сразу оглянулся, услышав скрип дверей. В дверях стояла Катруся. Раскрасневшаяся, взволнованная.
— Оказывается, это ты звонила, — сказал Федько с досадой. — А я уже бог знает что подумал…
— Еще несколько минут — и вы бы провалились… Возле почты пеленгатор!
— Какой пеленгатор? — растерянно спросил Галкин, хотя сразу все понял.
— “Какой пеленгатор”! — рассердилась Катря. — Гестаповский, наверно. Думаешь, они сидят сложа руки, когда под боком работает рация? — Увидев, как побледнел Галкин, сказала мягче: — Это нам наука…
В комнату вошел Петро.
— Спокойствие! — сказал он. — Федько, заведи машину! Еще неизвестно, как там у них… Едем на прогулку. — И он подхватил чемодан.
Черный “мерседес” миновал “передвижную лавку” и помчался на окраину. Карл Кремер ехал развлекаться…
Менцель вызвал к себе Харнака и начальника службы перехвата унтерштурмфюрера Винклера.
— Мне надоели эти постоянные неудачи! — с ходу закричал он на Винклера. — У нас под носом большевики связываются с центром, а вы, унтерштурмфюрер, никак не можете поймать их.
У Винклера покраснели уши от волнения и страха. Харнак злорадствовал. Этот золотушный унтерштурмфюрер с безбровым вытянутым лицом и хитрыми злыми глазами был ему глубоко антипатичен.
— Проворонить рацию, когда мы были от нее буквально в нескольких шагах! — подлил он масла в огонь. — Как они разгадали трюк с “солдатской лавкой”?..
Уши у Винклера уже стали пунцовыми. Черт побери этого гауптштурмфюрера! Сидел бы и молчал. Ведь он, Винклер, ничего не говорил, когда по вине Харнака из тюрьмы бежал опасный большевистский агент. Но у гауптштурмфюрера нашлась чья-то сильная рука, а за Винклера вряд ли кто-нибудь заступится. Даже будут рады спихнуть. На его место найдется много охотников: далеко от фронта, комфорт, деньги… Главное — дальше от русских, которые в последнее время стали так быстро наступать, что даже в штабе армии или фронта жутковато служить… Черт с ним, с Харнаком, он переживет его трепотню! Все стерпит, лишь бы остаться здесь, в городской квартире с теплой уборной и ванной.
— Разрешите доложить, штандартенфюрер, — сказал Винклер, ерзая на стуле, — у меня есть свежие данные.
— О которых мне уже известно несколько недель? — ехидно бросил Менцель. — Поймите же, наконец, Винклер, мне наплевать на все ваши данные, мне нужны не данные, а большевистская рация!
— Но ведь, штандартенфюрер…
— Давайте ваши данные, Винклер… — безнадежно махнул рукой Менцель.
Унтерштурмфюрер разложил на столе большую карту города и окрестных районов. Красным карандашом были обведены два квартала возле почтамта — сюда были нацелены стрелки, которые шли из нескольких пунктов радиоперехвата.
— Именно здесь, — ткнул пальцем в красный круг Винклер, — работала большевистская рация. Наши специалисты хорошо изучили “почерк” этого радиста.
— Я не люблю, когда вторично открывают Америку, Винклер, — буркнул Менцель. — Тем более что с Америкой мы в состоянии войны… — добавил и сам первый захохотал, довольный этой своей остротой.
Винклер угодливо захихикал, но Харнак даже не улыбнулся.
— Ну что там у вас? — зло спросил уязвленный Менцель.
— Наши специалисты хорошо изучили “почерк” радиста, — повторил Винклер. — Они утверждают, что передатчики, которые выходят в эфир два–три раза в неделю в этих районах, — показал на карте, — принадлежат ему. Он, например, имеет привычку делать паузу после позывных.
— Любопытно… — склонился над картой Менцель. — Это действительно любопытная новость, Винклер.
Харнак заметил, что у унтерштурмфюрера от радости начали шевелиться уши. “Как у собаки”, — подумал с омерзением, но любопытство превозмогло, и он тоже склонился над картой.
— Это, — объяснял Винклер, — шоссе, ведущее на восток. Передачи ведутся на отрезке в десять километров… Вот отсюда до этого леса… Здесь он подступает вплотную к дороге. Место выбрано очень удачно — в случае опасности легко скрыться.
— Вы говорите таким тоном, — недовольно буркнул Харнак, — словно восхищены ловкостью этого агента.
Винклер зло посмотрел на него.
— Этот радист насолил мне больше, чем кому бы то ни было, — огрызнулся он и продолжал: — Другое излюбленное его место — на магистрали, ведущей на юг. Вот на этом участке. Какой-нибудь системы в выборе места у него нет. Два раза подряд может работать на Восточном шоссе, потом переходит на Южное. Однажды его запеленговали и здесь, — показал на дорогу, которая вела на запад, — но больше в этом месте он почему-то не появлялся.
— Что вы скажете, Вилли? — спросил Менцель.
— Думаю, — опередил его с ответом Винклер, — радист располагает собственным транспортом. А это важное обстоятельство, так как частных машин в городе не так уж много.
— Почему вы так думаете? — спросил Харнак.
— Однажды чем-то напуганный радист прервал передачу, но уже через полчаса продолжал ее из другого места, километрах в десяти от прежнего. Преодолеть пешком такое расстояние за это время он, разумеется, не мог.
— А использование попутных машин вы не допускаете?
— Я не настаиваю на этой версии…
— А ведь вы, может быть, и правы, Винклер, — хлопнул ладонью но столу Менцель. — Мы обязаны учитывать все мелочи… Радиста надо ликвидировать. Это, — повысил тон, — первоочередная задача, и нам следует мобилизовать все силы… Для этого создадим оперативную группу, которую возглавит гауптштурмфюрер Харнак.
От неожиданности Харнак даже вздрогнул. Только этого ему не хватало!.. Влипнуть в такую передрягу!.. Ведь гоняться за большевистским агентом — все равно что с завязанными глазами ловить на рынке спекулянта. Мелкий и пошлый человек этот Менцель — никак не может простить ему то, что губернаторша заступилась за него. И это после всего того, что он, Харнак, сделал для этого остолопа в чине штандартенфюрера!
— Но ведь я ничего не смыслю в технике радиоперехвата, — попытался отвести от себя удар. — Только мешать буду унтерштурмфюреру.
— Почему же? — возразил Менцель. — Наоборот, вы ему очень поможете, планируя операции и принимая необходимые решения, исходя из его информации. Короче, — подсластил пилюлю, — я не вижу среди своих подчиненных ни одного человека, кроме вас, который мог бы справиться с этим заданием.
Харнак понял: решение окончательное и обжалованию не подлежит. Следовало по крайней мере сделать хорошую мину при плохой игре.
— В таком случае мне остается лишь поблагодарить вас, штандартенфюрер, за лестную оценку моих способностей. Однако я уверен, что господин Винклер выполнил бы задание лучше меня.
Сказал и посмотрел на унтерштурмфюрера — интересно, как тот отнесся к этим словам? С Винклером необходимо сейчас поддерживать наилучшие отношения — он может “информировать” так, что будешь ловить этого агента до последнего своего дня.
Менцель заморгал глазами. Сам черт не поймет этого Харнака — ведь понимает, какую свинью ему только что подложили, а держится так, словно получил в высшей степени почетное задание. Или он на самом деле так верит в свои силы? Впрочем, какое все это имеет значение? Важно лишь то, что он, Менцель, выиграет при всех обстоятельствах. Если Харнак сломает себе шею, это только подтвердит его отрицательное мнение о гауптштурмфюрере. Если же успешно завершит дело — это заслуга Менделя, который вовремя создал оперативную группу во главе с опытным сотрудником.
Что-что, а выгодно преподносить свои действия штандартенфюрер умеет!
Утром комендант дал Катрусе перепечатать совершенно секретное сообщение. Девушке достаточно было лишь взглянуть на него, чтобы представить себе исключительную важность документа. Она незаметно отпечатала не одну, как всегда, а две копии, спрятав вторую под кофточкой и швырнув смятые копирки в корзину.
Комендант тщательно сверил перепечатанное донесение с оригиналом, вызвал фельдфебеля Штеккера, который исполнял обязанности начальника канцелярии, и распорядился отправить сообщение секретной почтой.
— Это очень важно, — услышала Катруся, закрывая за собой дверь.
Стараясь ничем не выдавать своего волнения, девушка продолжала работу, но мысль о важном документе не давала ей покоя; казалось, спрятанная бумага обжигала грудь. Катруся с нетерпением ждала обеденного перерыва, чтобы, когда комендант и Штеккер уедут, позвонить Петру и условиться о свидании — он поймет, что у нее важное сообщение, и встретит ее. Когда, наконец, этот час настал, она вызвала машину для майора Шумахера, а сама озабоченно склонилась над бумагами, делая вид, что не успела выполнить срочную работу. Сейчас скрипнет дверь, через приемную пройдет фельдфебель Штеккер — седой мужчина с утомленным, морщинистым лицом. Остановится по обыкновению возле ее столика, справится о здоровье, немного пошутит и заторопится в столовую. Дверь скрипит, но шагов фельдфебеля не слышно. Катруся, не поднимая головы, закладывает в машинку листок чистой бумаги.
— Фрейлейн Кетхен, зайдите, пожалуйста, ко мне, — говорит Штеккер.
— К вам? — растерянно переспросила.
Фельдфебель стоял на пороге и как-то настороженно смотрел на нее. Вспомнилось, что и майор Шумахер, проходя через приемную, не улыбнулся ей приветливо, как обычно. Но не кажется ли все это ей? Ведь ничего удивительного нет в том, что фельдфебель позвал ее, — сколько раз так бывало… Успокаивает себя, а сама идет словно по узкой жерди, переброшенной через пропасть.
Пригласив Катрусю присесть, Штеккер вышел в приемную, запер входную дверь и вернулся в свой кабинет.
“Зачем это?” — хотела спросить его Катруся, но сдержалась. Фельдфебель присел на стул рядом и спросил:
— Фрейлейн Кетхен, где третий экземпляр оперативного сообщения?
Катруся почувствовала, как остановилось у нее сердце. Губы задрожали, в груди похолодело. И все же нашла в себе силы притвориться глубоко обиженной.
— Господин фельдфебель, разве можно так шутить?!. Я знаю, что такое секретные документы…
— Тем хуже для вас, раз вы понимаете, что такое секретные документы. — Штеккер вытащил из ящика стола тщательно разглаженные две копирки…
Катруся понимала — выхода нет, но все же барахталась:
— Вероятно, копирка слиплась… Я печатала, как было велено: два экземпляра.
— Я не эксперт, — улыбнулся фельдфебель, — и то вижу, что на одном из листков шрифт не такой четкий, как на другом.
— Не знаю, как это случилось… — растерянно произнесла Катруся после долгой паузы. Она понимала, что несет вздор, но не могла придумать ничего лучшего. Сейчас Штеккер позвонит по телефону, придут гестаповцы, сразу найдут эту бумажку, которая жжет и жжет, словно раскаленный уголь…
А если попробовать выбросить ее? Напрасно: останется вторая копирка. Они сразу заинтересуются ее знакомыми. И прежде всего Кремером. Боже мой, как она раньше не подумала об этом?! Ведь по просьбе Карла Кремера ее рекомендовали коменданту…
Сердце оборвалось. Катруся закрыла глаза. Она не жалела себя — ей уже не было страшно. Красными кругами запылали щеки. Глупая девчонка! Именно так и подумала о себе: “девчонка…”. Такое дело провалила из-за глупости и неосторожности. Сколько раз тебе говорили — нет в нашем деле мелочей, думай обо всем, думай над каждым шагом! А она бросила копирки в корзину и успокоилась.
“Необходимо предупредить Петра”, — подумала Катруся. Сейчас надо отвлечь внимание фельдфебеля. Потом три шага, и она в приемной. Остается закрыть дверь и накинуть крючок. Спастись она не сможет — Штеккер запер входную дверь, но позвонить Петру она успеет.
Катруся притворилась, что задыхается.
— Налейте мне воды, — попросила и, когда фельдфебель повернулся к ней спиной, бросилась к двери.
— Ничего не выйдет, фрейлейн Кетхен, — остановил ее Штеккер. — Крючок держится на честном слове…
Девушка едва не расплакалась. Прикусив губу, она с ненавистью смотрела на фельдфебеля.
— Что вы от меня хотите?!.
Вместо ответа тот смял вторую копирку, бросил в пепельницу и зажег. Это было так неожиданно, что Катруся окончательно растерялась. Ничего не понимая, смотрела, как извивалась в огне черная бумага.
Погас огонь, на дне пепельницы остался тонкий слой серого пепла. Штеккер сдул его в окно и сказал:
— Я хотел бы, чтобы вы были осторожнее, фрейлейн Кетхен, и не допускали больше подобных ошибок.
Девушка молчала. Что это? Дешевая провокация или предупреждение друга? Ответа она не находила…
— Так вот, подумайте над этим, а я пообедаю, — улыбнулся Штеккер и медленно направился к выходу.
— Кто вы?! — промолвила Катруся чужим, хриплым голосом.
— Фельдфебель Штеккер, — повернул тот седую голову.
— Не то… Я хотела спросить: кто вы?.. Ну, почему вы так поступили?..
— А вы как думаете?
— Не знаю, что и думать…
— А вы подумайте. Иногда это бывает очень полезно…
И вышел.
Катруся заложила чистый лист бумаги в машинку и долго сидела неподвижно. Она знала лишь одно — надо посоветоваться с Петром. Если это и провокация, лишняя встреча с ним ничего не меняет — ведь об их отношениях все равно знают в гестапо. Позвонила и условилась встретиться с Петром сразу после работы.
Поняв, что с девушкой что-то приключилось, Петро решил выехать ей навстречу. Выслушал взволнованный рассказ Катри и сказал Галкину:
— Поедем-ка, Федя, за город. Только не спеши — думать будем…
Когда миновали околицу, Петро попросил Катрусю:
— Дай мне ту бумажку.
Покраснев от смущения, Катруся отвернулась, извлекла из-за лифа листок бумаги и дала его Кирилюку.
— Ты уверена, что это не фальшивка? — спросил он, внимательно прочитав копию донесения.
Девушка подумала и решительно произнесла:
— Нет, не фальшивка. Во-первых, тут подтверждаются кое-какие уже известные нам факты — например, насчет передислокации пятьдесят седьмого танкового корпуса в район Одессы. Совпадают также данные о количестве паровозов и вагонов на нашем узле. Они же не знают, что нам известно, а что — нет, и в чем-то непременно ошиблись, если бы сфабриковали фальшивку.
— Логично, — сказал Петро задумчиво. — Итак, документ не фальшивый. Однако стоит ли передавать такие сведений, если это может привести к провалу одного–двух наших разведчиков?
— Они же могут потом все переиначить, — отозвался Галкин. — Мы передадим, что пятьдесят седьмой корпус под Одессой, а он уже будет где-нибудь в Прибалтике…
— Вряд ли, — возразила Катруся. — Подумай сам, легко ли перебросить целый танковый корпус с одного места на другое!
— Вот! Теперь мы подошли к главному, — сказал Петро. — Стало быть, если документ не фальшивый, гестапо не было никакого смысла подсовывать его нам. Наоборот, если бы они узнали, что эти сведения попали в наши руки, то обязаны были бы…
— Тут же взять нас! — подхватил Галкин.
— Правильно, — сказал Петро. — Версию насчет фальшивки отбрасываем. Теперь расскажи нам, Катруся, про этого фельдфебеля Штеккера.
Что могла рассказать Катруся? Вообще-то Штеккер — человек замкнутый, но по отношению к ней добр и внимателен. Однако при всем том она и думать, конечно, не могла, что он так поведет себя во время их последнего разговора… И девушка по просьбе Петра снова во всех подробностях воспроизвела этот разговор.
— Трудно гадать, — вздохнул Петро, — но, похоже, имеем дело с человеком порядочным, а может быть, даже и с… Как он сказал тебе на прощание? Что думать иногда бывает полезно?.. Не поняла литы это как намек?
— Я тогда ничего не поняла, — откровенно призналась Катря.
— Что ж, подведем итог, — сказал Петро. — Фельдфебель, который обязан охранять военную тайну, видит: кто-то сделал лишнюю копию с важнейшего документа. Хорошо, допустим, это не агент гестапо, выслеживающий Катрусю. Но как должен был бы поступить в таком случае любой гитлеровец? Конечно же, немедленно сообщить своему непосредственному начальнику, за что получают благодарность или даже награду. Так?..
— Безусловно, — подтвердил Галкин. — Между прочим, мы уже на десятом километре. Поедем дальше?
— А бензина хватит?
— Полный бак.
— Прекрасно, тогда едем дальше. Однако фельдфебель не только отказался от награды, но и ступил на очень опасный путь… Если бы стало известно о его проступке, Штеккера судил бы военный трибунал. А там разговор короткий — расстрел. Фельдфебель — человек опытный и умный — не мог не знать этого. И все же не выдал Катрусю. Выходит, он…
— Порядочный человек, — закончила Катруся.
— Или…
— Не верю я этому, — энергично замотал головой Галкин. — Сейчас вы скажете — коммунист. Что-то не попадались мне такие…
— Значит, тебе просто не повезло. Нельзя стричь всех под одну гребенку. Тебе, Катрунця, придется поговорить с фельдфебелем… Хуже не будет, а выиграть можем много. А теперь поехали назад. Завтра выход в эфир, да и хлопцы Дорошенко будут нас ждать. Заремба говорил, должны передать в город взрывчатку.
Разговор Катруси со Штеккером произошел на другой день и снова во время обеденного перерыва. Когда уехал комендант, девушка заглянула в комнату фельдфебеля. Он стоял, опираясь руками о стол, и разглядывал последние телеграммы. Катруся видела: их принес ефрейтор из пункта связи как раз перед обедом.
Штеккер с любопытством поглядел на девушку.
— Заходите и… — Оборвав фразу, он произнес: — Я вас слушаю.
— Мне хотелось бы, если господин фельдфебель не возражает, продолжить наш вчерашний разговор…
— Фрейлейн заперла входную дверь? — спросил Штеккер и в ответ на ее утвердительный жест шутливо заметил: — В крайнем случае нас могут заподозрить в любовных шашнях, а в такие дела СД редко сует нос.
— Что вы подумали вчера обо мне? — спросила Катруся.
— Что вы храбрая девушка, но весьма неопытная…
— Значит, вы догадались, кто я… и для чего мне понадобилась копия?
— Если скажете, буду знать, — лукаво усмехнулся Штеккер.
— Мы стоим сейчас по разные стороны баррикады, — начала Катруся несколько патетически, совсем не так, как собиралась. Покраснела и пошла напролом: — Вы — гитлеровский солдат, я — советская девушка. Нас разъединяет пропасть, но ведь каждый порядочный человек — а вы мне представляетесь порядочным человеком, господин Штеккер, — должен бороться с фашизмом.
Фельдфебель обошел вокруг стола, стал напротив девушки. Он хотел что-то сказать, но Катруся с горячностью продолжала:
— Каждый человек, я еще раз повторяю это, если в нем есть хоть капля совести, обязан бороться с фашизмом!
Штеккер решительным жестом остановил ее.
— А откуда ты взяла, — спросил, — что мы стоим по разные стороны баррикады? Да я стоял на твоей стороне, когда тебя еще на свете не было!..
Он взял ошеломленную Катрусю за руку, подвел к столу и усадил. Потом сел сам и начал спокойно и медленно, словно объясняя урок:
— Ты думаешь, в Германии все подряд фашисты? Ваша молодежь склонна именно так думать. Мол, если Гитлер захватил в Германии власть — значит, там не осталось больше честных людей. Правда, нацисты одурманили головы многим, но есть еще люди, которые продолжают борьбу. Мы боремся с фашизмом и никогда не склоним головы. Видишь, — показал на телеграммы, — от них многое зависит. Ежедневно десятки требований, распоряжений, указаний. Комендант приказывает, я выполняю. А выполнять можно по-разному: можно отправить эшелон с солдатами сегодня, а можно и через несколько дней. Можно загнать на глухую станцию состав с бензином и разыскивать его две недели. Все можно, фрейлейн Кетхен. Пусть это капля, но ведь, говорят, и капля камень долбит…
— Никогда не думала, что у нас будет такой разговор, товарищ Штеккер, — сказала Катруся. — Хотите работать с нами?
— Сегодня я весь день ждал этого предложения! — воскликнул фельдфебель. — Был уверен, вы не прейдете мимо меня. После того что произошло, вы должны были найти со мной общий язык.
— И нашли! — радостно сказала Катруся.
В тот самый час, когда Катруся нашла, наконец, общий язык со Штеккером, Галкин зашифровал данные секретной сводки коменданта железнодорожного узла. Закончив работу, позвонил в магазин. Петро ответил, что ждет его, и скоро блестящий черный “мерседес” уже отражался в зеркальных стеклах витрин роскошного магазина на улице Капуцинов.
Петро вышел из магазина. Шагал, почти не обращая внимания на лысого пожилого приказчика, который, согнувшись, семенил за хозяином. Даже внешний вид хозяина магазина свидетельствовал о процветании фирмы. В модном сером костюме, в велюровой шляпе и с драгоценным перстнем на пальце, он, бесспорно, воплощал коммерческий талант и финансовую респектабельность. Остановился возле лимузина, бросив пренебрежительный взгляд на приказчика. Со стороны можно было подумать, что глава фирмы отдает какие-то распоряжения — такой надменно-скучающий вид был у него. В действительности же Петро говорил:
— Так вы, Михайло Андреевич, дорогуша, дождитесь Катруси. Она позвонит или зайдет в магазин. А вечером, умоляю, позвоните мне, ибо я могу умереть от волнения…
— Вы человек молодой и до смерти вам ой как далеко! — ответил Фостяк. — Но чего не сделаешь для Карла Кремера! Позвоню, непременно позвоню, будьте спокойны.
На городской заставе дежурил усиленный эсэсовский патруль. Документы проверял оберштурмфюрер СС. Он долго разглядывал, чуть ли не обнюхивал документы Петра, заглянул в машину и только после этого приказал пропустить.
— Не нравится мне этот патруль, — сказал Галкин, когда тронулись. — В этом направлении больше ездить не будем. Сегодня в последний раз.
Петро согласился с Федьком. Действительно, этот эсэсовец насторожил его. Особенно не понравилось Петру, что начальник патруля сделал в своем блокноте какую-то заметку — уж не записал ли он номер машины?..
Галкин увеличил скорость — до выхода в эфир осталось немного времени, а предстояло покрыть еще километров двадцать. Там, около шоссе, густая рощица с удобным съездом и выездом. Это тем более удобно, поскольку далеко в лес забираться некогда — до наступления сумерек еще нужно успеть добраться до леса, где их будут ждать партизаны.
Стояла золотая осень. Конец сентября, а дни теплые, как летом. Деревья еще зеленые — кое-где листва тронута желтой и красной красками. Воздух прозрачен. В природе покой, будто нет ни самолетов, которые только что прошли в вышине куда-то на запад, ни колонн танков с крестами, поднявших тучи пыли на соседнем проселке. Так и кажется, что всюду царит тишина, и единственный хищник — это ястреб, который кружит над рощей.
Галкин остановился на пригорке, отсюда хорошо было видно шоссе. Убедившись, что на магистрали никого нет, свернул в молодой лес, прижавшийся вплотную к дороге. Федько забросил на дерево антенну, начал настраивать рацию.
“Тире, точка, точка… Тире, точка, тире… Тире, точка, тире… ДКК”.
Петро, укрывшись за ветвистым кустом, наблюдал за шоссе. Ничего не видно — ни машин, ни возов. Совсем спокойно, лишь над головой пташка какая-то попискивает.
Галкин свистнул в знак того, что передача окончена и можно возвращаться домой. Но Петро не велел заводить машину: справа на шоссе, в километре от них, появилась какая-то черная точка. Потом донесся гул мотора. “Переждем”, — решил он. Машина шла не очень быстро для легковой — километров шестьдесят-семьдесят в час. Но когда подошла на сравнительно близкое расстояние, Петро увидел, что это “хорх”. Откуда взялась такая машина? Не иначе военная. Действительно, рядом с шофером сидел человек в офицерской фуражке. Однако когда “хорх” поравнялся с ним, Петро узнал в военном Харнака. Да, не могло быть никаких сомнений: это гауптштурмфюрер. На заднем сиденье расположились военные, которых Кирилюк не знал.
“Что он тут делает?” — подумал Петро, и вдруг его осенило: да ведь это Харнак охотится за ними!.. Вот почему и усилен был наряд эсэсовцев на заставе, вот почему шныряет этот “хорх” на дороге. Галкин прав: на этом шоссе в ближайшее время появляться нельзя.
“Хорх” исчез за поворотом. Галкин вывел машину на просеку. Еще раз осмотрелись и выскочили на шоссе. Поехали в противоположную от “хорха” сторону. Вдруг Федько встревоженно свистнул:
— Посмотрите назад! По-моему, тот самый “хорх”…
Петро оглянулся. Галкин не ошибся: мощный “хорх” шел за ними.
— Быстрее, Федько! — крикнул Петро. — Они не должны догнать нас!
Галкина не надо было подгонять — стрелка спидометра уже приближалась к стокилометровой отметке. Федько наклонился вперед, стиснув зубы и крепко сжимая руль. На поворотах не снижал скорости, и машину заносило.
Петро оглянулся. Расстояние между ними уменьшалось — “хорх” был уже метрах в трехстах. Петро представил себе, как там сейчас приготовили оружие, а Харнак ругается сквозь зубы…
Да, у них с Федьком одна надежда — скорость. Видимо, Харнак патрулировал на шоссе и, получив сообщение, что рация вышла в эфир, решил занять позицию около леса. “Хорх” миновал место их стоянки, но примерно километра через два, когда лес кончился, повернул обратно. И тут-то гестаповцы заметили выехавшую из леса машину и пошли за ней вдогонку.
Теперь — скорость! Обнаружив Петра в “мерседесе”, Харнак, конечно, удивится, но машину непременно обыщет. Можно, правда, незаметно выбросить рацию. А что потом? Братья Шиши вряд ли продадут им другой аппарат, даже за доллары. Но дело не только в этом — пусть не найдут рацию, — все равно подозрение останется, а это равносильно провалу.
А “хорх” постепенно догоняет их. Давай, Федько, дорогой, теперь все зависит от тебя!..
Впереди крутой поворот. Галкин срезал его так, что у Петра сердце оборвалось: еще одно мгновенье — и “мерседес” полетел бы вверх колесами в кювет. Федько вырвал машину уже с обочины и бросил ее на крутой подъем так, что мотор едва не задохнулся — лишь застонал, а потом заревел еще злобнее, набирая скорость.
На этом повороте Федько выиграл у “хорха” добрую сотню метров. Дальше шоссе было почти прямое, лишь с крутыми спусками и подъемами, и здесь “хорх” имел явное преимущество. Расстояние сокращалось метр за метром: триста, двести семьдесят, двести сорок…
— Нам осталось не больше пяти километров, Федько, — сказал Петро. — Там пойдет проселок, дорога сухая, мы ударим им в лицо такой пылью, что они вынуждены будут отстать.
Галкин не ответил. Да и что мог сказать, если и без того жал на всю железку — стрелка спидометра, дрожа, остановилась у последней цифры на щитке.
Раздались выстрелы. Это хорошо: значит, нервы у них не выдержали. На таком расстоянии угодить в “мерседес” может лишь шальная пуля. А то, что они высунулись по пояс из окна, сразу же отразится на скорости их машины. Поняв это, гестаповцы прекратили стрельбу. Но Галкин успел выиграть еще полсотни метров. Преследователи не знают, что до поворота на проселок осталось не так уж и много. Два километра, полтора… Вот за тем пригорком свернуть в лес… Только бы не подвела машина…
Федько не рискнул на большой скорости съезжать на проселок: глупо бы было теперь, когда их шансы так возросли, опрокинуться или повредить машину. В двухстах метрах от съезда он начал тормозить. “Хорх” уже почти догнал их, и офицер в черном мундире высунулся с пистолетом в окно. Но тут Галкин проскочил через кювет в лес, сразу же подняв за собой густую желтую тучу, которая скрыла их машину, как дымовой завесой.
Позади раздавались выстрелы, а “мерседес” уже мчался лесным проселком, снова набирая скорость. Семьдесят–восемьдесят километров — для такой дороги это даже слишком много… Машину кидало на выбоинах, железо стонало и скрипело…
Кончился лес, и проселочная дорога начала петлять меж кукурузных и картофельных полей.
— Только бы не наскочить на гвоздь, — буркнул Галкин, выруливая на дорогу, которая вела к темневшему вдалеке лесу.
Петро жадно всматривался в эту темную полосу на горизонте. Там ждали их партизаны. Как бы не проворонить их!.. Кто-то из ребят должен стоять с телегой на обочине дороги — будто треснула ось.
Лес сразу начался густой и темный. Проселок узкий, не накатанный, “мерседес” аж загудел на выбоинах. Пришлось немного сбавить скорость.
Пошли повороты. Галкин — как это ему только удавалось? — творил чудеса, проскакивая между деревьями. Наконец показалась телега. С нее замахали руками. Галкин затормозил так резко, что автомобиль пошел юзом, задел бампером телегу и опрокинул ее. Петро выскочил из машины, побежал навстречу выскочившим из-за кустов парням с автоматами.
— Ложись! — закричал. — Ложись, сейчас здесь будут гестаповцы!
Партизаны сразу же исчезли в кустах. Последним бежал Галкин. Вдруг кто-то выскочил из-за дерева, потянул Петра за руку, и оба скатились в канаву.
Рев мотора заполнил лес. Из-за поворота вылетел “хорх”. Завизжали тормоза. Харнак бросился к “мерседесу”. За ним бежали еще четверо с автоматами в руках. Обнаружив, что “мерседес” пуст, гауптштурмфюрер громко выругался.
— Они не могли далеко убежать! — крикнул он и побежал к кустам, где притаились партизаны.
Человек, лежавший рядом с Петром, поднял автомат. Это был Богдан. Петро не поверил своим глазам, хотя и мечтал об этой встрече и надеялся на нее.
“Не стреляй, — хотел предупредить. — Надо взять живыми!” Но не успел: автомат затрясся, выплевывая огонь, и Харнак упал лицом в траву. Защелкали еще автоматы, и те четверо возле “хорха”, бросив оружие, подняли руки вверх. Из-за телеги вышли двое парней с автоматами и аккуратно подобрали брошенное эсэсовцами оружие.
Богдан вскочил, побежал к пленным. Вдруг раздался выстрел. Он бросился на землю. Пуля отколола щепку от сосны над самой головой Петра. Богдан лежа дал короткую очередь из автомата, затем кинулся в сторону, где лежал Харнак. Вновь тишину расколол пистолетный выстрел. Однако Богдану на какой-то миг раньше удалось прикладом отвести руку гауптштурмфюрера. Сел на Харнака, вывернул ему руки, передохнув, поднял его за воротник.
— Добрый день, герр гауптштурмфюрер, — сказал. — Никогда не думал, что вот так нам придется встретиться…
Харнак затравленным волком смотрел на партизан, которые выходили на поляну. Увидев среди них Петра, удивленно замигал глазами.
— Ничего не понимаю, — спросил, — а вы как попали сюда? Где вас взяли?
Богдан ухмыльнулся.
— Как погляжу, здесь собралась тесная компания старых знакомых. Приятная встреча, не правда ли, герр гауптштурмфюрер? Не хватает лишь кофе…
Он подошел к Петру. Они крепко обнялись.
— Как я рад… — прошептал Петро, но не смог продолжать — к горлу подкатывался клубок.
Харнак испуганно смотрел на него.
— Кремер, неужели вы?..
— Неужели вы еще не поняли?
— Да ведь сам губернатор… — начал Харнак, но безнадежно махнул рукой. — Ловко же вы нас провели!..
— Отведите его! — приказал Богдан партизанам и объяснил Петру: — Дорошенко назначил меня старшим… — Он улыбнулся, явно гордясь оказанным ему в отряде доверием и уважением. — Берегите гауптштурмфюрера как зеницу ока, — добавил. — Это важная птица!
Глава шестая Час испытаний
Миновала предпоследняя военная зима. Для группы Петра она прошла в повседневных хлопотах. Штеккер оказался незаменимым человеком: он имел доступ к информации, которая интересовала командование Советской Армии. Галкин регулярно дважды в неделю выходил в эфир. Теперь запеленговать рацию было невозможно: Федько все время менял место передач. Однажды послал в эфир сообщение под носом гестаповцев — Петро сидел в гостиной фрау Ирмы, а в машине, которая ждала его возле особняка губернатора, Галкин выстукивал:
“Тире, точка, точка… Тире, точка, тире… Тире, точка, тире… ДКК”.
Зато для Зарембы зима выдалась тяжелая. После ареста вуйка Дениса пришлось заново налаживать подпольную типографию. Хлопоты, связанные с поисками бумага и краски для ротатора, отняли много времени и сил. Кроме того, для типографии нужно было подыскать надежное помещение. Каждый шаг требовал трезвых расчетов, суровой конспирации и мудрого предвидения.
После долгих раздумий Евген Степанович решил создать типографию на квартире модного дамского портного Олексы Павловича Мысыка. Заремба хорошо знал его еще со времени совместной работы в КПЗУ [24]. Да, это была подходящая кандидатура. Олекса Павлович шил для жен важных гитлеровцев и крупных коммерсантов, понаехавших в город. Вряд ли кто заподозрит его. К тому же квартира у портного большая, живут они в ней только вдвоем с женой. К портному проще заглянуть со свертками в руках и уйти с таким же свертком. Кто догадается, что там не отрез ткани или платье, а бумага или листовки!
Мысык согласился без лишних разговоров. Печатник поселился у него под видом подмастерья, — хозяин, дескать, уже не управляется с заказами. И вот гестаповцы, раззвонившие о ликвидации подполья, снова увидели на стенах домов и на заборах листовки.
Этот день стал “черной пятницей” для Менцеля. Его вызвал губернатор и положил перед ним на стол два свежих коммунистических воззвания. Положение усугублялось тем, что к губернатору они попали раньше, чем в гестапо, и Менцель, не зная, как выкрутиться, порол какую-то чушь.
Губернатор резко прервал его:
— Вы говорили, что коммунистическое подполье в нашем городе окончательно ликвидировано. Как согласовать ваши слова с этими документами?..
Шеф гестапо поспешил заверить губернатора, что в кратчайший срок изобличит преступников, но листовки продолжали появляться. А через месяц после злосчастной беседы с губернатором Менцелю поднесли пилюлю, которая едва не доконала его: один из агентов доставил целую подпольную газету с разными материалами, даже с передовой статьей “Общая борьба против общего врага”.
Эта газета была гордостью Зарембы. Она содержала статьи и давала широкую информацию о положении на фронтах и в тылу. Евген Степанович сам написал для газеты обращение к украинскому и польскому народам, между которыми бандеровцы стремились вбить клин.
…Несколько дней в комнате не топили. Евген Степанович накинул на плечи пальто и писал неровным почерком — пальцы одеревенели от холода. Через полчаса он должен передать Мысыку материалы для газеты, а еще нужно успеть подготовить информацию для рубрики “Краевые известия”. Поэтому писал быстро, не задумываясь особенно над стилем — было бы лишь коротко и доходчиво.
“В первой половине ноября, — ложились на бумагу строчки, — на линии Потуторы — Ходоров взлетел в воздух эшелон с мадьярскими войсками. Спаслось едва лишь двадцать человек. Остальные убиты или тяжело ранены”.
Подготовив еще несколько подобных сообщений, Заремба принялся просматривать письма из Германии. Профашистские газеты часто прибегали к провокациям, фальсифицируя письма людей, которые якобы добровольно поехали на работу в Германию и теперь наслаждались там привольной жизнью. Фабриковались эти письма в приторно-угодническом духе и были рассчитаны на неопытную, несознательную молодежь. В подпольной газете следовало разоблачить эту ложь. Партизаны раздобыли несколько подлинных писем от юношей и девушек, которых гитлеровцы угнали на работу в Германию, где они находились на положении рабов, — наиболее яркие отрывки из этих писем и готовил Заремба к печати.
Закончив работу, Евген Степанович спрятал рукописи под подкладку своей видавшей виды огромной меховой шапки. Захватив с собой отремонтированный примус, он заторопился к Мысыку.
Модест Сливинский злился на весь мир. Пани Стелла уже две недели ждет его в Будапеште, а он вынужден болтаться в этом опротивевшем ему городе. Если бы хоть была еще необходимость, а то ведь Менцель просто вертит им, как цыган солнцем…
Пан Модест уже забыл, как когда-то рвался сюда. Тогда много отдал бы, чтобы поскорее представилась возможность побродить по Студенческой или посмотреть на город с Крутого замка. Неужели прошло всего лишь три года? Как все меняется… Тогда мечтал о Киеве, а сейчас со страхом просыпается по ночам — не доносится ли уже канонада большевистских орудий?..
Ко всем чертям этих гитлеровцев: понаобещали златые горы, а теперь дивизии красных уже за Шепе-товкой. Пани Стелла давно ликвидировала здесь свои дела и подалась на Запад. Пока что — в Будапешт, но они условились забраться куда-нибудь подальше.
Умная женщина эта пани Стелла! Красные еще только подступали к Днепру (газеты Геббельса вопили, что это случайный прорыв и что вскоре немецкая армия вновь перейдет в наступление), а пани Стелла позвала к себе Сливинского для секретного разговора, который пан Модест никогда в жизни не забудет.
Как она тогда сказала? Гитлеровская кобыла захромала сразу на все четыре ноги… А он, Модест Сливинский, который считал себя дальновиднейшим человеком, засмеялся в ответ, как самый последний идиот. Пани Стелла пожала плечами — дескать, каждый сам себе хозяин. Все же он послушался ее и сумел вовремя сбыть наиболее ценные картины. Что бы он сейчас с ними делал? Никто ничего не покупает, все забились в свои щели и выжидают. А чего выжидать! Всем понятно — скоро большевики будут здесь. Пусть гитлеровские газеты другим втирают очки — мол, на подступах к городу сооружены такие укрепления, какие Советам никогда не взять, — Модест Сливинский, простите, господа, имеет голову на плечах.
Сидеть бы ему сейчас в уютной будапештской квартирке и пить кофе с коньяком в обществе пани Стеллы. Боже мой, где найти слова для возвеличения ума и дальновидности этой женщины? Война научила ее, сказала на прощание пани Стелла, что лишь устойчивая валюта и драгоценности могут гарантировать спокойствие и счастье. Единственный выход для них — перебраться в Швейцарию: живописная природа, собственный коттедж… Когда кончится война, откроются дороги в Ниццу или на итальянские курорты — ничего больше порядочному человеку и не нужно. Да и годы уже не те…
Пани Стелла это сказала впервые — о годах. Она совсем не постарела, даже девушки могут позавидовать ее фигуре и цвету лица. Тем не менее она права: годы неумолимы… Пан Модест посмотрелся сегодня утром в зеркало и убедился, что эти самые годы основательно побелили ему голову. Да как тут не поседеешь, если Менцель на каждом шагу ставит тебе палки в колеса!
Месяц тому назад, когда Модест Сливинский осторожно намекнул, что ему хотелось бы свернуть свои коммерческие дела и найти тихий приют где-нибудь подальше от фронта, штандартенфюрер грохнул кулаком по столу.
— Выехать из города можете лишь по нашему разрешению. Любое своеволие, — предупредил он, — будет расцениваться как измена. Надеюсь, вы понимаете, чем это пахнет?..
Да, Модест Сливинский знал это. Потому и слонялся по Люблинскому базару, вместо того чтобы сидеть в удобном кресле в будапештской квартирке пани Стеллы.
Кончался май. Дни стояли ясные и теплые, без осточертевших прикарпатских дождей. Базарная площадь напоминала муравейник: что поделаешь, всем хочется есть, и люди несут сюда последнюю тряпку в надежде обменять ее хотя бы на горсть муки. Сливинский чувствовал себя в этой толчее как рыба в воде. Приценивался, хоть и не покупал (другое дело, если попадалось действительно стоящее, ценное), а сам высматривал красивых девушек, лелея надежду: авось да удастся выхватить из базарного скопища волшебную золотую рыбку.
Пану Модесту всегда везло. Эту девушку заметил сразу, хоть и проталкивалась она через толпу далековато от него, — тоненькая, с огромными лучистыми глазами и высоким лбом. Сливинский пробрался поближе к ней. Да, хороша: розовые, свежие щечки с ямочками невольно навевали мысли о сладостном домашнем уюте… Пан Модест подумал, что из этой девушки вышла бы хорошая жена.
Сливинский посмотрел ей вслед и вздохнул. Сейчас ему было не до девушек, способных стать верными женами. Пан Модест знал, что завоевать сердце такой русалки с ямочками на щеках — трудное и неблагодарное занятие.
“Горда, — вздохнул Сливинский, — горда и умна”. Он не любил умных: был убежден, что красивой женщине ум лишь вредит, так как несколько раз обжегся именно на этом. И все же что-то вынудило его следовать за девушкой. Он шел на некотором отдалении, любуясь ее стройной фигуркой и легкой походкой. Не отставал, надеясь на счастливый случай, который может привести к знакомству.
Девушка была в желтом платье с черным узорчатым рисунком. Это со вкусом сшитое платье, подчеркивавшее всю прелесть ее фигуры, совсем не гармонировало с большим пузатым медным чайником, который девушка несла на вытянутой руке, очевидно, чтобы не испачкаться, хотя чайник сиял своими выпуклыми начищенными боками.
Сливинскому захотелось догнать девушку, избавить ее от этого сверкающего чудовища. Ей бы в руки сумочку или по крайней мере зонтик, а то — чайник!.. Боже мой, что делает с женщинами война!..
Пан Модест ускорил шаг, стремясь догнать незнакомку. Но та неожиданно остановилась возле мастерской по ремонту примусов и посуды. Оглянулась и прикрыла за собой обитую жестью дверь.
Сливинский остановился, сделав вид, что заглядывает в витрину соседнего ресторана. Решил дождаться девушки. Ода недолго испытывала его терпение — вышла минут через пять-шесть уже без чайника, осмотрелась вокруг и засеменила на своих высоких каблуках к центру. Пан Модест собрался уже было двинуться за ней, как кто-то взял его за локоть.
— Хороша штучка, не правда ли? — услышал. Оглянулся недовольный, и вдруг лицо растянулось в насильственной улыбке: знакомый унтерштурмфюрер из гестапо.
— Вы думаете? — спросил Сливинский безразличным тоном. — Возможно… Не обратил внимания…
— А почему же вы тут торчите? Неужели только потому, что собирались меня пригласить закусить с вами?..
— Зайдемте, — покорно согласился Сливинский. Все равно девушки уже не видать — исчезла в толпе.
На другой день пан Модест проснулся поздно, с тяжелой после вчерашнего пьянства головой. Черт бы побрал этого унтерштурмфюрера — и откуда только он взялся? Просидели в ресторане до полуночи, пили водку с пивом, а это для пана Модеста смерть. Мучила изжога. Противно было смотреть и на зеленый каштан за окном, и на солнечные блики, игравшие на стекле стеллажей, и на портреты женщин на стенах. Даже они выглядели хмуро и вульгарно. А панна Ядзя, которая обольстительно улыбалась, опершись подбородком на колени, казалась ему сейчас просто уличной девкой.
Повернулся спиной к стене и застонал. Стало так жаль себя, что едва не заплакал. И почему он такой несчастный? В то время как умные и осмотрительные люди роскошествуют далеко от красного фронта, он должен пить шнапс с каким-то унтерштурмфюрером в городе, который не сегодня-завтра станет прифронтовым. Черт бы побрал этого Менцеля! Сливинский соскочил с кровати, налил полстакана коньяку, растворил в нем ложку соды и с отвращением выпил.
И все из-за той красивой девчонки. Не увязался бы за ней — не встретил бы этого проклятого унтерштурмфюрера. Даже вспоминать тошно, как накачались они вчера. Ко всем чертям девчонку! Пан Модест был суеверен: ежели такое начало, каким будет конец?..
От коньяка закружилась голова, но зато исчезла изжога. Сливинский выпил одним духом стакан содовой воды — стало совсем легко, даже захотелось есть. Пан Модест посмотрел на часы — пора обедать. Одеваясь, уже весело насвистывал. Черт с ней, с этой красивой штучкой! Кажется, так выразился унтер-штурмфюрер. Выходит, она действительно красивая, если это заметил даже такой мужлан.
Прошло несколько дней. Пан Модест успел уже забыть “хорошенькую штучку” в желтом платье. Ибо все в жизни забывается, даже русалки с ямочками на щеках. Но она сама напомнила о себе. Однажды он увидел ее около рядов, где торговали всевозможной домашней рухлядью. На этот раз девушка была в скромной белой блузке с высоким воротником. Сливинский подумал, что желтое платье с низким вырезом шло ей больше.
Девушка недолго ходила между рядами. Купила что-то и пошла, как и в тот раз, в мастерскую с пылающим примусом на вывеске. Пан Модест подождал несколько минут, но она не выходила. Осторожно заглянул в окно, заставленное кастрюлями и чайниками. Сквозь грязноватое стекло ничего не увидел. Перешел на другую сторону узкой улицы и остановился у входа в ресторан, словно поджидал кого-то из друзей. Совсем незаметный для постороннего глаза — подвыпивший субъект, успевший во время обеда опрокинуть чарку–другую.
Девушка вышла с тем же блестящим медным чайником, держа его по-прежнему на вытянутой руке. Немного задержалась в дверях, может, секунду–две, не больше. Сливинский прилип к ней взглядом — и вдруг его как будто что-то кольнуло. Он еще не знал что, но было такое чувство, словно наступил на что-то живое, укусившее или ужалившее. Машинально еще следил за девушкой, даже сделал несколько шагов за ней, но скоро остановился в раздумье и потом решительно двинулся в ресторан.
Сливинский устроился около окна, из которого было удобно наблюдать за мастерской. Заходили туда преимущественно женщины — с кастрюлями, чайниками, примусами. Видимо, мастер имел большую клиентуру — что ж, это понятно: новую кастрюлю, а тем более примус, теперь и днем с огнем не сыщешь.
Самого мастера пан Модест увидел лишь около пяти часов. Кажется, интуиция не подвела его! Когда девушка выходила из мастерской, он через широко раскрытую дверь заметил бородатое лицо мастера и сразу же насторожился. Ему вспомнились слова Менцеля о некоем Зарембе — человеке со шрамом на левой щеке, который мог отпустить бороду с целью скрыть его. Пан Модест уже не раз наводил гестапо на подозрительных бородачей, но ошибался — неужели и сейчас тянет проигрышный билет?
У человека, который закрывал мастерскую, было круглое лицо, обрамленное коротко подстриженной бородкой. Пан Модест не мог разобрать, есть ли у него на левой щеке шрам, но все остальное как будто сходится: кряжистый, полнолицый…
Боже мой, неужели в самом деле Заремба?!.
По широкой лестнице большого губернаторского особняка Петро поднялся на второй этаж, где помещалась гостиная фрау Ирмы. В последнее время он с удовольствием выполнял обязанности “чиновника для особых поручений” при супруге губернатора. После того как ему удалось выполнить несколько деликатных ее просьб, он пользовался у губернаторской четы безграничным доверием и считался одним из ближайших друзей их дома.
Увидев Петра, фрау Ирма не могла скрыть своей радости.
— Сам бог послал вас сегодня, милый Карл! — воскликнула она. — Не знаю даже, как бы я обошлась без вас.
Петро почтительно склонил голову.
— Приказывайте, я к вашим услугам.
— Мы ждем сегодня высоких гостей. Будет сам командующий и с ним несколько генералов. Вы должны помочь мне встретить их.
— Готов выполнить какое угодно поручение. Хотя… в последнее время я потерял веру в наших генералов.
— Не делайте поспешных выводов, — возразила фрау Ирма, — мне говорили, наши укрепления такие мощные, что русским никогда их не одолеть.
— Я слышал это уже много раз, — не сдавался Петро, — но, видно, наши генералы разучились воевать.
— Не смейте так говорить! — испугалась губернаторша. — Я верю в нашего командующего! Русские сломают себе шею, вот увидите…
— Этот город мне очень нравится, и не хотелось бы покидать его. — Петро произнес эти слова со всей искренностью. Он действительно привык к городу и полюбил его. — Надеюсь, вы заранее поставите меня в известность, если?..
— У нас нет секретов от вас, мой друг.
Петро охотно взялся помогать фрау Ирме — это давало ему возможность присутствовать на вечере. Он надеялся, что у генералов развяжутся языки.
На лестнице Петро встретил адъютанта губернатора Рудольфа Рехана.
— Привет, Руди! — подмигнул ему. — У вас такой вид, словно зубы ноют.
— A-a!… — безнадежно махнул тот рукой.
— Что случилось? Финансовые затруднения? — догадался Петро. — Двухсот марок хватит? Я сегодня добрый…
— Стою на краю финансовой пропасти, — признался адъютант. — Но ведь я вам и так должен…
— Финансовая пропасть — самая глубокая, — сочувственно изрек Петро. — Туда можно падать в продолжение всей жизни…
Фирма Карла Кремера охотно ссужала адъютанта деньгами, не рассчитывая, что тот вернет их. Этот долговязый, рыжий и угловатый оберштурмфюрер СС был по уши влюблен в какую-то дрезденскую вертихвостку и все свои деньги тратил на подарки ей. Руди рассказал Петру, что они решили обвенчаться, когда Рехан сможет приобрести в каком-нибудь небольшом городке приличный дом и будет иметь адвокатскую практику. Но на пути к счастью молодых стоял старик Рехан, владелец пивной в Дрездене. Он упорно не шел навстречу желаниям сына и поклялся, пока жив, не дать ему ни одного пфеннига, а умирать отнюдь не собирался.
— Вашей красавице ничего не нужно? — спросил Петро, наблюдая за тем, с какой радостью Рехан прячет полученные от него деньги.
— Потом, потом, господин Кремер. Я очень благодарен вам, но сегодня…
— Я в курсе дела, — сказал Петро, — можете не делать таинственного лица. Фрау Ирма поручила мне столько, что дай бог поспеть. До вечера… — распрощался и поспешил к выходу.
Перед ужином гости собрались в кабинете, двери которого выходили в гостиную. У плотно прикрытых дверей нес стражу мрачного вида коренастый лейтенант — по-видимому, командующий проводил секретное совещание. По гостиной, скучая, прохаживался Руди, с опаской поглядывавший на лейтенанта, и Петро понял, что адъютант боится этого угрюмого офицера.
— Из личной охраны самого… — многозначительно шепнул Рехан, перехватив взгляд Петра.
— Кого, кого? — переспросил Петро, притворившись непонимающим.
— Командующего! — значительно поднял палец вверх Руди.
— А-а… Фрау Ирма мне что-то говорила… Выходит, дела действительно важные…
— Совещание генералитета!.. — кичась своей осведомленностью, ответил Рехан. — Русским ни за что не подступиться к городу. Сверхмощные позиции делают безумием попытку штурма любыми силами… Мы перемелем живую силу противника и сами перейдем в контрнаступление, отбросив красных до самого Днепра.
Руди говорил явно с чужого голоса. Петро понял, что за дверью кабинета решаются какие-то очень важные дела. Удастся ли узнать, какие именно? Стараясь не привлекать внимания лейтенанта, Петро отошел в угол гостиной и сел так, чтобы можно было незаметно наблюдать за дверьми кабинета. Рехан уселся в кресло напротив.
— Вы успокоили меня, Руди, — завел речь Петро, стараясь вытянуть из него все, что тот знал. — Так вы утверждаете, что наш фронт большевикам не прорвать?
— Ни за что на свете! — подтвердил адъютант. — Перед городом созданы такие укрепления, что атаковать их в лоб немыслимо.
Стало быть, фрау Ирма и Рехан черпали информацию из одного источника. Но что конкретно знает Руди?
Петро предложил Рехану сигарету и продолжал разговор, придавая ему вид невинной болтовни. Однако Руди упорно обходил острые углы. Скоро Петро убедился, что адъютант ничего существенного не знает. Разглагольствования Рехана ему надоели, и он с удовольствием поднялся навстречу вошедшей в зал фрау Ирме.
Губернаторша была в темном шелковом платье, которое плотно облегало ее полную фигуру. Опершись на руку Петра, она еще раз осмотрела накрытый к ужину стол.
— Кажется, мой друг, все в порядке! Нет лишь устриц, а генерал, говорят, очень их любит.
— Мы не во Франции, мадам, — весело ответил Петро, — генерал простит…
— Надеюсь. Однако мне не хочется уронить свое достоинство, осрамиться перед командующим.
— Вы не осрамились бы перед самим фюрером! — воскликнул Петро. — Не знаю, кто сейчас в Германии способен с таким вкусом и знанием дела приготовить ужин!
— О-о, какой вы льстец! — погрозила пальцем фрау Ирма. — Мне хотелось бы…
Чего хотелось губернаторше, Петро так и не узнал, ибо как раз в этот момент двери кабинета широко раскрылись. Фрау Ирма поплыла навстречу гостям.
Губернатор познакомил жену с генералами. Отпустив хозяйке положенные комплименты, гости поспешили к столу. В кабинете остался небольшого роста генерал с колючими глазами. Он что-то приказывал кряжистому оберсту[25] , который складывал карты и бумаги в большую кожаную папку.
“Командующий”, — догадался Петро, тщетно стараясь услышать, о чем он говорит. Оберет застегнул папку и пошел за генералом. Петро не спускал глаз с этой большой коричневой папки. Как много стоила она, сколько тысяч и тысяч человеческих жизней зависели от бумаг, которые хранились в ней!..
Фрау Ирма сладко улыбнулась генералу.
— Надеюсь, вы не будете скучать у нас, — чуть не пропела.
— Я слышал о вашем гостеприимстве, — наклонил свою коротко подстриженную седую голову командующий, — но я не знал, что хозяйка этого дома так очаровательна…
Фрау Ирма представила гостю Петра. Генерал пренебрежительно кивнул ему, подал фрау Ирме руку и повел ее к столу. Губернатор подозвал к себе оберста.
— Командующий будет ночевать у меня, — сказал. — Охрана разместится на первом этаже.
Петро навострил уши.
— Документы можно оставить в моем сейфе, — продолжал фон Вайганг.
Они возвратились в кабинет. Губернатор открыл массивные стальные двери сейфа, оберет положил туда папку. Щелкнул замок — Петро заметил, как фон Вайганг для чего-то провел рукой под сейфом. Спрятав ключи, губернатор вместе с оберстом присоединились к сидевшим за столом.
Петру досталось место между Руди и оберстом.
Рехан познакомил их. Оберет, как можно было догадываться, был адъютантом командующего. Он оказался на редкость неразговорчивым человеком. Скоро Петро потерял надежду вытянуть из него что-либо, кроме коротких “да”, “нет” или “благодарю”. За столом шел неинтересный для Петра разговор. Казалось, генералы твердо условились обходить военные темы. При первом удобном случае Кирилюк вышел из-за стола.
Еще раньше его окончили ужин два генерала. Сейчас они курили, оживленно о чем-то беседуя. Заметив Кирилюка, внимательно посмотрели на него, и Петро еще раз убедился, что штатские вызывают антипатию и даже недоверие у военных. В конце концов их можно было понять: вся Германия надела мундиры, и штатские выглядели белыми воронами. Да, от неприязни военных Петра не спасала даже палка, на которую он опирался подчеркнуто тяжело.
Кирилюк уселся в углу и, закурив сигарету, поглядывал исподлобья на дверь кабинета, о котором не мог сейчас не думать. Кабинет, массивные дверцы стального сейфа, коричневая кожаная папка целиком завладели его воображением. Еще бы, важнейшая тайна в трех шагах от него! Но эти несколько шагов могут стать последними в его жизни. Взвешивал: оправдан ли риск, есть ли вообще шансы на успех? Вздохнул, притушил окурок и вышел в туалет. Во что бы то ни стало необходимо сфотографировать документы. Как хорошо, что майор Скачков оставил ему портативный фотоаппарат. Конечно, проще было бы выкрасть папку, но тогда гитлеровцы вынуждены будут перегруппировать свои силы, документы потеряют все свое значение. Нет, надо сделать так, чтобы они даже не подозревали, что их коснулась чужая рука.
После ужина Петро попрощался с фрау Ирмой. Однако, спустившись в вестибюль, незаметно проскользнул в узкую дверь, которая вела к черному ходу — он отлично знал расположение комнат в губернаторском особняке: как-никак свой человек в доме! По крутой винтовой лестнице поднялся на третий этаж, где помещалась прислуга, и узким коридорчиком пробежал в библиотеку. Здесь притаился за большим шкафом. Теперь его можно было обнаружить, только заглянув в этот темный уголок.
Дверь библиотеки осталась открытой, и Петро слышал все, что происходило в гостиной. Фрау Ирма смеялась тонким искусственным смехом, кто-то густым басом — вероятно, оберст — благодарил за приятно проведенный вечер.
“Если оберст благодарит — значит, гости разъезжаются”, — решил Петро.
Действительно, с улицы донесся шум заводимых моторов. Через несколько минут все затихло. Только губернатор кого-то распекал в гостиной, но вмешалась фрау Ирма, и он успокоился. Потом скрипнула дверь, — вероятно, супружеская пара удалилась в спальню.
Вдруг на лестнице возникла какая-то возня, послышалось перешептывание, приглушенный смех…
— Иди-ка сюда, — просил кто-то, увлекая собеседницу в библиотеку.
— Как вам не стыдно? — отвечал с наигранной строгостью женский голос. Но обладательница его не очень-то сопротивлялась. — Что вам от меня нужно?.. — хихикала она.
В ответ донеслось:
— Зачем задавать бессмысленные вопросы, моя ласточка! — Петро узнал голос Руди Рехана. — Пойдем к тебе!..
— Нельзя… — возразила женщина. Кажется, это была молоденькая горничная губернаторши.
— У меня есть для тебя прекрасный подарок.
— Какой?
— Это сюрприз!..
Видимо, горничная колебалась.
— Не пожалеешь, — обольщал ее Рехан.
— Погодите… — Девушка выглянула в окно.
Теперь она стояла так близко, что Петро мог дотянуться до нее рукой. Стоило ей сделать шаг в сторону, и она натолкнулась бы на него.
— Сегодня вокруг полно часовых… — сказала. Но, должно быть, именно это успокоило ее, так как она шепнула Руди: — Я пойду вперед, а вы за мной…
Они ушли. Петро перевел дыхание. Вот тебе и Руди — герой-любовник, до безумия влюбленный в свою дрезденскую красавицу!..
Прошел еще час. Дом замер. Ни одного звука, лишь громко тикают большие старинные часы в гостиной на втором этаже. Петро скинул туфли, вынул из заднего кармана маленький бельгийский браунинг и выскользнул на лестницу.
Он шел, не слыша собственных шагов. Вот порог гостиной. Постоял немного, настороженно прислушиваясь, потом свернул в коридор, ведущий в спальню. Он пробирался с такой осторожностью и так медленно, что прошло много времени, прежде чем одолел те пять-шесть шагов, которые отделяли его от двери спальни. Закрыта она или нет? Если закрыта, все его усилия ни к чему.
Нащупал дверь. Припал к ней ухом. Кто-то тихо похрапывает, со свистом выдыхая воздух. Чуть нажал на массивную бронзовую ручку. Дверь, как ему показалось, заскрипела на весь дом. Почувствовал, как оцепенели кончики пальцев. Не дышал. Миновала минута, вторая… Тишина.
Петро снова осторожно нажал на дверь. На этот раз она подалась без скрипа. В лицо ударила тяжелая волна. Воздух в спальне был насыщен смесью горьковато-пряного аромата любимых духов фрау Ирмы и винного перегара — губернатор, видимо, изрядно выпил за ужином.
Ключ от сейфа, запомнил Петро, губернатор опустил в правый карман мундира. Где же он? Выставив вперед руки, Петро пополз. Задел плечом что-то твердое, осторожно ощупал: край кровати. Рядом — вторая, слева — стул. Прополз между стулом и кроватью, наткнулся еще на один стул. Провел рукой по спинке — неужели мундир? Так и есть — мундир! Затаив дыхание, сунул руку в правый карман и вытащил ключ.
Обессиленно припал к ковру, прислушиваясь к тяжелому сопению губернатора и стуку собственного сердца. Потом попятился и скоро достиг коридора.
Теперь он уже действовал увереннее и быстрее. Проникнув в кабинет, проверил шторы затемнения на окнах и включил настольную лампу. Вспомнил, как губернатор, закрыв сейф, провел почему-то рукой под дверцами. Неужели сейф с сигнализацией?.. Петро повторил движение губернатора, и пальцы наткнулись на едва заметную кнопку. Нажал, услышал, как щелкнул выключатель. Так и есть: сейф с сигнализацией! Не раздумывая больше, вставил ключ в замочную скважину.
Сейф открылся мягко и сразу. Петро схватил папку. Секретнейшие документы, схемы дислокации частей, пояснительные записки… Нажимал на спуск фотоаппарата, не веря самому себе, и аккуратно складывал в папку уже сфотографированные листы. Щелк… щелк… Еще одна схема… Остались, кажется, второстепенные документы, но и они имеют огромную ценность… Щелк… щелк…
— Руки вверх! — сказал кто-то за спиной, но Петро даже не оглянулся, уверенный, что это ему лишь послышалось.
— Руки вверх! — повторил кто-то.
Петро посмотрел через плечо: на пороге кабинета торчала фигура долговязого Руди Рехана. Он с ужасом смотрел на Петра, пистолет дрожал в его руке.
Кирилюк вспомнил было про свой браунинг, но лишь криво усмехнулся и поднял руки. Сейчас уже ничто не поможет: малейший шум, и через мгновенье здесь будет охрана. В окно не выскочишь, вокруг усиленные патрули.
Рехан все еще стоял на пороге, растерянно глядя на открытый сейф и разложенные на письменном столе карты.
— Вот вы кто, Карл Кремер! — произнес, наконец, Рехан. — Вот вы кто!.. Не двигаться!.. Буду стрелять без предупреждения!
Петро стоял с поднятыми вверх руками и проклинал себя. Так глупо влипнуть, когда почти все уже было сделано. Нет, это невозможно!
— Закройте за собой дверь, Руди! — сказал Петро неожиданно, и властные интонации, зазвучавшие в его голосе, никак не гармонировали с поднятыми над головой руками.
Адъютант сразу почувствовал это и хрипло засмеялся:
— Заткните свою глотку, Кремер! Вас поймали на месте преступления, через несколько минут здесь будут люди из гестапо, и я с удовольствием погляжу, как вы будете вести себя с ними.
— И все же прикройте за собой дверь, Руди! — настойчиво повторил Петро. — Думайте о себе, а не о гестапо!..
Рехан раскрыл рот, как бы собираясь позвать стражу. Еще миг — и будет поздно…
— Остановитесь, Рехан! — тихо произнес Петро. — Это ваш единственный шанс разбогатеть!..
Руди замер с раскрытым ртом.
— Прикройте за собой дверь и выслушайте меня! — сказал Петро. — Выстрелить или позвать охрану вы ведь всегда успеете…
Рехан неуверенно сделал шаг назад и плотно закрыл за собой дверь. Петро облегченно вздохнул. Он не знал еще, чем все это кончится, но теперь у него было в запасе несколько секунд, — возможно, даже минут, и все зависело от того, что возьмет верх в Рехане — жадность или страх.
— Слушайте меня внимательно, Рудольф, — произнес Петро спокойно и уверенно. — Человеку в моем положении было бы бессмысленно выдумывать что-нибудь или надеяться на ваше милосердие. Предлагаю договориться…
Адъютант возмущенно передернул плечами.
— Вы вражеский агент, Кремер, и моя совесть…
— Минуточку! — перебил Петро. — Оставим это! Сейчас я опущу руки, так как все равно не стану стрелять в вас — какой смысл привлекать охрану? Видите, я трезво оцениваю обстановку…
— О каком шансе вы говорили?
— Если вы выдадите меня гестапо, — ответил Петро сдавленным голосом, — самое большее, что вам за это дадут, — Железный крест. И всё. Поймите: всё… А я предлагаю вам деньги. Много денег!
— Железный крест не так уж плохо, — промямлил Рехан. — И меня не будет мучить совесть…
— Она и так не будет вас мучить, Руди. Ведь завтра вы сможете приобрести виллу и поселить там свою невесту!..
Глаза у Рехана заблестели.
— Под дулом пистолета я тоже понаобещал бы золотые горы, — недоверчиво произнес он, но Петро понял, что его предложение заинтересовало Рехана.
Он повернул правую руку над головой так, что Руди увидел перстень с ярким камнем, и сказал:
— Один этот перстень стоит двадцать пять тысяч марок. Сейчас он будет ваш.
— Он и так будет мой, — усмехнулся Рехан. — Пока сюда явится охрана, я успею его снять.
— Болван! — громко сказал Карл. Они разговаривали почти шепотом, и это слово, произнесенное нормальным тоном, резануло Рехана — он отшатнулся, словно получил пощечину. — Потеряете в четыре раза больше!
— Вы предлагаете мне?..
— Сто тысяч марок! — бросил Петро, медленно опустив руки и ногою придвигая к себе стул. Он понял, что выиграл этот поединок. А если бы Руди и выстрелил, то это уже не имело значения. “Пуля так пуля, — подумал. — Все равно лучше, чем гестапо…”
Адъютант и не заметил, что Петро опустил руки и даже сел на стул. “Сто тысяч! — шептал. — Сто тысяч…” Конечно, надо соглашаться: сразу будут решены все его запутанные дела…
Уже решив, Рехан все же сказал хриплым голосом:
— Вы хотите, чтобы я предал…
Петро понял: адъютант ищет благовидный предлог для отступления.
— Великая Германия, Руди, — произнес Петро, — разваливается, и каждый рассудительный человек должен заботиться лишь о самом себе. Фюрер обещал вам золотые горы, а получился пшик. Фюрер обманул вас, Руди! Почему бы и вам не ответить ему тем же? Учтите, это будет лишь справедливая плата…
— А если об этом кто-нибудь узнает?..
— Рассказывать об этом кому-нибудь, надеюсь, не станем ни я, ни вы, — ответил Петро несколько иронически. — Спрячьте пистолет! У вас дрожат руки, можете случайно выстрелить.
Рехан послушно сунул свой “вальтер” в кобуру и спросил:
— Но где гарантия, что я получу свои сто тысяч марок?
— Мне нравится этот вопрос! — усмехнулся Кремер. — Мы начинаем разговаривать как деловые люди. Так вот, сейчас я положу ключ от сейфа на место, потом вы выведете меня из особняка, после чего направимся ко мне домой и окончательно рассчитаемся. А пока, — снял перстень с пальца, — получите аванс!..
— Вы очень многого хотите от меня, — буркнул Рехан, пряча перстень.
Но Петро уже не слушал его. Аккуратно собрав в папку бумаги, положил ее в сейф, не забыв при этом снова включить сигнализацию.
— А теперь, Руди, — сказал, словно не сомневался в том, что тот выполнит все его приказания, — подежурьте в гостиной. Мне необходимо возвратить ключ хозяину, а это совсем непростая задача. Если я споткнусь на этом пути, вы можете первый поднять тревогу и отличиться. Обещаю молчать как рыба…
Рехан кивнул, вышел в гостиную и снова вытащил пистолет: если губернатор проснется и поднимет тревогу, вражеского агента задержит он, Рудольф Рехан. Задержит? Трудно поверить, что Карл будет молчать, лучше пусть он умолкнет навсегда. Рехан спустил предохранитель… Тревожно всматриваясь в темноту, он думал: “Ловкий человек этот Кремер! Интересно, сколько ему отвалят за сегодняшнюю операцию?” Уж во всяком случае, не меньше, чем получит он, Рудольф Рехан. От этой мысли ему стало не по себе — неужели продешевил?! Он решил потребовать сверх денег еще драгоценности для Хильды.
Чего этот Кремер там возится?.. Рехан осторожно подошел к двери и стал прислушиваться. Теперь он волновался за исход операции не меньше, чем сам Кремер. Мысль об этом вызвала на его лице улыбку. А-а, плевать ему и на губернатора, и на фюрера, и на всех!.. Деньги не пахнут, а Хильда будет его любить,.
Петро незаметно вынырнул из темноты. Рехан вздрогнул.
— Черт, — шепотом произнес он, — я чуть не выстрелил в вас…
— Мне нужно обуться, — сказал Петро. — Туфли в библиотеке…
Руди посветил карманным фонариком, и они прошли в библиотеку.
Надев обувь, Петро сказал:
— Вы спуститесь первым и выйдете к черному ходу. Я следую за вами. Дадите мне знак, когда можно выскользнуть.
— И все это за сто тысяч?! — заворчал Рехан.
— Хорошо, Руди, будет надбавка, — пообещал Петро.
Адъютант помолчал, потом вдруг протянул руку.
— Отдайте-ка мне свой пистолет, Кремер! — сказал он решительно.
Петро заколебался. Зачем он ему? Все же после минутной паузы вытащил из кармана браунинг и положил его на ладонь Рехана.
— Можете не волноваться. Вы получите свои деньги без эксцессов. Сегодня я не заинтересован в вашей смерти, так же как и вы в моей.
Адъютант осторожно выглянул из библиотеки. Пробираясь на ощупь, они миновали узкий коридор и по винтовой лестнице спустились на первый этаж. Рехан открыл дверь, которая вела в темный переулок.
— Стойте! — остановил его часовой. — Пароль?
— “Темная ночь”, — ответил Рехан. — Позови-ка мне старшего.
— Слушаюсь! — Солдат свернул за угол.
— Скорее! — подтолкнул Рехан Кирилюка, и тот юркнул за угол, успев услышать, как Рехан приказывал никого не выпускать из дома.
Скоро Рехан догнал его. Шли молча. Лишь теперь Петро облегченно вздохнул, хотя в глубине души все еще не верил, что так счастливо отделался.
На заре шел дождь, но ветер разогнал тучи, выглянуло солнце. Катруся выскочила на крыльцо. Она любила такие рассветы: воздух еще свеж, на смородиновом листе висят прозрачные дождевые капли, но не холодно и сладко пахнет травой, мокрой землей и левкоями. Катруся всем своим телом ощущала приятную утреннюю прохладу. Пошла на огород. Сорвала с грядки огурец, с аппетитом захрустела.
Катруся ходила по садочку, забыв про все на свете. Давно уже следовало окопать яблони и прополоть грядки, но руки все не доходят. Вот и сейчас надо спешить: уже около семи, перед работой надо поспеть к Евгену Степановичу. Катруся вернулась в дом, надела свое лучшее летнее платье — по легкому розовому шелку большие черные цветы, — нарядилась то ли потому, что утро выдалось такое хорошее, то ли потому, что условились во время обеденного перерыва встретиться с Петром.
Шла быстро, перепрыгивая через лужи и что-то весело напевая. Как прекрасно все устроено на свете: с утра дождь вымыл деревья и тротуары, а теперь выглянуло солнышко, и все живое тянется к нему! Днем она увидит Петруся, у него, наверно, есть свежие новости с фронта. Когда же, наконец, наши перейдут в наступление? Катруся знала, стабилизация фронта — явление вполне закономерное. Петро объяснил ей, что войскам необходимо подтянуть резервы для нового наступления, а на это надобно время. И все же затишье на фронте беспокоило ее, хотелось, чтобы скорее началось наступление, чтобы скорее увидеть своих на улицах родного города. Может, уже и началось? Петро узнает об этом сразу же…
Трамвая долго не было, и Катруся нервничала — всегда так: когда торопишься, что-нибудь помешает. Неужели она уже не успеет сегодня в мастерскую на Люблинском рынке? Если трамвая не будет еще пять минут, придется ехать прямо на работу.
Но как раз в эту минуту из-за угла вынырнул маленький желто-синий вагончик. “Должно быть, есть бог на свете!” — обрадовалась Катруся, вскочив на переднюю площадку.
Переполненный вагон бросало, с боку на бок, он дребезжал, как-то скорбно хрипел, словно жалуясь на свою судьбу. В давке Катрусю прижали к стене так, что она не могла даже пошевельнуться. Но и это не испортило ей настроения. Звонкая мелодия, привязавшаяся еще с утра, как бы нарастала и звучала в ее сердце все сильнее; лицо девушки освещала широкая улыбка, которая резко контрастировала с грустными, сердитыми и изнуренными лицами пассажиров. Какая-то небрежно причесанная худая женщина, увидев улыбающуюся Катрусю, нарочно больно толкнула ее локтем, но девушка не обиделась: она понимала этих голодных и изнервничавшихся, озлобившихся людей. Однако чем могла она им помочь? Ведь не крикнешь на весь вагой: “Держитесь, товарищи! Советские войска не сегодня-завтра будут в городе!”
А женщина, бросив на Катрусю гневный взгляд, направилась к выходу. Девушка вышла за ней и свернула в сторону Люблинского рынка.
Катруся любила свой город. Ей нравилось в нем старое и новое; эти контрасты как раз и определяли своеобразный облик города. Старинный монастырь XV века, дома с узкими окнами, а рядом современная площадь с большими клумбами и газонами. Средневековая ратуша с башней — и новый дом с большими зеркальными окнами. Узкая улица, вымощенная, вероятно, еще цеховыми мастерами, и асфальтированный проспект, обсаженный каштанами. Все тут родное: в этой гимназии она училась, а здесь жила ее подруга. Это ее город, потому и спешит она к Евгену Степановичу, чтобы иметь возможность снова свободно бродить по излюбленным улицам, не встречая больше эти наглые морды, эти зеленые мундиры.
Катруся посмотрела на часы: двадцать минут восьмого, надо поторопиться, чтобы не опоздать на работу. Она ускорила шаг. Вон уже и базар…
На углу Катруся на мгновенье остановилась, озираясь, не следит ли кто-нибудь, и быстро направилась в сторону знакомого дома.
— Фрейлейн Кетхен! — услышала она вдруг. — Подождите!
На противоположной стороне улицы человек в военном мундире. Солнце било в глаза, и Катруся не сразу узнала, кто окликнул ее. Присмотрелась — фельдфебель Штеккер. Улыбается, приветливо машет руками.
— Вы на работу? — кричит. — Пойдемте вместе!
Как быть? О ее встречах в мастерской с Зарембой знает лишь Петро. Даже Галкину неизвестно, каким путем приходят к нему шифровки Евгена Степановича. Что ж, придется заглянуть сюда после работы. Перебежала улицу.
— Вы сегодня рановато, камрад Штеккер…
Только теперь заметила, что оживление его напускное — фельдфебель явно чем-то очень обеспокоен.
— Новость, фрейлейн Кетхен, — шепчет, — неприятная новость…
— Что случилось?
— Вчера получен приказ: несколько офицеров, а с ними и меня переводят в Дрезден.
— Ничего нельзя поделать?
— Приказ, — развел руками Штеккер. — Сегодня сдаю дела…
— Боже, как это нехорошо, — вздохнула Катря.
— Вы, фрейлейн Кетхен, умная девушка, в обстановке разбираетесь не хуже меня. Ждать уже недолго, — наклонился к Катрусе, — скоро здесь будет Советская Армия.
— Кому сдаете дела?
— Унтер-офицеру Францу Хирше. Будьте с ним осторожны — он из мелких лавочников, принимал участие в путче… хвастается этим.
— Как все это обидно!.. — никак не могла успокоиться Катруся.
Штеккер взял девушку под руку.
— Ничего не поделаешь, — печально произнес он. — Для меня это тоже большой удар.
— В Дрездене вам будет труднее? — спросила Катруся.
— Посмотрим. Гитлер полагает, что разгромил наши организации. Но они существуют! В глубоком подполье, а все же существуют! Думаю, принесу и там пользу.
Они как раз дошли до угла. Катруся оглянулась на дом, в котором помещалась мастерская, вздохнула, сожалея, что не успела заглянуть к Евгену Степановичу. Девушка совершенно не подозревала, какая ее там ждала западня…
Двух неизвестных в штатском, которые шли за ним до самой мастерской, Евген Степанович заметил чуть ли не сразу. Закрыл за собой дверь, накинул тяжелый железный крючок и осторожно выглянул во двор через окно смежной комнаты. Ничего подозрительного не заметил. Может, не знают про второй выход из мастерской, а может, он просто стал пугливым?
“Спокойно, — приказал самому себе, — сейчас мы все проверим”.
Проскользнув в незакрытые ворота, посмотрел на улицу. Кажется, никого. Юркнув в соседний переулок, стал в подъезде, сделав вид, что завязывает шнурок на ботинке. Через несколько минут мимо него прошли те двое. Весьма опытные, ибо, даже не взглянув в его сторону, не остановились, а быстро прошли, словно озабоченные чем-то люди, которых вовсе не интересует, что происходит вокруг. А еще через несколько секунд на углу появился высокий седой человек. Стал, словно дожидался кого-то, спиною к Зарембе.
“Так, так… Теперь, товарищ Заремба, поступайте, как знаете… На этот раз вам, пожалуй, вряд ли удастся ускользнуть…”
С безразличным видом медленно двинулся улицей. Что-то насвистывал. Остановился, отломил веточку с дерева и пошел, небрежно помахивая ею. Пускай думают, что он ни о чем не догадывается, пускай идут за ним, надеясь наскочить еще на кого-нибудь. Ему нужен час, час — не больше, чтобы обмануть бдительность агентов. Катруся завтра наведается в мастерскую. Возможно, они заподозрят ее. От нее нить потянется к Кирилюку — и конец фирме Карла Кремера. А может, они уже размотали эту нить? Но что бы там ни было, он должен немедленно предупредить Петра и Катрусю.
Евген Степанович вышел на Студенческую улицу. Те двое остановились на противоположной стороне, рассматривая рекламный щит, а третий подошел к киоску с минеральными водами и велел налить себе стакан. Заремба тоже утолил “жажду” и пошел в направлении оперного театра. Не доходя до ресторана “Жорж”, заглянул в магазин солидной немецкой фирмы, торговавшей готовым платьем и верхней одеждой. Перекинулся несколькими словами с продавцом, примерил плащ, но не купил, — дескать, не понравился. Сразу же рядом начал прицениваться к костюму один из агентов, а другой дежурил у входа в магазин.
Немного дальше Евген Степанович остановился перед зеркальной витриной комиссионного магазина, потом вошел в магазин, перебрал чуть ли не все имеющиеся там плащи, ворча, что ничего подходящего нет. Как бы нечаянно толкнув агента, который тоже “интересовался” плащами, двинулся дальше. Он решил посетить три-четыре магазина, чтобы короткая и такая нужная встреча с Фостяком не бросилась в глаза гестаповцам и не привлекла их внимания именно к магазину Карла Кремера.
В третьем магазине плащей не оказалось, и Евген Степанович стал примеривать легкое летнее пальто. Он так придирчиво щупал и осматривал его, что хозяин уже обрел надежду сбыть, наконец, эту заваль. И был очень разочарован, когда Заремба, так ничего и не выбрав, собрался покинуть магазин.
— Может, примерите вот это? — с надеждой остановил он Евгена Степановича. — Чудесный материал! Пан благодарить меня будет за такое приличное пальто. Пожалуйста, пан, довоенный драп, а не какой-нибудь эрзац.
Он так старательно мял в руках пальто из дешевого эрзаца, что Заремба согласился примерить. Хозяин не мог сдержать улыбки при виде плотной фигуры покупателя в куцем пальтишке. Но не растерялся:
— Прошу пана заглянуть к нам завтра в это же время. Специально для пана будет люксусовый выбор пальто и плащей… — врал, провожая Зарембу к порогу.
Через два дома магазин Кремера. Фостяк уже по выражению лица Евгена Степановича понял: случилось что-то из ряда вон выходящее — и встревоженно метнулся навстречу.
— Спокойно! — шепнул Заремба. — За мной идут… — еле заметным жестом указал на агента, который в это время переступил порог магазина.
Фостяк, мигнув помощнику, чтобы тот занялся гестаповцем, принялся хлопотать вокруг Евгена Степановича, нарочито громко расспрашивая его:
— Пан хочет купить плащ или пальто? Наша фирма, видите ли, не специализируется на одежде, но как раз недавно мы получили кое-что на комиссию. — Снял с вешалки несколько плащей, разложил на прилавке. Искоса поглядел на помощника, который, уговаривая агента приобрести какие-то необыкновенные часы, увлек его к витрине в другой стороне магазина. — Извольте примерить…
Фостяк вышел из-за прилавка и накинул плащ на плечи Зарембы.
— Лучше пану не найти, — заливался он, угодливо заглядывая в глаза “покупателю”, а сам украдкой следил за гестаповцем. — Весь город обойдете, лучшего нигде не найдете.
— Длинноват для меня, — громко сказал Евген Степанович, — к тому же пятна…
— Где пятна? — наклонился Фостяк. — Это, простите, пан, не пятна, просто немного помято.
Заремба присмотрелся.
— А это разве не пятно? — сунул полу плаща чуть ли не под нос Фостяку.
Тот сделал вид, что рассматривает плащ. Заремба повернулся спиной к гестаповцу.
— Немедленно дайте знать Кирилюку, — прошептал Евген Степанович. — Гестаповцы выследили меня.
— Где же пан видит пятна? — обиженным голосом бубнил Фостяк. — Мы всякую дрянь на комиссию не берем. Плащ как новенький…
— Возможно, уже следят и за Петром. Приказываю: группе Кирилюка перейти на нелегальное положение. Вам тоже… — И потом громко: — А это что — разве не пятно? Да еще какое жирное…
— Это не пятно, а пятнышко, — вертелся вокруг Фостяк. — Но зато какой материал!.. Посмотрите сами, пан!..
Заремба сбросил с плеч плащ. Фостяк на мгновенье зажмурил глаза, давая знать, что всё понял.
— Тряпье подсовываете, — громко буркнул Заремба. — Лучшего нет?
Фостяк развел руками.
Евген Степанович заглянул еще в один магазин. Там, наконец, купил плащ и, перебросив его через плечо, вышел на площадь перед оперным театром. Один из агентов сидел на скамье, закрывшись газетой; другой со скучающим видом прохаживался рядом.
“Так, так… — начал размышлять Заремба. — Попытаться, что ли, бежать от них на трамвае?”
Направился к центру. Шел, легкомысленно поглядывая на женщин и всем своим видом показывая, что ни о чем больше не думает, а тело было налито свинцовой тяжестью от сознания, что, может быть, в последний раз шагает он по своему городу…
Из-за угла выкатился трамвайный вагончик. Заремба подбежал к нему, схватился за поручень и вскочил на подножку. Трамвай миновал одну остановку, другую, но агентов не было видно. Неужели удача?!. Но тут с вагончиком поравнялся серый “оппель-капитан”. На переднем сиденье развалился седовласый агент. Отвернулся, не глядя на Зарембу. Даже зевнул…
Теперь уже не было никаких надежд. Ну что ж, остается только одно — возможно дороже продать свою жизнь.
Последняя остановка — Крутой замок. Заремба вышел вместе с другими пассажирами из вагона и направился к ближайшим домам. Гестаповец следовал за ним.
Заремба шагнул в первое же парадное. Лестница круто поднималась от самых дверей. Перепрыгивая через ступени, он взбежал на первую площадку. Позади хлопнула дверь. Прижался за выступом стены: теперь у него была удобная позиция — лестница темная, а вход освещен фрамугой над дверью. Вытащил пистолет, приготовился.
Агент шел осторожно, держа наготове пистолет и прислушиваясь. Остановился, скользнул взглядом по лестнице. Внизу снова стукнула дверь. Седовласый махнул рукой второму агенту, продолжая медленно продвигаться вперед.
Заремба поднял пистолет. Нажал на гашетку. Выстрела не слышал, лишь увидел, как медленно падает длинное тело…
Второй агент бросился к выходу. Пуля догнала и его. Упал на пороге, головой на улицу.
На лестнице возле тела седовласого гестаповца валялся пистолет. “Еще семь выстрелов”, — подумал Евген Степанович. В три прыжка оказался на лестнице, схватил тяжелый парабеллум. Когда бежал назад, услышал выстрел — пуля обожгла руку у локтя…
Четверть часа стояла мертвая тишина, лишь поскрипывали на ветру двери. Потом подъехала машина. Через открытые двери резанули автоматной очередью. Фигуры в черном засуетились около парадного. Заремба стрелял, считая выстрелы. Три… пять… семь… Уже несколько эсэсовцев лежали на лестнице. Вдруг что-то тупое больно ударило его в висок. Евген Степанович хотел еще раз выстрелить, но не смог поднять руки. Схватился за перила, не удержался и упал на ступеньки…
Кассета, тщательно завернутая в черную бумагу, жгла Кирилюку кожу. Петро то и дело ощупывал ее, как бы желая удостовериться, что она не исчезла и по-прежнему находится во внутреннем кармане пиджака. Он нетерпеливо мерил комнату широкими шагами. Осталось полчаса — в двенадцать придет Катруся. Она передаст Зарембе, что Кирилюк срочно выехал с Галкиным к Дорошенко. Там Федько свяжется с центром и вызовет за драгоценной пленкой самолет. Можно было бы переслать кассету и со связным, но тогда важнейшие материалы попадут за линию фронта не раньше чем через несколько дней, а тут дорог каждый час…
Когда не надо, время летит сравнительно быстро, а вот сейчас секундная стрелка и та едва ползет. Петро выглянул в окно. Галкин, подняв капот “мерседеса”, копошился в моторе. Удивительный характер у этого Федька! Пусть хоть гром гремит над головой, он остается спокойным.
Нервно постучал пальцами по стеклу, улыбнулся, вспомнив, как аккуратно пересчитывал Рехан деньги. Хорошо, что догадался вырвать у него расписку, — теперь адъютант кровно заинтересован в том, чтобы с фирмой Кремера ничего плохого не случилось. А как не хотелось Рехану писать эту расписку!..
Петро вспоминал события прошлой ночи и снова, как наяву, переживал их. Этот Руди оказался более опасным субъектом, чем можно было думать. Когда Петро начал открывать сейф, чтобы достать деньги, он вдруг услышал за спиной стук и оглянулся: по полу катались Рехан и Федько. Петро выбил из руки адъютанта пистолет и всей своей тяжестью навалился на фашиста. Тот заскулил тонким голосом, вымаливая пощаду.
— Сволочь! — со злостью сказал Федько. Он сидел на полу в одних трусах и вытирал бежавшую из разбитого носа кровь. — Хотел стрелять в тебя!..
Рехан тяжело сопел. Вдруг начал рыдать. Петро обыскал его, забрал свой браунинг. Гитлеровец бросился перед ним на колени, скуля:
— Не убивайте меня!
Руди, как оказалось, играл с ним до конца, и в этой игре главным козырем были деньги. Рехан соблюдал условия до тех пор, пока Петро не открыл сейф. Увидя деньги, фашист решил идти ва-банк. Теперь марки все равно принадлежали бы ему, а пленка со снимками секретных документов не только оправдывала бы выстрел, но и принесла бы повышение по службе. Почему он оказался на квартире у Кремера? Пустяки, всегда можно придумать какую-нибудь правдоподобную историю.
Все было продумано, но Руди не знал, что в квартире Кремера есть еще кто-то. Галкин проснулся, когда Петро привел домой адъютанта. Заглянув в комнату, Федько увидел, как гость вытащил пистолет, и успел броситься на Рехана.
Руди продолжал стоять на коленях. Петро раздумывал, что же делать? Неожиданно его осенила счастливая мысль.
— Садитесь, — подтолкнул Рехана к столу. — Пишите…
Тот послушно взялся за ручку.
— Расписка, — продиктовал Петро. — “Я, Рудольф Рехан, получил от советского разведчика Карла Кремера сто тысяч марок за то, что помог ему…”
Рехан бросил ручку.
— Я не буду этого писать!
Петро поднял пистолет и сказал:
— Мы поменялись ролями, Руди! Я буду считать до трех…
Рехан до крови закусил губу и покорно сказал:
— Диктуйте…
— На чем мы остановились? Ага… “помог ему выкрасть из сейфа губернатора и сфотографировать секретные карты, схемы укрепленного района и другие важные документы…”
Закончив диктовать, Петро приказал:
— Теперь перепишите эту расписку.
Рехан снова послушно выполнил приказ. Петро объяснил:
— Один экземпляр будет у меня, второй — у моих друзей. Если только вы выдадите меня, этот документ в тот же день получит СД.
— А деньги? — осторожно спросил Рехан.
— Не думайте, что мы вылеплены из одного теста… — Петро достал из сейфа несколько пачек и швырнул их гестаповцу.
Рехан быстрым движением пододвинул их к себе. Считал, беззвучно шевеля губами. Спрятав деньги, он жалобно поглядел на Петра.
Тот понял его.
— Надбавки не будет, Руди, — сказал насмешливо. — Вы не заслужили ее.
Адъютант состроил жалобную рожу, явно собираясь канючить, но, увидев злой блеск в глазах Федька, попятился к дверям.
Сейчас, вспоминая поведение Рехана, Петро брезгливо усмехнулся.
В окно он увидел милую фигурку Катруси и решил выйти навстречу ей, но в передней его задержал телефонный звонок. Схватив трубку, сердито буркнул:
— Слушаю…
Звонил Фостяк. Он не назвал себя, но Петро узнал его по голосу.
— Только что заходил к нам вуйко, — говорил он, явно волнуясь. — В сопровождении нескольких незнакомых…
— Каких незнакомых? — не понял Петро.
— Вы же знаете, вуйко избегает знакомств, — сказал Фостяк. — На этот раз не удалось… Неужели не понимаете? Они увязались за ним с самого утра.
— А-а… — ужаснулся Петро.
— Вы слушаете меня? — продолжал Фостяк. — Вуйко передал вам привет и сказал, что вряд ли сможет встретиться с вами… Понятно?
— Да… — едва вымолвил Петро. — Но как это все произошло?
— Вуйко и сам не знает. Кстати, он советовал вам отдохнуть… в обществе приятной девушки… Я на вашем месте сразу же покончил бы с делами и поехал куда-нибудь на село. Когда еще подвернется такая возможность? Вы понимаете меня?
— Я все понял… Вуйко не ошибся?
— Вы же знаете, он никогда не ошибается.
— Знаю…
— Счастливого вам отдыха! Я звоню из автомата. До свидания…
Петро бросил трубку. Что делать?
Быстро сбежал по лестнице и застал Катрусю возле машины. Галкин улыбается ей — черт, нашел время любезничать, когда за Зарембой идут по следам!..
Видно, Катруся что-то прочитала на лице Петра. Его тревога передалась ей. Она бросилась к нему. Петро оглянулся вокруг — улица пустая, лишь внизу, около почтамта, несколько прохожих.
— Скорее! — бросил он.
Ни о чем не спрашивая, Федько завел мотор.
“Мерседес” миновал несколько крутых закоулков, пересек широкую улицу, объехал парк. Позади — никого. Петро велел остановить машину в глухом тупичке за сквером.
Только теперь Катруся нарушила молчание:
— Что случилось?
— Гестапо напало на след Евгена Степановича!
— Не может быть! — воскликнула девушка. — Откуда ты знаешь?
— Только что звонил Фостяк. Евген Степанович заходил в магазин уже с гестаповским “хвостом”.
— Мастерская! — вскрикнула Катруся. — Я была там только позавчера…
— Возможно, кто-то следил и за тобой, — высказал предположение Галкин.
— Я ничего подозрительного не заметила. Хотя… — задумалась девушка.
— Если бы они заметили тебя в мастерской, — возразил Петро, — то в тот же день установили бы, кто ты. В гестапо знают, что ты моя невеста. Стало быть, уже позавчера они должны были следить за мной, но не сделали этого.
— Ты уверен? — спросил Галкин.
— Абсолютно! — сказал Петро. — Иначе СД и близко не подпустило бы меня вчера вечером к дому губернатора.
— Почему именно вчера? — не поняла Катруся.
— Вчера там состоялся военный совет… Ночью мне удалось сфотографировать секретные документы…
— Сфотографировал?! — не поверила сразу Катруся. — Как же это тебе удалось?!
— Не о том теперь речь, — бросил Петро и принялся размышлять вслух. — Выходит, гестапо наткнулось на след Зарембы случайно. Евген Степанович первый, кто попал в мышеловку.
— Бедный Евген Степанович… — неожиданно зарыдала Катруся.
— Цыц! — Петро так крикнул, что девушка вздрогнула. Но Кирилюк уже опомнился. — Прости, — извинился, — я совсем расклеился. Нервы уже не выдерживают…
— Ты в самом деле полагаешь, что гестаповцы случайно наткнулись на мастерскую? — спросил Галкин.
— Хотелось бы так думать, — ответил Петро.
Катруся овладела собой. Выпрямилась на сиденье и спросила:
— Фотоснимки должны попасть к нашим. Так я поняла?
— Да! — ответил Петро. — И как можно скорее. Кассету. необходимо доставить Дорошенко, чтобы он вызвал за нею самолет.
Галкин похлопал по баранке.
— К чему столько слов? Ведь пока за нами никто не следит.
— Могут задержать на контрольном пункте…
— Постойте!.. — встрепенулась Катруся. — А если сделать так?.. Поезжайте одни и ждите меня на шоссе за контрольным пунктом. Кассету же отдайте мне, я с ней выберусь из города.
— Верно! — обрадовался Галкин. — Если нас и задержат, ты доберешься До отряда сама.
— Другого выхода нет, — согласился Петро. — Мы будем ждать тебя на втором километре. Если же… — не договорил, увидев слезы в глазах Катруси.
— Не надо… — Петро обнял девушку. — Все обойдется.
Галкин вздохнул и отвернулся.
— Не надо, — повторил Петро. — Мы будем ждать тебя.
Катруся подняла заплаканное лицо.
Петро наклонился и поцеловал ее глаза. Почувствовал на губах соленый привкус, это совсем растрогало его, и он прижал к себе девушку.
Катруся затихла, боясь шевельнуться. Галкин запустил мотор, машина задрожала.
Катруся вздохнула, отодвинулась от Петра. Достала зеркальце, быстро присыпала пудрой следы слез на щеках. Запрятала в сумочку кассету с пленкой и выскользнула из машины.
— Будьте счастливы! — сказала, она — и, не оборачиваясь, поспешно ушла.
Петро следил за девушкой, пока тонкая ее фигурка не скрылась за углом.
Когда гауптман на контрольном пункте, проверив документы Галкина, потребовал паспорт у Петра, тот едва не потянулся за пистолетом, но в последнее мгновенье овладел собой и, непринужденно улыбнувшись, подал офицеру документ.
Гауптман козырнул, и они тронулись. На втором километре съехали с дороги в кусты. Петро лег в тени под дикой грушей. Но кто же мог знать, что все так благополучно кончится?
Галкин сидел, опершись на ствол молодого дубка, и насвистывал лишь ему одному знакомую мелодию,
— Оставь! — раздраженно бросил Петро.
— Почему? — обиделся Федько. — Нервы?..
Петро не ответил. Припал лицом к земле, вдыхая терпкий аромат.
“А вдруг Катрусю задержали?” Эта мысль ожгла его. Он вскочил и тревожно осмотрелся вокруг.
— Еще рано… — понял его состояние Федько. — Пешком она будет добираться сюда не меньше часа.
Петро закурил, нервно покусывая сигарету. Ни лежать, ни сидеть больше не мог. Метался между густыми кустами, задевая ветки.
И все же первым заметил девушку Галкин. Катруся шла тропинкой по другую сторону шоссе, срывая по дороге цветы, — в руках у нее был букетик.
Федько тихонько свистнул. Катруся перебежала шоссе. Стояла возле машины, раскрасневшаяся, взволнованная, с букетом бело-желтых ромашек в руке. Она казалась Петру такой красивой, красивее которой никогда не было и не будет на свете.
Через час съехали с шоссе и несколько километров петляли лесной дорогой. На поляне подожгли машину, а сами, захватив рацию, пошли через лес дорогой, известной лишь одному Галкину. Еще до сумерек он привел их в район расположения отряда.
Дорошенко обнял Петра.
— Вот ты какой! — говорил он, сжимая его в медвежьих объятиях. — Знаем, знаем про твои подвиги!..
Не успел Петро отдышаться, как прибежал Богдан и едва не задушил друга. А за ним стояла Катруся. Она смеялась от души и весело.
Галкин вызвал Центр, и через полчаса стало известно: ночью на территории отряда приземлится самолет, который заберет Петра и Катрусю.
Богдан загрустил.
— Не успел еще поговорить с сестренкой, как… — махнул безнадежно рукой.
— Теперь уже скоро будем вместе, — успокоила его Катря. — Далек ли фронт? Не успеешь оглянуться, как наши будут здесь.
…Они стояли около командирской землянки под исполинской сосной, которая тихо шумела на ветру. На костре варилась каша. Пахло горьковатым дымом, разваренным пшеном и еще чем-то знакомым, но Петро никак не мог догадаться — чем. Прислонился к сосне рядом с Катрусей, ощутил тепло ее плеча и вдруг понял, какой запах тревожил его. Пахло ландышами — любимыми цветами Катруси. Потому ли, что узнал, наконец, этот аромат, или потому, что шумел лес и в небе светились звезды, а рядом стояла любимая, у Петра стало так спокойно и тепло на душе, что захотелось петь. И музыка уже заполняла его, казалось — поет весь лес, деревья шумят в такт грустной, проникновенной, трогательной мелодии.
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза…
Пылает костер, трещат сухие ветви, дым стелется над землей. Лесной партизанский костер, а вокруг храбрые, надежные люди. Свои… Как хорошо, что вокруг свои! Два года был он среди чужих, среди врагов. Два года прошло с того дня, когда они с Богданом постучали в окошко к Катрусе.
До тебя далеко, далеко,
Между нами снега и снега…
Налетел ветер, раздул огонь и поднял вверх сноп блестящих искр.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови…
А это счастье — рядом. Оно пахнет ландышами.
“Неужели я счастлив? — упрекнул себя Петро. — Но я ведь не знаю, что стало с дорогим и родным человеком — Евгеном Степановичем. Может быть, в эту минуту его пытают в гестапо, а может… Нет, — едва не застонал, — нет и нет!.. Сколько жертв… Тысячи и тысячи, где-то там, на востоке, сидят в окопах и не знают, кто из них доживет до завтра… Идет война! Может быть, завтра не будет и меня… И все же я счастлив!” — захотелось крикнуть так, чтобы слова поплыли над лесом далеко-далеко, до мерцающих звезд.
А с неба уже доносился гул самолета, и на большой лесной поляне запылали сигнальные костры…
Примечания
1
Роскошно (польск.) .
(обратно)2
Округ (нем.) .
(обратно)3
Адвокат (польск.) .
(обратно)4
Дядя (укр.) .
(обратно)5
Вы что думаете по этому поводу, мой юный друг?
(обратно)6
В этом мы имели возможность убедиться во время пребывания в лагере для военнопленных.
(обратно)7
Тачанка (укр.) .
(обратно)8
Прихода (укр.) .
(обратно)9
Организация украинских националистов.
(обратно)10
Извините (польск.) .
(обратно)11
Все в порядке (польск.)
(обратно)12
Охранка (польск.) .
(обратно)13
Подполковник.
(обратно)14
Хулиганы (польск.) .
(обратно)15
Все в порядке (польск.) .
(обратно)16
Женщина (латин.) .
(обратно)17
Бытующее в Западной Украине выражение, соответствующее русскому “Черт бы его побрал!”.
(обратно)18
“Как напился, так и от колодца отвернулся”.
(обратно)19
Фашистская молодежная организация.
(обратно)20
Специфическое западноукраинское обращение к духовным особам.
(обратно)21
Приходский священник.
(обратно)22
Руководящая должность в организации украинских националистов.
(обратно)23
Военная организация бандеровцев.
(обратно)24
Коммунистическая партия Западной Украины, находившаяся в подполье в период существования панской Польши.
(обратно)25
Полковник (нем.) .
(обратно)



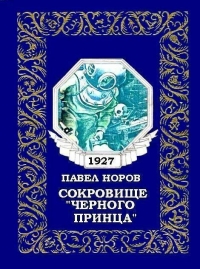
Комментарии к книге «Ювелир с улицы Капуцинов», Ростислав Феодосьевич Самбук
Всего 0 комментариев