Лев Шейнин ВОЕННАЯ ТАЙНА
© — україномовна пригодницька література
Художник А. С. Котляров
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. ВОЕННЫЙ АТТАШЕ
Полковник фон Вейцель, германский военный атташе в Москве, проснулся в это майское утро 1941 года гораздо раньше, чем обычно. Это было тем более досадно, что накануне фон Вейцель заснул очень поздно, так как около двенадцати часов ночи поступили шифровки из Берлина, на которые требовался немедленный ответ. Шифровок было две, а они в свою очередь не способствовали покойному настроению, которое господин фон Вейцель ценил выше всего на свете. Да, в свои сорок пять лет господин атташе пришел к твердому выводу, что мирный, спокойный сон едва ли не высшее наслаждение в жизни. Когда-то его увлекали спорт, женщины, наконец, служебная карьера… С годами полковник фон Вейцель обрел способность относиться ко всем этим вещам философски. Все эти радости, волнения и азарт, в сущности, только дым, который ровно ничего не стоит. Важно жить по возможности спокойно, пользоваться радостями, еще доступными после сорока лет, размеренно и умно, оберегать нервно-сосудистую систему и, главное, сознавать, что весь мир — это только ты сам, твой обед, твои прогулки, твой сон, твоя любовница, твои привычки, твои вкусы. Но, оказывается, мир устроен столь глупо, что для всего этого еще приходится работать, да еще работать в области разведки, со всеми отсюда вытекающими осложнениями, опасностями и неприятностями.
Кстати о неприятностях. В последнее время они сыпались одна за другой, как будто кто-то специально и очень старательно занимался тем, чтобы испортить жизнь господину Гансу фон Вейцелю, что, конечно, было большим свинством со стороны этого «кого-то»…
Хмуро потягиваясь на своей низкой, широкой постели и недовольно щурясь от солнечных зайчиков, пробивающихся через шелковые маркизы, фон Вейцель стал размышлять о неприятностях. По давно установившейся привычке он разделял их на две категории: неприятности непредвиденные и потому особенно серьезные и неприятности, так сказать, неизбежные, предполагавшиеся заранее, и потому не столь уж ошеломляющие.
К неприятностям первой категории, бесспорно, относилось дурацкое происшествие с этим ослом Крашке, свалившееся как снег на голову.
Крашке был одним из помощников фон Вейцеля по агентурной работе. Он был старым сотрудником разведки и, казалось, имел достаточный опыт. Во всяком случае, в России он работал еще до первой мировой войны и считался находчивым и смелым агентом.
Помощником фон Вейцеля Крашке был назначен год тому назад, и в Москву он приехал «под крышей» звания пресс-атташе посольства, то есть с дипломатическим паспортом. Положение пресс-атташе давало ему возможность общаться с корпусом иностранных журналистов, посещать редакции, библиотеки, а также быть завсегдатаем ресторанов, бегов, театров и концертов. По крайней мере для всякой другой страны такая «крыша», как звание пресс-атташе, сулила возможности неисчерпаемые.
Приехав в Москву, где он не был много лет, господин Крашке приуныл: привычные методы работы здесь оказались явно неприменимы. Советские люди неохотно шли на знакомство с гитлеровским дипломатом, упорно отказывались от встреч; карточных и других притонов в Москве не было, как не было и кафешантанов и модных кабаре, а «звезды» оперетты и кино вовсе не походили на «звезд»: не гонялись за бриллиантами, не старались заводить себе богатых содержателей и вилл и, судя по всему, являлись примерными членами профсоюза. Работать было явно не с кем…
И, как на грех, именно в это время был получен приказ Берлина всячески форсировать «операцию Сириус», как условно именовалось задание германской разведки, связанное с работами крупного советского конструктора инженера Леонтьева.
Интерес к личности и работам Леонтьева возник в Берлине давно, еще в тридцатых годах, когда из источников, которых Крашке не знал, германской военной разведке — «Абверу» стало известно, что Леонтьев, тогда еще совсем молодой конструктор, работает в области нового вида вооружений в одном из научно-исследовательских институтов Москвы.
Германской разведке тогда удалось завербовать сотрудника института, который, по мере своих возможностей, начал освещать работу Леонтьева. Из донесений этого агента выяснилось, что Леонтьев человек скромный, горячо увлеченный своей работой, что он мало разговорчив и осторожен в выборе знакомств. О подкупе Леонтьева не могло быть и речи — все данные сводились к тому, что он честный, неподкупный человек. Следовательно, работа «впрямую» здесь была исключена. Надо было идти обходными и «рикошетными» путями. Но тут возникли новые трудности — советские органы безопасности внезапно арестовали агента, работавшего в институте, каким-то образом узнав о его встречах с предшественником Крашке. Это был серьезный провал. Именно в связи с этим господин Крашке и выехал из Берлина в Москву для дальнейшей подготовки «операции Сириус».
Окрыленный дипломатическим паспортом и званием атташе, которым в глубине души он был очень польщен, господин Крашке даже завел себе монокль и смокинг.
Перед отъездом Крашке в Москву в Берлин был вызван полковник фон Вейцель. Генерал-лейтенант Пиккенброк, начальник I отдела германской военной разведки, представил господину Вейцелю его нового помощника. Вейцель с интересом посмотрел на господина Крашке. Перед ним сидел уже немолодой человек, немногословный, с тусклыми, чуть выцветшими глазами, узким лбом и большим хрящеватым носом.
— Господин полковник, — произнес Пиккенброк после того, как Вейцель и Крашке обменялись рукопожатием, — я рад вам сообщить, что наш старый Крашке знает Россию отлично. Это кадровый немецкий разведчик, и, если бы не «операция Сириус», мы ни в коем случае не отдали бы его вам…
— Я весьма признателен за помощь, господин генерал, — ответил Вейцель, — тем более что подготовка этой операции очень усложнилась в связи с известными вам обстоятельствами…
— На вашем месте, полковник, — перебил Вейцеля Пиккенброк, — я не стал бы напоминать об этом позорном провале, который вам угодно называть обстоятельствами… Этот идиот Шмельцер (речь шла о предшественнике Крашке) засыпался, как мальчишка, и провалил великолепного агента. Не говоря уже о том, что он расшифровал и себя, вследствие чего мы были вынуждены немедленно отозвать его из Москвы…
— Я позволю себе напомнить, господин генерал, — довольно неуверенно начал защищаться Вейцель, — я позволю себе напомнить, что упомянутый Шмельцер был ко мне прикомандирован по личной рекомендации рейхефюрера ОС и что я не имел к этому вопросу решительно никакого отношения…
— Чепуха, полковник! Вы отвечаете за Шмельцера с того момента, как он стал вашим сотрудником. И я считаю, что ваша ссылка на рейхсфюрера СС по меньшей мере бестактна…
И генерал Пиккенброк, о котором давно поговаривали, что он представляет в военной разведке ведомство рейхсфюрера СС Гиммлера, изобразил на своем длинном, худом лице чувство глубокого возмущения.
Полковнику Вейцелю стало не по себе. Дернул же его дьявол брякнуть насчет Гиммлера, которому этот тощий Пиккенброк при случае может все передать! Самое обидное, что Вейцель сказал сущую правду — Шмельцера действительно рекомендовал Гиммлер, но об этом, конечно, лучше было не вспоминать, особенно учитывая повадки и характер господина рейхсфюрера СС…
По-видимому, Крашке тоже это понимал, потому что на его лице мелькнуло некое подобие улыбки, которую он, впрочем, тут же подавил, сообразив, что с полковником Вейцелем ему как-никак предстоит работать.
Как раз в этот момент вошел адъютант Пиккенброка, доложивший, что адмирал Канарис — начальник германской военной разведки и контрразведки — приглашает к себе Пиккенброка, Вейцеля и Крашке.
Все поспешно поднялись и по длинным, ярко освещенным коридорам направились в кабинет Канариса.
Адмирал принял их стоя. Хорошо упитанный, румяный, он был, как всегда, гладко выбрит, сильно надушен. Ответив на обычное приветствие «Хайль Гитлер!», адмирал внимательно осмотрел пришедших с головы до ног, а затем, насвистывая какой-то опереточный мотив, стал шагать из угла в угол своего обширного, хотя и немного мрачного кабинета. Установилась долгая, неловкая пауза, и со стороны можно было подумать, что Пиккенброк, Вейцель и Крашке изо всех сил стараются запомнить насвистываемый господином адмиралом мотив — столь сосредоточенны и серьезны были их лица. Разумеется, все продолжали стоять.
Наконец Канарис подошел к своим подчиненным и коротко бросил:
— Вчера фюрер спросил меня об «операции Сириус».
И, метнув выразительный взгляд, опять начал измерять кабинет своими длинными крепкими ногами. Пиккенброк и Вейцель переглянулись и стали еще более сосредоточенно слушать мотив, который вновь начал насвистывать Канарис. Именно в этот момент в кабинет влетел без обычного стука в дверь адъютант Канариса и, бледный от волнения, едва сумел пролепетать:
— Господин рейхсфюрер СС!..
— Что?! — вскричал Канарис, не веря собственным ушам. — Что?!
— Господин рейхсфюрер… — снова пролепетал адъютант и тут же замолк.
В кабинет неторопливо входил Гиммлер. Пиккенброк, Вейцель и Крашке судорожно вытянулись по команде «Смирно!» Канарис бросился навстречу Гиммлеру, впервые удостоившему своим посещением этот кабинет. Адъютант Канариса сразу вышел из комнаты.
— Здравствуйте, адмирал Канарис, — произнес Гиммлер, даже не взглянув в сторону Пиккенброка, Вейцеля и Крашке, — я заехал информировать вас об одном соглашении.
— Як вашим услугам, господин рейхсфюрер СС, — ответил Канарис, старательно подвигая к Гиммлеру глубокое кожаное кресло. — Позвольте представить вам моих сотрудников: генерал-лейтенанта Пиккенброка, полковника фон Вейцеля — нашего военного атташе в Москве — и господина Крашке…
Гиммлер неторопливо уселся в кресло и, взглянув на застывших подчиненных Канариса, улыбнулся и сказал:
— Очень хорошо. Генерал Пиккенброк мой старый знакомый, о полковнике Вейцеле я слышал как о способном человеке, а господин Крашке, говорят, тоже настоящий немец и опытный разведчик. Они все, если не ошибаюсь, работают по русскому профилю?
— Так точно, господин рейхсфюрер СС, — отчеканил Канарис, ломая голову над вопросом, чем вызван этот необычайный визит.
— В таком случае, — продолжал Гиммлер, — эти господа могут принять участие в нашем разговоре…
И, вытащив из кармана своего черного кителя аккуратно сложенный лист, Гиммлер привычно поправил пенсне, с которым никогда не расставался, и подчеркнуто деловым тоном начал:
— Вчера, по личному приказанию фюрера, господа, я и рейхсминистр фон Риббентроп подписали соглашение, имеющее отношение и к вашему ведомству, дорогой адмирал. (Канарис при этих словах почтительно склонил голову.) Я не стану зачитывать этот документ целиком, суть его очевидна из следующего абзаца…
И, быстро отыскав нужное место, Гиммлер прочел:
— «Министерство иностранных дел оказывает секретной разведывательной службе всякую возможную помощь. Имперский министр иностранных дел будет, поскольку это терпимо во внешнеполитическом отношении, включать определенных сотрудников разведывательной службы в состав заграничных представительств…»[1]
Тут Гиммлер сделал паузу и выжидательно взглянул на Канариса.
— Еще, одна иллюстрация мудрости фюрера, — с чувством произнес Канарис, — он всегда понимал значение нашей службы…
— Слушайте дальше, — перебил его Гиммлер и снова начал читать: — «Ответственный сотрудник разведывательной службы регулярно информирует главу миссии обо всех существенных вопросах деятельности секретной разведывательной службы в данной стране».
Лицо Канариса невольно вытянулось: господин адмирал не привык информировать послов «обо всех существенных вопросах» своей деятельности. Полковник фон Вейцель тоже не выдержал и даже позволил себе громко вздохнуть. Господин Крашке, напротив, сразу повеселел. Он понял, что поедет в Москву под прикрытием дипломатического паспорта, что при всех условиях исключает какой бы то ни было риск ввиду дипломатической неприкосновенности…
Гиммлер всех по очереди осмотрел и язвительно усмехнулся.
— Господа, — медленно протянул он, — вероятно, избавят меня от необходимости разъяснять, что последний тезис об обязанности информировать дипломатов не следует понимать примитивно… Конечно, их придется информировать, но… я бы сказал, в пределах компетенции их чисто дипломатических задач… Вряд ли нужно при этом входить в чрезмерные подробности, господа, поскольку сугубая конспирация — основной закон нашей профессии…
— Так точно, господин рейхсфюрер СС! — радостно воскликнул Канарис, сообразив, что «соглашение» вовсе не поставило его службу под контроль дипломатов, которых он терпеть не мог. — Я весьма признателен вам за разъяснение…
— Это особенно важно для работы в Москве, — осторожно начал Пиккенброк, — если учесть настроения нашего посла господина Шулленбурга…
— Какие настроения вы имеете в виду, генерал? — быстро спросил Гиммлер.
— Об этом с большим знанием вопроса доложит полковник фон Вейцель, — сразу ответил Пиккенброк, решив на всякий случай остаться в стороне.
«Проклятая лиса, — подумал Вейцель о Пиккенброке, — свалил все на меня!»
— Что же вы можете доложить, полковник Вейцель? — спросил Гиммлер, не отводя взгляда от Вейцеля, соображавшего, как ему ответить, чтобы угодить рейхсфюреру СС.
— Господин фон Шулленбург, — начал Вейцель, — разумеется, опытный дипломат, вполне преданный отечеству, но, господин рейхсфюрер СС, мой долг солдата прямо заявить о том, что господину фон Шулленбургу, при всем моем к нему глубоком уважении и понимании его заслуг…
— Скажите, полковник, — перебил его Гиммлер, — вы произносите юбилейный тост или докладываете суть дела своему начальнику и рейхсфюреру СС?
У Вейцеля отлегло от сердца. Он понял, что хотелось бы услышать Гиммлеру.
— Я хочу быть объективным, господин рейхсфюрер СС, — уже уверенно сказал он, — но считаю своим долгом прямо заявить, что наш посол неверно информирует фюрера о положении в Москве.
— Так, так, — с нескрываемым интересом промолвил Гиммлер. — Продолжайте, полковник, это очень, очень любопытно.
— Господин посол является сторонником мирных отношений с Советским Союзом, — продолжал Вейцель, — и это ослепляет его. Господин посол уверяет фюрера, что Москва не намерена нападать на Германию, что она не готовится к войне, а я убежден в обратном.
— И вы правы, полковник, — бросил Гимм-лер, — я тоже убежден в этом.
— Скажу больше, господин рейхсфюрер СС, — еще увереннее начал Вейцель, окрыленный столь лестным замечанием Гиммлера, — я в глубине души теряю политическое доверие к господину фон Шулленбургу…
— Неужели? — протянул Гиммлер таким тоном, что становилось ясным, как приемлема ему и такая крайняя позиция.
— К сожалению, — со скорбной миной произнес фон Вейцель, — я не считаю себя вправе это скрыть. Мои расхождения с господином послом особенно значительны в оценке оборонной мощи Советского Союза. Господин фон Шулленбург, увы, весьма слаб в военных вопросах, и его утверждения, что Советская Армия — это реальная, хорошо слаженная, отлично подготовленная сила, глубоко ошибочны и вредны.
— Вредны? — в том же тоне спросил Гиммлер, совсем уже благосклонно глядя на Вейцеля.
— Да, вредны! — твердым тоном солдата, уверенного в своей правоте, ответил Вейцель. — Вредны потому, что они объективно являются дезинформацией, а дезинформация в таких вопросах равносильна предательству Германии! — с наигранной горячностью закончил Вейцель.
Уже поздно вечером, отдыхая в своей вилле в Нейдорфе, в пригороде Берлина, полковник фон Вейцель вспоминал во всех деталях этот разговор и пришел к окончательному выводу, что он вполне попал в тон. Это следовало не только из того, что Гиммлер охотно его слушал и благосклонно улыбался, но также из нескольких фраз, брошенных им в конце беседы, смысл которых сводился к тому, что фюрер считает войну с Советским Союзом предрешенной, что он не верит в мощь Советской Армии, считая ее «колоссом на глиняных ногах».
Вейцелю было хорошо известно, что фюрер, придя к определенному выводу, не терпит ничего, что говорит против этого вывода, и всякое иное мнение приводит его в бешенство. Откровенно говоря, полковник фон Вейцель в глубине души разделял многие мысли господина фон Шулленбурга, хотя и очень его не любил. Вейцеля раздражал этот старый немецкий дипломат: его манера разговаривать в тоне превосходства, его аристократическое происхождение (Вейцель хотя и именовался фон Вейцелем, строго говоря, не имел на это права), даже его монокль, которым он, впрочем, очень ловко пользовался. Вот почему Вейцелю было приятно устроить пакость этому надутому аристократу, хотя тот и был во многом прав. Полковнику Вейцелю, как военному атташе, довелось присутствовать на маневрах Киевского военного округа. Как-никак Вейцель имел высшее военное образование и разбирался в военном деле. То, что он, как и другие военные атташе, также приглашенные на маневры, там повидал, увы, отнюдь не подкрепляло формулы «колосса на глиняных нотах». Вейцель видел отличные, вполне современные танки, сильную авиацию и грозную артиллерию. Офицерский состав — это сразу бросалось в глаза — был хорошо подготовлен, а воинские, довольно крупные соединения, участвовавшие в маневрах, обнаружили поразительную выносливость.
Последнее, впрочем, не слишком удивило полковника Вейцеля, как и других военных атташе, потому что выносливость русского солдата была давно общепризнана и широко известна. Вейцелю запомнился один разговор на эту тему, происходивший в палатке, в которой отдыхали Вейцель и американский военный атташе полковник Армстронг.
— Понимаете, дорогой коллега, — говорил Армстронг, высокий, рыжеватый, белозубый человек с безупречным пробором и грубоватыми манерами, — выносливость русского солдата — это то, что осталось большевикам от царизма. Пока это еще у них в крови. Эти скифы действительно способны вынести то, от чего солдаты цивилизованных стран пришли бы в ужас. В данном случае уровень их материальной культуры идет им на пользу. Когда я спросил одного их майора, возит ли он с собой походную резиновую ванну, он посмотрел на меня с таким удивлением, что я почти смутился… Парень, представьте себе, не имеет об этом понятия…
И рыжий Армстронг громко захохотал, оскалив свои зубы.
Да, походных ванн у советских офицеров не было. Но Вейцель не считал, что это снижает боевые качества русских. И когда в заключение маневров сотни советских самолетов выбросили десант в несколько тысяч человек и ни один из парашютистов не задержался после приземления более минуты, полковнику фон Вейцелю стало не по себе.
Но что делать, если мир так дурацки устроен, что нередко выгоднее делать вид, что не замечаешь того, что на самом деле хорошо заметно, и не понимаешь того, что в действительности отлично понято. Вейцель был не так наивен, чтобы послать в Берлин правдивый доклад о маневрах. Он потел целую ночь, выдумывая основания для главного вывода: маневры показали отсталость техники, низкий уровень военной подготовки офицерского состава, плохое тактическое взаимодействие частей…
Вейцель знал, что только такой доклад будет одобрен и представлен фюреру и, главное, фюреру будет приятен…
И действительно, через некоторое время после отсылки доклада о маневрах полковник фон Вейцель получил письмо Пиккенброка, в котором, между прочим, указывалось:
«… Фюрер и рейхсминистр Геринг, ознакомившись с представленным вами докладом, отметили глубину сделанного вами анализа состояния войск нашего возможного противника и вполне разделяют выводы, к которым вы. пришли…»
Господин фон Вейцель пять раз перечитывал эти строки и таял от удовольствия. Мог ли он подумать, что тот же фюрер, который «вполне разделял» выводы господина Вейцеля, после разгрома немецких войск под Москвой, в декабре 1941 года, прикажет «расстрелять бывшего полковника и бывшего военного атташе в Москве Ганса Вейцеля за злостную дезинформацию» о состоянии советских вооруженных сил»?
Разумеется, господину атташе ничего подобного и в голову не приходило. В тот вечер, когда прибыло письмо Пиккенброка, Вейцель обрадовался до такой степени, что, несмотря на свою скупость, известную всему составу германской миссии, отправился в «Метрополь» и даже пригласил стенографистку посольства фрейлен Грету, высокую, полногрудую блондинку, не отличавшуюся при упомянутых достоинствах чрезмерно строгим нравом. В «Метрополе» господин фон Вейцель разошелся до такой степени, что за ужином заказал шампанское и даже преподнес фрейлен Грете цветы и коробку шоколада «Красный Октябрь». Правда, наименование коробки не очень импонировало господину атташе, но шоколад был отменный…
Все это полковник Вейцель вспоминал в то свежее майское утро, с которого начинается это повествование. Вспомнил он и возвращение в Москву вместе с господином Крашке. В Москве Крашке сразу взялся за работу и сначала производил самое выгодное впечатление. Ему даже удалось найти ход в тот самый научно-исследовательский институт, в котором работал этот проклятый конструктор Леонтьев, из-за которого господин фон Вейцель имел столько неприятностей и хлопот.
Дело в том, что еще Шмельцер, работавший до Крашке над «операцией Сириус», добыл через своего агента списки сотрудников института и переслал их в Берлин. Крашке на всякий случай стал проверять, нет ли у кого-либо из них родственников среди белоэмигрантов, проживающих в Берлине. И в самом деле среди сотрудников института оказался некий Голубцов, работавший в качестве ночного сторожа — вахтера. Звали его Сергей Петрович.
А между тем в числе белоэмигрантов, проживавших в Берлине, значился некий Голубцов, бывший царский генерал, отличавшийся весьма респектабельной внешностью, благодаря которой он и работал теперь в качестве швейцара в берлинском отеле «Адлон». Крашке решил на всякий случай проверить, не состоит ли бывший генерал Голубцов в родственных связях с ночным сторожем Сергеем Голубцовым. Это предположение подтверждалось: Голубцов, вызванный к Крашке, заявил, что у него действительно имеется в России племянник Серж Голубцов, сын его брата Петра Голубцова, скончавшегося в 1917 году, что этот Серж Голубцов служил в контрразведке деникинской армии, а затем; не успев эмигрировать, остался в России и, кажется, в дальнейшем устроился в Москве. Однако связи с ним генерал Голубцов не имел.
Само собою разумеется, выезжая в Москву, Крашке захватил с собою письмо от бывшего генерала к его племяннику, а также сохранившуюся фотографию времен гражданской войны.
Сергей Голубцов жил на окраине Москвы, в Измайловском зверинце. Господин Крашке вычитал в старом справочнике, что один из первых русских царей — «тишайший» Алексей Михайлович ездил в эти места охотиться, в связи с чем эта местность и получила такое наименование. Теперь туда можно было добраться на машине или трамваем. Крашке остановился на последнем, так как пришел к выводу, что чем демократичнее способ передвижения по Москве, тем он безопаснее для разведчика.
В целях предосторожности Крашке, выйдя из здания посольства в Леонтьевском переулке, сначала направился к Арбату и вышел на Бульварное кольцо. У памятника Тимирязеву Крашке отдохнул на скамейке и, убедившись, что за ним никто не следит, направился к Пушкинской площади, где внезапно, на ходу, прыгнул в вагон трамвая, с которого также внезапно соскочил в районе Чистых прудов. И уже отсюда сначала на автобусе, а затем в трамвае добрался до Измайловского зверинца.
Когда он вышел на асфальтированное шоссе, с одной стороны которого стояли небольшие деревянные домики с палисадниками и огородами, а с другой — шумел сосновый, далеко уходящий лес, то сразу почувствовал себя спокойно.
Шоссе было пустынно в этот сентябрьский вечер, с огородов доносились голоса игравших детей, высокие сосны мирно пламенели в лучах заходящего солнца.
Без особого труда господин Крашке обнаружил нужный ему дом. Он стоял за палисадником, деревянный и старый, с выцветшей от времени, когда-то зеленой окраской и заплатанной ржавой крышей, уже чуть покосившийся и заметно осевший в землю.
Крашке еще раз оглянулся — шоссе было по-прежнему пустынно — и уверенно толкнул скрипучую калитку. Во дворе, заросшем травой, никого не было, выходящая во двор дверь была открыта. Крашке поднялся по деревянным ступеням и оказался в маленькой темноватой кухне. Здесь тоже никого не было, но за неплотно закрытой дверью слышались перебор гитары и хрипловатый баритон, с большим чувством исполняющий романс: «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской…»
Господин Крашке с удовольствием прислушался. Некогда, в дни молодости, судьба, а точнее немецкая разведка занесла его в один уездный городишко Могилевской губернии. По характеру задания ему надо было завести связи с местным начальством и офицерами дивизии, расквартированной в этом городке. Крашке познакомился с дочерью воинского начальника Зиночкой Бурцевой, открыл в городе аптеку, играл в преферанс с уездным исправником и земским начальником, лихо плясал на балах и, наконец, добился руки и сердца дочери воинского начальника.
Уже после свадьбы Зиночка призналась молодому супругу, что покорил он ее не модными усиками, которые он тогда отпустил, не талантом лихого вальсера, не изысканностью манер и процветавшей аптекой, а тем, как проникновенно и «с давыдовской слезой», по утверждению воинского начальника, исполнял он этот романс: «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской, как печально огонь догорает…»
Через год, успешно выполнив задание, молодой аптекарь загадочно исчез из города, предусмотрительно захватив с собой десять тысяч Зиночкиного приданого и навсегда оставив аптеку, беременную жену и гитару, на которой он сам себе так вдохновенно аккомпанировал.
И вот теперь, стоя в этой темной, пахнувшей мышами кухне, господин Крашке услышал слова и мотив почти забытого романса. Это звучало как доброе предзнаменование, и господин Крашке, улыбаясь от легкого волнения и нахлынувших воспоминаний, смело толкнул дверь, за которой пел баритон.
В небольшой, обставленной старомодной мебелью комнате сидел на диване уже немолодой грузный человек с гитарой и уныло пел.
Увидев вошедшего Крашке, обладатель хриплого баритона сразу замолк, вопросительно уставившись в пришедшего нагловатым взглядом своих выпуклых глаз.
— Простите, — произнес Крашке, снимая шляпу, — могу ли видеть товарища Голубцова Сергея Петровича?
— А вы откуда и кто такой будете? — ответил вопросом на вопрос хозяин комнаты.
— Прежде чем ответить на этот законный вопрос, — улыбнулся Крашке, — я хотел бы убедиться, что говорю именно с тем, кто мне нужен.
— Я Сергей Петрович, — ответил мужчина. — А что вам нужно? Я вас не знаю.
— К сожалению, мы действительно не знакомы, — произнес Крашке, — но я имею к вам поручение от вашего почтенного дядюшки Валерия Павловича Голубцова…
— У меня нет никакого дядюшки! — чуть резче, чем следовало, ответил Голубцов, весьма порадовав этим Крашке.
— В соседних комнатах кто-нибудь есть? — неожиданно спросил Крашке. — Нас никто не слышит?
— А что вам, собственно, угодно?
— Мне угодно передать вам письмо от вашего дядюшки, его превосходительства генерала Голубцова, — спокойно повторил Крашке. — У меня есть ваша фотография, но, право, я бы вас не узнал. Впрочем, это и не удивительно, если принять во внимание, что вы, господин Голубцов, сняты на ней в тысяча девятьсот девятнадцатом году, в офицерской форме, когда вы, если не ошибаюсь, служили в контрразведке добровольческой армии. Мне передал эту фотографию ваш дядюшка, чтобы мы легче смогли найти общий язык…
И Крашке протянул Голубцову немного выцветшую фотографию, на которой он был изображен во весь рост, в офицерской форме. Голубцов выхватил фотокарточку и мгновенно разорвал ее на мелкие клочки. Крашке, улыбаясь, сел в кресло, не ожидая приглашения. Голубцов тяжело дышал.
— Напрасно вы разорвали карточку, глубокоуважаемый Сергей Петрович, — укоризненно произнес Крашке, покачивая головой. — Я предвидел такой вариант и имею несколько отличных фотокопий. Вот одна из них…
И он протянул оторопевшему Голубцову новую фотографию.
— Кто вы и что вам от меня нужно? — хрипло спросил Голубцов.
— Я друг генерала Голубцова и надеюсь стать и вашим другом, — ответил Крашке, закуривая сигарету. — Но сначала ознакомьтесь с письмом вашего дяди, который прислал вам его из Берлина.
И Крашке протянул Голубцову письмо. Голубцов два раза его прочел, потом достал спички и сжег письмо.
— Вот видите, Сергей Петрович, вы напрасно так взволновались, — вновь заговорил Крашке, — вы можете мне абсолютно доверять. Мы а вами люди одного возраста, одного воспитания, и легко поймем друг друга…
— Кто вы? — снова спросил все еще бледный Голубцов.
— Друг вашего дяди, и он вам об этом пишет. Кстати, если вы забыли содержание письма, то у меня есть и его фотокопия.
— Что вам от меня нужно?
— Пока ничего. А в будущем какие-нибудь сущие пустяки. Но давайте познакомимся. Расскажите о вашем житье-бытье… Вы, конечно, сознательный член профсоюза? Пролетарий или советский служащий?
— Я работаю сторожем в одном институте. Ночным сторожем…
— Ночным сторожем? Гм, нельзя сказать, что вы сделали блестящую карьеру. Что же это за институт?
Разговор Крашке и Голубцова затянулся до поздней ночи. Выяснилось, что Сергей Петрович одинок, в прошлом году его жена скончалась от рака легких, что этот старый дом принадлежит ему, что он, конечно, скрыл свою службу в белой армии, что в институте он работает уже четвертый год и что за стеной, в соседних двух комнатах, проживают две богомольные старушки. Такие соседи не оставляли желать лучшего. С другой стороны, и сам Голубцов оказался довольно сговорчивым и покладистым человеком, быстро сообразившим, чего от него хотят.
Они расстались друзьями, и в первом часу ночи Голубцов проводил Крашке за скрипучую калитку своего дома.
На шоссе было так же пустынно. Темное сентябрьское небо низко нависло над Измайловским зверинцем, редкие уличные фонари покачивались от резких порывов ветра, тревожно шумел лес, стоявший черной стеною по ту сторону шоссе.
Простившись со своим новым знакомым, господин Крашке все с теми же мерами предосторожности, неожиданно меняя виды транспорта — трамвай, троллейбус, метро, добрался в посольство около двух часов. Несмотря на позднее время, он сразу зашел к полковнику Вейцелю, который его давно поджидал и уже начинал волноваться.
Выслушав подробный доклад Крашке о его визите к Голубцову, господин атташе пришел в восторг. За такое. удивительное стечение обстоятельств, черт возьми, не мешало выпить! За бутылкой душистого мозельвейна фон Вей-цель и Крашке разработали план дальнейших мероприятий. Голубцова надо было окончательно «освоить», хорошо проверить, а затем обучить фотографированию документов и чертежей. Его положение ночного сторожа открывало превосходные перспективы успешного завершения «операции Сириус», что в свою очередь очень реально сулило награды, орден железного креста и генеральские погоны, о которых господин полковник Вейцель, вопреки обретенному с годами философскому образу мышления, все же пылко мечтал.
Да, вначале все шло удивительно легко и успешно. Этот Голубцов с его романсами и гитарой оказался превосходным агентом, хотя и несколько назойливым в отношении гонорара. Не могло быть и речи о том, что он является или может стать «двойником», то есть, сотрудничая с Крашке, одновременно работать на советскую контрразведку. Голубцов не только поневоле выполнял задания Крашке, но делал это с удовольствием, глубоко ненавидя советскую власть и стремясь напакостить ей чем только можно. Выходец из семьи крупного помещика, он в молодости боролся с революцией в рядах добровольческой армии, потом долго заметал следы; женился на какой-то бывшей торговке, которой принадлежал дом в Измайловском зверинце, потом похоронил жену, сильно опустился и теперь прозябал в своей берлоге, как одинокий, отбившийся от стаи волк, все еще, однако, готовый к прыжку.
Там, на работе, он умело носил личину этакого добродушного, не слишком умного и чуть ворчливого служаки-старика, исправно посещал все профсоюзные собрания, охотно подписывался на заем, а в майские и в октябрьские праздники раньше всех приходил на демонстрацию, громче всех кричал «ура», первым запевал «Эх, Дуня, Дуня, Дуня-я, комсомолочка моя» и даже пускался в пляс с молодыми секретаршами.
В институте Голубцова считали немного чудаковатым, но в общем приятным стариком, все называли его запросто «Петровичем» и охотно выслушивали его рассказы о том, как в молодые годы он будто бы служил красноармейцем «у самого Чапая».
Престиж Голубцова и доверие к нему особенно возросли после того, как однажды утром он, действуя по заданию Крашке, явился к директору института и молча протянул ему пять тысяч рублей, будто бы найденные им на рассвете недалеко от главного подъезда института.
— Только я, товарищ директор, начал утром подметать асфальт у подъезда, гляжу, пакет этот лежит. Посмотрел я и испугался: шутка сказать, какие деньги — тысячи!.. Так, поверьте, еле дождался вашего приезда!.. Не иначе, как кто из наших потерял, а может, даже казенные денежки-то — и государству нашему убыток, и человек зазря может пропасть…
Директор поблагодарил Голубцова, пожал ему руку и рассказал о происшествии работникам института. Выяснилось, что никто из них ничего не терял, и деньги были сданы в отдел находок милиции, а о Голубцове появилась заметка в стенгазете под заголовком «Благородный поступок».
После этого доверие к Голубцову окончательно укрепилось…
Справедливость требует отметить, что в этом деле Голубцов слегка надул господина Крашке, который выдал ему для этой инсценировки семь с половиной, а не пять тысяч. Но Голубцов рассудил, что для нужного эффекта хватит и пяти.
Разумеется, Вейцель, как и Крашке, ничего об этом не знал и не мог нарадоваться своим новым агентом.
К его вящему удовольствию, Голубцов, занесенный в секретные списки агентуры под псевдонимом «король бубен», довольно быстро освоил технику фотографирования документов и чертежей, и «операция Сириус» близилась к своему завершению. В конце апреля «король бубен» сообщил, что ему удалось подслушать, что конструктор Леонтьев собирается выехать в служебную командировку. Было уже известно, что Леонтьев в таких случаях, как и каждый вечер перед уходом с работы, запирает секретные документы в стальной сейф, стоящий в его кабинете, а затем еще опечатывает этот сейф сургучной печатью. Сейф, судя по имеющейся на нем надписи, был изготовлен системой промкооперации, а именно артелью «Меткоопромсоюз». Крашке специально приобрел такой же сейф в магазине, где ему подмигнул на него «король бубен», явившийся, как было условлено, в этот магазин, и у себя в кабинете тщательно его исследовал. Качество продукции артели «Меткоопромсоюз» получило полное одобрение господина Крашке: сейф был сделан более чем примитивно, его внутренний затвор скорее походил на щеколду от простой калитки, чем на замок стального сейфа для секретных бумаг.
Однако дело осложнялось тем, что сейф Леонтьева, как выяснилось, стоял в секретной комнате его лаборатории, которая в свою очередь закрывалась на ночь особой стальной дверью со сложным замком.
Таким образом, для получения чертежей, хранившихся в сейфе Леонтьева, требовалось, во-первых, подобрать ключ к замку стальной двери, во-вторых, ключ к самому сейфу и, наконец, изготовить сургучную печать, которой опечатывался ежедневно этот сейф, для того, чтобы после фотографирования чертежей вновь опечатать сейф Леонтьева.
«Король бубен» был соответственно проинструктирован и снабжен пластилином особой марки. Ночью, когда он дежурил в институте, где уже никого из сотрудников не было, Голубцов запер изнутри двери вестибюля, погасил в нем свет и тихо поднялся на второй этаж. Он подошел к стальной двери, ведущей в секретную комнату, и осветил ее карманным фонарем, не включая из осторожности свет в комнате.
В длинных гулких коридорах института, едва освещенных светом луны, проникавшим через большое створчатое окно, царил таинственный голубоватый полумрак. Голубцов замер — ему послышался какой-то подозрительный шум в расположенной поблизости туалетной комнате. С пересохшим от волнения горлом он застыл у двери, напряженно ловя звуки, доносившиеся из туалетной комнаты. Они» раздавались отчетливо и равномерно.
Собрав последние силы, Голубцов решил сделать вид, что производит ночной обход, и, нарочито тяжело ступая, подошел к туалетной комнате. Здесь он с силой рванул дверь и громко спросил:
— Кто там?
Ответа не последовало. Голубцов включил электрический свет — туалетная была пуста, а из бачка равномерно и гулко капала вода.
«Король бубен» выругался и тут же увидел в настенном зеркале свое искаженное, бледное от волнения лицо.
«Горький мне достался хлеб», — подумал сам о себе Голубцов и, чтобы хоть немного успокоиться, закурил.
Отдохнув, он вернулся к стальной двери и стал медленно, как его обучил Крашке, выдавливать из тюбика с пластилином густую, вязкую массу в замочную скважину двери. Когда та была, наконец, заполнена, Голубцов выждал положенные пять минут и сильно рванул за оставленный хвостик уже застывший и твердый слепок.
На следующий день он встретился с Крашке в универмаге Мосторга и в сутолоке, не здороваясь, незаметно сунул тому слепок.
Через два дня «король бубен» зашел в пивной бар, где за столиком сидел Крашке в скромном, грубошерстном костюме. Сделав вид, что он не знает Крашке, Голубцов попросил разрешения сесть за его стол. Они молча, не глядя друг на друга, пили пиво. Когда Крашке, расплатившись, стал подниматься, он незаметно передал Голубцову изготовленный по слепку ключ.
В ту же ночь «король бубен», снова дежуривший по институту, открыл этим ключом стальную дверь и снял слепки с замка сейфа и сургучной печати, которой сейф был опечатан.
Слепки он снова передал Крашке, с которым на этот раз встретился в довольно странной обстановке: оба катались в лодках на пруде Чистопрудного бульвара.
Это было в конце апреля, стоял теплый вечер, на бульваре было много гуляющих. На маленьком пруде скользили многочисленные лодки, сталкиваясь одна с другой. В них катались влюбленные парочки, веселые студенческие компании и школьники старших классов. Крашке, в соломенной панаме, сняв пиджак, неутомимо кружил по пруду с видом человека, выполняющего врачебное предписание.
«Король бубен» тоже очень старательно греб, разгоняя тяжелую лодку и демонстрируя разные виды гребли.
Когда он в третий раз поравнялся бортом с лодкой Крашке, тот, опять-таки не здороваясь, швырнул в лодку Голубцова кожаный кисет на молнии, в котором находились резная медная печать для сургуча и ключ от сейфа Леонтьева.
«Операция Сириус» близилась к завершению.
Первого мая Голубцов был назначен дежурным вахтером и должен был дежурить целые сутки.
Утром, гладко выбритый и веселый, «король бубен» явился в институт, где уже собирались сотрудники на первомайскую демонстрацию.
Голубцов, с красным бантиком в петлице, сердечно поздравил всех с праздником и посетовал, что на этот раз ему не придется участвовать в демонстрации.
Сотрудники института собирались у главного подъезда, уже были приготовлены праздничные знамена, портреты и стяги, и ровно в девять часов утра колонна института влилась в районную колонну.
Еще накануне Крашке и Голубцов решили, что извлечение и фотографирование документов, хранившихся в сейфе Леонтьева, безопаснее произвести не ночью, когда в институте может быть произведена внезапная проверка, а днем, именно в часы демонстрации, когда, при всем желании, машине трудно пробиться к зданию института. В этот день ответственным дежурным по институту был некий Кравчук, заместитель директора, рыхлый и флегматичный человек. Накануне Кравчук встречал праздник, плохо выспался и теперь, удобно устроившись в мягком кресле, немедленно уснул. Убедившись в этом, Голубцов запер изнутри двери вестибюля и поднялся на второй этаж. Он быстро открыл стальную дверь, затем сейф, содрав с него сургучную печать, и достал папку, на которой было написано:
Сов. секретно
ЧЕРТЕЖИ И ФОРМУЛЫ ОРУДИЯ Л2
«Король бубен» разложил чертежи и документы — их было не так уж много — на столе, стоявшем у самого окна, стекла которого дребезжали от грома духовых оркестров, песен и веселого, праздничного гула.
Голубцов не выдержал и осторожно заглянул в окно. Широкая многоцветная человеческая река струилась по улице, заполняя ее от края до края, мелькали яркие косынки девушек, алые с золотыми кистями знамена, медные и серебряные трубы музыкантов, тысячи поющих, улыбающихся лиц.
«Королю бубен» стало не по себе. Сложные, противоречивые чувства охватили его. Он завидовал, да, мучительно завидовал всем этим людям, проходившим за окном в честь своего праздника, по своим улицам, своего города. Это и в самом деле был их город, их страна, их праздник. Праздник, к которому он, бывший дворянин и помещик Серж Голубцов, не имел никакого отношения, будь все они прокляты!
И вот они радуются и празднуют, а он, с дурацкой шулерской кличкой «короля бубен», должен, рискуя жизнью, выполнять задания грубого носатого немца, который становится изо дня в день все наглее и требовательнее и грубит дворянину Голубцову, как своему лакею.
Но, с другой стороны, была какая-то особая, жгучая радость в сознании: ведь тем, что он сейчас сделает, будет нанесен удар и по этому враждебному ему празднику и по этой поющей и тоже враждебной ему толпе, прославляющей все то, что лишило его поместья, потомственных привилегий, дворянского герба и всего, на что он имел право с момента рождения и чего его лишили.
И с такими мыслями, захлестнутый волной ненависти и жаждой мести, Голубцов бросился к столу, на котором были разложены документы, и стал снимать их один за другим специальной «лейкой», которой его снабдил господин Крашке.
А второго мая, поздно ночью, сияющий Крашке ворвался, как буря, в личные апартаменты господина военного атташе и выложил на стол кассету от фотоаппарата, которым был снабжен «король бубен». Полковник Вейцель и Крашке, волнуясь от нетерпения, забрались в ванную комнату, служившую и для особо секретных фоторабот, и начали проявлять пленку. В темноте, только подчеркиваемой слабым красным светом фотофонаря, мерно постукивал бачок для проявления, осторожно покачиваемый господином Крашке. Вейцель сопел от волнения — шутка сказать, сейчас выяснится результат такой трудной и сложной работы!
Но вот пролетели установленные для проявления этого сорта пленки несколько минут, проявитель вылит из бачка, затем наполнен чистой водой, потом вылита вода и в бачок залит фиксаж, еще несколько томительных минут, пленка вынута из бачка, и — слава всевышнему! — на ней имеются тридцать шесть отлично получившихся снимков чертежей, расчетов, формул…
— Хайль Гитлер! — заорал во всю глотку Крашке и начал трясти руку полковнику фон Вейцелю.
Итак, был достигнут полный успех. Ночью в Берлин полетела победная шифровка. Утром пришло шифрованное поздравление от Канариса и Пиккенброка и приказ немедленно отправить пленку в Берлин. Как раз в эти дни из Москвы в, Берлин должен был выехать некто repp Мюллер, числившийся корреспондентом Германского телеграфного агентства, а в действительности сотрудник политической разведки. Герр Мюллер охотно согласился захватить с собой небольшой пакетик и обещал сразу по приезде в Берлин передать его по назначению.
Господин Вейцель, принимая решение отправить драгоценную пленку с Мюллером, сразу убивал двух зайцев: во-первых, Мюллер должен был доложить о пленке Гиммлеру, который тем самым информировался о победе господина атташе и при случае мог доложить об этом самому фюреру; во-вторых, получив пленку через Мюллера, адмирал Канарис уже никак не мот присвоить себе лавров полковника Вей цел я, что он нередко делал, и уже волей-неволей должен был объективно доложить о заслугах господина военного атташе.
Наконец, при всем том, адмирал Канарис никак не мог придраться к тому, что пленка была послана с Мюллером, ибо другой подходящей оказии в это время не было, а он сам требовал отправить ее как можно скорее.
Словом, все было задумано очень тонко, и Вейцель потирал руки от удовольствия.
Герр Мюллер жил в отеле «Националы», и Вейцелю не хотелось, чтобы Крашке отнес ему пленку в гостиницу. Поэтому было решено, что Крашке приедет прямо на вокзал проводить Мюллера, что было вполне естественно для пресс-атташе посольства, а там вручит ему драгоценный пакетик.
Так и было сделано. За час до отхода заграничного поезда Москва — Негорелое сияющий господин Крашке выехал из посольства на Белорусский вокзал, заверив полковника фон Вейцеля, что сразу после отхода поезда вернется в посольство и доложит своему патрону, что пленка поехала в Берлин.
2. «ВАРИАНТ БАРБАРОССА»
Уже две недели прошло после этого рокового дня, а и сегодня, все еще лежа в постели и вспоминая все подробности случившегося, господин фон Вейцель не мог сдержать нервной дрожи. Изволь вот при такой злосчастной судьбе оберегать нервно-сосудистую систему!
Не раз фон Вейцель давал себе слово не возвращаться к этим проклятым воспоминаниям, так нет, они назойливо лезли ему в голову.
В тот проклятый день он был, представьте, абсолютно спокоен, и ему и в голову не приходило, что в самый последний момент «операция Сириус» лопнет, как мыльный пузырь. Да и как можно было это предвидеть, когда все катилось, как по рельсам, и никаких признаков приближающейся беды не было.
В тот день, проводив Крашке до самого подъезда, господин Вейцель вышел во двор посольства, посмотрел, как шофер Август моет его длинный темно-синий «мерседес», сверкающий никелем и лаком. Было еще прохладно, но солнце уже начинало припекать. За воротами шумела полуденная весенняя Москва, отдохнувшая после первомайских праздников. Слева в одном из переулков, в школьном дворе, весело кричали дети. Через чугунное кружево ворот было видно, как мерно прохаживается взад-вперед рослый, очень вежливый милиционер, неизменно, с большим достоинством, отдававший честь, когда мимо него проезжали представители «дружественной державы», как любили именовать себя после советско-германского пакта 1939 года немецкие дипломаты и в том числе господин военный атташе.
Из открытого окна посольской канцелярии господину Вейцелю подчеркнуто скромно улыбалась фрейлен Грета.
Поглядев на ее кудрявую головку и пышную грудь, господин фон Вейцель решил сегодня пригласить ее снова — фрейлен Грета вполне этого заслуживала. И он осторожно сделал ей знак глазами, на что Грета утвердительно кивнула белокурой головкой.
В самом лучшем настроении, чуть охмелев от свежего воздуха, майского солнца и отлично складывающихся дел, полковник Вейцель вернулся в свой служебный кабинет и приступил к составлению секретного доклада об успешном завершении «операции Сириус».
Черт возьми, полковник фон Вейцель был мастер писать доклады!.. Здесь надо было найти тот особый тон, когда доклад, с одной стороны, отличался бы деловой скромностью и даже некоторой сухостью изложения, не обнаруживая и тени — боже упаси! — хвастовства, а, с другой стороны, из четкого перечисления всех сложностей, неожиданных препятствий и опасностей, стоявших на пути осуществления операции, должна была возникнуть красочная картина находчивости, смелости и настойчивости, проявленных лично господином атташе и его аппаратом…
Вейцель заканчивал уже пятый лист и выкурил три сигареты («надо будет все-таки бросить эту вредную привычку»), когда за дверью протопали чьи-то стремительные тяжелые шаги и в кабинет влетел, как огромный футбольный мяч, удачно забитый в ворота под самым носом растерявшегося вратаря, господин Крашке…
Ворвавшись в комнату, Крашке пролепетал что-то нечленораздельное. Господин атташе, сразу вспотев, мгновенно догадался, что случилось нечто ужасное.
— Что?! — вскричал он таким голосом, что заколыхались шелковые занавески на окнах.
— М-м-м… — замычал Крашке. — Убейте меня, господин полковник…
У Вейцеля хватило выдержки вылить полкувшина воды на голову этого кретина, после чего Крашке, дрожа и чуть не плача, сообщил, что на вокзале, в самый последний момент, у него… вырезали задний карман с бумажником, в котором были все его документы и эта самая пленка!..
Вейцель схватился за голову. Он накинулся на Крашке с бранью и криками, но тот даже не пытался оправдываться.
Прошло минут двадцать, пока господин Вей-цель не вспомнил о своей нервно-сосудистой системе. Дрожащими руками он налил в стакан двойную порцию брома и залпом опрокинул его, от волнения он перепутал пузырьки и вместо брома налил тридцатипроцентный альбуцид, который аккуратно капал себе в глаза вследствие конъюнктивита.
Господин атташе был очень мнителен и поднял страшную тревогу. Врача посольства, доктора Вейнзеккера, мирно дремавшего в дворовом флигеле, где он жил, разбудили, как на пожар. Толстый Вейнзеккер, этот проклятый бездельник, со сна долго не мог понять, в чем дело, глядя на катающегося на диване и ревущего господина фон Вейцеля, и наконец, уяснив суть происшествия, нахально заявил, что альбуцид не так уж страшен и, если не считать легкой рези в кишечнике, которая к вечеру пройдет, даже полезен как дезинфицирующее средство…
Господин Вейцель с трудом удержался, чтобы не отпустить оплеуху этому толстому шарлатану, которому наплевать на чужие страдания, но Вейнзеккер, трубно высморкавшись в огромный клетчатый платок, величественно удалился во флигель с видом человека, выполнившего свой долг.
А резь в животе продолжалась, хотя Вейнзеккер нагло утверждал, что это главным образом нервные спазмы.
Итак, Крашке был обворован. В бумажнике находилось небольшое количество валюты, личное удостоверение Крашке, та самая пленка и визитная карточка сотрудника миссии Отто Шеринга, на обороте которой тот написал Крашке, что приветствует его в день приезда в Москву как старого знакомого и коллегу по работе. (Отто Шеринг, значившийся экономическим атташе, был в действительности работником политической разведки.)
По зрелом размышлении и после обсуждения случившегося в узком кругу своих ближайших сотрудников полковник Вейцель пришел к следующим выводам.
Во-первых, было неясно, кем обворован Крашке. Если он стал жертвой обычного карманника, то это еще полбеды. Однако вовсе не исключалось, что бумажник в конечном счете окажется в руках советских органов безопасности.
Во-вторых, Крашке, как и этому идиоту Шерингу, сделавшему эту дурацкую надпись на визитной карточке, надо было немедленно, пока не поздно, возвращаться в Берлин.
В-третьих, в целях предосторожности было решено прекратить встречи с «королем бубен», который, при сложившейся ситуации, может быть не сегодня-завтра разоблачен.
Когда это решение было принято, Вейцель счел необходимым хотя бы частично информировать о случившемся посла, чтобы объяснить причины внезапного откомандирования в Берлин Крашке и Шеринга, тем более что последний вообще не был подчинен военному атташе.
Господин фон Шулленбург, совсем уже пожилой человек, с внимательным, холодным взглядом и повадками немецкого дипломата старой школы, по обыкновению, молча выслушал сообщение военного атташе, слегка постукивая карандашиком по подлокотнику своего кресла. Понять, что он думает, было трудно.
— Это все, господин полковник? — коротко спросил он, когда Вейцель закончил свой рассказ и изложил свои предложения.
— Да, господин посол, — ответил Вейцель, с раздражением глядя на невозмутимое лицо посла. — «Я хотел бы просить вашего совета.
— Давать советы хорошо своевременно, — не без ехидства заметил Шулленбург, — и я весьма сожалею, что идея посоветоваться лишь теперь пришла вам в голову, мой дорогой полковник. А если учесть известное вам соглашение, подписанное рейхсфюрером СС и рейхсминистром иностранных дел, то эта несвоевременность просто загадочна…
И господин фон Шулленбург очень выразительно улыбнулся. В глубине души он был даже этому происшествию рад. По некоторым, хотя и весьма косвенным данным Шулленбург давно догадывался, что фон Вейцель всячески ему пакостит.
Старый немецкий дипломат и примерный службист, господин фон Шулленбург в глубине души очень не любил выскочек вроде этого Вейцеля. Вообще далеко не все, что происходило в «третьей империи», было понятно Шулленбургу, начиная с личности «фюрера», неизвестно откуда вынырнувшего и плохо владеющего немецким языком австрийца. Шулленбург знал, что настоящая фамилия Гитлера — Шиккльгрубер, что он очень истеричен и вспыльчив, мало образован и большой позер. Откуда, каким ветром занесло в кресло канцлера этого крикуна с вульгарной челкой и воспаленными глазами эпилептика? И не в этой ли явной истерии секрет его успеха у толпы?
Так думал в глубине души господин Шулленбург в те дни, когда Гинденбург и На пен вручили 30 января 1933 года Гитлеру звание канцлера Германской республики. Ровно через месяц, 28 февраля, новоиспеченный канцлер отменил ряд пунктов Веймарской конституции и провел «закон о защите народа и империи», по существу сделавший его диктатором.
Однако это были только цветочки. Когда начались массовые расстрелы, концлагери, в которые сотни тысяч людей заключались без следствия и суда, пытки, конфискации, уличные погромы, господин фон Шулленбург окончательно перестал что-либо понимать.
Но с ходом событий он пришел к выводу, что лучше служить, не понимая, чем сидеть в концлагере, понимая. И он стал служить Гитлеру, решив, что все же лучше Гитлер, нежели коммунисты.
Шулленбург знал, что к нему относятся без излишнего доверия, что многие из его подчиненных в посольстве, помимо своих основных обязанностей, имеют задание следить за ним. Но взаимная слежка, как и взаимное недоверие стали альфой и омегой «третьей империи». И господин посол с этим примирился.
Он очень не любил Советский Союз. Коммунистическая идеология была глубоко враждебна всему, к чему он привык с детства, что любил и с чем не хотел расставаться.
Но он был достаточно умен для того, чтобы видеть, что социалистический строй прочно установился в этой стране и что правительство Советского Союза, при котором он был аккредитован, ведет твердую политику, пользующуюся поддержкой народа. Словом, что там ни говори, это было настоящее правительство в самом высоком и государственном смысле этого слова.
Фон Шулленбург отдавал себе отчет в серьезных успехах, которые достигнуты советским пародом. Как ни печально, но это была мощная держава, с передовой индустрией, высокой общей и технической культурой, возраставшей буквально с каждым годом, и несомненной сплоченностью многонационального населения.
Нередко по ночам — в последнее время он страдал бессонницей — посол признавался самому себе, что то, что он и многие другие рассматривали как рискованный и обреченный на поражение социальный эксперимент, увы, побеждает. Да, эти большевики отлично знали, чего хотят и как этого достигнуть! Это сказывалось и в их внешней политике, лишенной внезапных рывков, отступлений, нарушения принятых на себя обязательств и лицемерных заверений, на которые так щедр был Гитлер.
(Как опытный дипломат, Шулленбург не мог не оценить достоинств такой внешней политики, не говоря уже о том, что руководители советской дипломатии были, что ни говори, серьезные люди. Как правило, они были немногословны, хотя неизменно корректны, избегали туманных формулировок, до которых так охочи западные дипломаты, очень точны в обещанных сроках и ответах.
В результате своих наблюдений в Советском Союзе фон Шулленбург был твердо уверен и в боевой мощи советских вооруженных сил и считал, что Германии опасно воевать с этой страной.
Шулленбург не раз излагал, хотя и в очень осторожной форме, свою точку зрения по этому вопросу. Но он ясно видел, что Гитлер, упоенный победами на западе, стремится к выходу на восток.
Правда, Шулленбургу об этом прямо не было сказано, что лишний раз свидетельствовало об отсутствии полного доверия к нему, но по ряду чисто косвенных деталей и нюансов посол догадывался, что там, в Берлине, в секретных комнатах новой имперской рейхсканцелярии уже идет подготовка этого безумного плана.
И фон Шулленбург, покряхтев во время ночной бессонницы, ровно в десять утра приходил в свой роскошный посольский кабинет (с которым тоже очень не хотелось расстаться) и весь день старательно и педантично играл роль человека, без ума влюбленного в своего «фюрера», кричал, как было принято, «Хайль Гитлер!», с обязательным выбрасыванием правой руки, восхищался «историческими заслугами» того же Гитлера; на праздничных вечерах в посольстве торжественно, тоже непременно стоя, провозглашал за него первый тост и всячески и всем, до последнего курьера посольства (ибо и этот курьер, вероятно, был тайным осведомителем гестапо), стремился со всей очевидностью показать, что он, господин фон Шулленбург, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Москве, всем сердцем, всем телом, всеми помыслами беспредельно и навсегда предан этому дегенерату с челкой!.. И что он, фон Шулленбург, свято верен «партийной клятве», которую он дал, вступая в нацистскую партию, и текст которой гласил;
«Я клянусь в нерушимой верности Адольфу Гитлеру; я клянусь беспрекословно подчиняться ему и тем руководителям, которых он изберет для меня».
Да, все это было, было: и клятва, и вступление в нацистскую партию, чтобы удержаться на поверхности, и несколько лет всего того кошмара, который принесла Германии эта пресловутая «партия» и ее удивительный фюрер…
Разговор с господином Вейцелем подходил к концу. Посол согласился с тем, что Крашке и Шеринг должны немедленно покинуть Москву и вернуться в Берлин. Он подписал заготовленное Вейцелем распоряжение и не преминул заметить, что вся эта история чревата самыми серьезными последствиями, которые даже трудно полностью предусмотреть.
Выйдя из кабинета посла и вернувшись к себе, фон Вейцель написал подробную шифровку обо всем случившемся, в которой постарался как можно больше выгородить себя и подчеркнуть растерянность и тупоумие Крашке.
Он предложил также временно свернуть «операцию Сириус».
Шифровка была отправлена в Берлин третьего дня, вчера утром выехали из Москвы (Крашке и Шеринг, и уже ночью из Берлина поступили две шифровки в ответ.
Одна предлагала фон Шулленбургу и Вейцелю немедленно выехать в Берлин с докладом.
Вторая телеграмма содержала разрешение временно свернуть «операцию Сириус» и категорически предписывала им ни в коем случае не встречаться с «королем бубен».
Обе телеграммы были неприятны, но если вторая была вполне понятна и естественна при этих обстоятельствах, то первая поднимала тревожный вопрос: зачем вызывают в Берлин господина военного атташе, да еще вместе с послом?..
Вот почему в это майское утро фон Вей-цель проснулся в своей постели с головной болью, в самом дурном настроении и, против обыкновения, так долго продолжал лежать, вместо того чтобы сделать утреннюю гимнастику, а потом принять холодный душ.
Уже после завтрака, который Вей цель тоже съел без обычного удовольствия, его пригласил к себе посол. Когда Вейцель вошел к нему, то впервые увидел господина Шулленбурга в явно встревоженном состоянии. Оказалось, что он тоже получил вызов в Берлин. И, видимо, несмотря на разницу характеров и положения, у господина чрезвычайного и полномочного посла возник тот же проклятый вопрос: зачем?..
— Скажите, полковник, — почти нежно произнес Шулленбург, — не указано ли в полученной вами телеграмме, какие документы и по каким вопросам вам следует захватить с собой?
— К сожалению, господин посол, в телеграмме ничего этого нет. А в вашей телеграмме не указывается цель вызова?
— Нет, об этом ничего не сказано, полковник. Я предполагаю, что это может быть вызвано происшествием с Крашке, но не могу понять, какое отношение имею к этому я? Тем более что обо всем этом деле я, как вы помните, вообще узнал постфактум.
— Я думаю, — произнес Вейцель, мысленно посылая Шулленбурга ко всем чертям, — что мы оба вызваны совсем не в связи с этим делом. Впрочем, я не люблю гадать на кофейной гуще. Надеюсь, мы поедем вместе?
— Разумеется, — ответил Шулленбург, — я уже поручил шефу канцелярии приобрести два билета в международном вагоне. Надеюсь, полковник, вы не возражаете, если мы поедем в одном купе? Это как-никак спокойнее.
— Я буду только рад, господин посол, — щелкнул каблуками Вейцель и, простившись с послом, пошел укладываться и приводить в порядок свои дела.
Но дело в том, что как Шулленбург, так и Вейцель не знали, что их вызывают в Берлин в связи с «вариантом Барбаросса», то есть планом нападения Германии на Советский Союз. Этот план вынашивался Гитлером давно, еще с тридцатых годов, когда он только пришел к власти.
Еще в 1936 году американский посол в Берлине Додд записал в своем дневнике: «В сентябре 1936 года на состоявшемся совещании, на котором присутствовали Шахт и другие, Геринг заявил, что Гитлер на основании того, что столкновение с Россией неизбежно, дал имперскому министру соответствующие указания, а затем Геринг добавил, что необходимо предпринять все меры, точно такие, какие должны были бы быть предприняты, если бы на самом деле стояли сейчас перед непосредственной угрозой войны».
Эту запись Додд сделал со слов Шахта — имперского министра экономики и президента Рейхсбанка, который счел почему-то нужным информировать об этом американского посла.
Двадцать третьего мая 1939 года Гитлер созвал в своем кабинете в новой имперской канцелярии секретное совещание, на которое были приглашены Геринг, Редер, Браухич, Кейтель, генерал-полковник Мильх, генерал артиллерии Гальдер и другие представители высшего военного командования. Запись совещания вел подполковник генштаба Шмундт. Темой совещания был объявлен «Инструктаж относительно современного положения и целей политики».
Подполковник Шмундт постарался дословно записать выступление Гитлера на этом ответственном совещании. Гитлер тогда оказал:
«Если судьба нас толкнет на конфликт с западом, то будет хорошо, если мы к этому времени будем владеть более обширным пространством на востоке…
Речь идет для нас о расширении жизненного пространства на востоке «и обеспечении продовольственного снабжения, о разрешении балтийской проблемы…»[2]
Первого сентября 1939 года германские вооруженные силы вторглись в Польшу, 9 апреля 1940 года в Данию и Норвегию, 10 мая 1940 года в Бельгию, Голландию и Люксембург, 6 апреля 1941 года в Грецию и Югославию, причем в отношении каждой из этих стран Гитлер не раз давал торжественные заверения, что будет поддерживать их суверенитет.
Точно так же Гитлер поступил с Францией. 14 января 1935 года, после плебисцита, на котором был решен вопрос о возвращении Саарской области Германии, Гитлер сделал торжественное заявление, что он «впредь не предъявит Франции никаких территориальных требований». Он продолжал эти заверения до конца 1938 года. 6 декабря 1938 года Риббентроп приехал в Париж и подписал Франко-Германскую декларацию, в которой было признано, что «граница между сопредельными государствами является окончательной».
Пройдет несколько лет, и на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников главный обвинитель от французской республики де Ментон в своей речи, произнесенной 17 января 1946 года, будет вынужден с горечью признать:
«Общественное мнение Франции и Великобритании, обманутое заявлением Гитлера, поверило тому, что замыслы нацистов направлены только на обеспечение судьбы национальных меньшинств оно надеялось, что существует предел германским притязаниям… Франция и Великобритания позволили ей (Германии), вооружиться…»
Как показал на том же Нюрнбергском процессе подсудимый Кейтель, бывший начальник верховного командования германскими вооруженными силами и член тайного совета, Гитлер сначала собирался напасть на Советский Союз в конце 1940 года. Еще раньше, весною 1940 года, был разработан план этого нападения. Он обсуждался в июле того же года на военном совещании в Рейхенхалле.
Осенью 1940 года Гиммлер, Кейтель и Иодль, начальник штаба верховного командования, окончательно утвердили и подписали план нападения на СССР, зашифрованный наименованием «Вариант Барбаросса».
Только девять человек в «третьей империи» были ознакомлены тогда с этим планом — так тщательно он был засекречен. После разгрома гитлеровской Германии этот секретнейший документ с подлинными подписями Гитлера, Кейтеля и Йодля был обнаружен и оглашен на Нюрнбергском процессе.
Вот текст этого секретного плана:
«Директива № 21
«Вариант Барбаросса».
Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию («вариант Барбаросса»). Для этого армия должна будет предоставить все состоящие в ее распоряжении соединения, с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил будет заключаться в том, чтобы высвободить для восточного фронта силы, необходимые для поддержки армии, с тем, чтобы можно было рассчитывать на быстрое проведение наземной операции, а также на то, чтобы разрушения восточных областей Германии со стороны вражеской авиации были бы наименее значительными.
Основное требование заключается в том, чтобы находящиеся под нашей властью районы боевых действий и боевого обеспечения были полностью защищены от воздушного нападения неприятеля и чтобы наступательные действия против Англии и в особенности против ее путей подвоза отнюдь не ослабевали.
Центр тяжести применения военного флота остается и во время восточного похода направленным преимущественно против Англии.
Приказ о наступлении на Советскую Россию я дам в случае необходимости за восемь недель перед намеченным началом операции.
Приготовления, требующие более значительного времени, должны быть начаты (если они еще не начались) уже сейчас и доведены до конца к 15.5.41 г.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение…»
И далее в этом плане подробно предусматривались все необходимые приготовления и мероприятия.
Таков был план «Барбаросса», разработанный Гитлером и его штабом. Все было предусмотрено в этом плане, и, казалось, все предвидели его авторы: и преимущества внезапного удара, и возможных союзников, с которыми предварительно уже секретно договорились, и взаимодействие всех родов войск, и задачи, поставленные перед ними, и конечные цели всей «операции», и глубочайшую засекреченность самого плана и всех предварительных приготовлений. Все предусмотрели и предвидели в этом плане, кроме одного: мужества и стойкости советского народа, его любви к своей родине и умения отстоять ее независимость и честь в любое время, при любых обстоятельствах и от любых врагов…
Трое подписали план «Барбаросса» — Гитлер, Йодль и Кейтель. И через пять лет Гитлер покончил с собой в душном подземелье новой имперской канцелярии, Йодль и Кейтель были повешены по приговору Международного Военного Трибунала во дворе старинной нюрнбергской тюрьмы вместе со своими сообщниками, повешены в том самом древнем баварском городе, где фашистская «партия» так торжественно проводила свои съезды, принимала свои людоедские, «законы» и утверждала свои безумные планы «мирового господства».
Голубоватые кольца сигарного дыма плавали в купе международного вагона, в котором Шулленбург и Вейцель ехали в Берлин. Две допитые бутылки зеленоватого рейнвейна — любимая марка господина Шулленбурга — позвякивали на столике при каждом толчке поезда, стремительно мчавшегося на запад. Сидя друг против друга в этом уютном купе, сверкающем красным полированным деревом и бронзовой арматурой, размякнув от движения, выпитого вина и сигарного дыма, — посол и военный атташе без обычного недружелюбия поглядывали друг на друга. Впрочем, их примиряло не столько общее путешествие в одном купе, сколько томительная неизвестность цели этого путешествия и его возможных результатов. Общая тревога сближала их.
Кроме того, каждый из них считал полезным на всякий случай подчеркнуть свое расположение к другому. Вейцель делал это, чтобы Шулленбург не очень играл в Берлине на несчастье с Крашке; Шулленбург пытался задобрить Вейцеля, чтобы тот не очень распространялся «в своей конторе» относительно позиции посла в вопросе о германо-советских отношениях.
За окнами вагона шумел май. Дымились свежеудобренные пашни, кое-где гудели на полях, как огромные пчелы, тракторы, первая, еще робкая зелень была удивительно нежна. Маленькие будки дорожных мастеров и стрелочников, кирпичные здания полустанков и полосатые шлагбаумы железнодорожных переездов мелькали, как на экране. Стук колес и свист ветра сливались в ту особую, свойственную только железной дороге симфонию, которая в одно и то же время и успокаивала, и погружала в дрему, и вызывала смутные мысли о том, что же поджидает тебя впереди.
— Удивительная страна, — осторожно начал Шулленбург, указывая на скользящий за окном вагона пейзаж, — бескрайние просторы, неисчерпаемые богатства земных недр и самый фанатичный в сегодняшнем мире народ. Следует признать, мой дорогой полковник, что в Берлине имеют весьма приблизительное представление о Советской России и ее возможностях…
— Какие возможности вы имеете в виду, уважаемый господин фон Шулленбург? — спросил Вейцель.
— Прежде всего их промышленный и военный потенциал, — ответил Шулленбург.
— Я не высокого мнения о советских вооруженных силах, — чуть быстрее, чем следовало, возразил Вейцель, сразу вспомнив свой доклад о киевских маневрах. — Что же касается их промышленного потенциала, то серия хорошо подготовленных налетов бомбардировочной авиации может без особого труда его ликвидировать.
Фон Шулленбург задумался.
— Ах, господин полковник, — произнес он после значительной паузы, — от этих русских всегда можно ожидать всяких неожиданностей. Нам, представителям цивилизованной страны, даже трудно представить себе все, на что способны эти азиаты… И, с этой точки зрения, нельзя не вспомнить Бисмарка, который, как вам известно, решительно рекомендовал Германии никогда не воевать с Россией.
— Стоит ли вспоминать о Бисмарке, когда, к счастью Германии, есть Адольф Гитлер! — торжественно произнес Вейцель, глядя прямо в глаза Шулленбургу и с удовольствием заметив, что тот несколько растерялся.
— О да! — поспешил ответить Шулленбург. — Гений нашего фюрера поистине счастье для Германии. То, что удалось фюреру за последние годы, еще сотни лет будет удивлять историков…
И, произнеся эту тираду, господин фон Шулленбург окончательно решил не говорить больше с Вейцелем на эти темы.
В Берлин они приехали утром и в тот же день явились по начальству.
Генерал Пиккенброк, как только Вей-цель вошел в его кабинет, закатил военному атташе такой скандал, что Вейцеля едва не хватил удар. Но это была только прелюдия: к концу дня Пиккенброк повел почти полумертвого Вейцеля к адмиралу Канарису. Последний был зловеще спокоен. Он молча протянул Вейцелю руку, пригласил его сесть и, по обыкновению, начал насвистывать модный опереточный мотив — господин адмирал имел отличную музыкальную память и очень этим гордился. Пиккенброк и Вейцель молчали.
— Германская разведывательная служба, — начал наконец Канарис, — разумеется, укомплектована не только гениями. Но я никогда не думал, господин полковник, что абсолютный болван, лишенный элементарной профессиональной осторожности, может подвизаться в роли нашего военного атташе, да еще в такой стране, как Советская Россия… Не кажется ли вам, что это, по меньшей мере, странно?
— Господин адмирал, — воскликнул Вейцель, мгновенно вскочив с кресла, — позвольте хотя бы два слова!
— Не позволю! — отрубил Канарис. — Вам нечего объяснять! Не желаю слушать всякий вздор! Вы провалили важнейшее задание, которым интересовался сам фюрер… В состоянии вы понять хотя бы это?
— Господин адмирал… — залепетал Вейцель, — во всем виноват этот Крашке, которого, кстати, я совсем не знал… И он… И я… Одним словом…
— Молчать! — закричал Канарис и так хватил кулаком по столу, что хрустальный письменный прибор зазвенел на всю комнату. — Я назначаю служебное расследование и подвергаю вас на время расследования домашнему аресту. Вы слышите, генерал Пиикенброк?
— Так точно, господин адмирал, — щелкнул каблуками Пиккенброк.
К концу этой беседы выяснилось, что с «Крашке поступили еще более круто: его уволили из главного управления военной разведки и назначили представителем «Абвера» в одну из дивизий, которой командовал некий генерал-майор Флик и которой предстояло направление на фронт.
Началось служебное расследование, во время которого выяснилось, что Крашке в своих письменных объяснениях пытался все свалить на Вейцеля, заявив, что тот приказал ему ехать на вокзал и там передать пленку, вопреки его, Крашке, предложению передать эту пленку Мюллеру накануне его отъезда.
Инспектор для особых поручений, который производил служебное расследование, особенно напирал на эти объяснения Крашке.
Бедняга Вейцель провел двое суток под домашним арестом в своей загородной вилле, только днем его возили на допросы к инспектору.
Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не мудрость фюрера, который, когда ему доложили результаты расследования, спросил:
— Не тот ли это полковник Вейцель, который прислал доклад о киевских маневрах?
— Тот самый, мой фюрер, — ответил Канарис.
— Это был превосходный доклад, — сказал Гитлер, — этот полковник честный немец и знает свое дело.
Канарис, который только что собирался характеризовать Вейцеля как бездельника, тупицу и лицо, не заслуживающее доверия, немедленно перестроился и стал петь Вейцелю дифирамбы.
— Ограничьтесь устным внушением, — приказал Гитлер, — а завтра привезите этого полковника ко мне. Я хочу с ним поговорить.
Канарис, вызвав к себе после этого разговора Вейцеля, был обходителен и мил до чрезвычайности. Передав Вейцелю в общих чертах решение фюрера и даже похлопав его по плечу, он приказал явиться к нему на следующий день утром в парадной форме, чтобы вместе поехать к Гитлеру.
И вот они вдвоем входят в кабинет фюрера, куда их пропускает сам Мартин Борман, секретарь фюрера и руководитель партийной канцелярии.
Вейцель мысленно отметил подчеркнутую подобострастность, с которой Канарис поздоровался с Борманом, и понял, что этот человек пользуется огромным влиянием.
Когда Канарис и Вейцель вошли в кабинет Гитлера, они увидели фюрера, склонившегося над огромной картой, разложенной на длинном столе для заседаний. Рядом с Гитлером стоял Геринг, также склонившийся над картой.
Гитлер расчерчивал карту огромным красным карандашом, заливаясь счастливым смехом. Геринг старательно вторил ему. Оба были так увлечены картой, что даже не обернулись на скрип двери.
Канарис и Вейцель застыли в позе «смирно», не решаясь оторвать руководителей «третьей империи» от занятия, которым они были так поглощены.
— Смотрите, Герман, — говорил Гитлер, указывая на отчеркнутую им жирную красную линию, — здесь, на границе Урала, только здесь я остановлю победный марш моих войск. Здесь будут наши военные колонии…
В этот момент в кабинете появился Борман, который запросто подошел к Гитлеру и шепнул ему о приходе Канариса и Вейцеля.
Гитлер и Геринг обернулись к ним. Гитлер с интересом взглянул на Вейцеля и спросил:
— Вы давно из Москвы, полковник? Что там нового? Как чувствуют себя русские большевики? Все еще собираются строить коммунизм?
И он отрывисто, чуть повизгивая, захохотал, закидывая назад сплющенную книзу голову с неизменным клоком волос, как бы приклеенным ко лбу, выпученными глазами и маленькими усиками.
Рядом со слонообразным, оплывшим Герингом низкорослый, тощий фюрер выглядел особенно нелепо.
Господин Вейцель довольно складно ответил на вопрос фюрера, что в Москве, судя по всему, нет ничего нового, большевики действительно продолжают упорствовать со строительством коммунизма и особо заметных военных приготовлений нет.
Тут Гитлер пригласил Канариса и Вейцеля сесть за стол и стал задавать Вейцелю вопрос за вопросом.
Отвечая на эти вопросы, Вейцель рассказал, что в России отличные виды на урожай, продовольствия сколько угодно, население питается хорошо, данных о срочных мобилизациях нет.
Каждый из этих ответов заметно радовал фюрера, и Вейцель из этого понял, что война предрешена.
В конце разговора, который шел вполне мирно и даже весело, фюрер внезапно вскочил с кресла (все сразу встали) и начал кричать, что он верен «своей исторической миссии» и докажет всему миру, что уничтожит коммунизм дотла.
— Я превращу Ленинград в пепел, — кричал он, ударяя кулаком по столу, — а Москву в груду развалин!.. Я покажу всем этим либеральным европейским болтунам и социалистическим собакам, что такое нацистский кулак!.. Они боятся России, как огня, а я сокрушу ее в три месяца!..
Он долго еще кричал, сыпля ругательства и проклятия, сменявшиеся хвастливыми угрозами и клятвами, бросая на пол карандаши, ручки, весь сотрясаясь от судорожных конвульсий. Невозможно было понять, почему так внезапно и сразу наступил этот почти эпилептический припадок, почему он начал так бесноваться, орать и дергаться.
Вейцель, еще никогда не видевший Гитлера в таком состоянии, оцепенел от ужаса: кто знает, что может выкинуть этот фюрер, который явно ненормален? Что можно ждать от сумасшедшего?
Геринг стоял с равнодушным и даже немного скучающим лицом — он давно привык к подобным выходкам Гитлера и в глубине души считал его абсолютно дегенератом, который невесть почему стал фюрером, хотя, по справедливости, фюрером Германии должен был стать как раз он, Герман-Вильгельм Геринг, настоящий немец, а не этот тощий австрияк, который злится на весь мир и делает уйму глупостей.
Канарис, адмирал Канарис, глава германской разведывательной службы, готовый при первом удобном случае продаться любой иностранной разведке, если только она будет хорошо платить (что он в дальнейшем и сделал, став секретным сотрудником американской разведки), стоял с непроницаемым выражением лица, мысленно прикидывая, на сколько может затянуться этот очередной приступ и не сорвет ли он весьма приятного свидания, которое назначила господину адмиралу эта удивительная фрейлен Эрна, новая звезда венской оперетты, гастролирующая теперь в Берлине и завоевавшая столицу своими ногами и, главное, умением их весьма пикантно показать.
А фюрер продолжал кричать и скоро сорвал свой и без того натруженный на митингах голос. Он перешел на фальцет — и вдруг, тоже без всякого перехода и, видит бог, без всяких причин (так по крайней мере подумал Канарис) побежал к сейфу, вынул из него орден железного креста и, подбежав к напуганному насмерть Вейцелю, прикрепил орден к его парадному кителю, крича:
— Вот тебе за истинно немецкий дух и светлую голову!..
Геринг и Канарис, придя в полное недоумение, тем не менее вытянулись и застыли в положении «смирно», как этого требовал в таких случаях имперский военный устав. Полковник Вей цель, вчера еще размышлявший о том, что не закончится ли домашний арест заключением его в Моабитскую тюрьму или какой-нибудь концлагерь, испугался, не происходит ли все это с ним во сне…
И уже дома, сняв парадную форму и облачившись в спокойную домашнюю пижаму, германский военный атташе в Москве, полковник Ганс фон Вейцель, подойдя к зеркалу, пристально вгляделся в свое осунувшееся от треволнений последних дней лицо и вдруг начал от всей души хохотать…
Вот что значит представить угодный начальству доклад!..
Увы, господин фон Шулленбург не только не получил ордена, но, напротив, имел очень неприятный разговор с рейхсминистром иностранных дел господином Йоахимом фон Риббентропом.
Господин рейхсминистр заявил послу, что фюрер чрезвычайно недоволен его докладами и совершенно не разделяет выводов, которые он столь легкомысленно делает.
На вопрос Шулленбурга, может ли он надеяться быть лично выслушанным фюрером, чтобы обосновать свои выводы, Риббентроп странно усмехнулся и произнес довольно загадочную фразу, смысл которой сводился к тому, что вряд ли фюрер сочтет это полезным для себя и что и для господина Шулленбурга, пожалуй, будет полезнее, если эта аудиенция не произойдет…
Риббентроп, конечно, не сказал Шулленбургу главного: что фюрер хотел арестовать его и передать в гестапо и что Шулленбурга спасло именно то, что война была предрешена. Гитлер считал, что внезапная смена посла может вызвать в Москве подозрения, а ему хотелось именно теперь ничем не выдавать своих замыслов. Поэтому он. согласился с предложением Риббентропа вернуть Шулленбурга в Москву, решив про себя, что арестовать его он всегда успеет. Риббентроп приказал Шулленбургу по возвращении в Москву предпринять ряд шагов, направленных к тому, чтобы уверить советское правительство, что Германия хочет быть верной советско-германскому пакту.
Шулленбург возвращался в Москву один, так как Вейцель еще должен был задержаться в Берлине. Он ехал с недобрыми предчувствиями, которые не обманывали его.[3]
В те самые дни и часы, что Шулленбург провел в вагоне, следуя из Берлина в Москву, германские дивизии скрытно подвозились к советским границам. Со всех сторон Европы, пароходами и океанскими лайнерами, товарными и пассажирскими поездами, целыми автоколоннами и транспортными самолетами, сушей, морем и по воздуху, подвигались к границам СССР артиллерия и тысячи танков и самолетов, бомбы и боеприпасы, штабные машины всех марок мира, награбленные во всех странах закабаленной Европы, прожекторные части, передвижные радиостанции, походные типографии, специально обученные парашютисты-диверсанты, переодетые в форму советской милиции и органов МВД и снабженные толом и портативными рациями, гестаповские «зондер-команды», особо подготовленные для массового уничтожения советского населения и партийного актива, шпионы всех мастей и расценок, опытные тюремщики, набившие руку палачи, тучи всякого рода «экономических советников», готовых налететь, как воронье, на оккупированные области, чтобы немедленно выкачать оттуда все, что возможно. По ночам, рокоча моторами, подползали к советским рубежам самоходные пушки и минометы, танки всех армий Европы, скрытно подкрадывалась вся Чудовищная гитлеровская военная машина, готовая по первому приказу фюрера внезапно ринуться со всех сторон на советскую землю,
3. СМЕРТЬ И РОЖДЕНИЕ
В то самое утро, когда фон Вейцель направил Крашке на Белорусский вокзал для передачи пленки уезжавшему в Берлин герр Мюллеру, молодой карманник «Жора-хлястик», имевший, однако, солидный воровской стаж и три судимости в прошлом, шел по улице Горького, направляясь к тому же вокзалу для проводов заграничного поезда Москва — Негорелое.
Собственно, провожать Жоре-хлястику было решительно некого, но Белорусский вокзал и этот заграничный поезд представляли для него совершенно определенный интерес — это была зона его воровской деятельности. Именно на этом вокзале и перед самым отходом именно этого поезда Жора-хлястик в предотъездной вокзальной сутолоке довольно удачно обворовывал пассажиров или тех, кто их провожал.
Жора-хлястик был вор-одиночка и потому «работал» на свой страх и риск, не получая доли из общего «котла», как было раньше, когда он состоял в воровской «артели» и делил с другими карманниками дневную выручку.
«Артель» давала известные преимущества в том смысле, что если в определенный день кто из карманников оставался без «улова», то он все равно получал долю из общего котла.
Но, несмотря на все это, Жора-хлястик не захотел оставаться в «артели». Ему надоели вечные ссоры из-за взаимных расчетов, традиционные пьянки после удачного дня, диктаторский тон «председателя артели» и весь этот воровской быт с частыми драками, игрою в карты, жадными, цепкими «марухами» и постоянным недоверием друг к другу — не стал ли он «легавым», то есть осведомителем уголовного розыска.
Кроме того, Жора в глубине души давно уже сознавал, что ведет никчемную жизнь и что с этим пора кончать.
Но сейчас, направляясь к Белорусскому вокзалу с видом человека, совершающего свой утренний моцион, Жора-хлястик был в самом отличном настроении. Все радовало глаз и душу. И эта нарядная, залитая майским солнцем и только что вымытая специальными машинами улица, и радостная, веселая уличная толпа, и зеркальные витрины магазинов, и яркие краски вывесок, и излюбленный им кафетерий «Форель», где служила продавщицей веселая, кокетливая Люся, молоденькая шатенка со вздернутым носиком, охотно принимавшая ухаживания Жоры-хлястика, представившегося ей артистом-чечеточником Мосэстрады, и уже дважды ходившая с ним в «Эрмитаж», и, наконец, весь этот удивительный весенний день, полный свежести, улыбок и блеска глаз молодых женщин, звонкого смеха, веселых автомобильных гудков, трамвайных звонков, легкого постукивания высоких дамских каблучков и мягкого шелеста шелковых юбок, сливающихся в особую праздничную симфонию большого города.
На Белорусском вокзале, как всегда перед отходом дальнего поезда, царила веселая сутолока. Носильщики разгружали подходившие одну за другой машины с пассажирами, в киосках расхватывались свежие журналы и газеты, у буфетной стойки толпилась нетерпеливая очередь, бойко торговали продавщицы мороженого и первых весенних фиалок, во всех направлениях сновали женщины с детьми, солидные хозяйственники с толстыми портфелями и иностранцы, сопровождаемые носильщиками, тащившими за ними чемоданы с яркими наклейками, на которых были написаны на разных языках наименования разных отелей всех стран мира, с соответственными изображениями египетских пирамид, стамбульских минаретов, парижской Эйфелевой башни и венецианских каналов.
Жора-хлястик (настоящая его фамилия была Фунтиков) спокойно закурил, с удовольствием посмотрел на свои ярко начищенные ботинки редкого апельсинового цвета, купил перронный билет и вышел к уже поданному на платформу поезду.
У коричневого международного вагона он обратил внимание на какого-то иностранца с моноклем (это был Крашке), который тоже, видимо, пришел кого-то провожать, но еще не дождался уезжающего, и теперь нетерпеливо посматривал на часы. Фунтиков, не глядя ему в лицо, осмотрел его сзади, — он большей частью «работал» по задним карманам. Иностранец медленно похаживал вдоль вагона» чуть повиливая бедрами. На нем были светлые фланелевые брюки с бежевым оттенком и светло-коричневый, в тон брюк, спортивный пиджак. Острый глаз Фунтикова сразу отметил, что этот пиджак чуть топорщился над задним карманом брюк, в котором явно находился бумажник. Объект был найден.
Фунтиков приготовил свой «инструмент» — серебряный двугривенный, отточенный, как лезвие бритвы, и зажал его между большим и средним пальцами, готовясь к операции.
Весь охваченный веселым предчувствием удачи, которое почти никогда не обманывало его, Фунтиков следовал, как тень, за спиною этого высокого иностранца с моноклем, делая, однако, вид, что не обращает на него ни малейшего внимания.
За четверть часа до отхода поезда на перроне появился сухопарый рыжеватый человек в темных очках, за которым шел носильщик с двумя ярко-желтыми чемоданами. Он подошел к международному вагону и поздоровался с поджидавшим его иностранцем с моноклем. Носильщик по его указанию внес чемоданы в купе и, получив за услуги, удалился, а оба иностранца, стоя у вагона, стали разговаривать между собой.
Как раз в это время к тому же вагону мчалась по перрону толстая, потная от волнения и боязни опоздать дама с уймой картонок и баулов в руках, а за нею едва поспевал какой-то щуплый человек, тоже нагруженный всевозможными свертками и пакетами.
— Коля, да скорее же, экий тюлень! — кричала дама на всю платформу, энергично расталкивая стоявших на перроне людей и задевая их своими вещами. — Опоздаем, вот увидишь, опоздаем!..
— Не волнуйся, Валюша, еще есть время, — бормотал, тяжело дыша, ее провожатый, — до отхода еще несколько минут…
Взглянув на эту даму и молниеносно сообразив, что она — сущий клад, Фунтиков, так сказать, поплыл в ее фарватере и не ошибся: дама, поравнявшись с двумя иностранцами, бесцеремонно их растолкала, задев при этом того, кто был с моноклем, своими картонками и оттеснив его в сторону.
Именно в это мгновение Фунтиков, сделав вид, что он прижат энергичной дамой, вплотную прильнул к иностранцу и молниеносным, почти воздушным движением правой руки, чуть оттянув левой рукой ткань его брюк, вырезал задний карман, после чего как бы растворился в толпе пассажиров, уже начавших прощаться со своими провожающими. Через несколько секунд Фунтиков «смылся» с перрона.
Не торопясь, все с тем же независимым видом человека, только что проводившего своих близких, Фунтиков вышел на вокзальную площадь, ощущая в своем правом кармане приятную тяжесть увесистого бумажника, который он только что «увел».
День показался ему еще прекраснее, а бумажник, судя по его объему и тяжести, сулил превосходные перспективы.
Фунтиков закурил и, выбравшись на улицу Горького, направился в кафетерий «Форель», где сразу увидел Люсю, стоявшую за стойкой в белом кружевном фартучке и кокетливой наколке.
— Труженикам прилавка пламенный! — произнес Фунтиков, здороваясь с Люсей. — Поерошу пару раков и скумбрию горячего копчения…
— Здравствуйте, Жора, — пропела Люся, старательно выбирая своему поклоннику самых крупных раков и жирную золотистую скумбрию. — Вот самые свежие…
И она протянула Фунтикову тарелку.
— Благодарствуйте, Люсенька, — солидно произнес Фунтиков и направился с тарелкой в самый темный угол кафетерия, где в тот час никого не было.
Здесь, поставив тарелку на высокий столик, Фунтиков вынул из кармана только что украденный бумажник и, по своему обыкновению, внимательно его осмотрел снаружи, не заглядывая пока в его отделения.
Это был превосходный, совсем еще новый бумажник из крокодиловой кожи, на «молниях», с многочисленными карманчиками и отделениями, которые были туго набиты. В самом крупном кармане бумажника, под застегнутой молнией, что-то очень упруго и вместе с тем податливо круглилось.
Фунтиков не торопился выяснить содержимое бумажника. Больше всего он ценил именно эти минуты томительной, но вместе с тем такой приятной неизвестности: что же принесла ему очередная удача, и удача ли это вообще?
Положив бумажник на мраморный столик, Фунтиков стал неторопливо есть, с аппетитом поглощая нежную, таявшую во рту скумбрию, а за нею горячих раков. Поблескивавший кожей и серебряной монограммой бумажник был как бы гарниром к этому завтраку.
Наконец, покончив с едой, Фунтиков взялся за бумажник. В нем оказалось двести с чем-то рублей, несколько зеленых американских долларов и немецкие марки. «Улов» был не так уж богат. В другом отделении были обнаружены какие-то записки на иностранном языке, визитная карточка с надписью на обороте и наконец, фотопленка в целлофановом конверте, уже проявленная.
Фунтиков вынул пленку и просмотрел ее на свет. На ней было тридцать шесть четких, ясно видимых фотоснимков каких-то чертежей и конструкций. На трех из них зоркие глаза Фунтикова разглядели надписи, сделанные очень мелкими русскими буквами.
Фунтиков с большим напряжением все же разобрал эти надписи, которые гласили:
«Сов. секретно. Чертежи орудия «А-2».
Как только Фунтиков прочел эти слова, он понял, что обворовал иностранного шпиона, врага, сумевшего каким-то путем добыть секретные военные чертежи. С бьющимся от волнения сердцем, забыв даже проститься с Люсей, он выбежал из кафетерия, держа в руках злополучный бумажник. Он еще не знал, как поступить, что делать, куда и к кому направиться, но всем своим существом ощущал необходимость что-то решить, действовать и прежде всего как-то разобраться в том, что вдруг вспыхнуло и забурлило в его душе и что теперь несло его невесть куда, невесть зачем, не спрашивая его согласия, несло, как несет внезапно нахлынувший морской вал застигнутого врасплох пловца, даже и не пытающегося сопротивляться этой могучей стихии.
Фунтиков не помнил, как он пробежал по улице Горького до Пушкинской площади, уже не замечая ни прохожих, ни всех чудес этого весеннего дня, пробежал, как будто за ним гонится кто-то неотвратимый и строгий, как судьба, от которой, как ни старайся, все равно не убежишь, не скроешься, не спрячешься.
Фунтиков не помнил, как он очутился на Пушкинском бульваре, в боковой аллее, полной свежей прохлады, молодой зелени цветущих лип и веселых криков играющих детей. Он сел на скамью и, может быть, впервые в жизни задумался над всем, чем он жил, что делал, чего по-настоящему желал и что по-настоящему любил.
Фунтиков не отдавал себе отчета в том, что это новое, удивительное состояние острой тревоги и вместе с тем предчувствия счастья, вызванное этим бумажником, явится переломным моментом в его жизни, хотя самое это происшествие было лишь последней каплей в том, что уже давно наполняло его душу и в чем он сам себе еще боялся признаться.
Он еще не понимал, что этот бумажник крокодиловой кожи с серебряной монограммой вытолкнет его окончательно и навсегда из той жизни и среды, которыми он внутренне уже давно тяготился, но порвать с которыми еще не находил в себе ни смелости, ни сил. Да, ему требовался какой-то последний, но решающий толчок извне, и именно бумажнику господина? Крашке суждено было сыграть роль такого толчка…
Итак, он обокрал шпиона, врага его Родины, да, Родины, потому что, как бы то ни было, это ведь и его Родина. И вот сейчас он, карманный вор с тремя судимостями и темным прошлым, может на деле помочь Родине, если только он действительно ее сын и если у него хватит смелости доказать это делом, пренебрегая всеми возможными неприятностями, даже тюрьмой, которой может все это для него кончиться.
Тюрьма… Она была хорошо знакома Фунтикову, и все-таки он очень боялся ее. А тюрьмы, если он пойдет, куда следует, и честно заявит о случившемся, видимо, не избежать, ибо, что ни говори, но он совершит карманную кражу, то есть уголовно-наказуемое деяние. И, кроме того, его явка с повинной не может ведь ограничиться одним последним эпизодом — «там» сразу поймут, что он профессиональный вор-рецидивист, не покончивший со своим прошлым, и что этот проклятый бумажник только последнее звено в длинной цепи совершенных им краж. Налицо 162-я статья, текст которой он давно знал наизусть и по которой уже не раз судился.
А жизнь так прекрасна и заманчива! И что может быть лучше свободы, вот этих весенних улиц, цветущих лип, теплых Люсиных губ и ее сияющего, нежного взгляда? Ведь он может, не являясь лично, послать в следственные органы этот бумажник и» таким образом выполнить свой долг перед государством, ничем при этом не рискуя лично…
Да, может, но все-таки это будет не то, потому что его помощь, вероятно, понадобится тем же органам, скажем, для опознания того же иностранца с моноклем.
До позднего вечера Фунтиков, забыв обо всех своих личных делах и планах, шатался по Москве, нигде не находя себе места и укрытия от самого себя.
Он провел в углу, который снимал у одной старушки в Останкине, мучительную, бессонную ночь и утром, приготовив маленький чемодан с бельем, папиросами, зубной щеткой и одеялом — необходимый набор для тюрьмы, пошел в прокуратуру, к народному следователю Бахметьеву, у которого как-то проходил в качестве обвиняемого по одному групповому делу. Об этом следователе Фунтиков сохранил самые теплые воспоминания.
Зайдя в будку телефона-автомата, Фунтиков позвонил следователю Бахметьеву, напомнил о себе и попросил выписать ему пропуск, так как он должен сделать заявление «по делу особой государственной важности»…
И Жора-хлястик пошел к следователю.
И хотя это была смерть Жоры-хлястика и рождение Маркела Ивановича Фунтикова, ни в одном загсе столицы не были зарегистрированы ни факт смерти, ни факт рождения нового советского человека. Потому что далеко не все, что происходит в удивительное время наше, регистрируется в ведомственных книгах, а зато подлежит регистрации в великой книге истории будущими потомками нашими, когда благодарно и пытливо они станут изучать трудные и сложные пути, которыми их отцы и деды пробивались к коммунизму, не щадя ни своих сил, ни своих лет, ни самой жизни своей, если только она требовалась во имя общей и великой цели.
4. «ОПЕРАЦИЯ СИРИУС» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вейцель задержался в Берлине по приказанию (Канариса, осведомленного о том, что до нападения на Советский Союз остались буквально считанные дни. В связи с этим надо было решить ряд неотложных вопросов и увязать всю разведывательную работу «Абвера» с гестапо и другими специальными органами, верховное руководство которыми Гитлер поручил Гиммлеру.
В цепи всех этих вопросов всплыла и проблема «операции Сириус», которая особо интересовала германскую разведку потому, что речь шла о новом советском оружии. По некоторым, хотя и отрывочным данным, германская разведка понимала, что речь идет об особой реактивной пушке, представляющей новое слово в оружейной технике.
После долгих обсуждений и консультаций с гестапо и другими разведывательными органами было принято решение возобновить «операцию Сириус» и продолжать ее и после открытия военных действий.
Это предварительное решение доложено было Гиммлеру на специальном совещании, созванном им. Пиккенброк, Канарис и Вейцель участвовали в этом совещании.
Вейцель подробно доложил рейхсфюреру СС всю историю этой злосчастной операции с самого ее начала до ужасного происшествия с господином Крашке. Гиммлер слушал очень внимательно, изредка переглядываясь со своим заместителем, начальником имперского управления безопасности, Эрнстом Кальтенбруннером, молчаливым человеком с большим шрамом на длинном лошадином лице. Судя по некоторым брошенным вскользь замечаниям Гиммлера, гестапо имело какие-то свои данные о работе Леонтьева и ее значении.
Выслушав всех по очереди, Гиммлер сказал:
— Ни для кого из присутствующих здесь не должно быть секретом, что в ближайшем будущем мы начнем войну против Советской России. В этом свете «операция Сириус» приобретает особое значение, так как речь, несомненно, идет о новом советском оружии, сила которого нам даже приблизительно неизвестна. Вчера я беседовал на эту тему с фюрером. Он считает, что мы должны при любых условиях и любыми способами выяснить, что это за оружие, и овладеть секретом Леонтьева. Поэтому я вынужден бросить на выполнение этого задания свою лучшую агентуру за счет других операций. Что вы думаете об этом, Кальтенбруннер?
— «Дама треф», — коротко бросил Кальтенбруннер.
— Да, пожалуй, «дама треф», — протянул Гиммлер. — Правда, мы оголим Ленинград, где она работает, но «операция Сириус» нам сейчас важнее. А в Ленинграде ее заменим кем-нибудь другим.
Канарис, Пиккенброк и Вейцель молчали, понятия не имея об этой «даме треф», хотя они. и догадывались, что речь идет о весьма крупном агенте гестапо. Понимали они также, что «операция Сириус» теперь переходит от «Абвера» в гестапо.
После принятия решения по «операции Сириус» перешли к общим вопросам.
Речь шла об укреплении контакта между всеми органами, занимающимися разведкой, организацией диверсионных актов, проведением дезинформации и т. п.
«Вариант Барбаросса», кроме того, выдвигал дополнительные задачи: организацию массового уничтожения мирного населения в намеченных к оккупации районах.
Гиммлер огласил секретную «Инструкцию», изданную в марте 1941 года, в которой было, в частности, указано:
«На театре военных действий рейхсфюрер СС получает, по поручению фюрера, специальные задачи по подготовке политического управления, которые вытекают из окончательной и решительной борьбы двух противоположных политических систем. В рамках этих задач рейхсфюрер СС действует самостоятельно, на свою ответственность».
В планы Гитлера входило, помимо прочего, физическое уничтожение не менее тридцати миллионов славян, поголовное уничтожение евреев и цыган, а также уничтожение всех. антифашистских элементов.
Это и требовало особой и весьма сложной подготовки — специальных лагерей массового уничтожения людей с особыми крематориями, газовыми камерами, камерами пыток и т. д., а также «передвижных фабрик смерти», то есть особой конструкции газовых автомобилей — «душегубок», и прочего.
Целая специальная промышленность работала на рейхсфюрера СС Гиммлера, производя и создавая новые виды орудий массового уничтожения — различные виды газов, применяемых в лагерях смерти, конструкции особых печей для массового сжигания трупов, специальные машины для перемалывания человеческих костей казненных, которые было намечено использовать для удобрения, способы обработки человеческой кожи и промышленного использования волос (волосы миллионов казненных женщин передавались военно-морскому ведомству для плетения специальных канатов, а также мебельной промышленности для набивания матрацев).
Огромный аппарат «специалистов» разрабатывал и размножал специальные инструкции, как надо арестовывать, пытать, умерщвлять, как вырывать у жертв золотые коронки и зубы, как остригать женские волосы и как их потом упаковывать и хранить, как обдирать кожу с казненных и как ее обрабатывать, как, наконец, варить мыло из тел казненных. (Этим занимался специальный институт в Данциге.)
Так была создана в «третьей империи» специальная промышленность и специальная «наука» по подготовке и проведению убийств миллионов людей.
Через полтора месяца после этого совещания у Гиммлера и вскоре после начала войны против СССР Гитлер созвал специальное совещание с участием Геринга, Бормана, Кейтеля, Розенберга и Ламмерса. На этом совещании фюрер выступил с большой речью, которая была записана.
Гитлер начал с необходимости всячески скрывать подлинные цели нападения на Советский Союз.
— Итак, — сказал он, — мы снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нем порядок и установить безопасность… Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательного регулирования. Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это, мы все же будем применять все необходимые меры — расстрелы, выселения и т. п.
Перейдя к целям этой войны, Гитлер, никак не предполагавший, что эта секретная речь станет достоянием гласности, заявил:
— В основном дело сводится к тому, чтобы, во-первых, овладеть им (Советским Союзом), во-вторых, управлять и, в-третьих, эксплуатировать…
Самое основное — создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет. Все последователи фюрера должны знать: империя лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чуждого войска. Железным законом должно быть: никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев… Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казах и не украинец…
Гитлер поделился и своими территориальными планами:
— Вся Прибалтика должна стать областью империи. Точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими районами… Эти прилегающие районы должны быть как можно больше… и волжские колонии должны стать областью империи, точно так же, как и Бакинская область. Она должна стать немецкой концессией (военной колонией). Финны хотели получить Восточную Карелию. Однако ввиду большой добычи никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии… На Ленинградскую область претендуют финны. Сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его финнам! — истерически закончил Гитлер.[5]
Таковы были подлинные цели войны, задуманной гитлеровской Германией против СССР.
5. «ДАМА ТРЕФ»
«Дама треф», которую на совещании у Гиммлера было решено привлечь к дальнейшей работе по «операции Сириус», была старейшим агентом германской разведки и проживала в Ленинграде, где она и родилась и провела почти всю свою жизнь. Матильда Казимировна Стрижевская — такова ее подлинная фамилия — была немкой по матери и полькой по отцу, служившему еще до революции в одной галантерейной фирме в качестве коммивояжера.
Мать Матильды Казимировны была когда-то кафешантанной «звездой» и подвизалась на подмостках знаменитого в свое время в Петербурге загородного шантана «Вилла Роде» в качестве исполнительницы «тирольских песенок». Она была очень красива и пользовалась успехом у публики, посещавшей этот роскошный шантан. Супруг ее — Казимир Антонович Стрижевский, элегантный шатен с модными усиками, — почти все время проводил в разъездах по разным городам и, кроме того, имел неоценимое для мужа «звезды» качество — он абсолютно не был ревнив. В глубине души он гордился своей женой, имевшей столь шумный успех и немалые заработки, освобождавшие его от необходимости тратиться на ее туалеты. Когда же «Виллу Роде» посетил как-то один из великих князей, обративший внимание на исполнительницу «тирольских песенок» и начавший за нею ухаживать, Казимир Антонович пришел к окончательному выводу, что женился необыкновенно удачно. Кроме того, его радовали хозяйственные способности «звезды», которая очень экономно, с чисто немецкой педантичностью вела дом, воспитывала их дочь и постепенно округляла свой текущий счет в Коммерческом банке, где к началу войны даже абонировала свой личный сейф для хранения драгоценностей. К этому времени Матильда успешно окончила Аннен-шуле, куда была определена по желанию родителей, и твердо решила пойти по стопам своей матери.
Несмотря на то, что на семейном совете, экстренно созванном ее матерью, мечтавшей выдать красавицу дочь за богатого помещика или коммерсанта, ее желание было отклонено и родители горячо убеждали дочь заняться подысканием выгодной «партии», Матильда решила поставить на своем. Вот уже, два года, как ей мерещились по ночам подмостки, большой, залитый светом зал, нарядная публика, бурные аплодисменты, аршинные афиши с ее портретами в вызывающих кокетливых позах. Она несколько раз смотрела программу, в которой выступала ее мать, и про себя решила, что та несколько тяжеловата, а ее тирольский костюм и сентиментальные песенки явно устарели. Матильда была девушкой с характером, и отговорить ее от уже принятого решения было трудно.
Однажды в «Вечернем Петербурге» она прочитала такое объявление:
«Внимание! Первая школа эту алей месье Сержа Баяр! Готовлю в шантан, обучаю манерам и шику. Постановка голоса и мимики. Искусство грима. Гарантия успеха и ангажемента».
Матильда в тот же вечер направилась на Мойку, где помещалась «школа этуалей». Ее встретил сам месье Серж, уже немолодой человек весьма респектабельной внешности, в смокинге и ярком галстуке. Он очень учтиво побеседовал с Матильдой, высоко оценил ее внешние данные и согласился зачислить ее в свою школу. Правда, месье Серж заломил совершенно фантастическую сумму за курс обучения, но, заметив смущение Матильды, сказал, что готов в виде исключения пока обучать ее за треть назначенной суммы с тем, что она при первой возможности расплатится с ним, а пока подпишет «векселек». Семнадцатилетняя девушка, имевшая весьма смутное представление о вексельном праве, подписала бумагу и начала проходить курс шантанных наук.
Школа месье Сержа была поставлена на широкую ногу. Помимо отделения этуалей, у него, как выяснилось, было и другое, где тоже обучались молодые люди, которых он готовил на модное в те годы амплуа «танц-комик джентльменов» конферансье и чечеточников.
В одного из таких будущих «танц-комик джентльменов» Матильда влюбилась и вскоре с ним сошлась. Через некоторое время он ее бросил, и она решила «не быть больше дурой» и заниматься только своей карьерой. Между тем курс обучения затягивался. Скуповатая мамаша почти не давала денег на карманные расходы и одевала дочь более чем скромно. Надо было что-то придумать. И сообразительная Матильда придумала.
По материалам сыскного отделения столичной полиции, в Петербурге ровно за два месяца до начала войны было зарегистрировано такое удивительное происшествие, подробно изложенное в следующем рапорте:
«Его высокопревосходительству
господину С.-Петербургскому градоначальнику.
Рапорт
Начальника сыскного отделения
С.-Петербургской полиции
Докладываю Вашему высокопревосходительству о нижеследующем происшествии, имевшем место 2 сего июня в городе С.-Петербурге. В двенадцать часов по столичному времени, указанного выше числа, к магазину ювелира Фаберже, что на Невском проспекте, подъехал роскошный парный выезд, в котором приехала молодая, пока нами не установленная особа. Выйдя из экипажа, остановившегося у витрин фирмы Фаберже, молодая женщина проследовала в магазин и обратилась к старшему приказчику фирмы, мещанину Зотову Николаю Михайловичу, с просьбой показать ей дорогое бриллиантовое колье. Зотов предложил даме три колье, ценою от десяти до двадцати пяти тысяч, на что «покупательница» в обиженном тоне заявила, что это для нее слишком дешевые «побрякушки» и что она просит показать «что-либо приличнее». Старший приказчик Зотов счел нужным доложить об этом главе фирмы господину Полю Фаберже, подданному Российской империи, купцу первой гильдии и гласному столичной городской думы.
Господин Фаберже пригласил покупательницу в свой кабинет и лично предложил ей самое дорогое колье, имевшееся в тот момент у него, ценою в семьдесят пять тысяч рублей. При этом господин Фаберже пояснил молодой даме, что упомянутое колье было им специально заказано в Амстердаме по просьбе одного из членов царствующей фамилии, но что оно не было приобретено последним по причинам, к качеству колье не относящимся.
Осмотрев колье, дама пояснила господину Фаберже, что она является женою известного в столице профессора, невропатолога и психиатра академика Бехтерева, что колье ей нравится, но она хотела бы сначала показать его мужу. Господин Фаберже предложил даме командировать с нею своего старшего приказчика, названного выше Зотова, который, в случае, если колье понравится господину профессору Бехтереву, получит за него чек.
В двенадцать часов тридцать минут дама в сопровождении упомянутого Зотова уселась в свой экипаж и проследовала на квартиру господина профессора Бехтерева, в доме номер 1 по Надеждинской улице, Бассейной части.
Когда Зотов, следуя за дамой, вошел в квартиру Бехтерева, то застал в приемной несколько лиц разного пола, ожидавших приема к профессору. Дама объявила ожидающим больным, что она супруга профессора и проследовала в его кабинет, откуда сразу вышел находившийся на приеме больной, которого она попросила несколько минут обождать. Вскоре дама вышла из кабинета и, обратившись к поджидавшему ее Зотову, оказала, что ее муж согласен приобрести колье и сейчас выдаст Зотову чек, за которым он и должен пройти в кабинет профессора. Зотов прошел в кабинет Бехтерева, который встретил его весьма приветливо, предложил сесть и, к удивлению Зотова, начал его расспрашивать о здоровье. Зотов из вежливости ответил профессору, что не жалуется на здоровье, и попросил выдать чек за колье.
— Знаю, знаю, — ответил профессор Бехтерев, — если не ошибаюсь, вам угодно получить за это колье ровно семьдесят пять тысяч?
— Совершенно верно, господин профессор, — сказал Зотов, — извините, что я тороплюсь, но сейчас в нашем магазине самый горячий час.
— Понимаю, понимаю, — произнес Бехтерев, — я вас долго не задержу.
И, к удивлению Зотова, начал его осматривать, не давая чека.
Лишь через полчаса выяснилось, что как мещанин Зотов, так и господин профессор Бехтерев стали жертвой самого дерзкого мошенничества. Оказалось, что эта дама не только не является супругой профессора, но вообще совершенно ему неизвестна и что, зайдя в кабинет профессора, она, наоборот, представила ему в качестве своего мужа упомянутого Зотова, заявив, что он страдает в последнее время манией получения семидесяти пяти тысяч за какое-то колье. Молодая женщина просила профессора внимательно осмотреть ее мужа и при этом предупреждала, чтобы он не спорил с ним, когда речь зайдет о выплате денег за колье, ибо больной, если с ним спорят по этому вопросу, приходит в сильнейшее нервное возбуждение, вплоть до припадка.
Докладывая о сем исключительном происшествии Вашему высокопревосходительству, присовокупляю, что полицейское дознание по этому делу производится под личным моим руководством и что оно мною поручено инспектору сыска Штальману, лично вашему высокопревосходительству известному, в прошлом не раз обнаружившему похвальное рвение к службе и способности в сыскном деле.
О последующем буду неукоснительно докладывать Вашему высокопревосходительству».
Столичный градоначальник дважды интересовался ходом полицейского дознания по этому делу, на что неизменно получал ответ, что «все меры к установлению личности злоумышленницы приняты, но пока еще определенных результатов не дали».
Так выглядело это любопытное происшествие по материалам столичной сыскной полиции.
Гораздо полнее, впрочем, оно было освещено в секретных данных германской военной разведки. Дело в том, что Отто Штальман, «обнаруживший похвальное рвение к службе и способности в сыскном деле», был не только инспектором сыскного отделения, но и агентом германской военной разведки. Занявшись розыском дерзкой мошенницы, обманувшей Фаберже, Зотова и профессора Бехтерева, Штальман рассказал об этом при очередном свидании резиденту германской разведки, с которым был связан.
Тот сначала рассмеялся, а затем, когда Штальман добавил, что, по словам Фаберже, Зотова и Бехтерева, эта женщина не только молода, но и очень красива, задумался и сказал:
— Вот что, дорогой мой. Вам надо во что бы то ни стало обнаружить эту особу, но только не для полиции, а для нас. При таких данных мы в ее лице получим превосходного агента… Понятно?..
Штальман понял. Он усилил свои старания, обнаружил парного лихача, которого наняла Матильда на три часа для проведения всей хорошо ею обдуманной комбинации, и в конце концов разыскал и Матильду.
Когда Штальман «снял» ее на улице у подъезда школы эту алей, откуда она выходила после очередного урока, и предъявил свой полицейский значок, она ни на минуту не растерялась.
Штальман повез ее прямо к резиденту. Тот сразу оценил внешние данные и самообладание молодой девушки и пришел в полный восторг, когда выяснил, что она по матери немка.
Перед Матильдой Стрижевской была поставлена дилемма: либо она станет агентом германской разведки и будет выполнять определенные задания, получая за это вознаграждение, либо она будет передана в руки столичной полиции за совершенное ею дерзкое мошенничество и получит арестантские роты.
— Вы по своим задаткам талантливая авантюристка, — сказал ей патрон Штальмана, пожилой сухощавый немец с русским паспортом и норвежской фамилией, — и ваша выдумка с этим колье, право, характеризует вас как одаренную натуру. Я предсказываю вам, дорогая моя, блестящую будущность, если, конечно, вы не влюбитесь в какого-нибудь шулера, который станет сосать вас, как пиявка. У нас вы пройдете настоящую школу и поймете, что такое настоящая жизнь. Итак, слово за вами.
— У меня нет другого выхода, как принять ваше предложение, месье, — ответила Матильда тоном хорошо воспитанной барышни, — хотя я далеко не уверена, что это сулит мне такое блестящее будущее, как вы говорите. Во всяком случае эта работа кажется мне занятной… Если к тому же она будет прилично оплачиваться.
И она в тот же вечер дала подписку и стала «дамой треф».
Через два месяца началась первая мировая война. «Дама треф» оправдала все ожидания и даже превзошла их. Но она осталась верной своей девической мечте и стала «звездой» шантана, что, кстати, было вполне одобрено ее «крестным отцом», как любил лирически именовать себя этот пожилой немец с норвежской фамилией.
Шантан открывал большие возможности. «Дама треф» заводила здесь знакомства среди высокопоставленных офицеров генерального штаба, крупных железнодорожных тузов, богатых интендантов, наживавших миллионы на армейских поставках, столичных журналистов, всегда знавших все новости в области военной и политической жизни, жандармских полковников и ротмистров.
Умная, наблюдательная, находчивая, с отличной памятью и действительно авантюристическими склонностями, «дама треф» умела войти в доверие, притвориться наивной простушкой; когда это требовалось, из обрывков фраз и брошенных вскользь замечаний она вылавливала ценные сведения, связанные с воинскими перевозками, дислокацией войск, интендантскими заявками и военными заказами.
Ее донесения всегда отличались конкретностью, точным анализом обстановки, правильными характеристиками лиц, интересовавших почему-либо германскую разведку. Для своих лет она научилась удивительно быстро подмечать человеческие слабости, тайные пороки. Атмосфера шантанного угара, в которой она вращалась и действовала, способствовала ее удачам. Здесь люди, вызывавшие ее деловой интерес, представали перед нею в большинстве случаев в состоянии опьянения вином, красивыми доступными женщинами, дразнящей, легкой музыкой. И «дама треф» умело пользовалась этим, тем более что почти все они были людьми опустошенными, развращенными полупраздной жизнью, богатством, наследственными и родовыми привилегиями. Одних интересовали только женщины, других наркотики, третьих карты, четвертых деньги, пятых служебная карьера.
Но репутация «дамы треф» как агента особенно укрепилась после того, как она, сойдясь с одним видным офицером генерального штаба, выкрала у него важные стратегические документы.
С годами «дама треф» все более втягивалась в эту работу, которая устраивала ее во всех отношениях: во-первых, она хорошо оплачивалась, а «дама треф» любила деньги. Во-вторых, эта двойная жизнь с постоянным риском, приятно щекотавшим ее нервы, с многочисленными, часто менявшимися знакомствами и связями, ночными кутежами, катаниями на автомобилях и тройках, пышными балами и ресторанами, театральными премьерами и дорогими туалетами вполне отвечала ее вкусам и характеру.
Конечно, такая жизнь не могла не отразиться на ее внешности и здоровье. С первыми вначале незаметными морщинками и складками на лице пришли головные боли по утрам, апатия, изжога. «Дама треф» выглядела значительно старше своих лет.
Потом грянула революция, пал царский режим, начались митинги, собрания, демонстрации. После октябрьского переворота «дама треф» растерялась. Шантаны закрылись, ее обычные поклонники исчезли невесть куда ее «патрон» тоже загадочно сгинул, даже не предупредив ее. Отца арестовали за спекуляцию, мать скончалась от воспаления легких, знакомых почти не было. Жить становилось все труднее, тем более что поступать на службу она не хотела.
Она возненавидела новый строй, лишивший ее всего, к чему она привыкла и без чего не желала обходиться. Поразмыслив, «дама треф» стала хироманткой и открыла тайный «салон предсказаний». В этой новой деятельности ей помогали навыки, приобретенные в предыдущие годы, умение быстро ориентироваться в человеческой психологии, слабостях и интересах. Новая профессия давала скромный, но верный доход. Но все-таки Матильде Казимировне было скучно.
А жизнь шла, и с каждым годом Матильда Стрижевская все больше ненавидела то новое, что каждодневно росло и укреплялось на ее глазах, за окнами ее комнаты, в городе и стране, в которой она жила. За эти годы Матильда Казимировна сильно изменилась, и в 1925 году, когда она внезапно, после многолетнего перерыва, встретилась со своим старым «патроном», она уже выглядела немолодой, грузной женщиной, гораздо старше своих лет.
И вот один из июльских вечеров 1925 года, короткий звонок в прихожей, и чей-то страшно знакомый, но позабытый голос спрашивает, дома ли Матильда Казимировна. Она выбежала, как девочка, в коридор и ахнула от удивления. Перед нею стоял «патрон», ничуть не изменившийся за эти годы — такой же подтянутый, сухощавый, спокойный, с тем же холодным, цепким взглядом.
— Здравствуйте, дорогая Матильда Казимировна, — произнес он таким тоном, как будто они виделись вчера. — Я искренне рад вас видеть.
— Здравствуйте, — радостно и даже чуть смущенно произнесла она и пригласила своего неожиданного гостя в комнату.
Они разговаривали долго, до поздней ночи.
«Патрон» сообщил, что он снова намерен обосноваться в Ленинграде и работать по старой специальности, в связи с чем очень рассчитывает на «даму треф». На этот раз он приехал уже с польским паспортом, но намерен хлопотать о переходе в советское гражданство.
Конечно, он подчеркнул, что по-прежнему работает для Германии и что, как он рассчитывает, фрау Матильда, как немка по крови, это оценит.
Так возобновилась работа Матильды Казимировны для германской разведки, и вновь ожила «дама треф».
Разумеется, в новых условиях было гораздо сложнее работать, чем в годы первой мировой войны. Но постепенно, используя частично свои новые знакомства в среде посетительниц «салона предсказаний», а также приобретая все новые навыки, «дама треф» восстановила свою старую репутацию.
Весною 1941 года, когда в ставке Гитлера уже лежал полностью разработанный и подписанный «вариант Барбаросса», «дама треф» получила новое важное задание: выяснить, в каком именно пункте Ленинграда сосредоточены продовольственные резервы города, каково примерно их количество, каковы каналы пополнения этих резервов и сроки их освежения. «Дама треф» принялась за работу. Среди ее посетительниц была одна женщина, муж которой работал в ленинградском торготделе как раз по линии продовольственных товаров. Через посредство этой молодящейся болтливой дамы, а также при помощи других своих связей «дама треф» выяснила, что продовольственные запасы города в основном сосредоточены в Бадаевских складах, а также примерно установила их количество.
Именно в это время ей было предложено выехать на несколько дней в Москву, а оттуда в Ясную Поляну для личной встречи с представителем гестапо, прибывшим в СССР под видом немецкого дипкурьера.
При этом в адрес Матильды Казимировны Стрижевской, в ее квартиру на третьей линии Васильевского острова поступила такая телеграмма:
«Дорогая тетя, мама очень больна хочет обязательно с тобою проститься. Выезжай немедленно. Валя».
Само собою разумеется, что никакой сестры в Москве у Матильды Казимировны не было; но такая телеграмма объясняла ее неожиданный выезд.
Перед отъездом «дама треф» получила от своего нового шефа (старый ее «патрон» уже несколько лет как покинул Ленинград) инструкции, как и где встретиться с тем лицом, которое хотело ее лично повидать.
В Москве «дама треф» покаталась на метро, несколько раз меняя маршруты, затем взяла такси, поехала на Курский вокзал и там взяла железнодорожный билет до Тулы. Приехав в Тулу, «дама треф» побродила по городу и, убедившись, что за нею никто не следит, села в автобус местного сообщения, направлявшийся в Ясную Поляну.
В этот будничный день в Ясной Поляне было мало посетителей, на что и рассчитывали организаторы этой встречи.
Приехав в Ясную Поляну и посетив музей-усадьбу А. Н. Толстого, «дама треф», производившая впечатление провинциальной учительницы, неторопливо направилась по шоссе к автобусной остановке. Вскоре на сравнительно пустынном шоссе появился автомобиль, который еще издали дал три коротких, заранее обусловленных сигнала. «Дама треф» подняла руку с видом женщины, просящей ее подвезти. Машина остановилась, распахнулась дверца, и «дама треф», услужливо подхваченная пассажиром машины, села в ее кабину. Автомашина сразу помчалась дальше.
Представитель гестапо, оказавшийся человеком средних лет в очках в позолоченной оправе, заговорил с Матильдой Казимировной по-немецки. Убедившись в том, что она именно та женщина, ради которой он совершил поездку в Ясную Поляну (такая поездка никого не могла удивить, так как многие иностранцы посещали Ясную Поляну), представитель гестапо подробно ввел «даму треф» в курс ее нового задания. Он сообщил ей все детали «операции Сириус», подчеркнув особое значение, которое придается этому заданию. Он сообщил ей все данные о личности Леонтьева, которые были известны, и поделился с ней разработанным в гестапо планом дальнейших мероприятий. Матильда Казимировна слушала очень внимательно и даже кое-что записала, разумеется, зашифровав эти записи.
План этот в первой своей части сводился к тому, что «дама треф» должна выехать в Челябинск, куда, по-видимому, на продолжительное время переехал Леонтьев, постараться там устроиться на завод, на котором он работал, и завязать с ним знакомство. Возраст «дамы треф» и ее открытое, добродушное лицо должны были исключить какие бы то ни было подозрения.
— А дальше, фрау Матильда, — сказал, улыбнувшись, представитель гестапо, — мы вполне рассчитываем на ваш опыт и ваши способности. Конечно, вам нужно действовать крайне осмотрительно, так как после несчастья с Крашке как сам Леонтьев, так и его работа находятся, несомненно, под самой тщательной охраной. Поэтому не очень торопитесь, продумывайте каждый свой шаг, каждое слово, каждую встречу.
Машина остановилась у густого леса, подходившего стеною к самому краю асфальтированного шоссе. Оно было пустынно в этот вечерний час, и новый знакомый «дамы треф» предложил ей погулять.
Они вышли из машины и пошли бродить среди сосен, ярко освещенных лучами заката. Они шли медленно, часто останавливаясь и отдыхая на полянах, ведя оживленный, но тихий разговор. «Дама треф» изредка нагибалась, чтобы сорвать весенний цветок, и, право, никому, кто видел бы в этой обстановке ее добродушное лицо, седые волосы и скромный костюм, не пришло бы в голову, что перед ним матерая, видавшая виды шпионка.
Уже синели сумерки, когда они вышли на шоссе к поджидавшей их машине. Сильный «мерседес-бенц» помчался по гладкой асфальтированной дороге, мягко и уверенно гудел его мотор.
Уже к ночи они подъехали к Москве, где «дама треф» вышла на пустынной заставе, простившись со своим спутником, вошла в почти пустой ночной трамвай и направилась на Октябрьский вокзал, где в два часа ночи села в почтовый поезд, отправлявшийся в Ленинград.
Через несколько дней, закончив свои дела, она выехала в Челябинск.
6. ЛЕОНТЬЕВ
Между тем конструктор Леонтьев, причинивший, сам того не зная, столько хлопот германской разведке, вернулся в Москву из Челябинска, куда он ездил в командировку. В Москву он приехал в том состоянии особого, радостного подъема, которое всегда приносит упорный труд, приближающийся к успешному завершению.
Да, успех явно определился, и после многих скрупулезных лабораторных проверок и испытаний новое орудие, сконструированное Леонтьевым, было запущено в производство на одном из челябинских заводов.
Выйдя из подъезда на Северном вокзале, Леонтьев сел в ожидавшую его машину и велел шоферу сначала заехать в институт, так как ему хотелось поделиться с директором положением дел в Челябинске.
Румяный, коренастый крепыш с открытым, чисто русским лицом и умным, внимательным взглядом вдумчивого исследователя, всегда ровный и сосредоточенный — таков был человек, являвшийся главным объектом «операции Сириус».
Сын паровозного машиниста, Николай Леонтьев еще в детские годы обнаружил недюжинные способности и стремление к технике. Частенько, поглядывая, как Коленька, единственный сын, целыми днями что-то строгает, клеит, пилит и сооружает, покойный Петр Николаевич, отец Леонтьева, только довольно крякал и весело подмигивал жене на старательного мальчугана.
С годами все больше дивился отец изобретательности сына. Каких только замысловатых игрушек он сам себе не мастерил!.. И особенно радовало Петра Николаевича, что в каждой игрушке проявлялась какая-то новая занятная выдумка, удивительная для десятилетнего мальчугана.
Коля рано научился читать и очень любил книгу. Мальчик был в меру шаловлив, совсем не походил на вундеркинда, и при всем том было в нем что-то такое, что отличало его от других детей: умение глубоко сосредоточиться, острая, настойчивая любознательность, желание все «пощупать своими руками», подробно разобраться в деталях вещи, вникнуть в ее свойства и особенности, достоинства и недостатки.
Петру Николаевичу очень хотелось, чтобы и Коленька со временем стал паровозным машинистом. Старик прямо не говорил об этом сыну, а начал постепенно приучать его к паровозу и даже в летние месяцы иногда тайком брал его с собой в рейс.
Но этак году на пятнадцатом мальчик заявил, что локомотив вообще машина отмирающая и будущего не имеет. Расстроился тогда Петр Николаевич, но виду не подал и спорить не стал.
После средней школы Коля заявил, что пойдет в вуз, и поступил в Ленинградский технологический институт.
Он окончил его с отличием, но отказался от аспирантуры и, к общему удивлению, заявил, что, теперь года на два пойдет к станку на завод. И в самом деле, добился своего: стал рядовым слесарем-сборщиком и через два года получил седьмой разряд.
Лишь после этого Леонтьев счел себя подготовленным для той деятельности, о которой мечтал еще с третьего курса.
Он поступил в тот самый институт, в котором работал и ныне.
За пять лет до этого он женился на молодой актрисе одного из маленьких московских театров, но года через два узнал, что жена обманывает его. Они разошлись, и Леонтьев с головой погрузился в свою работу, утопив в ней свое горе.
В институте он сразу окунулся в давно знакомую, родную атмосферу. Инженеры и лаборанты, работавшие под руководством Леонтьева, встретили его с радостью и поспешили доложить, что все оставленные им задания выполнены в установленные сроки.
Проходя в кабинет директора мимо вестибюля, Леонтьев заметил траурное объявление, вывешенное на доске приказов. Местком института с прискорбием извещал сотрудников о внезапной смерти вахтера товарища Голубцов а и о том, что его похороны состоятся на следующий день.
Леонтьев сразу вспомнил этого добродушного старичка, который не раз приходил к нему в кабинет и с трогательной непосредственностью справлялся о здоровье, настроении и делах. Леонтьев угощал старого чапаевца папиросами и отвечал, что со здоровьем все обстоит благополучно, настроение бодрое, а дела полегоньку двигаются.
— Я потому о делах справляюсь, — неизменно вставлял Петрович, — что сами видите — много врагов у нашего рабочего государства: не по душе, вишь, дьяволам, что мы сами своей жизни хозяева и уж до коммунизма малость какая осталась, так вот, на случай чего, надо кой-что и про запас иметь… Одним словом, по вашей части…
И он добродушно, но с оттенком почтительности чуть хлопал конструктора по животу и с непременным восклицанием «Башка! Душа радуется!» уходил из кабинета.
Завхоз института, тоже вышедший в вестибюль, поздоровался с Леонтьевым и на его вопрос, что же случилось с Петровичем, ответил, что Голубцов накануне утром сдал дежурство и случайно попал под грузовую машину, которая раздавила его.
— Жалко, хороший был старик, — с искренним вздохом закончил завхоз, — службист, и свой в доску… Да тут он еще ночью взволновался, вот и попал под машину…
— А что же его взволновало? — спросил Леонтьев.
— Это уж вам пусть директор скажет, — загадочно произнес завхоз. — Извините, тороплюсь…
И сразу исчез.
Леонтьев прошел к директору, который очень ему обрадовался и, закрыв дверь кабинета и сказав секретарше, чтобы его ни с кем не соединяли по телефону, сел рядом с Леонтьевым на диван и стал молча набивать трубку. Он был чем-то встревожен.
— Что случилось, Игорь Иванович? — спросил Леонтьев, почуяв недоброе.
— Сам не пойму! — развел руками директор. — Вот расскажу все по секрету, никто, кроме вас, об этом не должен знать…
И, пуская клубы дыма, рассказал, что накануне днем он был вызван в следственные органы, где ему предъявили фотоснимки секретных чертежей и расчетов нового орудия Леонтьева.
— Что? — вскочил Леонтьев, побледнев как полотно. — Не может быть!..
— И я так думал, — произнес директор, — пока своими глазами не увидел эти фотоснимки. Главное, все переснятые документы, по справке нашего спецотдела, хранились в вашем сейфе, и он был заперт и опечатан…
— В том-то и дело! — вскричал Леонтьев.
— Но факт остается фактом, — продолжал директор, — документы сфотографированы, я сам, своими глазами, видел тридцать шесть снимков — целую пленку… Но вы не волнуйтесь, — добавил он, заметив, что у Леонтьева исказилось лицо.
— Но как же это случилось?! — горячо воскликнул Леонтьев, — ведь это же… Это просто необъяснимо… У нас в институте вскрыли сейф!..
— В том-то и дело, что никто его не вскрыл, — сказал директор, волнуясь не меньше Леонтьева. — И сейф и сургучная печать были в полном порядке…
— Час от часу не легче! — почти закричал Леонтьев. — Как же в таком случае сфотографировали документы? Кто их сфотографировал?
— Дело в том, — разъяснил директор, — что сейф, оказывается, кто-то открывал. Вчера, после того как я опознал фотографии, сюда приехали со мной следователь и эксперты. Это было уже поздно, когда никого из работников института, кроме дежурных вахтеров, не было. Мы вызвали начальника нашего спецотдела, он достал сургучную печать и ключ от вашего сейфа, которые вы ему сдали перед отъездом в командировку.
— Совершенно верно, — сказал Леонтьев.
— Правильно. Одним словом, сделали новый оттиск сургучной печати и под сильной лупой сравнили его с печатью, которая была на сейфе. Показалось, что есть какая-то крохотная разница. Тогда оба оттиска сфотографировали каким-то особым аппаратом, сильно увеличили снимки, и выяснилось, что ваш сейф опечатан поддельной печатью, хотя и сделан» ной весьма искусно. Но при тщательном сопоставлении обнаружились некоторые несоответствия, главным образом в глубине вырезанного шрифта. Тут уж взялись за ваш сейф основательно. Под микроскопом исследовали ключевину замка и обнаружили мельчайшие пылинки, точнее, крошки какой-то массы. Короче говоря, химическая экспертиза установила, что в ключевину замка вводился для слепка специальный пластилин… Вот каким образом появились поддельный ключ и поддельная печать…
Леонтьев слушал рассказ директора с понятным волнением честного человека, неожиданно столкнувшегося со страшным преступлением, направленным не только лично против него, но я против его Родины.
Он не мог представить себе, что кто-то мог помогать врагу здесь, в этих стенах, в этом коллективе, сплоченном общей многолетней работой, коллективе, который он сам в значительной мере создал и которым в глубине души гордился?
Естественно, что в свете этих новостей Леонтьев даже забыл спросить директора об обстоятельствах гибели Петровича, на которые ему глухо намекнул завхоз.
А между тем гибель Голубцова и события, о которых говорил директор, имели прямую связь.
Дело в том, что Голубцов, с которым Крашке внезапно прекратил всякую связь, ломал себе голову, чем это объяснить, и строил самые фантастические предположения по этому поводу. Его взволновал не столько факт непонятного исчезновения господина Крашке, сколько страх перед возможным разоблачением. Он потерял сон, и если на короткое время забывался, то просыпался от кошмаров, которые ему все время мерещились. То ему чудился шум машины, подъехавшей ночью к его дому (приехали, дескать, за ним!), то скрип шагов под его окнами, то стук в дверь…
Выходя из дому и направляясь в институт, или возвращаясь из института домой, «король бубен» все время оглядывался, озирался, вздрагивал — в каждом прохожем ему мерещился человек, следящий за ним.
Цепкий животный страх не отпускал его ни на минуту, не давал передышки, Голубцов не мог ни о чем спокойно думать, есть, дышать. В короткий срок «король бубен» страшно осунулся, нервные и сердечные приступы все чаще одолевали его, он давно уже не пел «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской», не раскладывал по вечерам свой любимый пасьянс «Могила Наполеона», напиваясь в полном одиночестве в своей грязной берлоге, которую он перестал подметать. Но даже водка не могла осилить этот колючий ужас, этот затянувшийся кошмар…
Что делать, как спастись, куда бежать?.. И разве можно убежать от самого себя?
Так ожидание расплаты для предателя не менее страшно, чем сама расплата.
Накануне своей гибели «король бубен» пришел на ночное дежурство все в том же душевном состоянии. Уже после полуночи к подъезду института подъехала машина, из которой вышли директор и трое в штатском, которых он никогда не видал.
Дрожащими руками Голубцов отворил им дверь, и они пошли наверх в кабинет Леонтьева. Минут через двадцать, видимо, по их вызову, приехал и начальник спецотдела института.
«Король бубен» почувствовал начало очередного приступа и принял сразу две таблетки нитроглицерина. Сердце немного отошло, и, сняв туфли, Голубцов тихо прокрался на второй этаж и заглянул в замочную скважину двери, ведущей в кабинет Леонтьева.
Все было ясно: люди, пришедшие с директором, рассматривали в лупу замок того самого сейфа, из которого он в первомайские дни извлек чертежи и потом сфотографировал их, как его обучил этот проклятый немец с моноклем!
Значит, все раскрыто, и не сегодня-завтра придет конец!
Уже на рассвете ночные посетители и директор уехали, а начальник спецотдела прошел к себе…
«Король бубен» окончательно решил — хватит!..
И, выйдя на улицу, бросился под колеса мчавшейся пятитонки.
Когда приехала карета «Скорой помощи», «король бубен» был уже мертв.
Так выпала из колоды гитлеровской разведки еще одна карта.
7. СЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАРЦЕВ
Старший следователь Ларцев, которому было поручено расследование по поводу пленки со снимками секретных чертежей и формул нового орудия, сконструированного Леонтьевым, имел многолетний опыт следственной работы в советской контрразведке.
В тот день, когда начальник Ларцева, вызвав его к себе, передал ему бумажник господина Крашке со всем, что в нем находилось, и подробно рассказал Ларцеву, каким образом этот бумажник попал в руки следственных органов, они оба подробно обсудили это дело и наметили все необходимые мероприятия.
Было очевидно благодаря содержимому бумажника, что в данном случае они имеют дело с немецкой разведкой.
На следующий день после получения этого дела Ларцев узнал, что Крашке и Шеринг спешно покинули Москву, и он понял, что они даже не попытаются вернуться обратно и, так сказать, вышли из игры.
Очень скоро был установлен и объект их деятельности, то есть институт, в котором работал Леонтьев, и чертежи и формулы его открытия, которые были сфотографированы.
Ларцев был одним из трех сотрудников органов безопасности, приехавших ночью в институт и производивших осмотр сейфа, в котором хранились секретные документы Леонтьева, сфотографированные по заданию немецкой разведки.
Установив, что сейф был открыт и опечатан путем применения поддельных ключа и печати.
Ларцев встал перед вопросом: кто из работников института замешан в этом преступлении?
Перед Ларцевым стояла, таким образом, задача:
1) Установить агентуру врага, проникшую в секретный институт;
2) Оградить самого Леонтьева и его открытие от возможных посягательств вражеской разведки в дальнейшем.
Ларцев не только разрешил директору института информировать Леонтьева о случившемся, но и счел необходимым лично побеседовать с конструктором и по возможности успокоить его. Это удалось ему после того, как он разъяснил Леонтьеву, что вражеская разведка не успела еще воспользоваться фотоснимками, так как пленка только отправлялась в Берлин и, следовательно, подлежала дальнейшему использованию там. Кроме того, как выяснилось, документы, сфотографированные пока неустановленным лицом, еще не давали сами по себе возможности получить полное представление об открытии Леонтьева в целом, а других документов в сейфе не было, так как они хранились в другом месте, а частично были отправлены в Челябинск.
С другой стороны, провал немецкой разведки в данном случае отнюдь не исключал того, что она захочет дать реванш и попытается найти другие ходы в охоте за Леонтьевым и его открытием.
Ларцев, как опытный контрразведчик, хорошо изучивший особенности гитлеровской разведки, знал, что, отличаясь, с одной стороны, известной грубостью в методах работы, она, с другой стороны, нередко проявляет большую настойчивость и после провала той или иной операции имеет обыкновение возвращаться к ней.
В данном случае этот общий вывод подтверждался хотя бы тем, что после разоблачения одного агента в том же институте и провала в связи с этим предшественника Крашке шпионы снова вернулись к этому объекту.
Это с несомненностью указывало на то, что в Берлине отдают себе отчет в значении работ конструктора Леонтьева.
Ларцев, узнав о гибели Голубцова, происшедшей на исходе той самой ночи, когда он посетил институт и производил осмотр сейфа, сразу занялся проверкой этого дела и прежде всего познакомился с делом по обвинению шофера пятитонки, задавившей Голубцова.
Шофер — фамилия его была Сазонов — не признавал себя виновным в нарушении правил уличного движения и упорно утверждал, что Голубцов сам бросился под машину. Ларцев лично допросил Сазонова и убедился в том, что тот показывает правду.
Сазонов был уже немолодой человек, шофер второго класса, опытный и дисциплинированный водитель. В том, как он горячо и искренне отстаивал свою невиновность, не отказываясь при этом от некоторых деталей, говоривших, казалось бы, против него (так, например, он сразу признал, что не давал сигнала), во всем его поведении на допросе — очевидной скромности, правдивости, волнении человека, на которого незаслуженно свалилось тяжкое обвинение, Ларцев, как чуткий следователь, усмотрел несомненные доказательства его правоты.
Наконец, в пользу Сазонова говорило и то, что, имея все возможности скрыться в этот предрассветный час, он этого не сделал, а вызвал «Скорую помощь» и работников милиции.
Ларцев с искренним чувством пожал руку этому человеку и написал постановление о прекращении возбужденного против него дела.
Ларцев принадлежал к той славной категории чекистов, воспитанных Дзержинским, которые всегда помнили наставление своего великого учителя — бояться, как огня, душевной черствости, холодного равнодушия к человеческой судьбе и с такой же настойчивостью и силой защищать невиновного, случайно запутавшегося или оклеветанного человека, с какой разоблачать подлинных врагов Советского государства.
Оглядываясь назад, на многие годы своей следственной работы, Ларцев с равным удовлетворением вспоминал как дела, по которым — ему удавалось раскрыть самые искусные и коварные происки врагов и обнаружить преступников, так и дела, по которым ему пришлось затратить не меньше усилий и настойчивости для реабилитации честных советских людей, над которыми, в силу того или иного стечения обстоятельств (иногда случайных, а нередко и сознательно фальсифицированных такими же врагами его Родины), нависала черная и, казалось, беспросветная туча незаслуженного и тяжкого обвинения.
Григорий Ефремович — так звали Ларцева — любил свою трудную профессию, хотя она и стоила ему бессонных ночей, огромного нервного напряжения и нередко надолго разлучала с семьей. Он любил свою работу потому, что она была поистине творческой, любил даже те муки, которые приносила эта работа: горечь не подтвердившихся версий, казавшихся такими верными и потом вдруг оказавшихся ошибочными; ночную бессонницу, когда, не выпуская дымящейся папиросы изо рта, он часами расхаживал по своему кабинету, напрягая свой мозг и всю свою интуицию в поисках правильного решения очередной следственной задачи, запутанной, как головоломка; постоянное напряжение, необходимое для того, чтобы верно и вовремя разгадать маневры врага и тем самым предотвратить серьезнейшие последствия; чувство огромной ответственности за каждое дело, за каждый вывод, за каждого человека, судьба которого связана с этими выводами; и категорическую необходимость быть при всем этом неизменно спокойным, внутренне собранным, способным к холодному и трезвому анализу показаний, документов и вещественных доказательств по делам, выплеснутым жизнью на его следовательский стол.
Ларцев любил свою профессию и за то, что она изо дня в день, из месяца в месяц сталкивала его лицом к лицу с огромным многообразием жизненных явлений, конфликтов и человеческих характеров; за то, что он никогда не знал сегодня, над каким делом ему предстоит работать завтра, но был всегда уверен, что каждое новое дело, независимо от его характера, принесет свои, только этому дел у присущие особенности, и, следовательно, новые наблюдения и новый опыт. Что так же, как это дело не будет похожим ни на какие другие дела — по характеру преступления, или по его мотивам, или последствиям, или по методу совершения преступления, или по способам сокрытия его следов, — так ни один из людей, проходящих по этому новому делу — обвиняемых, свидетелей, потерпевших, не будет похож ни) на одного другого человека из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться по предыдущим делам.
И, наконец, за то, что почти четверть века его следственной работы, обнажавшей нередко глубины человеческого падения и сталкивавшей его с самыми низменными характерами и самыми кровавыми и страшными преступлениями, порожденными ненавистью к советскому строю, ревностью, жадностью, местью, карьеризмом, — эти четверть века не подточили его любви к людям, а, напротив, укрепили эту любовь, помноженную на твердое сознание, что будущее, за которое борется его партия, его народ, навсегда и начисто уничтожит условия, породившие этих выродков и эти преступления.
И, может быть, самым удивительным в характере этого человека было то, что он, изо дня в день копошившийся в мерзостях человеческих, был по-юношески жизнерадостен, любил людей, всем своим существом ощущал красоту жизни и потому так беззаветно и страстно боролся с ее врагами.
Таков был человек, который в силу своего служебного долга вступил в поединок с осиным гнездом Гиммлера.
8. ОБЫСК
Придя к выводу, что Голубцов покончил жизнь самоубийством, Ларцев решил произвести обыск в его квартире, предварительно установив, что Голубцов жил одиноко и родственников не имел.
Как опытный криминалист, Ларцев давно пришел к выводу, что обстановка, в которой живет человек, его вещи, книги, вкусы, образ жизни, даже манера одеваться характерны для всего его психологического склада и морального облика. Вот почему он с интересом, очень тщательно осмотрел квартиру Голубцова и заключил: нора!
Да, это была звериная нора, в которой затаился от всего окружающего мира враждебный этому миру зверь, трусливый, но готовый при первой возможности жестоко укусить.
Комната Голубцова была запущена, давно не убиралась, толстый слой пыли осел на мебели и вещах. Ларцев путем расспроса богомольной старушки, жившей за стеною, выяснил, что Голубцов прежде аккуратно убирал свою комнату и только в последнее время так ее запустил.
— Он последние дни все ходил сам не свой, — рассказала старушка, — даже по утрам умываться перестал и петь бросил. То бывало все на гитаре играет и песни поет, а тут перестал…
Ларцев подробно расспросил эту женщину, когда именно Голубцов стал так хандрить, и ив ее ответов понял, что это случилось вскоре после известного происшествия с господином Крашке на Белорусском вокзале.
Самый обыск тоже дал хорошие результаты.
Прежде всего в сундуке Голубцова был обнаружен фотоаппарат «лейка» с особым светосильным объективом, приспособленным для съемки документов. Ларцеву уже дважды приходилось видеть такие специальные объективы, обнаруженные при аресте агентов германской разведки. Но, видимо, этого не знал Голубцов. Иначе он, опасаясь разоблачения, не держал бы этот аппарат дома.
Среди бумаг покойного Ларцев обнаружил восемнадцать тысяч рублей и сберегательную книжку, на счете которой числилось двадцать семь тысяч, из них двадцать одна была зачислена на вклад сравнительно недавно в три приема, в течение полутора месяцев, что также заслуживало внимания.
И, наконец, в мусорном ящике, стоявшем в чулане, были обнаружены обрывки старых фотографий, которые Ларцев собрал и, уже вернувшись к себе на работу, передал для реставрации. Это оказались фотографии самого Голубцова и каких-то других лиц. Все они были сняты в форме белой добровольческой армии.
Особенно заинтересовала Ларцева одна фотография, на которой Голубцов был снят рядом с белогвардейским генералом, личность которого вскоре удалось установить по архивным данным. Это был деникинский генерал Голубцов.
Дело постепенно прояснялось. «Старый чапаевец» оказался сыном крупного помещика и офицером деникинской контрразведки, родным племянником царского, а затем деникинского генерала Голубцова, по имевшимся данным, проживавшего теперь в Берлине и связанного с германской разведкой.
Так было окончательно установлено, что «Петрович» являлся агентом господина Крашке и именно он сфотографировал документы, хранившиеся в сейфе Леонтьева.
В свете этих данных Ларцев понял и ход с якобы найденными «Петровичем» пятью тысячами рублей, которые он принес директору, и не без удовольствия приобщил к материалам дела заметку председателя месткома института «Благородный поступок», помещенную в стенной газете.
В связи с этим эпизодом припомнился Ларцеву похожий случай из практики. Несколько лет назад пришлось ему расследовать дело о подозрительном пожаре на одном крупном оборонном заводе.
Пожар этот возник внезапно в самом «сердце» завода — в одном из решающих цехов. Несмотря на то, что пламя вспыхнуло очень сильно (потом было обнаружено, что злоумышленник сумел незаметно внести в этот цех смоченную керосином паклю), рабочие завода, проживавшие поблизости, сумели частично отстоять от огня свой цех, хотя пожар и причинил большой ущерб.
Среди других рабочих, самоотверженно тушивших пожар, особенно отличился цеховой конторщик, некий Измайлов, сравнительно недавно появившийся в этом городе и принятый на работу на завод.
На глазах у всех Измайлов тогда первым ринулся в пылающий цех и, несмотря на полученные ожоги, не выходил оттуда до полной ликвидации пожара.
Но. как потом выяснилось, именно этот Измайлов и оказался поджигателем и уже на следствии признался Ларцеву в том, что он осуществил эту диверсию по заданию германской разведки.
— Расчет у меня был двоякий, гражданин следователь: во-первых, создать себе авторитет на заводе, чтобы потом мне проще работать было; а во-вторых, в цех-то я ринулся и делал вид, что энергично тушу пожар, а на самом деле в дыму и в сутолоке незаметно его поддерживал… Уж очень мне хотелось задание это выполнить, мне большие деньги за это были обещаны…
9. ВОЙНА
Май отшумел, и началось лето. В том году оно наступило быстро после обильных весенних дождей, на полях зрел богатый урожай. Все, казалось, предсказывало счастливый, щедрый год, и вся страна, занятая мирным трудом, радовалась предстоящему урожаю. На колхозных полях гудели тракторы, летние полевые работы были в самом разгаре. Тихие белые ночи млели над Ленинградом, шумели по вечерам многолюдные стадионы и парки Москвы, сотни тысяч людей отдыхали и лечились на курортах Кавказа и 'Крыма, нарядные белые теплоходы проплывали мимо веселых черноморских городов, откуда доносилась музыка приморских бульваров, на пляжах нежились под южным солнцем купальщики, в театрах готовились новые премьеры, в павильонах киностудий снимались новые фильмы.
Родина жила своей обычной трудовой жизнью.
Но именно в эти первые ночи июня враг заканчивал свои последние приготовления. Сто семьдесят немецких дивизий, в точном соответствии с планом «Барбаросса», скрытно подползали к рубежам Советской страны. В тех случаях, когда скрыть передвижение войск оказывалось невозможным, гитлеровское правительство и его дипломаты объясняли эти переброски войск военными маневрами, армейскими отпусками и даже частичной демобилизацией.
Чтобы замаскировать свои вероломные планы, Гитлер передал через Риббентропа указание германскому послу в Москве фон Шулленбургу провести ряд переговоров и внести ряд предложений, которые должны были создать впечатление, что Германия не только верна советско-германскому пакту 1939 года, но и намерена активно расширять свои экономические связи с Советским Союзом.
Шулленбург, уже ясно понимавший, что война приближается с каждым днем, выполнил полученные указания и сделал все необходимые визиты, запросы и заверения. Он не был точно информирован о роковой дате, но по ряду косвенных признаков и намеков, которые сделал ему в Берлине Риббентроп, отдавал себе отчет в том, что война мчится на всех парах и до ее начала остались буквально часы…
Шулленбург частично поделился тревогами с женой и велел ей очень осторожно, чтобы ни в коем случае не заметила горничная, подготовиться к внезапному отъезду — собрать необходимые вещи, уложить чемоданы и т. п. Сам же он потихоньку приводил в порядок свой личный архив, уничтожая лишние документы, свои! записи и копии служебных писем.
Жена господина фон Шулленбурга, когда он велел ей готовиться к внезапному отъезду — разговор велся шепотом в их квартире, — сразу побледнела и тихо заплакала. Она не поняла, что это связано с предстоящей войной, и решила, что ее муж имеет основания опасаться опалы, отстранения от должности и, возможно, даже заключения в один из концлагерей, о которых ходили такие страшные слухи.
Шулленбургу стало жаль ее, они прожили вместе много лет, и, право, она была ему верной подругой. Чтобы успокоить жену, он чуть было не рассказал всю правду, но в последний момент испугался — все-таки женщина, кто знает, не разболтает ли она тайну какой-нибудь другой даме из дипкорпуса, и не станет ли это как-нибудь известно агентуре гестапо, которая немедленно донесет об этом в Берлин…
И, притворяясь заснувшим, подивился старый дипломат времени и режиму, наступившему в его бедной Германии, когда даже с женщиной, носившей твое имя уже столько лет, страшно поделиться тем, что тебя волнует, что не дает тебе уснуть, что неотвратимо и гибельно, как безумие, и безумно, как гибель…
Плохо спал в эти дни и господин военный атташе, осведомленный лучше Шулленбурга о подкрадывавшихся событиях.
Тогда, в день получения ордена, он расхохотался, посмотрев на свое отображение в зеркале. Но, странное дело, это был горький, мучительный смех, и тяжесть новенького ордена почему-то не радовала, а как-то угнетала самое сердце, над которым он был приколот. Да, угнетала, хотя не так уж он был весом, этот кусочек позолоченного металла. Скверные предчувствия щемили душу господина фон Вейцеля, и он не в силах был их отогнать. Опасные мысли роились и жужжали, как мухи, в голове господина полковника, недозволенные, опасные мысли, любой из которых было бы достаточно, если б она стала известной, чтобы блистательный господин атташе был брошен в подвал или вздернут на виселицу…
Конечно, господин Вейцель в эти последние июньские дни был очень занят не только своими недозволенными мыслями, все чаще одолевавшими его. Много времени требовалось для подготовки и отправки дипломатической почты, перевозимой специальными курьерами, секретного архива, а также для подготовки агентурной работы в предстоящих военных условиях, для бесконечных ответов на бесконечные секретные запросы о состоянии железных и автомобильных дорог, подъездных путей, о дислокации военных и гражданских аэродромов, хлебных элеваторов, оборонных заводов, складов государственных резервов, интендантских баз, морских и речных портов, о видах на урожай, особенно на Украине и в Белоруссии, новых типах самолетов, танков и артиллерийских орудий.
К несчастью, военный атташе и его аппарат не имели данных для ответа на большинство этих запросов, посыпавшихся в эти июньские дни в невиданных количествах. На часть из них можно было ответить на основании/ ряда советских справочников по разным отраслям транспорта, и народного хозяйства и собранных в свое время вырезок из столичных и провинциальных журналов и газет. Дело в том, что отсутствие достаточно надежной агентуры еще в свое время вынудило господина атташе завести особую картотеку, которая питалась отрывочными данными по всем этим вопросам, иногда проникавшими на страницы советской печати и специальных изданий. При надлежащей обработке и сопоставлении эти отрывочные материалы все-таки представляли известную ценность и теперь очень пригодились господину Вейцелю для ответов на бесчисленные запросы, хотя он и не был уверен в точности своих выкладок и данных.
Но так или иначе он ответил, и это уже пока гарантировало от всякого рода неприятностей и осложнений.
Несмотря на всю горячку этих последних мирных дней, господин Вейцель интересовался и ходом подготовки «операции Сириус», которой теперь занялась «другая линия» германской разведки, то есть система гестапо.
Вейцелю не сообщили особых подробностей о ходе подготовки этой операции, но все же рассказали, что загадочная «дама треф» уже переброшена из Ленинграда в Челябинск, где запущено в производство новое орудие конструктора Леонтьева.
В середине июня Вейцелю также сообщили о том, что и сам Леонтьев выехал из Москвы в Челябинск, по-видимому, для наблюдения за ходом производства нового орудия.
В эти дни все отраслевые линии германской разведки и гестапо развили лихорадочную деятельность.
Еще 12 февраля 1936 года Гитлер поручил имперскому руководству СС, то есть Гиммлеру, создать единую немецкую секретную разведывательную слукбу.
В специальном соглашении, которое в связи с этим подписали Гиммлер и Риббентроп, в частности, было указано:
«1. Секретная разведывательная служба имперского руководителя СС является важным инструментом для добывания сведений во внешнеполитической области, который предоставляется в распоряжение министра иностранных дел. Первым условием этого является тесное товарищеское и лояльное сотрудничество между министерством иностранных дел и главным имперским управлением безопасности. Добывание внешнеполитических сведений дипломатической службой этим самым не затрагивается.
2. Министерство иностранных дел предоставляет в распоряжение главного имперского управления безопасности необходимую для ведения разведывательной службы информацию о внешнеполитическом положении и установки немецкой внешней политики и передает глазному имперскому управлению безопасности свои разведывательные и прочие задания в области внешней политики, которые должны выполняться органами разведывательной службы».
Весною 1941 года, особенно в апреле — июне, началась тщательная подготовка всех органов германской разведки к проведению подрывной, шпионской и диверсионной работы против Советского Союза.
Начальник III отдела германской военной разведки и контрразведки фон Бентивеньи через несколько лет, будучи пленен Советской Армией, показал на допросе:
— Я еще в ноябре тысяча девятьсот сорокового года получил от Канариса указание активизировать контрразведывательную работу в местах сосредоточения германских войск на советско-германской границе…
Согласно этому указанию, мною тогда же было дано задание органам германской военной разведки и контрразведки «Абверштелле», «Кенигсберг», «'Краков», «Бреслау», «Вена», «Данциг» и «Познань» усилить контрразведывательную работу…
… В марте тысяча девятьсот сорок первого года я получил от Канариса следующие установки по подготовке и проведению плана «Барбаросса»:
а) подготовка всех звеньев «Абвера-3» к ведению активной контрразведывательной работы против Советского Союза, как-то: создание необходимых «Абвер-групп», расписание их по боевым соединениям, намеченным к действиям на Восточном фронте, парализация деятельности советских разведывательных и контрразведывательных органов;
б) дезинформация через свою агентуру иностранных разведок в части создания видимостиулучшения отношений с Советским Союзом иподготовки удара по Великобритании;
в) контрразведывательные мероприятия посохранению в тайне ведущейся подготовки квойне с Советским Союзом, обеспечение скрытности перебросок войск на Востоке».
Как показал далее тот же фон Бентивеньи:
— За период февраль — май тысяча девятьсот сорок первого года происходили неоднократные совещания руководящих работников «Абвер-два» у заместителя Йодля генерала Варлимонта. Эти совещания проводились в кавалерийской школе в местечке Крампниц. В частности, на этих совещаниях, в соответствии с требованиями войны против России, был решен вопрос об увеличении частей особого назначения, носивших название «Бранденбург-восемьсот», и о распределении контингента этих частей по отдельным войсковым соединениям…
Другой гитлеровский волк, полковник Эрвин Штольц, бывший заместитель начальника II отдела германской разведки Лахузена, взятый в плен Советской Армией на исходе войны, подтвердил показания фон Бентивеньи и заявил, устало протирая стекла пенсне:
— … Я получил указание от Лахузена организовать и возглавить специальную группу под условным наименованием «А», которая должна была заниматься подготовкой диверсионных актов и работой по разложению в советском тылу в связи с наметившимся нападением на Советский Союз…
… в целях нанесения молниеносного удара против Советского Союза «Абвер-два» при проведении подрывной работы против России должен был использовать свою агентуру для разжигания национальной розни между народами Советского Союза…
Так, после разгрома гитлеровской Германии все эти варлимонты и пиккенброки, бентивеньи и штольцы, оказавшись в руках Советской Армии, на следствии и в зале Международного военного трибунала в Нюрнберге раскрыли тайное тайных германской разведки, ее многочисленные щупальца и ее сеть, ее цели и ее методы, ее замыслы и ее просчеты.
И кто мог бы подумать в дни этого исторического процесса, за которым следил, затаив дыхание, весь земной шар, процесса, вскрывшего все кровавые преступления фашизма, невиданные в истории человечества по своим масштабам и тяжести последствий, процесса, поведавшего миру об убийствах миллионов ни в чем не повинных жертв, об уничтожении целых народов в газовых печах Освенцима и Майданека, о камерах пыток и специальной промышленности по изготовлению орудий массового уничтожения людей и машин по переработке их костей, их волос, их кожи, — кто мог бы подумать и поверить тогда, что через каких-нибудь несколько лет американские и английские власти начнут не только освобождать гитлеровских палачей и эсэсовских убийц, но и формировать при их помощи новые дивизии?!
* * *
Ах, эта суббота 21 июня 1941 года, последняя предвоенная суббота, кто из нас позабудет тебя?! Сколько раз все мы, и старые и молодые, и мужчины и женщины, признательно и нежно вспоминали тебя, край последней недели мирного труда нашего! Вспоминали везде — и во фронтовых окопах, и в лесных партизанских землянках, и в редкие часы передышки в заводских цехах, только что воздвигнутых на Урале и далеко за ним, и на колхозных полях, где наши матери, жены и невесты трудились не покладая рук, чтобы накормить своих солдат на фронте и в тылу, да, и в тылу, потому что все мы, надевшие военную форму и не надевшие ее, были в те годы солдатами.
Вспоминали тебя и в горах Кавказа, и в предгорьях Урала, на хлопковых и рисовых полях Узбекистана и Туркмении, на зеленых пастбищах Казахстана и нефтяных промыслах Баку, на берегах нашей Волги-матушки, у пылающих стен несгибаемого Сталинграда, и там, на берегах Невы, где великий город, обложенный безжалостным и коварным врагом, ежедневно хоронил тысячи умерших от голода сынов и дочерей своих, но продолжал сражаться за свою славу и честь, за великое имя человека, которое он гордо носил.
Ничем не отличалась ты от сестер своих, а все-таки мы полюбили и запомнили тебя на всю жизнь, и всегда вспоминали этот теплый июньский день и наступивший за ним вечер, когда еще дымилась сизая сирень в садах, благоухали первые цветы последнего мирного лета, и дети с веселым криком плескались, как рыбы, в реке, и тонко заливался свисток судьи на стадионах, а в парках и кинотеатрах сидели, прижавшись друг к другу, влюбленные, не чуя, что к ним уже подкрадывается разлука.
Вспоминали и твою прохладную, свежую ночь, и неяркие тихие звезды твои, и ласковый шорох морского прибоя, когда волна за волной набегает на гальку…
Вспоминали и знакомые песни за родной околицей после дня, полного солнца, труда, бодрящих запахов трав, рокота тракторных моторов и улыбок стариков, обрадованных уже стоящими хлебами и твердо знавших, что богат будет урожай…
Да, ничем не отличалась ты от всех предыдущих дней, и, может быть, именно за то мы так нежно и вспоминали тебя, за то, что была ты такой, как все наши дни до— тебя — обычным и все-таки необыкновенным днем нашей жизни, трудовым днем народа, который сам строит свою жизнь по своему вкусу и по своим желаниям и един в своих мечтах, в своем труде, в своей вере в будущее…
В эту субботу старший следователь Ларцев решил наконец осуществить давнюю мечту и поехать на рыбалку. Он захватил с собой своего десятилетнего сынишку Вову, которому давно это обещал.
Радости рыбалки, конечно, начинаются со сборов, как радости любви начинаются с первых, еще робких ожиданий и встреч.
Ларцев, который сам себя называл за это «пожилым мальчишкой», страшно любил разбираться в своем сложном рыбацком хозяйстве — удочках, лакированных гибких спиннингах, катушках — спиннинговых и проволочных, блеснах всевозможных форм и размеров— от маленьких, в полтора — два сантиметра, до больших, чуть не в пятнадцать сантиметров, заграничных блеснах, рассчитанных на крупную рыбу, очень нарядных й броских, с вкрапленными в них ярко-красными, фиолетовыми и черными с белым ободком стекляшками, которые должны были казаться хищной рыбе глазами мелкого окуня или плотвы. Были у него и блесны, выточенные из латуни и меди, и блесны из алюминия и никелированной стали, сделанные из старых самоварных подносов, мельхиоровых подстаканников и давно вышедших в тираж медных чайников.
Многие из этих блесен Ларцев вытачивал сам, делая это с великой радостью в редкие минуты досуга и невзирая на ехидные замечания жены и ее возражения. Нина Сергеевна, как большинство женщин, никак не могла понять этой благородной мужской страсти и ядовито называла рыболовные принадлежности мужа «игрушками для бородатых деток», хотя Ларцев бороды никогда не носил.
А между тем нигде он не отдыхал так полно и радостно, как на рыбной ловле в лодке или на поросшем густым лесом берегу, когда вокруг стоит удивительная тишина вечернего лесного озера или глубокой, полноводной реки и все вокруг — и эти затишливые воды, и еще слышный шорох засыпающего леса, м даже изредка доносящийся, как выстрел, всплеск сильной рыбы, после которого долго расходятся круги по зеркальной глади, — вселяет чувство глубокого покоя и того особого, тихого счастья, которое всегда дает общение с родной природой, освежающее душу и тело.
В эту субботу Ларцев приехал домой рано — в семь часов вечера. Вова, предупрежденный накануне, что на этот раз они «железно поедут», изнывал от нетерпения, слоняясь по квартире и ежеминутно заглядывая в окно.
Нина Сергеевна и ее мать Ольга Васильевна заканчивали свои приготовления. В термос наливался горячий кофе, в походную сумку укладывались пироги с капустой и яйцами, добрый кус жареной баранины, яйца, сваренные вкрутую, и, чего греха таить, четвертинка водки, настоенной на красном перце с чесноком: Ларцев, который обычно не пил, на рыбалке выпивал непременно и с большим удовольствием, потому что даже в летние ночи на подмосковных водоемах, особенно ближе к рассвету, становилось очень свежо и сыро.
Как только Ларцев вошел в квартиру и наскоро пообедал, он вместе с Вовкой — без Ларцев а тому категорически не разрешалось это делать — занялся последними приготовлениями.
Было решено захватить два спиннинга — двухручный для Ларцева и легкий, одноручный для Вовки, которого Ларцев уже начал приучать к этому виду рыболовного спорта. В специальную деревянную коробочку с внутренними гнездами Ларцев уложил отобранные блесны — ровно пятнадцать штук.
Затем были внимательно проверены десять кружков — Ларцев любил и этот вид рыбной ловли, — оснащенных плетеной леской, еще накануне старательно протертой олифой, чтобы она не намокала в воде. (К леске были прикреплены тонкие стальные поводки (чтобы щука не могла их перекусить, как это иногда бывает) с особыми грузилами и крючками — тройниками на концах, сделанными из белого металла. Крючки были тщательно отточены «бархатным» напильником и «липли» к коже. Самые кружки радовали глаз: они были выточены из пробки и эффектно окрашены в два цвета — белый и ярко-красный специальной нитрокраской, которая, во-первых, была очень красива и заметна на далеком расстоянии, а во-вторых, абсолютно не боялась воды.
Были также захвачены с собой оловянный глубомер, маленький шведский топорик с аккуратной резиновой рукояткой, экстрактор для извлечения крючка из рыбьей глотки, где он нередко глубоко застревал, подсачок и ручной электрический фонарь с сильной батареей, а также особая «охотничья» зажигалка с щитком, который выдвигался у самого фитиля и предохранял огонек от резких порывов ветра.
Наконец все сборы были закончены, и рыболовы двинулись в долгожданный путь. Нина Сергеевна и Ольга Васильевна крикнули с балкона традиционное «Ни пуха ни пера!», и машина резко выскочила из переулка и помчалась к Ярославскому шоссе по оживленным вечерним улицам столицы.
У шлагбаума за Рижским вокзалом и Сельскохозяйственной выставкой вытянулся длинный хвост машин, отвозивших пассажиров на дачи. (Тогда еще не был построен здесь мост.) Нетерпеливо пофыркивая незаглушенными моторами, машины, казалось, с тем же азартом, как и люди, сидевшие в них, стремились вырваться за черту города, где москвичей ожидали поля, свежий, насыщенный дыханием леса воздух, купанье в прохладной реке, преферанс на открытой, мягко освещенной веранде, за которой застыли, как часовые, темные сосны и плывут во мраке, как светляки, огоньки папирос проходящих мимо людей, а с соседних дач доносится музыка, всегда чуть загадочная и такая пленительная в ночном лесу.
Машины ждали долго, потому что за шлагбаумом проносились одна за другой электрички, битком набитые москвичами, тоже спешившими на дачи. В окнах ярко освещенных вагонов мелькали, как на экране, веселые, оживленные лица, нарядные, пестрые платья молодых женщин, юноши в теннисных рубашках с ракетками в руках, «дачные мужья» с многочисленными кульками и пакетами и, конечно, рыболовы с заплечными мешками и удочками в брезентовых чехлах.
Проскочив тридцать с чем-то километров, машина, наконец, свернула с дороги, ведшей от станции Правда до Тишкова, влево и по узкой просеке, вырубленной в густом лесу, подъехала к Дому рыбака.
Он стоял на берегу узкого, овальной формы, залива пестовского водохранилища. Между сосен темнели строения — дом директора, большой погреб для хранения рыбы, кухня с пылающей, бросавшей красные отсветы на стоявшие рядом деревья плитой, на которой рыбаки могли приготовить себе ужин, просторный деревянный дом, в котором рядами стояли койки для отдыха и маленькие двухместные «боксы», похожие на теремки из детской сказки.
На темной воде у мостиков тихо колыхались на приколе лодки, а выше, на пологом берегу, белели деревянные скамейки, на которых сидели, покуривая, рыбаки, отдыхая перед выездом на лов.
Поблизости, у других мостков, стоял в воде вместительный садок, кишмя кишевший живцами для насадки — окуньками, плотвой, пескарями и ершами, наловленными еще накануне бригадой Дома рыбака, в обязанности которого входило, помимо прочего, снабжение рыболовов живцами.
Оставив свою машину на специальной, вырубленной в лесу, площадке, Ларцев поздоровался с директором Дома рыбака Семеном Михайловичем, энтузиастом своего дела, забронировал за собою лодку, тридцать живцов, две деревянные бадейки для их хранения и присел покурить.
Стояла темная, свежая июньская ночь, пролив мерцал, как темное зеркало, в овальной раме окружавших его лесов, и в нем плясали звезды и огоньки фонарей «летучая мышь», зажженных рыбаками, уже возившимися в своих лодках.
На мостках у садка Семен Михайлович отпускал живцов, доставая их из воды длинным сачком и громко отсчитывая при желтоватом свете керосинового фонаря, подвешенного к деревянному шесту. Доносились громкие фразы:
— Но, но, ты мне одних пескарей даешь!
— Хорошему рыбаку и пескарь послужит…
— Ершей поменьше, Семен Михайлыч!
— Ерши живучи, садовая голова!
— Нынешним летом судак очень до плотвы охоч…
— Что плотва, чуть от берега отплыл, а уж она в бадейке уснула. Нежна чересчур.
— А ты сам не будь неженкой, воду почаще меняй.
Московские рыболовы любили свои подмосковные дома. По субботам съезжались в эти дома в Пестове, Ветеневе, на Истре, на озере Сенеж и многие другие тысячи членов общества «Рыболов-спортсмен».
Это были люди различных возрастов и профессий — пожилые академики и потомственные московские пролетарии — строгальщики, слесари и токари с автозавода, «Динамо». Трехгорки, инженеры и завмаги, директора трестов и вагоновожатые московского трамвая, знаменитые актеры и хирурги, имена которых знала вся страна. Почти все они знали друг друга по рыбалке, почти все были между собою на «ты», и уж абсолютно все были твердо уверены в том, что население Советского Союза делится, помимо прочего, на две категории: счастливых любителей рыбной ловли и лиц, не имеющих к ней никакого отношения, жизнь которых поэтому лишена радостей рыбалки.
— Папа, — подошел к Ларцеву Вовка, который не мог дождаться выезда на рыбалку, — время отчаливать.
— Едем, сынку, — ответил Ларцев и пошел за живцами.
Через полчаса он и Вовка сели в лодку и выбрались из залива на водоем, тянувшийся на несколько километров. Впереди их, по бокам и сзади плыли лодки других рыболовов, некоторые с огоньками фонарей на корме.
По неписаным законам рыбалки, все плыли, соблюдая торжественную тишину и разговаривая между собой шепотом, с тем особым, нарастающим волнением, которое так знакомо каждому рыболову: что-то будет, какой предстоит улов, какая ожидает добыча?
Ларцев любил распускать кружки в глубокой, естественной бухте, образовавшейся в левой части водоема. Там всегда было тихо, потому что крутые лесистые склоны, окаймлявшие бухту с трех сторон, охраняли ее от ветров, и, кроме того, там была значительная для этого водоема глубина — шесть метров, в которой нередко появлялся ночной хищник — судак, которого в Пестове было довольно много. Преимущества Пестова, с точки зрения Ларцева, заключались также в том, что здесь было много ершей, представлявших, по выражению одного академика, тоже страстного рыболова, «незаменимый ингредиент для ухи».
— Должен заметить, уважаемый Григорий Ефремович, — говорил этот академик, уже пожилой человек с румяным, обветренным лицом и озорной искрой в совсем еще молодых, умных глазах, — что в смысле ухи ерш есть царь-рыба. Никакие стерляди и хариусы не выдержат против нашего подмосковного ерша в «уховом», так сказать, смысле. Притом заметить должно, что уха без ершей, это все равно, что комната без мебели — уюта нет!
Тут академик непременно закуривал и, сделав несколько затяжек, продолжал:
— Ухи в ресторане, голуба моя, не признаю и не признавал. Ухе, как красивой женщине, оправа нужна: берег, поросший лесом, ивы. склоненные над самой водой, дымок костра, зорька. Тогда лишь уха по-настоящему и закипает, и навар дает, и всяческие набирает ароматы. А вокруг стоит тишина необыкновенная, благорастворение воздусей, запах хвои, одним словом, настоящая жизнь… Вот я, сердце мое, шестой десяток заканчиваю, уже склерозик подходящий нагулял и миокардидистрофию и нет-нет валидол пью, одним словом, уже зачислен в «валидольную команду инсульт-ура», а стоит на рыбалку выбраться, да как следует здесь надышаться — чувствую себя, как в тридцать лет… И валидол не нужен, и дышится легко, и, главное, появляется этакая нахальная уверенность, что впереди еще большая, великолепная жизнь, удачи в науке, встречи с интересными, умными людьми, необыкновенные путешествия, уйма хороших книг, и уйма крупных судаков, которых я еще не выловил, но которые мне, безусловно, положены…
И Максим Петрович — так звали академика — заливался таким могучим, заразительным хохотом, что с соседних лодок сначала раздавался недовольный ропот, а за ним дружный смех.
Ларцев очень любил этого жизнерадостного, умного человека, умевшего тонко понимать прелести рыбалки и так нежно и молодо любившего русскую природу, любил его веселый, с лукавинкой, взгляд, его чисто народный юмор и ту особую душевную непосредственность и простоту, которая всегда отличает настоящего, большого человека от случайно всплывшего на поверхность карьериста, чванливого и высокомерного ввиду хранимого в глубокой тайне ощущения собственного ничтожества.
Опытный следователь и тонкий психолог, Ларцев яростно ненавидел эту категорию людей, с их ложно значительным видом, наигранной «серьезностью», всегда почему-то надутых и важных, процеживающих каждое слово из боязни уронить свое достоинство, которого, в сущности, у них и не было.
* * *
Кружки были распущены в шахматном порядке и тихо покачивались на воде. Ночь становилась все свежее, и рыболовы решили, что надо согреться. Ларцев достал термос, налил себе и сыну кофе в стаканчики из пластмассы, нарезал баранину и хлеб, круто посолив его солью. Оба ели с большим аппетитом, как это всегда бывает на рыбалке.
Крепкий горячий кофе сразу принес приятную теплоту и бодрость. В ночном сумраке почти не были видны кружки, и за ними надо было следить «на слух». В первом часу ночи, когда Ларцев и Вовка уже заканчивали свой ужин, слева донесся характерный шлепающий звук.
— Перевертка! — воскликнул Ларцев и с бьющимся от волнения сердцем начал грести по направлению к тому месту, откуда донесся этот милый сердцу рыболова звук. Вовка, привстав на носу лодки, включил фонарь и осветил то место, к которому они спешили.
Через несколько секунд Вовка испустил ликующий вопль. В лучах электрического фонаря был ясно виден перевернутый набок кружок, который стремительно крутился: рыба сматывала с него леску, заглотав крючок и насадку.
— Левым! — почти простонал Вовка, указывая этим, как лучше подвести лодку к крутящемуся кружку. — Левым!
Ларцев сильно загреб левым веслом, и лодка приблизилась к кружку. Наклонившись из лодки, Ларцев схватил его в руки и сильно подсек леску, сразу почувствовав, как упруго ходит на ее конце тяжелая рыба.
— Есть, сынку! — вскричал Ларцев и начал лихорадочно, метр за метром, вытаскивать леску, бросая ее кольцами на дно лодки. — Подсачок готовь, подсачок!..
И вот почти у самого борта в голубоватом свете фонаря заиграла, как большое серебряное блюдо, крупная рыба. По тому, как она сравнительно спокойно шла за леской и не пыталась делать «свечку», то есть выпрыгивать из воды, с тем чтобы сразу обрушиться всей своей тяжестью на леску и так перервать ее, Ларцев уже знал, что пойман судак, а не щука.
Он еще сильнее подтянул рыбину к борту. Вовка мгновенно, с головы, подвел к судаку подсачок, взметнул его, и через мгновение на дне бился судак с широко растопыренными перьями, почти в полметра длиною.
— Живем, сынку! — снова закричал Ларцев и от полноты чувств и радости удачи поцеловал Вовку, а потом, по традиции, «обмыл» первого судака, приложившись к фляге.
— Пуд, не сойти мне с этого места, пуд! — восхищенно прошептал Вовка, не сводя глаз с затихшего судака и явно преувеличивая вес пойманной рыбы, что, впрочем, происходит, увы, со всеми рыбаками на свете.
Почин был сделан. Через полчаса была замечена вторая перевертка, и в лодке забился новый судак.
Часы Ларцева показывали ровно два часа ночи, когда сочно шлепнула третья перевертка. Снова был вытащен третий, на этот раз менее крупный судак. Вовка едва не заплакал от счастья.
Ларцев закурил, с наслаждением вдыхая ароматный дымок папиросы, крепкий, густо настоеиный ночной свежестью воздух, сильные запахи леса и трав, доносившиеся с близкого берега, и жадно вбирая всем сердцем эту целебную тишину, и эту смутно мерцающую воду, и это звездное, опрокинутое в огромную чашу водоема небо, и всю эту единственную, неповторимую и до последнего вздоха любимую землю.
В ту самую ночь и в тот самый час, когда следователь Ларцев, вытащив из воды третьего судака, закурил, в тот самый час командиры всех германских дивизий, бригад и полков, сосредоточенных у советских границ, вскрыли секретные, тяжелые от сургучных печатей пакеты, полученные накануне, на которых было написано:
Абсолютно секретно
КОМАНДИРАМ ДИВИЗИЙ, БРИГАД И ПОЛКОВ — ЛИЧНО РАСПЕЧАТАТЬ РОВНО В 2.00 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
По приказанию фюрера всякий, кто посмеет распечатать этот пакет хотя бы на три минуты раньше или позже предписанного часа, будет предан военно-полевому суду и казнен как государственный преступник.
Командир дивизии, расположенной на западном берегу реки Сан, генерал-майор Флик ровно в два часа ночи вскрыл секретный пакет.
В нем оказался личный приказ Гитлера, обязывавший все соединения германской армии, расположенные у советских границ, военно-воздушные силы рейха и его военно-морской флот ровно в 4.00 начать внезапное нападение на Советский Союз, бомбардировать с воздуха Львов, Минск и другие советские города и бросить на советские рубежи танки, артиллерию, мотопехоту и все другие виды оружия.
Приказ также обязывал командиров воинских соединений огласить его текст всему строевому составу гитлеровской армии ровно за час до начала нападения.
Флик прочел приказ, который, кроме часа и даты нападения, не был для него неожиданным, и приказал адъютанту поднять по боевой тревоге, но без всякого шума и по возможности скрытно, всю дивизию.
Флик вышел на берег Сана и посмотрел на мерцающую в ночном сумраке реку и загадочно темнеющий за нею противоположный, советский берег. Ночь свежая, безветренная, звездная июньская ночь неслышно летела над Саном, над Бугом и Днестром, над Западной Украиной и Западной Белоруссией, над заливами и озерами Прибалтики, погруженными в мирный, предпраздничный сон. Огромная страна, раскинувшаяся за этими рубежами, от Черного моря до Ледовитого океана, огромная, непонятная генералу Флику страна, населенная разными народами, нашедшими, однако, единый язык и единую мечту, загадочно молчала по ту сторону границ.
Что ожидает его, генерал-майора Флика, и его дивизию и сто шестьдесят девять других германских дивизий в этой непонятной стране? Как встретит ее народ непобедимую гитлеровскую армию, которая пока не знала поражений и завоевала почти всю Европу? И разумно ли лезть в берлогу к этому русскому медведю, у которого всегда оказывались сильные лапы? Не погорячился ли фюрер и не забыл ли он судьбу Наполеона, который выбрался еле живым из этой загадочной России и на ее студеных полях позорно закончил свой победный марш по всему свету? А если уж вспоминать историю, то разве не русские солдаты не так уж много лет назад завоевали ключи Берлина?
Генерал Флик был образованным человеком и хорошо знал военную историю. И вот она почему-то именно в эту ночь, когда он курил на берегу Сана, особенно ярко всплывала в его памяти и будила тревожные мысли и смутные, дурные предчувствия…
Совсем в другом настроении и совсем с иными мыслями смотрел в те же часы на советский берег господин Крашке, как известно, представлявший ведомство адмирала Канариса в дивизии генерала Флика.
Крашке вспоминал несчастье, происшедшее с ним в этой проклятой России, в результате которого он лишился дипломатического звания, был снижен по должности и отправлен на фронт. О, только бы живым добраться до Москвы!.. Тогда он сумеет рассчитаться с этими русскими за все свои обиды и унижения!..
Между тем дивизия скрытно, без огней и сигнальных труб, была поднята по боевой тревоге и выстроена, как на парад.
Генерал Флик обошел застывший строй дивизии, и затем командиры полков отчетливо и торжественно огласили приказ фюрера. Солдаты выслушали его молча — им было заранее запрещено кричать традиционное «Хох!» и «Хайль Гитлер!» из опасения, что это могут услышать советские пограничники.
В общем строю дивизии стоял и унтер-офицер германской армии Вильгельм Шульц, бывший механик завода «БМВ» в Эйзенахе, два года назад призванный в армию.
Никто в полку не знал, что Шульц был уже пять лет членом Коммунистической партии Германии, ушедшей в подполье после прихода Гитлера к власти. Десятки тысяч немецких коммунистов были замучены в гитлеровских концлагерях, вот уже много лет томился в застенках гестапо их вождь Эрнст Тельман, но партия продолжала жить и работать, и Вильгельм Шульц был одним из ее сынов.
Теперь, выслушав приказ фюрера и узнав, что через час на первое в мире государство рабочих и крестьян вероломно обрушится чудовищная гитлеровская военная машина, Вильгельм Шульц решил, что он, как коммунист, выполнит свой партийный долг. Мелькнула, как ожог, в его сознании мысль о судьбе семьи — жены и ребенка, но это не поколебало его решения.
И тут же, на глазах солдат, офицеров и самого генерала Флика, унтер-офицер Шульц как бы выпрыгнул из строя и с разбегу, не задумываясь и не останавливаясь ни на долю секунды, бросился в полном походном обмундировании в Сан и поплыл туда, к советскому берегу…
Господин Крашке первым пришел в себя. Он вырвал из рук ближайшего солдата автомат и дал из него очередь по плывущему Шульцу. Тот, даже не обернувшись, продолжал плыть, преодолевая течение. Крашке прицелился и послал ему вслед вторую очередь.
Пограничники Иван Бровко и Данило Рябоконь, бывшие в эту ночь в секрете на этом участке советского берега, услыхали выстрелы и разглядели в воде темное пятно — плыл человек, вокруг которого, противно повизгивая, шлепались пули автоматных очередей.
Бровко поднял трубку полевого телефона и доложил дежурному по погранзаставе о странном происшествии.
— Ни в коем случае не стрелять, — приказал дежурный, — сейчас я прибуду на место.
А Крашке давал очередь за очередью и в конце концов ранил Шульца, когда тот уже приближался к советскому берегу. Подоспевший дежурный старший лейтенант Тихонов, заметив, что плывущий человек уже с трудом держится на воде и загребает только левой рукой (как потом выяснилось, он был ранен в правую руку и грудь), приказал Ивану Бровко помочь ему, поскольку тот уже был в советской пограничной зоне. Бровко незаметно сполз вниз, подплыл к утопающему и на руках вынес его наверх.
— Брат! — простонал по-немецки Шульц. — Камрад, коммунист!
Не знал немецкого языка младший сержант Иван Бровко, но всем сердцем своим понял, что выносит на руках друга, единомышленника, брата…
Когда Шульца положили на берегу на плащ-палатку, он уже был без сознания, Тихонов послал за фельдшером, а пока сам сделал ему перевязку. Шульц хрипел и стонал, дыхание его было прерывистым и тяжелым, кровь пошла горлом. Тихонов осветил его карманным фонариком — перед ним лежал худощавый шатен лет тридцати, с измученным, но одухотворенным лицом человека, умирающего за свою идею.
Прибежавший фельдшер оказал ему первую помощь и впрыснул камфору. Умирающий открыл голубые, искаженные смертной мукой глаза.
Увидев склонившихся над ним советских пограничников, он, собрав последние силы, прошептал по-немецки:
— Друзья… Я коммунист… Через час война… Держитесь, братья!..
— Товарищ! — вскричал Тихонов, приподняв голову умирающего. — Товарищ!
Шульц улыбнулся, услышав это единственное русское слово, которое он знал, и потянулся рукой к звездочке, приколотой к фуражке Тихонова.
— Звезду хочет, товарищ старший лейтенант, звезду, — дрогнувшим голосом, едва сдерживая слезы, произнес Иван Бровко.
Тихонов снял фуражку и поднес ее к глазам умирающего: Тот строго посмотрел на звезду — так смотрят на святыню — и последним усилием приблизил к ней запекшиеся губы и поцеловал.
Через несколько секунд он скончался.
Тихонов снял с груди покойного маленькую, сделанную из пластмассы бирку и записал его фамилию и адрес.
Так за тридцать две минуты до начала Великой Отечественной войны пал смертью храбрых ее первый герой, немецкий пролетарий и коммунист Вильгельм Вольфганг Шульц.
Конечно, оставалось слишком мало времени, чтобы его предупреждение сыграло решающую роль. Но все-таки на этом участке границы успели поднять по боевой тревоге отряд, и он достойно встретил врага.
А старший лейтенант Тихонов пронес звездочку, которую поцеловал, умирая, его немецкий брат, через все годы, фронты и небывалые битвы этой страшной войны и, став в конце ее уже полковником, свято хранил эту звездочку как священный символ великого братства коммунистов во всем мире.
А когда окончилась война и над дымящимся Берлином заполыхало в весеннем небе знамя Победы, в первых числах мая 1945 года, полковник Тихонов выехал из Берлина в маленький немецкий город Эйзенах.
Машина Тихонова мчалась по широкой, выстланной бетонными плитами автостраде, дымились по краям дороги белым цветом яблони и вишни, мелькали красные черепичные крыши придорожных домиков, под которыми полоскались в голубом небе белые флаги. Мирное майское небо млело над Германией, только открывавшей глаза после затянувшегося на двенадцать лет кошмара, стоившего жизни многим миллионам людей.
Под мерный рокот мотора Тихонов вспоминал о только что закончившейся войне, боевых друзьях, похороненных им за эти годы, о пепелищах Сталинграда, Воронежа и тысяч других русских городов и деревень, о той незабываемой июньской ночи, когда он впервые услыхал о войне за тридцать две минуты до ее начала. И о том человеке, который, не задумываясь, отдал свою жизнь, чтобы предупредить своих русских братьев об этой войне.
Теперь Тихонов мчался в Эйзенах, чтобы тоже выполнить свой братский долг: найти семью Вильгельма Шульца и рассказать ей о том, как, где и за что он погиб…
Приехав в Эйзенах, Тихонов с большим трудом разыскал там вдову Шульца — Эрну Шульц, — только что освобожденную из концлагеря, куда она была заключена за подвиг своего мужа, и ее сынишку Германа, десятилетнего, голубоглазого, как его покойный отец, мальчугана.
Почти целый день провел полковник Тихонов в маленьком, убогом домишке на самой окраине Эйзенаха. Соседи, удивленные тем, что русский «герр оберет» уделяет такое внимание этой вовсе не знатной семье, ничего не могли понять, а вечером, когда Тихонов уезжал и его провожали Эрна и Герман, еще более удивились, увидев, как мальчуган, с глазами, полными слез, целует советского полковника, а тот, в свою очередь, не может от него оторваться и тоже подозрительно кашляет и вытирает платком глаза.
А когда машина Тихонова скрылась за поворотом и соседи подошли к фрау Эрне выяснить, что это был за странный визит, вдова им строго ответила:
— Герр оберет приехал, чтобы сообщить сыну Вильгельма Вольфганга Шульца, что его отец погиб как честный немец и настоящий коммунист.
И она, махнув рукой, ушла, пошатываясь, в дом.
А голубоглазый Герман показал своим сверстникам, не давая в руки, пятиконечную красную звездочку и, впервые не стыдясь своих слез, сказал так:
— Герр оберет отдал мне красную звездочку. За нее погиб мой отец. Теперь она моя, и, если потребуется, я тоже сумею за нее постоять…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. ДОРОЖНАЯ ВСТРЕЧА
Леонтьев проснулся оттого, что даже во сне ощутил на себе чей-то пристальный холодный взгляд. Но в купе международного вагона, кроме него, никого не было. Дверь по-прежнему была заперта, и на ней успокоительно позвякивала предохранительная цепочка. Поезд мчался, мягко постукивая на стыках рельсов. Было, вероятно, часов около трех. За темным окном куда-то стремительно летела ночь; выл ветер, изредка проносились тусклые огоньки разъездов и полустанков, смутно мелькали во мраке телеграфные столбы, словно кланяясь на лету.
Купе слабо освещалось синей ночной лампочкой, но и этого света было достаточно Леонтьеву, чтобы убедиться, что он один.
Заснуть уже не удавалось. Тревога, столь внезапно и властно разбудившая инженера, не проходила. По привычке, установившейся в последнее время, он прежде всего ощупал изголовье постели, проверяя, на месте ли портфель, в котором хранились некоторые расчеты его нового орудия. Портфель оказался на месте. Дверь была на замке. Ничего необычного не случилось. И все-таки Леонтьев явственно, почти физически, ощущал прикосновение чужого, холодного, внимательного взгляда, и эго очень тревожило его.
Тревога эта не была неожиданной для Леонтьева. В последние месяцы у него появилось ничем необъяснимое, беспокойное чувство: ему казалось, что он находится под чьим-то неослабным и настойчивым наблюдением. Началось это после того, как на завод пришло из Москвы сообщение о предстоящем испытании орудия, сконструированного Леонтьевым.
Может быть, именно потому, что новому орудию придавалось особое значение, конструктор в последнее время чувствовал постоянное острое беспокойство. Он был осторожен в знакомствах, сдержан в разговорах, вел замкнутый образ жизни. На заводе его окружали тщательно проверенные люди, которых Леонтьев знал много лет. Казалось, и на работе и лома ничто не давало оснований для беспокойства. И все-таки он никак не мог забыть того, что произошло в мае с его чертежами, и ему было не по себе.
Два дня назад, вечером, Леонтьев выехал в Москву, куда был срочно вызван для участия в первом испытании своего орудия. Он захватил с собой только самые необходимые расчеты. Человеку непосвященному, не располагающему остальными данными, эти документы сами по себе не могли ничего раскрыть. И все же директор завода, провожавший Леонтьева, шепнул ему на прощанье, чтобы он не забыл запереть дверь купе на предохранительную цепочку, а начальник спецотдела заставил Леонтьева захватить с собой маузер.
Первая ночь прошла спокойно. Леонтьев, уставший от множества хлопот, вызванных внезапным отъездом, спал, как в юности, беспробудно и сладко. Дирекция обеспечила ему отдельное купе, и он благодаря этому был освобожден от утомительной необходимости присматриваться к случайным попутчикам и быть все время настороже.
Утром Леонтьев проснулся и поглядел в окно. Поезд стоял на какой-то станции. Леонтьев быстро оделся и вышел прогуляться по. перрону. Портфель он захватил с собой. Уже выйдя из вагона, он почувствовал, что хочет курить, и вспомнил, что оставил портсигар в купе. Вернувшись в вагон, Леонтьев открыл дверь из тамбура в коридор и скорее ощутил, чем увидел, тень, скользнувшую из его купе в противоположный конец вагона. Леонтьев бросился к себе. Дверь купе, видимо, поспешно отодвинутая за мгновение до этого, еще качалась на своих роликах. Но в самом купе все было в порядке, и забытый портсигар мирно поблескивал на плюшевой подушке дивана. Чемодан тоже был на месте. Леонтьев бросился к окну, но, кроме спокойно гуляющих пассажиров, никого не увидел. Тогда он побежал к тамбуру, куда так быстро скрылась мелькнувшая тень: дверь в тамбур оказалась запертой. Леонтьев вызвал проводника и сказал ему, что какой-то неизвестный только что выбежал из его купе.
Проводник внимательно выслушал Леонтьева, а затем посмотрел на него пристально, как на человека, который, по-видимому, хватил лишнего.
— Не иначе, как вам померещилось, товарищ пассажир, — сказал он, наконец убедившись, что Леонтьев абсолютно трезв. — Может, со сна… Но только дверь в тамбур все время закрыта, и в коридоре не было ни души. А насчет вещичек не беспокойтесь, у нас не уведут. Мы с напарником днем и ночью дежурим. У нас насчет этого строго. Постель убрать или еще соснете?
После этого происшествия тревога уже не оставляла Леонтьева. День тянулся томительно и нудно. Вечером, выйдя в коридор, Леонтьев увидел своих соседок из смежного купе — двух дам, ехавших вместе с ним из Челябинска. Одна из них была уже совсем' старушка, с тонкими чертами когда-то красивого лица. Другая — молодая интересная женщина — была очень бледна и часто выходила в коридор курить. Дамы, повидимому, познакомились уже в пути: Леонтьев слышал, как они, разговаривая между собой, рассказывали друг другу о себе.
Пожилая дама была из Ленинграда. Она тревожилась о муже, который остался там и от которого она давно уже не имела никаких известий. Вторая пассажирка ее успокаивала.
— Право, не надо так волноваться, — говорила она очень мягко пожилой ленинградке. — Знаете ведь, как теперь с почтой. И потом, почему обязательно предполагать дурное? Ведь вы сами говорите, что у вашего мужа много друзей. Случись с ним что-нибудь, неужели бы вам не сообщили? Наконец, вас известили бы с места его работы. Поберегите себя, нельзя же без конца плакать. Тем более, что пока для этого нет никаких оснований…
— Чувствую, сердцем чувствую, дорогая, — отвечала сквозь слезы ленинградка. — Меня никогда не обманывало предчувствие. Нет уж, боюсь, не видать мне больше Сергея Платоновича… Как я его уговаривала поехать! Ведь и возраст уже почтенный, и здоровье уже не то… Ни за что не хотел. «Я, — говорит, — Маша, не уеду из родного города. Сорок лет в Технологическом институте провел и никуда отсюда не уеду».
Услышав имя Сергея Платоновича в связи с Технологическим институтом, Леонтьев насторожился. Он сам в свое время окончил этот институт и близко знал старейшего профессора кафедры сопротивления материалов Сергея Платоновича Зубова.
Леонтьев поколебался немного и обратился к разговаривающим дамам:
— Простите, — сказал он, — но я невольно услыхал ваш разговор. Не о Сергее ли Платоновиче Зубове идет речь? Я его отлично знаю.
Старушка удивленно посмотрела на Леонтьева, а затем приветливо ответила:
— Сергей Платонович Зубов — мой муж. А вы откуда его знаете?
— Как же, — ответил с радостью Леонтьев, — ведь я в Технологическом учился! Сергей Платонович — мой учитель и, смею сказать, старинный друг. Я и аспирантом у него в свое время был. Моя фамилия Леонтьев.
— Леонтьев? — взволнованно воскликнула женщина. — Коля Леонтьев? Голубчик вы мой, да я отлично знаю вас по рассказам Сергея Платоновича. Ведь вы были любимым его учеником! Он так часто вспоминал вас…
Завязался оживленный разговор, Леонтьев и Мария Сергеевна — так звали старушку — начали вспоминать давно минувшие годы, нашли множество общих знакомых, а потом заговорили о Ленинграде. Обоим взгрустнулось, оба повздыхали о любимом городе, а Мария Сергеевна не выдержала — всплакнула.
Леонтьев давно покинул Ленинград и уже несколько лет ничего не слышал о профессоре Зубове. Мария Сергеевна сообщила, что последнее письмо она получила от профессора три месяца тому назад и с того времени никаких сведений о нем не имеет. Леонтьев старался успокоить старушку, но она упорно твердила, что предчувствует недоброе.
Мария Сергеевна познакомила конструктора со своей спутницей, Натальей Михайловной, которая оказалась женой одного московского врача. Наталья Михайловна тактично отошла в сторону, когда старые ленинградцы предались воспоминаниям, а потом все трое перешли в купе к дамам, мигом соорудившим легкий ужин. У Леонтьева нашлась бутылка вина, и в общем получилось очень мило. Мария Сергеевна даже сразу как-то помолодела; она оказалась весьма живой и умной собеседницей и очень понравилась Леонтьеву. Симпатична была и Наталья Михайловна — застенчивая, тихая, немногословная женщина.
Был уже первый час ночи, когда Леонтьев пожелал дамам спокойного сна и ушел к себе в купе. Но, странное дело, едва он остался один, как какое-то смутное, тяжелое беспокойство овладело им. Он запер дверь, разделся, выкурил папиросу, попытался вновь перебрать в памяти воспоминания далеких студенческих лет, но сильная тревога, переходившая в страх, неустанно томила его.
«Что со мной делается? — спрашивал себя Леонтьев. — Что это: нервы, усталость? Или в самом деле меня подстерегает какая-то беда, какое-то огромное несчастье?»
Так и не ответив себе на этот вопрос, он, наконец, уснул тяжелым, тревожным сном человека, не знающего, что принесет ему пробуждение.
И вот поздно ночью его внезапно разбудило явственное ощущение чьего-то пристального, цепкого взгляда. Леонтьев сел и начал размышлять, откуда за ним могли наблюдать. Он открыл дверь в коридор, но там никого не было. Легкий шорох в туалетном отделении привлек его внимание. Он неслышно подошел к двери этого отделения и сразу с силой рванул ее. За дверью, прислонясь к умывальнику, стояла Наталья Михайловна.
— Простите меня, бога ради, — сказала она, — я хотела посмотреть, не спите ли вы, и, вероятно, мой взгляд разбудил вас. Нет ли у вас пирамидона? У Марии Сергеевны страшно разболелась голова. Встреча с вами, по-видимому, взволновала ее.
— К сожалению, нет, — ответил Леонтьев, сразу успокоившись. — Может быть, спросить проводника?
— Не беспокойтесь, голубчик, — донесся из купе слабый голос Марии Сергеевны, — мне, кажется, становится легче. Ложитесь-ка лучше спать. И вы, Наталья Михайловна, тоже.
Москва встретила Леонтьева обычной сутолокой, воем автомобильных сирен и каким-то новым, суровым обличьем. На улицах было много военных, все куда-то деловито спешили, почти у всех были сосредоточенные, даже немного хмурые лица.
У вокзала Леонтьева ожидала машина, присланная за ним из наркомата. Инженер предложил своим спутницам подвезти их. Наталья Михайловна отказалась: ее встречал какой-то родственник, а Мария Сергеевна попросила подвезти ее до гостиницы «Москва», где она рассчитывала остановиться и где Леонтьеву был забронирован номер.
В гостинице конструктор простился с Марией Сергеевной; они договорились созвониться по телефону. Умывшись с дороги, Леонтьев вышел на улицу и поехал в наркомат, где его уже ожидали.
2. ИСПЫТАНИЕ
Испытание орудия началось ровно в десять часов на одном из подмосковных полигонов. К этому времени собрались представители наркомата, несколько генералов-артиллеристов, инженеры и рабочие орудийного завода, изготовившего опытный образец.
Леонтьев приехал раньше всех. Он проинструктировал орудийный расчет и сам проверил, как работают вспомогательные приборы. Весь предыдущий день Леонтьев провел на заводе, придирчиво рассматривал орудие, ругался с инженерами, заменившими какую-то латунную деталь лафета нержавеющей сталью, — и ругался зря. Для орудия и его поражающих свойств это не имело решительно никакого значения, но Леонтьеву хотелось, чтобы его первенец, помимо прочего, был еще и красив.
И вот, наконец, наступила эта долгожданная, радостная и волнующая минута. Все собрались у орудия. Разговоры затихли, Леонтьев снял с орудия чехол, осторожно, как покрывало с ребенка, который, наконец, уснул и которого нельзя будить. Огромный серый ствол строго всматривался в далекий горизонт. Один из собравшихся заглянул внутрь ствола, чтобы посмотреть нарезку и только молча покачал головой: никакой нарезки внутри ствола не было.
— Тут совсем другой принцип, товарищ генерал, — улыбнулся Леонтьев, заметив его недоумение. — Разрешите начинать?
— Пожалуй, начнем, — сказал представитель наркомата.
Все, кроме Леонтьева, отошли от орудия. Леонтьев нажал кнопку управления, и снаряды, уложенные на ленту, похожую на заводской конвейер, с мягким шорохом понеслись в раскрывшуюся магазинную часть орудия.
Через секунду фантастические огненные шары с душераздирающим скрежетом полетели в воздух, с воем вспыхивая и разрываясь на лету. В багровом пламени разрывов возникали бесчисленные вспышки, и казалось, огненные языки, стремительно множась, зажгут весь горизонт.
Орудие откатывалось назад и возвращалось на место, выбрасывая все новые и новые снаряды, вздрагивая, как живое.
Через несколько минут объекты обстрела, расположенные на расстоянии нескольких километров от орудия, были полностью уничтожены.
Леонтьев стоял бледный, не отрывая глаз от своего первенца. Он был влюблен в этот плод своего конструкторского таланта, в котором гармонически сочетались достижения советской физики, химии и баллистики.
Когда все стихло, члены испытательной комиссии подошли к конструктору. Никому не хотелось начинать с банальных поздравлений: настолько все были взволнованы и потрясены. С минуту царило неловкое молчание, но сам Леонтьев даже не замечал этого: он был целиком погружен в свои расчеты и в свои мысли и сомнения. Как всякий одаренный человек, он никогда не удовлетворялся достигнутым, и сейчас, убедившись в безотказной работе орудия, он уже думал о том, как увеличить вдвое, втрое, в несколько раз его скорострельность.
Наконец один из генералов подошел к Леонтьеву, молча обнял его и поцеловал.
— Спасибо, — тихо, почти шепотом, сказал он. — Четверть века отдал я артиллерии, на до сих пор ничего подобного не видывал, ни о чем подобном не слыхивал и, каюсь, ни о чем подобном не мечтал.
И, обращаясь к остальным, добавил:
— Думаю, что испытание можно считать законченным. Теперь главное — запустить орудие в серийное производство.
Уже на обратном пути в город один из инженеров наркомата, ехавший в машине вместе с Леонтьевым, вдруг спросил:
— А вы меня, товарищ Леонтьев, не узнаете? Ведь я тоже Техноложку кончил. Правда, вы были на два курса старше, но я помню вас отлично. Вы ведь потом аспирантом были у Зубова. Хороший был старик.
— А что с ним? — сразу спросил Леонтьев.
— Он умер уже во время войны, — ответил инженер. — Сначала супруга его скончалась. Мария Сергеевна, славная такая была старушка, ну, а потом и сам старик не выдержал; после смерти жены он очень горевал…
— Позвольте, — перебил его Леонтьев, ничего не понимая. — Ведь жена Зубова жива, да и сам он еще три месяца назад писал ей…
— Что вы! — возразил инженер. — Об их смерти мне рассказывал товарищ, он был их соседом по дому.
Леонтьев с трудом удержался от рассказа о своей дорожной встрече. Потом он подумал, что все это очень подозрительно и странно, и решил сообщить в следственные органы об этом необычном случае.
Приехав в гостиницу, он прежде всего подошел к дежурному администратору и спросил, в каком номере живет гражданка Зубова. Администратор проверил по книге и ответил:
— Зубова Мария Сергеевна, жена профессора из Ленинграда, занимает пятьсот шестой номер.
«Что же это такое? — размышлял Леонтьев, придя к себе в номер. — Кто из них лжет? Зубова или этот инженер из наркомата? Правда, инженер говорит с чужих слов. Но если он прав, то кто же в таком случае эта старушка и зачем она присвоила себе имя умершей? Где она получила паспорт Зубовой? Ведь в гостинице могут прописать только по паспорту».
Первой мыслью Леонтьева было поехать в НКВД и там рассказать обо всем. Но потом он решил, что это преждевременно и серьезных оснований для обращения в НКВД у него пока нет, да и женщина эта всем своим обликом внушала ему полное доверие.
«В самом деле, — думал он, — ничего ведь еще не произошло, ничего со мной не стряслось, может быть, все это — недоразумение или, наконец, выдумка этого инженера, которого, кстати, я решительно не помню… Стоит ли, не посмотрев в святцы, трезвонить во все колокола? Подумают, что я нервный идиот. Нет, не пойду».
И не пошел.
Устав после испытания орудия и всех связанных с этим волнений, Леонтьев прилег отдохнуть. Но едва он задремал, как его разбудил телефонный звонок. Леонтьев взял трубку и услышал голос Марии Сергеевны.
— Куда же это вы, голубчик, запропастились? — спросила она с добродушной простотой, которая так шла к ней. — Небось, нашли более молодую даму?
Леонтьев объяснил, что был занят делами, и в свою очередь спросил, нет ли каких-либо вестей о Сергее Платоновиче.
— Пока ничего не знаю, — ответила Мария Сергеевна. — Обещали мне общие знакомые навести справки, да ведь это теперь не так-то просто. Подожду еще несколько дней, а там буду хлопотать о разрешении ехать в Ленинград, несмотря на блокаду. А вы что делаете? Не зайдете ли чайку попить? У меня с собой банка варенья, еще довоенного; приходите — угощу.
Леонтьеву было интересно с ней поговорить, и он принял приглашение. Мария Сергеевна встретила его по-домашнему, в капоте.
Сидя против этой пожилой женщины, слушая ее добродушную болтовню, глядя в ее милое, спокойное, открытое лицо со смеющимися глазами и какими-то ласковыми, совсем материнскими морщинками, Леонтьев пришел к выводу, что инженер неправ и что Мария Сергеевна — именно то лицо, за которое она себя выдает. Эта уверенность особенно окрепла после того, как Мария Сергеевна в разговоре, вновь вернувшись к своим семейным делам, обнаружила такую осведомленность о привычках и характере Зубова, какою мог обладать только близкий ему человек. В разговоре она — это пришлось кстати — достала из чемодана и показала Леонтьеву портрет Сергея Платоновича Зубова.
С другой стороны, Леонтьев заметил, что она не проявляла ни малейшего интереса к его делам и, по-видимому, даже не представляла себе, что он давно перешел от научно-исследовательской деятельности к работе в военной промышленности.
Просидев у Марии Сергеевны около двух часов, Леонтьев, наконец, простился с нею и, вернувшись к себе в номер, немедленно лег спать.
3. ДЕЛА ТУРЕЦКИЕ
В тот самый день, когда состоялось испытание нового орудия и когда, вернувшись вечером от Марии Сергеевны, Леонтьев лег спать в своем номере, — в тот самый день, около семи часов вечера, экспресс Стамбул — София подошел к небольшому дебаркадеру Софийского вокзала. Как всегда по прибытии заграничного поезда, чинные болгарские полицейские вошли в спальный вагон и получили у толстого проводника в коричневой униформе паспорта приехавших иностранцев. На этот раз их приехало немного — человек пять, в том числе два немецких инженера с явно военной выправкой, турецкий журналист с лицом продавца порнографических открыток, какой-то толстый, весь лоснящийся грек и румынский коммерсант Петронеску, поджарый, немолодой уже человек с большим рубцом на левой щеке.
Старший из полицейских, взяв под козырек, приветствовал приезжих и объяснил им, что паспорта они получат на следующий день в управлении софийской полиции, причем если господа не пожелают утруждаться, то могут прислать кого-либо из сотрудников гостиницы, в которой «почтенным приезжим угодно будет остановиться». Поблагодарив вежливого полицейского, Пегронеску вышел на перрон. Носильщик, мальчишка лет тринадцати в пестро заплатанных штанах, нес за ним чемодан.
Выйдя на перрон, Петронеску закурил. Он давно не был в Софии и не очень любил этот город. Последние месяцы он прожил в Турции, которую знал хорошо. Приходилось бывать там ему еще и в дни своей молодости, в период войны 1914–1918 годов.
В Софию он выехал внезапно. Еще вчера, стоя на перроне вокзала в Стамбуле, Петроыеску мысленно прощался с этим городом. Обстоятельства складывались таким образом, что надо было на некоторое время исчезнуть из него, не говоря уже о делах, которые ждали в Софии. Вечерний Стамбул дымился в лучах заката. Огромное красное солнце купалось в Золотом Роге. Белые румынские пароходы, застигнутые войной в Стамбульском порту и застрявшие там до лучших времен, чуть покачивались на якорях. Город шумел, суетился, пел, смеялся, плакал, бранился и блистал всеми цветами радуги. К пристани в Галате со всех сторон ползли через бухту юркие канареечного цвета пароходики, или, как их там называют, шеркеты. Новый город амфитеатром спускался к набережным, струясь разноцветными потоками улиц, автомобилей и маленьких вагончиков трамвая, похожих издали на майских жуков.
На привокзальной стороне, у моста, еще кипел Рыбный базар. На нем толкались, ссорились, шумели, торговались, кричали на всех языках турки, греки, левантинцы, армяне, евреи, румыны. На прилавках, лотках и в палатках переливались всеми цветами радуги апельсины, финики, маслины, битая птица, омары величиной с доброго поросенка, морские петухи с лазоревыми плавниками, рыба-меч с длинными, в метр, костяными, похожими на рапиры, носами, плоская одноглазая коричневая камбала, золотистая барабулька и прочие дары трех морей — Черного, Мраморного и Средиземного. Во всех направлениях быстро шагали грузчики, тащившие на плечах огромные плетеные корзины со всякой морской живностью, только что подвезенной на рыбачьих фелюгах.
В другой части базара торговали смирнскими коврами и розовым маслом, дублеными кожами и цветными шалями, медными сковородами и чайниками, древними, зелеными от старости монетами, пестрыми ситцами и шелками.
От шума и гортанных выкриков, разноцветных костюмов, многокрасочных тканей, корзин, палаток и мешков, суеты и многоголосицы, острых рыбных и фруктовых запахов, назойливых, требующих подаяния нищих и гнусавого завывания розничных торговцев туманилась и тяжелела голова и весь базар вдруг начинал зыбко колыхаться в глазах, как будто на нем внезапно забушевал шторм. Волны лиц и звуков, цветов и запахов захлестывали одна другую и, пенясь, как море, били прибоем в прилегающие к базару кривые, вонючие улицы старого города.
Да, господин Петронеску любил этот город! Разноязычная многоликая толпа шумно струилась по его оживленным улицам. Турки и греки, немцы и французы, румыны и итальянцы — кого только не занесло сюда в эти бурные военные годы!
Был на исходе апрель 1942 года. Война была в самом разгаре! На востоке советская и германская армии схватились в смертельном поединке на протяжении тысячекилометрового фронта. Шли сражения, невиданные в истории по своим масштабам, ожесточению и потерям. И в мире не было точки, откуда бы не следили с трепетом и тревогой за исходом этого гигантского поединка, в котором решались судьбы мира. Да, теперь это уже было понятно каждому: судьбы мира решались на этих, обагренных кровью, русских полях.
Турция формально не участвовала в войне. Но под прикрытием пышных заявлений о строгом нейтралитете, миролюбии и объективности турецкие дипломаты вели двойную игру. На всякий случай они заигрывали с обеими сторонами, не зная еще, на чьей стороне будет победа. Пристально следя за ходом военных событий, любезно улыбаясь и расточая льстивые заверения и тем и другим, турки решили присоединиться в самом конце войны к тем, кто выйдет в победители. Для этого было необходимо выждать, но и не проморгать нужный момент, когда, с одной стороны, уже окончательно выяснились бы перспективы, а с другой — вступление в войну еще выглядело бы достаточно эффектно.
Вести эту политику было совсем не легко. Господин Сараджогло, турецкий министр иностранных дел, балансировал, как мог. Прямо из приемной немецкого посла фон Папена он мчался в приемные послов союзной коалиции. Путь был недлинным — все посольства расположены в Анкаре в одном квартале, на одном и том же бульваре Ататюрка, — но сложным и скользким до чрезвычайности. Едва успев принести поздравления по поводу успехов немецкого оружия сухощавому, седому, подозрительному фон Папену, старому дипломатическому волку и разведчику, надо было приятно улыбаться советскому послу в связи с разгромом немцев под Москвой и успешным контрнаступлением советских войск. А главное — под шумок всех этих поздравлений, пожеланий и приветствий приходилось делать и осторожные заверения: дескать, турки всей душой с вами уже сегодня, но недалек день, когда к упомянутой душе присоединятся и полтора миллиона турецких аскеров в полном походном снаряжении и с отличной выправкой. Под эти витиеватые и туманные обещания очень хотелось урвать, что возможно.
Заигрывая с обеими сторонами, турки тянулись к немцам. Они секретно обещали Гитлеру выступить против СССР сразу после того, как будет занят Сталинград. Германия настаивала на немедленном вступлении Турции в войну, тем более что к тому времени мечты о «блиц-криге» были окончательно развеяны, но турки упрямились и твердили одно — после Сталинграда, после Сталинграда. Не помогли обещания дать паровозы, самолеты, танки. Для того, чтобы ускорить вступление Турции в войну, надо было что-то придумать…
В этой мутной турецкой воде развелись самые фантастические рыбы, и удить их съехались любители со всех концов света. «Мирный» Стамбул кишмя кишел шпионами, спекулянтами, международными авантюристами, шулерами европейского класса, кокотками всех мастей и расценок, поставщиками оружия и документов, содержателями публичных домов и специалистами по дезинформации, представителями Ватикана и торговцами живым товаром. Все отели и рестораны от Пера до Галаты были переполнены. Аппараты военных и морских атташе увеличились до предела. Спрос на дачи в Бююк-Дере — дачной местности в районе Стамбула, против Босфорского пролива — возрос необыкновенно: из Бююк-Дере узкий пролив просматривался невооруженным глазом от берега до берега.
В этой обстановке господин Петронеску плавал свободно, как рыба в воде. Немецкая разведка, в которой он работал, чувствовала себя в Анкаре и Стамбуле, как на Фридрихштрассе; гестапо имело в Турции, почти официально, свое отделение, издавало для Турции свою газету, не считая полдюжины подкупленных изданий, заводило обширные связи среди турецких правительственных чиновников, широко распространяло фашистскую литературу. Господин фон Папен до такой степени воспылал любовью к турецкому народу, что у себя в посольстве устраивал специальные приемы для турецких шоферов, механиков, железнодорожников, лично приветствуя этих скромных тружеников. На приемах демонстрировалась немецкая кинохроника, наглядно показывавшая непобедимость германского оружия и радужные перспективы, которые сулит всем народам «новый порядок». Немецкие «специалисты» успешно проникали в турецкие учреждения, банки и предприятия.
И все шло хорошо, пока в Берлине, нетерпение которого усиливалось с каждым днем, не решили применить для ускорения событий испытанный прием — организовать покушение на немецкого посла в Турции, приписав это, разумеется, большевикам. Мыслилось, что выстрел в Папена или еще современнее — взрыв бомбы, брошенной в него днем в самом центре, на бульваре Ататюрка, прямо под окнами посольств всего мира, должен наконец вынудить турок сделать решительный шаг.
Когда этот план был доложен Гитлеру, он утвердил его без всяких колебаний, подчеркнув одно условие: Папен должен остаться невредим. Специалисты из гестапо поморщились — такая установка крайне усложняла операцию. Признаться, они рассчитывали, что фюрер, учитывая важность, а также мировое значение задуманной инсценировки, пойдет и на то, что старый фон Папен отправится на тот свет. Это, конечно, сразу придало бы всей операции достаточный эффект. Но приказ есть приказ, и пришлось скрепя сердце продумывать такие детали «покушения», которые обеспечили бы невредимость сухопарого Папена без ущерба для общей эффективности инсценировки.
После того как план был разработан во всех деталях, фюрер приказал ознакомить с ним будущего «потерпевшего». Специально прибывший из Берлина уполномоченный явился в кабинет фон Папена. На столе посла была разложена карта бульвара Ататюрка. Вот тротуар, по которому Папен ежедневно совершал свой традиционный моцион. Вот столб, у которого его должен был поджидать злоумышленник. Отсюда тот направится навстречу послу. Здесь злоумышленник к нему подойдет. Два выстрела, разумеется, мимо, и третий — в пакет с бомбой, которую бедняга будет держать в руках. Сразу после второго выстрела господин посол должен упасть на тротуар, поближе к краю, чтобы его не задела взрывная волна. Через три минуты должна подоспеть машина из посольства, которую вызовет самокатчик немецкого посольства, «случайно» проезжавший в этот момент на своем мотоцикле в этом районе. Злоумышленника, разумеется, разорвет в клочья. Но он этого не подозревает, полагая, что выстрел вызовет лишь дымовую завесу.
Фон Папен, отлично изучивший кухню такого рода операций (он сам не раз проделывал их еще в прошлую войну, будучи немецким дипломатом в США, где он возглавлял всю диверсионно-разведывательную работу и где, в частности, прославился широко задуманной и великолепно реализованной операцией по организации взрывов американских пароходов, направляемых из Нью-Йорка в Европу с грузом снарядов для англо-французских войск), с большим интересом ознакомился с планом. Он даже в первый момент, когда ему сообщили о решении организовать на него «покушение», ничем не проявил ни удивления, ни испуга, хотя в глубине души, хорошо зная своего фюрера, не исключал смертельного исхода инсценировки…
— Если фюрер счел это целесообразным, — медленно протянул он, — то моя жизнь к его услугам…
— Господин Папен, я не совсем понимаю вас, — поспешно возразил приехавший из Берлина уполномоченный, — о вашей жизни не может быть и речи — она слишком дорога фюреру и Германии. Мы потому и докладываем план во всех деталях, чтобы решительно исключить какие бы то ни было случайности и чтобы вы шли в этот день на прогулку так же спокойно, как всегда.
— Случайности, мой друг, вовсе исключить невозможно. Особенно в подобных случаях. Но во время такой войны не думают о случайностях…
Тем не менее господин фон Папен посвятил плану несколько часов. Он взвесил самые мельчайшие детали, внес свои предложения и даже написал текст фразы, которую он должен будет произнести сразу после покушения в присутствии прибывших турецких полицейских: «Эта бомба предназначалась для меня, но господу было угодно сохранить мою жизнь для Германии. Уверен, что взрыв — дело этих нечестивцев» (гневный жест в сторону здания советского посольства).
В конце совещания — был уже поздний вечер — господин посол увлекся до такой степени, что, невзирая на возраст, подагру и седины, трижды шлепался на ковер, изображая момент и угол падения, потерю сознания, временное забытье, первый стон и вздох облегчения, медленный подъем и обращение к полицейским и случайным очевидцам. Проделано это было артистически, в духе старой романтической школы, с придыханиями и трагическим шепотом. Уполномоченный пришел в восторг.
После этого работа закипела. Два агента немецкой разведки — студент Абдурахман, педераст и кокаинист, и парикмахер Сулейман, тупой, туго и медленно соображающий парень, были намечены как будущие обвиняемые — свидетели обвинения против русских, которые якобы действовали с ними сообща. Третий, исполнитель покушения, по хитро задуманному плану, должен был погибнуть при взрыве бомбы, которую он держал в руках и в которую сам должен был выстрелить. Этот третий в дальнейшем должен был проходить, по показаниям Абдурахмана и Сулеймана, как их друг Омер, которого вместе с ними якобы привлекли к покушению на фон Папена советские граждане Павлов и Корнилов.
Дело осложнялось тем, что как Абдурахман, так и Сулейман никогда не видели Павлова и Корнилова. Пришлось Абдурахмана и Сулеймана вывезти из Анкары в Стамбул, где агент гестапо часами гулял вместе с ними у здания советского консульства. Несколько раз он им показывал Павлова и Корнилова, выходивших из здания. Затем им были показаны фотокарточки Павлова и Корнилова, добытые в стамбульской полиции.
После этого началась подготовка будущих показаний Абдурахмана и Сулеймана. Оба с трудом усваивали заданный текст, путались в деталях, плохо запоминали. В таком виде их было опасно выпускать на гласный, открытый судебный процесс, который должен был явиться апофеозом всей инсценировки. Их могли сбить Павлов и Корнилов, и они могли окончательно запутаться. Дни проходили, а дело шло из рук вон плохо. Берлин уже начинал нервничать — дела на фронте становились все хуже, и надо было торопиться с этими упрямыми турками.
Уполномоченный из Берлина, в свою очередь, начинал терять терпение. Он набрасывался на участников подготовки с угрозами и бранью. Но это не способствовало успеху дела. Тогда берлинский уполномоченный решил привлечь к этому делу господина Петронеску, находившегося в это время в Стамбуле.
Господин Петронеску, узнав о новом поручении, потерял обычную живость: черт возьми, на этом деле можно раз и навсегда подорвать престиж, заработанный с таким трудом на протяжении десятилетий! Проклятые Абдурахман и Сулейман были тупы, как ишаки, и, кажется, глупели с каждым днем. Так, например, Сулейман, который уже, казалось, начал запоминать тексты своих будущих показаний на следствии и в суде, вдруг обратился к господину Петронеску с таким идиотским вопросом:
— А что, если русские скажут, что они меня никогда не видели и не знали?.. Они могут так сказать?
— Конечно, могут, — ответил господин Петронеску, еще не понимая, в чем смысл вопроса, — они так и скажут, ведь так и было на самом деле, вы же это знаете… Ну и пусть говорят. Вам какое дело?
— Так ведь все поймут, что мы говорим неправду. И нас могут осудить за ложные показания, — закончил свою мысль Сулейман.
Господин Петронеску едва удержался от смеха. Этот кретин Сулейман боялся, что его осудят за ложные показания, даже не понимая, что ему грозит виселица как раз в том случае, если суд поверит его показаниям. Вот с таким быдлом приходилось работать, подготовляя мировую сенсацию! Нет, надо было любыми путями избавиться от участия в этом деле.
Однажды ночью господина Петронеску осенила великолепная мысль: на будущем судебном процессе Абдурахмана и Сулеймана следовало подпереть умным юристом. Надо было подобрать надежного адвоката, который вел бы процесс умело и ловко. Среди агентов немецкой разведки был один турок-юрист, некий Захир Зия Карачай. В свое время он получил образование в Германии и еще в студенческие годы был завербован гестапо. Теперь этот проходимец проживал без определенных занятий в Анкаре и использовался для всякого рода третьестепенных поручений. В адвокатуре он не состоял, так как не имел своей адвокатской конторы, без чего, по турецким законам, не мог быть зачислен в это сословие. Но он знал немецкий и французский языки, был пронырлив и мог быть полезен как мелкий шпион, провокатор и посредник во всяких грязных делах. Кроме того, он недурно подделывал подписи.
При всем том это был человек проверенный, на все готовый и как-никак юрист по образованию. Господин Петронеску доложил свой план уполномоченному. Тот снесся с Берлином и получил одобрение. Захира Зия Карачая надо было срочно производить в адвокаты. Средства, необходимые для открытия конторы, были ему переведены. И он был принят в анкарскую коллегию адвокатов. Увы, только значительно позже, уже в ходе судебного процесса, выяснилось, что сделано это было грубо: средства на открытие конторы были перечислены на имя Захира Зия Карачая через банк прямо со счета немецкой фирмы, которая была известна как филиал гестапо. Но кто мог думать, что дотошные русские докопаются до такой мелочи! Казалось, что никому и в голову не придет выяснять, кто дал деньги Карачаю и почему он стал адвокатом как раз перед покушением на фон Папена.
Однако до процесса все шло благополучно. Карачай отлично понял свою задачу, приобрел себе шелковую адвокатскую мантию и старательно зубрил полученные из Берлина инструкции.
Когда все уже было подготовлено, господин Петронеску внезапно получил приказание немедленно выехать из Стамбула в Софию. Для «покушения» он уже не требовался, а в Софии его ждало новое и очень серьезное поручение.
И вот он в Софии. О возвращении в Стамбул пока нечего было и думать. Там теперь обойдутся без него, а здесь он нужен до крайности. Правда, и в Софии можно было недурно работать.
Так размышлял господин Петронеску, выйдя из вагона на перрон Софийского вокзала. Вечерняя София встретила его сдержанным гулом плохо освещенных улиц, резкими выкриками газетчиков, глухим кряканьем таксомоторов и заунывными стонами редких трамваев.
Турция, маленькая, с претензией на мировую столицу, провинциальная Анкара, ярко освещенный Стамбул — все это оставалось позади, было уже почти пройденным для господина Петронеску этапом. Впереди — София, новое, очень ответственное и опасное поручение, а следовательно, новые награды и, главное, деньги, деньги, деньги…
Улыбаясь этим перспективам, господин Петронеску окончательно стряхнул груз воспоминаний и двинулся вперед, в город.
«Черт с ним, со Стамбулом, — подумал Петронеску, — здесь будет не хуже».
Подозвав такси, он отправился в один из городских отелей.
Вечером «румынский коммерсант» встретился с владельцем немецкого кинотеатра, пожилым человеком неопределенной национальности. В маленьком кабинете, расположенном за кассой театра, они долго сидели вдвоем, беседуя, как старые знакомые. Они и в самом деле давно и близко знали друг друга — смуглый, худощавый господин Петронеску, румынский подданный, и тучный, страдающий одышкой господин Попандопуло, человек с бычьим затылком и квадратным подбородком, немец по внешности, грек по паспорту, турок по манерам, кинопредприниматель по вывеске и черт его знает кто на самом деле.
Софийские полицейские чиновники, когда заходила речь о господине Попандопуло, почему-то многозначительно улыбались, но охотно свидетельствовали его бесспорную благонадежность и коммерческую солидность.
Впрочем, господину Петронеску вовсе и не нужно было наводить справки в полиции о господине Попандопуло. Оба они, повторяем, знали друг друга давно и знали отлично. Вот почему их беседа, хотя они и не виделись года три, не была перегружена взаимными расспросами, восклицаниями и отступлениями. Нет, беседа их, что называется, с места набрала нужную скорость. Петронеску сказал, что прибыл в Софию к «русским друзьям», что пора восстановить старые связи, что «дома жалуются на трудности работы» и что им обоим, то есть ему и Попандопуло, поручено довести до конца отсюда одно небольшое «московское дельце».
Попандопуло поморщился и заметил, что, как это хорошо знают «дома», и у него есть в Софии свои дела, что трудности тут немалые и что его поэтому удивляет, почему «московскими делами» надо ворочать из Болгарии.
— Вы не учитываете, господин Попандопуло, — возразил ему Петронеску, — что в военное время всегда легче работать на нейтральной территории. И, кроме того, так приказано.
Попандопуло сообщил собеседнику, что белоэмигрантская колония в Софии совсем уже не та, что раньше. Старики одряхлели, погрязли в собственных нехитрых делах — ресторанчики, чайные, лавчонки, — а молодежь ненадежная, дух в ней не тот, кое-кто даже открыто сочувствует Красной Армии.
— Признаться, — продолжал он, — я с ними особенно и не возился. Когда было предписано найти добровольцев для фронта, я кое с кем встретился, поговорил. И слушать не хотят, мошенники.
Петронеску сидел молча и о чем-то напряженно думал. Потом он разъяснил своему собеседнику, что ему нужно не так уж много народу. Главное — он хочет найти здесь верное место для связи с Москвой и для того, чтобы руководить отсюда выполнением одного специального задания. Попандопуло осторожно спросил, о каком задании идет речь.
— Бели нужно кого-нибудь ликвидировать, — добавил он, — то у меня есть на примете один экземпляр. Готов на все. И в случае чего — не жалко…
— Нет, тут совсем иное дело, — ответил Петронеску, — работа очень тонкая, можно сказать, научная. «Дома» интересуются одним русским изобретателем — и даже не столько им, сколько его трудами.
Он затянулся сигаретой, глотнул чаю и мечтательно протянул:
— Хорошо бы заполучить его живьем… Тепленького. Помните, как в тысяча девятьсот пятнадцатом году…
Попандопуло сочувственно заржал. Еще бы, он отлично помнил, как некогда он и Петронеску, тогда еще совсем молодые шпионы, были переброшены по заданию немецкой разведки в Батум, откуда выкрали молодого конструктора подводных лодок. Они подсыпали инженеру в вино хлоралгидрат, а потом перевезли его, сонного, через турецкую границу.
— Помните, — хрипел Попандопуло, — помните, как этот младенец вопил, проснувшись уже в Турции?.. Это было чертовски смешно! А как мы инсценировали, что он утонул! Помните, оставили на пляже брюки, бумажник, пояс… А как радовался удаче капитан Крашке!.. Он тоже был еще совсем молод…
— Еще бы ему было не радоваться, — ответил Петронеску, — когда мы с вами рисковали своими головами, а он в это время спокойно прохлаждался с девками в Стамбуле и получил за наш риск крест, награду и повышение в чине. Мы же с вами остались ни с чем… Он сейчас там, в России, под Смоленском. Перед войной у него была большая неприятность в Москве, но теперь им довольны.
— Да, да, — произнес со вздохом Попандопуло. — Это был верх несправедливости. Я запомнил это на всю жизнь…
— Ну, довольно воспоминаний, — прервал его Петронеску, заметив, что разговор, начавшийся столь деловым образом, уклоняется в сторону. — Перейдем к делу. Итак…
4. ТЕЛЕГРАММА
В деловой сутолоке, связанной с началом серийного производства нового орудия, Леонтьев забыл о странном происшествии с супругой профессора Зубова, тем более что сама она никак не напоминала о себе. С раннего утра инженер уезжал на завод, которому было поручено освоить производство его детища, и там до поздней ночи носился по лабораториям и цехам, спорил с поставщиками и проверял анализы.
Поздно ночью Леонтьев возвращался на машине в гостиницу. Устав за долгий хлопотливый день, он обычно засыпал на своем месте рядом с шофером. На улицах затемненного города ни на минуту не прекращалась жизнь. Проходили колонны машин, спешивших на фронт и с фронта, мигали зеленые и красные фонарики регулировщиков уличного движения, военные патрули проверяли на перекрестках документы и пропуска.
Когда патруль открывал дверцу машины, шофер тихо, чтобы не разбудить Леонтьева, протягивал пропуск и говорил:
— Тише, не разбуди. Это — наш инженер. Совсем, бедняга, замытарился, целый день носится. Вот пропуск…
Красноармейцы улыбались и осторожно, стараясь не хлопнуть, притворяли дверцу машины, предварительно тщательно проверив документы.
Так незаметно пробежали два месяца. Однажды в гостиницу прибыл курьер с пакетом. Распечатывая конверт, Леонтьев волновался. Он догадывался, что это ответ на его просьбу разрешить ему выехать на фронт, чтобы присутствовать при боевом испытании первой партии выпущенных заводом орудий.
Да, это был ответ. В конверте оказалось сообщение о том, что инженер Леонтьев командируется в Н-скую артиллерийскую бригаду для проверки боевых свойств орудия «А-2». В коротком письме нарком вооружений просил Леонтьева не задерживаться и помнить, что его присутствие на полигоне в Москве более чем необходимо.
Два дня ушло на подготовку к отъезду, оформление фронтового пропуска и окончание заводских дел. Наконец все было закончено.
Рано утром выделенная в распоряжение Леонтьева маленькая, юркая военная машина и шофер ее Ваня Сафронов, смешливый, лукавый парень с озорной искрой в глазах, поджидали конструктора у подъезда гостиницы.
За Леонтьевым зашел в номер майор Бахметьев, молчаливый молодой человек с внимательным взглядом и спокойным, приветливым лицом. Он приехал из части для сопровождения конструктора.
Леонтьев запер номер, отдал ключ от него дежурной по этажу и спустился вниз. Подойдя к администратору гостиницы, он передал ему броню на номер, который оставался за ним, и на вопрос, скоро ли возвратится, коротко ответил:
— Не знаю. При всех условиях номер остается за мной. Всего хорошего.
Леонтьев вышел из подъезда гостиницы и подошел к машине. Ваня лихо откозырял и включил зажигание. Поставив свой чемоданчик на заднее сиденье, Леонтьев сел рядом с шофером. Майор Бахметьев устроился за спиной Леонтьева.
— Батюшки, да куда же это вы, сударь, в такую рань собрались, да еще на этаком драндулете? — раздался совсем рядом чей-то знакомый голос. Обернувшись, Леонтьев увидел Марию Сергеевну, которая стояла на тротуаре с неизменной сумкой и каким-то старомодным зонтиком в руках.
— Здравствуйте, Мария Сергеевна, — улыбнулся Леонтьев. — Вот собрался… Тут, собственно, недалеко… На фронт…
— Что же это вы, сударь мой, пропали? — спросила, как всегда добродушно, Мария Сергеевна. — Вовсе забыли свою даму…
Леонтьев извинился, сослался на перегруженность работой и обещал по возвращении немедленно навестить Марию Сергеевну. Простившись, он велел трогать. Мария Сергеевна приветливо помахала ему вслед платочком, и машина понеслась вперед.
С минуту еще добродушная старушка провожала машину взглядом, разглядела, что номер на машине военный, а не городской, запомнила этот номер: 10–12, почему-то вздохнула и тихо побрела в вестибюль гостиницы.
В вестибюле она подошла к дежурному администратору и вежливо спросила:
— Не знаете, случайно, где инженер Леонтьев, мой земляк? Стучу, стучу к нему в номер, а никого нет.
— Инженер Леонтьев уехал, — ответил администратор. — Номер остался за ним.
— Надолго уехал? — спросила Мария Сергеевна.
— На неопределенное время.
В то же утро дежурная международного отдела Московского телеграфа приняла телеграмму в Софию:
«Хлопочу вашей визе въезда в Москву. Мама жалуется общую слабость. Сильно переживает отъезд Сережи на фронт, волнуется за него. Целую. Ната».
Телеграмма была адресована Русаковым, проживающим в Софии на Балканской улице, и была сдана на Московском телеграфе ровно в 10 часов 12 минут, что и было обозначено на телеграфном бланке.
В 15 часов 30 минут телеграмму принял софийский городской телеграф, а немного спустя рассыльный телеграфа подъехал на мотоцикле к дому на Балканской улице. На стук вышел сам господин Русаков — бородатый человек с багрово-сизым носом и отекшим лицом… От него несло чесноком и винным перегаром.
Он взял телеграмму, что-то буркнул и хлопнул дверью перед самым носом рассыльного, не дав ему ничего на чай.
Через час Русаков пришел в бар-варьете «Лондра» и попросил швейцара вызвать господина Петронеску, который веселился там с дамой. Петроиеску пришел в вестибюль, прочел телеграмму, и лицо его сразу вспотело. Он отер лоб салфеткой, которую держал в руках, поспешно расплатился с официантом, извинился перед своей дамой и, выйдя из бара, сел в такси.
В ту же ночь софийский городской телеграф принял длинную телеграмму, адресованную в Бухарест. В ней сообщалось, что мосье Серж временно ликвидировал свое дело и выехал для подыскания торгового помещения и что при этих условиях переговоры с ним лучше начать в том месте, куда он выехал ровно в 10 часов 12 минут.
Вскоре в кабинет начальника одного из отделов германской разведки доставили расшифрованное сообщение из Москвы, пришедшее через Софию — Бухарест. В этом сообщении говорилось, что изобретатель Леонтьев выехал на фронт на военной машине № 10–12 и что выезд этот, по-видимому, связан с боевым испытанием его изобретения. Район фронта, куда он выехал, пока неизвестен.
Начальник отдела два раза прочел сообщение, неодобрительно что-то промычал, а затем сказал подчиненному, принесшему этот документ:
— Район фронта неизвестен… Черт возьми! Главное — неизвестно… Я очень боюсь, что в самом ближайшем будущем этот район станет нам слишком хорошо известен. Судя по всему, это какой-то дьявольский аппарат! Надо предупредить штаб.
Он надел шинель и вышел из кабинета.
5. НА ФРОНТЕ
Машина быстро поглощала километры. По обеим сторонам дороги тянулись поля и перелески, мелькали живописные деревни, по серому асфальту шоссе мчалось множество машин: грузовики всех марок, юркие малолитражки, штабные «эмки» и прыгающие тупорылые «вездеходы». Апрель дымился на горизонте. Строгие девушки с бронзовыми от весеннего загара лицами, прозванные за это «индейцами», регулировали движение.
На контрольно-пропускных пунктах «индейцы» строго проверяли документы, путевки и шоферские права. Никакие попытки Вани Сафронова рассмешить их и побалагурить не имели успеха. Девушки оставались серьезными и только в ответ на последнюю Ванину фразу: «Умоляю не скучать и Ванюшку поджидать», — сдержанно и лукаво смеялись одними глазами.
И опять вьется фронтовая дорога, весенний ветер бьет в лицо, а рядом, впереди, сзади и навстречу бегут непрерывно машины, проносятся танки, с треском мчатся мотоциклы офицеров связи.
Кое-где стоят, пережидая, вереницы машин; прямо в них спят водители, черномазые, с обветренными лицами парни, столько раз проделавшие этот фронтовой рейс, подвозя красноармейцев, продукты, боеприпасы, актеров фронтовых бригад и медсестер.
Леонтьев приехал в намеченный пункт вечером. Командир бригады, полковник Свиридов, предупрежденный заранее, уже поджидал изобретателя. В блиндаже был накрыт стол и приготовлен ужин, а в углу белели простыни заботливо приготовленной постели.
От ужина гость отказался: ему не терпелось посмотреть свои орудия. И командир повел его на участки, где были замаскированы новенькие «А-2».
Леонтьев познакомился с расчетами орудий, побеседовал с командирами, сделал несколько замечаний. Волнение предстоящего боевого испытания все больше охватывало его. Ровно в 5 часов 00 минут, по приказу командования, «А-2» должны были вступить в действие, и им, по выражению полковника Свиридова, предоставлялось «первое приветственное слово»…
Уже заканчивались все приготовления. Боекомплекты снарядов были подвезены к орудиям. Механики в последний — который уж! — раз проверяли механизмы; у всех командиров орудийных расчетов были выверены и точна поставлены часы. Дежурные обошли участки и строго запретили курить на воздухе, зажигать фонарики и спички. Весенняя ночь мягко окутала мраком лагерь бригады, и людям было приказано отдыхать.
Леонтьев и Свиридов пошли к блиндажу. Прежде чем спуститься вниз, оба молча постояли у входа. В ночном небе, где-то над ними, высоко-высоко, звонко рокотали самолеты, шедшие на запад. Они спешили на бомбежку, выполняя очередные задания.
— Идут работать, так сказать, в ночную смену, — заметил, улыбаясь, Свиридов. — Слышим эту музыку каждую ночь. Идемте спать, товарищ Леонтьев.
— Есть спать, товарищ командир, — ответил Леонтьев и прошел в блиндаж.
6. «КОМБИНАТ» ПОД СМОЛЕНСКОМ
Давным-давно, еще до отмены крепостного права, километрах в тридцати от Смоленска была воздвигнута пышная усадьба князей Белокопытовых. Рассказывали, что усадьбу эту — и помещичий дом, и все надворные постройки, и причудливые павильоны — строил какой-то итальянец, за громадные деньги вывезенный князем из заграничных странствий. А странствовать князь любил — ездил он много, и потому, быть может, и дом его был выстроен столь несуразно. Князю хотелось, чтобы он был похож и на средневековые рыцарские замки, какие довелось ему видеть в Баварии, — с башнями, бельведерами, тайниками, и на дворцы польских магнатов, какие сохранились и теперь еще на Волыни и в Западной Белоруссии, и на итальянские палаццо, которыми не раз любовался он в Венеции.
Итальянец, как рассказывают, спорил тогда и горячился, но характер у князя был крутой и несговорчивый. Убедившись в этом, плюнул итальянец на чистоту стиля и в два года отстроил князю необыкновенную домину, смахивающую одновременно и на рыцарский замок, и на палаццо, и на дворец.
И вот с тех пор высится километрах в тридцати от Смоленска, в глухом бору, это причудливое каменное здание, уродливое, как характер его первого владельца, огромное, в три с чем-то этажа, с башнями и подземельями, с двухсветными залами, с хорами и мраморными колоннами, с потайными дверьми и подземными переходами. Липы запущенного парка и заросшие кувшинкой старые пруды окружают это мрачное здание.
После революции в округе долго думали, как поступить с этим диким домом. Был там и сельсовет, и школа трактористов, и колхозно-совхозный театр. Пробовали даже организовать в нем дом отдыха союза работников земли и леса — уж очень хороши места, в которых стоит дом, но отдыхающие ворчали, что здание напоминает им не то старинную тюрьму, не то крепость и плохо, дескать, действует на нервную систему.
Дом отдыха перевели в другое место, и с тех пор здание пустовало. В огромных залах и мрачных сводчатых комнатах расплодилось множество летучих мышей, филинов, крыс и прочей нечисти, а дом стоял в тяжелом молчании, словно кого-то поджидая.
Когда пришли немцы, они сначала устроили в барском доме казарму, а потом прикатил на машине какой-то эсэсовский генерал, обошел весь дом, внимательно осмотрел подземелья, одобрительно что-то промычал и уехал.
Через день войска вывели, а дом заняли другие немцы. Усадьбу со всех сторон огородили колючей проволокой, кругом расставили часовых, которые никого не пускали — даже не всякий немецкий офицер мог туда пройти.
В доме поселились какие-то странные люди, многие из них были в штатском. В подземелье распоряжался юркий пожилой человечек, которого звали герр Стефан, личность с европейским, можно сказать, именем: он был известен полиции всех стран и городов Европы как фальшивомонетчик недюжинной квалификации. Немцы нашли его в одной из парижских тюрем, где он отбывал очередной приговор, и с того времени он работал у них по своей прямой «специальности».
В подземелье под руководством герр Стефана изготовлялись фальшивые денежные знаки — советские сотенные, турецкие лиры, шведские кроны и иракские динары.
В распоряжение герра Стефана были предоставлены новейшей конструкции литографские станки, гравировальные машины, агрегаты для горячей обработки бумаги — дело было поставлено на широкую ногу.
В подземных лабиринтах, расположенных с другой стороны дома, тоже шла кипучая работа. Там изготовлялись фиктивные советские и партийные документа, а фотолаборатория печатала «фотодокументы советских зверств»«которые тут же искусно инсценировались специалистами из гестапо.
Там же изготовлялись и снимки «торжественных и радостных встреч германских войск с населением в оккупированных районах».
В разбросанных по усадьбе павильонах и флигелях расположились другие секции этого удивительного комбината. В одном находилась школа-общежитие для перебежчиков и диверсантов, в другом обучались радисты-коротковолновики, в третьем изготовлялись различного рода замаскированные передатчики — в виде баянов, несессеров, деревенских сундучков, музыкальных шкатулок и т. п., которыми снабжались перебрасываемые в советские тылы шпионы и диверсанты.
В парке была построена парашютная вышка для учебных прыжков, которыми руководил какой-то долговязый рыжий мужчина в фельдфебельской форме. Среди будущих парашютистов было много самых неожиданных субъектов, вплоть до бывших махновцев, петлюровцев и прочего сброда, набранного в разных международных трущобах. Они взбирались на вышку довольно неохотно и, поднявшись на верхнюю площадку, останавливались там в глубоком раздумье.
— Шнеллер! — вопил снизу истошным голосом рыжий. — Шнеллер!
И виртуозно ругался по-русски.
Время от времени очередная партия обученных шпионов отправлялась к линии фронта для переброски в советский тыл. Предварительно все они проходили через гардеробную, где каждый получал соответствующее платье.
Оттуда они выходили уже в полной готовности. Дряхлые украинские слепцы с бандурами, старушки-гадалки с замусоленными картами, бродячие музыканты с баянами и скрипками, «милицейские работники» в полной форме, снабженные соответствующими документами, «красноармейцы» в поношенном обмундировании, якобы «вышедшие из окружения», даже подростки — все они были соответственным образом проинструктированы, каждый имел определенное задание и был прикреплен к определенному району.
Вечером, после наступления темноты, их увозили к линии фронта на машинах, откуда любыми способами и путями перебрасывали в советский тыл.
Всей этой сложной машиной, всем этим удивительным «комбинатом» руководил некий господин Крашке — тот самый Крашке, который в далеком 1915 году, в самом начале своей карьеры, так несправедливо обошелся с Попандопуло и Петронеску, носившими тогда, впрочем, совсем другие фамилии. И тот самый Крашке, с которым случилось несчастье на Белорусском вокзале в Москве.
Здесь, в усадьбе под Смоленском, господин Крашке развернул узловой пункт германской разведки, своеобразный штаб, который непосредственно ведал шпионской, диверсионной и подрывной деятельностью на этом участке фронта. Местопребывание и работа этого штаба были глубоко законспирированы.
Здесь задумывались, разрабатывались и подготовлялись самые «деликатные» планы и мероприятия немецкой разведки и пропаганды, здесь отбирались и проходили последнюю обработку новые «кадры», здесь, по мановению режиссерской палочки из Берлина, осуществлялись наиболее эффективные инсценировки и изготовлялись «неопровержимые доказательства».
В башне главного здания день и ночь потрескивала радиостанция, принимавшая шифрованные задания, передававшая собранные сведения и вообще поддерживавшая непрерывную' связь с Берлином и переброшенными в советский тыл радистами.
Крашке, в спортивном костюме, с подергивающимся ртом и остановившимися глазами, неустанно носился по комнатам дома, по подземным переходам и усадебным службам, спрашивал, приказывал, указывал, ругал, хвалил, требовал — и вся эта сложная машина вертелась под его холодным, пронизывающим взглядом покорно, бесшумно и слаженно.
К ночи машина эта как бы останавливалась, и дом засыпал. Только радиостанция не прекращала работы. Ни один луч света не проникал сквозь наглухо зашторенные окна. Из парка уже не доносились вопли рыжего. В павильонах и флигелях после дневной учебы крепко спали «курсанты». Движение по усадьбе прекращалось. И тогда фон Крашке выходил на свою ночную прогулку. Чуть поскрипывая толстыми подошвами спортивных башмаков, он обходил все здания усадьбы и шел в парк подышать свежим воздухом.
Горячий деловой день был позади. Теперь требовалось нечто для души. Господин Крашке умел сочетать приятное с полезным, развлечение с делом. Но и развлекался он так же, как жил: не совсем обычно.
Он возвращался в дом и через потайную дверь спальни спускался в фамильный склеп князей Белокопытовых, откуда особым ходом пробирался в самое секретное, подземное убежище дома. Там по ночам шли «допросы». Туда в закрытых машинах доставлялись с фронта раненые или попавшие в плен советские офицеры и бойцы, которые отказывались выдать военную тайну, не желая становиться предателями, или мирные граждане, попавшие под подозрение.
Здесь господин Крашке давал волю своей фантазии. И здесь он по-настоящему отдыхал в излюбленном им средневековом стиле.
Под утро, синий от остроты пережитых ощущений, с отвисшей челюстью и блуждающими глазами, господин Крашке поднимался к себе, долго мыл окровавленные руки, а потом раздевался и ложился в постель.
Таков был новый хозяин старинной усадьбы под Смоленском.
Господина Крашке сильно взволновало неожиданное задание берлинского начальства, связанное с инженером Леонтьевым. Задание пришло на рассвете, когда Крашке уже спал. Его пришлось разбудить: в шифровке приказывалось вручить ее немедленно.
Когда радист разбудил спящего Крашке, тот сел на постели, протер красные глаза, вытянул толстые поросшие рыжим пухом ноги и уставился сонным взглядом на радиста.
— Прошу извинить, герр Крашке, спешная телеграмма, — сказал радист.
Крашке взял листок. По мере того, как он читал телеграмму, лицо его теряло сонливое выражение.
В телеграмме значилось следующее:
«По имеющимся достоверным данным, на один из участков вашего фронта выехал из Москвы инженер Леонтьев, изобретатель нового орудия, представляющего для нас чрезвычайный интерес. По-видимому, выезд Леонтьева связан с пуском опытных экземпляров этого орудия в дело. Ставка приказывает любой ценой заполучить в плен Леонтьева. Для этого необходимо точно установить его местопребывание, после чего будет проведена операция по окружению и пленению того соединения, в котором находится Леонтьев.
Немедленно, за счет всех других заданий, мобилизуйте все имеющиеся возможности и установите, где Леонтьев.
Сообщаем известные нам данные. Леонтьев выехал 5 апреля из Москвы на машине № ГО-12. Леонтьев одет в костюм цвета хаки, военного покроя, без знаков различия. Фото Леонтьева давности трех лет утром доставит самолет».
Господин Крашке три раза прочел телеграмму. Сон сняло как рукой. Опять этот проклятый Леонтьев!.. Он быстро оделся. Через несколько минут все радиопередатчики комбината начали связываться с агентурой, переброшенной через линию фронта.
Были спешно проинструктированы и увезены к переднему краю для переброски полтора десятка человек.
— Боюсь, — сказал Крашке своему ближайшему помощнику, повторяя мысль своего берлинского начальства, — боюсь, что местопребывание Леонтьева мы скоро узнаем более чем точно. По-видимому, его изобретение даст о себе знать.
Он оказался прав. Действительно, орудия инженера Леонтьева показали себя раньше, чем агентура Крашке смогла установить местопребывание изобретателя.
Случилось это через два дня около шести часов утра. Генерал Штанге, командующий одним из участков фронта, потребовал к полевому телефону господина Крашке.
— Герр Крашке отдыхает, — ответил дежурный офицер.
— Разбудить немедленно! — потребовал Штанге.
Крашке разбудили, и он подошел к телефону. Генерал Штанге, задыхаясь от волнения, сообщил, что ровно в пять утра с советской стороны начался обстрел из орудий какой-то неизвестной конструкции.
— Вы знаете, я старый солдат, — хрипло кричал Штанге, — но то, что сейчас происходит, немыслимо! Это ад!..
Генерал Штанге добавил, что он уже просил ставку о присылке подкреплений, а главное — об организации массированного воздушного налета на тот участок, с которого бьют новые орудия. Моральное состояние его солдат катастрофически падает. Предпринятый для наведения порядка расстрел паникеров не дает должных результатов.
«Вот она, — подумал Крашке, — визитная карточка этого Леонтьева».
Он немедленно радировал в ставку, чтобы указать местопребывание изобретателя. Оттуда, ни минуты не колеблясь, дали команду, и к участку генерала Штанге двинулись крупные резервы танков, тяжелой артиллерии и самолетов. Было решено любой ценой обойти участок с двух сторон, выбросить в тыл мощный парашютный десант, под видом отступления завлечь вглубь немецкой обороны передовые части советских войск и таким образом взять весь район в полное окружение.
«Любой ценой добейтесь пленения Леонтьева!» — истерически вопила ставка.
«Начинайте окружение частей, где находится Леонтьев!» — надрываясь, орали связисты, передавая приказ.
«Помните, что главное — это Леонтьев!» — гудели провода полевых телефонов.
«Ищите Леонтьева!» — непрерывно радировал Берлин. — «Прежде всего найдите Леонтьева! Головой отвечаете за жизнь Леонтьева!.. Нам нужен живой и только живой Леонтьев!»
Фамилия Леонтьева неслась через леса, горы и поля по телеграфным и телефонным проводам, склонялась на все лады в приказах и предупреждениях, выплескивалась из микрофонов и мембран; она стала как бы символом стремительно разворачивавшейся операции.
Но как раз в тот момент, когда спешно брошенные в дело резервы уже подходили к участку генерала Штанге, случилось нечто фантастическое. Такие же новые орудия внезапно вступили в дело совсем на другом участке фронта. Едва донесение об этом поступило в штабы и ставку, как еще один участок фронта донес, что там началось то же самое.
В восемь часов утра орудия «А-2» вступили в действие уже по всей линии фронта. Карты спутались. Где же, на каком из участков был сам Леонтьев? Разумеется, никто этого не знал. Немецкие соединения в панике отступали, бросая технику и раненых. В штабах сбились с ног. Берлин неистовствовал и, потеряв реальное представление о положении на различных участках фронта, давал путаные и противоречивые приказания. Резервы с марша бросались на новые направления, потом возвращались на прежние, как шахматные фигуры, нелепо переставляемые окончательно растерявшимся игроком.
А к полудню советские войска прорвали в трех направлениях немецкую линию обороны, захватили большое количество пленных и огромные трофеи.
7. ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕНОК
Через несколько дней после отъезда Леонтьева на фронт Мария Сергеевна Зубова, жена профессора из Ленинграда, внезапно выехала из гостиницы «Москва», указав в заполненном перед отъездом листке, что срочно возвращается в город Челябинск, откуда и приезжала в столицу.
Заплатив по счету и простившись с администратором, добродушная старушка вышла из вестибюля гостиницы с небольшим саквояжем и своей неизменной хозяйственной сумкой.
Повернув за угол, но предварительно убедившись, что за нею никто не следит, она спустилась в метро и поехала в Сокольники, откуда и направилась не спеша в парк. На третьей просеке она одиноко бродила по пустынным в этот час аллеям. Был один из тех тихих весенних подмосковных дней, когда все в парке — и еще голые деревья, и сохранившийся на дорожках прошлогодний желтый лист, и бледное, грустное небо, и стоящая вокруг тишина напоминают об осени и увядании.
Вскоре издали появилась молодая женская фигура. Мария Сергеевна направилась навстречу ей и через две минуты пожала руку Наталье Михайловне, той самой молодой женщине, которая вместе с нею ехала из Челябинска в Москву.
Перебрасываясь отдельными словами, они направились на окраину Сокольников и подошли к одному из стареньких деревянных домиков, какие и теперь еще встречаются на окраинах Москвы. Наталья Михайловна позвонила. Дверь открыла молчаливая старушка, без единого слова пропустившая их в дом. Они прошли в столовую, в которой никого не было. Мария Сергеевна села в старинное кресло, а Наталья Михайловна устроилась рядом с ней и закурила.
— Мне велено передать вам, голубушка, — начала Мария Сергеевна, — категорический приказ — выехать на Западный фронт с актерской бригадой. Сегодня же подайте заявление в ваш группком или в филармонию, одним словом, куда там у вас положено, и проситесь на фронт. Задание несложное: туда выехал Леонтьев, и надо только осторожно выяснить одно — где именно он находится. Вот и все, моя милая.
Наталья Михайловна беспрерывно курила и была еще бледнее, чем обычно. Потом, неожиданно и резко вскочив с места, она подошла к Марии Сергеевне и стала взволнованно говорить:
— Ну, а дальше? Если я выполню и это поручение, что будет дальше? Дадите вы мне, наконец, спокойно жить?.. Ведь вы тогда дали слово, что будет всего одно поручение, что я буду абсолютно свободна… Что это меня ни к чему не обяжет… Я не могу больше, вы понимаете, не могу!.. У меня нет больше сил!.. Каждую ночь мне мерещится, что за мной приехали. Каждая проходящая машина заставляет меня дрожать. Отпустите меня, я буду вспоминать о вас всю жизнь… Я отдам вам все, последние вещи… Обручальное кольцо… Все, что угодно… Пожалейте меня, молю вас!.. Ведь вы мне в матери годитесь… Зачем я вам нужна?!
У нее начиналась истерика. Мария Сергеевна смотрела, как вздрагивают ее плечи и как она, совсем по-детски, не вытирая слез, всхлипывая и сморкаясь, плачет и дрожит.
— Ну, будет, — произнесла, наконец, Мария Сергеевна, — у вас еще вся жизнь впереди. И муженек к вам вернется, верьте мне. А пока при вашей внешности тоже можно перебиться кое-как… Вот вам моя рука — это последнее поручение. Потом, так и быть, пущу вас, моя птичка, на все четыре стороны. Чирикайте как хотите и с кем хотите… А теперь — за дело. Давайте укладываться, и вот, что вам надо запомнить наизусть…
Через три дня на Западный фронт выехала актерская бригада, организованная профсоюзом работников искусств. Бригада выезжала для проведения летучих концертов в воинских соединениях. В составе бригады, была и малоизвестная исполнительница лирических песенок Наталья Михайловна Осенина. Присланный за актерами фронтовой автобус выскочил, пофыркивая, на Можайское шоссе. На заставе комендантский патруль проверил документы и, взмахнув флажком, разрешил следовать дальние.
На Минское шоссе выехали уже в начале ночи. Апрельские звезды неслись над темным лесом, стоящим по обе стороны шоссе, далеко обгоняя маленький фронтовой автобус.
После первого боевого крещения своих орудий Леонтьев испытывал чувство огромного удовлетворения. Он был горд своим детищем.
Вместе с тем творческая мысль конструктора ни на минуту не остывала. Уже новая идея увлекала его — идея переделки конвейерной ленты, подававшей снаряды в магазинную часть орудия. Это могло увеличить скорострельность и облегчить работу орудийной прислуги.
По ночам Леонтьев выходил из блиндажа, гулял по лагерю, слушал рокот проходящих над ним самолетов и думал о войне, о своей личной жизни, о том, что незаметно кончилась молодость и вот где-то впереди уже ковыляет потихоньку ему навстречу старость. И еще он думал о том, что после войны с великим наслаждением изорвет все свои расчеты и чертежи и вместо орудий смерти и ужаса начнет изобретать какие-нибудь необыкновенно симпатичные и приятные машины, которые будут облегчать труд человека, украшать его быт, продлят его жизнь и принесут ему радость.
Как многие по-настоящему одаренные люди, Леонтьев любил иногда совсем по-детски помечтать и пофантазировать. Бессонница, которою он страдал в последние годы, способствовала его долгим ночным размышлениям. В такие ночные часы ему начинало казаться, что вот он один сейчас бодрствует во всем мире, что лагерь, весь район и, может быть, весь фронт опит и только он один задумчиво похаживает у землянки, и никто не слышит ни шороха его шагов, ни ровного стука его сердца, ни шелеста его дыхания…
Но это ему только казалось. С самых первых дней его приезда на фронт Бахметьев продолжал неусыпно охранять жизнь изобретателя, его покой, его документы и чертежи. И делалось это настолько умело и тактично, что ни Леонтьев, ни окружающие его офицеры даже не догадывались о том, как тщательно и любовно охраняет своего «подшефного» советская контрразведка.
Были приняты меры и к тому, чтобы пребывание Леонтьева на этом участке фронта не получило огласки. Офицеры получили строгое приказание не болтать об этом, а бойцы вообще не знали, кто этот человек, так часто появляющийся с командиром бригады и так внимательно осматривающий новые орудия.
Выехавшая на фронт актерская бригада уже два месяца давала концерты в разных соединениях, а Наталья Михайловна все никак не могла напасть на след Леонтьева.
Актеры, из которых состояла бригада, были в большинстве своем молодые, веселые люди. Они с искренней радостью и волнением выезжали на фронт. Концерты проходили в атмосфере дружбы и взаимной благодарности.
Перед отъездом актеров обычно провожали «банкетом». Полковые повара взволнованно шептались, придумывая, чем бы удивить дорогих гостей, и действительно показывали чудеса кулинарной изобретательности. Полевой военторг безропотно поставлял «заветные» бутылочки, хотя еще накануне его начальник клялся «сединами матери и светлой памятью покойного папаши», что ничего, решительно ничего из вин не осталось. Одним словом, провожали по-русски тепло, ласково, хлебосольно.
На одном из таких банкетов рядом с Натальей Михайловной сидел за столом молодой светлоглазый лейтенант. Наталья Михайловна еще во время концерта обратила внимание на его юное лицо и блестящие, какие-то девические глаза.
Лейтенант вслух восхищался ее пением, громче всех кричал «браво» и «бис» и вообще обнаруживал все признаки мгновенной, острой влюбленности, подчас возникающей в условиях фронта, где суровые будни войны и повседневная опасность порождают повышенную остроту чувств.
И вот за банкетным столом юный Леня — так звали лейтенанта — сумел занять место рядом с понравившейся ему певицей. Наталья Михайловна, раскрасневшаяся от успеха и выпитого вина, откровенно кокетничала с «милым мальчуганом», как она мысленно прозвала лейтенанта.
Шел обычный разговор о войне, о коварстве фрицев, об атаках, о ночных боях. Леня, охмелевший от вина, а еще больше от соседства молодой красивой женщины, начал рассказывать «боевые эпизоды», впадая при этом в тот чуть хвастливый тон, которым еще не опытные молодые люди рассчитывают обратить на себя внимание и придать значительность собственной персоне.
— Это что! — говорил он. — Бывают, Наташа (он незаметно для самого себя уже называл певицу по имени), такие перепалки, что и описать трудно. Конечно, это военная тайна, но я вам скажу по секрету: у нас теперь есть новые «сюрпризы» — замечательные орудия; называются они «А-2»…
— Боже, как интересно! — сказала, почему-то вздрогнув, Наталья Михайловна. — Какое странное название «А-2», наверное, по фамилии конструктора?
— Ну да, — ответил Леня, — фамилия изобретателя Леонтьев. Вот это парень, скажу я вам… Все время на огневых позициях… Сам следит, как работают его игрушки. Конечно, это секрет, но вам…
— Милый мальчик, — сказала Наталья Михайловна, — да какой же это для меня секрет, когда Леонтьев, Коля Леонтьев — мой близкий знакомый. Я даже собираюсь его навестить. Он ведь недалеко отсюда?
— Тридцать километров, — ответил Леня. — Есть такая деревня Большие Кресты, там наш КП. Но только…
— Я думала, ближе, — перебила его Наталья Михайловна. — Ну, не беда, в Москве встретимся: он говорил, что скоро вернется. Леня, положите мне, пожалуйста, сардин. Знаете, у меня был знакомый, которого тоже звали Леней. Вы будете мой «А-2».
— Есть положить сардины, — сказал Леня и исполнил просьбу своей дамы.
Наталья Михайловна съела сардину, выпила рюмку вина и перевела разговор на другую тему.
Между тем банкет продолжался. Актеры благодарили хозяев за теплый прием, хозяева благодарили актеров за доставленное удовольствие. За столом было непринужденно и весело.
Внезапно Наталья Михайловна поднялась и со стоном схватилась за сердце.
— Что с вами? — одновременно подбежали к ней несколько офицеров.
— Мне дурно… — едва проговорила Наталья Михайловна. — Я съела сардину, и вот… Я отравилась этими консервами…
Она пошатнулась и чуть не упала. Актеры и офицеры окружили ее, стали предлагать различные средства; кто-то послал за врачом.
Наталью Михайловну перенесли в командирский блиндаж и там положили на постель. Очевидно, у нее было острое отравление. Она непрерывно стонала и молила только об одном; поскорее отправить ее в Москву, где у нее есть дядя — профессор Венгеров — в институте Склифосовского.
Врач, осмотрев больную, сказал, что путешествие не представляет опасности.
Через час заболевшую певицу усадили в санитарный самолет и отправили в Москву.
Едва машина поднялась в воздух и легла на курс, как Наталья Михайловна перестала стонать. Вся история с отравлением была выдумана ею для того, чтобы быстрее вернуться в Москву и доложить Марии Сергеевне, где именно находится Леонтьев. Последнее поручение было выполнено.
На следующее утро Берлин сообщил шифрованной радиограммой в штаб фронта и господину Крашке, что инженер Леонтьев находится на Н-ском участке фронта, в деревне Большие Кресты.
8. «СПЕЦИАЛИСТ ПО РУССКОЙ ДУШЕ»
Когда-то, в дни далекой молодости, Петронеску считался в германской разведке специалистом по славянским делам.
Позади у господина Петронеску (настоящая его фамилия была Крафт, но за свою жизнь он переменил столько фамилий, что сам уже не помнил теперь, какая же из них — настоящая) была нелегкая, бурно прожитая жизнь профессионального шпиона, с частыми и внезапными переменами фамилии, места жительства и внешности, с неожиданными переездами, переодеваниями, многочисленными и очень пестрыми связями, знакомствами и встречами, с пятью годами пребывания на каторге и парой «мокрых дел», с самыми многообразными и неожиданными профессиями: Петронеску был и землемером, и шофером, и эстрадным чечеточником, и коммерсантом, пастором, коммивояжером, владельцем кафешантана, скупщиком скота и даже кладбищенским сторожем.
Однако при всех этих превращениях господин Петронеску оставался, разумеется, сотрудником германской разведки, в списках которой в дни войны он уже значился как специалист по русской душе.
Пребывая теперь в Софии и занимаясь новыми делами, господин Петронеску, однако, очень внимательно следил за разворотом событий в Анкаре. Им руководило при этом не просто любопытство. Он очень хорошо понимал, что от удачи или провала анкарской операции зависит многое для его личной судьбы.
Сведения, которые он черпал из газет и случайных источников, были весьма неприятны. Сначала все как будто шло по намеченному плану. В заранее назначенный день к Папену, вышедшему для совершения моциона, подбежал злоумышленник, дважды выстрелил в него, но, конечно, промахнулся, затем выстрелил в бомбу, которая была у него в руке, и, конечно, взорвался. Папен очень своевременно и точно упал на тротуар (не зря он шлепался на ковер в своем кабинете), очень картинно «потерял сознание», затем эффектно «пришел в себя», не забыл произнести слова насчет воли господней и нечестивцев из советского посольства и, одним словом, безупречно сделал все, что ему было положено.
В тот же день господин Сараджогло примчался к фон Папецу и передал немецкому послу «свое соболезнование и прискорбие по поводу того, что случилось и что могло иметь, но, к счастью, не имело, столь чудовищные последствия». Министр не без удовольствия легонько подчеркнул слова «но не имело». Господин посол в ответ не преминул заметить, что «последствия, к сожалению, имели место, ибо? во-первых, самый факт злодейского покушения в центре столицы на жизнь посла Германии есть достаточно тяжкое последствие бездеятельности турецких органов власти и их непонятной благосклонности к злодеям из советского посольства, несомненно, причастным к этому делу». Во-вторых, добавил посол, он сильно контужен взрывной волной и перенес столь ужасное нервное потрясение, что, по мнению домашнего врача, потерял по крайней мере десять лет жизни.
В дальнейшем разговоре фон Папен дал понять, что отделаться соболезнованиями и выражением прискорбия туркам не удастся и что должна идти речь о разрыве дипломатических отношений с Советским Союзом и вступлении Турции в войну с ним.
На следующий день переговоры продолжались. Установить личность злоумышленника не представлялось возможным, так как от него в результате взрыва ничего не осталось, кроме нескольких клочков кожи и челюсти. Турецкие следственные власти сбились с ног, но ничего не могли выяснить. Тогда сам «потерпевший» любезно предложил господину Сараджогло помочь в раскрытии этого преступления.
— Я полагаю, господин министр, — сказал фон Папен, — что было бы полезным установить деловой контакт между турецкой полицией, занятой расследованием этого ужасного дела, и германской политической полицией, имеющей весьма интересные данные, несомненно, проливающие свет на интересующие обе стороны вопросы… Разумеется, при этом контакте мыслится полная суверенность турецких властей и турецкого правосудия, а верные и точные сведения, право, еще никогда никому не мешали…
«Деловой контакт» был установлен. Гестапо недвусмысленно указало перстом на Абдурахмана и Сулеймана. Оба были немедленно арестованы. К удовольствию турецких следователей и заместителя генерального прокурора, Турции господина Кемаль Бора, руководившего расследованием по этому делу, обвиняемые охотно сознались и назвали личность злоумышленника, заявив, что это был некий Омер, студент Стамбульского университета и что они все трое были привлечены для совершения покушения русскими гражданами Павловым и Корниловым, работающими в советском консульстве и торгпредстве.
Получив столь ценные признания, господин Кемаль Бора полетел к Сараджогло. Наутро газеты вышли с широковещательными сообщениями, что «тайна взрыва на бульваре Ататюрка» раскрыта благодаря оперативности турецкой полиции и мудрости заместителя генерального прокурора господина Кемаль Бора, проявившего недюжинные способности юридического мышления, анализа и оценки улик. Соучастники покушения Абдурахман и Сулейман, — писали газеты, — уже арестованы, и выясняется причастность некоторых иностранцев к этому покушению.
Через несколько дней Павлов и Корнилов были арестованы турецкой полицией. Им было предъявлено обвинение в организации покушения на германского посла. Первые допросы шли в Стамбуле. Кемаль Бора и стамбульский губернатор состязались в тонкостях психологического подхода, убеждая арестованных сознаться в деле, к которому они, заведомо для допрашивающих, не имели никакого отношения. Маленький, пухленький, с розовыми щечками и бегающими мышиными глазками, Кемаль Бора произносил часовые речи, доказывая Павлову и Корнилову, сколь выгодным будет для них признание. Господин губернатор, сменяя уставшего прокурора, в свою очередь гарантировал все блага мира, свободу, деньги, почет и турецкое подданство за «чистосердечное раскаяние и признание». Русские упрямо твердили, что не имеют никакого отношения к взрыву на бульваре Ататюрка.
Тогда их перевели в Анкару. Были проведены очные ставки с Абдурахманом и Сулейманом.
Первым в кабинет начальника анкарской тюрьмы, где проводилась очная ставка, был приведен Абдурахман. Павлов сидел у стены, направо от входа. За его спиной стояли двое дюжих полицейских. Кемаль Бора и полицейские чиновники полукругом восседали за столом. Абдурахман вошел в кабинет, развязно поклонился прокурору, полицейским и картинно встал у порога.
— Обвиняемый Абдурахман, — начал скрипучим голосом прокурор, раздувая щеки от сознания важности момента, — не знаете ли вы человека, сидящего на этом стуле?
— Господин прокурор, — ответил Абдурахман, — встав на путь чистосердечного признания вины и искреннего раскаяния в совершенном преступлении, я отвечу вам правдиво и честно — да, я его знаю.
— Что вам известно об этом лице? — продолжал Кемаль Бора.
— Это русский гражданин Павлов. Он и его товарищ Корнилов склонили меня, моего друга Сулеймана и покойного Омера к убийству германского посла.
Прокурор торжествующе посмотрел на Павлова, спокойно сидевшего на своем месте. Переводчик перевел Павлову вопросы прокурора и ответы Абдурахмана. Заметив улыбку Павлова, Кемаль Бора побагровел от злости.
— Передайте этому человеку, что он не в театре! — заорал он переводчику. — Правосудие требует от него признания вины, которая абсолютно доказана. Он напрасно улыбается — вчера Корнилов уже все признал, хотя он тоже раньше улыбался. Теперь его очередь. И пусть спешит признаться, пока не поздно! Он в руках турецкого правосудия. И мы найдем способ развязать ему язык!
Выслушав переводчика, Павлов коротко сказал:
— Мне нечего признавать. Совершенно очевидно, что все это «покушение» — гестаповская провокация. И я уверен, что это ясно не только мне, но и представителям турецкого правосудия. Требую свидания с советским послом или его представителем. Никаких показаний больше давать не буду. Все.
После Павлова допрашивался Корнилов. Ему, разумеется, также было объявлено, что Павлов «уже признался». Корнилов поднял Кемаля Бора насмех, заявив, что такая брехня не к лицу даже турецкому прокурору. Кем ал ь Бора завопил что-то насчет «оскорбления, которое он занесет в протокол». Корнилов, услышав эту угрозу, ответил, что он со своей стороны хочет, чтобы было зафиксировано лживое утверждение, что Павлов «признался».
Очная ставка с Сулейманом также ничего не дала, если не считать того, что Сулейман, забыв инструкцию, полученную перед этим, назвал Павлова Корниловым, а Корнилова Павловым. На очной ставке он переминался с ноги на ногу, тупо глядел в одну точку и тяжко вздыхал. Ему было невесело: накануне очной ставки в связи с его забывчивостью его безжалостно избили в карцере, обещанные сроки ареста истекли, дело затягивалось, и вообще он начинал сожалеть о том, что согласился участвовать в этой комедии. Несмотря на свою тупость, он начинал догадываться, что жестоко обманут и что будущее сулит ему уйму неприятностей…
Поведение Сулеймана было замечено. Кемаль Бора в глубине души был не прочь избавиться от такого «свидетеля», но в газетах уже было объявлено его имя, и исключение его из процесса было уже невозможно.
Двадцатого апреля 1942 года начался судебной процесс. Он шел в анкарском «дворце правосудия», в большом грязноватом зале. Судьи, прокурор и адвокат — в черных средневековых мантиях. Обвинял Кем ал ь Бора. Рядом с ним восседал и сам генеральный прокурор Джемиль Алтай, но тот больше молчал и только важно покачивал головой. Защитник, был один — Захир Зия Карачай; он защищал Абдурахмана. Павлов и Корнилов отказались от турецкого адвоката и заявили, что предпочитают защищать себя сами. Зал был набит до отказа публикой — анкарские чиновники, их жены — накрашенные турчанки, в высоких шляпах с перьями (это было тогда в моде), тайные агенты турецкой полиции, люди средних лет в штатском, с беспокойно шныряющими глазами, многочисленные турецкие и иностранные журналисты. В первом ряду сидели представители дипкорпуса, с интересом следившие за процессом, немцы и американцы, англичане и шведы, итальянцы и французы.
Заседание открылось ровно в двенадцать часов дня. Председатель суда, смуглый пожилой турок с заросшим лбом и множеством золотых зубов, исправно выполнил вступительные формальности, привел свидетелей к присяге и объявил перерыв. Карачай, кокетничая новехонькой адвокатской мантией, похаживал в перерыве среди публики со значительным видом независимого слуги правосудия. Сухопарый, немногословный Джемиль Алтай важно проследовал в свой кабинет. Кемаль Бора, чувствуя себя главным героем дня, перемигивался с дамами и продолжал стоять у входа в зал суда.
Провели куда-то подсудимых. Щебетавшие дамы бросились к проходу, как овцы. Первыми провели Абдурахмана и Сулеймана, а потом Павлова и Корнилова. Они шли рядом, спокойно беседуя, иронически поглядывая на жадно рассматривающую их публику. Спокойствие и независимый вид Павлова и Корнилова удивили дам, ожидавших встретить экзотические физиономии «русских разбойников», как окрестили их в этот день бульварные турецкие газеты.
Большая группа иностранных журналистов курила в углу коридора. Тут были главным образом англичане, американцы, французы и русские. Из турок около них вертелся только один, пожилой человек с седыми волосами и холеным розовым, необыкновенно сладким лицом, в подчеркнуто модном, длинном пиджаке и черепаховых очках. Это был Ялчин, турок по национальности, журналист по наименованию и давний английский агент по профессии. Он претендовал на роль представителя передовой, либеральной прессы и очень любил подделываться под европейский стиль в манере одеваться, высказываться и даже писать. На этом этапе мировой войны он выступал на страницах газет сочувственно по адресу союзной коалиции, но на всякий случай («одному аллаху известно, чем кончится эта всесветная кутерьма») был корректно сдержан и в отношении Германии, стараясь не очень задевать многочисленных немцев, орудовавших в Стамбуле и Анкаре.
Наутро все турецкие газеты вышли с отчетами о первом дне процесса, многочисленными фотографиями из зала суда и сенсационными заголовками.
Увы, уже первые судебные заседания принесли организаторам процесса немало огорчений: Павлов и Корнилов на суде твердо продолжали линию разоблачения провокационного характера «покушения». Упрямые русские не только отрицали свою вину, но сразу перешли от защиты к нападению спокойно, но с дьявольской настойчивостью припирали к стене свидетелей, выясняли множество пикантных деталей, задавали вопросы, от которых Кемаль Бора приходил в состояние полного смятения, и даже отпускали недвусмысленные замечания по адресу прокурора и методов расследования, которым он руководил.
Притом все это делалось в безупречно корректном тоне, очень спокойно, со ссылками на права подсудимых, вытекавшие из турецких процессуальных законов, и вместе с тем с полным чувством собственного достоинства. Это вовсе сбило с толку прокурора и председателя. При такой линии самозащиты не было никакой возможности прервать подсудимых, отклонить задаваемые ими вопросы или вывести их из зала суда. Придраться было решительно не к чему.
Публика начинала недоумевать. Захир Зия Карачай в первые дни процесса сидел с открытым ртом и выпученными от удивления глазами. Потом, получив соответствующую взбучку, пошел в лобовую атаку на подсудимых. Он начал с напыщенных заявлений о том, что Павлов якобы в последние три года уже занимался «покушениями» — в Риме на Муссолини, в Софии на царя Бориса и где-то еще на кого-то. Павлов, смеясь от души, документально доказал суду, что он все эти годы безвыездно работал в Стамбуле.
Тогда в дело вступил Кем ал ь Бора. Он заявил, что сведения о прошлом Павлова господин адвокат привел точно, так как ему, прокурору, о них также известно непосредственно от германской политической полиции. Павлов попросил суд занести это в протокол. Зал загудел. Сидевшие в первом ряду немецкие дипломаты начали перешептываться, проклиная неуклюжего турецкого прокурора. Карачай, вместо того чтобы замять этот эпизод, обрадовался и подтвердил источник этих сведений. Павлов в ответ попросил Карачая сообщить суду, когда он вступил в коллегию адвокатов, где получил юридическое образование й откуда взял средства на открытие адвокатской конторы.
Побагровевший Карачай отказался отвечать «на наглые вопросы подсудимого» и в ответ начал что-то выкрикивать насчет Центросоюза, который является «террористическим центром Коминтерна», и подсудимых — «агентов Центросоюза». Председатель дважды призывал адвоката к порядку, но тот продолжал обрушиваться на Центросоюз, в котором видел корень всех зол.
Тем не менее Павлов просил суд обязать адвоката ответить на его вопросы. Карачай в конце концов пробормотал, что в коллегию он вступил перед процессом, а юридическое образование получил в Берлине. Что же касается средств на открытие адвокатской конторы, то он воспользовался своими старыми сбережениями.
Тогда Павлов передал суду справку анкарского банка о том, что за два дня до открытия Карачаем адвокатской конторы ему была передана крупная сумма такой-то немецкой фирмой.
Справка вызвала сенсацию. Все знали, что это за фирма. В зале откровенно смеялись, раздался чей-то свист, публика шумела. Иностранные журналисты лихо скрипели перьями. Дипломаты в первом ряду, кроме немцев, разводили руками и саркастически улыбались. Кемаль Бора сидел с таким лицом, что за него становилось страшно. Один генеральный прокурор молчал с невозмутимым и даже довольным видом. Он в глубине души был рад провалу своего заместителя, который явно метил на его пост и сильно рассчитывал на лавры по этому делу, почему-то порученному ему, а не самому генеральному прокурору Джемилю Алтаю.
Это заседание закончилось коротким заявлением Павлова, который сказал:
— Господа судьи, заканчивая представление документов по этому эпизоду, я должен выразить свое соболезнование господину прокурору Кемаль Бора, попавшему публично в столь непристойное и тяжелое положение своей ссылкой на сведения, полученные им непосредственно из гестапо. Я не могу в связи с этим не вспомнить старую турецкую поговорку: «Если ты пьешь воду из мутного источника, не удивляйся, что у тебя испортился желудок».
Дружный взрыв хохота в зале. Кемаль Бора вскакивает и что-то кричит. Председатель суда изо всех сил звонит в звонок, но зал продолжает грохотать…
Господин Петронеску с волнением узнавал все эти подробности. Дело, которое стоило стольких трудов, явно не клеилось. Если и дальше пойдет в таком же роде, будет полный провал.
Как бы в ответ на эти невеселые мысли прибыл приказ вылететь в Берлин. Ничего хорошего это не предвещало.
И вот он в Берлине, у самого рейхсфюрера СС — Гиммлера. В кабинете, кроме Гиммлера, его заместитель Кальтенбруннер и Канарис, один из руководителей военной разведки.
Гиммлер протер пенсне, надел его на острый хрящеватый нос, вытянул маленькую, как у змеи, голову по направлению к Петронеску и начал его внимательно рассматривать. Канарис сидел в стороне. Кальтербруннер молча курил.
Тяжелая пауза продолжалась минуты три. У Петронеску так билось сердце, что он испугался, как бы это не услыхал Гиммлер. Наконец, последний тихо спросил:
— Вы прибыли с добрыми вестями? С отличными известиями? С хорошим рапортом? У вас славно идут дела, неправда ли, румынская свинья?
— Я немец, господин рейхсфюрер, — пролепетал Петронеску.
— Вранье, немец не может быть таким тупым скотом! Это клевета на нацию, негодяй! Мы еще разберемся — кто вы такой, мы еще вас проверим… Каков подлец!.. Какой тупой мерзавец!..
Он вскочил с места и начал ходить по кабинету, продолжая что-то шипеть. Мелкие пузырьки слюны лопались в углах его тонкогубого рта. Глаза поблескивали за стеклами пенсне недобрыми зелеными огоньками. Худые пальцы рук непрерывно двигались, сжимаясь и разжимаясь. Но страшнее всего была его улыбка — тонкие губы широко раздвигались, обнажая кривые, редко посаженные зеленые зубы. Покачивая маленькой головой, венчающей длинную, худую шею с большим кадыком, он продолжал шипеть:
— И это называется агент Германии! Старый мастер!.. Кого вы допустили на процесс, болван? Двух кретинов, не способных даже заучить детское стихотворение? Идиотов, которым место в клинике психиатра? Дегенератов, способных вызвать только смех?.. Их вы допустили, мерзавец, на процесс мирового значения? Нет, скажите прямо, что это, умысел? Сколько вы получили за это, скажите, пока не поздно, иначе вы у меня скажете все, абсолютно все!.. Я сделаю из вас фарш!
Господин Петронеску молчал. Возражать и спорить было бессмысленно. Он понял, что погиб. Гиммлер всегда сдерживал свои обещания. Сегодня же начнутся пытки, допрос в подвале, «признание» и конец.
Между тем Гиммлер внезапно успокоился, подошел к столу, сел, вытер платком углы рта и спокойно, почти ласково, продолжал:
— Ошибки возможны всегда. Но есть предел ошибке и граница заблуждению. Я еще могу понять — просчет с этими дураками. Как их зовут, Кальтенбруннер?
— Абдурахман и Сулейман, рейхсфюрер, — коротко ответил Кальтенбруннер.
— Да, да, они… Повторяю, я еще могу это понять. Но как объяснить, посудите сами, что вы, специалист по русской душе, наметили в качестве обвиняемых Павлова и Корнилова? Посмотрите, как они себя ведут. Какое спокойствие, ирония, твердость… Наконец, я уверен, что они опытные юристы — это сразу чувствуется… Как вы смели предложить этих людей! Их одних достаточно, чтобы провалить процесс, не говоря уже об остальном… А это свинство с турецким адвокатом, которого я бы с удовольствием повесил… Кто переводит в таких случаях деньги через банк?.. Кто, я вас спрашиваю?
— Я не имею к этому отношения, — пролепетал наконец Петронеску. — И мне казалось…
— Ну да, вам казалось… А мне вот теперь кажется, что так поступают только с умыслом, нарочито, обдуманно, в определенных целях… И, конечно, за определенное вознаграждение… Не так ли, мой дорогой?
Гиммлер опять начал улыбаться. Петронеску похолодел. В этот момент вошел адъютант Гиммлера и положил перед ним телеграмму. Гиммлер начал ее читать, лицо его постепенно заливало краской, руки чуть дрожали. Он бросил недокуренную сигарету в пепельницу, затем почему-то начал ее мять и вдруг, схватив рукой пепельницу, с силой бросил ее в угол. Фарфоровая пепельница с треском разлетелась на куски.
— Читайте, — сказал он Петронеску, — вот плоды вашей энергичной работы. Читайте!
В тумане, застилавшем глаза, господин Петронеску с трудом прочел:
«Из Анкары. Рейхсфюреру ОС.
Сегодня на процессе произошел ужасный инцидент. Неожиданно для всех Сулейман обратился к председателю суда и заявил, что он отказывается от всех прежних показаний, что он никогда не знал Павлова и Корнилова, что и Абдурахман их также не знал и что Павлов и Корнилов вообще не имеют никакого отношения к покушению на Папена. Сулейман заявил, что давал раньше ложные показания по принуждению полиции, где его подвергали пыткам и требовали, чтобы он оговорил русских.
Заявление Сулеймаыа произвело сенсацию на процессе. В зале раздались крики: «Позор! Позор!» Прокурор Кемаль Бора до такой степени растерялся, что расплакался в присутствии публики. Председатель поспешно объявил перерыв.
Мы приняли меры к тому, чтобы Абдурахман не последовал примеру Сулеймана. Изыскиваем возможности повлиять и на последнего, чтобы восстановить его в прежних показаниях, хотя надежд на это мало. Павлов и Корнилов ведут прежнюю линию. Меры к смягчению отчетов о процессе в турецкой прессе нами предприняты».
На следующий день господин Петронеску снова имел личную беседу с Гиммлером и Кальтенбруннером. Ему сказали прямо, что он может себя спасти лишь одним — выполнить очень серьезное поручение в России. Лишь в этом случае он снова завоюет доверие, а стало быть, жизнь.
На рассвете специальным самолетом господин Петронеску вылетел в район Смоленска, к господину Крашке.
9. НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Когда господин Петронеску высадился из транспортного самолета «Юнкерс-52» на смоленском аэродроме, было ясное летнее утро, вселяющее бодрость и уверенность. Петронеску сел в поджидавшую его машину и проследовал на «комбинат» к господину Крашке, товарищу своей молодости и свидетелю его первых успехов.
Они не виделись несколько лет. Тем не менее встреча старых друзей была более чем сдержанной. Они не любили друг друга.
За завтраком хозяин угостил гостя русской водкой, русскими папиросами, и разговор сразу пошел о русских делах.
Петронеску предъявил предписание, в котором Крашке предлагалось выделить в его распоряжение пятерку опытных агентов и вместе с ним перебросить их в советский тыл.
— Я не собираюсь долго здесь задерживаться, — сказал Петронеску, — но хочу лично отобрать людей и изготовить некоторые документы.
— Я и мои люди к вашим услугам, — довольно любезно сказал Крашке, обрадовавшись тому, что неприятный гость скоро уберется. — Когда начнете отбор?
— Хотя бы сегодня, — ответил Петронеску.
Крашке имел полное основание думать, что приезд Петронеску означает выражение со стороны начальства некоторого недоверия к его способностям. Это недоверие было вызвано не совсем удачным началом дела Леонтьева и участившимися случаями провала агентов Крашке. Крашке умолчал о том, что фамилия Леонтьева ему давно известна.
Действительно, последний год начался с неприятностей. Провалился один из лучших агентов Крашке, Филипп Борзов, много раз побывавший в советском тылу и всегда приносивший ценные сведения. Филипп, бывший кулак, и махновец, пожилой, одинокий, неразговорчивый человек, был завербован в самом начале войны.
Проучившись три месяца в школе Крашке, Филипп был переброшен через линию фронта. В напарницы дали ему молодую девушку по имени Ванда. Они изображали бродячих музыкантов, отца и дочь. Филипп играл на баяне, Ванда — на скрипке. В баяне был радиопередатчик. Филипп играл для проходивших частей на фронтовых дорогах, а по ночам передавал немцам данные о подходящих резервах, сообщал ориентиры для бомбежек, старался обнаружить слабые участки обороны.
Пожилой баянист и его миловидная дочь не вызывали никаких подозрений.
Но вот однажды среди слушателей оказался лейтенант, который сам был отличным баянистом. Он обратил внимание на то, что баян срывается на переборах. Лейтенант сначала подумал, что мехи не в порядке, и вызвался исправить инструмент, но Филипп баяна не дал и продолжал играть. Внимательно вслушавшись, лейтенант понял, что внутри баяна что-то есть. Вырвав баян. из рук Филиппа, офицер разрезал мехи и извлек оттуда передатчик. Ванда, воспользовавшись тем, что общее внимание было сосредоточено на старике, убежала. Так провалился Филипп.
Крашке был вдвойне огорчен: потерей ценного агента и провалом фокуса с баяном.
Правда, он тут же придумал новый прием. Вызвав к себе начальника технической мастерской «-комбината», Крашке сказал:
— Вы не учитываете психологию русской нации. Наши агенты проваливаются. Вы не понимаете славянской души… — Крашке самодовольно и загадочно улыбнулся. — Русские, мой друг, как и все славяне, весьма жалостливы. Мы должны использовать славянскую жалость.
И он начал объяснять:
— Отныне надо посылать к русским калек. Да, калек. Человек с ампутированной ногой, инвалид войны, — это, черт возьми, чего-нибудь да стоит! Одним словом, следует продумать, как поместить передатчик в протез. Если этот протез начинается от бедра…
— Но ведь для этого нужны люди, у которых ноги ампутированы от бедра, — наивно усомнился техник. — А это бывает довольно редко.
— Вы чудак! — возразил Крашке. — Не все ли равно этим русским свиньям, как мы их будем ампутировать: только ступню или всю ногу от бедра… Дайте секретную телеграмму в соседние госпитали. Протез — это мысль. Делайте!
Так немцы радиофицировали протезы. Но и это не помогло. «Инвалиды» тоже проваливались. Условия работы все более усложнялись. А тут накануне приезда Петронеску случилась новая неприятность. К одному из участков советской линии обороны вплотную примыкала важная железнодорожная ветка, которую надо было вывести из строя. Лучше всего это можно было сделать, уничтожив железнодорожный мост. Многократные попытки разбомбить мост с воздуха ни к чему не привели. Тогда Берлин прибегнул к Крашке как к последнему средству.
Мобилизовав лучшую свою агентуру, Крашке перебросил в прилегающий к намеченному объекту район несколько человек и значительное количество тола. Все переброшенные диверсанты были одеты в форму железнодорожников и явились на место под видом представителей НКПС, прибывших якобы для проверки технического состояния моста.
Начальник этого участка службы пути отсутствовал: он был вызван в управление дороги для доклада. Заменял его новый человек, не имеющий достаточного опыта, а главное, весьма доверчивый. Он приветливо встретил «комиссию» и прежде всего предложил гостям позавтракать. За столом один из гостей подбросил таблетку с сильно действующим наркозом в рюмку гостеприимного хозяина. Это заметила десятилетняя девочка, дочь дорожного мастера, которая была нездорова е лежала тут же в избе, на полатях.
Она тихо сползла с полатей и проскользнула к матери, возившейся на кухне. Хозяйка немедленно сообщила об этом командиру подразделения, охранявшего мост. Дом был оцеплен, и «комиссию» арестовали. В чемоданах был обнаружен тол, приготовленный для взрыва моста.
Крашке был в отчаянии. Начальство, которому поневоле пришлось обо всем доложить, разразилось весьма язвительным письмом.
«Я должен разъяснить вам, герр Крашке, — писал начальник, — что в компетенцию нашей службы отнюдь не входит задача снабжения органов НКВД толом, как вы это, по-видимому, считаете. Нам совершенно непонятно, каким образом люди с вашим опытом и квалификацией могут попадать в столь глупые и непристойные положения…»
И теперь Крашке усмотрел в приезде Петро-неску выражение крайнего недоверия к себе, а Петронеску не счел нужным его разубеждать.
Невесело было на душе у господина Крашке.
После завтрака господин Крашке повел гостя осматривать свои владения. Герр Стефан показал свою продукцию и с достоинством выслушал комплименты. Когда гость увидел в «допросной» толстые плети со свинчаткой, резиновые палки и наборы каких-то щипцов, зубил, клещей и тому подобных инструментов, он многозначительно улыбнулся.
— Я вижу, вы верны своим вкусам, господин Крашке, — сказал он, — и попрежнему любите эти развлечения.
— Поверьте, это не только развлекает, — улыбнулся Крашке, — но и приносит весьма существенную пользу. Если хотите, сегодня, попозже вечером, можете убедиться в этом. Доставлена девушка-партизанка. Пока она хранит молчание, но сегодня…
— Благодарю, это не по моей специальности. И, кроме того, я не выношу женского крика, — ответил Петронеску. — Я бы хотел поскорее заказать себе документы.
Они прошли в мастерскую, изготовлявшую документы. Петронеску тщательно ознакомился с оттисками гербовых печатей различных советских учреждений, всякого рода удостоверениями, паспортами, военными билетами, штампами милицейской прописки и т. п. Все это было сделано очень аккуратно и выглядело отлично.
— В качестве кого вы намерены туда перебраться? — коротко спросил Крашке.
— Я думаю, лучше всего, если я и отобранные мною люди поедем под видом делегации какой-нибудь области, привезшей на фронт подарки, — ответил Петронеску. — Во-первых, там это в моде, во-вторых, это обеспечит нам теплый прием, в-третьих, это будет объяснять нашу естественную любознательность. Да, нынче наша служба совсем уже не та, что была когда-то. Увы, кончились времена, когда мы работали в кафешантанах, когда красивая женщина — любовница министра или содержанка генерала — делала нам игру! В Советском Союзе эти методы совершенно исключены. Уверяю вас, что здесь даже Мата Хари, звезда германской разведки, была бы арестована через два месяца. Нет, тут нужна гораздо более тонкая работа. Вот жаль, что у меня нет фотографии Леонтьева, но ничего, я и так его найду.
— Делегация — отличная выдумка, — ответил Крашке. — Но в таких случаях фронт, вероятно, получает извещение из Москвы…
— Я это предвидел, — ответил Петронеску. — Наши люди в Москве постараются все организовать. А я на всякий случай запасусь у вас документами. Пока надо отобрать людей. Я думаю так: шесть человек, из них две комсомолки, один пожилой пролетарий, один представитель обкома — это я, ну, и еще кто-нибудь из интеллигенции…
— У меня есть несколько перебежчиков, которым я вполне доверяю, — сказал господин Крашке, — тем более, что они уже сожгли за собой все мосты.
— Отлично, — сказал Петронеску. — Надо будет приготовить подарки. Папиросы, шоколад, вино. Можно немного парфюмерии. Но чтобы все это было солидно…
К вечеру люди были отобраны: две девушки, один пожилой человек и двое мужчин неопределенного возраста, Петронеску подробно поговорил с каждым в отдельности. Старшая из девушек, по имени Вера, до войны служила в ателье мод, а когда пришли немцы — сошлась с гитлеровским офицером и затем была завербована разведкой. Кукольное личико, бездумные, пустые глаза, густо намазанные ресницы и чрезмерная вертлявость обличали в ней особу определенного пошиба. Другая, по имени Тоня, была еще совсем молода — ей было всего лет восемнадцать. Она была дочерью петлюровца, родилась и выросла в Германии, но хорошо владела русским языком. «Пожилой пролетарий» был старый агент немецкой разведки, работавший до войны конторщиком на военном заводе. И, наконец, два человека неопределенного возраста были завербованы из числа лиц, дезертировавших из Красной Армии.
В тот же день началась индивидуальная подготовка членов «делегации».
Девушки должны были изображать комсомолок. С ними вели «практические занятия»: их учили, как разговаривать на фронте, как приветствовать бойцов, как вручать подарки, как отвечать на всевозможные вопросы. «Пожилой пролетарий», который должен был изображать старого мастера оборонного завода, получил инструкцию касательно всяких технических и производственных терминов и разговоров с бойцами. Бывшие дезертиры должны были представлять советскую интеллигенцию из областного центра, поэтому один из них готовился к роли агронома из облзо, а второй — к роли преподавателя географии из пединститута.
Сам Петронеску, взявший на себя роль представителя обкома партии, детально знакомился с материалами о работе партийного аппарата (по данным Крашке) и всякого рода литературой. Он выбрал себе фамилию «Петров» и упражнялся в произнесении приветственных слов и докладов.
Так проходило время. Ежедневно члены «делегации» проводили вместе по нескольку часов, подробно обсуждая поведение каждого в самых различных ситуациях.
По окончании подготовки Петронеску и Крашке начали выбирать место, где было бы всего безопаснее выбросить парашютный десант.
Они остановились на глухом, малонаселенном железнодорожном разъезде, в одном из районов Н-ской области.
В Берлин радировали о принятом решении, и на следующий день было получено согласие.
Около двух часов ночи вся «делегация» была доставлена на ближайший аэродром и там погружена в транспортный самолет.
«Юнкере» с ревом вырулил на старт, взял разбег, толчком оторвался от земли и круто пошел вверх, в темное ночное небо, прямо навстречу Большой Медведице. Набрав высоту, машина легла на курс и пошла через линию фронта в советский тыл.
Минут через сорок стали подходить к намеченному пункту. Спокойная русская равнина с небольшим леском, вьющейся лентой реки и аккуратно вычерченной линией железнодорожного полотна раскинулась под крыльями самолета. Пилот постучал в пассажирскую кабину.
Петронеску рассматривал в ночной бинокль расплывающиеся в сумраке мягкие контуры мирного сельского пейзажа.
Ни одного огонька, ни одного движущегося предмета, ничего, что заставило бы насторожиться, забеспокоиться. Да, надо прыгать…
Петронеску три раза постучал в кабину пилота. Мотор перешел на малые обороты, и машина почти бесшумно стала планировать вниз. Петронеску с трудом открыл боковую дверку. Ночной воздух со свистом ворвался в самолет. Петронеску вышвырнул один за другим четыре чемодана с подарками, из которых каждый был снабжен парашютом-автоматом, и молча указал девушкам на распахнутую дверцу. Вера подошла к зияющей пропасти и? взявшись рукой за боковой поручень, заглянула в нее. Где-то внизу, очень далеко, загадочно молчала земля.
— Ой! — тихо вскрикнула Вера. — Ой? страшно!..
Петронеску шагнул к Вере и, оторвав ее руки от поручней, вытолкнул девушку из самолета. Раздался крик, который сразу ветром отнесло в сторону. Вера камнем полетела вниз, но через несколько секунд раскрылся купол ее парашюта.
За нею прыгнула Тоня, успевшая только воскликнуть перед прыжком: «Ой, мамочка!» Потом, перекрестясь и почему-то разгладив усы, неуклюже выпрыгнул «пожилой пролетарий». Наконец, очередь дошла до «представителей областной интеллигенции». Господин Петронеску обернулся к ним и даже засопел от злости: оба «интеллигента» забились в угол, судорожно вцепившись в бортовые поручни.
— Ну! — крикнул Петроиеску. — Ну, прыгайте!.. Или вы думаете, что здесь шутят?.. Прыгать!..
Но оба не двинулись с места и только еще крепче схватились за поручни.
— А, сволочь! Скот! Прыгай!.. — заревел Петронеску, бросился к ним и, выкрикивая вперемежку немецкие и русские ругательства, схватил за шиворот первого. Но тот, дрожа от страха, продолжал цепляться за поручни. Петронеску ударил его изо всех сил и начал стучать кулаком в пилотскую кабину. Оттуда сейчас же вышел помощник пилота, молодой офицер с револьвером в руке.
— Что, опять эти русские свиньи не хотят прыгать?.. — спокойно спросил он по-немецки. — Это обычная история… Сейчас я вам помогу.
Подойдя к первому из «интеллигентов», офицер ударил его револьвером по голове. От боли и испуга тот вскочил, на минуту выпустив поручни.
В ту же секунду офицер схватил его за шиворот и потащил к двери. Петронеску помогал офицеру.
Наконец они с трудом вытолкнули этого человека. Он полетел вниз. Тогда настала очередь последнего.
— Рус, прыгай! — по-прежнему спокойно сказал офицер, наводя на него дуло револьвера. — Прыгай, или капут…
— Не-не надо, — промычал тот, лязгая зубами. — Ммо-мочи нет… Пот-том… Нне-не сейчас… Сердце…
— Вот тебе, сволочь, сердце! — завопил Петронеску, ударив его в живот. — Вот тебе мочи нет!..
Офицер, смеясь, тоже прибавил несколько увесистых оплеух.
Но «интеллигент» продолжал судорожно цепляться за поручни. Офицер потерял спокойствие и начал как-то странно завывать. Петронеску вспотел от ярости и физического напряжения.
Наконец, окончательно потеряв терпение, задыхаясь от ярости, Петронеску выхватил револьвер и разрядил всю обойму — девять выстрелов — в полуоткрытый, жарко дышавший рот этого человека. Тот всхлипнул и начал медленно сползать на пол.
— О, вы очень правильно поступили, — произнес офицер, — от него была бы слишком малая польза…
Не отвечая офицеру, Петронеску прыжком бросился к двери и, не останавливаясь, с разбегу прыгнул вниз. Ночной воздух со свистом обжег его лицо. На мгновение перехватило дыхание. Он яростно рванул кольцо парашюта и радостно ощутил, как его сразу, толчком, дернуло кверху. Затем он плавно понесся вниз, к загадочно молчавшей ночной земле.
10. ЛЕСНАЯ НОЧЬ
В июле на том участке фронта, где находился Леонтьев, наступило относительное затишье. Правда, немцы сделали несколько попыток вернуть хотя бы часть потерянных позиций, но все их атаки были отбиты, и наши части прочно закрепились на новых рубежах. Лето в этом году было позднее и только теперь, в начале июля, окончательно вступило в свои права.
Артиллерийское соединение, в котором находился Леонтьев, стояло в глухом, темном лесу, с обширными болотами, поросшими осиной, и лесными озерами с черной, крепко настоеиной водой, пахнущей, как лекарство. Лес тянулся на десятки километров и в непогоду шумел, как океан. Ни недавние бои, ни скопление артиллерии, ни рокот ночных самолетов, проходивших часто над лесом, не могли нарушить его извечный, угрюмый покой. В тихие летние ночи здесь только верхушки сосен сонно перешептывались, да в озере лениво плескалась рыба. Неяркие летние звезды потихоньку заглядывались в черное зеркало спящего озера и потом, как бы в смущении, застенчиво прикрывались пушистыми облаками.
Все спит — лес, озеро, ночное небо, бойцы в палатках, орудия в брезентовых чехлах. В лагере ни огонька: костры запрещены, вспышка спички — черное преступление. Застыли на постах часовые.
Темная ночь стоит над уснувшим лагерем. Только у одной землянки тихий мужской разговор. Полковник Свиридов и Леонтьев беседуют по душам. За это время они привыкли друг к другу, вдвоем им было всегда интересно, всегда находилось, о чем поговорить.
Леонтьеву был симпатичен Свиридов, живой, горячий, умный человек. Он никогда не унывал, знал в лицо каждого бойца, был прост, но строг, доступен, но суров, всегда требовал порядка, дисциплины, чистоты. Лодырей и тупиц не терпел и понимал своих солдат с полуслова. Он был кадровый артиллерист, окончил артиллерийскую академию и когда говорил об артиллерии — у него загорались глаза. Он с гордостью говорил о том, что русская артиллерия всегда славилась, а в советские времена выросла и усилилась необычайно. Свиридов мог часами рассказывать о марках стали, огневом вале, прицельном огне. Он наизусть помнил размеры и наименования орудий всех армий мира. Он признавал мощь «А-2», радовался их поражающим свойствам, но прямо указывал Леонтьеву на необходимость упрощения управления орудиями и увеличения прицельное™ огня.
Леонтьеву были приятны эта прямота, знание дела, толковые советы, которые давал ему Свиридов. Он в свою очередь вызывал симпатии Свиридова своей скромностью, даже некоторой застенчивостью, уважением к чужому мнению, умением внимательно выслушать всякое критическое замечание, совет, предложение. Свиридову нравилось, что конструктор «не задается», советуется с артиллеристами, ведет себя просто и «не лезет в гении».
Так началась их дружба. Постепенно круг их ночных бесед все более расширялся. Много говорили о войне, о народе, показавшем в этой войне поразительные свойства души и характера. Оба с интересом отмечали, что героизм и выносливость, всегда бывшие свойствами русского солдата, теперь, однако, расцвели совсем по-новому, умноженные глубокой сознательностью, укрепленные верой в свое правительство, сознанием своей правоты и всемирно-исторической роли. В этой новой психологии бойцов сказывалось советское воспитание. Свиридов приводил Леонтьеву много примеров новой психологии людей, когда самый, казалось, малокультурный боец «внезапно» обнаруживал очень тонкое и глубокое понимание происходящих событий, международной обстановки, особенностей этой войны и своего долга в широком, буквально историческом значении этого слова.
Но не только в этом сказывались замечательные черты психологии советских людей. Они проявлялись и в их оптимизме, в железном законе товарищества и братства. Русские и украинцы, казахи и грузины, армяне и евреи жили в соединении не просто дружно — это слово никак не подходило — жили, как братья, как одна семья. Да они и были братья, дети одной великой семьи, одной великой и единой Родины.
В свою очередь Леонтьев рассказывал жадно слушавшему Свиридову о том, какие удивительные процессы происходят в так называемом «тылу» страны, где идет работа на фронт.
Леонтьев вел речь о тех же советских людях, новая психология которых раскрылась в их самоотверженном труде в далеких кузницах Урала, в домнах Магнитки, на бесчисленных артиллерийских, авиационных, автомобильных, сталелитейных, станкостроительных, танковых заводах, работающих день и ночь, без выходных дней, иногда в очень тяжелых условиях. Он рассказывал о том, как огромные предприятия, эвакуированные на восток страны, разворачивались на новых местах в удивительно короткие сроки, ломая все веками сложившиеся представления о человеческих и технических возможностях. О том, как в свирепые сибирские морозы строители без отдыха днем и ночью воздвигали новые цеха, которые начинали давать продукцию раньше, чем строители успевали смонтировать над ними крышу. О том, как дети — двенадцатилетние, четырнадцатилетние мальчики и девочки — помогали отцам делать танки и орудия, самолеты и автомобили и только в обеденные часы позволяли себе стыдливо играть в пятнашки, тут же в цехах, потому что дети все-таки оставались детьми… О том, как в деревнях дети, женщины и старики вели ожесточенную борьбу за каждое зернышко, за каждый колос, за каждую картофелину, потому что надо было урожаем этих, не захваченных врагом полей прокормить армию и тыл.
Суровые условия фронта, опасность, нависшая над Родиной, трудности и лишения только подняли боевой дух народа, укрепили его патриотизм, еще сильнее сплотили его. Свиридов рассказал Леонтьеву по секрету, наряду с прочим, историю одного младшего командира, Фунтикова, которого Леонтьев не раз видел, не зная его биографии. Это был молодой, лет двадцати пяти, сухощавый парень с живыми глазами и озорной, лукавой улыбкой, без которой его трудно было себе представить, так органична она была для его лица.
— К вашему сведению, — рассказывал Свиридов, — этот Фунтиков — профессиональный карманник, имеющий не одну судимость. Он побывал в ряде лагерей и с детских лет занимался карманными кражами. За месяц до войны, весною тысяча девятьсот сорок первого года, с ним случилась история, перевернувшая всю его жизнь. Я знаю о ней с его слов, во-первых, и из рассказов нашего уполномоченного контрразведки майора Бахметьева, работавшего до войны народным следователем, во-вторых. Характерно, что Фунтикова и Бахметьева теперь водой не разольешь, до такой степени они привязаны друг к другу.
— В чем секрет такой привязанности? — улыбнулся Леонтьев.
— А вот сейчас я все расскажу. История, как мне кажется, весьма любопытная.
Свиридов осторожно, в кулак, закурил папиросу, несколько раз жадно затянулся и начал свой рассказ:
— Началась эта история в одно ясное майское утро тысяча девятьсот сорок первого года. Следователь Бахметьев, как всегда, рано утром пришел на службу и приступил к работе.
Надо вам сказать, товарищ Леонтьев, что следователи по уголовным делам разделяются на «бытовиков», «хозяйственников» и «сексуалистов», то есть специализируются по расследованию преступлений бытовых, хозяйственных и сексуальных. Разумеется, им приходится расследовать всякие дела, но у каждого следователя обычно имеется «своя струнка», склонность к расследованию определенных видов преступлений, а стало быть, и соответственные навыки и способности.
Бахметьев принадлежал к довольно редкой группе следователей — любителей хозяйственных дел. Всякие там балансы, сальдо, двойные и прочие бухгалтерии, недостачи на оптовых базах, дерзкие растраты и запутанные торговые комбинации интересовали его гораздо больше, нежели вооруженные ограбления, убийства из ревности и прочие, как он выражается, «пережитки быта». Да, Бахметьев решительно предпочитал унылых растратчиков, в глубине души давно примирившихся с неизбежным приговором, заведующих оптовыми базами с беспокойным блеском в глазах и сухопарых, подвижных, молниеносно соображающих комбинаторов — специалистов по разного рода мошенническим операциям.
Роясь в кипах отчетных документов и колонках бухгалтерских записей, неумолимо нащупывая самые запутанные, мастерски завуалированные счета и бухгалтерские проводки, угадывая каким-то особым, профессионально выработавшимся чутьем преступные связи и комбинации, Бахметьев работал, как одержимый, не зная усталости, с подлинно артистическим вдохновением.
В утро, о котором идет речь, он, как всегда, склонился над папкой с очередным делом и погрузился в изучение кипы бухгалтерских документов. Внезапно раздался резкий звонок его настольного телефона. Оторвавшись от дел, Бахметьев взял трубку.
«Вас слушают».
«Мне нужен товарищ Бахметьев, Сергей Петрович», — послышался почему-то знакомый (у Бахметьева отличная память на голоса) тенорок.
«Бахметьев у телефона. Кто говорит?»
«Говорит ваш бывший клиент, Сергей Петрович. Одним словом, обвиняемый. Имею к вам спешное дело особой государственной важности…»
«Кто говорит? — строго переспросил Бахметьев. — Я ничего не понимаю. Какой обвиняемый?»
«Боюсь не помните меня, много прошло времени. Докладывает Жора-хлястик, ежели изволите помнить… Проходил у вас по делу о похищении со взломом морских котов в Мехторге… Одним словом, старый знакомый…»
Бахметьев вспомнил. Да, лет пять тому назад действительно было в его производстве дело о похищении большой партии меховых товаров на оптовой базе Союзпушнины. По этому делу привлекалась группа лиц во главе с заведующим базой, по инициативе которого и была инсценирована кража со взломом. Среди прочих обвиняемых проходил и один молодой карманник, случайно затесавшийся в эту компанию.
Бахметьев заказал «бывшему клиенту» пропуск. Вскоре на пороге его кабинета появилась личность небольшого роста, в брюках неопределенного цвета и щегольской, замшевой «канадке» на молнии. Личность еще на пороге отвесила изысканный поклон, молча поставила в угол небольшой чемодан из фибры ядовито-желтого цвета и выжидательно уставилась прямо в лицо Бахметьева озорными, с лукавой искрой, глазами.
«Ваша фамилия?» — суховато спросил следователь, не любивший называть обвиняемых по кличкам.
«Фунтиков, — быстро ответил пришедший. — В миру Жора-хлястик, а от папы с мамой — Фунтиков, Маркел Иваныч».
«Помню, — ответил Бахметьев. — Садитесь» Чем могу служить?»
Фунтиков присел на самый краешек стула, разгладил на коленях пушистую кепку и озабоченно спросил:
«Каким располагаете временем?»
«Я вас слушаю», — вежливо, но суховато ответил следователь.
«Прибыл по своей специальности, — начал Фунтиков. — Если изволите вспомнить, я по своей квалификации карманник и всегда работал по этой линии. По меховому делу я влип тогда случайно, попал, как говорится, в дурное общество, уговорили меня, как фрайера, и вообще нужно мне это было, как рыбке зонтик… У меня, Сергей Петрович, золотые руки, и незачем было идти на эту меховую липу. Получил я, как пижон, пять со строгой, отбыл три, получил досрочное за ударную работу в лагере и вернулся к прежней специальности».
«По карманной части?»
«Так точно. Между прочим, не стал бы этого касаться, если бы не вчерашнее происшествие на Белорусском вокзале. О чем и считаю необходимым доложить. Можно по порядку?»
«Можно», — ответил Бахметьев, с интересом слушая.
«Вчерашний день прибыл я на работу на Белорусский вокзал, как всегда, к отходу заграничного поезда Москва — Негорелое. Между прочим, шикарный экспресс, интеллигентная публика, дамы с вуалетками и заграничные чемоданы. Правда, чемоданы не по моей епархии, но если чемодан крокодиловой кожи, кругом на молниях, и весь в наклейках, то у такого пассажира и в кармане есть о чем поразмыслить. Ну, прихожу на перрон, второй звонок, сутолока, пассажиры прощаются, дамы уже вытащили платочки, носильщики огребают чаевые, паровоз пыхтит. Одним словом, час-пик для нашего брата. Именно в этот момент надо не разевать рот, а приступать к молотьбе и уборке урожая. Я уже заранее выбрал себе подходящего карася — иностранец, стекло в глазу, перчатки. Пришел он минут за пять, провожал какого-то типа, сунул ему что-то и еще, видно, сунуть хотел, да не успел. В толкотне у международного вагона я бочком к нему прижался, отточенный двугривенный зажал между пальцами и очень деликатно вырезал у него задний карман. Увел у него на ощупь толстый бумажник и отшвартовался влево. Здесь, Сергей Петрович, я довольно независимо прогулялся, бежать сразу вредно, потом звонок, свисток, поезд тронулся, и я тоже лег на курс и вышел на площадь. Ну, натурально, зашел в кафетерий, заказал пиво с раками, вынул бумажник, раскрыл и аж похолодел…»
«Почему?» — спросил Бахметьев.
«Именно потому, что в бумажнике был чистый шпионаж, статьи пятьдесят восемь дробь шесть, и коварные методы иностранных разведок… Вот посмотрите сами, Сергей Петрович, убедитесь».
И Фунтиков протянул следователю бумажник.
Бахметьев раскрыл бумажник и прежде всего увидел проявленную пленку длиною около метра. На кадрах пленки можно было рассмотреть переснятые технические чертежи, конструкции и различные цифры. Кроме того, в бумажнике были записки на немецком языке, сделанные карандашом, визитная карточка какого-то Отто Шеринга, коммерсанта, американские доллары и немецкие марки. Документов, удостоверяющих личность владельца бумажника, не было, так как визитная карточка, судя по надписи на ее обороте, принадлежала одному из его знакомых.
Рассмотрев содержание бумажника, Бахметьев перевел взгляд на Фунтикова. Тот сидел с серьезным выражением лица, перебирая в пальцах кепку.
«Что это за чемодан?» — спросил Бахметьев, указывая на чемоданчик, поставленный Фунтиковым в угол.
«Необходимый набор для домзака. Захватил на случай посадки, — ответил Фунтиков. — Ибо дело делом, а суд по форме. Я, Сергей Петрович, прежде чем к вам войти, ночь не спал — раздумывал. Сами посудите — в кои веки такой случай мог произойти, что моя работа пользу государству принесла… Натурально, не выдержал и пошел».
«Вы сможете опознать человека, у которого вырезали бумажник?» — спросил Бахметьев.
«А как же! Да я его на всю, можно сказать, жизнь запомнил. Высокий, носатый такой… Извините, задом на ходу виляет».
Бахметьев подумал и коротко, очень серьезно произнес:
«Вот что, Фунтиков. Арестовывать я вас не буду, хотя вы правы, что дело делом, а суд по форме. Но адрес ваш может понадобиться. Понятно?»
«Понятно, Сергей Петрович, — с чувством ответил Фунтиков. — Понятно и весьма приятно».
«Это не все, — продолжал Бахметьев. — Вы должны мне дать слово, что перестанете воровать, иначе, сами понимаете…»
Отпустив Фунтикова и записав его адрес, Бахметьев доложил о визите своего старого «клиента» прокурору. Заявление Фунтикова и бумажник были переданы следственным органам, компетентным в этих вопросах. Вскоре благодаря документам, находившимся в бумажнике, удалось установить тот специнститут, в котором орудовала агентура германской разведки. Выяснена была и личность владельца бумажника, сотрудника германской миссии в Москве. Явившись на Белорусский вокзал для проводов одного из агентов германской разведки, этот «дипломат» намеревался отправить с ним добытые документы и фотографии, но был обворован Фунтиковым. По-видимому, это происшествие испугало «дипломата», и он еще до того, как была установлена его личность, спешно «заболел» и выехал из Москвы в Германию, откуда больше не возвращался.
Фунтиков, не знавший всех этих подробностей, потерял покой, стараясь найти человека, у которого он вырезал карман. Ему очень хотелось довести дело до конца и найти шпиона. И, хотя никто ему этого не поручал, он почти ежедневно посещал Белорусский вокзал, болтался у гостиницы «Метрополь», в которой обычно останавливались иностранцы, бродил по комиссионным магазинам. Но все его старания были тщетны — толстого блондина с виляющим задом не было, его и след простыл.
Дав слово Бахметьеву прекратить воровство, Фунтиков его сдержал. Через месяц пришел к Бахметьеву и попросил устроить его на работу.
«Месяц я продержался, — сказал он. — Были деньги, барахло. Теперь амба — все кончилось. Жить не на что. Устраивайте, Сергей Петрович, а то не выдержу. Я человек культурный, мне надо кушать, курить и ходить в кино. Но только условие — никто меня не перековывал, карманником я не был, и вообще я такой же, как все. А то приду на работу, все полезут с сочувствием, со вздохами и советами, местком шефство возьмет… Не хочу! Я человек стеснительный и самолюбивый. Я хочу без месткома. И без сочувствия. Можете так определить?»
«Могу», — ответил Бахметьев.
И в самом деле, устроил Фунтикова администратором одного из кинотеатров. Эта работа понравилась Фунтикову, который вообще был большим любителем кино.
Но скоро началась война. В первые же дни войны Фунтиков пришел к Бахметьеву, с которым он теперь нередко встречался.
«Сергей Петрович, я опять за помощью, — сказал он, — хочу на фронт. Пошел в военкомат, а там к сердцу придрались, говорят: «Не подходите». А я, во всяком случае, сидеть в тылу не могу. Я свое сердце лучше знаю, а они говорят, давление повышенное. Так оно у меня оттого и повышается, что я здесь сижу. Одним словом, помогите…»
Бахметьев позвонил в военкомат и попросил особенно не придираться к Фунтикову. В результате Фунтиков был зачислен в армию. Через неделю он уехал на фронт. Вскоре пошел в армию и Бахметьев. Он и Фунтиков оказались в одной бригаде.
Свиридов помолчал и потом добавил:
— И вот оба теперь у нас. Дружат. Надо вам сказать, товарищ Леонтьев, что Фунтикова любят все бойцы за его находчивость, смелость и удивительную жизнерадостность, которую всегда, а в особенности на фронте, так ценят люди.
Леонтьев с волнением выслушал рассказ Свиридова, хотя не был уверен, что это имеет прямое отношение к тому, что случилось с его чертежами.
Было уже очень поздно, когда Свиридов кончил рассказывать. С озера тянуло сыростью и запахом озерной воды, смешанным с приторным, как наркоз, ароматом водяных лилий. Перед близким рассветом медленно умирали в далеком небе звезды. Со всех сторон стеной стоял лес, загадочный и дремучий, как в детской сказке. Предутренняя роса садилась на сапоги.
Леонтьев молча, жадно запоминал торжественность и богатство этой летней лесной ночи, до краев налитой тишиной, покоем и густыми, как вино, запахами. Все это — люди, о которых они говорили со Свиридовым, и этот лесной океан, и эта неповторимая бескрайняя земля, и это далекое, но родное небо, и эти бледные звезды, — все это сливалось в душе Леонтьева в одно простое, нежное и великое слово — Родина.
А время шло. Как ни привык Леонтьев к Свиридову и всем артиллеристам бригады, в которой находился, но уже надо было подумывать об отъезде. За время, проведенное здесь, накопился богатый материал наблюдений над работой «А-2». Выяснились и положительные и отрицательные стороны нового орудия. Надо было срочно в заводских условиях, а также в лаборатории продолжать его усовершенствование.
Кроме того, пребывание Леонтьева на фронте дало ему пищу для новых замыслов, связанных уже с вооружением самолетов. Все это, естественно, требовало определенных условий для работы.
Леонтьев стал собираться к отъезду. Он собрал все записи, сложил немногочисленные вещи, но Свиридов уговорил его остаться еще на несколько дней. Леонтьеву было тяжело отказать Свиридову, да ему и самому не очень-то хотелось уезжать. Он остался, договорившись со Свиридовым, что выедет через два Дня.
Только теперь, перед самым отъездом, Леонтьев узнал, что привезший его из Москвы майор Бахметьев является уполномоченным армейской контрразведки. Ему была поручена охрана Леонтьева на фронте.
— Я отвечаю за то, чтобы вы были живы и невредимы, товарищ Леонтьев, — пояснил он улыбаясь. — Имею такое указание.
Леонтьев засмеялся. Ему казалось странным, что здесь, в расположении наших войск, среди своих, его зачем-то охраняют. Он прямо сказал о своих мыслях Бахметьеву.
— Я имею такой приказ, — ответил Бахметьев, — а приказы обсуждению не подлежат. Их просто выполняют. Но если вы хотите знать мое личное мнение, то в такой предосторожности есть свой резон. Вы и ваши работы — военная тайна, товарищ Леонтьев. И ее надо охранять как зеницу ока в любых условиях. Даже в мирных, не говоря уже о войне. И потом, война ведется не только в окопах и на полях сражений, не только в воздухе и на море, она ведется и в кабинетах разведок. Помните указания нашей партии о коварных методах иностранных разведок? Их должен знать наизусть каждый советский человек.
Они разговорились. Леонтьев, хорошо запомнивший рассказ Свиридова о младшем командире Фунтикове, осторожно спросил о нем Бахметьева. У майора сразу потеплели глаза. Обычно немногословный, он вдруг с видимым удовольствием заговорил на эту тему.
— Да, все, что вам рассказал полковник Свиридов, точно соответствует действительности, — заявил Бахметьев. — Надо вам сказать, что до войны я работал народным следователем. Приходилось вести главным образом уголовные дела. И я довольно хорошо знаю этот мир. Я тогда понял, что Фунтиков перестанет воровать. Случившееся так потрясло его, неожиданно в нем проснулись такие патриотические чувства, что жизнь его сразу перевернулась. Удалось-таки вытащить человека из трясины. А теперь здесь никто не знает о его прошлом, он общий любимец. Смелый, живой, общительный. Уже имеет боевые награды, но, как говорится, это еще не вечер… Я верю в его будущее. Знаете, в тысяча девятьсот тридцатом году я принимал участие в очень своеобразной «кампании», которую тогда начал бывший прокурор СССР товарищ Вышинский. Это была кампания «явки с повинной».
— Я помню, как же, об этом тогда много писалось в газетах, — живо откликнулся Леонтьев. — Уголовные преступники сами, добровольно, являлись в прокуратуру.
— Совершенно верно, — продолжал Бахметьев, — это началось в Москве, а затем перекинулось и во многие другие города. Были созданы специальные комиссии, принимавшие этих людей. Часть из них направлялась для отбывания наказания, а часть посылалась на работу, на разные предприятия, на заводы и в полярные экспедиции, на зимовки и в учреждения. Некоторых приходилось обучать определенным ремеслам, профессиям, специальностям, в зависимости от личных склонностей и способностей.
— И они не возвращались к своему преступному прошлому? — спросил Леонтьев.
— Подавляющее большинство навсегда порвало со своим прошлым, — ответил Бахметьев. — Среди них оказалось немало очень способных людей, они жадно учились, великолепно работали. Удалось спасти для Родины сотни людей, которых едва не засосало болото уголовщины.
11. ПРИБЫТИЕ «ДЕЛЕГАЦИИ»
В понедельник вечером полковник Свиридов пришел к Леонтьеву и весело сказал:
— А у нас новость. Сообщили из штаба корпуса, что завтра приезжает делегация из Ивановской области. Это уж четвертая по счету. Подарки везут…
И он пошел отдавать распоряжения о ночлеге, питании и т. п.
«Делегация» приехала рано утром на штабной машине. Две девушки, представитель Ивановского обкома и еще двое мужчин. Они привезли три ящика с подарками.
Гостей встречали на пропускном пункте. Леонтьев выехал туда же. Он поехал в одной машине со Свиридовым и Бахметьевым, который никогда его не оставлял.
Выехали рано, сразу после восхода солнца, и через час прибыли на пункт, где их уже поджидало несколько офицеров. До приезда делегации оставалось с час времени. Сосны, среди которых были разбиты палатки пропускного пункта, пылали в лучах взошедшего солнца. У кого-то из офицеров оказался чайник. Соорудили чай, позавтракали. Вскоре с поста, расположенного на расстоянии километра, доложили, что проследовала машина с делегацией.
Все встречающие вышли на дорогу.
В прозрачном воздухе гудели пчелы. От разогретой утренним солнцем земли подымался легкий пар.
— Хорошо! — тихо сказал Леонтьев, любуясь и этим ясным утром, и горизонтом, таявшим в легкой дымке, и свежими, бодрыми лицами окружавших его людей. — Удивительно хорошо!..
— Недурно, — согласился Свиридов. — Утро что надо. И тихо, и гости… И солнышко… Да вот, никак едут!..
Действительно, за поворотом дороги послышался шум мотора, и оттуда весело выскочила открытая штабная машина, в которой было несколько человек в штатском платье. Впереди сидели две девушки, приветливо махавшие руками.
Когда машина подъехала, из нее на ходу выскочил худощавый улыбающийся человек со шрамом на щеке и бросился к встречающим.
— Привет! — весело крикнул он и крепко пожал руки Свиридову и Леонтьеву. — Привет, товарищи, от ивановцев. Разрешите пока без речей, запросто, по-рабочему. Ну, это наши Вера и Тоня — комсомольское племя, это вот Иван Егорыч. Не смотрите, что старик, он любого молодого за пояс заткнет. А это наш областной агроном. Вот и вся «делегация». Да, еще я — Петров, работник обкома. Вот мои документы. Как говорится — для ясности картины. — И он предъявил Свиридову удостоверение.
Офицеры и Леонтьев поздоровались с гостями. Девушки, мило улыбаясь, протянули полковнику большой букет полевых цветов, собранных ими по дороге. Петров, вытащив «лейку», нацелился на группу и два раза щелкнул.
— Это для нашей областной газеты, — поспешно сказал он, хотя его никто и не спрашивал. — А то нас редактор съест. Даю честное пионерское, съест… Простите, что без разрешения.
— Ничего, ничего, — улыбнулся Свиридов. — Здесь не беда, а вот дальше, уж извините, не полагается, товарищ Петров. «Лейку» до отъезда придется сдать на хранение. Таков порядок…
— Разумеется, — ответил Петров, — какой может быть разговор? Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят… Прошу… — И он протянул командиру свою «лейку», которую тот спокойно положил в сумку.
Гости были встречены, как всегда на фронте, тепло и радушно. Все наперебой за ними ухаживали, старались получше накормить, развлечь, порадовать. Гостям были приготовлены две землянки: одна — для девушек, другая — для мужчин, и надо было видеть, с какой любовью и заботой убирали бойцы эти землянки, наводя в них немыслимый блеск и, по выражению одного из бойцов, «уют довоенного семейного класса».
Вечером в командирском блиндаже был устроен ужин на «десять кувертов», как сформулировал полковой повар, служивший до войны в гостинице «Интурист» и приобретший там, по его словам, «европейского масштаба квалификацию».
За ужином гости и офицеры разговорились. Леонтьев, сидевший рядом с Петровым, расспрашивал его о текстильной промышленности, сильно развитой в той области, из которой приехала «делегация». Петров рассказал о новых фабриках, пущенных перед войной, вскользь сообщил данные о советских ткацких станках новой конструкции, отлично себя показавших, и в ответ на дальнейшие расспросы Леонтьева коротко пояснил, что сам он, к сожалению, не инженер, а партийный работник и потому имеет обо всех этих вещах лишь общее представление.
— Места наши, — говорил он, — богатые, хлебные. Работаем и на хлопке, и на местном сырье. Лен у нас есть. Сейчас, конечно, в основном работаем на армию, ну, а раньше нажимали больше на расцветку, на сочность красок, на художественность разрисовки. Продукцию нашу — верно, слышали? — и заграница знает… Ситец наш на Востоке имел огромный сбыт и конкурировал с японским и европейским более чем успешно. Э, да что там говорить, если бы не война…
И он продолжал рассказывать об Ивановской области, которую, видимо, очень любил. Рядом за столом щебетали девушки. Иван Егорыч тоже не отставал. Агроном, оказавшийся человеком малоразговорчивым, сидел в углу и задумчиво посасывал папиросу.
Полковник Свиридов озирал хозяйским оком компанию, наблюдая, чтобы все гости были хорошо обслужены и накормлены, чтобы никто из них не скучал, словом, чтобы каждому было оказано должное внимание.
Он обратил внимание на одиноко сидевшего агронома и направился было к нему, но его опередил майор Бахметьев. Бахметьев был за столом, разговаривал по очереди со всеми гостями, наливал им вино и, по-видимому, не меньше полковника был озабочен тем, чтобы никто из них не скучал.
— Я вижу, вам не очень весело, — сказал он агроному, застенчиво, по своему обыкновению, улыбаясь. — Может быть, вам следует отдохнуть?
— Да уж я со всеми, — ответил агроном, — а насчет веселья не беспокойтесь, мы всем очень довольны. Здесь так интересно.
— Интересно? — переспросил Бахметьев. — А вы впервые на фронте?
— Да, — ответил агроном. — В первый раз.
Продолжая разговор с этим несловоохотливым гостем, Бахметьев не выпускал из поля зрения и остальных, особенно Петрова, оживленно беседовавшего с Леонтьевым.
Еще в начале ужина, когда все собрались в блиндаже, Бахметьев обратил внимание на то, что веселый, немного шумливый руководитель «делегации» чрезмерно суетлив. Во время ужина, когда младшая из девушек, чуть подвыпив, начала смеяться громче всех, Бахметьев перехватил взгляд, брошенный на нее Петровым. И хотя это продолжалось всего какую-нибудь долю секунды, Бахметьев заметил, как мгновенно изменилось выражение лица Петрова и как сразу перестала смеяться девушка, вздрогнув под этим колючим, холодным, почти свирепым взглядом.
С этого момента Бахметьев незаметно, но упорно следил за Петровым, прислушиваясь к его разговору с Леонтьевым.
Петров не знал фамилии человека, сидевшего рядом с ним. На Леонтьеве была обычная военная форма, три шпалы в петлицах. При знакомстве Петрову не назывались фамилии офицеров, кроме полковника Свиридова. Фотокарточки Леонтьева Петров-Петронеску не имел. Самолет, с которым фотокарточку послали из Берлина, по пути наскочил на советский «Як» и был сбит. По оплошности немецкой разведки они не сохранили копии фотокарточки, и ее единственный экземпляр, с большим трудом добытый в свое время, погиб. Это осложняло задачу Петронеску. Надо было очень осторожно выяснить — кто здесь Леонтьев.
Сейчас, беседуя с Леонтьевым, Петронеску как раз был занят этим. Он медленно кружил вокруг интересовавшей его темы. Сначала он завел разговор об артиллерии вообще, затем о новых видах немецкой артиллерии.
— Кстати, в штабе фронта, — наконец произнес он, — мне рассказывали об удивительном эффекте наших новых орудий. Об изобретении какого-то конструктора Леонтьева. Мне даже говорили, что мы будем иметь возможность с ним лично познакомиться. Это было бы очень интересно. Говорят, он в вашей бригаде?
— Да, он здесь, — вмешался в разговор Бахметьев. — Это я — Леонтьев, — сказал он, застенчиво улыбаясь.
Петронеску так заинтересовался, что даже не заметил удивления, с которым встретили эту бахметьевскую фразу Свиридов и Леонтьев. Однако они промолчали.
— Очень рад познакомиться с вами, дорогой товарищ, — обратился Петров к Бахметьеву, сразу оставив Леонтьева. Вот уж это, братцы, сюрприз, это уж просто подвезло, ей-ей, подвезло. Верочка, Иван Егорыч, Тоня, что же вы, приветствуйте творца нового оружия!.. Да как следует!
Все засуетились. Петров быстро налил себе и Бахметьеву вина и встал с значительным выражением лица, постучав ложечкой по тарелке. Все замолкли.
— Товарищи, — начал Петров. — Я выражу наше общее чувство, если скажу без всяких выкрутасов и дипломатических, знаете, фокусов — спасибо тебе, товарищ Леонтьев, за твое старание, за твой талант, за твой труд! И от нас, тыловиков, большое тебе пролетарское, русское спасибо!
— Право, вы меня смущаете, — покраснел Бахметьев. — Ну зачем так торжественно?
— Нет уж, батенька, — перебил его Петров, — как говорится, от каждого по способностям, каждому по труду. Ты уж мне дай воздать тебе по заслугам, от души. Мы, знаешь, народ простецкий, без этих цирлих-манирлих. Братцы, итак, за здоровье, талант и преуспеяние Леонтьева!..
Он опрокинул рюмку. Все выпили. Бахметьев все с тем же застенчивым выражением лица сидел за столом. Леонтьев и Свиридов незаметно переглядывались, не понимая, в чем дело.
— Товарищ Леонтьев, — начал Петров, — мы завтра едем по домам. Не пора ли и вам в Москву?
— Как вам сказать, — отвечал Бахметьев, — я тоже… собирался… Ну что ж, может, и верно вместе ехать. Я подумаю.
— Да чего тут думать, — загорячился Петров. — Вместе оно и веселее, да и время быстрей пройдет. Одним словом, давайте решать! Да какой вам смысл отказываться? Девушки, да что же вы молчите?
— Товарищ Леонтьев, давайте вместе! Ну, неужели вы откажете? Мы просим, просим! — защебетали девицы.
— Хорошо, — вдруг произнес Бахметьев и поднялся за столом. — Хорошо, мы поедем вместе. Даю слово!
* * *
После ужина гостей развели по землянкам. Бахметьев взялся 'проводить Петрова и двух его товарищей. Пожелав гостям спокойной ночи, он пошел к Свиридову, у которого и застал Леонтьева.
— Товарищи, я должен объяснить вам свое поведение, — улыбаясь, начал Бахметьев. — Прежде всего прошу, товарищ Леонтьев, извинить за присвоение вашей фамилии. Понимаете, мне не понравилось, что Петров проявляет к ней столь повышенный интерес. Кроме того, я сомневаюсь, чтобы ему оказали в штабе фронта о том, что вы находитесь здесь. Такие вещи не принято говорить людям, не имеющим отношения к вашей командировке. Поэтому на всякий случай я решил подставить себя вместо вас…
В ответ на расспросы Леонтьева и Свиридова, чем именно показался ему подозрительным Петров, Бахметьев поделился своими соображениями.
По мнению Бахметьева, в излишней шумливости Петрова, в его манере щеголять псевдонародными оборотами речи, в его постоянной манере подчеркивать свою любовь к Ивановской области и свою глубокую осведомленность о ее экономике, сырье, флоре и фауне, наконец даже в том, как он смеялся, — слишком заливисто и часто, неестественно, с напряжением запрокидывая голову (искренне смеющийся человек всегда свободен во всех своих движениях), — во всем этом была какая-то нарочитость, какая-то тонкая, хорошо продуманная, но все-таки игра.
Бахметьев обратил внимание также и на речь Петрова, точнее на то, как он говорил. У него было безупречно правильное произношение, вовсе отсутствовал какой бы то ни было акцент. Но и самая безупречность его произношения была чрезмерна; Петров чересчур четко произносил слова, добросовестно «выговаривая» каждый слог, и Бахметьеву показалось, что в манере Петрова строить фразу и произносить ее есть опять-таки какая-то нарочитость, напряжение, точнее всего — старательность. Так обычно говорят иностранцы, хорошо владеющие русским языком, но для которых тем не менее он остается языком чужим.
Бахметьев еще обратил внимание на тонкое, едва ощутимое благоухание, которое как бы излучал руководитель «делегации». Это был тот особый, годами въевшийся во все поры кожи аромат, которым отличаются мужчины, привыкшие к каждодневному употреблению душистого одеколона, мыльной пасты и курению пряного, с медовым запахом, табака. Этот аромат не вязался с простецкими манерами Петрова и его заявлениями (кстати, тоже чересчур частыми) о том, что он потомственный токарь, пролетарий «от станка».
Изложив эти наблюдения и признавая, что они все же недостаточны для каких-либо определенных выводов, Бахметьев добавил:
— А в общем, конечно, все это может оказаться чепухой и проявлением чисто профессиональной, чрезмерной подозрительности. Я поэтому и решил поехать с ними вместе до штаба фронта. Там, на месте, связаться с Москвой, а если понадобится, и с г. Ивановом и выяснить все досконально. Ошибся — буду душевно рад и сам вместе с вами над собой посмеюсь, а лишняя проверка еще никогда никому не мешала… Что же касается вас, товарищ Леонтьев, то мои ребята поедут с вами до Москвы и там сдадут вас, как говорится, с рук на руки. Мне же все равно надо было по делам подъехать в штаб фронта.
Свиридов и Леонтьев с интересом выслушали Бахметьева, в глубине души не разделяя его подозрений, и пожелали ему счастливого пути.
Пока шел этот разговор, над землянкой собиралась ночная гроза. Была темная, облачная ночь. Тяжелые тучи торопились куда-то на запад, подгоняемые резкими порывами сильного ветра. Где-то далеко фиолетовая молния расщепила свинцовое небо и мгновенно потухла. Закричали лесные птицы, разбуженные громом и шумом взволнованного леса. Уже первые капли будущего ливня тяжело» пали на хвою деревьев.
Свиридов, Леонтьев и Бахметьев вышли из землянки на шум грозы. Все новые молнии зловеще освещали небо кривыми, ломаными росчерками. Ветер усиливался с каждой минутой, раскачивая верхушки сосен, как колокола. Они гудели неустанно и тревожно. Начался ливень. Потоки воды с силой били по стволам деревьев, брезенту орудийных чехлов и насыпям землянок. Раскаты грома становились все продолжительнее и чаще. Где-то с треском рушились старые сосны. Озеро выло от страха.
— Разошлась небесная артиллерия, — произнес Свиридов, с интересом наблюдая грозу. — Прямо артподготовка перед наступлением.
Как бы в ответ на эти слова в небе загорелась огромная молния. Она пылала долго, излучая мертвый фиолетовый свет, похожая по форме на гигантский изломанный крест. С визгом, как шрапнель, посыпался град, величиной с лесной орех, со звоном рассыпаясь по земле. Чудовищный удар грома заколебал почву. Потоки воды стремительно пробивали в лесной чаще новые русла.
Оставаться на воздухе было невозможно. Свиридов побежал к себе, а Бахметьев и Леонтьев — в землянку последнего.
— Давайте простимся, — сказал Бахметьев. — Вам давно пора отдыхать. Спите спокойно, после такой грозы будет великолепное утро.
— Да нет, мне совсем не хочется спать, — возразил Леонтьев. — Вот еще выкурим по одной в темноте, без света. Садитесь на койку, будем мечтать, как в юности. Мне хочется иногда помечтать. Я говорю вам об этом откровенно, майор, во-первых, потому, что темно, а во-вторых, потому, что вы мне симпатичны. Мне приятна ваша сдержанность, даже то, что у вас немного грустные глаза. Простите, что я так прямо об этом говорю. Завтра мы разъедемся и, кто знает, увидимся ли когда-нибудь вновь… Впрочем, верю, увидимся! Мы должны увидеться! И знаете что? Давайте дадим друг другу слово — после войны встретиться у меня. На Чистых прудах. Там я живу. Я сварю вам настоящий глинтвейн, черный кофе, сыграю Шопена: я немного играю. Будем сидеть всю ночь. Пусть это будет первая мирная ночь… Бахметьев, вы представляете себе первую ночь после такой войны, после победы?.. Мы распахнем все окна в квартире настежь — к дьяволу затемнение! Напротив будут дома с такими же ярко освещенными окнами. На бульваре будут петь и смеяться девушки. В небе будут бушевать фейерверки. И мы с вами будем подпевать девушкам и вспоминать эту ночную грозу… Так даете слово?
Бахметьев встал и очень серьезно сказал:
— Даю. Честное слово даю!
Они пожали друг другу руки. Леонтьев, помолчав, добавил:
— Вот видите, какой я мечтатель. Но это будет удивительно хорошо! Я не кажусь вам смешным?
— Нет, — ответил Бахметьев. — Это совсем не смешно. Это мудро. Должно, обязательно, необходимо мечтать! Так говорил Дзержинский. Мечтая, люди перестраивают свою жизнь, делают замечательные открытия, ломают оковы и движутся вперед… И горе тому, кто разучился мечтать.
12. ДОМИК В СОКОЛЬНИКАХ
Около трех часов ночи пост № 15 службы наблюдения и оповещения ПВО Московской зоны, расположенный в районе Клина, зафиксировал прерывистый рокот одиночного немецкого самолета, шедшего на большой высоте по направлению к столице. В ту же минуту об этом были оповещены штаб ПВО и соседние посты. Через некоторое время этот же самолет «засекли» посты № 16, 17, 19 и 21. Сомнений не было: вражеский самолет шел с разведывательной целью или для того, чтобы выбросить в удобном месте парашютистов.
В штабе приняли решение «снять» этот самолет.
Через десять минут истребитель, управляемый лейтенантом Морозовым, обнаружил на высоте 1300 метров немецкий самолет, который шел вниз с приглушенным мотором. Очевидно, немец выбрал необходимую точку для выброски груза или десанта. Морозов, не раздумывая, пошел за немцем, неожиданно зашел ему сверху в хвост и двумя очередями зажег самолет. Окутанная пламенем машина камнем полетела вниз, оставляя за собой длинный дымный след.
К месту падения сбитого самолета выехал оперативный дежурный ближайшего воинского соединения и нашел там обломки машины, обгоревшие, изуродованные трупы летчика и двух мужчин в штатском платье. По-видимому, мужчины в штатском были немецкими агентами, которых собирались выбросить на парашютах в этом районе. И действительно, в кармане одного из них обнаружили записную книжку с разного рода заметками подозрительного характера, несомненно шифрованными.
Позднее следственным органам удалось расшифровать одну заметку. В ней значилось:
«Сокольники… Зимнее утро… Лыжи… 17… Наталья Михайловна».
И через два дня в поле зрения следственных органов появилась «исполнительница лирических песенок», артистка Мосэстрады Наталья Михайловна Осенина, проживающая в доме № 17, по одной из просек в Сокольниках. Уже знакомый нам старенький домик в Сокольниках стал объектом тщательного и осторожного наблюдения. Среди немногочисленных посетителей этого домика была отмечена и добродушная старушка с неизменной сумкой-«авоськой» — Мария Сергеевна Зубова.
Хозяйка этого домика в Сокольниках оказалась вдовой некоего Шереметьева, в свое время репрессированного за антисоветскую деятельность.
Вскоре и вдова Шереметьева, и «исполнительница лирических песенок» и, наконец, Мария Сергеевна Зубова были арестованы. Дело это было поручено старшему следователю Ларцеву.
Когда Зубову спросили, почему она, жена ленинградского профессора, так долго живет в Москве, та ответила, что ждет от своего мужа из Ленинграда совета, куда ей ехать и как дальше быть.
— Уж очень худо мне было в Челябинске, — сказала она. — Вот в Москву и бросилась, гражданин следователь.
— Откуда вы знаете Наталью Михайловну? — спросил Ларцев.
— Да мы с нею в поезде познакомились, когда я из Челябинска ехала.
Все это Мария Сергеевна излагала со своим обычным добродушием и спокойствием.
Но именно в этом чрезмерном спокойствии Ларцев угадал многолетнюю тренировку и то особое, глубоко запрятанное напряжение воли, благодаря которому опытным преступникам удается произвести впечатление безразличия, простодушия и уверенности в себе.
Закончив допрос, следователь связался с Ленинградом и предложил срочно собрать все данные о Марии Сергеевне Зубовой, жене профессора Технологического института.
Ночью из Ленинграда сообщили, что Мария Сергеевна Зубова, равно как и ее супруг, профессор Зубов, скончались несколько месяцев назад и оба похоронены на Преображенском кладбище.
А наутро самолетом были доставлены все необходимые документы, которые следователь Ларцев прочел с великим удовольствием.
Допрос начался ровно в пять часов дня. Женщина, которую ввел в кабинет следователя конвоир, вошла в комнату спокойной походкой человека, уверенного в своей правоте и в том, что арест ее — лишь неприятное недоразумение. Подойдя к столу, за которым сидел следователь, она выжидательно на него посмотрела.
— Прошу садиться, — вежливо сказал следователь, чуть-чуть приподнявшись.
— Благодарю вас, — с достоинством ответила женщина и неторопливо опустилась в кресло.
— Ваша фамилия, имя, отчество? — спросил Ларцев таким тоном, как будто он задает этот вопрос лишь из привычной, пустой формальности.
— Зубова, Мария Сергеевна. Я уже говорила, — произнесла женщина.
— Происходите из Ленинграда?
— Да, — ответила старушка, — и об этом тоже я уже говорила.
— Из Ленинграда, — повторил Ларцев, как бы не обращая внимания на ее последние слова. — Профессор Зубов — ваш супруг?
— Мой муж, — ответила допрашиваемая. — Об этом мы говорили в прошлый раз.
— Совершенно справедливо, — очень вежливо сказал следователь. — Давно изволили воскреснуть?
— Я не совсем понимаю вас. О чем именно идет речь?
— Речь идет о вашей смерти, к сожалению, имевшей место восемь месяцев тому назад, — ответил Ларцев совершенно серьезным тоном, глядя прямо в лицо сидевшей против него женщины. — Извините, что мне приходится касаться столь грустных обстоятельств вашей биографии, но по долгу службы…
Старушка выслушала эту фразу молча и внешне спокойно, чуть отведя взгляд в сторону. Пожалуй, это ее безразличие было даже неестественным. Немного подумав и затем слегка улыбнувшись, она сказала:
— Простите, но я не понимаю ни вашего тона, ни ваших слов. Очевидно, вас следует понимать в каком-то иносказательном смысле?
— Нет, почему же, — возразил следователь, — напротив, я просил бы понимать меня именно в прямом смысле… Поскольку следствием установлено, что вы скончались ровно восемь месяцев тому назад, то я прошу разъяснить, когда именно, при каких обстоятельствах и с какой целью вы воскресли?
Старушка еще раз очень внимательно посмотрела на следователя и сказала:
— Право, в моем возрасте и в моем положении не до шуток. Могу вам только сказать, что я еще ни разу не умирала и пока делать этого не собираюсь.
Ларцев достал тогда из папки какие-то документы и в том же подчеркнуто серьезном тоне произнес:
— К сожалению, я никак не могу с вами согласиться, гражданка, ибо установлен не только факт вашей смерти, но даже и место, где вас похоронили… Погребли, так сказать… Преображенское кладбище, 21-й ряд, могила за номером 10456. Повторяю, мне не совсем удобно фиксировать ваше внимание на этих грустных деталях, но вы, сударыня, уже восемь месяцев, как мертвы: вы, извините, покойница… Так сказать, явление из загробного мира… Согласитесь, что при этих условиях самый факт вашего проживания в столице и пребывания в моем кабинете есть юридический нонсенс, явление, прямо скажем, неправомерное… Вот справка о вашей смерти, вот выписка из ленинградского загса, вот судебно-медицинское свидетельство и, наконец, справка Преображенского кладбища. Не угодно ли ознакомиться?
И Ларцев очень любезно протянул сидящей перед ним женщине пачку документов.
— Угодно, — ответила она и очень внимательно прочла все справки, одну за другой…
Оба молчали. «Добродушная старушка» отлично поняла, что изобличена, и обдумывала, что именно может знать следователь, кроме того, уже бесспорного, факта, что она присвоила себе имя умершей. Каковы те границы, в которых она может оставаться, изобразив в то же время психологический надлом, готовность сдаться, а затем полное отчаяние, страх, раскаяние, а главное — решимость все, абсолютно все рассказать.
Ларцев тоже думал. Он уже ясно видел, что перед ним опытный, умный, нелегко сдающийся враг. Какой ход придумает сейчас эта женщина, чтобы объяснить свое проживание под чужим именем? С какой целью, скажет она, и каким образом это было устроено? Сейчас она сделает свой первый шаг, и начнется их психологический поединок, извечное единоборство следователя и преступника — напряженная, острая, безжалостная борьба, в которой один борется за свое государство, за его интересы, за его безопасность, а другой — за себя, за свою судьбу, может быть, за свою жизнь…
— Ну что ж, — со вздохом прервала затянувшуюся паузу «добродушная старушка», — я думаю, что надо рассказать вам все…
— И я так думаю, — согласился следователь.
— Спорить с вами не буду и не хочу, — продолжала она. — Да, собственно, никаких причин у меня к тому и нет. Да, моя фамилия не Зубова, и теперь я должна объяснить случившееся… Я решила рассказать все. Абсолютно все.
— Слушаю, — коротко произнес Ларцев.
Женщина резко повернулась к нему лицом и, глядя прямо в глаза, начала:
— Моя настоящая фамилия — Стрижевская. Зовут меня Матильда Казимировна. Отец мой был поляк, мать — обрусевшая немка. Родом я действительно из Ленинграда. По своей профессии или, как теперь говорят, по своей квалификации…
— По профессии вы шпионка, — перебил ее Ларцев, — а по квалификации — шпионка высокого класса… Это нам уже известно.
— Нет, — ответила женщина, — это неправда. Я присвоила себе документы покойной Зубовой, чтоб получать лишнюю продовольственную карточку. Позвольте, я все расскажу. Разрешите по порядку…
— Как экспромт, недурно, — произнес следователь. — Но малоубедительно. Впрочем, продолжайте.
Зубова-Стрижевская начала свои показания. Она рассказывала, подробно останавливаясь на деталях, о своем детстве, о воспитании, об Аннен-шуле, в которой училась, о первом женихе и о многом другом. Следователь несколько раз предлагал ей перейти к делу, но она отвечала, что может лишь последовательно излагать свои показания и настойчиво просит предоставить ей такую возможность. Было ясно, что делает она это нарочно, чтобы выиграть время.
Стрелки на круглых, вделанных в стену часах в кабинете Ларцева подошли к десяти. Допрос продолжался уже пять часов. В этот момент подследственная внезапно прервала свой рассказ и заявила, что она очень устала и просит сделать перерыв.
— Не возражаю, — сказал Ларцев. — Когда вам будет угодно продолжать?
— Я думаю, часа через два, — сказала женщина. — Я поужинаю и отдохну…
Ларцев вызвал конвой и отправил арестованную в камеру. Вместо нее он приказал ввести Осенину. Наталья Михайловна вошла в кабинет неверной походкой человека, впавшего в отчаяние. Лицо ее было заплакано, глаза опухли.
— Садитесь, гражданка Осенина, — произнес Ларцев, внимательно ее рассматривая, — я вижу, вы находитесь в тяжелом моральном состоянии.
— Да, я чувствую, что погибла…
— Я много лет занимаюсь следственной работой и видел немало преступников. Наблюдая вас, я склонен думать, что вы в своем преступлении явились жертвой чьей-то злой воли… Так ведь?
— Нет, нет… — поспешно заявила Осенина, — я ни в чем…
— Именно этому, — перебил ее Ларцев, — именно этому я и приписываю ваше подавленное состояние. Между тем признание облегчит и ваше сердце, и вашу участь…
— Мне не в чем сознаваться, — начала лепетать Осенина, — я ни в чем не виновата.
— Допустим. Но если то, что вы говорите, правда, то как объяснить такие, со всей достоверностью установленные факты: вы должны были ехать с актерской бригадой на Волгу и отказались для того, чтобы поехать на фронт, несмотря на гораздо менее выгодные условия.
— Я хотела на фронт. Это мой долг актрисы…
— Допустим. Но почему же вы отказывались от поездки на Волховский фронт и хотели ехать именно на Западный?
— Не знаю… Мне почему-то так хотелось…
— Не можете объяснить. Дальше: будучи у артиллеристов, вы почувствовали себя плохо и попросили отправить вас самолетом в Москву. Однако в Москве вы не обратились ни в одно лечебное учреждение.
— В дороге мне стало легче…
— Но, вернувшись в Москву, вы не ночевали дома. Где же вы были ночью?
Осенина вспыхнула и некоторое время молчала. Потом она тихо произнесла:
— Есть вопросы, на которые женщина может не отвечать.
— Вы намекаете на какой-то роман, на любимого человека, — улыбнулся Ларцев, — но вы же сами говорили моему помощнику, что горячо любите мужа, находящегося на фронте, и верны ему… В каком случае прикажете вам верить?
— По дороге домой я потеряла сознание… и добралась домой только утром.
— Как вам не стыдно лгать! — произнес Ларцев. — Только что вы сказали, что почувствовали себя легче.
— В самолете. А на улице мне снова стало хуже…
— Вам не могло стать хуже по одной простой причине, — улыбаясь, протянул Ларцев.
— По какой? — встревожилась Осенина.
— Консервы, которыми вы будто бы изволили отравиться, — медленно сказал он, в упор глядя на Осенину, — оказались аб-со-лют-но доброкачественными и пригодными к пище. Вот лабораторный анализ, тотчас произведенный на фронте.
— Значит, за мной следили еще тогда, на фронте? — почти вскричала Осенина.
— Совершенно верно, — ответил Ларцев. — Кроме того, вы заявили, что в институте Скли-фосовского работает ваш дядя — профессор Венгеров.
— Но он действительно там работает, — неуверенно сказала Осенина.
— И он действительно дядя, — опять улыбнулся Ларцев, — но не ваш. Он чужой дядя. И к вам никакого отношения не имеет. Кто ваш муж?
— Военный, лейтенант.
— Где он сейчас?
— В плену…
— Откуда вы знаете, что он в плену?.. Ну, что же вы молчите? Откуда вы знаете, что ваш муж в плену?
— Мне сообщил один человек, — растерянно произнесла Осенина.
Следователь внимательно посмотрел на нее и, осененный внезапной догадкой, сверкнувшей, как молния, в его сознании, быстро подошел к Осениной и, склонившись к ней, произнес:
— И этот человек попросил вас выполнить одно маленькое поручение, пообещав, что немцы сохранят жизнь вашему мужу. Так ведь?
Осенина заплакала и сквозь слезы спросила:
— Откуда вы знаете?
— Кто этот человек? — резко спросил Ларцев. — Кто этот человек?
— Зубова, — ответила Осенина. — Мария Сергеевна Зубова.
И она начала рассказывать. Вскоре после того, как ее муж пропал без вести на фронте, к ней явилась Мария Сергеевна и передала ей, что тот находится в плену. Мария Сергеевна заявила, что если Осенина хочет спасти жизнь своему мужу, она должна выполнить одно небольшое поручение. Осенина согласилась и постепенно превратилась в послушное орудие шпионки. Она поехала вместе с Зубовой в Челябинск, где они прожили некоторое время, стараясь завести знакомство с Леонтьевым. Однако это им не удалось, так как Леонтьев жил очень замкнуто и избегал случайных знакомств. Тогда, узнав, что он едет в Москву, они выехали в одном вагоне с ним.
Продолжая свои показания, Осенииа рассказала о своей поездке на фронт и о телеграмме, отправленной в Софию, когда местопребывание Леонтьева было, наконец, установлено.
Допрос Осениной закончился в первом часу ночи и ее отвели в камеру.
Ларцев выключил в своем кабинете свет и открыл окно.
Ночь, военная, неверная, обманчивая ночь нависла над городом. В сумраке огромной, раскинувшейся подковою площади таинственно мигали красные и зеленые огоньки регулировщиков. Звеня, проносились редкие ночные трамваи и исчезали, растворяясь в зыбкой мгле куда-то разбежавшихся улиц. На минуту испуганно выглянула луна, но тут же, словно не желая нарушать правил светомаскировки и требований ПВО, образцово затемнилась густым мохнатым облаком. Аэростаты заграждения плыли, как фантастические рыбы, над погруженным во мрак городом, придавая ему какой-то сказочный вид.
А Ларцев, который не спал уже двое суток, все продолжал стоять у открытого окна. Он думал о предстоящем повторном допросе старой шпионки и о том, как лучше заставить ее поскорее все рассказать, чтобы раскрыть все нити этого дела. Следователь Ларцев не знал, что в эту самую минуту Петронеску, который тоже никак не мог заснуть в своей землянке, взволнованно размышлял о том, что через несколько часов, ранним утром, он и его «делегация» выедут на машине из лагеря и вместе с ними будет, наконец, инженер Леонтьев.
13. ОТЪЕЗД
Петронеску встал рано. Помятое, серое, опухшее лицо его хранило следы бессонной ночи. Он разбудил членов «делегации» и приказал собираться к отъезду. Адъютант полковника Свиридова пригласил гостей к завтраку.
— Вы позавтракаете и можете ехать, — добавил адъютант. — Товарищ полковник уже распорядился заправить вашу машину.
— С нами как будто едет товарищ Леонтьев, — сказал Петронеску. — Он готов?
— Точно не знаю, — ответил адъютант, — но вообще он встает рано.
Пошли в командирский блиндаж. Петронеску шел впереди, задумчиво глядя куда-то вдаль. Ему было не по себе. Чем ближе подходил момент предстоящего отъезда, тем тревожнее и тяжелее становилось у него на душе. Он хорошо понимал, что надо взять себя в руки, что надо так же, как вчера, приветливо улыбаться, болтать, шутить, рассказывать, но вместо этого хотелось остаться одному, размышлять о прошлом, вычеркнуть из сознания настоящее, а главное — как можно скорее очутиться за линией фронта, подальше от этой хмурой, ощетинившейся и непонятной ему страны. Хотя господин Петронеску и числился много лет «специалистом по России и славянской душе», но он давно уже мысленно признался себе, что страны этой не понимает, не любит, а главное — боится. Что же касается «славянской души», то господин Петронеску еще много лет назад пришел к заключению, что душа эта полна удивительных неожиданностей и что разумнее всего ее не задевать…
В прошлые годы Петронеску не раз откровенно излагал свою точку зрения на Россию. Однажды, в самом расцвете своей карьеры, на запрос о новом виде вооружений в русской армии он ответил, что, по его мнению, страшен не столько новый вид вооружений, сколько душа русского солдата, которая, как известно, не является военной тайной, но тем не менее недостаточно учитывается германским командованием. В ответ на этот доклад Петронеску получил тогда (это было в 1914 году) строгое внушение от начальства, в котором, между прочим, указывалось, что «германскую разведку интересуют не психологические изыскания о русской душе, а точные цифры, чертежи, планы и документы».
И вот сейчас, подходя к командирскому блиндажу, Петронеску дал себе слово, что если ему удастся и в этот раз подобру-поздорову унести отсюда ноги, то он ни при каких условиях не вернется больше в Россию и вообще не будет браться за столь рискованные операции.
В блиндаже «делегацию» встретили полковник Свиридов и Бахметьев. Сели завтракать. Петронеску выпил стопку водки, закусил и коротко спросил Бахметьева, готов ли он к отъезду.
— Благодарю, — ответил Бахметьев. — Я вполне готов. Вот только не стесню ли я вас в машине? А то полковник предлагает свою.
— Не беспокойтесь, места хватит, — сказал Петронеску. — Да и ехать вместе веселее.
Сидя рядом с Петронеску, Бахметьев снова ощутил тот еле слышный аромат, которым словно был пропитан этот человек. Вчерашнее смутное беспокойство опять охватило его. Пристально посмотрев на своего соседа, он заметил, что тот сегодня выглядит неважно. Бахметьев обратил внимание и на то, что, когда руководитель «делегации» поднял рюмку с водкой, рука его чуть дрожала.
— Как вы себя чувствуете? — спросил его Бахметьев. — Мне кажется, что у вас усталый вид.
— Благодарю вас. Все в порядке. Я отлично спал.
— Ночью вы курили. Я издали видел, как вы вышли из землянки, несмотря на грозу.
— Просто захотелось подышать ночным воздухом. А вы, очевидно, как и я, привыкли курить по ночам?
— Да, — коротко ответил Бахметьев, — иной раз приятно прервать сон ради папиросы. Но вы долго курили.
— Сначала курил, потом просто отдыхал. — Петронеску внимательно посмотрел на Бахметьева. — Как странно, что я вас не заметил.
— Я не хотел вас беспокоить и потому не подошел. Мне показалось, что вам лучше побыть одному. Иногда хорошо побыть в одиночестве и хочется, чтобы никто его не нарушал.
— Я вижу, товарищ Леонтьев, вы мечтатель, — улыбнулся Петронеску. — Впрочем, кое у кого бывает такая блажь… Мечты. Фантазии. Однако пора ехать. Товарищ полковник, разрешите мне от собственного имени, как и от имени всех членов нашей делегации…
И Петронеску, поднявшись, произнес теплое слово и предложил выпить в последний раз за Красную Армию, за артиллерию, за победу.
Потом все — гости и хозяева — вышли из блиндажа. Тупорылая открытая штабная машина, поданная к блиндажу, урчала, как старый сердитый бульдог; за рулем сидел шофер, молодой щеголеватый парень с быстрыми глазами и отличной выправкой. Погрузили вещи. Сзади уселся Петронеску, Бахметьев и «пожилой пролетарий» На откидных сиденьях разместились девушки. «Представитель областной интеллигенции» занял место рядом с шофером.
— Счастливого пути, — сказал полковник и взглянул на часы. — Сейчас десять часов двадцать минут.
— Спасибо за все, — произнес Петронеску. — До новой встречи после войны, после победы, товарищи!
— Будьте здоровы, не забывайте нас!.. — крикнули в один голос, как по команде, девушки.
— До свиданья, друзья! — сказал Бахметьев.
Полковник махнул рукой. Машина тронулась. Свиридов молча глядел ей вслед. Вот она уже мелькнула за поворотом, в последний раз показалось лицо Бахметьева и скрылось за столбом взвихрившейся пыли.
— Десять часов двадцать две минуты, — произнес полковник, еще раз взглянув на часы. Он хотел еще что-то сказать, но заметил своего адъютанта, бежавшего изо всех сил с каким-то белым листком в руке.
— В чем дело? — строго спросил полковник.
— Шифровка из штаба фронта, товарищ полковник, — ответил адъютант. — Приказано немедленно вручить.
— Вызовите шифровальщика, — приказал полковник и, взяв шифровку, прошел в свой блиндаж.
А. через двенадцать минут прибежавший шифровальщик прочел Свиридову расшифрованный текст телеграммы:
«Находящаяся у вас делегация Ивановской области, как установлено, является немецкой диверсионно-шпионской группой, переброшенной для похищения или убийства Леонтьева. Если «делегация» не уехала, задержите ее под благовидным предлогом, ничем не выдавая своей осведомленности. Если эта телеграмма поступит после отъезда делегации, организуйте погоню. Учтите при этом, что главное — сохранить Леонтьева, которого немцы, обнаружив свой провал, постараются убить. Поэтому обычные методы ареста и задержания неприемлемы до надежной изоляции Леонтьева от немцев».
14. ОЧНАЯ СТАВКА
«Делегацию» Петронеску разоблачила «добродушная старушка», которая в конце концов начала давать откровенные показания. Впрочем, сначала, будучи вызвана Ларцевым на повторный допрос, она опять стала излагать ему подробности своей биографии, уклоняясь от изложения конкретных фактов своей шпионской работы.
— Вот что, — резко прервал ее следователь, — все, что вы рассказываете, вероятно, очень интересно, но пора переходить к делу. С какой целью вы присвоили себе имя умершей Зубовой?
— Я все расскажу по порядку, — настаивала подследственная, — я не могу отвечать на вопросы, не осветив все последовательно, так, как было…
— Слушайте, — сказал Ларцев, — неужели вы думаете, что я не понимаю вашей тактики? Зря, вам уже ничего не поможет! Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Вы схвачены за руку. Либо говорите все, либо скажите прямо, что не будете давать честных показаний!
— Гражданин следователь, — начала уверять женщина, — я полна желания все рассказать. Я хочу раскрыть свою душу!..
— Не кривляйтесь! — почти прикрикнул на нее Ларцев. — Намерены вы говорить или нет? Отвечайте!..
— Почему вы со мною так разговариваете? — тихо ответила женщина. — Ведь мне уже за шестьдесят, я вам в матери гожусь… Уважайте хотя бы старость. Ну, представьте себе, что так стали бы говорить с вашей матерью! Правда, это к делу не относится…
Следователь быстро встал и подошел к окну. После долгой паузы он приблизился к женщине и очень тихо, почти шепотом, сказал ей:
— Вы упомянули мою мать. Это действительно не относится к делу, но вы правы. С моей матерью и в самом деле так не разговаривали… Когда гестапо арестовало ее в Калуге, — это было в 1941 году, — с нею не тратили слов. Ее просто били. Били и пытали… Потом немцы отрубили ей руки. Потом они ее расстреляли. Когда освободили Калугу, я нашел во рву ее труп… Рядом были трупы многих других. Женщин, стариков, детей. Все! Перейдем к делу. Будете говорить? Да или нет? Нет или да?
Старуха молчала, о чем-то думая. Ларцев поднял телефонную трубку и коротко отдал приказание.
Привели Наталью Михайловну. Увидев свою партнершу, она в первый момент даже как бы обрадовалась, а затем, побледнев, испуганно уставилась на нее.
— Вы знакомы? — спросил следователь.
— Да, — ответила Осенина, — это моя знакомая.
Старуха в ответ на вопрос следователя утвердительно кивнула головой. Один раз она мельком взглянула на Наталью Михайловну, но, встретившись с ней взглядом, быстро отвернулась. Она уже поняла, что Наталья Михайловна созналась во всем и сейчас будет ее изобличать. Как вести себя дальше?
— Вам дается очная ставка, — сказал Ларцев, — извояьте смотреть друг другу в глаза и отвечать на мои вопросы. Гражданка Осенина, скажите, когда и каким образом вы познакомились с дамой, которая сидит против вас?
— Мария Сергеевна ведь знает, — ответила Осенина. — И вам я тоже рассказывала…
— Повторите, — потребовал Ларцев. Осенина повторила свои показания.
— Вы подтверждаете эти показания? — обратился Ларцев ко второй подследственной. — Да или нет?
— Да, — ответила она. — Да, подтверждаю. Прошу прекратить очную ставку. В ней нет нужды, я и так все расскажу. И торопитесь, гражданин следователь, торопитесь, потому что Леонтьева могут каждую минуту выкрасть, как котенка…
— Вы в этом уверены? — спросил Ларцев, еще не зная, как ему реагировать на ее последние слова. — Вы уверены, что нам надо торопиться?..
— Уверена вполне, — ответила она. — Ведь я сама организовала телеграмму из Москвы в штаб армии о том, что к ним едет делегация из Ивановской области. Это было трудно — отправить такую телеграмму. Но мне удалось.
Ларцев, профессионально привыкший быстро ориентироваться в самых неожиданных ситуациях, сообразил, о чем примерно идет речь. Но ни единым звуком, ни единым движением не выдал он своего волнения, спокойно достал из портсигара папиросу, неторопливо закурил, глубоко затянулся и, пуская кольца дыма, небрежно, чуть снисходительно произнес:
— О, я вижу, вы делаете некоторые успехи… Становитесь, наконец, более или менее откровенной… Что же касается вашего совета, то хотя я ценю вашу заботу, торопиться нам больше незачем. Мы уже поторопились… Ну что ж, продолжайте. А вы, гражданка Осени-на, возвратитесь в камеру.
Он позвонил и вызвал конвоира. Через минуту Наталья Михайловна была уведена, а «добродушная старушка» рассказала все, что ей было известно, вплоть до того, что она с 1914 года сотрудничает в германской разведке под кличкой «дама треф».
15. ИСЧЕЗНУВШАЯ МАШИНА
Полковник Свиридов несколько раз прочел расшифрованную телеграмму. Прилетевший на самолете вслед за телеграммой работник армейской контрразведки подполковник Дубасов нервно ходил из угла в угол. Оба молчали, потому что были людьми дела и не любили разговаривать зря.
Первым начал Дубасов. Он подошел к карте, внимательно всмотрелся в нее и сказал:
— Отсюда они выехали на Ольховское шоссе. Первые десять километров дорога идет прямо, потом они могли повернуть влево — на Малые Корневища или вправо — на Печенегово. Могут ехать и прямо, дальше по шоссе, в направлении Бердникова. Значит, сейчас самое важное — установить, куда наши «гости» повернули? Лучше всего бросить в эти направления три «У-2» с тем, чтобы они на бреющем полете прочесали все три дороги и радировали нам, где и куда движется их машина.
— Правильно, — сказал Свиридов. — Я направляю летчиков Шевченко, Баринова и Шавера, так как все они видели эту машину и этих людей.
— Остается обсудить вопрос о том, как задержать машину, — продолжал Дубасов. — Эти мерзавцы, по-видимому, уверены, что они еще не разоблачены. В этом наш козырь. Но с ними едет Бахметьев, которого они принимают за Леонтьева. Это их козырь. Поручить задержание заставе или ближайшим подразделениям нельзя: немцы могут убить Бахметьева. Значит, надо это задержание обставить так, чтобы оно выглядело вполне невинно и не вызвало у них никаких подозрений. Есть два способа: первый — использовать обычный порядок проверки документов на контрольно-пропускных пунктах дороги, второй — догнать их под каким-нибудь благовидным предлогом, например, для вручения благодарственного адреса от бойцов, о котором мы раньше, дескать, забыли. Мне лично больше нравится второй способ. Но это мы еще обдумаем…
Через несколько минут с небольшого лесного аэродрома оторвались один за другим три «кукурузника» и пошли — один на Малые Корневища, другой — на Печенегово, третий — на Бердниково.
Дубасов вместе со Свиридовым прошли на узел связи, где, вооружившись наушниками, приготовились принимать донесения пилотов о движении машины.
Но время шло, а донесений не было. Наконец, минут через тридцать пилот Шевченко доложил, что, обследовав всю дорогу до Малых Корневищ, протяжением в пятьдесят километров, он не обнаружил никаких следов штабной машины. Вскоре с узлом связи заговорил летчик Баринов. Он обследовал шестьдесят километров дороги на Печенегово и машины пока не нашел. Наконец, третий летчик, Шавер, также доложил, что по дороге на Бердниково штабной машины нет.
Дубасов посмотрел на часы. Было одиннадцать часов десять минут. Значит, машина могла сделать не более 40–50 километров, Куда же она исчезла?
Дубасов связался со штабом армии и доложил обо всем. Были поставлены в известность все контрольные посты, регулировщики и узлы связи. Были проверены все маршруты и возможные отклонения от них. Но штабная машина исчезла, и никаких следов ее не было. В последний раз ее видели контролеры Н-ского пропускного пункта в десять часов пятьдесят минут на шоссе, ведущем в Печенегово. Все пассажиры, в том числе майор Бахметьев, находились в машине и проследовали дальше. Однако на следующем контрольно-пропускном пункте, расположенном на расстоянии десяти километров от первого, машина уже не появлялась.
Как только эти обстоятельства стали известны, подполковник Дубасов выехал на Печенеговское шоссе. Вместе с ним поехали два сотрудника армейской контрразведки.
* * *
Но розыски исчезнувшей машины не могли дать никаких результатов, так как Петронеску по дороге решил инсценировать гибель ее в результате нападения немецкого самолета. Эта мысль пришла ему в голову неожиданно, когда километрах в пяти от контрольно-пропускного пункта он заметил на дороге огромную воронку, образовавшуюся от разрыва тяжелой фугасной бомбы. Несколько таких воронок он и раньше видел по дороге.
— Остановите машину, посмотрим, — сказал Петронеску шоферу.
Петронеску, а за ним и остальные пассажиры вышли из машины и стали рассматривать воронку. Судя по еще свежим комьям развороченной земли и по тому, что дорога в объезд воронки еще не была готова, бомба была сюда сброшена сравнительно недавно.
Петронеску задумался. Ну, конечно, надо создать видимость, будто он и все его спутники погибли от этой фугаски. Это объяснит исчезновение «делегации», и меры к ее розыску не будут приняты, а значит, создастся сравнительно спокойная обстановка для того, чтобы вместе с Леонтьевым перебраться через линию фронта; или, если даже будет выяснено, что «делегация» Ивановской области — фикция, то и в этом случае, раз «делегаты» все равно будут считаться погибшими, незачем будет их разыскивать. Словом, чем дальше Петронеску обдумывал свой план, тем больше он начинал ему нравиться. Оглянувшись, он увидел, что дорога примыкает к довольно большому лесному массиву, в котором можно будет пока укрыться и оттуда связаться по радио с Берлином, вызвав ночной самолет.
В то время как Петронеску лихорадочно обдумывал все детали своего нового плана, Бахметьев, шофер, девушки и «представитель областной интеллигенции» что-то рассматривали на самом дне глубокой воронки. Петронеску тихо подозвал к себе «пожилого пролетария», которого он считал наиболее надежным из всех своих спутников, и кратко рассказал ему о своем плане.
— Пора начинать, — шепнул он ему, — шофера надо ликвидировать, а Леонтьева придется временно успокоить.
Петронеску быстро достал из кармана вату и какой-то пузырек, открыл его, смочил вату жидкостью и, передав ее «пожилому пролетарию», сказал:
— Держите вату в кармане, подойдите к Леонтьеву и, когда я начну стрелять, немедленно ткните ему в нос. Можете особенно не миндальничать.
Взяв вату, старик пошел к воронке. Петронеску направился вслед за ним и перевел предохранитель револьвера на боевое положение.
Стоя на краю воронки, Петронеску видел, как «пожилой пролетарий» вплотную подошел к Бахметьеву, который, наклонившись, что-то рассматривал внутри. Тогда Петронеску вынул револьвер и, подойдя ближе к шоферу, выстрелил ему в затылок. Шофер упал навзничь. В то же мгновение «пожилой пролетарий» бросился сзади на Бахметьева и, схватив его одной рукой за шиворот, другою зажал ему рот и нос смоченной ватой. Бахметьев мгновенно выпрямился, нанес кулаком сильный удар «пожилому пролетарию» и, вырвавшись из его рук, бросился в сторону. Он успел было выскочить из воронки, но тут на него сбоку налетел Петронеску и свалил ловкой подножкой.
Бахметьев упал, на него навалились Петронеску и его соучастники. Бахметьев оказывал сильное сопротивление, но положение его было тяжелым.
— Вату!.. Вату!.. — прохрипел Петронеску, продолжая бороться. — Идиоты!.. Вату!..
«Пожилой пролетарий» быстро поднял упавший кусок ваты, издававший пряный, противный запах, и поднес его к лицу Бахметьева. Тот несколько раз судорожно дернулся, но потом наркоз все-таки подействовал, и он беспомощно вытянулся.
Петронеску встал, громко выругался, потом подошел к «пожилому пролетарию» и дал ему затрещину.
— Грязная свинья! — закричал он на старика. — Ты чуть не испортил все дело!.. Кретин!..
И ударил его еще раз. «Представитель областной интеллигенции», стоящий рядом, угодливо хихикал. Он не любил старика и почему-то его побаивался.
Все еще тяжело дыша, Петронеску подошел к «интеллигенту» и, улыбаясь во весь рот, почта с нежностью, сказал:
— А вы… вы молодец!.. Уфф… вы… вы… помогли… Дайте руку… Спасибо!..
«Интеллигент» осклабился и подобострастно протянул руку. Петронеску пожал ее почему-то левой рукой, но в тот же момент нанес ему правой, в которой был револьвер, страшный удар в висок. Тот упал, и Петронеску, наклонившись над ним, проломил ему тяжелой рукояткой череп. Это была еще одна деталь для задуманной инсценировки.
На этом предварительные приготовления были закончены. Петронеску сел на краю воронки и предложил сесть остальным членам «делегации».
— Коротко объясню, — сказал он, — надо торопиться, хотя это шоссе совершенно пустынно. Все мы погибли от немецкой бомбы. В этой самой воронке. Ясно?
«Делегаты» молчали. Петронеску продолжал:
— Леонтьев в наших руках. Чтобы нас не искали, я решил использовать эту воронку. Для большей достоверности нам пригодятся эти два трупа. Вот почему пришлось убить их… Впрочем, человечество не так уж много потеряло… Это был тупой скот. Теперь — скорее за работу. Вот две шашки тола, положите на них трупы и взорвите тол. К сожалению, тола на всю машину не хватит, придется взрывать некоторые ее части, а кузов машины запрятать в лесу.
Когда все было сделано, Петронеску и его спутники пошли вглубь леса и понесли Бахметьева. Шли долго, часто отдыхали и к вечеру прошли километров десять. Здесь Петронеску облюбовал подходящее местечко для привала. Это была глухая лесная поляна, расположенная, по-видимому, в самой глубине лесного массива. Никаких признаков жилья поблизости не было. По размерам поляны ее можно было использовать для посадки самолета.
Связав Бахметьеву руки, Петронеску начал приводить его в чувство. Он дал ему понюхать нашатырного спирта. Вскоре Бахметьев открыл глаза. Он не сразу пришел в себя и с удивлением рассматривал лесную поляну, лицо склонившегося над ним Петронеску и девушек, сидящих в стороне.
— Здравствуйте, — как ни в чем не бывало сказал ему Петронеску, — как вы себя чувствуете?
Бахметьев ничего не ответил и только поморщился от странной головной боли. Он начал вспоминать все события прошедшего дня.
— Нам надо серьезно поговорить, — сказал, наконец, Петронеску. — Не удивляйтесь тому, что случилось. Поверьте, все к лучшему. Не сомневайтесь, что придет день, когда вы меня поблагодарите от всей души за то, что я для вас сделал. Короче говоря, вы военнопленный и находитесь в руках германских военных властей. Вы нам нужны, господин Леонтьев, и если будете разумно себя вести, то у вас не будет оснований для недовольства Германией и своей судьбой. Говорю это официально, по поручению германского верховного командования… Пару дней, пока мы переберемся через линию фронта, вам придется помолчать. Предупреждаю; малейшее непослушание, попытка к бегству, обращение к случайным прохожим дадут мне право покончить с вами. Отныне инженер Леонтьев может существовать лишь как лицо, почетно состоящее на германской службе. Иначе он вообще не будет существовать. Вот все, что я пока могу вам сообщить. Сейчас я по радио снесусь с немецкими властями. Что прикажете им передать от вашего имени?
— Передайте им, — ответил Бахметьев, — что все, чем я до сего дня мог быть полезным немецким властям, я уже сделал. Надеюсь, что германское командование уже оценило мои «А-2» и не имеет оснований быть мною недовольным… Кроме того, во избежание лишних разговоров, я прошу передать, что все чертежи и расчеты «А-2» я с собой не взял, а отправил в Москву. Вот и все.
— Я вижу, вам угодно иронизировать, — ответил Петронеску, — но ничего, в Берлине вы заговорите иначе… Уверяю вас…
16. ГРУБАЯ РАБОТА
Было около трех часов дня, когда Дубасов и его сотрудники прибыли к тому месту, где Петронеску инсценировал гибель машины от прямого попадания фугасной бомбы. Дубасов сразу начал исследовать окружающую местность и, в частности, дно воронки.
На первый взгляд все подтверждало факт гибели «делегации» и машины, в которой она следовала. Искалеченные при взрыве и тем не менее опознанные тела водителя машины и одного из «делегатов» были налицо. Обломки автомобиля — дверца, радиаторная пробка, номер — валялись тут же. Сама воронка не вызывала сомнений; она свидетельствовала о том, что здесь разорвалась фугасная бомба в сто килограммов. Отсутствие остальных трупов могло быть объяснено силой взрыва.
— Все ясно, — промолвил один из офицеров, — взрыв был сильный, вряд ли кто-нибудь уцелел, тем более при прямом попадании. Судя по всему, машина с людьми находилась в центре бомбового удара. Разрешите, товарищ подполковник, доложить в штаб.
— Подождите, — сказал Дубасов, осматривавший дно воронки. — Доложить о том, что все погибли, никогда не будет поздно.
— А жаль Бахметьева, хороший был человек, — заметил Петренко, совсем еще юный, розовый, как девушка, офицер.
— Погодите хоронить Бахметьева, — возразил Дубасов, доставая со дна воронки какой-то предмет и тщательно рассматривая его. — И вообще, Петренко, при вашей торопливости лучше служить в кавалерии, а не в контрразведке.
Подполковник положил обнаруженный им предмет в карман, предварительно осторожно завернув его в носовой платок, и снова начал рыться на дне воронки.
Петренко не без ехидства подмигнул своему товарищу: он явно считал усердие Дубасова бессмысленным.
Между тем подполковник перешел к исследованию обнаруженных трупов, точнее — того, что от них осталось. Прежде всего он начал тщательно осматривать череп шофера.
Через несколько минут в густых обгоревших волосах покойного он нащупал то, что искал: входное отверстие пули. Дальнейшим исследованием было обнаружено, что выходного отверстия нет, следовательно, пуля застряла в черепе.
— Товарищ Петренко, — сказал Дубасов, — отправляйтесь на машине в ближайшее селение и привезите оттуда бритву. Если по дороге попадется телефон, срочно вызовите судебно-медицинского эксперта, или патолога-анатома, или, в крайнем случае, хирурга.
— Слушаю, товарищ подполковник, — ответил офицер, — есть привезти бритву и вызвать по телефону эксперта, либо патолога-анатома, либо, в крайнем случае, хирурга.
Дубасов принялся обследовать череп «представителя областной интеллигенции». Он внимательно осмотрел замеченный им на виске синяк с ссадиной и рану на затылке.
Потом подполковник занялся дверцей машины и радиаторной пробкой. Установив, что дверная петля не сломана и не измята, Дубасов обмотал спичку кусочком ваты и протер петлевое кольцо. На вате осталось свежее масляное пятно.
Радиаторная пробка тоже оказалась в полной исправности. Дубасов прежде всего осмотрел резьбу той части ее, которая ввинчивается в радиатор. Резьба была цела.
— Товарищ Федотов, — обратился Дубасов ко второму офицеру, — осмотрите пробку и дверцу и дайте ваше заключение.
Офицер осмотрел то и другое и замялся. Ничего интересного он не обнаружил.
— Ну? — спросил его Дубасов. — Что скажете?
— Я не совсем понимаю вас, товарищ подполковник, — пробормотал Федотов. — Тут, стало быть, дверца от машины и дробка…
— Посмотрите внимательнее, — предложил Дубасов. — Эта дверца якобы силой взрыва вырвана из машины. Так?
— Ну да, взрывом бомбы, — ответил Федотов.
— Почему же тогда цела петля? Нет, эта дверца снята, понимаете, снята с петли, а не сорвана и тем более не вырвана. Снята… Теперь пробка. Резьба на ней цела. Значит, и пробку не вырвало силою взрыва из радиатора: ее вывинтили из него и в таком виде бросили в воронку. Рассчитывали, очевидно, на дураков.
Федотов с интересом начал рассматривать дверцу и пробку. Он быстро понял Дубасова и оценил его наблюдательность.
— Перейдем к трупам, — продолжал подполковник. — Череп этого мужчины размозжен. Я готов допустить, что он размозжен осколком бомбы; но характер пролома говорит о том, что тут действовали каким-то тупым орудием, например камнем. В другом черепе ясно прощупывается входное пулевое отверстие. Сейчас привезут бритву, я сниму волосяной покров, и тогда будет виднее… Насколько я ориентируюсь в пулевых ранениях, это типичное входное отверстие пулевого канала. Судя по тому, что выходного нет и, стало быть, пуля застряла в черепе, выстрел был произведен на близком расстоянии из револьвера среднего калибра, скорее всего второго номера… Ну, как это все называется, Федотов?
— Это называется грубая работа, — ответил офицер. — Слов нет, сделано ловко, если хотите, с размахом — своего даже стукнули для большей убедительности, — но грубо. Очень характерно для немцев. Дескать, и так сойдет. Не разберутся. Низшая, так оказать, раса…
— Правильно, — подтвердил Дубасов. — Вот именно, грубая работа…
17. КТО КОГО?
Оставив Федотова поджидать судебно-медицинского эксперта, Дубасов ринулся на «вездеходе» к Печенеговскому аэродрому, чтобы оттуда срочно связаться с Москвой и доложить о результатах своей поездки. Уже наступал вечер, и надо было спешить, так как Дубасов догадался, что этой ночью Петронеску попытается перебраться через линию фронта и скорее всего он сделает это на самолете, который вызовет по радио, сообщив свои координаты.
Следовательно, времени оставалось в обрез, буквально каждая минута решала судьбу всего дела. Поэтому Дубасов приказал шоферу ехать на Печенегово через лес, что значительно сокращало путь.
Машина помчалась вглубь лесной чащи, подскакивая на кочках, ныряя в промежутки между густо растущими деревьями. Опытный водитель, не замедляя хода, гнал ее все дальше и дальше в лес, объезжая старые пни и замшелые корневища, разрезая колесами огромные муравейники, разрывая нежный зеленый плющ моховых бугров, переваливая через балки и ручейки. Машина ввинчивалась, как штопор, в лесной массив, а Дубасов еле успевал нагибаться перед низко нависшей хвоей, уклоняясь от гибких, свистящих ветвей.
Километры, отвоеванные у леса, стремительно проносились назад, а потревоженные деревья укоризненно покачивали мохнатыми ветвями вслед этой необычной машине, столь дерзко нарушившей их лесной покой.
— Жми, Сережа! — время от времени поддавал жару Дубасов, хотя шофер и так делал все, что мог.
— Есть, товарищ подполковник, — отвечал шофер, напряженно вглядываясь в лесной сумрак.
Ехать становилось все труднее, и быстро наступавшая ночь густо заштриховывала просветы между деревьями, заливая серой мглою лесные поляны. Контуры деревьев сливались в одно целое, и моментами казалось, что маленькую машину со всех сторон обступает темная, глухая стена. Дубасов не разрешал включать фары, и шофер вел машину не столько на глаз, сколько угадывая чутьем, где и как лучше проскочить.
Наконец машина вырвалась из леса и вышла на проселок, за которым находился Печенеговский аэродром.
* * *
Однако Петронеску тоже спешил. Разумеется, он не предполагал, что столь хитро задуманная им инсценировка гибели «делегации» будет так быстро разоблачена. Независимо от этого Петронеску решил, что малейшая задержка в советском тылу бессмысленна, а главное — опасна.
Расположившись на лесной поляне, Петронеску привел в действие портативный передатчик и радировал о том, что Леонтьев уже взят и находится вместе с ним в таком-то лесу. Он просил Крашке этой же ночью прислать шестиместный транспортный самолет и добавил, что лесная поляна, на которой они расположились, вполне пригодна для посадки и взлета такого самолета, имеющего небольшую посадочную скорость. На поляне будут зажжены выложенные конвертом костры.
Наступил вечер. Связанный Бахметьев лежал на земле и молча глядел в вечернее небо. Несмотря на то, что положение его казалось безвыходным, он не терял надежды на спасение.
Бахметьев видел, как Петронеску возился с передатчиком, и понял, что он радировал немцам. По приказанию Петронеску «делегаты» сложили пять небольших куч хвороста. Они приготовились зажечь костры к моменту появления самолета, чтобы таким образом указать ему место посадки. Ракет Петронеску не признавал: они были слишком заметны.
Когда все приготовления были закончены, Петронеску сел ужинать. Он выпил вина и приступил к еде, снисходительно пригласив своих спутников разделить с ним трапезу.
Поев, Петронеску подошел к Бахметьеву и протянул ему кусок хлеба и колбасы.
— Не угодно ли? — любезно предложил он. — Это полковник снабдил нас на дорогу. Очень любезный товарищ. Поистине, гостеприимство — русская национальная черта!
Бахметьев ничего не ответил. Петронеску, немного выждав, в том же тоне добавил:
— Значит, не угодно? Ну что ж, упрямство — тоже русская национальная черта. Не одобряю.
И отошел в сторону. Было уже около двенадцати часов ночи. Где-то вдали раздавались орудийные залпы, но это лишь подчеркивало тишину, царившую вокруг них на этой лесной поляне. Петронеску нервно шагал, заложив руки за спину, часто останавливался и, запрокинув голову, вглядывался в ночное небо. Он ждал самолета.
Наконец донеслось негромкое жужжанье приглушенного мотора. Над лесом на сравнительно небольшой высоте шел на малых оборотах мотора самолет. Он искал сигнала.
— Костры! — завопил Петронеску, и все бросились поджигать хворост. Через минуту языки пламени заметались по поляне. Самолет снижался кругами. Летчик дважды включил и выключил зеленый и красный огоньки самолетных фар: точка — тире — точка. Это был сигнал: «Я вас вижу».
— Тушить костры! — приказал Петронеску, и все стали затаптывать горящий хворост. Самолет сделал последний разворот и пошел на посадку.
Через минуту он уже тормозил на поляне. Из кабины вылез пилот и приветствовал Петронеску. Они о чем-то тихо заговорили по-немецки, а затем Петронеску подвел летчика к лежавшему на земле Бахметьеву.
Летчик с любопытством стал рассматривать Бахметьева и даже бесцеремонно осветил его лицо карманным фонарем.
— Рус, здравствуй, — сказал он, с трудом подбирая слова. — Рус карашо будит… Зер гут!.. Бардзо добже!.. Требьен!.. О-кей!.. Веря гут!..
Бахметьев продолжал молчать. Бессильное бешенство от сознания своей беспомощности, словно приступ астмы, сдавило ему дыхание. Но он так выразительно посмотрел на немецкого летчика, что тот сразу выключил свой фонарь и отошел с Петронеску в сторону. Там они опять пошептались и потом смеялись долго и заливисто. Внезапно летчик, что-то вспомнив, остановился, словно поперхнувшись, вытащил из кармана и протянул Петронеску какой-то пакет и, щелкнув каблуками, почтительно вытянулся.
Петронеску вскрыл пакет, побледнев от радостного предчувствия. Это был приказ о награждении его железным крестом.
18. КРАХ ПЕТРОНЕСКУ
Немецкий летчик, прибытие которого так обрадовало Петронеску, был не кто иной, как… следователь Ларцев. Когда в Москву поступило сообщение Дубасова о том, что Бахметьев, выдавший себя за Леонтьева, похищен и по всей вероятности будет переброшен через линию фронта, следователю Ларцеву, отлично знавшему немецкий язык, было предложено срочно вылететь на Печенеговский аэродром и там переодеться в форму немецкого летчика.
Из Москвы же было дано указание этому участку фронта обеспечить усиленное барражирование наших самолетов, с тем чтобы заставить снизиться любой немецкий самолет, который перелетит в эту ночь через линию фронта. Все эти меры диктовались следующими соображениями.
Во-первых, было ясно, что Петронеску постарается выбраться из советского тыла именно на самолете, который он вызовет по радио; во-вторых, задерживать Петронеску и всю «делегацию» путем облавы, оцепления и тому подобных способов было опасно, так как немцы, обнаружив провал всей операции, могли в последний момент убить «Леонтьева»; в-третьих, единственная возможность задержания, гарантирующая безопасность Бахметьева, заключалась в том, чтобы явиться под видом специально присланного немецкого летчика, нисколько не нарушая спокойствия Петронеску.
Командиру авиаполка, расположенного на Печенеговском аэродроме, были даны соответствующие указания, и в тот самый вечер, когда Петронеску победно радировал Крашке о своих успехах, десятки наших истребителей поднялись в воздух и «закрыли» всю линию фронта. После полуночи появился немецкий самолет, шедший на небольшой высоте. Он был замечен истребителями, которые сразу окружили его.
Немецкий летчик, обнаружив, что спереди, сзади, сверху, снизу и с боков находятся советские самолеты, попытался было вырваться из кольца, но не сумел это сделать. То обстоятельство, что наши истребители не открывали огня, продолжая на него наседать в буквальном смысле этого слова, было истолковано» немцем правильно: он пошел на снижение. Послушно следуя за нашим истребителем, немец направился прямо на Печенеговский аэродром. Когда он снизился, в самолет сели Лар-цев, уже одетый в соответствующую форму, и старший лейтенант Нестеров, также переодетый немецким летчиком. Нестеров отлична знал немецкие машины, и потому выбор командира полка остановился на нем.
Через несколько минут машина оторвалась и взяла курс на лес, в котором, по всем расчетам, находился Петронеску со своими спутниками. Перед вылетом у сдавшегося немецкого летчика был отобран пакет с приказом о награждении Петронеску-Крафта железным крестом…
Минут через двадцать, кружа над лесом, Нестеров и Ларцев увидели костры, выложенные конвертом. Они пошли на снижение и встретились с Петронеску.
Безукоризненное немецкое произношение Ларцева, приказ о награждении, самый самолет, на котором они прибыли, были настолько вне подозрений, что даже у такого опытного шпиона, как Петронеску, не возникло ни малейших сомнений. Вся «делегация» весело погрузилась в самолет.
19. КОНЕЦ ПОЕДИНКА
И в Москве и в Берлине в эту ночь лихорадочно ждали известий.
«Самолет вышел за вами в двадцать три часа сорок минут», — радировал господин Крашке.
«Самолет с Ларцевым вышел за «делегацией», — радировал в Москву Дубасов.
«Ждем Крафта с минуты на минуту», — рапортовал Берлину Крашке.
«Немедленно сообщите подробности вылета ж состояние Леонтьева», — беспокоился Берлин.
«Главное — учтите безопасность Бахметьева», — еще раз напоминала Москва.
Берлин преждевременно торжествовал — «Леонтьев взят!» Москва неустанно напоминала — «обеспечьте безопасность Бахметьева и захват всей «делегации».
Около часу ночи командир авиаполка вполголоса сказал Дубасову одно только слово: идут. На ночном небе ничего не было видно, но, вслушавшись, Дубасов уловил далекий рокот мотора. Да, самолет приближался. Все громче пел его мотор, вот уже засветились фары, и через минуту самолет, сделав два круга над аэродромом, пошел на посадку. Вот он приземлился, покатился по траве аэродрома, влажной от ночной росы. Вот он, вздрогнув, замер на месте. Хлопнула отворившаяся дверца, и из машины весело выпрыгнул Петронеску. За ним вышли «пожилой пролетарий» и девицы.
— С благополучным приземлением, — произнес за спиною Петронеску Дубасов и с великим наслаждением дал оплеуху руководителю «делегации». В то же мгновение сотрудниками контрразведки были схвачены и связаны девицы и «пожилой пролетарий». Передав пошатнувшегося Петронеску своим помощникам, Дубасов бросился в самолет. Через минуту он вылез из нее, держа на руках Бахметьева и неуклюже прижимая его к груди, словно большого ребенка. Бахметьев был еще связан.
А над великими просторами русской земли, над ее реками и лесами, над равнинами и болотами, через города и села, еще долго неслись в ночь, в звездное небо тревожные запросы Берлина: «Почему задерживаете сообщение о прибытии Петронеску-Крафта? Каково состояние Леонтьева? Ждем вашего ответа… Ждем вашего ответа…»
Но ответа Берлин так и не дождался.
20. ВСТРЕЧА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ
В июне 1945 года в Москву из Берлина прилетели для участия в параде Победы на Красной площади генерал-майор артиллерии Свиридов и его старый друг, теперь уже подполковник Бахметьев. Много воды утекло за это время. И Свиридов и Бахметьев участвовали в грандиозной операции по взятию Берлина. Оба были за годы войны ранены; но после лечения в госпиталях вернулись в строй.
Прекрасна была в эти великие дни Москва. По улицам столицы неслись тысячи машин, всюду веселые, счастливые лица, смех, сверкающие глаза. На улицах множество военных, ордена и медали на парадных кителях, женщины и девушки в светлых, нарядных платьях.
На Красной площади состоялся исторический парад Победы. Герои Великой Отечественной войны, летчики и танкисты, пехота и кавалерия, моряки и партизаны проходили церемониальным маршем мимо Мавзолея и правительственных трибун. Руководители партии и правительства принимали этот незабываемый парад. А полки проходили за полками со своими боевыми знаменами, овеянными немеркнущей славой героических сражений за честь и независимость великой страны социализма.
Вся страна — огромная, великая, раскинувшаяся от Черного моря до Ледовитого океана — слушала радиорепортаж об историческом параде на Красной площади, ликующие трубы сводного военного оркестра, четкий щаг проходящих церемониальным маршем воинских частей, грохот танков и самоходной артиллерии, гул эскадрилий, проносившихся над площадью.
Кончился парад, немного отдохнула Москва, «и вечером начался народный праздник. Многомиллионное население столицы хлынуло в центр, на ту же Красную площадь и прилегающие к ней улицы и набережные. Разноцветные огни праздничного фейерверка сменялись голубым пламенем салютных ракет.
Веселились. и на бульварах. На Чистых прудах плыл по аллеям бурливый, бесконечный человеческий поток. Гремела музыка, томно заливались саксофоны и скрипки, на всех площадях и площадках кружились в вальсе пары. Стихийно вспыхивали и гасли веселые песни. В зеркале пруда отражались огни ракет. Москва ликовала вместе со всей Родиной, пришедшей к Победе.
В квартире Леонтьева, как это было условлено несколько лет назад, собрались Свиридов и Бахметьев. Они сидели втроем за столом, окна квартиры были распахнуты настежь. Напротив, рядом и наискосок горели такие же ярко освещенные, праздничные окна домов. Леонтьев и его гости пили вино и вспоминали те дни, когда они впервые познакомились друг с другом.
Леонтьев вспомнил и о «подшефном» Бахметьева — бывшем карманнике. Бахметьев сразу оживился.
— Как же, он жив-здоров, — охотно стал рассказывать Бахметьев. — Это уже настоящий офицер, которым можно гордиться. А, знаете, ведь с ним произошла потом, уже под Берлином, интересная история. Хотите, расскажу?
— Слушаем со всем вниманием, — ответил Леонтьев.
— В конце апреля мы приближались к Берлину. Уже за Ландсбергом, в одном маленьком немецком городке, это и случилось. Наша часть ворвалась в этот городишко. Ну, картина обычная. Остроконечные черепичные крыши, горящие здания, плакаты: «Мы не капитулируем», «Свобода или Сибирь», «Тс-с-с-с!» — и горы чемоданов, брошенных в паническом бегстве прямо на улицах.
Немцы развесили во всех окнах и подъездах белые флаги, нашили на рукава такого же цвета повязки и начали понемногу выползать изо всех щелей на улицы, отвешивая поклоны нашим офицерам и бойцам.
В этом городке мы заночевали.
Вечером Фунтиков вышел на главную улицу города немного пройтись. Стрельбы уже не было, на перекрестках дымились походные кухни, догорали зажженные снарядами дома. На углу уже открылась дежурная аптека, на дверях которой висел большой, написанный по-русски плакат: «Только для господ русских военных». Это сделал оборотистый хозяин аптеки, решивший, по-видимому, подчеркнуть свои симпатии Советской Армии.
Фунтиков подошел к витрине и прочел эту выразительную надпись. За зеркальным стеклом пылали разноцветные стеклянные шары и блестели полированные шкафы с лекарствами. За стойкой в выжидательной позе стоял хозяин в белоснежном халате. На лице его было написано спокойное раздумье, готовое при первом посетителе смениться вежливой улыбкой. Это был пожилой мужчина, полный, в очках.
Что-то знакомое показалось Фунтикову в этом лице, и он, чтобы проверить свое первое ощущение, точнее — предчувствие, вошел в аптеку. Хозяин почтительно склонился ему навстречу.
«Чем могу служить господину русский офицер?» — спросил он, с трудом подбирая слова.
«Средство против гриппа есть?» — произнес Фунтиков, подойдя вплотную к стойке.
«О да, — с готовностью сказал хозяин. — В моя аптека есть много хороший лекарств. От насморк, от грипп, от разный болезнь…»
«Вы давно говорите по-русски? — спросил Фунтиков. — Вы жили в России?»
«О нет, я никогда не бываль в Россия. Но я немного знаю русский слов. В России я не бываль. Против грипп очень хорошо стрептоцид, кальцекс, уротропин. Прошу, господин офицер».
И он быстро пошел к шкафу за лекарствами. Фунтиков посмотрел ему вслед, и его словно обожгло давнее, но жгучее воспоминание. Эта походка, виляющий зад, тусклый, какой-то стеклянный взгляд, тяжелый подбородок, — ну, конечно, это он, старый знакомый, тот самый немец с моноклем, у которого он тогда выкрал бумажник…
Достав пакетики с порошками, аптекарь вернулся к стойке.
«Вот, прошу вас, — сказал он, — тут есть лекарства против грипп. Это есть о-чень хороший лекарство, очень хороший фирмы Шеринг».
«Шеринг? — спросил Фунтиков, сразу вспомнив и эту фамилию. — Отто Шеринг?»
Немец спокойно, разве только чуть быстрее, чем следовало, взглянул на Фунтикова.
«О нет, — медленно произнес он, — почему Отто Шеринг? То есть просто Шеринг, а совсем не есть Отто. Шеринг самый крупный германский фирма лекарств».
«Понимаю. Но я имею в виду другого Шеринга, а именно Отто Шеринга. Ведь вы его знаете?»
«Шеринг есть много немецкий фамилия. Это все равно, что в Россия Иванов. Но я не имель знакомый Отто Шеринг. А что, господин офицер знает такого Отто Шеринга?»
«Господин офицер, — очень твердо произнес Фунтиков, не спуская с немца глаз, — господин офицер знает не только Отто Шеринга, но и вас, господин аптекарь. Вы мой старый знакомый, еще по Москве».
«Но я никогда не был ин Москау, — уже не так спокойно, как раньше, сказал аптекарь. — И я совсем не имел честь знать господин офицер. Я есть хозяин этой аптека» и я вовсе не зналь никакой Отто Шеринг… Я есть старый германский коммунист и даже сохраниль свой партийный книжка».
«Одевайтесь, господин «коммунист», — ответил Фунтиков, — и следуйте за мной».
И в тот же вечер, сидя перед столом следователя, старый немецкий шпион на отличном русском языке и уже без всякого акцента подробно рассказал о том, как в тысяча девятьсот сорок четвертом году он получил приказание поселиться в этом городе под видом аптекаря, остаться в нем в случае прихода Советской Армии и спокойно готовить кадры шпионов и диверсантов. Он рассказал и о том, как его снабдили на этот случай фиктивным партийным билетом, а месяца за три до прихода Советской Армии даже на некоторое время арестовали якобы по подозрению в «пораженческих настроениях».
«Было очень важно, — сказал он, — на всякий случай создать мне определенную репутацию. С этой целью была инсценирована слежка за мной, обо мне «секретно» допрашивали моих соседей и квартирную хозяйку, и меня даже внесли в списки «подозрительных лиц», заведенные в местной полиции и которые «случайно» остались неуничтоженными. Как видите, все было продумано до мельчайших деталей. И, кто знает, если бы меня не узнал этот «старый знакомый», то я и не сидел бы перед этим столом, а продолжал бы мирно торговать касторкой и ландышевыми каплями…»
Когда Бахметьев закончил свой рассказ, было уже поздно. Но ночной праздник на Чистых прудах, на всех бульварах, на площадях Москвы разгорался с еще большей силой. Неумолчный человеческий океан мерно гудел за окнами квартиры. Все еще полыхали в небе разноцветные огни, все еще гремели оркестры и смеялись девушки. И все еще ярко светились окна домов, как по команде распахнутые всеми жителями столицы настежь в эту историческую июньскую ночь.
Примечания
1
Подлинный документ, который был представлен и оглашен на Нюрнбергском процессе.
(обратно)2
Подлинный текст из дневника Додда, оглашенный на Нюрнбергском процессе.
(обратно)3
По приказу Гитлера Шулленбург был расстрелян 10 декабря 1944 года.
(обратно)4
Подлинный текст «Инструкции» от 13 марта 1941 г.
(обратно)5
Приведен подлинный текст речи Гитлера, оглашенный на Нюрнбергском процессе.
(обратно)6
Тоже текст подлинного документа.
(обратно)7
Эти показания были оглашены на Нюрнбергском процессе.
(обратно)8
Тоже подлинный текст показаний Штольца, оглашенных на Нюрнбергском процессе.
(обратно)
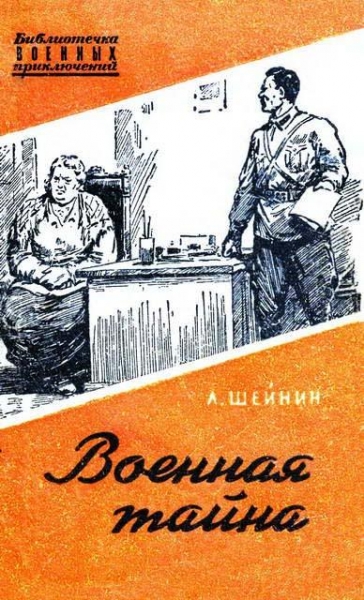

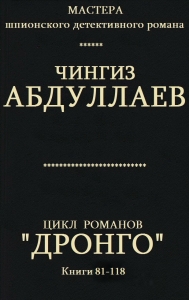

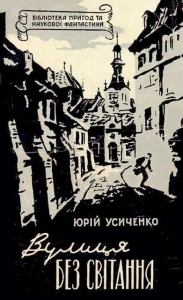

Комментарии к книге «Военная тайна», Лев Романович Шейнин
Всего 0 комментариев