Евг. Григ ДА, Я ТАМ РАБОТАЛ Записки офицера КГБ
Славе и Люсе.
СЛЕДЯ
Бесшумною разведкою — крепка рука — за камнем и за веткою найдем врага… Бесшумною разведкою — крепка рука — за камнем и за веткою найдем врага… Песня ворошиловских стрелковС площади мы свернули в большой двор, уставленный машинами. Тогда я, конечно, не знал, чем отличаются такие машины от всех остальных, обыкновенных; различия не видны, зато слышны.
Подошли к парадному, вошли, за первой дверью вторая, рядом звонок. Я вопросительно посмотрел на Ткача.
— У вас ключ?
— Нет, ключ не нужен, — он показал глазами на обычную на вид дверную ручку.
Дверь открылась, и я первым вошел в большую комнату.
Моя служба в КГБ началась.
Было 12 сентября 1958 года.
****
Я родился в 1939 году в Нью-Йорке, где в то время работали мама и отец. Оба они были сотрудниками НКВД; я до сих пор почти ничего не знал об их работе; отец умер в 1950 году 38-летним — мне было 12 лет, и на подобные темы, конечно, со мной не говорили.
Мама после смерти отца ушла с оперативной работы и до ухода на пенсию работала медицинской сестрой в поликлинике КГБ, лишь однажды она обмолвилась, что во время войны они с отцом служили под руководством Райхмана; очевидно, это было ВГУ — 2-е Главное управление — контрразведка.
О Райхмане я прочитал в прессе совсем недавно, как оказалось, он имел косвенное отношение к трагедии в Катыни — наступило время разоблачений, и в статье приводились ответы Райхмана на вопросы журналиста. То есть журналисту казалось, что он излагает ответы: отвечая, Райхман не говорил ничего.
Большая комната, нечто вроде прихожей. Видно, что двумя коридорами она соединяется с другими помещениями. Слева — стеклянная перегородка, за ней стол с десятком телефонов различных цветов и моделей, сейфы, ящики с какими-то ячейками, на стене — карта Москвы. За столом стоял человек лет 50-ти, говоривший сразу по двум телефонам; он цепко посмотрел на меня.
— Новичок, — коротко сказал Ткач, и мы направились в глубь помещения, которое оказалось неожиданно большим (позднее я узнал еще и о втором этаже).
— Сейчас познакомлю с начальником отделения. Полковник Гольперт — отличный мужик.
Гольперт был высокий, плотный, красивый, седой. Сейчас я сравнил бы его с Донатасом Банионисом. Он крепко пожал мне руку, кивком головы отпустил Ткача и, выйдя из-за стола, внимательно меня осмотрел.
— Рост у тебя великоват — маскироваться придется. Ну, расскажи что-нибудь о себе.
Что там было рассказывать! 19 лет, окончил среднюю школу, год учился в медучилище, работал речником, грузчиком, вот и все…
— Мне сказали, ты по-английски говоришь хорошо. Это может пригодиться. Любишь читать? Занимаешься спортом? Наверное, захочешь дальше учиться? Здесь это непросто…
Потом-то я понял, почему.
— А работе начнешь учиться завтра. Учить тебя будет Михаил Иванович Бирюков, старый, опытный сыщик. Иди, найди Ткача, пусть он покажет тебе отдел.
Да, это был один из отделов УОДК — Управления по охране дипкорпуса при ВГУ. И, как я понял позднее, скорее, не по охране, а по слежке за дипломатами, иностранными туристами, которых приезжало к нам все больше и больше, представителями фирм, сотрудниками авиакомпаний и за кем угодно еще.
Каждый из таких отделов, разбросанных по Москве, занимал конспиративную квартиру, в обиходе называвшуюся «Кукушка», в которой можно было разместить человек 150 сотрудников НН — наружного наблюдения, «наружки», — специалистов по слежке, которых в литературе и кино часто изображают с известной долей презрения к «шпикам», «филерам», «топтунам» и как еще их там называют…
Их трудную и сложную, часто виртуозную работу интересно и с большим уважением описывает один из любимейших моих авторов — Джон ле Карре, сам в прошлом спецслужбист. Он называет их «лэмплайтерз» — фонарщики, до сих пор не знаю, почему. Много лет спустя, переписываясь с литературными агентами Джона ле Карре, все время хотел узнать это, да так и не собрался.
Разведчики службы наружного наблюдения — мужчины и женщины — чаще всего люди обычной внешности; красавицы и красавцы перед выходом «на пост» маскируют свою красоту… Они должны быть незаметны в толпе, даже если толпы нет, даже если вокруг вообще нет никого. Так же неприметна их одежда.
Хотя значительная часть слежки ведется в машинах, приходится немало и «топать», поэтому удобная, прочная обувь в особом почете у «наружников». Они берегут ноги, и на этот счет было немало шуток — в КГБ вообще любили и умели посмеяться над собой. Бирюков — маленький, коренастый, с огромным носом и близко посаженными глазами, в первый же день моей учебы без тени улыбки спросил:
— Ты вот когда спишь, у тебя что на подушке?
— Голова, — недоумевая, промямлил я.
— А теперь клади туда ноги. Это, понимаешь, теперь самая главная часть твоего организма…
Мы стояли в комнате техников, где утром, в середине дня и перед наступлением ночи смены наружной разведки получали и проверяли технику: носимые под мышкой радиостанции, вмонтированные в одежду, портфели или дамские сумочки маленькие фотоаппараты, аппаратуру для скрытой киносъемки — видео еще только созревало где-то далеко от нас… Брали и запасную одежду для маскировки — в ходу были выворотные куртки и плащи — каждая сторона другого цвета. При выходе из комнаты техников висело большое зеркало, перед которым проверяли, хорошо ли пригнана одежда, не торчат ли из-под нее провода или манипуляторы каких-либо «оперустройств».
В течение нескольких месяцев меня обучили пользоваться опертехникой. Необходимо было назубок знать расположение посольств и других иностранных представительств, подъезды и подходы к ним, прилегающие улицы и переулки, типовые маршруты передвижения дипломатов и интуристов по городу, наизусть — запретные для иностранцев зоны Подмосковья, линии метро, а в центре города — все основные проходные дворы.
Хорошо зная огромную сеть проходных дворов центра Москвы, можно перехватывать объект наблюдения не только пешком, но и в машине. Наблюдаемые, в свою очередь, используют «проходники» для отрыва от наблюдателей.
Автомобили «наружки» и их водители — «специальная песня». Слежка за объектом, передвигающимся в машине, требует от наблюдателей оставаться незаметными для него (и желательно для всех остальных), не нарушая при этом правил дорожного движения. Это почти невозможно; трудности наблюдения многократно возрастают, когда наблюдаемый знаком с методами обнаружения слежки и применяет их для отрыва от нее.
Слежка нередко бывает достаточно опасна: чтобы не «мозолить глаза» объекту наблюдения, «наружникам» приходится то далеко отставать, то, прячась от объекта, двигаться по параллельным улицам и переулкам, резко меняя скорость движения, проноситься проходными дворами, иногда выезжать на тротуары, «пролетать» на красный свет светофоров.
Поэтому обычные машины советских марок, конечно, не годились: от них легко уходили бы «форды», «шевроле» и «мерседесы» наших «клиентов» — сотрудников зарубежных резидентур в Москве.
В конце 50-х — начале 60-х годов «наружка» работала либо на «Волгах» со слегка усиленными двигателями, либо на любимых тогда всеми сыщиками «шестерках»; стандартные «Победы» — сейчас их, наверное, мало кто и помнит, оснащались шестицилиндровыми двигателями сначала от грузовиков ГАЗ, а позже — от роскошных по тем временам ЗИМов. Получался верткий, опасно быстрый гибрид, который легко брал с места 60–70 км в час, плохо «держал дорогу» — особенно зимой, и устрашающе грохотал при больших оборотах двигателя в тоннелях и под мостами.
От этой машины практически невозможно было оторваться; кроме того, за рулем сидели бывалые сыщики, которые периодически проходили специальные стажировки и, получая допуски для работы на спецмашинах, должны были накатать определенное количество учебных часов подобно летчикам, осваивающим новые типы самолетов. Некоторые из них имели практику работы за рубежом: лучшие (или те, у кого были подходящие связи) нередко работали водителями в резидентурах 1-го Главного управления — разведки за рубежом. Там они имели возможность почувствовать, что происходит «на другом конце веревки» — они сами становились объектами наблюдения.
Не знаю, как готовят таких водителей сейчас, но, когда при мне начинают спорить, кто лучше водит машину — таксисты, раллисты или каскадеры, я помалкиваю и делаю невыразительное лицо.
Я знаю, кто лучшие «драйверы» в мире.
Аварии и катастрофы были редки, но случались. Бывало, гибли не только сыщики, но и случайные люди, прохожие и проезжие…
Машины, конечно, были снабжены радиостанциями для связи с отделом, друг с другом и пешими сыщиками. В те времена рации и питание к ним весили довольно много, была и другая техника, которая применялась во время слежки за сотрудниками военных атташатов зарубежных посольств. Эти приборы регистрировали излучения наших военных объектов, и мы старались узнать, какими именно излучениями интересуются военные разведчики.
Чтобы закончить автомобильную тему (почти каждый «наружник» — автомобильный фанат) расскажу о машинах, которые мы получили в середине 60-х годов: стандартные «Волги» оснащались мощными восьмицилиндровыми двигателями от «Чаек» — мы так и звали их — «восьмерки». Разгонялась такая машина мгновенно, легко делала 150–170 км в час, но остановить ее порой бывало непросто: полностью снаряженная и заправленная, с пассажирами, она весила около Зтонн.
Я давно не слышу (шум от выхлопа опермашин не такой, как у всех остальных) этих автомобилей на улицах — наверное, придумали что-нибудь другое, а может быть, обходятся обычными «Жигулями»?
****
Как вообще люди попадают на работу в спецслужбы, особенно в такие секретные, «негласные» — как НН? Мой пример не типичен: воспитанный в семье чекистов, я и думать не мог о другой карьере, хотя довольно смутно представлял себе сущность оперативной работы, физические и моральные нагрузки и многое другое. Фильмы и книги о ЧК, в которых герои с правильными лицами и усталыми, но добрыми глазами после трудных борений с коварным, отвратительным врагом обязательно одерживали над ним верх, действовали на меня так же вдохновляюще, как и на многих моих сверстников. Работа казалась романтичной, знать о том, что для миллионов людей представляло лишь объект догадок, казалось почетным и возвышало в собственных глазах. Вообще сознание собственной исключительности, пожалуй, наиболее характерная черта (может быть, болезнь?) менталитета любого спецслужбиста. Часто она трансформируется в ощущение превосходства над окружающими, и с этого момента человек становится опасным для общества. К сожалению, далеко не все сотрудники секретных служб понимают это; далеко не все сохраняют способность взглянуть на себя «со стороны и сверху». К некоторым трезвое мышление приходит через долгие годы службы, другие так и выходят на пенсию, не усомнившись ни в чем ни на минуту. Но таких очень мало.
Была и еще одна причина моего поступления на службу в КГБ, осознанная мною, правда, позже.
Когда умер отец, наша семья — мама, двухгодовалый брат и я были сразу отброшены не в нищету, нет, но в опрятную, «достойную» бедность. Кое-что родители привезли «из заграниц» (в основном воспоминания), после отца остались скромные накопленьица, а на нас троих — 13-метровая комната в коммуналке, где, к счастью, соседи были достаточно уживчивы.
Я немало помнил о прежней жизни, например, в Германии, где родители работали после войны несколько лет; в то время я уже учился в школе и третий класс закончил там, в Дрездене. Мне хотелось вернуть нашей семье тот достаток, какой был при отце, хотелось видеть другие города и страны, и, конечно, принадлежать к Ордену.
Что касается карьеры как таковой, я, наверное, был поразительно нечестолюбивым офицером. Полковник в Москве после 33 лет службы — шишка небольшая.
С самого начала службы я заметил, что состав «наружки» делился на две группы — стариков и молодых. Я и несколько десятков моих сверстников попали на эту работу, не отслужив даже в армии. «Наружка» старела: многие были ветеранами войны, служившими в различных армейских разведывательных подразделениях. Война не дала им закончить даже среднюю школу, и для них организовали курсы, после которых экстерном можно было сдать экзамены на аттестат зрелости. Отработав дневную смену и еле волоча ноги от усталости, они тащились на вечерние занятия.
Мы посмеивались над стариками, но и побаивались их: они были старшими, наставниками, и мы во многом от них зависели.
Особенно нас интересовали те, кто воевал. Их не просто было «разговорить» — я еще тогда заметил, что по-настоящему хлебнувшие войны, как правило, не торопятся делиться воспоминаниями о ней…
Один из них, короткое время работавший в нашем отделе, кажется, Иван Николаевич, молчаливый, высокий, крепкий, лет 50-ти, держался одиноко, на базах и в отделе редко участвовал в общих разговорах. На одну из годовщин ЧК, 20 декабря, фронтовикам было приказано явиться на вечер при всех наградах, и, когда Иван Николаевич, оставив пальто в раздевалке клуба КГБ, направился в зал, все невольно остановились по стойке «смирно».
Такого «иконостаса» мне еще не приходилось видеть: помимо многих советских орденов и медалей, на груди фронтовика красовались и несколько иностранных, в том числе знаменитый польский крест «Виртути Милитари»…
За чем же охотятся сыщики НН?
Перед наружной разведкой немало задач. Того, кто дает задание бригаде «наружки», интересует многое и разное. Как ведет себя объект наблюдения вне дома и работы, с кем встречается? Ищет ли он за собой слежку, то есть опасается ли ее и уже тем самым подтверждает какие-то из имеющихся на его счет подозрений?
Установка связей объекта (скажи мне, кто твои связи, и я…) — штука непростая: нужно непременно «воткнуть связь в адрес», иначе говоря, убедиться, что лицо, встретившееся с объектом, пришло именно домой. Есть масса признаков, помогающих убедиться в этом: уверенно ли человек выбирает транспортное средство для поездки, в какой вагон метро садится, открывает ли дверь квартиры своим ключом и т. д. Рано утром на следующий день связь «выводят на работу», а иногда, если для этого есть основания, караулят и всю ночь. Личность человека устанавливается и по месту жительства, и по месту работы. Ошибки бывали крайне редки.
Именно «наружка» в свое время выявила опасного агента английской и американской разведок полковника Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны Олега Пеньковского.
Мало того, что Пеньковский был кадровым разведчиком с солидным стажем и большим опытом оперативной работы, мало того, что родственные и служебные связи позволяли ему «снимать» интересную стратегическую информацию во время бесед и застолий с высокопоставленными покровителями, даже его «крыша», а он работал в ГКНТ — Государственном Комитете по координации науки и техники, позволяла передавать на Запад серьезнейший материал в течение долгого времени. По подсчетам западных экспертов, только фотокадров, сделанных «Миноксом», было передано около 5 тысяч. Полностью объем информации, предоставленной Пеньковским, по тем же подсчетам, составил более 10 тысяч страниц. Один из руководителей американской администрации заметил, что материалы, полученные ЦРУ от Пеньковского, «окупили все затраты на ЦРУ с момента его создания».
В одной из книг о Пеньковском, претенциозно названной «Шпион, спасший планету», утверждается, что информация, полученная от Пеньковского, послужила чуть ли не базой для выработки американской политики в период Карибского кризиса. Есть основания полагать, что она, эта информация, действительно, как пишут об этом исследователи, докладывалась ЦРУ президенту Кеннеди, и он знал о существовании в Москве этого суперагента.
Пеньковский встречался с английской разведчицей Анной Чизхолм, женой сотрудника посольства Великобритании в Москве, тоже разведчика, передавая ей материалы и получая задания.
Анна, молодая привлекательная женщина, сначала встречалась с Пеньковским во время прогулок со своими тремя детьми на Цветном бульваре — дети служили прикрытием для операций по обмену информацией и заданиями для агента.
Впоследствии встречи эти проходили в парадных московских домов. «Наружники» долгое время не придавали значения заходам Чизхолм в подъезды: Анна была на последних месяцах беременности и делала вид, что поправляет там чулки, чем немало смущала заходивших вслед за ней сыщиков.
Однажды молодой паренек, недавно пришедший в НН, обратил внимание на мужчину, выходившего из подъезда, в котором только что побывала Чизхолм. И надо же было такому случиться, что через некоторое время, когда за Чизхолм вела наблюдение та же самая бригада, тот же сотрудник опять увидел Пеньковского…
Чизхолм тут же «бросили» и полностью переключились на мужчину. Все остальное было, как говорят шахматисты, «делом техники».
Участь Пеньковского была решена именно в этот день.
Впоследствии я прочитал немало отчетов и учебной литературы по делу Пеньковского, и везде обстоятельства его выявления замалчивались: КГБ не хотел признавать, что победа была одержана благодаря не только целенаправленной работе, но и редкому стечению обстоятельств.
****
Тайниковые операции, вернее, их раскрытие — еще один из аспектов работы НН в те годы.
Зарубежным спецслужбистам, работавшим тогда в Москве, было довольно затруднительно поддерживать связь со своими агентами из числа советских граждан. Технические средства для мгновенной, почти не улавливаемой контролирующей аппаратурной связи с агентурой тогда еще только разрабатывались. Да и как передать по радио, например, чертеж или схему? Это стало возможным не так уж давно — компьютеры…
Ну а тогда тщательно подыскивались и подготавливались места для тайниковых операций; в этих тайниках оставляли инструкции или задания для агентов или извлекали из них готовые материалы — все это довольно подробно отражено в кино и литературе.
Обнаружить такой тайник, зафиксировать операцию по закладке или изъятию — дело почти безнадежное. Почти.
Связь — я это понял с годами службы в КГБ — вообще самое слабое звено в работе спецслужб, в любой операции. Оставить материал в тайнике, то есть выпустить его из рук даже на короткое время — большой риск. По этим материалам, если они попадают в руки контрразведки, как бы они ни шифровались, агента вычисляют. А «сюжеты», когда тайники обнаруживались случайно, бывали и у нас, и в США…
Поэтому часто, почти всегда, за тайником после закладки в него материала ведется наблюдение — не попадет ли «закладка» в чужие руки. Время между закладкой и изъятием обычно сокращается до минимума. Все это сводит возможности НН по раскрытию таких операций почти к нулю.
Тем не менее, НН выслеживало, фиксировало их и вражескую агентуру раскрывало.
За годы моей службы в «наружке» иностранные разведчики — в основном американцы — не раз «горели» на тайниковых операциях вместе со своей агентурой: в фильме и книге «ТАСС уполномочен заявить» с большой степенью достоверности показаны тайниковые операции агента «Трианон» — это настоящая кличка, данная ему американцами.
«Трианон», человек, близкий к верхам нашей номенклатуры, пользовался различными тайниковыми уловками. На изъятии одного из тайников «Трианона» была схвачена сотрудница ЦРУ Паттерсон, работавшая в американском посольстве в Москве.
****
Иногда между наблюдаемыми и наблюдателями образуется какая-то необъяснимая связь. Большим уважением у «наружки» пользовались разведчики-профессионалы из числа сотрудников посольств, бизнесменов и туристов.
Эти люди никогда не оглядываются, остановившись «завязать шнурок» (кстати, как я потом узнал, шнурки у американцев, например, никогда не развязываются — они специально делаются вощеными). Они не выглядывают из-за угла, не прячутся за колоннами Большого, не впрыгивают в вагон метро или электрички перед закрытием дверей. Они легко и классно водят свои изящные автомобили и не таращатся без конца в зеркало заднего вида, ежеминутно его поправляя. В нужный момент они просто исчезают, и упрекнуть их не в чем — виноваты в потере всегда сыщики…
«Моупинтур» — так называлась финско-американская туристическая фирма которая устраивала автобусные поездки для американцев по маршруту Хельсинки — Ленинград — Москва — Варшава. Автобусов было, по-моему, четыре: Х-1, Х-2, Х-3, Х-4… Юмор, заключавшийся в этих номерах, стал нам понятен не скоро.
Автобусы были красивые, мощные, окрашенные в бежевые и вишневые цвета. Туристы — в основном американские пенсионеры — старички и старушки в пестрых туристских нарядах, были чинные, спокойные, многократно промытые в различных дезодорантах и благовониях.
Перед нами поставили задачу: вести наблюдение за водителями-финнами и ни в коем случае не выпускать из виду сами автобусы — даже пустые. Что-то людям из «Дома 2» — так мы называли сотрудников контрразведки и разведки (она в те годы размещалась в хорошо всем знакомом здании на Дзержинке — теперь Лубянке) — было известно о «Моупинтуре», но, видимо, немного. Нас предупредили, что в числе туристов могут быть люди, либо связанные с ЦРУ, либо кадровые разведчики — работать с учетом этого обстоятельства было непросто.
В принципе, держать в поле зрения здоровенный, ярко раскрашенный автобус несложно, но не «мозолить» при этом глаза водителям и пассажирам — дело непростое. Наши опермашины порой устраивали настоящий балет вокруг моупинтуровских автобусов, стараясь оставаться незамеченными.
После поездок по городу водитель, отвезя туристов в отель, гнал автобус к ВДНХ, ставил его на платную стоянку, тщательно запирал все двери и отправлялся в тот же отель. Ночью мы за автобусами не наблюдали…
Так продолжалось несколько лет (именно лет, а не зим, поездки были летними). Результатов не было никаких, азарт ослабевал, мы становились все более невнимательными.
Наконец, задание было прекращено, терпение в «Доме 2», видимо, иссякло.
Спустя год или два мы узнали, что на Минском шоссе, где-то под Смоленском, один из «Моупинтуров» попал в катастрофу и разбился вдребезги, погибли люди.
Во время осмотра обломков под сиденьем водителя был обнаружен тайник, оборудованный для длительного и комфортабельного пребывания в нем одного человека.
Кого вывозили или ввозили в СССР или Польшу «Моупинтуры»?
Мы ничего не добавили к тому, что знали люди из «Дома 2». Трудно себе представить, чтобы ввезти и вывезти из нашей страны человека было так просто. Ведь граница была на замке…
Много лет спустя машина, в которой находилась небольшая советская делегация, пересекала границу между двумя европейскими странами. Остановились около домика пограничников страны, которую мы покидали (заставой этот домик никак нельзя было назвать — весь пряничный такой), и я, собрав паспорта коллег, попросил пограничника проставить штампы о выезде из страны. Мимо проезжали машины с номерами многих стран, не останавливаясь.
Похлопав белыми ресницами, пограничник с некоторым трудом понял, что от него требуется (советские паспорта он видел впервые и обрадовался возможности пополнить опыт суровой службы), с трудом нашел в письменном столе какой-то штампик, и наш выезд был, слава Богу, зарегистрирован.
Пограничник вышел проводить меня до машины. Прямо перед нами, на другой стороне моста, начиналась другая страна, и я увидел, что в «том» пограничном домике не горел свет (был вечер).
— А где же «те»? У кого мы поставим штамп о въезде?
— Так сегодня же воскресенье, они там работают до восьми, — завистливо вздохнул «этот» пограничник.
Это одно из моих самых ярких впечатлений о пересечении границ — а сколько же я их пересек! Кстати, в обеих странах было и есть что охранять…
****
Задумывались ли мы тогда о роли КГБ в жизни страны, о социальном смысле нашей работы?
Существовала и другая «наружка» — 7-е Управление КГБ, которое вело слежку за советскими гражданами. Слова «диссидент», «правозащитник», «инакомыслящий» тогда не употреблялись или просто не были известны в нашей стране. Объектами «семерки» были валютчики, фарцовщики, крупные преступники, разработку которых не доверяли МВД, и все чаще и чаще — «антисоветчики».
После нескольких лет моей работы в НН УОДК объединили с «семеркой». Нас стали тоже, хотя и редко, использовать в слежке за соотечественниками. Крымские татары, представители окололитературной среды, такие «антисоветчики», как Якир, Григоренко, поэт Леонид Губанов, стали объектами слежки нашего отдела.
Мы понимали, что «разящий меч революции» уже не в первый раз со скрипом поворачивается внутрь страны.
Что бы нам ни рассказывали на инструктажах о новых объектах, желания «топать» за согражданами не было, насколько я помню, ни у кого из бывшего УОДК, а «семерочники» — особенно на первых порах — с нами особенно не откровенничали. Нашими объектами стали плохо одетые, задерганные и озлобленные люди, пытавшиеся добиться справедливости и найти правду в стране, где ни того, ни другого нет до сих пор.
Я парень из «семерки», гоняю на «восьмерке», Мне наплевать не тех, кто в «Доме 2»… Я воротник — повыше, а кепочку — пониже, Чтоб слишком не торчала голова.Это куплет из песенки о «наружнике» Стаса А., в прошлом тоже сотрудника НН. Жизнь ломала его с рождения — безотцовщина, нищета, мама Стаса работала на Ваганьковском кладбище. Там же они и жили в казенной халупке недалеко от входа — сейчас ее уже нет. Стас был талантлив — умница, романтик, поэт, художник, актер самодеятельного театра. Таких ярких людей в «наружке» можно было по пальцам пересчитать, да и где их много-то встретишь?
Дружбой со Стасом я очень дорожил и гордился, она продолжалась много лет, пока водка не выбила его из колеи…
Вообще в «наружке» пили многовато — работа тяжелая, и некоторым казалось, что водка помогает легче ее переносить.
Песенка Стаса отражала своеобразный эпатаж «наружников», мы всегда понимали, что являемся вспомогательной, низовой службой и нередко ощущали нечто вроде комплекса неполноценности.
Насколько мы разбирались в происходившем вокруг нас? Шел год, когда Хрущев пообещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Стасик откликнулся стихотворением (привожу по памяти):
Однажды в далекой-далекой стране, Где вовсе бывать не счастливилось мне, Хан трижды великий со сворою слуг С указом в народ обращается вдруг. В Указе все блага — хоть в рай не ходи, И ждать их недолго — лет сто впереди… Но только чтоб люди трудились пока, Чтоб в бешеном ритме потели бока. Чтоб снова на мысли и чувства — запрет, Чтоб не было правды, как щас ее нет… То было в далекой, далекой стране, Где вовсе бывать не счастливилось мне.А это мое любимое:
Долго терпела наша рука Дутых вельмож и царя-дурака… Ахнул народ и качнул кулаком — Царь и вельможи — с копыт кувырком! Думал народец, собою гордясь: Будет заступой Советская власть! Землю поделим, белых побьем — Наши к победе пришли с Октябрем! Но прозвучало в октябрьскую медь: «В лучшее верить — так надо терпеть…» Кровью и потом давился мужик: «Ладноть, потерпим, я сроду привык…» Годы катились, гремела война… Многих убили — не счесть имена. Снова звучит, как в октябрьскую медь: «В лучшее верить — так надо терпеть…»****
Спецслужбисты, а особенно «наружники», видят улицу, да и вообще все вокруг, не так, как остальные люди. С годами это восприятие окружающего становится почти машинальным. Незнакомая машина в привычном переулке, человек, который вроде бы читает газету, женщина в будке телефона-автомата что-то говорит в трубку — или в микрофон «уоки-токи»? Одновременно она внимательно наблюдает за подъездом дома напротив…
Иногда возникает какое-то психополе: не видишь ничего примечательного, а чувствуешь — ты под присмотром. Все это совсем не так, как в кино или в детективах, когда наблюдаемого-профессионала сам факт наблюдения за ним не очень волнует: ведь операции с тайниками, встречи с теми, кого нужно беречь от слежки, происходят не каждый день. Даже наоборот, именно отсутствие «наружки» иногда настораживает так же, как следящих настораживают перемены в поведении «объекта».
У одних такое восприятие действительности со временем притупляется, у других остается на всю жизнь и преследует их даже тогда, когда все эти «игры» по разным причинам заканчиваются.
До конца своих дней многие из нас вскакивают ночью в постели, вновь переживая многолетней давности азарт или страх.
Некоторые в такие моменты умирают.
Некоторые им завидуют, ведь смерть во сне — подарок богов.
****
Все знают, что такое арест, но мало кто знает, что такое «съемка», негласное задержание, когда по разным причинам объект слежки нужно «снять» таким образом, чтобы об этом не знали его близкие, друзья, коллеги по работе. «Снимают» и своих, и иностранцев. Стараются для этого подбирать малолюдные места, но случается и выдергивать человека из толпы. Занимаются «съемкой» имеющие в этом деле опыт сыщики, физически очень крепкие. За редким исключением все происходит мгновенно, в крайнем случае, прохожие могут заметить, как два человека помогают третьему сесть в машину, а он то ли нездоров, то ли нетрезв. Однажды немцу из ФРГ удалось вскрикнуть… Тут же захлопали дверцы, и машина, не торопясь, двинулась по улице.
«Объектов» увозили для бесед с людьми из «Дома 2», бывало, везли прямо на Дзержинскую площадь, в «Дом». Рассказывали, что с теневиками-миллионерами, которыми занимался КГБ, при въезде в ворота «Дома» случалась медвежья болезнь.
Милицейских арестов они уже тогда боялись не очень…
Лето 1960 или 1961 года — яркий, солнечный день. Мы двигались двумя бригадами за каким-то очередным «антисоветчиком» и имели задание «снять» его для доставки в «Дом 2».
Сыщики шли за объектом, конечно, не кучей, а растянулись в сеть, некоторые были впереди, подбирая удобное для «съемки» место, другие шли параллельными переулками, проходными дворами, поддерживая связь с машинами и друг с другом. Все это происходило в районе Чистых прудов, который я знал неплохо. По радио сказали, что объект движется в сторону большого проходного двора, где я в этот момент находился. Решив не попадаться ему лишний раз на глаза, я направился в ближайший подъезд, около которого вели неторопливую беседу сидевшие на лавочке старушки.
Из залитого солнцем двора я быстро вошел в совершенно темный подъезд и… сразу же полетел вниз. Это произошло так внезапно, что я не успел не то что сгруппироваться, собраться в комок, а просто не понял, что случилось. Удар при «посадке» был страшный (летел с высоты примерно 5 метров и упал на груду камней). Долго не мог дышать — «дыхалка» была отбита.
Я испугался, но сознания не потерял. Через некоторое время дыхание вернулось, начал потихоньку шевелиться — значит, ничего не переломал. Зажег спичку — тогда я много курил — и осмотрелся. Я лежал в помещении бывшей котельной — такие еще оставались в старых домах, — перил почему-то не было, а может быть, их специально сняли, чтобы удобнее было сбрасывать вниз строительный мусор. Вокруг торчали арматурные прутья, на которые я чудом не попал — поуродовался бы по-настоящему.
Не помню, как выбирался из этой ямы. Когда вышел из подъезда, бабушки уставились на меня, забыв про разговор: одежда в грязи, лицо разбито в кровь, я еле-еле двигался.
Рация молчала — при падении, как потом выяснилось, я ее сильно повредил. Заковылял из двора, и тут мне сильно повезло — в переулке вышел прямо на одну из опермашин, медленно кравшуюся впритирку к тротуару.
— Женьк, да что с тобой? — оцепенел водитель и помог мне отряхнуться и сесть в машину. — У тебя и волосы в штукатурке — вон, над левым виском…
Он быстро связался со старшим бригады и отвез меня в нашу поликлинику, находившуюся недалеко. Я снял с себя всю операмуницию, оставил ее в машине и отправился к врачам.
Все оказалось в порядке, кроме ушибов и порезов на лице. Только над левым виском была не штукатурка — выступила седина. Испугался я-таки здорово.
Надеюсь, этот короткий рассказ доставил удовольствие всем, кому приходилось бывать под «наружкой».
В 1959 году идеологическая стойкость москвичей и гостей столицы была подвергнута тяжелому испытанию: состоялась первая в нашей стране Национальная выставка США. Длилась она месяц или полтора, но вместе с монтажом и демонтажом ее работа (и, естественно, работа КГБ) продолжалась около года. Мы, конечно, участвовали в ней на нашем скромном «семерочном» уровне, но ярких воспоминаний и о выставке, и о работе осталось немало.
Был совершенно переделан Сокольнический парк, построена масса вспомогательных сооружений, а огромный центральный павильон — «Купол Фуллера» — по имени архитектора-специалиста по такого рода сооружениям, стоит до сих пор. Сейчас мало кто помнит, откуда он появился. Фонтаны, аллеи, флагштоки — все стало таким, каким должно было быть всегда.
Выставка американцами была задумана и проведена как акция массированного идеологического воздействия — и, похоже, небезуспешно.
Они притащили все: пепси-колу и сахарную вату, оборудование для кемпинга и одежду на любой вкус — включая меховые манто ценой в 140 тысяч долларов, сшитые, как они кокетливо разъясняли посетителям, из русских соболей. Там были компьютеры Ай-Би-Эм и чудо-кухня, где тут же испекались всевозможные вкусноты для посетителей и администрации, там был великолепный салон красоты Елены Рубинштейн, настойчиво рекомендовавшей в одном из своих буклетов, «заполнив губы помадой, придать лицу веселое, оживленное выражение». Там была прекрасная библиотека (о ней отдельно), мебель, игрушки, небольшой телецентр, непрерывно показывавший с видеолент все, что американцы так хорошо умеют показывать.
Там, наконец, были автомобили выпуска 1959 года, которые, как помнят знатоки, отличались невероятно элегантным дизайном и скульптурными линиями кузовов. И какой же русский, глядя на эти машины, не понимал, что это значит — любить быструю езду? Нынешнее слово «тачка» применительно к автомобилю, могло появиться, конечно, только у нас…
На выставке у меня была хорошая возможность пополнить свой запас английских слов: вокруг звучала американская речь, я кое-что записывал и заучивал. Во время монтажа выставки, например, выучил названия всех инструментов, знал даже, как по-английски «плоскогубцы».
Нашим «технарям» ужасно хотелось добыть какой-то блок из системы цветного телевидения, которого у нас еще не было, и группа «наружников» целыми днями не сводила глаз с указанной им части аппаратуры (стены телецентра были стеклянными). Каждый вечер, однако, двое или трое ражих сержантов морской пехоты из охраны американского посольства приезжали к закрытию выставки. Телеоператоры изымали загадочный блок, укладывали его в хорошо запиравшийся металлический ящик, и сержанты, вальяжно развалившись на сиденьях «стэйшн вэгона», увозили груз в посольство. Утром процедура повторялась в обратном порядке.
Блок так и не попал в пытливые руки наших спецов…
Удалось, насколько помню, стащить кое-что из инструментов: например, устройство для сшивания пластмассовых строительных деталей, похожее на большую электродрель или маленький отбойный молоток — им тоже интересовались какие-то умельцы.
За долгие годы работы в КГБ я не переставал удивляться бесконечным усилиям по своровыванию чего-нибудь: образцов покрытия для беговых дорожек на стадионах, люминесцирующих красок, массы других мелочей, которые добывались силами НН. Позже я узнал о сотнях других, гораздо более масштабных, успешных и неуспешных операций подобного рода, называемых одинаково — кража. До сих пор трудно ответить на вопрос — то ли народ, о талантливости которого нам прогудели все уши, занят какими-то недоступными нашему пониманию свершениями, отрывающими его от бытовых мелочей, то ли мы способны лишь раз в сто лет подковать блоху — испортив, кстати, уникальную, забавную игрушку, но удивив всех, что мы просто обожаем делать.
В ПГУ существовало (наверное, существует и теперь) целое управление, занимавшееся «технической разведкой». Несколько раз мне приходилось по делам и в нерабочей обстановке встречаться с его сотрудниками, и все они казались чрезвычайно толковыми людьми, некоторые имели ученые степени…
Это может показаться наивным, но я часто задавал себе вопрос: а не лучше ли им было бы вместо занятий «технической разведкой» придумывать что-нибудь самим?
В этом деле случались поистине драматические эпизоды. Один из водителей, работавших в резидентуре ПГУ за рубежом, рассказывал, как поехал со своим шефом на встречу с агентом-иностранцем: тот должен был передать какой-то очень важный материал.
Встреча состоялась на огромной автомобильной стоянке; «материал», привезенный агентом, лежал в кузове небольшого грузовичка и в машине разведчиков поместиться не мог. Рискуя вновь попасть под наблюдение, от которого перед встречей они оторвались с большим трудом, шеф вернулся в гараж представительства и пригнал здоровенный универсал. «Материал» не помещался и в нем. Во время этой возни на стоянку, не торопясь, въехала полицейская машина и объехала вокруг с обычной проверкой — все ли в порядке.
Участники встречи моментально изобразили шумную беседу близких друзей, захлопали друг друга по плечам, загомонили что-то бессвязное с перекошенными от напряжения лицами… Полицейские, не удостоив вниманием яркий пример применения системы Станиславского в практической жизни, уехали.
Повторить встречу и передачу «материала» было невозможно, и шеф пошел на безумный риск — он-то наверняка знал, что было в огромном ящике…
На ближайшей прокатной станции он взял автомобиль подходящего размера, в который и перегрузили «материал»; в этом же автомобиле его пришлось доставить в резидентуру. Прокатную машину после разгрузки вернули, а «материал» отправили в Союз ближайшей диппочтой.
Резидент, выслушав доклад о проведении операции, не выдал внешне своих чувств, но работа резидентуры была «заморожена» на полгода. За этот срок, видимо, предполагалось убедиться, что все прошло (или не прошло) нормально.
Судя по наградам, полученным разведчиками и наверняка агентом, рисковали они не зря…
Но вернемся к выставке.
Москвичи валили на выставку валом, мы фиксировали огромное количество контактов между ними и американцами. Ясное дело, интересовали нас далеко не все, но работы было много — и небезрезультатной.
Был «отловлен» молодой военнослужащий, пытавшийся передать американцам какие-то очень серьезные материалы, но напоровшийся на агента КГБ. Зафиксировали немало интересных связей; особенно шустро вели себя гиды — в основном молодежь, ухватки которой довольно быстро стали нам понятны.
Библиотека, вернее книжная экспозиция, на американской выставке стала объектом специального внимания КГБ. С момента открытия выставки на экспозиции появлялись какие-то солидные, хорошо одетые люди и часами осматривали книги, делая многочисленные пометки в блокнотах и записных книжках. Среди них были и известные нам коллеги из «Дома», и наши «технари», и, видимо, сотрудники всевозможных НИИ и институтов Академии наук. Перед выходом на смену многие из наших бригад получали списки книг, которые необходимо было «изъять». В списках были книги, считавшиеся антисоветскими, художественная литература, но главным образом — издания по науке и технике.
Каждый вечер из небольшого особнячка, расположенного на территории парка, вывозили пару объемистых чемоданов, набитых «изъятыми» книгами.
Американцы быстро заметили исчезновение книг и нажаловались в русскую администрацию. Там приняли оперативное решение — около стендов задежурил «бригадмил» и иногда уголовный розыск, и наши акции по изъятию затруднились, правда, ненадолго.
Американцы терпеливо пополняли экспозицию, мы продолжали воровать. Тогда, по молодости, это казалось веселой игрой, сейчас вспоминать об этом и горько, и конфузно.
В те годы средства массовой информации были таковы, что многие люди (и я в том числе) в газеты заглядывали редко. Но то, что приходилось читать в нашей прессе об американской выставке, было пропитано ханжеством и лицемерием. Казалось бы, два правительства договорились о серьезном мероприятии, обе стороны потратили кучу денег на него, ну почему принимающей стороне не проявить естественное гостеприимство и честность в оценке увиденного?
Однако, возможно, с участием «Дома 2», а скорее всего, по указаниям соответствующих отделов ЦК, была организована целая кампания вокруг выставки — редкий день в прессе не предпринимались попытки притвориться (и убедить других), что все демонстрировавшееся американцами — пропаганда, и нас, хорошо знающих, как живут в Америке негры, на мякине не проведешь. Вот, скажем, хваленые американские автомобили прожорливы и недолговечны, и вообще «все это не по карману рядовому американцу»…
О, этот несчастный рядовой американец! Если бы он знал, что заботы о его благополучии не давали спокойно спать многочисленным советским пропагандистам…
Кинохроника старательно повторяла кадры, на которых совграждане, отведав впервые пепси-колу, с отвращением бросали картонные стаканчики (кстати, мимо приготовленных для этого урн). На фоне салона красоты и длиннющих очередей в него — красоту там наводили бесплатно — оператор снял «советскую красавицу», которая проводила перед камерой огромным гребешком по давно нечесанной голове — мол, нате вам, обойдемся и без ваших салонов!
И все же выставка запомнилась, уверен, всем, кто на ней побывал. Что же говорить о тех, кто там работал?
Все, кто хотел, узнали об Америке гораздо больше, чем знали до тех пор, в их числе был и я. Мне и в голову тогда не приходило, что работа тесно свяжет меня с Америкой, что я сам не раз побываю в США, что у меня появится там немало хороших, добрых друзей, приятелей, деловых контактов, что я полюблю эту страну. Но все это было впереди.
Среди нас — «топтунов», «филеров», «шпиков», было немало интересных людей. Нашей дружбе со Славой Л. около 40 лет.
В прошлом он — один из лучших «наружников» Управления, блестящий водитель, прирожденный инженер и рукодел, про таких говорят: «Руки растут из головы»… В этих руках оживает любая остановившаяся техника, работает любой станок или инструмент, их владельцу понятны любые чертежи и схемы.
Со временем Слава стал великолепным спецом по оперативной технике и большим начальником в этой области.
Всегдашний физкультурник (не спортсмен, нет), отличный стрелок, почетный чекист и дважды кавалер ордена Красной Звезды — это в мирное-то время! — Вячеслав до сих пор сохранил невероятные запасы душевного здоровья. Его терпения и выручки хватало на многочисленную родню, на друзей, на товарищей по службе. Человек-плечо, на таких только все и держится в нашей несчастной развалившейся стране. А со службы его «проводили» на пенсию раньше меня — больно уж умный. Таких, как известно, любое начальство на дух не берет, а уж в КГБ тем более…
Уйдя из «семерки» в Управление КГБ по Московской области, Вячеслав заслужил свои награды, «проворачивая» дела, о которых я узнавал лишь из приказов о награждении. Он фиксировал тайниковые операции американских разведчиков, подслушивал и подглядывал за подпольными супермиллионерами, после чего они отправлялись в не столь отдаленные места, ловил даже партийных взяточников.
А Мишка (его иначе и не звали, хотя он был уж немолод) Климкин? Это был «семерочный» дед Щукарь — вечно с прибаутками и шутками, все знавший, во всем разбиравшийся и неизменно смешной. Более несерьезного человека трудно было себе представить…
Однажды Миша заболел, и к нему отправилась группа товарищей с пакетами апельсинов и пр.
«А он в подвале: все со своими куклами возится», — сказали посланникам доброй воли, и те, недоумевая, направились в подвал. То, что они там увидели и узнали, приподняло в «семерке» сотни бровей, а более впечатлительных — и меня в том числе — просто потрясло. На всю жизнь с тех пор я запретил себе делать глубокие выводы о людях, не зная их хоть сколько-нибудь хорошо.
Оказывается, родители подростков со всего микрорайона молились на Михаила Климкина. Самостоятельно завязав знакомства в Театре Образцова, он выпрашивал там списанные куклы для организованного им кукольного театра, ставил спектакли для детей, подростков и взрослых, десятки мальчишек и девчонок участвовали в его театре и вместе с ним проводили свободное время. Он же с помощью родителей выпросил у властей и сам подвал и вместе с другими взрослыми оборудовал его по всем правилам — кукольный склад, декорации, сцена, занавес, зрительный зал… На службе об этом не знал никто. Климкину «паблисити» было не нужно. Слова «спонсор» тогда не слышали, да Миша в спонсорах и не нуждался, как и в признании, — он просто творил свое доброе дело.
****
Нормальный рабочий день «наружника» — если не происходит чего-нибудь экстраординарного — длится примерно десять — одиннадцать часов. Нагрузки достаточно высокие, и только молодежь переносила их легко, а еще и партийные и комсомольские собрания, оперативные совещания, экстренные инструктажи…
И тем не менее, рядом с оперативной шла не липовая, а настоящая общественная работа, была удивительно интересная художественная самодеятельность. Думаю, мы подсознательно искали какой-то «параллельный», контрастный нашей ежедневной действительности мир.
Под Москвой был детский дом, над которым шефствовал наш отдел, и это было совсем не казенное «мероприятие»: туда регулярно отправлялась группа молодежи и вела дополнительные занятия по различных предметам — подбирались знатоки математики, физики, литературы, русского языка. Стараниями Миши Климкина и там был создан маленький кукольный театр, а с миру по нитке собрали очень приличную библиотеку и постоянно пополняли ее.
По Управлению собрали небольшой джазовый оркестр: обычно играли человек пять-шесть (фортепьяно, саксофон, труба, контрабас, ударные), и на праздничных вечерах танцы были под «живую» — и неплохую — музыку. Под наш маленький джазик пели самодеятельные певцы и певицы из разных отделов.
Начальство придавало большое значение занятиям спортом — собственно, и в последние годы действовал приказ председателя КГБ, согласно которому каждый оперативный сотрудник должен был заниматься физкультурой в рабочее время два часа в неделю: сюда входили обязательные соревнования по легкой атлетике, лыжные кроссы и т. п.
В военной, секретной организации вдвойне, втройне больше, чем в любой другой, успех в работе, настроение людей, климат в коллективе зависят от руководства. В «наружке» же, где привычное рабочее состояние — высокое нервное напряжение, от начальства и его умения работать с людьми зависит еще больше.
Когда я пришел в отдел, им руководил Петр Владимирович Ксенофонтов, сотрудники звали его «Петюня» за спокойный, иногда даже кроткий нрав. Петр Владимирович дело знал хорошо, отделом руководил умело, и психологическая обстановка там, насколько это возможно в «наружке», была нормальная.
Однако года через три моей службы «Петюню» сменил приехавший откуда-то с периферии полковник Николай Михайлович Махов. Если мне не изменяет память, он был из тех, кто пришел в КГБ с партийной работы — этих людей в КГБ ненавидели всегда, исключения были чрезвычайно редки.
Впервые я видел человека, в котором необыкновенная жесткость по отношению к людям сочеталась с невероятной любовью к себе.
С приходом Махова в отделе постепенно сложилась группа приближенных к нему «активистов»-информаторов, которые всегда спешили доложить ему о чужих промахах (дабы затушевать свои), о желательных или нежелательных в его адрес высказываниях (чтобы лишний раз доказать личную преданность) и, наконец, о чужих успехах, чтобы соединить с этими успехами в сознании «вождя» свои имена.
Однажды Махов вызвал меня и сказал, что хотел бы посоветоваться со мной как с человеком, владевшим английским. Его интересовало, можно ли нашими силами вести наружное наблюдение в Англии, скажем, в Лондоне, сопроводив туда объект слежки из Москвы. Тогда (о чем я, конечно, не знал) начиналась разработка Пеньковского, и Махов, который «вырвал» для своего отдела наблюдение за этим суперобъектом, подумывал, видимо, о возможности слежки за ним во время его поездок в Англию.
Мне пришлось разочаровать его — вести наблюдение нашими силами там было, конечно, невозможно: важно было не только знать язык, водить машину в условиях левостороннего движения, но и разбираться в куче таких «мелочей», как условия проката автомобилей и резервирования гостиниц и т. д., не говоря уже о способности ориентироваться в неизвестных городах, которая мне, например, совершенно не свойственна.
Я не просто разочаровал начальника, а сделал это, как потом понял, недостаточно тонко, не попытавшись смягчить его возможные негативные реакции. Это не понравилось.
В глазах начальника я постепенно становился носителем исключительно отрицательных начал, оперативные успехи молодого сыщика изменить уже сложившийся образ не могли.
Вообще, по моим наблюдениям, в КГБ, как нигде, можно ловко манипулировать устными или письменными характеристиками на оперативных работников. Блестящего офицера, созданного для оперативной работы в НН, контрразведке, разведке, при желании можно выставить со всеми его вербовками и прочими достижениями как верхогляда, которому сопутствует случайный успех, человека неглубокого, не стремящегося — цитирую Махова — «раствориться в коллективе, не утратив при этом своих индивидуальных качеств».
Напротив, любого лентяя, которого надо бы гнать из КГБ, неспособного к работе с людьми, не желающего ничему учиться, всегда можно представить как трудягу, который, дескать, не ищет легких путей, роет глубоко и вот-вот всем нам покажет…
А ведь все вокруг секретно, поди проверь, где черное, где белое, — я стал в те годы замечать, как все становилось серее и серее.
****
Мне никогда не хватало азарта для планомерного построения карьеры. Но интересной работы хотелось очень, и выход был только через «поплавок» — ромбовидный значок, выдававшийся после окончания высших учебных заведений. Вернее, выхода было два: либо идти учиться в Высшую школу КГБ, так делало большинство из тех, кто вообще получал разрешение на учебу в вузе, либо выбирать гражданский вуз сообразно своим наклонностям и возможной привязке к будущей работе в КГБ же.
Учиться в «вышке» — так называли ВШ КГБ, было, конечно, во сто раз легче; иногда, слушая разговоры тех, кто там учился, я представлял себе, как одни и те же курсовые и дипломные работы из года в год переписываются с оригиналов, написанных еще при Дзержинском. Мне же хотелось как-то разнообразить свою жизнь и, закончив смену в «наружке», не тащиться в ВШ на лекции и занятия по опять-таки охоте на людей.
Не помню, как мне и Славе Л. удалось обойти Махова, но до руководства Управления мы добрались. Там, в тихом особняке в одном из переулков на Самотечной площади нам долго промывали мозги относительно того, что «вы сюда пришли не учиться, а работать», «а что, если все захотят учиться, кто работать будет?», «да и вообще, вы ведь звезд с неба не хватаете»… Это было самое обидное, потому что, насколько в НН можно хватать звезды с неба, мы это делали. Мы оба, особенно Слава, принадлежали к числу не самых плохих сотрудников отдела.
Наконец с невероятными сложностями разрешения и соответствующие справки мы получили. Слава решил поступать в один из радиотехнических вузов, я — в Институт иностранных языков. Наш выбор вызвал особенное раздражение руководства, и в качестве напутствия нам было сказано, что мы все равно не поступим.
Надо ли говорить, что никаких положенных по закону отпусков на время сдачи вступительных экзаменов мы не получили? Экзамены мы сдавали в выходные и «отгульные» дни; разумеется, никаких связей, которые могли бы споспешествовать нашему успеху, у нас, плебеев КГБ, не было. Заниматься — даже для поступления на вечерние отделения выбранных нами вузов надо было с большим напрягом. Помогали товарищи по службе, подменявшие нас в дни консультаций, подготовительных занятий, экзаменов. Этой помощи не забыть никогда.
Мы поступили.
Началась дорога прочь из «семерки» длиной в пять долгих лет. Куда могла привести меня эта дорога, я представлял довольно смутно, а вот Слава знал, что будет заниматься оперативной техникой. «Технари» — вообще люди гораздо более четких представлений и, соответственно, более верных решений.
****
Часто в детективных романах или фильмах герою достаточно выглянуть в окно, и он сразу видит там либо сыщиков, торчащих на углу, либо пресловутую черную «Волгу», прижавшуюся к тротуару напротив его окон.
На самом деле, если за вами выставлено наружное наблюдение, не трудитесь рассматривать через окно улицу или переулок, где вы живете. «Наружка» прекрасно знает, куда выходят ваши окна, и торчать перед ними не будет. Такие ошибки допускаются крайне редко и очень ленивыми сыщиками. Обычно подбирается либо квартира, либо кабинет учреждения, либо чердачное помещение, из которого ведется наблюдение не только за дверями вашего подъезда, но часто и за вашими окнами: вы еще только надеваете пальто, а бригада наблюдения уже поджидает, когда вы покажетесь из подъезда.
****
В середине 60-х годов в Москве было невероятно много японцев, причем не туристов, а представителей всевозможных фирм. У них была масса денег, и жизнь они вели довольно странную — казалось, что они ее прожигали. Кутежи, гулянки, девицы не очень прочных устоев, и в год одно-два посещения Министерства внешней торговли… Много позже кто-то из «Дома 2» объяснил нам, что японская экономика уже тогда была целиком сориентирована на экспорт: если фирма представит убедительные доказательства того, что она ведет экспортную работу (по крайней мере, имеет представителей за рубежом и оплачивает их содержание), то налоги с такой фирмы берутся гораздо меньшие, да и возможность получения правительственных дотаций разного рода резко увеличивается.
«Спецзадание» нашей бригаде — в то время уже ею руководил я — дали на двух японцев, представлявших некую фирму. Как нам говорили, у них в номерах был чуть ли не контейнер, набитый бытовой радиоэлектроникой — вожделенными уже тогда радиоприемниками «Сони». Пытаясь, в отличие от многих коллег, действительно продвинуть продукцию своей фирмы в СССР, наши японцы целыми днями колесили по различным учреждениям и в тех случаях, где это представлялось им целесообразным, одаривали советских чиновников японскими радиопрелестями.
Люди из «Дома 2» хотели выяснить, кто именно принимал подарки (приемники были дорогие, очень высокого класса), чтобы наказать взяточников, а возможно, и «вербануть» кого-то из них.
В один прекрасный день японцев чем-то заняли надолго, кажется, все в том же МВТ, и, пока на японские уши вешали русскую лапшу, «технари» из КГБ поместили в каждый из имевшихся у японцев радиоприемников крошечный кусочек какого-то радиоактивного вещества, излучение которого можно было «поймать» карманным счетчиком Гейгера в радиусе 3–5 метров от помеченного предмета. Счетчики, которые нам выдали, были снабжены бесшумными вибраторами, и наличие излучения можно было определить, не вынимая Гейгер из кармана.
По утрам, когда японцы выходили из гостиницы, кто-нибудь из нас приближался к ним и «слушал»: если из портфеля или «фуросика» шел сигнал, ясно было, что сегодня возможны одаривания очередных счастливцев.
Через какое-то время все приемники были раздарены, все получившие их выявлены, приемники у них, понятное дело, отобраны, а из приемников радиоактивные кусочки извлечены, так как какой-то чисто теоретический вред — так нам объяснили в начале выполнения этого задания — они могли-таки нанести.
Извлечены все, кроме одного… В одном из приемников, который был «помечен» вместе со всеми остальными, после вручения его японцами советскому чиновнику метки не оказалось.
До сих пор не знаю, насколько действительно опасны были эти метки, но в гостинице, где проживали японцы, под предлогом ремонта — столь любимого Советами предлога — выселили постояльцев с двух этажей, и «технари» из КГБ приступили к поискам. Злополучный кусочек был найден за плинтусом одного из номеров этажом ниже (!), и все успокоились.
Вскоре стало ясно, что в нескольких районах города радиоактивный фон выше, чем в других; но на счетчиках не было градуировки, определить уровень фона было невозможно.
Как при любом спецзадании, никакой информацией с другими сотрудниками мы делиться не имели права.
Японцы нас немало забавляли — оба здорово пили, не вылезали из ресторанов — мы соответственно тоже, — а любители ресторанов и их знатоки в «наружке» имелись в достаточном количестве. Однажды мертвецки пьяного японца спасла от смерти горничная в гостинице — увидела, как из-под двери номера лилась вода. Беднягу вытащили из ванны уже синего, каким-то чудом откачали…
Нашему отделу с японцами работать приходилось нечасто, но даже мы чувствовали какую-то особенную «ауру» вокруг них.
Вроде бы ничего особенного — они работали, осматривали достопримечательности, веселились; как-то раз двое вышли из гостиницы «Ленинградская» с бейсбольными рукавицами и мячами и с полчаса перекидывались мячиками, от души хохоча. И все же они, как никакие другие иностранцы, выглядели здесь чужеземцами.
Глобальная японская экспансия тогда только начиналась, о японцах вообще знали немного: Страна восходящего солнца, особенная жестокость во время войны, джиу-джитсу, кимоно, «Чио-Чио-Сан», гейши, традиционное восточное коварство, Хиросима, едят палочками, император, Фудзияма…
Сейчас японоведы-журналисты и ученые показали нам Японию в обрамлении цветущей сакуры, на фоне необыкновенных технических успехов, небывалого трудолюбия, национального единства и преданности идее. Но мне трудно свыкнуться с тем, что «цивилизованное» человечество из всех этих достоинств восприняло только узаконенную возможность неожиданно, ловко, смачно, по-японски ударить противника ногой в лицо.
«Запад есть Запад, Восток есть Восток…»
****
Итак, работа теперь соединялась с учебой. Изучение языка требует регулярных длительных занятий — гипнопедия, ускоренные курсы никогда не создадут глубокой базы знания и понимания языковых структур, не заложат в памяти той основы, которая даже после нескольких лет «молчания» позволит через два — три дня пребывания в стране языка вновь заговорить на нем.
Посещать институт нужно было вечерами, трижды в неделю: лингафон, лекции, семинары, контрольные работы. Все это часто накладывалось на вечерние смены в «наружке», постоянно приходилось договариваться с товарищами о подменах с последующей «отдачей» дневных смен. Видя, как относилось к нашей учебе руководство, товарищи всегда шли навстречу. Повезло и со слушателями группы, где я учился: подобрались совершенно разные, но невероятно трудолюбивые студенты — за время учебы две девушки в нашей группе вышли замуж, стали мамами и не взяли академических отпусков. С середины лекции или занятия они срывались с места и мчались кормить грудных отпрысков… Наверное, не только для меня учеба была единственным путем вперед и наверх.
Помогала жесткая самодисциплина: подъем в 5.30, зарядка, завтрак, иногда — по графику — поездка в гараж за опермашиной, потом — в отдел, инструктаж, оснащение техникой и проверка готовности бригады, восемь — десять, а то и двадцать часов работы, возвращение в отдел, отписка, перекус, в учебный день — бегом в институт и шесть часов занятий.
Прийдя к полуночи домой, смертельно хотелось «ухнуть в койку», но… Писать я могу почти так же быстро, как и читать — лекции записывал дословно, но разобрать что-нибудь на следующий день уже не мог, поэтому часто усаживался на кухне и вновь, не торопясь и разборчиво, переписывал. Мои записи были одними из лучших, и пользовались ими многие.
Выбираясь в кино, я чувствовал себя грешником, подсчитывая, сколько за это время можно было выучить, например, латинских слов…
Понемногу учеба становилась «идеей фикс». Воскресений для «наружников» не существовало, праздников обычно тоже: в праздничные дни работы было еще больше, и если снимали слежку с каких-либо объектов наблюдения, то лишь для того, чтобы расставить нас в тех местах, где «противник мог омрачить светлый праздник трудящихся»…
Те «трудящиеся», праздники которых могли быть бессовестно омрачены противником, прибывали на Красную площадь в лимузинах предпочтительно черного цвета и особо мягкого хода, как правило, в сопровождении других трудящихся, призванных охранять их «тела». Это была «девятка» — сотрудники 9-го Управления КГБ. Среди них было немало славных, храбрых ребят — некоторые переходили работать в «семерку», кое-кого я встречал позже и в 5-м Управлении, но в целом эта когорта производила неприятное впечатление своей бесцеремонностью по отношению к окружающим и каким-то восторженным раболепием перед охраняемыми «телами». Слов нет, служба ответственная и потенциально опасная, но и она не дает права на такую потерю лица…
Эта работа всегда носит какой-то истерический характер — обязательные гонки при сопровождении августейших «тел» с перекрыванием движения чуть ли не в половине города, расталкивание зевак и прохожих в редких случаях пешего передвижения «тел», грубые окрики…
А казалось бы — уж если обстановка столь «чревата», — посадите «тело» в скромную серую «Волгу» и отвезите потихоньку куда надо, но нет, подавай выезд с рысаками, и чтобы кучер кричал: «Пади, пади!»
Кто-то из древних заметил: «О политической обстановке в стране можно судить по скорости, с какой проносятся колесницы правителей по улицам столицы…»
****
Ланге — настоящая фамилия дипломата невысокого ранга, служившего в посольстве ФРГ. Полноватый, неприметный, похоже, очень трудолюбивый и аккуратный, он лихо водил свой серебристо-серый «форд-таунус», и вести наблюдение за ним было непросто. Не помню, передвигался ли он когда-либо пешком — почти всегда на колесах. Не помню и того, почему за ним велось наблюдение до инцидента, о котором собираюсь рассказать, — то ли был разведчиком, то ли в чем-то подозревали. Однажды утром, выйдя из общежития дипломатов на набережной Шевченко, он подошел к своему автомобилю и увидел под щеткой на лобовом стекле записку. Прочитав ее, немец изменился в лице и подбежал к милиционеру, охранявшему здание. Размахивая запиской, он что-то прокричал по-немецки (милиционер понял слово «провокацион»), разорвал записку перед лицом оторопевшего стража, бросил обрывки на землю и уехал.
Милиционер подобрал уцелевшие клочки бумаги (часть их тут же унесло ветром), и вскоре они были «там где надо».
Анонимный текст гласил, что его автор готов передать важные материалы такого-то числа в такое-то время у гостиницы «Метрополь», где он, автор, будет прогуливаться с двумя толстыми тетрадями под мышкой.
И «Дом 2», и «наружка» встали дыбом: наблюдение за Ланге усилили, а к указанному в записке времени среди фланирующей вокруг «Метрополя» публики «прогуливались» сыщики нашей бригады, а среди них и я.
Примерно через полчаса молоденькая миниатюрная практикантка, прикрепленная к нашей опергруппе, девушка прелестная и, видимо, из хорошей семьи, непонятно, как попавшая в наш террариум, слегка сжала мой локоть.
Навстречу нам, не торопясь, двигался молодой человек среднего роста, с приятными чертами лица, скромно одетый. Под мышкой — две толстые тетради…
После заранее обусловленного сигнала в толпе прохожих произошли никем не замеченные перемещения: объект был показан остальным сыщикам, все мы перегруппировались и разместились таким образом, что уйти от наблюдения было невозможно. Краем глаза я видел, как наши водители медленно, аккуратно расставили машины «наперехват» любому транспорту и, по очереди выйдя из них, тоже «познакомились» с «Тихим» — так мы его назвали.
«Тихий» прогуливался еще с полчаса, затем двинулся к станции метро «Площадь Революции». Там он подошел к заказному автобусу и, что-то сказав водителю (передняя дверь была открыта), вошел и сел на одно из свободных мест. Подходили еще пассажиры — все примерно одного возраста и чем-то похожие друг на друга, и рассаживались. Я почувствовал, как от мелькнувшей у меня догадки «мороз заходил под тулупом», а был теплый летний день…
Автобус тронулся и не спеша начал отсчитывать московские улицы, выбираясь на шоссе Энтузиастов, которое вело в Балашихинский район.
Мы держались как можно дальше, чтобы не попасть на глаза «Тихому», но так, чтобы и не упустить его, если он выйдет. Вечерело.
Автобус долго тащился вдоль высокого забора, окружавшего большой участок леса с группой зданий в нем, затем, переваливаясь на неровностях дороги, въехал в зеленые ворота.
Я связался по радио с другими машинами и попросил всех, не приближаясь к воротам, собраться около поста ГАИ в паре километров от ворот.
Нечего было топтаться у этих ворот, не надо было выставлять наблюдение за огороженным участком и «выводить» «Тихого» на следующее утро. За воротами размещалась «школа 101» 1-го Главного управления КГБ при СМ СССР, где готовились кадры для советской разведки.
Не выходя в эфир и не запрашивая указаний, все мы, не торопясь, вернулись в отдел. Сводка наблюдения и приложенные к ней фотографии «Тихого» были немедленно отправлены в «Дом 2». Легко представить себе, какой эффект они произвели на руководителей контрразведки и разведки: сомневаться в том, что именно «Тихий» являлся автором записки, не было никаких оснований.
На следующий день нам был сообщен домашний адрес «Тихого» и приказано организовать наблюдение за ним по самому высокому классу. Началась и разработка «Тихого» внутри школы — специальными радиосигналами оттуда нас оповещали о его выездах в город.
Наблюдение за домом «Тихого» в районе Самотечной площади мы вели, находясь в одной из комнат редакции размещавшейся тогда на Самотеке «Литературной газеты». В дни, когда «Тихий» получал увольнительную в город, с помощью специальной оптики велось наблюдение за окнами квартиры, в которой он проживал с сестрой и матерью. Наблюдение было круглосуточным, что для меня представляло муки адские — я очень плохо переносил бессонницу уже тогда.
Первая горячка этого задания через неделю прошла: в «Доме 2», поняли, наверное, что ничего суперсекретного сопливый слушатель разведшколы противнику сообщить не может, однако мы продолжали «притираться» к объекту наблюдения, приноравливались к режиму работы, узнавали о «Тихом» и его семье все больше и больше. Мама была, видимо, строга: сестра «Тихого» перед тем, как выйти на улицу, наводила макияж не дома, а в подъезде — мы видели это с помощью нашей оптики через открытые двери парадного. Одевалась и жила семья скромно.
Кое-что о «Тихом» рассказали люди из «Дома 2»: честолюбив, необщителен (я узнал позже, что в «школе 101» и то, и другое считалось подозрительным), мечтает о покупке автомобиля, пописывает статьи для какого-то юридического журнала, хорошо успевает в «шпионских» предметах.
Нам он хлопот не доставлял, не проверялся — по крайней мере, мы таких попыток не фиксировали, передвигался в Москве городским транспортом или пешком. Регулярно посещал места, где продавались с рук мотоциклы и внимательно приглядывался к товару — может быть, мечтая о собственном автомобиле, хотел для разгона приобрести мотоцикл? В те времена автомашины имели немногие.
Время шло, ничего интересного мы не видели, на иностранцев и машины с дипломатическими номерами «Тихий» внимания либо не обращал, либо делал это так аккуратно, что зафиксировать подобный интерес не представлялось возможным.
«Дом 2» решил «активизировать разработку». Теперь около «Тихого» в периоды его пребывания в Москве постоянно дежурил высокий, прекрасно одетый красавец с головой, сильно «побитой серебром». Этот человек недавно вернулся из долгой загранкомандировки и должен был выступить в роли иностранца. Неподалеку был спрятан черный «мерседес» с дипломатическими номерами.
Задача состояла в том, что во время передвижений «Тихого» по городу мы должны были с опережением просчитать ситуацию, в которой ему на глаза мог попасться этот «мерседес» с сидящим в нем, выходящим из него или садящимся в него «иностранцем» и вызвать у «Тихого» желание установить контакт. По нашему сигналу красавец должен был выйти из «Дома 2», сесть в машину и, наводимый нами по радио, подъехать в подобранное для возможного контакта место, но то мы не угадывали, куда направлялся «Тихий», то красавец опаздывал прибыть в нужное место, то его вообще не могли найти по телефону — встреча не клеилась. Наконец, все сошлось: и место, и время, и красавец появился в поле зрения «Тихого» именно так, как было нужно, но «Тихий» и ухом не повел.
Через некоторое время эксперимент повторили — с тем же успехом.
Было ясно, что разведки «Тихому» уже не видать, как своих ушей, — поводов избавиться от него можно было найти сколько угодно. Приближался выпуск из школы, и его могли просто завалить на экзаменах.
Но какова же разгадка? Что случилось на самом деле? Прошло много, очень много лет, но иногда у меня перед глазами появляется молодой человек, неторопливо идущий по улице Горького (так называлась Тверская). Он одинок. Это не попало в сводки наружного наблюдения: там описывается не то, что чувствуют «наружники», а то, что они видят. Но чувствуют они многое. Он был очень одинок.
То ли он действительно хотел установить контакт с иностранцем на предмет передачи (продажи?) каких-нибудь казавшихся ему ценными данных, то ли хотел завязать самостоятельно оперативную игру и потом с блеском доложить руководству о завербованном им иностранном дипломате? Остается только догадываться.
Возможен и такой вариант: «Тихий» не нравился кому-либо из товарищей по учебе или преподавателей. Может быть, составлял конкуренцию в чем-либо, может, казался «больно умным». Человек, хорошо знавший его привычки, мог легко «слепить» простенькую комбинацию: зная время отправки автобусов и маршрут «Тихого», написать записку и сунуть ее под щетку на лобовом стекле автомобиля с номером посольства ФРГ — полагая, что за западными немцами присмотр осуществляется непременно.
Докопаться до истины можно лишь с помощью самого «Тихого», если он когда-нибудь прочитает эти строки, что маловероятно…
Оперативная работа — разведка ли это, контрразведка, или «наружка», или криптография, или что еще там у нас есть — в идеале работа творческая. В ней: редко удается получить исчерпывающий ответ на имеющийся вопрос, почти никогда тщательно спланированная операция не проходит точно по плану, а случается и так, что истина навеки остается тайной за семью печатями. Провалы спецслужб, как отметил много лет назад Аллен Даллес, часто свидетельствуют лишь о масштабах их деятельности и возможностей, а успехами спецслужбисты, понятное дело, не хвастаются…
****
Опираясь на приближенных стукачей и подхалимов, Махов в конце концов сам пал их жертвой. В одной из бригад произошел какой-то скандал с пьянкой чуть ли не на посту, ставший широко известным (не помню почему), Махов при попытке «замазать» дело много врал вышестоящему руководству, а оно, видимо, имело на него зуб: устроили «глубокую проверку», во время которой участники скандала из числа маховских блюдолизов «запели» в полный голос и продали своего патрона с потрохами. Наказание было удивительно суровым — Махова уволили.
На смену ему прислали новое «оперативное дарование». На совещании в отделе личному составу был представлен Василий Александрович Ж. — в прошлом комсомольский вожачок небольшого масштаба и опять-таки с периферии. На трибуне стоял приятного вида парубок, который на вежливый чей-то вопрос о прежних занятиях кокетливо, с легким украинским акцентом ответил, что в Н-ском комитете комсомола ведал вопросами сбора металлолома.
Я услышал, как в задних рядах кто-то тихо, но внятно сказал:
— Да что они там, совсем, что ли, с ума посходили?
Нет, не посходили. Это они укрепляли аппарат партийными и комсомольскими кадрами. Часто, наблюдая за такими кариатидами и атлантами, я наивно думал: зачем ЦК пихает повсюду этих бездарей, абсолютно не разбирающихся в делах, которыми им поручено руководить? Кому нужны начальники управлений внешних связей, не владеющие ни одним языком? Как может руководить оперативной, секретной работой бывший сотрудник общего отдела ЦК ВЛКСМ?
Много позже понял, что эти люди вовсе и не собирались в чем-либо разбираться. Их рассаживали на важных (соответственно, теплых) местах, чтобы они «проводили линию». «Проводить линию» означало — быть в курсе последних передовых «Правды», регулярно ездить на Старую площадь и, уловив «дух времени», а иногда и получив конкретные указания, выполнять их силами вверенного отдела, управления, главка, министерства.
Знать что-либо самому, уметь что-либо или чему-либо учиться не было никакой необходимости. Результаты их «вдумчивой работы» на протяжении 70 с лишним лет мы сейчас чувствуем повсеместно.
****
В ходе перемещений начальства командовать нашим отделением пришел вальяжный красавец, любимец «семерочных» дам, опытный чекист Владимир Сергеевич Хлынин. Он работал в одном из соседних подразделений и был в курсе некоторых дел, касавшихся учащейся молодежи.
«Теперь будете учиться, как положено по закону, а закон существует для всех. А то тут некоторые думали, что в ЧК можно жить, как в башне из слоновой кости…»
И оставшееся до окончания вузов время мы доучивались уже без прежнего напряжения. Втянулись, научились «химичить» — сдавать экзамены и зачеты досрочно, а в положенные для этого отпуска имели возможность перевести дух, подтянуть «хвосты», у кого они были.
На четвертом, предпоследнем, курсе мне повезло. Хлынин вызвал меня и, хитровато улыбаясь, сказал: «Вот ты всё языки долбишь, а чекистского образования не имеешь и, похоже, иметь не собираешься. А нам выделили пару мест в Высшей школе на трехмесячных курсах переподготовки офицеров КГБ. Давай-ка оформляйся, да подучись там чуток».
«Владимир Сергеевич, — заныл я, — я же в институте учусь… Как я буду в двух местах-то сразу?» — «В «вышке» занятия всегда днем, чудак. По крайней мере, три месяца не будешь дергаться с подменами да переменами и спокойно сможешь успевать на занятия в институт…»
Хлынин оказался прав: занятия в институте шли спокойно и ровно, я не пропускал ни одного — раньше это изредка случалось из-за невозможности подмениться или какого-нибудь задания, требовавшего моего «чуткого руководства» бригадой.
В «вышке», где занятия проходили с 9-ти утра до 2-х дня, слушатели, на мой взгляд, большей частью отдыхали… Изучали основы контрразведки, юридические нормы применительно к оперативной работе, специальные приемы секретной кино— и фотосъемки, использование спецоптики, выявление зашифрованных или замаскированных сообщений при перлюстрации корреспонденции. Запомнился прекрасный преподаватель Виктор Петрович — стыдно, но фамилию не помню, который много возился он с нами; помимо крепкого контрразведчика сидел в нем отличный педагог и патриот КГБ.
«Ну, друзья, посмотрим, кто сегодня сумеет поймать шпиона», — говорил он, входя в аудиторию с толстой пачкой конвертов.
Конверты (учебные, конечно) не заклеивались, так как все отлично знали, как они открываются: в ход может пойти все — от обычного чайника до специальной аппаратуры, подогревающей клей. При вскрытии конверта необходима большая аккуратность: и в местах, где нанесен клей, и в самом конверте могут поместить, например, волоски или другие крошечные предметы, которые при небрежной перлюстрации могут быть утеряны и адресат поймет, что «джентльмены» читают-таки чужие письма… Противник теоретически может допускать грубые ошибки даже при написании адреса на конверте: например, были случаи, когда на письме агенту, удачно, вне поля зрения «наружки» брошенном в почтовый ящик, адрес был написан не так, как у нас (город, улица, дом), а наоборот, как это делают, скажем, в Штатах. Или перед фамилией адресата с традиционной заграничной вежливостью писали «товарищу» или «тов.» такому-то…
С письма, если есть подозрение на тайнопись, сначала изготовляется точная копия. Затем из оригинала делают «лапшу» — режут на узкие полоски, специальным образом фиксируют их и каждую полоску по очереди обрабатывают различными «проявителями».
Как только — и если — на одной из полосок проступает скрытый текст, «проявитель» используется и для всех остальных полосок. Затем на тщательно изготовленную копию письма так же тщательно наносится тайнопись, и письмо отправляется по адресу. Или по адресу отправляется автомобиль с группой захвата — тут уж бывает по-разному.
Учили выявлять и «микроточки» — негативы, сделанные специальной фотоаппаратурой, которая уменьшала их до величины точки. Эта точка наклеивалась на место настоящей в каком-либо тексте, журнале, письме, направлявшемся агенту. О том, как ее найти, сообщалось по другим каналам. Этот способ связи, скрытный и трудно выявляемый, имел, однако, и свои недостатки: во-первых и изготовление, и чтение микроточек требовали специальной аппаратуры, которую переписывающиеся стороны должны были либо маскировать, либо хранить скрытно. Во-вторых, с микроточками случались неприятные казусы: например, когда одну из них бережно снимали с текста в спецкомнате 6-го отдела ОТУ — Оперативно-технического управления, — кто-то чихнул, и микроточку обнаружить так и не удалось.
Учили и обращению с «Миноксом» — миниатюрным фотоаппаратом, без которого сейчас не обходится ни один «шпионский» фильм или роман. Не обходились без него тогда и спецслужбы во всем мире. Мало кому это известно, но изобретен «Минокс» был в 1932 году в Литве и потом каким-то образом «оказался» в США (где же еще?).
«Минокс» — во всяком случае, его первые, секретные модификации — был совершенно уникальным устройством. Точность при изготовлении невероятная — фотоаппарат полностью герметичен и может безо всякого вреда долгое время находиться под водой. Инструктор по фотоделу рассказал нам, что корпуса первых «Миноксов» американцы делали из золота, чтобы исключить коррозию. Оптическая система аппарата позволяла делать любые снимки — фотографировать документы, людей; даже пейзажные снимки, сделанные нами во время практики, получались весьма недурными. До сих пор у меня хранятся два моих фотопортрета, сделанных «Миноксом», — мы практиковались, снимая друг друга.
Потом американцы рассекретили «Минокс» — уже не золотой, он, однако, стоил 600 долларов — по тем временам деньги довольно большие. Зато каждый, кто мог себе это позволить, имел возможность поиграть в «шпионов» с большим вкусом.
Работали мы и с «инфракрасной» техникой, позволявшей делать снимки в полной темноте — и неплохие.
В работе спецслужб — и в том числе у перлюстраторов — случается разное. То в конверт при перлюстрации попадает письмо из совсем другого конверта, и у получателя глаза лезут на лоб — адрес на конверте написан правильно, знакомым почерком, а письмо адресовано другому лицу и написано непонятно кем… То какой-нибудь хитрец пишет, что вложил в конверт волосок, скажем, с интимного места, и перлюстраторы, не найдя никакого волоска (его там и не было), ломают себе голову: то ли вложить описываемый волосок в письмо, то ли не делать этого, памятуя об изобретательности корреспондента…
В нашей стране, где почта работает как нигде безобразно, перлюстраторам несложно задержать любое письмо для его тщательной обработки. А вот как ухитряются это делать за рубежом, где почта работает, как полагается работать почте?
За что любили «вышку» многие чекисты-книгочеи, так это за ее библиотеку. Не оперативную, где работали со специальными и секретными материалами, инструкциями, приказами, а обычную. Ее фонды формировались, судя по печатям и профессиональным пометкам библиотекарей, долгие годы. Уверен, что там были книги из числа конфискатов: на некоторых, читанных мною, видел замысловатые экслибрисы, на которые по молодости внимания не обращал. Читал, как всегда, очень много, без всякой системы. Запомнилась самая забавная из взятых в той библиотеке книг — «Бурная жизнь Лойзика Ройтшванеца» Ильи Эренбурга, одного из любимейших моих писателей.
Три месяца учебы прошли, я закончил курсы с отличием, подтянул дела в институте и передохнул.
****
Задание было довольно странным: рано утром из гостиницы «Националь» должны были выехать на машинах две молодые пары, американцы и англичане, которые намеревались, посетив Смоленск, проследовать через Брест и покинуть пределы СССР. Нам было поручено «проводить» их до Смоленска и передать для дальнейшего наблюдения смоленской «наружке». Накануне представилась возможность посмотреть на объекты слежки. Четверка стояла в холле гостиницы и что-то обсуждала, собираясь, похоже, в театр. Нас удивила необыкновенная элегантность молодых людей, их изысканные манеры и красота. То, что они «подозреваются в связях со спецслужбами», как нам объяснили на инструктаже, было явным вымыслом. Такие люди никогда не бывают связаны со спецслужбами и никогда не работают там. Они прилетают собственным самолетом на день рождения кого-нибудь из семьи Кеннеди, а на следующее утро улетают, чтобы пообедать с шахом Ирана и шахиней Сорейей.
От них веяло чем-то королевским…
На следующее утро, часов в пять, мы были на месте. Вскоре появилась и наша молодежь, сопровождаемая швейцаром, катившим тележку с их багажом. Девушки несли в руках корзинки, накрытые салфетками, — видимо, взяли в ресторане еду на дорогу.
Мы не знали, на каких машинах путешествовали наши молодые люди, и я с интересом смотрел, как они шли вдоль стоянки. Наконец, они остановились около двух неприметных маленьких автомобилей спортивного типа. Пока шла возня с погрузкой багажа, я пару раз прошел мимо автомобилей и прочитал фирменную надпись на одном из них — «Морган»; в него усаживались англичане. Американцы захлопнули за собой дверцы красного автомобильчика, на котором никаких надписей не было. Не спеша, тронулись сначала они, следом мы. Рано утром машин на улицах почти не было, и мы аккуратно вели наблюдение, то двигаясь параллельными улицами, то приотставая.
«Василь Петрович, а что это у американцев за жучок-то, что-то я таких не видел раньше?» — спросил я у нашего водителя, добрейшего Василия Петровича Баронова, незадолго до того вернувшегося из трехлетней командировки в Данию.
«Это, Жень, «порше», — пробормотал он и задумчиво провел рукой по лысине… Не спеша и не нарушая правил, две маленькие машины выбрались на Минское шоссе и выехали из города.
И тут же «морган» и «порше» превратились в две точки далеко впереди. Я впервые видел автомобили, способные передвигаться с такой скоростью. Василь Петрович потихоньку кряхтел. Стрелка на спидометре подходила к 160, мы начали понемногу подтягиваться к гонщикам. Наша вторая машина двигалась на значительном расстоянии за нами, по радио я передал, с какой скоростью идем, и попросил быть повнимательнее. Начинался солнечный осенний день. Так мы двигались несколько часов, не спуская глаз с двух металлических насекомых, летевших далеко впереди.
Время подходило к полудню, день был жаркий. По обе стороны дороги шли какие-то полевые работы, но глазеть по сторонам было некогда. Скорость по-прежнему держали 140–150 километров в час.
Вдруг далеко впереди мы увидели что-то непонятное, какое-то «неположенное» движение, потом возник столб пыли. Мы подлетели поближе и обнаружили нечто, сначала не понятое нами.
На полотно дороги на протяжении метров пятидесяти — может быть, больше — были выложены то ли для просушки, то ли для обмолота какие-то растения. Никаких знаков, предупреждавших об этом, конечно, не было.
«Восьмерка» влетела на участок, заваленный колосьями, завиляла, Петрович вцепился в руль и низко пригнулся к нему. Навстречу нам неторопливо двигался огромный МАЗ, и в состоянии некрутого заноса мы неслись почти прямо на него. Тормозить было бессмысленно, Петрович чуть пошевелил рулем, и мы разошлись с МАЗом на встречных курсах на таком расстоянии, что у божьей коровки, сиди она у нас на борту, оторвало бы усы. В машине нас было трое, все молча переглянулись, я тут же заорал в микрофон радиостанции, предупреждая машину, двигавшуюся позади. Впереди, километрах в двух, «морган» и «порше» остановились, пассажиры обступили их; «порше» поднимали домкратом. Им тоже удалось проскочить опасный участок, но, возможно, в машине что-то было повреждено.
Тем не менее, перекусив (мы — тоже), молодежь расселась по машинам и рванула дальше. На подъезде к Смоленску мы связались по радио со смоленчанами, ожидавшими нас в условленном месте, и передали им под наблюдение наших подопечных…
Я вспоминаю об этом небольшом эпизоде, одном из многих, потому что ощущение неотвратимо надвигающейся смерти в тот раз было невероятно полным. Да и «порше» я видел тогда впервые в жизни. Сейчас уже многие знают, чем отличается от других автомобилей этот вручную изготовляемый «агрегат».
В ту поездку мы в достаточной мере смогли оценить преимущества этих безумно дорогих элегантных игрушек для богачей — «порше» и «морган».
****
Я начал потихоньку нащупывать свой «путь наверх» — учиться оставалось полтора года, и надо было думать, что делать после окончания института. В то время произошла первая встреча с моим будущим руководителем — крупнейшим советским контрразведчиком Филиппом Денисовичем Бобковым.
Годом — двумя раньше одна из наших сотрудниц, закончив учебу, ушла на работу в «Дом 2», в 7-й отдел контрразведки, занимавшийся иностранными журналистами, аккредитованными в СССР. Мы были мало знакомы с Наташей, но симпатизировали друг другу и как-то, случайно встретившись, заговорили о том, что мне делать после окончания учебы. «А давай-ка я тебя познакомлю со своим начальником, Вячеславом Ивановичем Кеворковым», — сказала она. — «Да чего же знакомиться, если мне еще полтора года учиться?» — «Ничего, у нас сейчас есть вакансия в отделе, доучиться сможешь и у нас».
Отдел, в котором служила Наташа, славился успехами в контрразведке. Там работало немало творчески мыслящих людей, хорошо знавших журналистику. Журналисты — категория людей, особо привлекательная для спецслужб. Работа журналиста близка и понятна им — это постоянный поиск информации и ее обработка. Хороший журналист знает немало, у него могут быть связи в высоких сферах как собственной страны, так и страны пребывания. Зарубежные послы регулярно проводят брифинги для журналистов, на которых излагают точку зрения своих правительств по различным проблемам и стремятся оказать на «свободную прессу» посильное давление. Туда же гнут сотрудники резидентур, которые через журналистов стараются узнать как можно больше о стране пребывания и использовать их в своих целях.
Журналист, будь он хоть семи пядей во лбу, — человек достаточно зависимый, объект приложения многих сил. Он должен быть «хорошим» для своей газеты, где зарабатывает деньги и делает карьеру. Он никак не может быть «плохим» в своем посольстве, которое может и в газету нажаловаться, и, скажем, в Госдепартамент «настучать», может пригласить журналиста на какой-нибудь уж очень интересный завтрак посла с имяреком, а может и не пригласить. Ссориться с резидентурой вообще дело неумное: с бреющего полета на крутом вираже обдадут пометом так, что три года будешь отстирываться где-нибудь в глубинке, в американском или английском варианте «Вечернего Вышнего Волочка» — если еще возьмут туда.
Так что наши контрразведчики, которые торчат практически везде, чувствуют себя лучше всех, ведь, начиная с возможности (или невозможности) аккредитоваться, у нас перед иностранным журналистом встают десятки неизвестных Западу проблем: квартира, няня или детский сад для детей, офис, наличие или отсутствие приглашения сопровождать Вождя в составе группы иностранных журналистов во время его поездки по стране, наконец, возможность информационного удушения в результате заботливо срываемых встреч, несостоявшихся переговоров или даже травля на страницах как наших, так и зарубежных газет — можно организовать и такое…
Мне так и не удалось стать сотрудником блестящего 7-го отдела (об этом ниже), но, общаясь с его работниками, читая документы, «топая» за иностранными журналистами по их заданиям, я до сих пор уверен, что на своей линии работы люди из «Дома 2» (иногда их так и называли — «линейщики», линейные работники) творили многое… Наверное, единственным сдерживающим их прыть фактором было наличие за рубежом наших, советских журналистов, с которыми могли поступить адекватно; поэтому многие свои мероприятия, например, по высылке журналистов-иностранцев из СССР, «линейщики» согласовывали с ПГУ, да и вообще, кажется, работали с разведкой в довольно плотном контакте. Один из суперконтрразведчиков 7-го отдела, ныне генерал в отставке Владимир Иванович Костыря, долгие годы работал в США под крышей представителя «Интуриста», по-американски говорил грамотнее многих американцев, мог сойти в любой комбинации, например, за когрессмена или сенатора — и сходил весьма успешно…
Итак, Наташа поговорила с Кеворковым, тот разрешил мне позвонить, и мы договорились встретиться у бюро пропусков КГБ на Кузнецком мосту.
— А как я вас узнаю, Вячеслав Иваныч?
— А я такой лысый веселый дядька килограммов на сто…
Он полностью соответствовал его собственному описанию, только был не просто веселый. Он принадлежал к тому редкому типу мужчин, от одной улыбки которых женщины падали, как кегли в кегельбане, а трамвайные и автобусные ссоры затихали бы, появись Кеворков в городском транспорте. Милиционеры ГАИ внезапно обнаруживали в себе пастушескую кротость и расслабленно козыряли…
Мы перешли через улицу Дзержинского, и вместе с Вячеславом Ивановичем я впервые в жизни, цепенея, вошел в «Дом 2».
Поднялись на лифте на шестой, кажется, этаж, и пришли в одну из комнат отдела, где собралось человек пять, что-то обсуждавших. Среди них был бывший сотрудник нашего «семерочного» отдела — в прошлом один из моих начальников — покойный Анатолий Александрович Красовский, который сразу захлопал меня по плечу и сказал Кеворкову: «Хороший, хороший парень, надо брать его к нам».
«Сам вижу, что хороший, да вот что Филипп скажет…»
Я осмотрелся — большая комната с парой столов, телефоны, сейфы, диван, на двери фотография идущего по улице прибалтийского, как мне показалось, города, мужчины в светлом плаще; она была сделана скрытой камерой — это я понял сразу. Не решаясь спросить, кто это, я робко прислушивался к обрывкам разговора. Молодой сотрудник, дочитав машинописный текст, протянул его Красовскому. Тот быстро пробежал его глазами и спокойно сказал: «Ну что ж, это ожидает всех нас — рано ли, поздно ли…»
Кеворков, смачно хрустя яблоком, читал, сидя за столом, какой-то документ. Раздался телефонный звонок и, посмотрев на меня, он сказал в трубку: «Спасибо, сейчас идем».
По дороге он объяснил, что мы направляемся к заместителю начальника 2-го Главка — Филиппу Денисовичу Бобкову, который и должен был решить, брать ли меня на работу в 7-й отдел.
Пришли в большую приемную, где сидела миловидная женщина-секретарь, она попросила чуть-чуть подождать. Через минуту из шкафа, стоявшего у стены, вышел человек и покинул приемную. Я остолбенел — мне еще не приходилось видеть таких фокусов, и я подумал, что шкаф маскирует вход в комнату руководителя. На самом деле это было просто средство звукоизолировать одно помещение от другого.
За столом сидел большой, плотный человек с лицом, на котором мне прочиталась умная, спокойная хитрость. У Ф. Д., как его стали позже называть многие сотрудники, были красивые, крупные руки, он листал лежавшее перед ним мое личное дело, запрошенное из «семерки».
— Вячеслав Иванович, так он же еще только на четвертом курсе, да и чекистской подготовки не имеет, хотя парень, я слышал, неплохой…
— Как же не имеет, как же не имеет, Филипп Денисович? — быстро проговорил Кеворков и, перегнувшись через стол, перевернул несколько страниц дела, которое сам, очевидно, хорошо изучил. — Вот и курсы переподготовки закончил с отличием, опять же английский у него в порядке, да и вообще — чекист во втором поколении!
— А есть вообще-то желание поработать с журналистами? — спросил Бобков.
Я растерялся и понес какую-то невнятную чушь.
«Отцы» переглянулись — конечно, они понимали мое состояние. Бобков сказал:
— Ну ладно, посмотрим, что получится. Прямо скажу, на эту вакансию есть и другие кандидаты, и о нашем решении Владимир Иванович вам сообщит.
Он встал, давая понять, что разговор окончен, крепко, «со значением» пожал мне руку, и мы вернулись в отделение, где поговорили еще минут десять и распрощались. Через некоторое время я позвонил Кеворкову и узнал, что моя кандидатура отклонена, но 7-й отдел будет держать меня в поле зрения, и «перспективы есть». Я тогда не очень расстроился.
Я вернулся на «кукушку» в пяти минутах ходьбы от «Дома 2» и принялся готовить бригаду к выходу на пост в ночь.
Мы вели наблюдение за случайно обнаруженным тайником в районе Каланчевской площади. Кто и как обнаружил тайник, что находилось в стеклянном контейнере за газетным стендом — нам было неизвестно.
Контейнер был, конечно, помечен, наблюдение мы вели из опустевшей на время летних каникул школы, расположенной через дорогу от стенда. Расстояние было невелико, но мы использовали массу техники — сильные бинокли, фотоаппаратуру для съемки подозрительных лиц или того, кто придет изымать закладку. Обе машины были укрыты во дворе школы и в случае необходимости могли почти мгновенно включиться в работу.
Кстати, по манере парковать машину иногда можно определить спецслужбиста: наш брат всегда ставит автомобиль так, чтобы одним поворотом рулевого колеса его можно было сразу направить в поток машин. «Ручником», по-моему, не пользуется никто.
Наблюдение было круглосуточное, ночные смены — по шесть ночей подряд. Нас было пятеро-шестеро, удавалось по очереди ненадолго прикорнуть, но все равно после третьей-четвертой ночи я чувствовал себя совершенно больным. Болела голова, от оптики болели и слезились глаза.
Шло лето — золотая пора для работы «наружки» — тепло, сухо. Помню, что периодически, грубо нарушая дисциплину, мы отряжали на Рижский рынок одну из машин за свежими овощами и в магазины за едой.
Занятия в институте закончились — я перешел на пятый курс, жизнь казалась прекрасной, беспокоило только, что шел восьмой год моей службы в «семерке», а мне казалось, что я более успешно мог бы реализовать и то, чему научился на работе, и то, что «впитал» в вузе. Я уже здорово жалел о неудаче с 7-м отделом контрразведки, ощущение времени, уходящего впустую, все чаще подкрадывалось ко мне.
Тайник, за которым мы вели наблюдение, фигурально выражаясь, покрывался золотой коркой. Слежка — очень дорогостоящее мероприятие. Прошли месяцы, наблюдение было снято, и «технари» изъяли контейнер.
Видимо, его закладка проходила под контрнаблюдением, и последовавшая после обнаружения тайника возня вокруг него была зафиксирована нашими контрагентами.
Со временем многие мои товарищи, так же, как и я, решившие выбираться из «семерки», потянулись оттуда один за другим…
В основном это были ребята, пришедшие в «наружку» с высшим образованием и с самого начала рассматривавшие ее как трамплин для прыжка к более интересной работе.
Начал распадаться наш джазик: ушел учиться в упомянутую выше «школу 101» ударник Толя Каравашкин — русский богатырь, настоящий супермен, спортсмен, охотник, сын большого начальника в КГБ, германист. Он был женат на довольно известной тогда красавице киноактрисе и обожал жену и дочь… После нескольких лет работы в разведке в Германии рухнула его зарубежная карьера — Толя был горяч и своенравен, затем распалась и семья. Встретились мы с ним в только что созданном 5-м недоброй памяти Управлении через несколько лет. Оттуда он ухитрился вновь перебраться в ПГУ, но опять продержался там недолго и ушел «на гражданку», даже не выработав пенсии…
Ушел вслед за ним саксофонист Толя Р. Окончив «101-ю», отбыл в Канаду, с тех пор встречались несколько раз мельком, на бегу — так и не поговорили ни разу толком…
Ушел в Управление «С» ПГУ работать с нелегалами мой дублер-пианист, композитор-любитель Леша С. — так и не виделись с тех пор.
Уехал работать водителем в резидентуру в США самолюбивый, агрессивный Игорь Иванов, ас «наружки». Там, во время операции, он был схвачен вместе с шефом с поличным… Шеф имел дипломатический паспорт и был выслан из страны, а Игоря американцы посадили под долголетний арест в нашем же посольстве, запретив выезжать из США. Он имел право передвигаться по городу только в машинах с дипломатическими номерами, не выходя из них… Игорек не размяк, не опустился — брался за любую техническую работу. Страстный кинолюбитель, он отснял многие километры пленки на улицах американских городов и в некоторых документальных фильмах о США в титрах мелькала и его фамилия. После нескольких лет отсидки американцы отпустили его: в Москве «прихватили» кого-то из их разведчиков, и состоялся обычный в таких случаях обмен.
Другой «супердрайвер», Виктор Хлупов, на пару с резидентом попал в Африке, в джунглях, в плен к какому-то местному царьку. Их несколько дней держали в яме и морили голодом, что вселяло надежду быть убитыми, но хоть не съеденными… Спасли проезжавшие мимо англичане. Наорав на царька и его придворных, они отняли у властелина пленников и полуживых привезли в столицу, где любезно доставили в совпосольство.
Володя Кудрин, огромный, толстый, несколько лет работал в одной из самых жарких стран Африки, пока не подцепил там какого-то африканского червя, проникающего в мышечную ткань, и здесь, в Москве, наши эскулапы чуть ли не полгода этого червя извлекали…
Да, ребята покидали «наружку» — одни навсегда, другие на время, а я додалбливал учебу и никаких реальных шансов заняться чем-нибудь более интересным не имел. Работа начинала тяготить. Начальство стало это замечать.
Не знаю, по всей ли Америке действует негласный принцип американских кадровиков — let a good man go — не мешайте хорошему человеку уйти, но у нас он, по-моему, не известен.
Кудрин рассказывал, что, когда кадровики из разведки звонили в «семерку», подбирая кандидатуры для работы за рубежом, они, бывало, слышали и такие характеристики: «Да-да, отличный сыщик, прекрасный парень, хороший семьянин, только вот странная тяга за границу…» На этом расспросы заканчивались и, видимо, навсегда. Желание работать за рубежом в советской (не вражеской, между прочим) разведке считалось, по меньшей мере, нескромным, и его необходимо было тщательно скрывать. Реализовать такое желание можно было, только имея основательные связи в «Доме 2» или где-нибудь совсем уж «наверху». Исключения исправно подтверждали правила. А в те времена, мы, молодежь, не очень еще и представляли себе основную причину, по которой многие наши компатриоты прорывались на загранработу, — это для советского человека был единственный шанс, не воруя и не беря взяток, поправить свои материальные дела…
Именно поэтому в наших загранучреждениях нечасто можно встретить людей «от сохи», а уж в некоторых странах — США, Канаде, особенно в Швейцарии, к примеру, или Финляндии их не сыщешь и днем с огнем.
В феврале 1966 года я был принят в КПСС — в ЧК это было само собой разумеющимся, на оперативной работе беспартийных не было. Во время одной из бесед в парткоме Управления, после поздравлений и похвал по поводу моих оперативных успехов, мне сухо заметили, что моя учеба в ИНЯЗе, а не в «вышке», и мечты о работе в разведке и вообще вне «семерки» рассматриваются как элементы нескромности, и посоветовали «поработать над собой»…
Я знал теперь, что нахожусь под присмотром и «застегнул рот на молнию». С большим опозданием я начал понимать то, что нужно было понять давно. В нашей ослепительно серой действительности любой выделяющийся хоть чем-нибудь — даже мечтами, — вызывал и вызывает глухую, вязкую неприязнь. Много лет спустя, в Нью-Йорке, на заборе одной из строек, я увидел плакат по технике безопасности — гвоздь, торчащий из доски, нужно либо забить по шляпку молотком, либо откусить опасную часть клещами… Вот они и забивали, вот они и откусывали… Не там искали нескромность борцы за чистоту наших рядов…
****
…Канадцы — два помощника военного атташе — чинно, не торопясь, выехали из посольства, сделали ручкой козырнувшему им милиционеру (секунд десять назад он сообщил нам, что они садятся в машину) и, делая вид, что мы их не интересуем, стали выбираться на Ленинградское шоссе. Черный «Мерседес-220» неторопливо плыл в потоке машин, мы тоже не спешили, плелись себе то сзади, то сбоку.
«Военные» — так в НН называли сотрудников военных атташатов зарубежных посольств — всегда представляли особый интерес для контрразведки и, соответственно, для нас.
Все они — военные разведчики, и от политической разведки их отличает какая-то эфемерная, а то и вообще не существующая негласная договоренность о том, что они не ведут агентурной работы — все свои задачи якобы решают сами, активно используют специальную технику. Их машины часто оснащались такой аппаратурой, и добыть ее — или, по меньшей мере, убедиться в ее наличии — было одной из наших задач. Однажды, кстати, объединенная «команда» американских, английских и, кажется, канадских «военных» провалилась в Волгограде — их взяли со всей техникой, в том числе с какой-то хитрой по тем временам портативной параболической антенной. Американский посол попросил не предавать инцидент огласке и обещал не поднимать шум, когда засыпятся наши рыцари. Договоренность была достигнута… Тащась за канадцами, мы как раз вспоминали этот случай.
«Вояки» выехали на Ленинградское шоссе, слегка прибавили ходу. Мы тоже. Они минуты через две — еще. И мы… Они «вдавили дощечку в пол». Это становилось интересным… Не доезжая до аэропорта, канадцы резко развернулись и пошли нам навстречу: поняли — вырос «хвост».
Вернувшись в город, они принялись от «хвоста» отделываться. В течение четырех — пяти часов они то тащились по Садовому кольцу, то сворачивали в арбатские переулки и делали вид, что возвращаются в посольство, но проносились мимо — и снова по городу… Их заносило в районы, в которых и мы-то никогда не бывали, вот они въехали на какую-то огромную стройплощадку, заелозили по песку (мы благоразумно не втянулись за ними и наблюдали за буксующей машиной с пригорка), вылетели со стройплощадки и двинули уже черт знает куда. Юра Стихарев, наш водитель, три года вот так же крутившийся в таком же «мерседесе» по Копенгагену, стал подсчитывать, сколько бензина осталось у наших «клиентов». Наблюдение велось практически в открытую, на что требовалась всегда особая санкция, но мы тоже «завелись» и решили — кровь из носу — канадцев не отпускать. Темнело. «Мерседес» влетел в какой-то тупик, оторвался от нас, в конце тупика мгновенно развернулся, и, включив дальний свет, пошел на нас в лобовую. Я и слова не успел сказать, как Стихарь тоже включил дальний свет и нажал на газ. Видно было, что отворачивать он не собирается. Тут, вообще говоря, нужно было что-нибудь скомандовать, но я прикусил язык. За десяток метров от нас Канада дрогнула: выскочив правыми колесами на пустой, к счастью, тротуар, «мерседес» свернул с курса — и они, и мы были ослеплены ярким светом и, не разглядывая друг друга, разъехались в темном тупике. Стихарь, нажав на газовую педаль до упора, развернул тяжелую «восьмерку» почти на месте и, согрев душу «в три господа бога», попросил по радио вторую машину теперь держаться поближе.
Канадцы как-то расслабленно проехались по Москве и уже взаправду вернулись в посольство. Было совсем темно.
На следующее утро другая бригада спокойно проводила их в Шереметьево — оба улетали в Оттаву. Люди из «Дома 2», которые вели разработку канадцев, рассказали, что те отправились на какое-то очень важное совещание и должны были сделать то ли доклад, то ли привезти какой-то важный материал.
Осталось навсегда неизвестным — что хотели сделать «военные» в тот раз, почему так старались от нас оторваться? Изъять материал из тайника? Заложить в тайник задание агенту? Позвонить ему? Подобраться к какому-нибудь военному объекту и «пощупать» его своей аппаратурой? Ясно было одно — мы не дали им сделать что-то очень важное, что нужно было сделать именно в тот день.
За очень редким исключением иностранцы, за которыми нам приходилось «топать», принадлежали к достаточно обеспеченным кругам: дипломаты, коммерсанты, туристы, сотрудники авиакомпаний были нам интересны еще и потому, что, наблюдая за ними, мы учились многим полезным вещам, до сих пор большинству из нас малоизвестным: как открыть дверь автомобиля для дамы и помочь ей выйти из машины, как вести себя в ресторане, театре и мало ли где еще… Немало «наружников», особенно женщины, стали завзятыми театралами — иностранцы часто «водили» нас в Большой и другие театры. Мы научились понимать разницу между плохой и хорошей одеждой (особенно легко можно было тогда отличать американцев — длинные пиджаки с двумя шлицами, коротковатые брюки, просторные добротные ботинки «оксфорд», рубашки с пуговками на воротнике — баттн даун). Умиляли американские старушки пенсионерки, на старости лет решившие посмотреть мир, — голубоволосые, с тщательно наведенным макияжем, энергичные. Любой можно было в разное время дня дать от 20 до 80-ти…
****
Хорошо помню, как впервые в Москве выступал американский балет на льду — «Холидей он Айс». О подобном зрелище в Союзе мало кто слышал, и выступления американцев произвели фурор, который наша пресса, как всегда, либо обходила молчанием, либо что-то вынужденно цедила сквозь зубы. Мы вели слежку за кем-то из администрации балета и, помимо всего прочего, сидели и на всех представлениях.
Ни разу мне не было скучно — олимпийский чемпион Дик Баттон, танцовщик Арнольд Шода, полноватая блондинка Джоан Хилдофт, от которой стоял стон на местах, занятых представителями южных республик, были супермастерами своего дела… А костюмы? А кордебалет? А музыка Гершвина, Керна, Берлина, Эллингтона? А главный хореограф Мэри Карр, женщина необыкновенной красоты и сложения, в которую я тут же (конспиративно, конечно) влюбился?
Наши «критики» особо прохаживались на счет девушек из кордебалета: дескать, часто падают на льду. Да как же тут было не падать, когда каждый день давалось три представления, а после вечернего, последнего, кордебалет почти в полном составе брали в плен здоровенные сержанты морской пехоты, которые несли охрану внутри посольства США, и увозили в свое печально известное общежитие «Америкэн хауз» на Кропоткинской набережной…
Кордебалет «гудел» в «Америкэн хауз» почти каждую ночь до утра: сержанты все холостые, ражие, под утро рассаживали еле державшихся на ногах бедняжек по машинам и отвозили в гостиницу пару — тройку часов передохнуть перед утренним, в 11 часов, представлением. Так что кордебалет тут был не так уж и виноват — дело-то житейское, молодое…
Интердевочки — в несравнимых, конечно, с нынешними количествах, существовали уже тогда, во времена моей молодости в «наружке». Я забыл упомянуть еще об одном «предмете» моей учебы в отделе: существовало несколько опознавательных альбомов с фотографиями фарцовщиков, валютчиков и девиц, наиболее часто «работавших» с иностранцами, с адресами и установочными данными. Периодически просматривая альбомы и храня в памяти физиономии зародышей нынешнего «предпринимательства», можно было сходу опознать их во время контактов с нашими «клиентами» и не тратить времени на установку их личностей. Впервые просматривая один из таких альбомов, я увидел сделанный скрытым фотоаппаратом снимок своей одноклассницы — красавицы-грузинки Нины И. Нина «специализировалась», как следовало из пояснительной надписи под снимком, по сотрудникам арабских посольств…
Джентльмены иногда старались оберегать дам от милиции и от нас тоже: отвозя своих утешительниц домой, они старались оторваться от слежки, высаживали их из машин около проходных дворов, которыми леди убегали от преследования; иностранец же перегораживал своей машиной въезд во двор. Бывало, что после таких подвигов утром он находил свой автомобиль с проколотыми шинами, но такое случалось редко, чаще всего «стороны» придерживались определенных неписаных правил. Сотрудники «приличных» посольств, конечно, такими делами не занимались, за редчайшими исключениями. За ними, наоборот, шла охота с помощью подставных девиц (и юношей) для компрометации, вербовки либо выдворения из страны. И, как видно из многих публикаций последних лет, охота весьма и весьма небезуспешная… «Горели» на таких делах даже железные красавцы из упоминавшейся выше морской пехоты США, забывавшие в любовном угаре о своих обязанностях по охране посольства, считавшегося в КГБ одним из самых защищенных и трудных для «проникновения».
Такие проникновения назывались на жаргоне «Дома 2» «свадьбами». Им подвергались обычно — да-да, именно обычно — небольшие посольства с малым числом сотрудников. В какой-то день получалось так, что часть из них была в отпуске на родине, кто-то в командировке, а оставшиеся получали приглашения на длинные ланчи или обеды либо от «прирученных» иностранцев, либо от именитых представителей нашей творческой интеллигенции. Словом, это были приглашения, «от которых невозможно отказаться», — помните «Крестного отца»? Все приглашенные были под усиленным наблюдением, упустить их было смерти подобно, об их местонахождении и возможных передвижениях сообщалось в центр проведения операции каждые 15 минут.
Посольство пустело: оставался лишь один-единственный охранник, «прикормленный» уже давно и отправлявшийся спать в свою каморку.
На протяжении нескольких часов в посольстве орудовала группа «технарей», вскрывающих любые замки и сейфы, спецов по чтению текстов на любых языках, оперативных работников из разных подразделений разведки и контрразведки.
Офицеры безопасности в таких посольствах принимали свои меры предосторожности. То из открытого сейфа на наших спецов бросалась ядовитая змея, то какую-нибудь шкатулку с секретными документами, изготовленную по принципу «ваньки-встаньки», невозможно было зафиксировать в прежнем положении. Судя по рассказам участников таких операций, бывало всякое. Но и добывалось многое — то, чем с неохотой делились со своими союзниками по различным блокам и пактам американцы, то, что невозможно было получить у них самих, получали у тех, у кого это было получить возможно.
Кстати, то же самое происходило и с нашими секретами…
Нетрудно себе представить, какого класса специалисты планировали и проводили эти операции, какого напряжения сил и нервов они требовали. Подозрения на счет таких «проникновений» существовали, но, насколько помню, провалов или срывов не случалось.
«А соображения морали? — спросите вы. — А нарушения принципов дипломатической неприкосновенности? А «джентльмены не читают чужих писем»?»
Джентльмены в спецслужбах не работают. Те, которые притворяются джентльменами, делают это по оперативной необходимости, для маскировки, и сами над этим посмеиваются. Джентльменам в спецслужбах делать нечего. Реальность там невообразимо далека от того, что вы привыкли видеть в кино или читать в детективных романах. Это жесткая, жестокая реальность, и не все в состоянии ее долго выдерживать, жить в ней.
Некоторые покидали «наружку», службу в КГБ именно по моральным соображениям. Следить за людьми, участвовать в охоте на них они считали неприличным. Их отпускали. Разговоры о том, что из КГБ, дескать, никто никогда не уходит, — болтовня. Уходят — и, как правило, неплохие люди. Плохих «уходят» — за пьянку, за неспособность соблюдать дисциплину, почти никогда — за провалы: «не ошибается тот, кто не работает»…
Чтобы не ошибаться, не работали и не работают, наверное, до сих пор многие… «Из «Дома 2» нужно бы выгнать 70 процентов личного состава», — сказал мне как-то Владимир Иванович Костыря. Я не поверил. Тогда большинство из обитателей «Дома» казались мне оперативными божествами; отличать божество от убожества я научился гораздо позже — в некоторых случаях слишком поздно.
В азарте, риске, увлеченности работой, принадлежности к Ордену, казалось, что КГБ — отдельно существующее царство непорочных рыцарей. О том, что тогда творилось в обществе, мы знали немало. Речи вождей, пресса, назидания начальников, Моральный кодекс строителя коммунизма воспринимались нами так же, как и всеми другими хоть сколько-нибудь думавшими гражданами огромной нескладной страны. Но Орден казался нам самостоятельной частью гниловатой системы, и думалось, что он призван исправить ее «отдельные, порой встречающиеся» недостатки.
Пришедшее со временем понимание того, что часть не может быть лучше целого, было ошеломляющим. Да нет, оно просто сбивало с ног.
****
Где начинается контрабас, там кончается музыка — не помню откуда это. Задание было выписано на контрабасиста из впервые приехавшего в СССР биг-бэнда Бенни Гудмена. Джазовая Москва сходила с ума, попасть на концерт было по силам лишь либо охраняемым трудящимся, либо джазоманам со связями. «Трудящиеся», понятное дело, занимали первые ряды и, крепясь, держали «выездные» лица. Но американцы играли так, что через некоторое время «засвинговывали» даже их: пухлые руки начинали похлопывать по подлокотникам, ножки в сшитой на заказ обуви притоптывали в такт.
Малорослый, подвижный контрабасист с первых дней слежки за ним проявил немалый к ней интерес, но умения отрываться от «наружки» у него не хватало. Когда он думал, что это удалось, он извлекал из сумки маленькие коробочки и пузырьки и в разных районах города собирал в них опавшие листья и щепотки земли. Это были пробы на радиоактивность. Перед отъездом из Союза содержимое всех коробочек и пузырьков (почему он не относил все это в посольство?) было нашими «технарями» при специально созданных обстоятельствах заменено.
А однажды вечером часть оркестра приехала в кафе «Молодежное» на улице Горького, где тогда собирались московские джазмены. Американцев пригласил московский джаз-клуб поиграть вместе с нашими музыкантами; «джэм сешн» длился часов шесть. Из наших были Журавский, Бахолдин, кажется, Алексей Козлов и другие — американцы были потрясены их игрой и не скрывали этого. Такого «сешна» мне не приходилось слышать больше никогда. «Наш» контрабасист был тоже в ударе и, может быть, на время забыл про свои коробочки и пузырьки…
Среди сыщиков были книгочеи, меломаны, аквариумисты, были поэты и музыканты-любители, почти вся молодежь была помешана на автомобилях, кто-то увлекался красивой одеждой, в общем, как везде.
А что мы знали и думали о происходящем в стране, о роли, которую в жизни СССР играла наша организация?
После хрущевских разоблачений «культа личности», которые, как мы знаем, длились недолго и разоблачили немногих и не сильно, никто, кроме достаточно узкого круга посвященных или недостаточно широкого круга оставшихся в живых жертв террора, о его подлинных масштабах не знал. В лучшем случае люди догадывались или строили предположения. Солженицын тогда еще писал свой «Архипелаг», образовывались группы и группки самиздатчиков — «антисоветчиков» — слова «диссидент», «правозащитник» не были известны.
Но задания на слежку за «антисоветчиками» поступали все чаще и чаще.
Недалеко от квартиры одного из них — Петра Якира, сына известного военачальника, павшего жертвой сталинской чистки в армии, «наружка» была вынуждена даже организовать временную базу для укрытия машин и людей — так много на этой квартире в районе Автозаводской площади собиралось единомышленников и иностранных корреспондентов. Наша бригада тоже как-то «притащила» туда то ли журналиста, то ли дипломата, сейчас трудно вспомнить. Я не мог и предполагать, что через несколько лет меня, сотрудника 5-го Управления, используют в одной из комбинаций против Якира…
Что сказать о наших политических взглядах и воззрениях того времени? Говоря «наших», я не имею в виду широкие круги сыска: речь идет о небольшой группе друзей и приятелей, в основном молодежи. Вообще, именно служба в КГБ почти с самого начала сузила круг моих привязанностей: делиться тем, что было на душе, не говоря уж о профессиональных темах, можно было только с немногими. А ведь в первые годы службы мы все были весельчаками, любителями вышутить друг друга, передразнить начальство. Мы менялись у себя на глазах с устрашающей быстротой.
…Одной из наших бригад пришлось «работать» за покойным генералом Григоренко. Не знаю почему, то ли случайно, то ли у начальства был какой-то нюх, но подобной «чести» никогда не удостаивалась ни наша опергруппа, ни кто-либо из моих близких приятелей или друзей по «наружке» — может быть, нас считали, и не без основания, специалистами по слежке за иностранцами.
Как рассказывали потом, Григоренко был быстр, наблюдателен, и в один далеко не прекрасный для сыщиков день подошел к ним и сказал:
— Вам не стыдно таскаться за мной, стариком?
Пассаж! Объяснительные записки и рапорты! «Пострадавшие» на следующий день ухитрились не только здорово выпить на посту, но и попасться после этого на глаза начальству! Разгром! Одна за другой головы сыщиков летели в пыль под свист руководящего меча с известной эмблемы чекистов. Никакой щит с той же эмблемы помочь не мог — выговоры и порицания, партийные «клизмы» и разборы на оперативных совещаниях обрушивались, как град из кирпичей…
А до нас доходили сведения о том, что генерал вовсе не сумасшедший, что в «психушку» его засунули потому, что «больно умный», что он провоевал всю войну и имеет «мешок орденов», что скромен в быту — вернее, просто беден, что у него доброе, умное лицо…
А в лицах в «семерке» разбирались. Люди с цепкой зрительной памятью — а там такие почти все, как правило, хорошие физиономисты.
Вспоминаю, как во время застолья в кругу сослуживцев-книгочеев обсуждали несколько наших писателей, которых «наверху» причисляли к «антисоветчикам».
— Да нет, ребята, — сказал кто-то. — Никакие они не антисоветчики. Просто они пишут правду — вот и получается антисоветчина…
****
Всем бригадам, вызванным в ночную смену, объявили состояние «спецзадания». Это было впервые на моей памяти. Каждой бригаде дали адреса баз, до сих пор неизвестных никому — все в районе Красной площади или вокруг нее.
Мы проверили связь и приступили к выполнению задания. Оно заключалось в том, чтобы периодически выходить на Красную площадь и проверять — не начинается ли скопление народа. Если да, то слушать, о чем говорят, оперативно информировать отдел, продолжать наблюдение. Ночь была осенняя, промозглая, страшно хотелось спать, и мы по очереди придремывали на стульях и столах грязноватых, редко, видимо, использовавшихся баз. Никто ничего не понимал, на инструктаже не было сказано ничего определенного.
Ночная смена закончилась, сменившие нас сыщики рассказали, что в эту ночь был снят Хрущев. Все выразили неподдельный восторг.
Хрущева не любили — за волюнтаризм, малообразованность, кукурузу, которая, не успев навязнуть в зубах, повисла у всех на ушах наподобие лапши. Обещание в скорейшем времени жить при коммунизме вызывало кривые улыбки и вдохновляло Стаса А. на создание приведенных выше стихов. Внешность, повадки, поведение вождя «на просторах Родины чудесной» и за ее пределами, хотя и приукрашивались средствами массовой информации, оказывали только негативное воздействие на трудящихся, да и роль самого Никиты Сергеевича, несмотря на его разоблачения культа личности, в мирное и военное время была многим достаточно ясна.
А вот понимание того, что он действительно совершил на XX съезде партии — и не только для нашей страны, а и для всего, может быть, мира, — пришло много позже.
…Эти дежурства продолжались еще неделю. Было приказано не вступать в разговоры с «девяткой». Но самое интересное заключалось в том, что на наших инструктажах и совещаниях ни слова не говорили о том, что обсуждалось уже всей страной. Помалкивала и наша вечно свободная пресса — видимо, победители «наверху» праздновали победу и придумывали, под каким соусом подать ее на стол согражданам.
За долгие годы службы я не раз поражался тому, как информировали оперативный состав КГБ о каких-либо серьезных происшествиях, событиях, новостях — я имею в виду, конечно, не генералитет. Штатскому человеку трудно в это поверить, но рядовые чекисты, как правило, официально узнавали о чем-либо от руководства позднее многих штатских. О некоторых вещах мы, как и вся страна, слышали только из сообщений «вражеских голосов», на глушение которых щедрой рукой швырялись огромные деньги, либо из западной прессы, когда она случайно попадала в руки тех, кто знал языки.
Вот так, достаточно примитивно, прямо скажем, нами воспринимались события планетарного масштаба. Мы старательно выполняли свой долг. Неверие, сомнения, угрызения совести были спрятаны глубоко внутри у тех, у кого они имелись. И в этом даже был немалый здравый смысл. Система была «задействована» и направлена на стабилизацию шатавшегося общества — если только его можно было стабилизировать. Вскоре оказалось, что можно, — на долгие 18 лет.
****
После того как родители в последний раз вместе со мной и братом вернулись из-за границы, я живу в Москве около 50 лет.
Огромное количество приезжих — большинство из знойных, «суверенных» ныне стран — сделало Москву зоной своих махинаций. Явно причесанные сводки МВД говорят о том, что значительная часть преступлений — больше половины — совершается приезжими. Они же лидируют как участники квартирных краж и ограблений, ставших уже чем-то привычным для всех, кроме обокраденных и ограбленных в собственном доме.
Все прошлые вожди, генсеки, президенты, отцы города, по очереди воцарявшиеся в Москве, тоже были чужими ей, лимитчиками.
Маленков, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин — все приезжие. Их отношение к Москве почти всегда было двойственным: с одной стороны, оттуда сыпались указы, приказы, окрики, распоряжения, которые надо было выполнять. Глухая ненависть к столичному кнуту, а соответственно и к самой столице, поселилась везде — особенно в кругах местных царьков — и давно. (Те, кто служил в армии, рассказывают, что больше всего начальство и сослуживцы не любят москвичей — «больно умные».)
С другой стороны, они изо всех сил рвались в Москву, ибо там — средоточие власти, головокружительные привилегии, льготы и почести… Ельцин в своей (?) книге почти откровенно высказывает негативное отношение к москвичам — остальное легко читается между строк.
Думаю, что, добравшись до Москвы и прочно осев в ней, перетащив за собой домочадцев, громадные свиты и челядь и уже называя себя москвичами, эти люди сохранили прежнюю нелюбовь к огромному, своенравному и непохожему на них городу — и к его многомиллионному населению.
Для того чтобы понять в свое время абсурдность (или зломыслие) идеи о переселении в Москву и другие большие города миллионов лимитчиков, нужно было просто немного посчитать. Но считать не стали.
Исходно решили, что раз ленивые москвичи, дескать, не хотят идти на малооплачиваемые, грязные, тяжелые строительные работы, то пусть ими займутся приезжие — с правом последующей прописки и получения жилья! Вот об этом как-то не говорилось, как и о том, что лучше платить хорошую зарплату на стройках москвичам же…
Что же получилось? А то, что лимитчики практически построили жилье для себя и для нахлынувших вслед за ними многочисленных родственников. Очередные генсеки тоже гребли под себя и под свои свиты квартиры и дачные участки. Москвичам доставались да и сейчас еще достаются объедки с чужого стола. Очереди на получение жилья по-прежнему двигаются еле-еле.
Мало того, лимитная молодежь, наломав хребет на стройках, получив прописку и жилье, вовсе не собиралась отдавать строительным работам всю жизнь. Постепенно ребята занимали вакансии в торговле и других сферах городской, да и не только, жизни, народ они энергичный, последствия уже ощутимы.
****
Базы наружной разведки понатыканы вокруг посольств и общежитий иностранцев, внутри и около гостиниц, в аэропортах… Там укрываются бригады слежки, автомашины. Иногда это просторные квартиры со всеми удобствами, иногда крошечные подвальные или полуподвальные помещения, где нечем дышать и можно только сидеть за столом и ждать сигнала о выходе объекта слежки. Сыщики на базах имеют возможность передохнуть после напряженной езды или долгой ходьбы, перекусить, почитать (одно время почему-то читать разрешалось только газеты и ни в коем случае художественную литературу), почесать языки, что в «наружке» было довольно распространено.
На базах кокетничали, флиртовали, завязывались романы, счастливые и несчастливые браки. Студенты зубрили, писали конспекты, начальство иногда косилось на них, ворчало, но, как правило, те, кто учился, старались и работать лучше, и чаще всего это у них получалось.
На базах делились опытом, разрабатывали хитроумные приемы слежки, вышучивали друг друга и, конечно, начальство.
На базах встречались товарищи из разных подразделений, не видевшиеся подолгу, воскресала старая дружба. Там же ссорились, кричали друг на друга…
Машины, если их приходилось оставлять на улице, редко охраняли — они запирались на специально изготовленные в Оперативно-техническом управлении замки, открыть которые без там же изготовленных ключей было невозможно. Иногда водители возились со своими «аппаратами», но капоты большинства машин открывать на улице было строго запрещено — слишком много там было нестандартного оборудования. Состояние напряженности редко покидало нас: в любой момент мог поступить сигнал о выходе или выезде «клиента», бригада выходила, а то и выбегала к машинам, и они трогались, а то и срывались с места. Иногда иностранцы, сотрудники резидентур, расшифровывали базы и демонстрировали это: крутились вокруг, фотографировали или снимали кинокамерами «жанровые» сцены. Говорили, что французская разведка сняла в Москве целый фильм о работе «наружки»…
Бывает, мы тихонько кемарим на базах… А то взорвется вдруг ужасный шмон! И будешь пионером, и милиционером, И сразу прибежишь со всех сторон…Это опять из Стаса А.
****
Женщины в «наружке» — отдельная тема. В тяжелой работе наружного сыска им бы и не место, но ведь объектами слежки бывают и женщины — Чизхолм, Паттерсон… Сыщик-мужчина не везде может следить, если объект — женщина.
Как выстраивалась их семейная жизнь, до сих пор не представляю. Ночные смены, вечерние «пригары» чуть не до утра, работа по праздникам и выходным… Поэтому, может быть, браки между «наружниками» и были так часты — супруги легче могли понять друг друга.
Высокая, крупная русская красавица, блондинка Танечка Ерофеева, вечно преследуемая одновременно несколькими воздыхателями, и это при ревнивом-то огромном муже, тоже сотруднике ЧК. Умница Валя Архипова, храбрая, не боявшаяся никакого начальства, тоже жена нашего сотрудника. Валя Орлова, дочь чекиста, совсем молоденькой вышла замуж за слушателя ВШ — албанца, которому после разрыва отношений между нашими странами пришлось уехать на Родину; семья разрушилась, а Валя очутилась в «семерке». Надя, по прозвищу «звоночек», интеллигентнейший, легко ранимый человек, при ней не то что грубое слово сказать — громко разговаривать казалось неприличным. Много лет спустя встретил Надю в «Доме 2» — она работала в подразделении, занимавшемся реабилитацией жертв репрессий, была счастлива, что покинула грубый, трудный мир «наружки». Галя Соколова — высокая брюнетка, певица нашего джазика, человек энергичный и очень карьерный — не хотела уступать мужчинам ни в чем, даже тяжелую «восьмерку» водила резко, по-мужски, училась в ВШ. Твердо верила, что закончит службу, по крайней мере, полковником, последний раз, когда слышал о ней, успешно продвигалась к цели.
На некоторых — но немногих — женщин служба в НН и постоянное общение с мужчинами в нестандартной обстановке сыска накладывали нехороший отпечаток. Они становились развязными, какими-то приблатненными, что ли, «своими в доску».
Тем не менее за все годы службы в «наружке» не помню случая, чтобы кто-нибудь из мужчин мог позволить себе сказать грубое слово или закурить на базе, не спросив разрешения у женщин, если они там были.
****
Случалось, объектами слежки были люди с большими странностями. Вспоминается турист-американец, высоченный, нескладный, явно не вполне психически здоровый. Он жил в гостинице «Золотой колос», где американцы, насколько помню, никогда не останавливались — бедно, некомфортно, далеко от центра.
«Паганель», как мы его прозвали, выходил из гостиницы рано утром в ярко-красном берете и какой-то хламиде, в которой с трудом угадывался бывший плащ. Останавливаясь через каждые 30–40 шагов и внимательно глядя на небо с полминуты, он полдня шагал крупным шагом от «Золотого колоса» до Красной площади, делал по ней круг и тем же манером возвращался к вечеру в гостиницу, откуда до следующего утра не выходил…
В первые дни работы за «Паганелем» мы недоумевали, не притворяется ли он сумасшедшим? От его маршрутов гудели ноги даже у закаленных, опытных «наружников». Тайна красного берета не давала покоя: должен ли кто-то увидеть и опознать «Паганеля» издалека или это какой-то сигнал? Кому? Через несколько дней мы доложили руководству, что полностью уверены в ненормальности американца: никакой актер не смог бы так долго разыгрывать эту бессмысленную комедию. Начальство поговорило с «Домом 2», однако оттуда последовало указание продолжить работу.
Так до отъезда «Паганеля» мы и гуляли по Москве. Ноги после такой работы действительно хотелось положить на подушку.
А камердинер одного из английских послов? Большую часть свободного времени он проводил в общественных туалетах. Он побывал, наверное, во всех московских уборных… Сыщики шли на различные уловки: заходили в туалет раньше камердинера, подглядывали за ним сквозь дырочки в дверях кабинок, сменяли друг друга, чтобы не мозолить ему глаза, но все напрасно. Англичанин торчал в каждом туалете минут по сорок, стоя, как правило, посередине «зала», и не торопясь осматривался, с видимым удовольствием вдыхая воздух. И все.
Он ни с кем не разговаривал, никем и ничем специально не интересовался. В туалете около Третьяковских ворот, известном в те времена как место свиданий «голубых», он ни на кого не обращал внимания. Все-таки в «Доме» решили проверить, не гомосексуалист ли наш камердинер. Иногда удавалось по его маршруту угадать, какой из своих любимых «клубов» он намеревается посетить. В этих случаях «линейщики» привозили туда — каждый раз другого — молодых людей различной внешности и по-разному одетых. Мы понимали, что это агенты из числа «голубых» и старались не пялить на них глаза, не смущать их. На вид они были вполне нормальные ребята. Но ничего из наших совместных стараний не вышло. Камердинер не проявил интереса ни к кому из них, а мы так и не разгадали секрета его загадочной привязанности к местам общественного пользования. Может быть, он просто был болен? Наблюдение за ним наконец прекратили. Насколько помнится, это был единственный по-настоящему ненавидимый сыщиками объект слежки…
Чтение и джаз — вот что давало передышку в те спрессованные дни, недели, месяцы, годы. Традиционная русская привычка к чтению появилась у меня в четыре года, когда мне подарили старинное издание Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» с потрясающими иллюстрациями. Это была первая прочитанная мной «настоящая» книга. С той поры я превратился в книжного червя и особенно полюбил фантастику.
Очень также любил Пушкина, гоголевские «Мертвые души» и сейчас перечитываю раз в два года — каждый раз нахожу что-то упущенное раньше. То же самое и с Булгаковым — такую литературу нельзя читать залпом, как я привык это делать. Есть писатели, книги которых вообще нельзя читать один раз. Потрясает до сих пор Станислав Лем, художественное совершенство его произведений и гениальный интеллект. Его философские труды поражают мощью и широтой мысли, необычностью и неожиданностью выводов. Лем громаден, как Бетховен. Иногда кажется, что многое из описанного им он где-то когда-то сначала увидел…
Фантастику пишут и читают не везде. Самые сильные «фантастические» страны — США, Англия, Польша и мы. Почти нет фантастики у немцев, венгров, чехов, болгар, у японцев она очень своя, японская.
Одно я понял: художественная литература — это прекрасный, завораживающий и притягательный мир, но мир нереальный, уводящий читателей далеко от подлинной жизни. Русская привычка и любовь к чтению носит отпечаток «эскапизма», стремления уйти от реалий серого, однообразного существования в непохожий на нас мир. Мир, где все время что-то происходит…
Джаз тогда любили все, хотя понимали, наверное, немногие. Часто любили «ногами», на танцах, или как любят всякий запретный плод — официоз джаз не одобрял с тех пор, как еще Горький называл его «музыкой толстых». Делались попытки «окультурить» джаз, придать ему русское, таджикское, узбекское звучание, отыскивались «общие корни», но получалась американская присядка или бразильский гопак. Джаз — музыка американцев, тут уж ничего не поделаешь.
Джазовый вокал помогал еще и в изучении языка — многие джазоманы знали наизусть массу песен — Рэй Чарлз, Элла Фитцджералд, Дорис Дэй, Махалия Джексон среди наших любителей джаза были известны, может быть, больше чем в США.
Я не пропускал, насколько позволяли учеба и работа, вечера в Архитектурном институте, где учился один из моих друзей, — на том же курсе учился и ставший теперь известным музыкантом Алексей Козлов, уже тогда блестяще владевший саксофоном и фортепиано. Собственно, вечера в МАРХИ были вечерами джаза, и там собирались его поклонники.
МАРХИ — один из самых элитных институтов, тамошняя молодежь в значительной мере была из привилегированных семей, часто наследовала профессию от родителей. Многие ребята и девушки красиво одевались, изумительно танцевали — было на что и на кого посмотреть, музыка была великолепная. До сих пор помню названия особенно модных тогда джазовых тем — «Человек с Марса», «Слишком молоды, чтобы ценить любовь», «Атласная куколка», «Поедем поездом «А»…
Да, это была совсем другая жизнь — студенческая, веселая, беззаботная по сравнению с моим замороченным и задерганным существованием. Я не завидовал этим ребятам, потому что, учась и работая, двигался вперед, имел определенные цели. Но именно в МАРХИ я впервые осознал разницу между теми, кто принадлежал к «истэблишменту», и теми, кто к нему не принадлежал. Я не имею в виду себя — себя-то я считал уже рыцарем плаща и кинжала вне какой-либо конкуренции со стороны штатских. Но среди празднично одетых, красивых, веселых студентов я видел и других — одетых более чем скромно, стесняющихся этого. Были ребята из приезжих, вечно занятые поисками приработка, цвет лица у некоторых из них был какой-то не такой — может быть, недоедали.
Мне же казалось, что я делаю головокружительную карьеру. По приходе в «наружку» я, как не служивший в армии, получил звание сержанта и младшим лейтенантом стал на третьем году службы.
О своем правовом положении сотрудники КГБ не то что не говорили — понятия не имели. Почти всем нам казалось, и не без оснований, что мы люди высокооплачиваемые, привилегированные, вдобавок к жалованью мы получали «обмундирование» — обувь, отрезы на пальто и костюмы, прекрасный поплин, из которого шили сорочки или блузки в мастерской на улице Жданова, ныне Рождественке. Давали и каракулевые воротники — неотъемлемую часть тогдашних зимних пальто. Мы, молодежь, большей частью тащили все это в скупку и на полученные деньги одевались посовременнее, а «старики» шили на заказ зимние пальто на ватине или на вате, с упомянутыми воротниками.
«Наружка» отличается от других подразделений и служб КГБ тем, что человек там всегда на виду у своих товарищей. Кто первым выпрыгивает из машины вслед за объектом слежки, бросившимся в проходной двор? Кто умело и дерзко водит машину, не боится садиться за руль в самых сложных оперативных и погодных условиях? Кто всегда готов подменить уставшего товарища, поменяться, если попросят, сменами?
«Сачки» и трусы там выявляются быстрее, чем где-либо еще, и жизнь их жалка и скучна.
****
В последние месяцы учебы я совершил серьезнейшую ошибку, о которой сожалею до сих пор.
Лингвистику в институте вел потрясающий преподаватель — Борис Андреевич Ольховиков, любивший свой предмет и глубоко знавший его. Он прекрасно читал лекции, но был очень строг. Зачеты и экзамены сдать ему было не просто. Я полюбил лингвистику, интересовался специальной литературой, в том числе по машинному переводу, о котором тогда только начинали говорить. Ольховиков, предметом которого интересовались сверх программы немногие, заметил меня и после заключительного экзамена пригласил в деканат. Там он предложил после окончания института поступить в очную или заочную аспирантуру на его кафедре и пообещал, что «дисер» подготовим за два года. Он был человек высочайшей организованности и твердого слова, я ни минуты не сомневался в том, что он выполнит свое обещание. Кроме того, все это было бы еще и интересно.
Но я смалодушничал! Мне казалось, что я бесконечно устал за эти шесть лет от учебы и работы и не в состоянии больше учиться чему-бы то ни было до конца своих дней. К тому времени я уже страдал хронической бессонницей, стал уставать на работе значительно сильнее, чем раньше. Не заладилась и семейная жизнь: сыну шел уже четвертый год, но я его почти не видел — с таким режимом работы и учебы домой я приходил только к ночи, свободные дни почти целиком уходили на подготовку к занятиям. Не сложились отношения с родителями жены, с ее братьями — хотя покойный тесть был старым чекистом, все братья тоже служили по линии КГБ или МВД, мы были настолько разные люди, что даже нормальное общение давалось с изрядным трудом.
Мысль о продолжении учебы никак не умещалась в моей голове. Сейчас понимаю, что, возьмись я за аспирантуру, — и появилось бы второе дыхание, «дожал бы». До сих пор глубоко сожалею о проявленной слабости.
Может быть, жизнь пошла бы по совершенно другой колее…
****
Вспоминается еще один случай в начале 60-х годов. Ребята из другого отдела, «работавшие» за французскими дипломатами, рассказывали, как один из них, военный разведчик, попался-таки в сети «Дома 2» и был приперт к стенке какими-то «компроматами». Француза «сняли», последовала вербовочная беседа, после которой обычно наблюдение, прослушивание, подслушивание, просвечивание удваиваются, чтобы иметь всю информацию о реакции вербуемого человека.
Рассказывали, что контрразведчики были удовлетворены беседой, но француз, вернувшись в посольство, позвонил жене, поговорил с ней коротко и пустил себе пулю в лоб. Интересно, что люди, рассказывавшие нам об этом, восхищались мужеством француза и негодовали по поводу слабой работы «линейщиков»…
Французское посольство (и резидентура) традиционно славились своими крепкими связями с нашей творческой интеллигенцией. Немцы были сильны научным аппаратом: кроме того, как нам рассказывали, 70 процентов немецких дипломатов в прошлом были военнопленными и отбыли в ГУЛАГе свои сроки. Они хорошо знали русский язык и даже такие слова, как «ватник», «пайка»… Много лет спустя я вышел из здания ВААПа проводить к машине одного из таких немцев. Был солнечный весенний день, и, посмотрев на небо, он сказал: «Ну вот, сегодня серая московская погода выдала нам пайку солнца…»
Американское посольство и разведка в Москве считались самыми сильными.
Даже судя по количеству провалов и ошибок — об успехах они, конечно, не трубили, было видно, что работают они с колоссальным напряжением, в полную силу, даже в «наружке» это знали хорошо.
****
Существовала еще одна система переподготовки сыщиков и разведчиков. Раз в несколько лет каждая бригада переводилась в специальный учебный отдел, где в течение месяца сыщики чередовали посещения лекций и занятий, просмотр специальных кинофильмов с работой за учебными объектами. Слежка за выпускниками «школы 101», Военно-дипломатической академии или разведчиками, уже поработавшими за рубежом, но обязанными пройти переподготовку, была основной работой учебного отдела. Работали и за нелегалами, тоже проходившими подготовку и переподготовку.
Утром каждая бригада получала инструктаж, где и когда можно будет принять под наблюдение объект слежки, его приметы, время окончания наблюдения. После возвращения в учебный отдел бригады «отписывались», как после работы за настоящим объектом. То же делали и наблюдаемые, чья задача была весьма нелегкой: нужно не только обнаружить слежку, но и зафиксировать приметы сыщиков, номера их машин, провести тайниковую операцию или моментальную встречу с передачей материала так, чтобы не попасть при этом в поле зрения «наружников».
Эти стажировки у нас назывались «играть в казаков-разбойников».
Военные почему-то имели преимущество перед сотрудниками ПГУ: в случае, если они расшифровывали наблюдение, они могли не проводить операций по связи и вообще уходить с маршрута.
Мы не любили работать с будущими разведчиками родом из азиатских республик, которых готовили, очевидно, для работы в восточных или африканских странах. Часто они под наблюдением метались, пытались оторваться от слежки, прыгая в вагоны метро или электрички перед закрытием дверей. Нам же разрешения на плотную, открытую слежку не давали, и мы, таким образом, оказывались в гораздо худшем по сравнению с объектами положении. Особенно «баловались» они в метро, и как-то раз я спросил у представителя ПГУ:
— Они, что, надеются, что к их приезду в странах пребывания будут построены метрополитены?
Бегунам сделали замечание, и они немного утихомирились.
Наша бригада «в общем и целом» проходила эти стажировки удовлетворительно. Запомнился один случай — и смех, и грех. Работали за молоденьким военным из ВДА — Военно-дипломатической академии, скромно одетым, невзрачным парнем.
Работа не заладилась с самого начала: паренек как-то разбросал нас всех, я остался с ним один (приехал на метро в Сокольники) и стал названивать по телефону дежурному по отделу, одновременно покрикивая в микрофон «воки-токи», чтобы подтянуть ребят. Военный сел в совершенно пустой автобус — я за ним не полез, был уверен, что уже намозолил ему глаза.
Подтянулся Петрович на машине, потом и остальные. Кто-то хорошо знал маршрут автобуса, на котором уехал наш паренек, и решили двумя машинами — одна по маршруту, другая по параллельным «просекам» — пройтись по Сокольникам. Двинулись не спеша, я был уверен, что мы расшифрованы и хотел просто «додержать» объект до положенного срока.
Через минуту мы увидели «военного» в конце одной из улиц и, не торопясь, пристроились к нему с нескольких сторон…
Мы не видели самой операции по изъятию тайника, но, проанализировав его маршрут и поведение, точно указали место — паренек на секунду мелькнул в поле зрения одного из нас, отходя от водоразборной колонки.
Последствия оказались совершенно неожиданными. Парень, оказывается, вообще не обнаружил за собой наблюдения и фактически «завалил» свою операцию и экзамен по НН. Нам рассказывали, он настолько расстроился, что заболел и попал в госпиталь! Мы попросили передать ему наше сочувствие, но — на войне, как на войне.
Победителями в этих играх чаще оказывались, конечно, учебные объекты. Нелегалы вообще творили, что хотели, и уходили от наблюдения почти в любой момент, скрытно проводили любые операции.
Наши инструкторы твердили, что это — учебная работа. Нарушения правил движения, опасные ситуации, не дай Бог, аварии должны быть исключены. С другой сторны — за «потери» объектов взыскивали чуть ли ни как в обычном, а не учебном отделе, после окончания переподготовки на каждого сотрудника составлялась характеристика, где указывалось количество потерь, выявленных операцией, короче говоря, все, что составляло суть переподготовки. Выглядеть плохо не хотели ни наши объекты, ни мы.
****
Дипломатия — это «искусство возможного». Оперативная работа в наше время — искусство невозможного.
Как и с чем подойти к незнакомому человеку, о котором известно одно — он ненавидит КГБ, его мать была репрессирована и не реабилитирована до сих пор? А подойти к нему необходимо, так как только он знает то-то и то-то, что необходимо знать и тебе…
Как раскрыться перед близким приятелем и попросить его оказать помощь в том и этом? Он уже много лет считает тебя сотрудником, например, ВААПа и не раз в твоей компании прохаживался насчет живодеров из КГБ…
Как вообще уговорить, убедить, заставить, наконец, человека заниматься чем-либо, нужным тебе, против его воли, в ущерб его времени, намерениям, убеждениям? То же самое если это иностранец?
Как организовать и провести наблюдение за профессиональным разведчиком, прекрасно владеющим приемами обнаружения и ухода от слежки, специалистом по тайниковым операциям? Как сфотографировать или сделать видеозапись закладки им тайника?
Как узнать, о чем говорили два разведчика на пустынном пляже? Они специально пришли туда нагишом посекретничать…
Как перехватить «радиовыстрел», когда информация неторопливо записывается на пленку или проволоку, а потом со страшной скоростью выводится в эфир и занимает по времени доли секунды? Как придумать и провести комбинацию, в результате которой противник вынужден будет «показать свои уши»?
Как во время зарубежной поездки спрятать встречи с нужными людьми среди многих других встреч и контактов?
Как вообще получать нужную информацию таким образом, чтобы это не выглядело получением информации?
При всем при этом желательно постоянно быть в хорошем настроении и заражать им других, не срываться на товарищей по работе, даже если работа не получается, жить в семье, как все «нормальные» люди, радоваться тому же, что и они, стоять в очередях, вызывать слесаря-сантехника, добиваться путевки в дом отдыха, ругаться и мириться с начальством, растить и воспитывать детей, находить и терять друзей, жениться, разводиться, хоронить близких, «доставать» что-нибудь интересное почитать или билеты на концерт…
****
Адюльтеры преследовались оперативной «общественностью» с животным восторгом. Жена Николая П., сотрудника нашего отдела, слюнтяя и болтуна, миниатюрная, красивая какой-то загадочной красотой (достаются же такие таким!), полюбила молодого здоровенного красавца, недавно пришедшего в соседний отдел из «девятки». Муж оказался не таким уж слюнтяем и выследил любовников.
На базах довольно много, но сдержанно судачили о происшедшем, а вот партсобрание в том отделе было, как рассказывали, отвратительным. Нашлись и расследователи, и обличители, и любопытные; они устроили мерзкое копание в чужом белье и насладились этим процессом под хмурое молчание большинства. Люди в то время уже менялись и заставить их «единогласно» проголосовать за то, что хотелось кучке демагогов и начальству, было невозможно. Так что в тот раз шайке «борцов за чистоту наших рядов» пришлось удовлетвориться «обсуждением». Всеобщего «порицания» не получилось.
На партийных собраниях начали «прокатывать» неавторитетных начальников. Было такое и у нас, когда в партийное бюро отделения не выбрали пришедшего с периферийной партийной работы Виктора Петровича К. Так «пролететь» было для него смерти подобно: помимо отношений с коллективом это прямо влияло и на отношения с начальством.
Не выбран — значит, не пользуется доверием оперсостава. До сих пор помню его темно-красное лицо в президиуме собрания и беспомощный взгляд в сторону «сборщика металлолома»… Кстати, Виктору Петровичу эта «прокатка» пошла на пользу — он стал повнимательнее к людям, перестал их учить тому, в чем сам не разбирался, зачастил в бригады, стал участвовать в сложных заданиях, помягчел и в конце концов убежал-таки из «наружки» заниматься где-то аналитической работой.
****
Наши сограждане все чаще становились объектами слежки. Хорошо помню одно из моих последних заданий в «семерке» — кстати, усиленную бригаду возглавлял не я, как ожидалось, а офицер из тех, кто всегда работал только «за советскими». Очень нудный в общении, он запомнился мне еще тем, что громко чавкал во время еды.
На кого же были брошены эти «усиленные силы»?
А на одного из СМОГистов, разболтанного, неряшливого паренька, поэта Леню Губанова. СМОГ — Самое Молодое Общество Гениев (да-да, не меньше) чем-то напугало людей из «Дома 2», они даже приезжали специально инструктировать нас, пугая особой ответственностью задания и агрессивностью объекта слежки…
В «Юности» мне попались стихи Губанова, запомнил строчку: «На меня фасоль набросила белое лассо»…
Леню обложили со всех сторон, была подключена техника, которая использовалась редчайше. Поэт выпивал с такими же творческими умами, как и он сам, потом женился, ходил в прокуратуру, куда его вызывали с подначки «Дома 2» по каким-то претензиям к творчеству. Правда, посматривал по сторонам: видимо, перспектива быть объектом слежки ему импонировала.
Кого защищал КГБ от Лени Губанова? Кто подписывал и утверждал эти задания? Некоторые из нас утешались тем, что это, мол, «не наше дело. Как говорится, Родина велела»…
Мы гордились принадлежностью к Ордену, стремились «повышать квалификацию», учились, добивались успеха, переживали провалы и срывы, но исключительной нашу профессию (я имею в виду не только НН) считали только самые ограниченные, их было сравнительно немного. Гораздо больше людей со склонностью к суперменству я встретил в «Доме 2», а еще больше видел таких среди сотрудников разведки.
Врач, учитель, строитель — вот основные, благороднейшие профессии, без которых невозможны ни человек, ни общество. В нашей несчастной стране случилось так, что это самые непрестижные, самые малооплачиваемые профессии. Результаты очевидны, повсеместны и разрушительны…
Даже низовая, вспомогательная работа спецслужб окружена ореолом тайны, и это делает ее интересной, иногда увлекательной. Пресной она становится, когда ею занимаешься слишком долго или всю жизнь.
Я и сейчас считаю, что каждый, приходящий на работу в спецслужбы, должен хлебнуть низовой оперативной работы: «наружка», слуховой контроль, различные области технического обеспечения прекрасно «полируют кровь», воспитывают чувство ответственности за порученную работу, привычку уважать товарищей и многое другое. Надолго в этих службах следует оставаться тем, кому они пришлись по душе (таких немало), тем, кто по тем или иным причинам не хочет или не в состоянии одновременно учиться и работать, что, конечно, страшно тяжело, тем, кто просто не хочет карабкаться к чему-то более интересному по служебной лестнице.
****
Ткач был малорослый, коренастый, смуглый, с некрасивым, каким-то покореженным лицом и славной, открытой улыбкой. С тех пор как он привел меня на «кукушку», мы звали друг друга «крестный» и «крестник». Мы ни разу не работали в одной бригаде, встречались только в отделе или на базах, но почему-то многие старики (они казались нам стариками) в моей памяти сливаются с Ткачом. Это не значит, что все они были на одно лицо, нет. Среди них были типажи просто графской внешности и повадок, вальяжные, степенные, часто более напоминавшие объектов слежки, чем настоящие объекты.
Лица многих хранили отпечатки недоедания, войны, болезней, тяжелого физического труда. Большинству уже было поздно куда-то стремиться, «желать странного»; они мечтали о пенсии; весной те, у кого были «имения» за городом или в деревне, часами судачили — что сажать, как копать, где брать воду…
К концу моей службы в «наружке» большинство из них не претендовало даже на должность начальника опергруппы: молодежь набиралась опыта и умений, теснила их на вторые роли. И то: многие из них никогда не имели возможности учиться по-настоящему, были малограмотны и с трудом справлялись с работой, требовавшей быстрой реакции и молодых крепких нервов, физической выносливости. Почти никто из них не хотел садиться за руль и одним этим уже становился в некоторой мере «балластом» для мобильных, энергичных опергрупп, где все сыщики могли и заменить водителя, и побегать в пешем строю.
В середине 60-х годов тогдашний начальник «семерки», генерал Алидин, выхлопотал для своих сотрудников большое послабление — женщинам и сотрудникам охраны посольств год службы засчитывался за полтора.
Особенно все радовались за женщин — как уже говорилось, эта служба совсем не для них, но и обойтись без них невозможно. Интересно, каких девушек берут там на работу сейчас? Где те, с кем мне приходилось работать и дружить?
****
Я заканчивал учебу, наступили выпускные экзамены. Группы работяг-вечерников соревновались между собой за лучшие результаты; наша оказалась лучшей на потоке, мы сдавали успешнее других. Был скромный институтский вечер, потом наша группа устроила застолье в каком-то небогатом ресторане, но все это запомнилось плохо — внутри меня все орало: одолел, справился, вытянул!
Товарищи дудели в ухо: «Ну, теперь не продешеви, не хватайся сразу за что предложат, выжидай, присматривайся…»
Какое там… Мне было 28, связей никаких, и надежд поубавилось. Требовалось еще какое-то время, чтобы стряхнуть с себя оцепенение и заморочку долгих лет учебы и работы. Выжидать было нечего, присматриваться не к чему. Я просто продолжал работать и наслаждался появившейся возможностью больше бывать дома, читать, что хотелось, а не то, что было нужно для учебы.
В то время я начал впервые задумываться о многомерности (я называл это многомирностью) человеческого существования. Работа, учеба, литература, музыка, путешествия, секс, автомобилизм, гастрономия, языки — все это часто называют по отдельности «занятия», «хобби». Но в зависимости от того, насколько глубоко человек погружается в них, насколько он в них ориентируется, настолько они становятся именно мирами. Перелистывая эти миры, как страницы захватывающей книги, человек делает свою жизнь все интереснее и интереснее.
С годами человек обретает без труда и еще один мир — мир воспоминаний. Это совершенно особый мир, главное в том, что этот мир у человека невозможно отнять.
Миры надо осваивать с ранней молодости и ни в коем случае не давать себе расслабляться: выучив один язык, принимайся за другой. На изучение «нормального» европейского языка с прохладцей уходит в среднем два года — к наступлению настоящей зрелости молодой человек может прилично, не для анкеты («читаю со словарем») говорить и читать на трех-четырех языках, слушать радио, понимать слова песен. Никакая пропаганда такому человеку не «запудрит» мозги.
Каждый язык — это философия, менталитет, образ жизни народа.
Языковые миры изысканны и глубоки. Главное, они открывают и другие литературы…
****
Подавляющее большинство тех, кто приходит в спецслужбы на оперативную работу, остаются на ней до конца: до пенсии или до смерти. Эти люди, иногда романтики, иногда прагматики, считают, что работать в аналитических подразделениях, вычислительных центрах, бухгалтерии или в библиотеках КГБ просто не очень прилично: зачастую сотрудники этих служб — хотя они в этом не виноваты — получают такие же деньги, звания, так же растут по должности, как и оперативники, но остаются штатскими. Один из моих приятелей как-то сгоряча назвал эти службы «нарывами на стройном теле КГБ», и шутка долго ходила по «семерке». Считалось, что те, кто там работает, должны завидовать оперативникам, рваться на оперативную работу, по крайней мере, мечтать о ней… На самом деле они, кажется, потихоньку презирали нас, оперов…
Была и другая, малочисленная, правда, группа оперативников, которые, хлебнув «поэтики» оперработы, перебирались на аналитическую или преподавательскую работу. В ВШ многие не только получали высшее образование, но и — молодцы — защищали диссертации по различным шпионским наукам. Думаю, что это было гораздо проще, чем на гражданке — все «секретно» и «сов. секретно», темы закрытые, оппоненты — свои ребята. Старые опытные «оперы» посмеивались над «учеными», но никто их не осуждал. Да и со временем становилось все яснее и яснее, что КГБ нужны свои кандидаты и доктора наук, разведка и контрразведка менялись на глазах, обрастали новой техникой, накапливали материалы, которые действительно нуждались в анализе.
****
Вот еще несколько реалий подготовки… нет, не к «всенародным праздникам», а к их проведению. Я попал как-то на дежурство в здании ГУМа, за пару дней до праздника. Такие дежурства считались весьма специальными, включали, конечно, обычные «зачистки» всех прилегавших к Красной площади зданий на предмет обнаружения взрывных устройств, листовок и устройств, разбрасывающих листовки, — да, бывало и такое в одной из Прибалтийских республик. Устройство установили на верхушке какого-то столба, и в нужный момент оно засыпало праздновавших бумажной листвой…
Но самое неожиданное — страшноватое — я увидел внизу, на первом этаже ГУМа. Там было собрано большое количество солдат каких-то специальных войск — вроде нынешнего спецназа. Все — здоровенные, румяные, в добротном свежем обмундировании, с новенькими автоматами Калашникова. Я обратил внимание на то, что штыки были примкнуты, а стволы заботливо закрыты пластмассовыми пробочками. Один из коллег, дежуривших вместе со мной, удивился не меньше, мы не понимали, что делали солдаты в ГУМе, пока не увидели «репетицию».
Она началась внезапно, нас не предупредили о ней. В это время мы были на втором или третьем этаже здания у окон, выходивших на площадь.
Вдруг, по какому-то сигналу, все двери ГУМа, выходившие на площадь, распахнулись, и оттуда с нечеловеческой скоростью, гремя тяжелыми сапогами и оружием, стали выбегать шеренги солдат. Каждый держал автомат с примкнутым штыком прямо перед собой, почти упираясь им в спину бежавшего впереди. Они бежали так, что было понятно — остановить их не могла никакая преграда. Они образовывали сплошную цепочку: человек — автомат со штыком — человек — автомат со штыком— человек… Шеренги двигались параллельно друг другу и в какие-то секунды разрезали площадь на квадраты. Тут же замерли, повинуясь неслышной нам команде, повернулись «кругом» и, взяв оружие «на ремень», шагом вернулись в ГУМ. Эти пробежки повторялись несколько раз — наверное, подсчитывалось самое короткое время, за какое праздничные колонны трудящихся можно было разрезать на ломти, обездвижить и приступить к поискам возможных террористов…
Далеко не каждый день на работе происходило что-нибудь интересное: из одинаковых, монотонных смен складывались недели, месяцы, годы. Мы то вели наблюдение за туристами, то переключались на дипломатов — мелькали американцы, французы, канадцы, англичане, то гонялись за представителями авиакомпаний, то — особенно перед каждым партийным съездом — вцеплялись в журналистов.
Видимо, высшее руководство недоумевало — как это за неделю до съезда в ведущих западных газетах и журналах появлялись и повестки, и основные тезисы докладов, и многое другое. Журналистов подозревали в шпионаже, в связях с носителями секретной информации и черт знает в чем еще.
Много лет спустя один старый «девяточник» в санатории рассказывал мне, как суперпопулярная наша кинозвезда, проведя несколько уютных часов с дряхлеющим генсеком, после этого на полдня отправлялась прямо в американское посольство…
Сын Председателя Верховного Совета, известный «борец с зеленым змием», в полночь-заполночь звонил приятелю — сотруднику того же посольства и сетовал, что в это время невозможно купить спиртного, а тут как раз «хорошо сидим»… Следовало приглашение немедленно приезжать, и «хорошо сидевшие» перемещались в квартиру гостеприимного американца…
«Да не может быть!» — скажете вы. Могло, может… При нашей драконовской секретности на все и вся тысячи тотально-глобальных запретов, однако, распространялись и распространяются только на «широчайшие слои граждан». Верхушка неприкасаема и недосягаема для спецслужб: номенклатура давно позаботилась об этом. Только в исключительных случаях, когда «затереть» преступление невозможно или существует необходимость «столкнуть с крыльца» кого-нибудь, спецслужбы берут преступника за горло. Да и то: арест упоминавшегося мной «Трианона» проводили несколько генералов КГБ, один из которых был асом разведки и контрразведки. И вот, практически уже в руках этих суперспецов, «Трианон» кончает жизнь самоубийством…
Для себя я сделал вывод: ему дали возможность тихо уйти со сцены, так как нити потянулись бы ой как высоко, если бы он «запел». А деваться было некуда — «запел» бы.
Вообще, судя по разоблаченным и схваченным, бежавшим на Запад предателям из числа сотрудников КГБ, агентам западных спецслужб, американцы обеспечили себе возможность собирать информацию на самой верхушке нашего «монолитного» истэблишмента. И дело здесь, как мне кажется, вовсе не в врожденной испорченности этих людей на почве красивой номенклатурной жизни. Думаю, их психика просто не выдерживала чудовищного несоответствия между тем, что их отцы врали народу с трибун, и тем, что они же говорили за семейным столом.
Как в старом анекдоте: «Где тут у вас доктор «ухо — глаз»?» — «Вам нужен, наверное, доктор «ухо — горло — нос»?» — «Да нет, «ухо — глаз»». — «А в чем дело?» — «Да вот, слышу одно, а вижу другое…»
Все прежние и нынешние наши предводители принадлежат к совершенно специфической группе людей. Практически никто из них никогда ничему толком не учился и ничем не интересовался, кроме как строительством собственной карьеры. Никто из них не может промолвить ни одного толкового слова о музыке, литературе, живописи, театре. Ложь, что они являются авторами книг и даже собраний сочинений, — они и писать-то грамотно не в состоянии.
Лишь в одном из своих основных занятий — лжи — они достигли невероятных вершин. Рейган как-то опрометчиво назвал СССР «Империей зла», но он ошибся, хотя и ненамного. Мы — жители империи лжи, которой пропитано все наше существование от рождения до смерти.
Легкость, с которой они предают то, за что вчера рвали рубахи на своих номенклатурных грудях, потрясает многих. Эти многие просто не представляют себе, что потеряют и во что превратятся все эти власть имущие, отними у них «членовозы», дачи, охрану, царские выезды за рубеж и т. д. Утрата власти для них подобна смерти, и они продолжают врать, теперь уже по-новому — «демократия», «рыночные отношения», «реформы», — любые жупелы годны ради сохранения этой власти. Сейчас они понимают, что теперь только с помощью западных впрыскиваний эту власть можно будет сохранить, и готовы выпрашивать любые кредиты под любые обещания и проценты, твердо зная, что расплачиваться придется не им: запроданы наши, не их, дети, внуки и правнуки.
О себе они на этот раз позаботились наверняка: под завывания о «золоте КПСС» создаются и вывозятся за рубеж капиталы, которые обеспечат (и уже обеспечивают) нашим сладкопевцам безбедную жизнь далеко отсюда, а их детишкам — места в престижнейших университетах и колледжах.
Общество, пронизанное ложью и лицемерием, нищетой и нуворишеством, представляет собой благодатнейшую почву для предательств любых размеров и масштабов. Считавшееся всегда закрытым, железнозанавешенным, оно на самом деле было видно насквозь тем, кто по роду службы или работы обязан был знать правду о нашей стране. Нехватки в перебежчиках, предателях не было никогда за 70 с лишним лет существования СССР. ВЧК — ГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ отслеживали и отлавливали лишь небольшую их часть, прохлопывая при этом изменников в собственных рядах.
Неужели предательство и изменничество сидят так глубоко в русском сознании? Первым невозвращенцем был Иван Курбский, потом не пожелали вернуться многие из молодых дворян, посланных Петром на учебу в Европу… В каждой книге, каждом фильме о войне фигурирует обязательный предатель. В каждой книге или фильме о коллективизации и индустриализации — вредитель. Во многих фильмах времен «холодной войны» — шпионы, опять же предатели, либо завербованные немцами во время войны, либо американцами — после.
В действительности же бежали помощники вождей, министры и их заместители, послы, разведчики, балерины и писатели, нефтяники и моряки, дипломаты, туристы, пограничники, летчики и Бог знает кто еще. Десятки, может быть, сотни тысяч за 70 лет. Кажется, если не считать исхода евреев из древнего Египта, ни из какой другой страны никогда не бежало, не мечтало убежать или хотя бы уехать на время столько ее граждан. Можно было бы сослаться на какие-то национальные черты, но примерно та же картина наблюдалась и в других «социалистических» странах и до сих пор — на Кубе.
****
Под монотонное бормотанье о борьбе за мир и коварные происки поджигателей войны наша страна, как теперь известно, накопила чудовищные, уникальные по объему количества вооружений. Наш ВПК и военные, руководство которых хорошо помнило начало войны с немцами, справедливо полагали, что ежесекундная готовность к апокалипсису искупает любые затраты, любые лишения народа, который, кстати, никто и не спрашивал — сколько и чего запасать за его же счет. В нашем же политически полусонном сознании военная опасность представлялась достаточно аморфной и не столь уж вероятной — молодость подкоркой отбрасывала возможность атомной смерти.
…Ранним солнечным утром я не спеша ехал зачем-то в Шереметьево, полностью погрузившись, как говорилось в каком-то рекламном тексте «Дженерал моторса», в приятный процесс управления мощной машиной».
И вдруг мир взорвался нестерпимым блеском, я почти ослеп от света. Рефлекторно принял вправо, остановил машину и, ничего не видя, выключил почему-то зажигание. Я лег на сиденье и стал ждать ударной волны, профессионально отсчитывая секунды. Я недоумевал — что же эти сволочи натворили, почему война все-таки начинается, я же так далеко от дома и ничем не смогу помочь жене и сыну? Накрыта ли Москва? Сбросит ли меня с дороги?
И ничего не случилось. Не успев толком испугаться, я, лежа на сиденье, посмотрел в боковые стекла и увидел, что небо по-прежнему голубое, а ударной волны все нет и нет. Сел, осмотрелся. Машины проезжали мимо меня без признаков паники или спешки, я только ничего не видел через лобовое стекло — оно было покрыто сплошной сеткой трещин.
Видимо, камешек от впереди идущей машины ударил в него, и безосколочное стекло мгновенно превратилось почти в соль — солнечный свет преломился в трещинах и ударил по моим глазам с тысячекратной силой. Я обернул руку тряпкой, найденной в багажнике, проковырял отверстие, через которое мог с грехом пополам видеть дорогу, и поехал дальше. Интересно, что этот случай был мною почти сразу же забыт.
Осенью 1967 года поползли слухи, вскоре подтвердившиеся, об организации в КГБ нового, 5-го Управления. Неофициально его называли «идеологическим» или «Управлением по борьбе с идеологической диверсией». Говорили о том, что общественные науки, культура, искусство будут взяты под жесткий контрразведывательный контроль. Некоторые линии работы и «объекты оперативного обслуживания» 2-го Главного управления должны были перейти в ведение новой службы. Сущность происходившего нам была не вполне ясна, глубинные процессы, протекавшие в СССР и странах «народной демократии» (еще один термин-урод) осознавались весьма туманно. Да и не только нами…
Поговаривали о том, что набирать состав нового управления будут только из числа сотрудников КГБ и ни в коем случае не с «улицы»: дескать, нужны будут только особо проверенные, «идеологически закаленные» кадры.
Мои товарищи по «семерке» и я считали, что «топтунов» в новое управление не возьмут. Почему-то имела место всеобщая уверенность в том, что 5-е Управление будет возвышаться над КГБ и даже проверять лояльность оперсостава других управлений. Даже несколько лет спустя, встречаясь с сотрудниками разведки и контрразведки, я слышал от них версии на этот счет: они считали, что «пятерка» ведет оперативную проверку личного состава КГБ на предмет пригодности к дальнейшей службе и верности идеалам…
Не помню сейчас — кто из руководства, но помню, что нехотя и сквозь зубы, сказал, что со мной хотят поговорить о возможности перехода в 5-е Управление, и дал телефон, по которому я должен позвонить.
Я обсудил эту новость с несколькими близкими товарищами. В основном все повторили то, что я уже слышал: «Не торопись, не мельчи, потерпи. Шесть лет вкалывал как негр, с твоей работоспособностью и знаниями надо ждать возможности перехода в ПГУ — и точка».
Но я хорошо знал, что ни партком, ни начальство ни на какую заведомо интересную работу меня не пустят. Вообще к тому времени сложилась довольно забавная ситуация. Я не конфликтовал с начальством, не нарушал дисциплину, не злоупотреблял спиртным, не имел промахов по работе. Я был одним из весьма неплохих сотрудников: инициативный, умелый, опытный, пользовался доверием и имел некоторый авторитет у подчиненных мне пяти-шести человек, да и не только у них. В семье в то время было внешне все нормально, рос сын, жена успешно работала.
Но я был не такой, как и некоторые мои близкие друзья. В чем это заключалось, мне трудно объяснить. Мы «не то» читали, «не то» смотрели в кино, «не так» одевались, «не о том» говорили и «не над тем» смеялись, не ели глазами начальство и гнули свою линию на партийных собраниях. Она, линия, тоже была «не та».
Кем же я был в то время? 28 лет, девять лет службы в «наружке», за спиной шесть лет учебы в ИНЯЗе и окончание его в числе лучших десяти студентов-вечерников, отец семейства. Старший лейтенант, оперуполномоченный — почти самая низкая должность в табеле о рангах КГБ. Карьера меня не беспокоила — хотелось интересной работы. Или хотя бы более интересной, так как к тому времени романтика ночного сыска и автомобильных гонок улетучилась окончательно. Реальность же не оставляла никаких сомнений — нужно было уходить, и как можно скорее. «Подбивая» итоги своей службы, я пришел к выводу, что из девяти лет в «семерке» примерно пять-шесть были просто потеряны.
Итак, в назначенный день я позвонил по указанному телефону и спросил Лебедева. «Это я», — услышал я мягкий, слегка заикавшийся голос, и мы договорились о встрече в его кабинете 369 в «Доме 2».
Без всякого трепета на этот раз я пришел в знакомое здание и поднялся в кабинет, который нашел не без некоторого труда, к Лебедеву Алексею Николаевичу, начальнику 1-го отделения 1-го отдела только что организованного 5-го Управления. А. Н. был худощав, с узким лицом, гладко зачесанными назад волосами, слегка насмешливыми глазами, в красивом бежевом костюме. Он беспрерывно курил и то стряхивал, то сдувал со стола пепел, падавший на бумаги.
Предложив мне присесть, он прикурил от окурка новую сигарету и сказал:
— Евгений Г-григорьевич, мы рассматриваем вашу кандидатуру на п-предмет работы в нашем отделении. Как вы посмотрите на это?
— Пока искоса, Алексей Николаевич. Расскажите, пожалуйста, чем заниматься-то вы здесь собираетесь? Управление новое, никто о нем ничего не знает. Что, например, Вы планируете мне поручить?
— Ну, п-прежде всего это работа аг-гентурная, она заведомо интереснее того, чем вы сейчас занимаетесь, правда? У нас в отделении будут участки работы по контрразведывательному обеспечению медицины, радио и телевидения, некоторых общественных наук, общественно-культурных связей. Соседнее отделение будет заниматься творческими объединениями — писатели, художники, композиторы. И е-еще одно отделение — разработка уже выявленных антисоветчиков.
В принципе для меня все это было «темным лесом»: об агентурной работе я знал в объеме своей трехмесячной переподготовки в ВШ (как оказалось потом, более чем достаточно для начала), «контрразведывательное обеспечение науки» вообще показалось абракадаброй.
— Ну не науки, конечно, — пояснил Лебедев. — Объектами оперативного обслуживания будут институты Академии наук СССР и соответственно — линии работы. Н-ну, например, вот скоро по линии Института истории приезжает группа английских историков. Они будут участвовать в семинаре наших историков на тему о Второй мировой войне, потом поедут по стране. В-вот нам и интересно узнать, каковы их научные позиции по этим вопросам, о чем они говорят со своими советскими коллегами, кого-нибудь из вас мы включим в состав сопровождающих, чтобы работать с англичанами в качестве, скажем, переводчика. Понятно? В конце концов, Ж-женя, — неожиданно назвал он меня по имени, — ты ведь уже девять лет «топаешь». Ну сколько можно еще, неужели не надоело?
Это был запрещенный прием, вернее, даже два: во-первых, по имени, во-вторых, — «топаешь». А. Н. были нужны люди, я ему сразу понравился, и он использовал свой огромный опыт агентуриста в беседе со мной — я узнал об этом позже от него же. Ко времени нашего знакомства он уже имел большой стаж работы в КГБ — служил на заставе, в «погранцах», как их называли в Комитете, работал в ПГУ и занимал должность консула в Иране (хорошо знал фарси), потом долго служил во 2-м Главке на МИДовской линии — говорили, что не очень удачно.
Я обещал подумать и через короткое время позвонить и сообщить о своем решении, на чем мы и распрощались.
Думать было нечего. Лебедев мне тоже понравился своей интеллигентностью, непохожестью на большинство «семерочных» начальников. О работе он практически не рассказал мне ничего, но подпитанное научной фантастикой воображение уже рисовало мне меня, неторопливо потягивавшего виски с английскими историками в купе первого класса (что такое СВ, я тогда не знал), разоблачавшего их коварные происки по компрометации советской исторической науки.
Но больше всего хотелось перемен. Разведка, контрразведка — это уже не имело принципиального значения. В конце концов, впереди много лет работы, может быть, «разведмечта» еще сбудется. А тут, думалось мне, наконец наступит относительно нормальный режим, работа без смен, может быть, упорядоченный, даже солидный образ жизни…
Я поделился своими соображениями с женой, с несколькими близкими друзьями и, выслушав прежние советы и наставления, позвонил Лебедеву и сообщил о своем согласии.
— Ну и х-хорошо, приходи з-завтра к 11 часам, покажу тебя руководству отдела.
На следующий день, когда я пришел к Алексею Николаевичу, у него на столе уже лежало мое личное дело, и, захватив его с собой, он повел меня к заместителю начальника отдела (начальник еще не был назначен), Виктору Тимофеевичу Гостеву. Как только мы вошли в кабинет, волосы у меня на загривке шевельнулись: я сразу понял, что хозяин кабинета — либо с комсомольской, либо с партийной работы, и не ошибся-таки. Гостев пришел из ЦК ВЛКСМ, где руководил Общим отделом (до сих пор так и не представляю себе, что бы это могло значить — Общий отдел?), причем пришел как раз в 7-й отдел ВГУ, из которого вместе с группой сотрудников «перетек» в 5-е Управление.
Маленького роста, крепенький, он поднялся из-за стола, поздоровался со мной и предложил нам сесть в два низеньких кресла, стоявших у приставного столика. Мне показалось, что эти креслица были поставлены там не без умысла: когда Алексей Николаевич уселся в одно из них, его голова оказалась как раз на уровне груди Гостева. «Когда дают линованную бумагу, пиши поперек», — вспомнилось мне откуда-то, и я уселся на один из стульев, стоявших напротив стола, за которым сидел «шеф». Лебедев с интересом посмотрел на меня и улыбнулся одной стороной лица, не видной начальству.
В ожидании приказа о переводе прошло две-три недели, потом я ходил по отделу с обходным листом, сдавал числившуюся за мной технику, документы, прощался с друзьями и товарищами. Прошелся по второму этажу — кабинеты руководства отдела, машбюро, зал для собраний с неизменным набором фотографий членов Политбюро (Боже, какие лица! Ламброзо увял бы от такой коллекции…), стенной газетой «Дзержинец» и стареньким пианино в углу. Высокие гофрированные потолки — наверное, в прошлом это было какое-то складское помещение. Стены традиционного зеленого цвета.
Я вспомнил, как заполнял многочисленные анкеты в тихом особнячке недалеко от Самотечной площади. Особняк был старый, сейчас в таких размещают маленькие посольства. Я обратил внимание на то, что высокие красивые двери были, как и стены, выкрашены в буро-коричневый цвет, причем краской небрежно мазали и по медным старинным ручкам, и по выключателям, и по проложенным поверх стен проводам. Основную, как сейчас помню, на 18 листах анкету я заполнял наверху, в мансарде. Оглядевшись, я решил удовлетворить свое любопытство и, достав перочинный нож, стал аккуратно, слой за слоем, снимать краску с дверного наличника. Через несколько минут я убедился в правильности своих предположений: из-под краски выглянуло настоящее дерево — изумительного тона темно-вишневый цвет…
Зашел в комнату технарей и поболтал с ними. Один из них, брат известного спортивного комментатора, впоследствии стал большим начальником, другой уволился из КГБ, и я не раз встречал в прессе его хроникальные фотографии — он был блестящим спецом в этой области.
Заглянул к дежурному по отделу — обычный треск телефонов, журнал для записей местонахождения объектов слежки — каждая бригада сообщает о перемещениях «клиентов» и регулярно выходит на связь либо по телефону, либо по радио. Там же в ячейках лежат удостоверения МУРа и КГБ, которые после окончания работы сдаются дежурному — домой их брать можно только в исключительных случаях. Там же хранится и оружие — в специальном сейфе десятка три пистолетов и патроны к ним. В дежурные обычно попадают сотрудники НН, по возрасту и выслуге уже готовые «к выходу» на пенсию.
Да, все это оставалось позади, и возврата быть не могло.
Летний зной под жестяной крышей очередного наблюдательного пункта, дождливая ночь, промокший насквозь плащ и маячащая впереди фигура «клиента», визг терзаемых на вираже покрышек, бессонные ночи и холодные, одинокие утра, когда все еще спят и долго еще будут спать. «Ох, рано встает охрана…» Долгая, на метро и трамвае, дорога в институт и обратно, занятия на кухне коммуналки, экзамены, бессонница, ставшая привычной, потрескивающая рация и свист тональных сигналов в ней, «травля» на базах и глаза, покрасневшие от оптики ночного видения, возвращение домой под утро промозглым осенним днем, инструктажи перед выходом на пост и писанина после окончания смены, надутые физиономии в парткоме Управления, череда быстро сменявших друг друга начальников, изредка хороших, но чаще — плохих, лица немногих друзей и многих товарищей — девять лет жизни.
Я в последний раз подошел к двери отдела. Изнутри она открывалась не как снаружи, не надо было… потом… Нужно было просто…
Я вышел и плотно закрыл за собой дверь «семерки».
НАДЗИРАЯ
Контрразведка — это институированное недоверие…
Контрразведка — это институированное недоверие…
Из статьи о Джеймсе Хесусе Энглтоне, начальнике контрразведки ЦРУ21 сентября 1967 года я вышел на работу в 1-е отделение 1-го отдела 5-го Управления. Вошел в «Дом», поднялся на пятый этаж к Лебедеву.
Вскоре я заметил, что стучать в дверь здесь не принято: начальству всегда или почти всегда звонят, спрашивая разрешения зайти, но не стучат никогда.
«Пойдем, отведу к ребятам». Пришли в комнату 547, в которой мне предстояло трудиться. В комнате было трое. Лебедев представил меня, продребезжал в мой адрес что-то любезное, сказал заглянуть через полчаса и, окутанный табачным дымом, удалился. Я хорошо помню всех троих и сейчас.
Федор Иванович К., темноволосый, с большими залысинами, живыми цепкими глазами, хорошо сложен, широкие запястья — признак физической силы. Видно сразу, что неглуп и непрост, даже хитер. Сдержан, ироничен, пытается выглядеть интеллигентнее, чем есть на самом деле, и не без успеха: дает о себе знать определенная внутренняя культура. Не употребляет бранных выражений, опрятно одет, свежая сорочка. Участок работы — культурно-общественный обмен (я понятия не имел, что это такое, но именно «обмен» мне и предстояло унаследовать от Федора Ивановича; как крупно мне повезло, я, конечно, не понимал).
Анатолий Сергеевич С. Позже я узнал, что иначе, чем «Черный» его в Управлении за глаза и не звали: черноволосый, смуглый, весь какой-то кубический, налитой огромной физической силой, которая так и прет из него. Движения быстрые, ходит почти бегом, шепелявит, речь малограмотная, манеры жуткие — может в любую минуту почесать самые неожиданные места, беспрестанно цвыкает зубом, всегда лезет посмотреть через плечо пишущего или читающего, вмешивается в любой разговор, перебивая говорящих и только что не расталкивая их руками. По телефону обычно орет, орать любит, и работать в одном с ним кабинете очень нелегко. Мгновенно тишает и вообще меняется в присутствии любого начальства — черта, которая меня сразу насторожила, и не зря, ох как не зря! Участок работы — спорт.
Владимир Иванович К. — здоровенный, почти лысый, лицо и движения, как у крупной человекообразной обезьяны. Добрый, всегда готов расплыться в улыбке, в разговорах часто поминает Вену, где работал недолго по линии ПГУ, из которого, судя по всему, его «попросили». Тоже шумный, но не скандальный. Судя по всему, из интеллигентной семьи, брат — довольно известный музыкант из Большого. Единственный из работающих в комнате немного говорит по-английски, но мои пижонские попытки «потарахтеть на языке» не поддерживает — стесняется. В одежде и манерах признаки некоторой потрепанности. Участок работы — некоторые из институтов общественных наук.
Все трое — выходцы из 2-го Главного управления, которое, как и другие подразделения КГБ, «делегировало» часть своих сотрудников в новое 5-е. Мои соседи по комнате принадлежали к старшему поколению чекистов, у каждого 15–17-летний стаж работы в КГБ, они считались грамотными агентуристами. Для таких, как они, перевод в новое Управление означал повышение по службе и какие-то перспективы на будущее, а для таких, как я, — новичков в агентурной работе — вообще начиналась новая жизнь.
Итак, участок работы агентуриста-контрразведчика, мой «культурно-общественный канал» представлял собой вот что:
Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, где работало около 200 человек в Москве и почти столько же в многочисленных представительствах за рубежом на должностях от советника посольства до зав. библиотекой или фильмотекой в местном Доме науки и культуры СССР. Ежегодный приезд иностранцев — 500–700 человек.
Курсы русского языка ССОДа при МГУ: ежегодно там учились примерно 50 человек из различных стран мира, на учебу их направляли местные общества дружбы с СССР, иногда компартии.
Такие же курсы, но летние, трехмесячные, при МАДИ, тоже по линии ССОДа, куда приезжало человек по 300 ежегодно.
Комитет защиты мира — сотрудников человек 50, приезд иностранцев небольшой — человек 200 в год.
Комитет советских женщин: сотрудников человек 20, приезд иностранцев — не более сотни в год, считая участников различных форумов, съездов и прочее.
Институт государства и права АН СССР — около 200 сотрудников и совсем пустяковый выезд-приезд.
Что требовалось от меня и как я должен был вести контрразведывательную работу на этом не самом «остром» и важном участке?
Я должен был установить (или получить в наследство) «официальные контакты» с представителями руководства этих ведомств на предмет обмена с ними (читай — получения от них) нужной мне информации. Чем доверительнее такие контакты, тем большим влиянием в «обслуживаемом» ведомстве обладает куратор КГБ. Как руководители, так и кураторы — люди разные и по характерам, и по взглядам, порой притираются друг к другу годами, и по-настоящему крепкие рабочие отношения складываются нечасто: руководители учреждений и ведомств — люди номенклатурные, и чаще всего опасаться КГБ им нечего, а иные не прочь и поэпатировать некогда страшную организацию. В отместку уж очень озлобленный куратор может накатать «телегу» в ЦК, а его начальство эту «телегу» поддержит и доложит в соответствующий отдел Центрального Комитета, откуда может посыпаться и «град из кирпичей».
Официальные контакты необходимы и с руководителями подразделений ведомства — в ССОДе это были заведующие территориальными и другими отделами: кадров, выездов и прочими. КГБ интересовалось выездами советских граждан за рубеж почти столько же, сколько и приездами иностранцев в страну — не только с намерением кого-то на чем-либо поймать, но и стремясь получить от выезжавших информацию самого разного рода. Контакты разной степени доверительности устанавливались со многими выезжавшими.
****
С каким бы недоверием или даже пренебрежением ни относились штатские или спецслужбисты к многочисленным «экшн» фильмам и книгам, непосвященные именно из них черпают представление о работе спецслужб как о непрерывной цепи операций, гонок, стрельбы и т. д. Все эти атрибуты тоже, конечно, имеют место, но главная цель — Знание. Знание противника, методов его работы, знание той или иной страны и ее политико-экономических реалий, а также прогноз на завтра, послезавтра. Знание сколько-нибудь известных людей во всех областях жизни своей или чужой страны — их привычки, образ жизни, планы, карьера, связи, любые данные, которые могут в определенный момент быть использованы либо для компрометации этих людей, либо для оказания на них нужного влияния, либо для выдвижения их на нужные кому-то рубежи. Такие знания добывают и копят годами, десятилетиями. Их подновляют и пересматривают, подгоняют под сегодняшнюю или послезавтрашнюю обстановку, видоизменяют, чтобы сделать кому-то приятными или чтобы кого-нибудь напугать. Главное — иметь их. Они стекаются к вершинам спецслужб из периферийных точек страны, с погранзастав, из зарубежных резидентур и радиоперехватов, их получают от своей, местной и зарубежной, агентуры, из дружественных спецслужб и от людей, внедренных в спецслужбы противника. Профессионалы всегда пользуются термином «информация», но мне кажется, что на определенном уровне накопления можно говорить именно о Знании.
****
Я должен был иметь и значительное количество так называемых «доверенных лиц», на оперативном жаргоне их иногда в шутку называют «доверчивыми лицами», — это не агенты, и их отношения с оперработником не конспиративны, но более доверительны, чем при «официальных контактах»: предполагается, что от них можно получать интересную и не всем доступную информацию.
Бывает, что доверительные отношения перерастают в агентурные.
И, наконец, самый главный, самый скрытый и самый ценный источник получения информации — агентура. В наше время, когда из бывших советских спецслужб сделали «мальчика для битья», добрались не только до оперработников, которых расшифровывают пачками, но и до агентуры — деяния, которые в США (на реалии политической жизни этой страны у нас особенно любят ссылаться все, кто побывал там неделю или две) преследуются в уголовном порядке.
Декларируется, что сотрудничать с секретными службами своей страны — позор. Перебежчиков и предателей различных мастей торопливо обряжают в белоснежные тоги борцов за гражданские права и носителей светлых демократических идеалов. Нечего и голову ломать, чтобы ответить на вопрос, кому все это нужно?
Никакая самая совершенная техника не заменит хорошего агента на хорошем месте: только человек может дать оценку происходящего, анализ обстановки, прогноз на будущее — никакой компьютер ничего подобного сделать не в состоянии. Наконец — и это, может быть, самое важное, — только человек может воздействовать в «нужном» плане на другого человека — побудить его на какие-либо действия либо, наоборот, удержать от них. В КГБ работе с агентурой всегда уделялось огромное значение, а уж в только что созданном 5-м Управлении — просто невероятное.
Бесчисленное множество совещаний, заседаний, собраний в Управлении и отделе было посвящено созданию новой и перевоспитанию старой агентуры для использования ее в борьбе с «идеологической диверсией». (Термин «диверсия» нами, русскими, понимается не так, как в англоговорящих странах, откуда он пришел к нам. Диверсия — это какое-то второстепенное действие, должное отвлечь, отвести внимание противника от основного, главного, решающего. У нас же диверсия обычно понимается как некая острая акция, стоящая, наоборот, в центре событий и чуть ли не во главе их.)
Собрания и совещания я возненавидел страстно еще в «семерке» из-за необходимости долго слушать малограмотную болтовню говорунов, уверенных, что они изрекают бессмертные истины. Мне всегда казалось, что особое наслаждение они получали не только от процесса назидательного говорения, но и от беззащитности слушателей, никто из которых, разумеется, не мог встать и выйти из зала. Вечной, неразрешимой загадкой до сих пор для меня осталось то обстоятельство, что именно те, кто имели что сказать и умели это сделать, как раз и не стремились выступать…
Однако, высиживая долгие часы на этих сборах, я начинал понимать, что с моим участком культурно-общественного обмена мне здорово повезло. Дело в том, что там продолжалась обычная контрразведывательная работа, и поиски «крамолы» носили чисто декларативный характер. Другое дело, например, работа по творческим союзам — писателей, художников, даже Союз композиторов стал зоной пристального внимания «искусствоведов в штатском» — так мы прозвали своих коллег, трудившихся на этих направлениях. «Остро» стояли и вопросы «оперативного обеспечения» (то есть надзора) институтов общественных наук АН СССР, где среди «слабозакаленных в идейном отношении» обществоведов уже появлялись первые ростки вольтерьянства, свободомыслия и отклонений от набившей всем оскомину «генеральной линии».
Одно из подразделений вело разработки «антисоветчиков» — слово «диссидент» все еще не было в ходу у широких оперативных кругов, оно появилось в нашей среде гораздо позже, почему-то в связи с публикацией на Западе известных «мемуаров Хрущева». В этом подразделении не спали ночей, часто проводили оперативные мероприятия, готовили материалы для арестов, следствия, суда.
****
Кстати, о следствии.
В правоохранительной системе нормальной страны существует разделение на органы дознания и органы следствия. Дознаватель — оперативный сотрудник, ведущий розыск преступника, его разработку, поиски вещественных доказательств. Он использует агентов, организует наружное наблюдение за объектом разработки, подслушивание телефонных разговоров, негласно обыскивает квартиры и служебные помещения, напихивает, где это нужно, микрофоны, словом, использует все имеющиеся у него возможности — для чего?
Да для того чтобы получить не просто доказательства преступной деятельности объекта разработки, а такие доказательства, которые позволят передать имеющиеся материалы следствию, а позже — суду. Далеко не все полученные дознавателем материалы можно использовать в следствии и на суде — так, у нас с завидным упрямством отказывались официально признать, что существует, например, перлюстрация корреспонденции, средства подслушивания и многое другое. Нельзя было использовать в суде показания оперработников, не говоря уже, понятное дело, об агентуре, ибо это привело бы к ее расшифровке. Словом, блестящий на первый взгляд материал следствие может возвратить на доработку либо за недоказанностью улик, либо за невозможностью использовать полученные материалы без расшифровки методов, которыми они были получены. Дело непростое, казавшееся мне, не юристу, на протяжении всех моих долгих лет работы в контрразведке уделом невероятных знатоков, настоящих, а не телевизионных.
В ЧК или, скажем, НКВД никаких сложностей в этом плане не существовало, так как оперативный работник, занимавшийся дознанием, сам же вел и следствие.
Не нужно было, передавая материалы следствию, доказывать, что объект разработки нарушил закон, не нужно было обосновывать законность собственных действий и методов, «легализовать» материалы, полученные в результате секретных оперативных мероприятий. Что же тогда передавали в суд для организации и ведения процесса? А признание обвиняемого, вот что.
Доказывать, обосновывать или объяснять что-либо оперработник должен был только своему начальнику, основываясь исключительно на «классовом чутье»…
И никакие законы при этом не нарушались: как раньше, так и в мои годы работы в контрразведке, все делалось только по закону. Но придумывали законы не в ЧК и не в КГБ, там обеспечивали соблюдение и исполнение этих законов законными же, по тем временам, средствами. О некоторых из них один старослужащий рассказывал вот что.
«… Не знаю, что было раньше, до моей службы в НКВД: ни я, ни мои товарищи об этом никогда не расспрашивали ни старослужащих, ни начальство. В архивных материалах тоже никаких следов видеть не приходилось. Потом я понял, почему. Даже те «методы воздействия», которые применялись в «Доме 2», — а из известных мне это были оплеуха или зуботычина во время допроса, карцер, лишение чего-нибудь уже и так обездоленного человека, вполне осознавались оперсоставом и руководством как антигуманные и возможность нести ответственность представлялась вполне реальной. Поэтому существовали казуистические «ходы» по оформлению и разрешению применять эти «методы».
Писался такой приблизительно рапорт: «Начальнику… отделения… отдела… управления тов…
Арестованный имярек подозревается в принадлежности (или в связях) с уругвайской (или мексиканской, или американской) разведкой. Показаний не дает, на следствии ведет себя вызывающе (или провокационно).
Прошу санкции». Подпись.
Какой санкции, на что, в связи с чем?
А начальнику все было абсолютно ясно, и он (если соглашался с сотрудником) писал: «Согласен» или «Не возражаю». Да с чем согласен, против чего не возражает?
А оперу тоже все было ясно, и теперь во время допроса уже можно было, наорав на арестованного, еще и стукнуть его по голове увесистым томом, помахать перед носом ножкой от стула, надавать пощечин. Редко кто решался на большее — за злоупотребления такого рода еще в ЧК было расстреляно достаточно много сотрудников, и весь оперсостав прекрасно понимал пределы таких «возможностей». О более серьезных вещах, не говоря уже о пытках, мне слышать не приходилось никогда…»
Ну, это в контрразведке, в Москве, в «Доме 2», в 50-е годы. Бог знает что творилось на периферии, в тюрьмах, в лагерях, как писались тамошние рапорты и какие резолюции на них «ложили»… Во всяком случае, автор приведенного выше рассказа пользовался моим полным доверием, да и приукрашивать действительность ему не было никакого резона — мы делились куда более интересными вещами.
****
Начальником 5-го Управления назначили, конечно, партийного деятеля — секретаря областного, кажется, комитета партии, человека настолько бесцветного и неинтересного, что вспомнить о нем решительно нечего. На многочисленных совещаниях и собраниях он чувствовал себя явно не в своей тарелке, добродушно пошучивал, но его некомпетентность была просто вопиющей — даже «наверху» это, видимо, почувствовали и вскоре его заместителем стал Филипп Денисович Бобков.
Колеса бешено завертелись, все изменилось враз. Все почувствовали — это человек, который знает дело, знает, чего он хочет от подчиненных, и было совершенно ясно, что он этого добьется.
Забегая вперед, к временам, когда Крючков и K° отделались от Бобкова, отмечу: они позаботились о том, чтобы во всех публикациях о его увольнении на пенсию было подчеркнуто, что он был чуть ли не главным борцом против вольнодумства и диссидентства… Ни слова не было сказано, что Бобков воевал и был многажды тяжело ранен, что он прошел путь от рядового опера до заместителя Председателя КГБ, что он был выдающимся контрразведчиком, что он работал с агентурой, возле которой партчекисты вроде Крючкова и рядом-то не стояли, что он задумывал и проводил операции, по сравнению с которыми любое детективное чтиво выглядит пресным и убогим…
****
Я потихоньку осваивал свой участок. Помимо официальных контактов, десятков доверительных связей, переданных мне агентов, я обрастал и просто приятельскими отношениями с сотрудниками учреждений, за которыми надзирал, работал с поступавшими ко мне документами, учился понимать иногда скрытый их смысл, овладевал штампами оперативной переписки, которые вскоре возненавидел. «Считал бы целесообразным не препятствовать…», «Полагал бы не возражать…», «Комплексом агентурно-оперативных мероприятий установлено…» Русский язык терялся в этой мешанине, и на ум все время приходил оруэлловский «новояз».
Кстати, о документах. С первых же дней меня поразило почти полное отсутствие не то что штабной культуры (особенно у оперов старшего поколения), а простого умения работать с документами и хранить их. Будучи педантом по природе, я решил показать, как нужно организовать делопроизводство. К документам я всегда относился уважительно, порядок на своем «участке» навел довольно быстро и среди ночи мог сказать, на какой полке моего сейфа лежит или стоит тот или иной том дела или документ. Идеальным порядком в этой части моей работы я гордился безгранично до 1972 года, когда «погорел», поскользнувшись именно на этой «банановой корке».
И все-таки иногда накатывали приступы малодушия: уж слишком все, чем я занимался, отличалось от прежнего. С одной стороны, я понимал, что вряд ли глупее тех, кто вокруг, с другой — мне не хотелось работать так, как работали они, — кое в чем я уже начал разбираться.
А дело просто было в том, что я еще не накопил знаний, навыков, профессиональных привычек. Тем не менее, накопление шло — незаметно для меня, я исправно выполнял все, что полагалось, встречался с людьми, торчал в подведомственных мне учреждениях, легко устанавливал знакомства и связи. В некоторых конкретных поручениях и заданиях потихоньку проявлял себя: мог, например, быстро перевести и отпечатать на машинке текст (среди оперсостава это умели в то время единицы), мог часами сидеть в наушниках и расшифровывать с магнитофонной ленты запись чьих-то голосов и опять-таки сразу печатать текст на машинке — сейчас это кажется такой мелочью… Мог организовать и провести простенькую операцию по добыванию чьих-то ключей от квартиры, где лежали не только деньги. Этими «практическими» приемами, к моему удивлению, многие из новых коллег не владели, так как привыкли во всем полагаться на вспомогательные службы.
Кстати, всеобщее убеждение в том, что в КГБ стоило нажать на кнопку — и результат на столе, совершенно ошибочно. Как и во всей стране, там так же не хватало (и сейчас, наверное, не хватает) самого необходимого, начиная с канцелярских принадлежностей, иногда и бумаги, и кончая техническими средствами, постами наружного наблюдения, «точками» секретного подслушивания и т. д. Разумеется, в определенных разработках и делах хватало всего — когда игра стоила свеч или казалось, что она их стоила… «Всего хватало» в делах по шпионажу и в разработках крупных «антисоветчиков» — государство чувствовало угрозу своему существованию и не жалело средств. И еще: у сильных мира сего всегда хватало средств на слежку друг за другом. Но тут привлекали незначительное количество столь доверенных людей, что мы узнавали об этом урывками и чаще всего случайно.
Сотрудники нашего отделения, «занимавшиеся» медициной, однажды с огромными трудностями убедили руководство в необходимости слушать телефонные разговоры какого-то медицинского бонзы. И что же? В первые же дни на их столах лежали сводки телефонных разговоров с одним из престарелых «отцов» города. Собеседники подробно обсуждали бывшие и предстоявшие оргии, искусных утешительниц, устройство отдельных кабинетов в московских ресторанах и т. д. Интимные изыски обсуждались в таких подробностях, что у читавших сводки потели лбы. Лебедев, когда сводки попали ему на стол, схватился за голову: «Вы что, на пенсию меня хотите отправить? Немедленно сжечь все, пепел разжевать и проглотить!!!» Он даже перестал заикаться…
На участке медицины работали особенно сильные агентуристы, может быть, еще и потому, что начальство считало его самым «блатным». Так в «Доме 2» называли участки работы, где оперработник, руководство и КГБ в целом имели возможность извлекать не только оперативную выгоду, но и выгоду практическую: достать редкое лекарство, положить в хорошую больницу «нужного» человека, обследовать кого-то на уникальной аппаратуре, организовать консультацию у хорошего специалиста. Некоторые начальники использовали эту линию работы для укрепления собственных позиций, но ведь упрекнуть кого бы то ни было нельзя: речь всегда шла о чьем-либо здоровье.
Борис Королев, умерший вскоре от тяжелого заболевания мозга (так и не помог сам себе), Женя Б., изгнанный из КГБ за то, что «протянул язык» не там, где нужно (отдельная история), Евгений К. — работники с участка медицины, люди с большими запасами душевного здоровья, всегда готовые помочь и имевшие для этого возможности, годами создававшиеся на этом участке. Понятное дело, Ф. Д. Бобков был в прекрасных отношениях с медицинским руководством страны, ясно, что многие начальники КГБ поддерживали такие же отношения с различными начальниками от медицины, дружили с ними, но Женя Б., например, умея дружить ничуть не хуже любого начальника, был еще и завзятым меломаном и (не без использования опервозможностей) пропускал через свои супермагнитофоны практически все пластинки, попадавшие в СССР из-за рубежа по почтовым каналам. Евгений К. прекрасно играл в теннис, и однажды, сидя в его кабинете и подняв телефонную трубку (Женя за чем-то вышел), я услышал: «С вами говорит секретарь профессора такого-то. Передайте, пожалуйста, Евгению Васильевичу, что профессор сможет приехать на корт на полчаса позже…» Названа была фамилия одного из руководителей Минздрава СССР, и я понял, что с официальными контактами в «группе медицины» дела обстоят неплохо.
Вскоре после моего прихода на работу в «Дом 2» разразилась эпидемия холеры в Казани — страшный позор для страны, гордившейся «самой лучшей» системой здравоохранения. Наши «медики», конечно, помчались туда во главе с покойным ныне заместителем начальника Управления генералом Н. Вернулись через месяц. Н. почему-то сразу получил орден Красной Звезды (считалось, что за борьбу с холерой), но ребята рассказывали, что серьезная борьба шла и с медицинским начальством.
При подготовке отчета для ЦК возникли некоторые противоречия между представителями медицины и КГБ. Медикам было стыдно признать в отчете, что санитарное состояние городов, где были вспышки холеры, привело их самих в ужас. Поэтому они оказывали посильное давление на Н., стремясь отметить в отчете, что инфекция занесена из-за рубежа через Астрахань. Но в этом случае не исключались «шишки» на голову КГБ, который, выходит, просмотрел завоз из-за рубежа холерных палочек (считалось, что КГБ в ответе за все, что могут привезти из-за кордона и вывезти туда). В конце концов договорились о какой-то эластичной формулировке, которая весьма близко к действительности определяла причины массовых холерных заболеваний, но допускала и возможность завоза инфекции «оттуда».
Немало проблем было связано с использованием психиатрии в борьбе с инакомыслящими. Наши «медики» постоянно таскали какие-то документы из Института Сербского, участвовали в конгрессах психиатров в стране и за рубежом, готовили эти конгрессы и симпозиумы, снабжали материалами наших и зарубежных участников, получали материалы от них и т. д. Насколько я понимал, вся эта деятельность была направлена, во-первых, на то, чтобы скрыть истинные масштабы происходившего, и, во-вторых, чтобы «замазать глаза» иностранцам, периодически поднимавшим шум по поводу творившихся в СССР злоупотреблений.
Как-то во время одной такой конгрессной беготни Женя К. зашел к нам в комнату перекурить — я сидел один. «Слушай, — сказал я, — ну что вы носитесь с этими психами, сколько их в психушках сидит — десять? Двадцать? Пятьдесят?» Я только что провел весьма успешно какое-то важное мероприятие и пыжился от самодовольства — все происходившее вокруг мне казалось плясками цирковых лилипутов.
«Дурачки вы все, — устало пробормотал Женя, тяжело вздохнул и пристально посмотрел на меня. — Газет начитался, что ли? Ну что ты несешь?» Больше он не сказал ничего, но я и сейчас помню тот взгляд и тот вздох…
Сейчас много говорят и пишут о коварных методах КГБ и принудиловке, но мне с этим сталкиваться почти не приходилось. С начала работы в 5-м Управлении я нацелился оставить в своем агентурном аппарате только тех, кого сам привлеку к сотрудничеству: агентурная работа — дело интимное и взаимная уверенность оперработника в агенте и наоборот должна быть весьма высокой.
После необходимого изучения устанавливался личный контакт с человеком, и на протяжении определенного времени я старался понять, подойдет ли он для сотрудничества с КГБ, много ли знает, каковы его перспективы, умеет ли держать язык за зубами. Наверное, и ко мне присматривались, изучали, давали оценку. Случаев отказа я не припоминаю, хотя и рабочие и личные отношения с привлеченными мною к сотрудничеству людьми складывались по-разному. В целом же люди, как мне кажется, охотно шли на сотрудничество, воспринимая его как доверие могущественной организации, проявляя некоторый интерес, надеясь на возможную поддержку. Многие, как я узнал позже, надеялись, что «дружба» с КГБ повысит «выезжаемость», но они сильно ошибались: наоборот, требования к агентам, особенно к опытным, знающим методы работы КГБ, были довольно высоки, и нередки бывали случаи, когда в выезде за рубеж им отказывали.
****
Много говорили и писали о том, что при вербовке отбирается подписка. Это делается не всегда, и вообще это не обязательно — дело в том, что подписка, в сущности, отражает не обязательство сотрудничать со спецслужбой, а обещание не раскрывать методы работы, которые могут стать известными агенту. В целом же подписка — слабая попытка со стороны спецслужб гарантировать неразглашение их тайн, а со стороны вербуемого — выражение доверия к оперработнику и его ведомству. Однако сама вербовка — почти всегда достаточно драматический акт, вот почему Бобков не раз советовал обязательно встретиться с агентом-новичком на следующий день, чтобы поддержать его, посмотреть, как он выглядит, в каком настроении.
За долгие годы службы ни разу не слышал, чтобы агент из числа советских граждан сотрудничал с КГБ на материальной основе. Описанная ретивыми журналистами «статья 9» использовалась вовсе не для выдачи «зарплаты» агентам: платили за квартиры, номера в гостиницах, использовавшиеся для конспиративных встреч, дарили агентам по разным поводам подарки (как правило, очень скромные). В ходу была известная поговорка — дорог, мол, не подарок, дорого внимание… Я с самого начала восстал против такого подхода и даже сумел убедить и Лебедева, и Гостева в том, что секретная служба такой страны, как наша, мелочиться не должна. Либо подарок должен быть дорогим, запоминающимся, либо лучше ограничиться, скажем, ужином и задушевным разговором.
Еще одно воспоминание из 1967 года. Я наслаждался относительно размеренной жизнью, о которой, работая в «семерке», потерял всякое представление: на работу приходил к 9.30 и, пока осваивал участок и не был привлечен ни к каким мероприятиям и операциям, уходил домой в 18.30. Мало того, почти все выходные и праздники я проводил дома, к чему долго не могли привыкнуть ни я, ни мои близкие. Бывало, «Черный», в конце дня разворачивая газету и наблюдая, как я собираюсь уходить домой, цвыкал зубом и ехидно спрашивал: «Уже домой? А мог бы и посидеть еще…» — «Мог бы, да не стал», — привычно отвечал я.
У меня за плечами было девять лет таких задержек и ночевок, о которых «Черный» мог бы только в книжках про ЧК узнать, если бы вдруг начал читать что-нибудь, кроме газет и служебных документов.
Для чего задерживается «Черный», я к тому времени уже знал: с час он почитает газету, а потом начнет бегать по коридорам, стараясь попасть на глаза начальству, желательно Бобкову, — вот, мол, какой я хороший, все по домам разбежались, а я на работе…
Я быстро понял, что таким, как «Черный», действительно больше нечем порадовать начальство — как-то раз я видел заполненный им бланк проверки на иностранца, где в графе «национальность» недрогнувшей рукой было выведено — «негр», а в графе «род занятий» — «бизнисмен». А расти, получать звания и должности, ездить за границу им очень хотелось — вот они и лебезили перед руководством, постоянно что-то «доставали» для него, «стучали» на товарищей по работе, по-всякому их «подставляли». Таких было немного, но в подлости своей они были необыкновенно активны и портили жизнь многим чекистам.
Однако большинство составляли не они. Интересные люди работали в группе «радио-ТВ»: Саша Лордкипанидзе («Лорд») — умница, интеллигент, один из составителей русско-индонезийского словаря, тонкий агентурист и хитрец невероятный; Георгий («Жорес») Калачев — ловкий, энергичный, красивый парень. Потом из этой группы выросло целое отделение — объем работы нарастал с каждым годом. Один из тех, кто «занимался» писателями, Геннадий Геннадиевич, — человек начитанности и литературных знаний необыкновенных, впоследствии кандидат социологии. Феликс П. был связан с Большим театром не только по работе: дважды был женат на тамошних балеринах, сейчас — бизнесмен. «Сгорел» он вместе с «медиком» Женей Б. — два этих блестящих контрразведчика дружили с чуть ли не самым молодым нашим академиком, невероятно одаренным и страшно секретным. Уезжая в отпуск или в командировку, академик оставлял им ключи от своей квартиры.
Женя и Феликс одного не учли: академик был такой засекреченный, что его квартиру «слушали», не переставая.
Друзья же были любители и умельцы поговорить — вот и договорились. Разговоры были настолько откровенные, что даже Бобков, хорошо относившийся к ним, не смог их отстоять.
Как-то в конце 1967 года Федор Иванович вошел в нашу комнату с весьма озабоченным видом, в руках он крутил небольшую магнитофонную кассету. Сев за стол, «повис» на телефоне, обзванивая различные службы и приятелей и спрашивая, нельзя ли быстро переписать какую-то запись. Я думал, речь идет о чем-то развлекательном, но потом понял, что вопрос служебный, и спросил, не могу ли чем-нибудь помочь. Слава Л. к этому времени уже работал в Московском управлении, и я не раз был у него в кабинете, заставленном и заваленном бытовыми и специальными телевизорами, магнитофонами, радиоприемниками. Я называл их «смотрографы» и «показометры».
Федор Иванович оживился и сказал, что, вот, Филипп Денисович спрашивает, нельзя ли за пару часов сделать копию этой пленки. Я позвонил Славе, который случился быть на месте, и услышал: «Ну заходи». Выйдя из «Дома» через четвертый подъезд и перейдя Фуркасовский переулок, я через три минуты был у Славы, который уже соединял проводами какие-то железные ящики. «У меня тут две такие хреновины — мы сейчас за 20 минут эту кассетку продублируем. А что там на ней?» — «Да какие-то песни, говорят, самому Бобкову понадобились…» — «А давай послушаем пару минут,» — и Слава защелкал тумблерами.
Послышался хриплый голос, распевающий блатноватые, какие-то лагерные песенки — мы поняли, что это и есть Высоцкий. В то время наши музыкальные вкусы почти целиком упирались в джаз. Послушав пару минут, Слава что-то переключил, и кассеты в обоих магнитофонах закрутились быстрее — пошла запись в ускоренном режиме. Скоро все было готово, и, поудивлявшись музыкальным вкусам руководства, мы распрощались. Я вернулся в «Дом» и отдал кассеты обрадовавшемуся Федору Ивановичу. Под его восторги я осторожно поинтересовался, что это, мол, у Бобкова за странные вкусы. «Да вряд ли вкусы. Он от кого-то слышал о Высоцком и наскоро прослушал эту кассету, кто-то ему ненадолго дал. А потом попросил переписать, чтобы послушать не спеша. Говорит, что Высоцкий вырастет в огромную величину…» Я фыркнул. Долгие годы в компаниях и с уличных магнитофонов я слышал эти лагерные песенки и совершенно не понимал, что в них находят поклонники певца…
Много лет спустя, вернувшись из какой-то поездки и разбирая чемодан, я поставил на проигрыватель подаренную мне пластинку и услышал: «Что за дом стоит погружен во мрак…» У меня все вывалилось из рук, я сел на диван, на лбу выступил пот. Песня кончилась, я прослушал ее еще раз. Потом еще. Потом всю пластинку: «Погоня», «На братских могилах», «Он вчера не вернулся из боя» — там было все, что впоследствии для меня сделало Высоцкого — Высоцким.
Я по-настоящему понял — дома. Вернулся.
****
Весной 1968 года, примерно через полгода после перехода в 5-е Управление, начались мои первые самостоятельные разработки.
Осмотревшись к тому времени на своем «участке», я сообразил, что самая интересная его часть — курсы русского языка для иностранцев. Как-никак, я имел возможность в течение почти года изучать примерно полсотни человек — для многих коллег это было предметом зависти: у большинства из них «объекты» приезжали на короткие сроки, и как следует присмотреться к ним было нелегко. Кстати, напротив нашей комнаты сидели ребята из 2-го Главка, занимавшиеся туристами и «пропускавшие» через себя огромный поток иностранцев, приезжавших на несколько дней или неделю. А ведь и среди них были те, кто представлял интерес для контрразведки, вот только выявить их было очень трудно. Я скоро познакомился с ними, порассказал им филерских историй, и мы подружились.
К тому времени я уже был хорошо знаком с некоторыми преподавателями, руководством факультета, к которому формально относились курсы, с несколькими молодыми ребятами из 3-го отдела Управления, который «занимался» МГУ — на связи у них были толковые агенты и доверенные лица из студентов и администрации МГУ, которые могли пригодиться в изучении моих иностранцев. С ними у меня была договоренность о том, что я не буду возражать, если они тоже «понюхают» на «моих» курсах — контрразведчики ревниво относятся к проникновению коллег на свои участки.
Поначалу я хотел выявить общие настроения на курсах, отношение слушателей к «нашей советской действительности», их занятия на родине, перспективы устройства на работу по возвращении и прочее. Исходя из того, что оплачивалась учеба ССОДом (проживание в общежитии МГУ, 150-рублевая стипендия, зарплата преподавателей, экскурсионные поездки по СССР), хотелось, конечно, чтобы там учились друзья нашей страны, а в идеале — завербованные мною агенты, которые по возвращении на родину сломя голову кинутся выполнять задания наших резидентов.
Я не мог тогда себе представить, что очень многие иностранцы, особенно из молодежи, прожившие в нашей стране несколько лет (я не беру в расчет дипломатов — о них особый разговор), уезжают домой если не врагами нашего государства, то, во всяком случае, сильно разочарованными во всем хорошем, что они слышали об СССР до приезда к нам. Наша реальность совершенно несоотносима с повседневной жизнью в большинстве известных мне стран.
Первый же «мой» набор слушателей, в которых я вцепился, как молодой коккер-спаниель, оказался небезынтересным.
Благодаря имевшимся у меня скромным возможностям стало известно, что итальянец Лучио Санто на занятиях нередко высказывается по отношению к СССР и советскому обществу негативно, снабжает слушателей курсов и студентов МГУ литературой, которая тогда считалась антисоветской, устанавливает связи в молодежных организациях.
Однажды Лучио принес на занятия и демонстрировал слушателям словарь блатных и жаргонных терминов, изданный в «Посеве», принадлежавшем, как известно, НТС. В Управлении были люди, занимавшиеся этой организацией, и, как говорится, ничего хорошего, кроме плохого, они сказать о ней не могли. Это сейчас ее сотрудников называют борцами за торжество демократии в России, а в те времена между НТС, который финансировали зарубежные спецслужбы, и КГБ шла жестокая борьба.
Само наличие такого словаря у слушателя курсов русского языка, приехавшего в СССР по линии общества дружбы «Италия — СССР», приподняло немало бровей не только в КГБ, но и в МГУ (преподавательница изъяла словарь и передала его в деканат, вскоре он уже был приобщен к досье в моем сейфе).
****
Часто меня, бывшего «семерочника», поражало, как многие обитатели «Дома» долго, иногда годами, изучали свои объекты разработок, ни разу не посмотрев на них — в лучшем случае имелись фотографии с консульских анкет иностранцев или секретные снимки «наружки». Я-то привык в свое время «обсмотреть» человека, составить первичное мнение о нем по его внешности, манере одеваться, походке, движениям. И сейчас еще я не утратил способности «раздеть» человека, едва взглянув на него, — до известных пределов, конечно…
Как-то раз я спросил об этом «Черного». Тот цвыкнул зубом, почесал причинное место и сразу выдал ответ: «Ну и что? Он-то меня тоже ведь ни разу не видал».
Я рассмеялся — это походило на анекдот, потом призадумался. Было нечто сатанинское в том, что на человека велась охота, читались его письма, подслушивались телефонные и прочие разговоры, он был окружен агентами, следившими за его передвижениями, из всего этого делались какие-то выводы — и при этом «охотник» ни разу не видел его, ни разу не поговорил с ним (конечно, исключений из этого правила достаточно много, о них позже). Изучающие знают изучаемых по информации, добываемой профессиональными методами. Изучаемые знают об изучающих из детективных романов и фильмов. Однако и те, и другие составляют вместе некое оперативное целое. Кафка? Оруэлл?
****
После долгих уговоров Лебедева и Гостева я выпросил-таки на несколько дней «наружку» за Санто — кто-то из более важных объектов на несколько дней уехал из Москвы. Решил и сам посмотреть на него; связался с подразделением, которому предстояло выделить бригаду сыщиков, чтобы они «подхватили» меня перед началом смены. Ребята оказались знакомыми, хотя и не из того отдела, где работал я. «Ну что, Жень, соскучился по наружке? Потопать захотелось? Давай-давай. Но за руль не пустим, из почетных списков оперводителей ты навечно исключен, дорогой…»
Мне действительно хотелось снова проехаться на «восьмерочке», но я смолчал. Приехали на базу в МГУ, уселись поболтать и тут же получили сигнал — на выход.
Санто почти полностью соответствовал моим представлениям о нем, составленным из рассказов агентов и фотографии с консульской анкеты. Однажды я где-то прочитал, что все прохожие на улицах итальянских городов и деревень — копии персонажей итальянского кино, настолько тамошние киношники изучили типажи соотечественников. Итальянец, который вышел из МГУ и направился к метро, походил на киноактера Сорди. Был теплый весенний день, пройдясь с семерочниками за Санто пешком, я затем уселся в опермашину и поглядывал на него уже издалека.
Очень толстый, нескладный, он уже через несколько минут вспотел и двигался как-то вынужденно, с неохотой.
Ребята спустились за ним в метро, я остался в машине. Вскоре по радио передали, в какую сторону едем, и обе опермашины помчались по улицам почти без помех (был выходной день), стараясь не отстать от поезда, в котором ехал наш толстяк.
Санто приехал в район ВДНХ и, не торопясь, пешком пришел в некий жилой дом.
— Ну и как? — спросил я сыщиков.
— Да мешок мешком, — ответил Молодой, которому явно импонировало общение с человеком из «Дома 2» (со мной!!!).
— Посматривает он, Женя, посматривает, но очень аккуратно, — сказал Пожилой и закурил. — За такую ездку, конечно, толком не проверишься, да и в адрес он пришел спокойно, не вертелся, но посматривает — это точно. А может, не вертелся потому, что уже был здесь раньше — он же не искал дом, сразу пришел. Может, вообще уже давно здесь бывает… Что делать-то будем?
— Ой, держите меня. Он меня спрашивает, что будет делать. Он спрашивает меня. Выпишем из домовой книги всех жильцов квартиры и сообщим мне. А я их проверю по оперативным учетам. Сразу выясним, кто шпион. Вот и все.
Посмеялись, пошутили еще немного, и я отправился домой — я ведь теперь был человеком из «Дома 2» и имел некоторые возможности наслаждаться выходными.
То, что никаких шпионов через Санто я не выявлю, стало ясно, как только я его увидел. Начав заниматься курсами русского языка при МГУ, я через некоторое время сумел оценить контингент и пришел к выводу (возможно, ошибочному — до сих пор не знаю), что эта категория людей не может, не будет заниматься настоящим шпионажем. Все или почти все слишком молоды — по возрасту не успели пройти соответствующей подготовки. Вряд ли у них могут быть выходы на интересных для разведки лиц — носителей политических или технических секретов.
А вот выполнять отдельные несложные поручения спецслужб они могли, и именно в области «негативных устремлений противника в сфере идеологии» — один из наших оперштампов того времени.
****
Контрразведка в области идеологии — политический сыск, как ее еще называют, — что это такое? И вообще, что такое идеология? Это политика? Или что?
1979 год, Советский энциклопедический словарь:
«Идеология — система полит., правовых, нравст., религ., эстетич. и философ. взглядов и идей, в к-рых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности. В класс. об-ве носит класс. характер, выражая интересы и формулируя цели определ. классов; разрабатывается теоретич. представителями класса, идеологами, на основе накопленного мыслит. материала. Характер И. — науч. или ненауч., истинная или ложная, иллюзорная — всегда связан с ее класс. определенностью — феод., бурж., мелкобурж. или пролет., социалистич., марксистская; рев. или реакц., консервативная. Обладает относит. самостоятельностью и оказывает активное влияние на об-во, ускоряя или тормозя его развитие. Подлинно науч. И. является марксизм-ленинизм, отвергающий концепции мирного сосуществования И., «деидеологизации»».
Десятью примерно годами раньше Александр Зиновьев, тогда — объект разработки Игоря П., севшего в нашей комнате на место «Черного» — (тот стал заместителем Лебедева, к ужасу сотрудников отделения), писал в своей книге «Зияющие высоты»:
«…Идеология, с одной точки зрения, играет огромную роль в жизни общества… И никакую — с другой. Она сказывается на всем. И ее нельзя уловить ни в чем. Отсюда весьма различные ее оценки, колеблющиеся в пределах от нуля до бесконечности… Неверие в истинность идеологии… не играет роли хотя бы потому, что говорить об истинности идеологии вообще бессмысленно… Содержание идеологии определяется конкретными историческими условиями духовной жизни общества. Если рассматривать идеологию как науку и как инструкцию для поведения, то не нужно много ума, чтобы заметить ее «ложность» и «непродуктивность». Но на то она и идеология, чтобы быть не наукой и инструкцией, а особого рода формой, в рамках которой делается нечто совершенно другое, порой прямо противоположное ее декларациям… Нет ложных идеологий. Нет и истинных. Ее роль в обществе описывается совсем в иной системе понятий. Общество нашего типа немыслимо совсем вне каких-то идеологических форм. Оно есть идеологическое общество в самой своей основе…
…Рождение идеологии неподконтрольно людям. Оно есть тайна, раскрыть которую в принципе невозможно, хотя весь процесс и проходит у тебя на глазах. Когда люди еще могут вмешаться в сотворение идеологии, они еще не знают, что это есть идеология. А когда они догадываются об этом, бывает уже поздно. Поэтому идеология рождается на свет сразу со всеми ее атрибутами.
…Идеологию принимают как факт и считаются или не считаются с ним как с природной необходимостью, а не как с проявлением разумности или неразумности людей… Отношение к официальной идеологии есть важнейший элемент в системе отбора лиц для руководства, в их карьере и прочности положения. Человек, которому в голову придет идея хотя бы как-то реформировать идеологию (не говоря уже о том, чтобы отказаться от нее), не будет допущен на путь, ведущий к власти в любых ее звеньях. А если он выскажет такую идею, уже достигнув власти, он сильно ослабит свои позиции, вплоть до полной потери власти…»
Вот так…
Да при чем тут контрразведка, спросите вы? Хороший вопрос.
Те, кто занимались у нас в стране И. и убеждали нас всех в том, что она у нас истинно науч., рев., а не реакц., на каком-то этапе своих занятий вдруг осознали, что «пудрить мозги» населению огромной страны они уже не в состоянии. Да и ответственность за «чистоту» идеологии им не хотелось нести в одиночку, нужно было ее разделить с кем-нибудь — да вот с КГБ, например. Пусть-ка они там побегают, понюхают, подслушают, глядишь, посадят человек эдак… ну, неважно сколько, главное — чтобы остальных пугнуть, да как следует…
Они, бедняги, плохо себе представляли эффективность нашего законодательства, процессы оперативной документации действий, высказываний и «выписываний» инакомыслящих, возможности по легализации полученных материалов и многое другое.
А вот мы, сотрудники нового Управления (и даже я, новичок в контрразведке), почти сразу поняли, что пытаемся контрразведывательными методами решить задачи, которые решаются только политически или научно. Но многое в нашей работе было (или казалось) интересным, многое было внове, люди мы были военные, жалованье получали приличное, имели семьи и обязательства перед ними, словом — «все, как у людей». И если от нас требовали доказать, что наша И. — истинно науч., а не реакц., — что ж, «как говорится, Родина велела».
В тех же коридорах 2-й Главк занимался своими серьезными делами.
Вот пример настоящего сотрудничества между спецслужбой и руководством одного из подразделений Минвнешторга.
И те, и другие готовились к приезду для переговоров в МВТ какой-то значительной делегации из ФРГ. Внешторговцы уже знали тех, кто приедет, и, как оказалось, правильно информировали контрразведчиков. Те полезли в записи и дневники немцев не сразу по их приезде, а после нескольких предварительных перед подписанием соглашения переговоров. И не ошиблись: один из немцев, тщательно фиксировавший в своем дневнике совершенно все, писал, что «дурачки славяне неожиданно для нас запросили за то и за это не столько-то (сколько мы собирались уплатить), а всего навсего вот столько…»
Когда на заключительных встречах речь зашла о подписании договора, славяне, покряхтев и поулыбавшись, сказали, что мы, конечно пошутили. Мы имели в виду не столько-то, а как раз именно вот сколько… Переговоры находились в той стадии, где немцам деваться было некуда, а отдавать эту сделку конкурентам — невыносимо. Пришлось подписать, и наша сторона выиграла на этом — не помню точно — 11 или 18 миллионов долларов.
****
Квартира, которую посетил Санто, принадлежала молодому сотруднику Радиокомитета Р. «Вот мерзавец, — меланхолично подумал я об итальянце. — Лезет просто-таки в самое сердце нашего идеологического центра». Так мы называли и наши, и «их» организации, имевшие отношение к пропаганде нашей науч. и их реакц. И. Я привычно заполнил бланки оперативной проверки и бросил в соответствующую ячейку в секретариате.
****
Любому понятно, что одна из основ работы спецслужб, особенно контрразведки, — выявление связей. «Скажи мне, кто твои друзья…» Думаю, что я держал рекорд по этой работе. Дело в том, что мои слушатели активно общались и со студентами МГУ, и с дипломатами своих посольств, и с жителями городов, в которые они выезжали в экскурсионные поездки. Кроме того, они переписывались с друзьями и приятелями в странах тогдашнего социализма и Бог знает с кем еще. Я поставил перед собой задачу не упускать ни одного ставшего мне известным контакта и «прорабатывать» каждый из них. В год через мою «мельницу» проходило примерно по 200 с лишним человек.
То есть самому мне никогда бы не освоить такой объем работы; выручала широкая география этих связей и возможности наших местных органов и спецслужб «друзей» — так называли мы коллег из дружественных стран. После некоторых творческих мук я под руководством Лебедева, крупного специалиста по казуистике, выработал энергичный короткий текст, который посылал в соответствующий орган по месту жительства человека, «проходившего по связям» от моих иностранцев. В тексте сухо сообщалось, что вот такой-то или такая-то являются связью такого-то. Узнайте, ребята, кто это, где работает, проверьте по вашим учетам, да и сообщите, не ваш ли это агент и нельзя ли его использовать в изучении такого-то, подозреваемого в том-то (правом подозревать контрразведчики пользуются с полным правом, как им кажется).
Для местных органов такая бумага из Москвы — почти приказ и руководство к неукоснительному исполнению, так что я всегда имел интересную почту, а вместе с ней некоторые оперативные возможности. Часть выявленных мной контактов в той или иной мере действительно была связана с КГБ. Эти люди, имея возможность приезжать в Москву — а местные коллеги им в этом помогали, потому что работать в контакте с Центром интересно, лестно и перспективно, — тоже включались в процесс изучения моих иностранцев. Они имели пароли, по которым выходили со мной на связь, я мотался по гостиницам, кафе и скверам, где встречался с ними и инструктировал, получая от них нужную мне информацию, словом, крутился, как волчок, — и мне это нравилось. Уходить с работы в 18.30 я давно перестал и «прихватывал» часа по полтора — два в день. Зато имел очень неплохую картину того, что происходит на «моих» курсах.
Очень скоро мне пришла в голову мысль: а что происходило, скажем, во Владимире, когда там получали мой запрос, если упоминавшийся в нем человек не был связан с КГБ и узнать о нем поподробнее не хватало возможностей? Ведь о нем или о ней в оперативных учетах должны были сделать соответствующую пометку: по данным Центра (!) в таком-то году поддерживал контакты с таким-то, подозревавшимся в том-то и том-то… Я пошел к Лебедеву и сказал, что с моими запасами энергии и аккуратности я скоро засажу в картотеки большую часть населения страны. «Эт-ты прав, Ж-Жень. Давай-ка ты теперь пиши им не «подозревается», а просто «является объектом заинтересованности». Мало ли чем мы тут интересуемся, а то вроде и не знаем ни черта, а человека уже «мазнули». Эт, хорошо, что ты думаешь о таких вещах».
Ну, не так уж я о них и думал. По крайней мере, тогда.
Через пару дней вернулись мои проверки — я не ставил на них значок «срочно». На проверке «Р» был штамп «действующее дело» и телефон «Лорда».
Я хмыкнул и, собрав документы для доклада, пошел к Лебедеву. Прочитав фамилию на бланке, он сделал такую затяжку, что выгорело сразу полсигареты: «Вот эт-то да-а-а… Его-то мы и ищем уже несколько месяцев!» И в телефонную трубку: «Лорд», давай ко мне».
Пока худощавый, с вечной мефистофельской улыбкой на лице «Лорд» шел по коридору, Лебедев рассказал, что люди, «занимавшиеся» Радиокомитетом, несколько месяцев разрабатывают «Р» как агента НТС. Им уже удалось выяснить, что у него есть запасы НТСовской литературы, листовки НТС и даже компактные резиновые штампы явно зарубежного производства для их изготовления. Собственно, этого хватало либо для выхода на беседу с «Р» и попытки его перевербовки, либо для его ареста — по тем временам имевшихся материалов было более чем достаточно. Но неизвестно было, откуда «Р» получал всю эту дрянь, а выяснить это хотелось «до того».
Думали даже, не через какое-нибудь ли посольство «Р» получал эти материалы?
— В-вот в-вам ваш дипломат, салаги. Говорил же я, не там ищете, — улыбаясь и смачно затягиваясь, сказал Лебедев. — Вот сыщик вам нашел вашего «дипломата».
— Ну, старик, дай я тебя расцелую, — сказал «Лорд», с которым у нас тогда начала завязываться дружба.
— Пошли все к Гостеву, — с сожалением гася окурок, молвил Алексей Николаевич. Он любил маленькие оперативные триумфы.
— Ага! — закричал Гостев, потирая руки так, что я испугался, не вспыхнет ли в его ладонях пламя. — Ну, попался, который кусался! Теперь у нас картина ясная, откуда он берет свои «игрушки».
Строго говоря, «картины ясной» не было, предстояло еще доказать, что именно Санто снабжал «Р» «оборудованием» и, таким образом, являлся эмиссаром или, по крайней мере, связником НТС, но, поговорив еще с полчаса и перебрав все связи «Р», пришли к выводу, что больше вроде некому.
Теперь «наружку» пустили и за «Р», и за итальянцем и быстро установили, что они встречаются довольно часто и осторожничают при встречах, хотя и не очень. Мы с «Лордом» получили санкцию на негласный обыск в комнате итальянца в МГУ и, создав для мероприятия необходимые условия, провели его.
Вы замечали, что во всех или почти во всех детективах сыщики, следователи, чекисты, группы захвата, полицейские и т. д., и т. п., проводя обыск при аресте, всегда или почти всегда находят улики? Думаете, хорошо ищут? Ничуть не бывало. Они находят то, что уже было найдено во время негласного обыска, проведенного незадолго до ареста.
Чаще всего именно с целью найти что-либо, что может быть потом «найдено» при понятых во время ареста и настоящего обыска, и проводятся такие мероприятия. «Ага, подбрасываете небось вещдоки!» — закричат иные. Да, и такое, наверное, бывало, но вообще это очень маловероятно. Дело в том, что сама идея оперативной работы заключается в том, чтобы находить, а не подбрасывать, иначе столько всего можно было набросать…
Не всегда опер находит во время такого обыска именно то, что ищет: мешает ограниченное время, соседи, умение прятавшего. Иногда поиски идут впустую, потому что того, что ищут, там просто нет. После нескольких удачных и неудачных мероприятий подобного рода я выработал для себя правило: искать до тех пор, пока не найду «любое спрятанное».
Дело в том, что человек всегда что-нибудь прячет, даже если он не шпион, не жулик, ни в чем не виноват перед государством. Дети прячут от родителей дневники с двойками, мужья от жен получку, жены от мужей — не помню уже что, юнцы от родителей — презервативы (закладывают их в фотоаппараты и предупреждают всех, что заряжен, не засветите пленку), словом, хитрецы.
Даже если опер не находит искомого, но обнаруживает спрятанное — это признак того, что работа проведена добросовестно.
У толстяка мы не нашли ничего, хотя мероприятие было подготовлено очень тщательно, времени было достаточно, никто не мешал. То есть, ничего из того, что искали. Я здорово приуныл, а «Лорд» и в ус не дул. «Молодой ты ишо. Всех оперативных возможностей не знаешь, допрашивать не умеешь. Дело-то к тому идет, что «Р» деваться некуда — придется ему так и так на допросе сказать, кто его снабжает «оборудованием». А итальянец твой вычислен наверняка — деться ему тоже будет некуда. «Р» сдаст его с потрохами, вот увидишь».
И тут произошло нечто, наложившее отпечаток на всю мою будущую жизнь в КГБ, точнее — на отношение к оперативной работе.
В воскресенье (я благодушествовал дома) раздался телефонный звонок из «семерки». Итальянец приходил к «Р» — по дороге опять «посматривал», от него вышел с небольшим плоским свертком и вернулся в общежитие МГУ. О возможной передаче материалов мы с «Лордом» предупреждали обе бригады, работавшие за «Р» и за итальянцем, — ребята забеспокоились совершенно правильно.
А я так и забегал по потолку. Позвонил домой Лебедеву, потом Гостеву — никого, посоветоваться не с кем. Я забегал еще сильнее и даже струхнул: вот, подлец, взял материалы (наверняка, злобная клевета на наш общественный строй и советскую действительность!), отнесет их в посольство, например, — и поминай как звали…
Позвонил «Лорду» — на счастье, он оказался дома. Я верещал, как испуганный сверчок, «Лорд» же был не по-грузински, а по-эстонски спокоен. «Придется хотя бы для очистки совести слазить к нему еще разок, старик. А может, и впрямь найдем чего-нибудь стоящее».
«Да как же без санкции, без начальства…» — запищал я и вдруг понял, что это сейчас не главное. Главное — узнать, что итальянец притащил со встречи с «Р».
Мы встретились с «Лордом» у метро «Университет», там нас уже ждала одна из опермашин «семерки». Никакие вспомогательные службы с отмычками мне не были нужны — к этому времени участок был полностью «освоен», и я мог войти в любую комнату общежития практически в любое время.
Мы с «Лордом» тщательно осмотрелись и подготовились. Санто был в соседнем корпусе, минутах в десяти (плюс две-три на одышку толстяка) ходьбы от своей комнаты — риск достаточный. Ребята из «семерки» расставились соответствующим образом. «Лорд», я и один из сыщиков, поддерживавший радиосвязь с бригадой, вошли в коридор общежития — совершенно пустой. Я быстро открыл дверь ключом, полученным десять минут назад «где надо», и мы втроем ввалились в комнату, в которой я сравнительно недавно уже побывал. Сыщик сразу ткнул пальцем: «Вот этот сверток». Мы с «Лордом» аккуратно развернули его — книга, старое издание рассказов Горького, возможно, редкое. На всякий случай «прошлись» по комнате еще раз — ничего нет. Аккуратно, не спеша, облегченно вздыхая, вышли на улицу.
«Ну, завтра нам вклеют со страшной силой», — сказал я, не очень, впрочем, беспокоясь, — главное было позади. «Да ничего не случится», — невозмутимо заметил «Лорд».
«Да как же так, мы ж без санкции провернули мероприятие, которое разрешает чуть ли не Бобков?»
«Понимаешь, старик, в контрразведке надо выбирать что-нибудь одно. Либо ты работаешь, либо следуешь санкциям. Нельзя заранее испросить санкции на все. Нельзя добиться результатов, если постоянно заглядывать во все приказы и инструкции, — на работу просто не останется времени…»
На следующий день мы сначала пошли к Алексею Николаевичу, который выслушал нас совершенно спокойно (я ожидал восторгов и похвал) и сказал: «П-правильно сделали, молодцы. А то сейчас бы дергались — что передал, да куда дел». И все. Гостеву он пошел докладывать сам, и вскоре тот вызвал нас всех: Лебедева, «Лорда» и меня. Несколько минут он читал нам мораль, перечислял приказы и инструкции, которые мы нарушили вчера, и на меня, во всяком случае, нагнал некоторого страха. Потом вдруг засмеялся и сказал: «А вообще правильно. А то сейчас сидели бы, ковыряли в носу. Молодцы, что время не потеряли…»
А как же неприкосновенность жилища? А как же конституция? Ах, как все это неприлично, скажут многие.
Конечно, неприлично. Но ведь сотруднику зарубежной организации тоже не очень прилично, получая стипендию в Обществе дружбы, вербовать гражданина страны пребывания, снабжать его инструкциями и подрывными материалами — словом, втягивать в деятельность, такую же неприличную и уж совсем не дружественную…
Со временем я научился чувствовать тончайшую грань между необходимостью получить и иметь санкцию на что-либо и невозможностью получить и иметь ее всегда и в каждом случае. Это вовсе не означает, что я сплошь и рядом нарушал установленный порядок.
Дело в том, что спрашивают разрешения решительно на все те, кто не уверен в себе, кто хочет лишний раз подстраховать не работу, а себя. Начальство почти всегда понимает, о чем идет речь, и тут уж дело вкуса этого начальства: либо оно предпочитает сотрудников, которые «рвутся с поводка» и которых надо разумно направлять, иногда сдерживать (облекая подчиненных доверием, но и рискуя вместе с ними), либо оно предпочитает полностью исключить оперативный риск из своей жизни и не дает подчиненным шагу ступить, не сверившись с приказом или с инструкцией. За годы службы в КГБ я пришел к выводу, что первых больше, чем вторых. Но ненамного.
Завязывалась интересная ситуация, и я был охвачен азартом. Но занимался я не только этим делом, всего остального с меня никто не снимал и отложить в сторону не разрешал.
Помню, что в это время приезжала по линии ССОД представительная делегация квакеров из США, и вместе с сидевшими в ССОДе «под крышей» разведчиками мы вцепились в нее мертвой хваткой. О квакерах тогда было известно немного, в ПГУ мне показали небольшую справку по квакерской организации США и сказали, что Никсон — тоже квакер. Во 2-м Главке я знатоков по этой части не нашел, но там выразили уверенность, что квакеры с их влиянием и связями наверняка «завязаны» на ЦРУ. Подозревать — самое любимое и самое обоснованное занятие контрразведки. Американцев обложили со всех сторон, но ничего интересного не получили, пока не увидели у одного из них здоровенный портфель, набитый какими-то документами. Мероприятие, аналогичное вышеописанным, я провел в гостинице, где жили американцы, и через два-три дня у меня на столе высилась груда фотокопий.
Там было немало интересного о структуре и связях квакерской организации, о ее влиянии. Был, например, список стипендий молодым ученым, направлявшимся в различные страны мира с самыми разными задачами. Помню анкету молодой девушки, которая должна была защитить диссертацию на тему «Идеологические принципы Организации освобождения Палестины» и посылалась для этого в Ливан… Были ли квакеры связаны с американской разведкой, я, конечно, не установил, но то, что такие диссертации могли интересовать кого угодно, сомнений не вызывало. Возможности же у квакеров, судя по документам, были немалые, и прикрытием они могли быть весьма неплохим. Я крутился в водовороте сразу многих дел и успевал почти все.
Материалы по квакерам в Управлении с удовольствием прочли, похвалили меня за проведенные мероприятия и разрешили отправить их в ПГУ — 5-му Управлению было не до квакеров: шла весна 1968 года, уже были приведены в действие силы, не видимые и не слышимые большинству, уже заволакивали Чехословакию тяжелые черные тучи…
В ССОДе, в отделе соцстран, которым никто в 5-м Управлении не занимался, у меня, человека запасливого, были неплохие возможности. Да что там неплохие: в разной степени мне готовы были помочь лучшие сотрудники отдела. Информация, которую они поставляли, была малоободряющей. А источники были неплохие — у ССОДа в соцстранах были прекрасные контакты в различных слоях общества — снизу доверху. В достоверности информации сомневаться не приходилось — дела были плохи: западные спецслужбы резко активизировали свою работу в стране, она была наводнена «туристами» — особенно из ФРГ.
Что мы тогда знали из нашей прессы? Как она влияла на нас?
Человеческое лицо, которое так и этак примеривал чешский социализм, обнаруживало все более интересные свойства. Стоило ему, как подсолнуху к солнцу, обратиться на Запад, и оно расплывалось в искательной улыбке. Как только этот светлый лик оборачивался в нашу сторону, его черты тут же искажались в гримасе праведного гнева, благородного негодования и почти западноевропейской брезгливости по отношению к славянскому брату.
Особенно усердствовала «интеллектуальная элита». Писали, что весь социализм готовы поменять на подержанный «фольксваген». Рисовали, как увешанный автоматами Иван вонзает здоровенный нож в спину доверчиво обнимающего его Гонзы. В многочисленных статьях экономистов в доступной форме объяснялось, что если бы не иго Советов… ого-го бы! (О том, что нефть, например, у Советов покупали вшестеро дешевле, чем она стоила в цивилизованном мире, не упоминалось.)
А что же народ? А народ трудился, попивал пивечко, заедал шпикачками и рогаликами, цитировал любимого Швейка. То, что от его имени уже сочиняли некий Пригласительный Документ, народ, видимо, не волновало.
Да и то: русские солдатики из воинских частей вели себя так же, как и везде, — то есть очень плохо. Многочисленные политработники в армии занимались чем угодно, только не воспитанием, которого не хватало всегда. Офицерики приторговывали всем казенным, что плохо лежало (а оно у нас всегда лежит плохо). Руководители многочисленных дружеских делегаций, нахлебавшись дармового пива, падали лицом прямо в сукно президиумных столов…
Многое из того, что получили, мы заслужили.
А ведь в старину, когда зимой резали гусей, у чехов была поговорка: «Еднего гуса — для руса»…
Информация, которую я получал, и рядом не лежала с той, что «гнали» в Москву дипломаты, журналисты и разведчики, работавшие в Праге. Однако на некоторых моих документах и агентурных сообщениях стояла подпись Бобкова — Ф. Д. всегда аккуратно расписывался на всем, что читал.
Никаких заданий от руководства, кроме как «держать руку на пульсе», я по чешским делам не получал. 5-е Управление интересовало больше, как положение в «братской» стране отражается на наших внутренних делах, как наши собственные инакомыслящие реагируют на новости из Чехословакии, какие процессы завариваются внутри нашей страны.
«Изучайте, изучайте процессы, — твердил Бобков. — Дела оперативного учета — это возможность видеть процессы, а не только отдельных людей…»
Я втихомолку радовался тому, что не мне эти процессы изучать, и долбил себе свой участочек, как трудолюбивый дятел. Радовался я еще и потому, что по молодости лет мне импонировало происходившее в ЧССР — ведь был брошен вызов тому, что и нам здесь обрыдло до невозможности. Кроме того, и те, с кем я мог разговаривать на эти темы, и я сам были совершенно уверены, что «венгерский вариант» не повторится — времена не те, мышление изменилось. Интересно было, как будут решать «чешский вопрос» политическими мерами, как сработает наша славная дипломатия, ПГУ, какие политические средства давления будут предприняты другими социалистическими странами…
«Лорд», конечно, оказался прав. «Р» «развалился» при первой же беседе (об аресте речь вообще не заходила: руководство решило не калечить жизнь человеку, а просто вытянуть из него все, что он знал, — так и случилось). «Р» рассказал, что литературой, листовками и штампами для их изготовления его действительно снабжал Санто, с которым он был давно знаком. Возможно, итальянец и на курсы-то приехал для того, чтобы поруководить своим агентом, — обстоятельства сложились так, что мы об этом так и не узнали.
Дело в том, что сотрудники, занимавшиеся НТС, готовили какую-то акцию, которой наша возня с «Р» и Санто — предай мы гласности эту историю, как собирались, — могла бы повредить. Наши мероприятия проводились в контакте с этими людьми, по некоторым вопросам они нас консультировали. В конце концов, из «Р» выжали то немногое, что он знал, и, напугав до полусмерти, отпустили. Мне хотелось тоже наказать толстяка НТСовца и не просто выгнать его с курсов и из страны, но и ославить в прессе. Однако все, что было известно об итальянце, руководство обнародовать по некоторым причинам не разрешило.
Санто вызвали в ССОД и провели с ним беседу, в которой принял участие и я под видом сотрудника ССОДа. Ему объяснили, что его поведение и антисоветские высказывания на занятиях неприятны не только преподавателям, но и другим слушателям (так оно и было, потому что, узнав о провале своего связничка, итальянец разозлился и повел себя по-хамски). Поэтому руководство ССОДа приняло решение отчислить его с курсов и отправить в Италию. Толстяка все это здорово обескуражило, но видно было, что он понимает, в чем суть дела, и «трепыхаться» не будет.
В «Комсомолке» дали невнятную статью о Санто и «Р» — «намеки тонкие на то, чего не ведает никто», толстяка выставили за пределы, я еще раз прошелся по его связям и свернул работу.
Получилось не так уж и плохо: маленькое, аккуратное дело с конкретным противником и конкретным результатом по «пресечению враждебной деятельности» — разоблачили и выключили из игры свежего агента НТС, причем обошлись без слишком суровых мер; выявили и выдворили из страны НТСовского связника — тоже без лишнего шума.
Недели полторы я «ходил на прямых ногах» и, скромно потупившись, принимал поздравления коллег.
Рано утром, только что доложив Ф. Д. о законченном дежурстве по управлению, я собирал свои бумаги. В это время в приемную, прижимая к груди свежую «Комсомолку», мягким кошачьим ходом вошел И. — сотрудник одного из отделений нашего отдела, рыхлый нескладуха в очках. Разминая на лице сладчайшую улыбку, он проследовал в кабинет руководства. Я знал, что статья о выдворении итальянца должна была появиться именно в тот день, публикацией занимался «Лорд». Закончив дежурство, я пошел к нему и ревниво спросил: «Что это И. потащил к Ф. Д. «нашу» статью — он же никакого отношения к этим делам не имел?» — «Э-э-э, старичок, это неважно. Такие, как И., никогда ни к каким оперативным делам отношения не имеют. Его вообще хотели с оперативной работы убрать — не получилось из него агентуриста. То ли боится людей, то ли закомплексован… Но лезть к начальству с результатами чужой работы умеет здорово. Учись, дружок…»
Учиться я этому не стал, я предпочитал добиваться своих собственных результатов — и кое-что получалось-таки…
А И. с оперативной работы так и не убрали. Наоборот, он все рос да рос, потом пошел «по партийной линии», а потом вернулся в наше многострадальное управление генералом. С нами, «стариками», вел себя скромно, а молодежь учил, истово учил работать.
****
Интересная штука были эти ночные дежурства. Пару раз в год примерно каждый опер должен был отдежурить с восьми вечера до примерно девяти утра, когда на работу приходил Ф. Д., которому и отдавался рапорт по происшедшему за ночь. Дежурили вдвоем — офицер из дежурной службы, сотрудники которой, сменяя друг друга, находились в комнате дежурных всегда, и сотрудник одного из оперативных отделов. Иногда такие ночи проходили в разговорах (если штатный дежурный был симпатичный парень). Я старался использовать дежурства для канцелярских дел: подшивал документы, вычитывал сводки «наружки» и слухового контроля, в общем, «подчищал» свое хозяйство.
Приходили курьеры, приносили документы и пакеты, за получение которых мы расписывались. Звонили из различных подразделений КГБ в Москве и из местных органов. К утру все дежурные службы перезванивались и обменивались информацией о случившемся за ночь, с тем чтобы руководство всех подразделений КГБ было информировано наилучшим образом.
Мои дежурства проходили относительно спокойно, запомнился только один случай, когда позвонили с какой-то границы. Кажется, из ФРГ возвращался Ростропович, и пограничники были смущены его багажом — он ехал за рулем купленного там «Фольксвагена К-70», к нему прицеплен маленький трейлер, на крыше которого был закреплен катер. Трейлер был, понятное дело, не пустой. «Ну и что? — спросил я пограничника. — У таможни вопросы?» — «Да нет, вообще-то, но уж больно много всего». — «Ну, все-таки Ростропович же». — «Да и то». Вот так и поговорили.
Долгое время наш 1-й отдел работал без начальника. Руководству Управления было, видимо, нелегко подобрать человека на эту должность: объем работы отдела — творческие союзы, медицина, разработка выявленных инакомыслящих, радио и ТВ, обществоведческие институты Академии Наук и многое другое — требовал руководителя-универсала. Отделом руководили два заместителя начальника — Виктор Тимофеевич Гостев, выходец из ЦК комсомола, о котором я уже говорил, и Александр Владимирович Баранов — спокойный худощавый человек с огромными грустными глазами. Он возглавлял группу «разработчиков», занимавшихся «антисоветчиками». На терминологические темы у нас было немало язвительных разговоров — в узком, конечно, кругу. Сами термины «антисоветизм» и «антисоветчики» были иезуитски лицемерны. Власти Советы давным-давно не имели никакой, и наши диссиденты вовсе не на Советы нацеливали свои акции. Согласно же принятым в КГБ эвфемизмам, называть их «антипартийцами», а их деятельность антипартийной как-то не получалось — так в сельских местностях раньше медведя называли «он». Партия была неприкасаемой.
Даже название КГБ при СМ СССР (Совете Министров СССР) было лживым — за все годы моей службы я ни разу не слышал, чтобы КГБ о чем-либо информировал СМ СССР. А записки в ЦК шли непрерывным потоком — из всех подразделений, всегда. Только незадолго до разгрома КГБ стал именоваться просто — КГБ СССР.
Наконец, появились слухи о будущем начальнике отдела — прочили на это место Ивана Павловича, руководителя одного из отделов Управления по Москве и Московской области. Охотники за новостями принялись добывать через знакомых в Московском управлении сведения об И. П., как его там называли. Вскоре узнали и другое прозвище — «Палкин». Говорили, что он спец по изучению процессов в среде творческой интеллигенции, профессионал, службу начинал чуть ли не вахтером в одном из зданий КГБ. Много разговоров было о его жесткости, даже жестокости, о том, что карьеру он якобы сделал благодаря умению выступать везде, всегда, по любому поводу и очень долго. Я по опыту знал, что подобным слухам слишком доверять не стоит — много уже я видел сотрудников, которые были бы недовольны и Иисусом Христом, стань он начальником отделения.
А у меня пошла одна «зацепка» за другой. Источники сообщали, что молодая австрийка Лиза У., слушательница «моих» курсов, высказывается на занятиях порезче уехавшего в Италию Санто, поддерживает активные связи с художниками-абстракционистами. Много времени Лиза проводила и с еврейской молодежью, причем, как говорили, довольно целенаправленно. Словом, оснований уделить ей достаточное внимание было «более чем». Я всерьез занялся ею, и результаты последовали довольно быстро. Лиза не просто была знакома с рядом художников «нетрадиционных направлений», но и собирала их картины для вывоза за рубеж и организации там «тенденциозных», как мы их называли, выставок, которые считались «идеологически ущербными». Перед одной из таких поездок предупрежденные нами таможенники изъяли у нее целую папку рисунков и картин, что было соответствующим образом задокументировано. Удалось выяснить, что в организации таких выставок принимал активное участие некто Погрибный — НТСовский деятель, проживавший в то время в Австрии. «Бедная Лиза» постепенно вырастала в идеологического противника первой величины. Я, как паук, раскинувший паутину, опутал ее густой сетью своих помощников, подслушивающих, подглядывающих.
Вскоре выяснилось, что, встречаясь с молодежью, Лиза немало времени тратила на беседы о перспективах выезда в Израиль, с художниками тоже велись разговоры об эмиграции. Между прочим, о прогулках с Лизой по Москве вспоминает в своем матерщинном романе известный писатель Эдуард Лимонов. Интересно, о чем она говорила с ним?
К этому времени я, не удовлетворенный изучением своих подопечных «бесконтактно», разработал себе скромненькую «крышу» и получил разрешение руководства на личное знакомство со слушателями курсов. Особенно доверительных отношений установить не было возможности, но я «мелькал» на ССОДовских мероприятиях, ходил, как «активист» ССОДа на экскурсии, ездил по стране — словом, присматривался к своей клиентуре. Присматривались, наверное, и ко мне.
Продолжалась работа и по линии культурно-общественного обмена ССОД, Комитета защиты мира, Комитета советских женщин. Приезжали делегации из-за рубежа, которые обеспечивались «оперативным вниманием», формировались делегации для зарубежных поездок из «представителей советской общественности».
Помимо перечисленных возможностей, в этих ведомствах я всегда мог рассчитывать и на помощь работавших там «под крышей» офицеров разведки — сейчас говорится много глупостей о их многочисленности (один популярный ТВ— обозреватель в разгар охоты на чекистов брякнул, что треть журналистов телевидения — сотрудники КГБ), но в каждом из известных мне учреждений, официально считавшемся «общественной организацией», было по нескольку таких людей. Надо сказать, что мне повезло — часто между «подкрышниками» (сотрудниками действующего резерва КГБ) и кураторами из контрразведки отношения не складывались то из-за оперативной конкуренции, то по личным мотивам. С моими же «подкрышниками» я жил всегда душа в душу, и мы с удовольствием помогали друг другу. Почти все они были опытными людьми (некоторые — просто корифеями, немало поработавшими за рубежом, с хорошей выдержкой и знанием жизни, у них можно было поднабраться и опыта в работе с иностранцами). Кстати, о «действующем резерве». Газетчики считают, что так называется запас КГБ, и сильно ошибаются. Действующий резерв, или, как его называют спецслужбисты, «д/р» — это оперработник, находящийся под прикрытием ведомства. Например, все разведчики, работающие за рубежом под крышей посольств и других советских организаций, — «д/р».
А запас КГБ — такие же, как и в армии, пенсионеры.
Неправду сказал Егор Владимирович Яковлев, начавший охоту на чекистов в Гостелерадио, не получают они двух зарплат — зарплата и премии ведомства сдаются в бухгалтерию КГБ, на руках остается то, что положено по должности и званию спецслужбиста. Мало того, должности и зарплаты по местам работы «подкрышников» тоже принадлежали не ведомствам, а проведены были хитрым образом через КГБ специальными постановлениями правительства…
****
Маленький японец, Т. М., учившийся на курсах, обратил на себя внимание необыкновенной жаждой успеха и отсутствием каких-либо связей или дарований для его достижения. Он без конца сочинял какие-то статьи, которые никто не собирался печатать, выступал с невнятными сообщениями, прилежно изучал русский язык. Я стал присматриваться к нему повнимательнее и прикидывать, а не помочь ли ему в устройстве карьеры? Ну, не задаром, конечно… Лебедев сказал: «Н-ну, а ч-что, Жень, вербанем «на вырост», а там пусть ПГУ смотрит, что из него получится…» Агентуру из иностранцев тогда вербовали в основном для использования за рубежом, передавая ее на связь резидентурам разведки. Бывало всякое — некоторые агенты занимали в странах проживания министерские посты и успешно сотрудничали с ПГУ, другие мыкались без всякого успеха и никакой пользы принести не могли, от некоторых ПГУ отказывалось как от недостаточно проверенных, были и такие, которые после возвращения писали книжки «Как я был агентом КГБ»…
Т. М. попал-таки в расставленную мною в одном из старых русских городов ловушку. Во время прогулки по улицам он решил пофотографировать какие-то старые дома и дворы — может, с целью продать потом неприглядные виды какой-нибудь японской газетке, а может, просто «на память». Местная наружка по нашей просьбе предусмотрела такой вариант — то ли сыщики мобилизовали жителей этих домов (делалось и такое), то ли они сами доброкачественно возмутились поведением иностранца, но вскоре у меня на столе лежало несколько писем от советских граждан.
Они негодовали по поводу того, что иностранец не интересовался, понимаете ли, красотами старинного города, а лазил по помойкам и тому подобное. Чепуха, скажете вы? Для дипломата, бизнесмена — конечно. А для студента, да еще обучающегося здесь на наши же деньги — совсем нет.
Кстати, о местных органах. Как и во всех других учреждениях и организациях нашей страны, там победнее, похуже, поотсталее, чем в столице, но работники, как правило, все-таки «держат марку». Однажды я пошел с каким-то документом консультироваться в 4-й отдел ПГУ (тогда почти вся разведка размещалась в нашем же здании на площади Дзержинского — теперь Лубянке). Там я стал свидетелем разговора, который запомнил надолго, а с одним из собеседников на всю жизнь подружился.
В тот момент он орал на молодого сотрудника, который неуважительно отозвался о местном ЧК или сотруднике с периферии: «ЧК в Черновцах — это же самое, что ЧК в Москве или Ленинграде! Сотрудники там такие же, как и здесь! Они решают такие же задачи! Если ты этого не понимаешь, тебе вообще нечего делать в КГБ!»
Вот и помогли мне ребята из старинного городка с этими заявлениями. Конечно, материал не для суда, не Бог весть какое преступление даже по тем временам. А вот для разговора, скажем, с рассерженным представителем МГУ или ССОДа, в роли которого может выступить кто-нибудь из наших сотрудников, — вполне…
Провокация? Да ничего подобного — просто изыскание возможностей выхода на беседу с некоторым запасом преимуществ.
Провокация — совсем другое. Вспоминаю рассказ покойного Александра Ивановича Куликова — лысого, плотного ветерана по прозвищу «Маршал».
«Был у меня, Женя, агент, передали его из другого управления, не я сам вербовал. Ну, работа как-то сразу не заладилась, не притерлись мы друг к другу, не понравились. Хотя человек был толковый, грамотный, кстати, еврей и с хорошими связями в деловой еврейской среде… И вот он мне через полгода этак говорит: «Александр Иванович, вижу, вы недовольны мной, неинтересно нам работается». Ну я ему: «Да нет, что вы, все нормально, не беспокойтесь». А он мне: «Это вы не беспокойтесь. Я не подведу. Хотите, в следующий раз «террорчик» вам принесу?» Ну, на следующий день уже Бобкову доложил, из агентурной сети его исключили, и дело сбросили в архив. Вот чего опасайся, Женя. Попал бы он на какого дурака, раскрутили бы они такой «террор», потом и сами не расхлебали бы… Бойся таких — а есть и похуже. У нас на медицинской линии и академики есть, которые не прочь КГБ против оппонентов использовать — только ухо востро держи, а то таких «сигналов» накидают, что во всем «Доме» бумаги на писанину не хватит».
****
И вот пришел И. П., «Палкин». Это была веха не только в существовании отдела, а позже Управления, ибо И. П. «рос» как гриб после дождя, — это была веха в существовании «пятой линии» не только в Москве, но и в масштабах Союза, так как 5-е Управление руководило «пятой линией» по всей стране.
Он не сразу собрал нас — присматривался, прислушивался, разговаривал с руководителями отделений, со своими заместителями, «щупал» отдел, а может быть, уже и Управление и наконец пригласил нас в свой просторный кабинет — человек 30.
Он не стал, как это принято в ЧК, представляться или рассказывать о себе — видимо, считал, что уже достаточно популярен. Он сразу решил «дать кнута».
С первых его фраз я понял, что все до сих пор слышанные и виденные мной ораторы были И. П. по щиколотку — в лучшем случае по колено. Он зримо наслаждался не смыслом говоримого, а самим процессом говорения, и было видно, что остановить этот процесс не в силах никто и ничто. Странным образом соединив ноги в коленях и расставив ступни, он размахивал свободно висящей кистью с оттопыренным указательным перстом, назидая. Он хотел показать, что уже глубоко вник в дела отдела, знает основные разработки, агентуру, работников. Упреки и обвинения летели в адрес всех без исключения, участки работы отмечались как застойные и заброшенные.
«Вот, например, участок медицины — ведь давно уже там не было интересных дел», — запнулся он на секунду. И тут же спокойно встрял покойный ныне Борис Королев. «Ну почему же, Иван Павлович. Вот знаменитое «дело врачей» было очень, очень интересное…»
Повисла заковыристая пауза, но не надолго — опытен был И. П. и многознающ. Он знал, что затягивать такие паузы для оратора — смерти подобно, и бодро поскакал дальше, помахивая кнутом и рассыпая удары направо и налево. Не надо долго работать с людьми, чтобы понять — навсегда врезался в память И. П. этот вольтерьянец.
Страсть И. П. к говорению преследовала нас вплоть до его ухода на пенсию. Она приобретала все более патологический характер. Особенно И. П. любил ораторствовать на «чекучебах» — занятиях по чекистскому мастерству. Он редко говорил меньше 40 минут, постепенно разогреваясь, входя в раж, «заводясь». Опять взвивался кнут, опять доставалось сначала руководителям отделов, потом — отделений, потом упоминались сотрудники, застрявшие в памяти или попавшие на глаза. Никто не был забыт, ничто не было забыто. О, если бы эти речи имели практическое воплощение! Идеологический противник был бы вырван с корнем из гнилостной почвы и выброшен на свалку истории навсегда — «целиком и полностью». Я очень любил этот советизм — как бы взлетающее с некоторым замедлением и даже с вопросом «целиком» и тяжелое, убедительное и не оставляющее места для сомнений «полностью». Чудо «новояза».
И. П. слыл знатоком творческой интеллигенции…
А Зиновьев?
«Интеллигенция — самая трудно выращиваемая ткань общества. Ее легче всего разрушить. Ее невероятно трудно восстановить. Она нуждается в постоянной защите. Чтобы ее уничтожить, на нее не надо даже нападать. Достаточно ее не охранять. И общество само ее уничтожит. Среда. Коллеги. Друзья. В особенности — интеллигенциеподобная среда. Она ненавидит подлинную интеллигенцию, ибо претендует на то, чтобы считаться ею. Она имеет власть и потому беспощадна. Много ли нужно, чтобы убить интеллигенцию? Пустяки. Тут умолчать. Тут сократить. Тут сказать пару слов. Тут пустить слушок. Тут не пропустить и т. д. У нас умеют это делать блестяще. Учиться этому не нужно. Это само приходит в голову. А власти смотрят на это сквозь пальцы или поощряют, ибо интеллигент — это говорящий правду об обществе и о власти в том числе…»
****
Материалы на Лизу У. Накапливались, и пора было принимать решение — либо на основании имевшихся данных (вывоз картин за рубеж) разыграть праведный гнев и выслать ее из страны, либо — опять-таки праведно гневаясь, выйти с ней на беседу и посмотреть, что из этого получится. Дело в том, что высылка из страны для «моих» иностранцев была весьма неприятной вероятностью — многие из них серьезно и глубоко изучали русский язык, и перспектива выдворения из СССР с последующим закрытием въезда в страну практически сводила на нет их немалые усилия. Ставилась под угрозу и работа с языком внутри своей страны — например, с делегациями из СССР. При раскладе, какой имелся в деле Лизы, все карты были у меня на руках: не сложатся отношения — высылаем ее из страны и избавляемся от одного из многих «очагов напряжения», я ставлю галочку в графе «активные мероприятия», начальство целует меня перед строем, сложатся — вытянем из нее что-нибудь интересное, а может быть, и «вербанем».
Лебедев пошел к начальству за санкциями и довольно легко получил их, несмотря на то что «верняком» здесь не пахло, вполне возможными начальству казались и негативные варианты — жалоба Лизы в посольство, в ССОД, да и мало ли еще что. Как ни аккуратно я вел дело, начальство не могло знать всего того, что знал я, и не только о Лизе, но и о всех слушателях курсов, их настроениях, взглядах, сплетнях в конце концов.
К беседе я подготовился старательно — запасся справкой из таможни об изъятии картин при попытке их вывоза за рубеж, в одной из типографий мне изготовили гранки статьи о недружественном поведении студентки из Австрии, обучающейся в нашей стране по линии общества дружбы «Австрия — СССР». Появление такой статьи в нашей прессе (в 5-м Управлении их научились печь как блины) было бы уж совсем неприятным для Лизы фактом — общество «Австрия — СССР» могло и само отозвать ее из Москвы.
Лебедев сказал мне, что И. П. повелел перед встречей с Лизой зайти к нему и получить «це-у». К этому времени весь отдел уже знал, что И. П. в работе по иностранцам не силен, и ничего ценного от этой беседы я не ждал.
Кроме подхалимов и лизоблюдов, к И. П. ходить никто не любил: он, например, всегда отдавал предпочтение не сотруднику, находившемуся у него в кабинете, а одному из десятка телефонов, украшавших комнату. Говорить по телефону он, кажется, любил еще больше, чем говорить вообще, и как только раздавался телефонный звонок, все находившиеся в кабинете для И. П. превращались в предметы меблировки. Он «токовал» по телефону, как глухарь, забывая обо всем. Ходила шутка, что во время телефонного разговора с него можно снять штаны, унести все содержимое сейфа — не заметил бы ничего. Однажды, сидя у него с Феликсом П., мы слышали, как он сказал какому-то важному чиновнику из прокуратуры: «Да что вы все «инакомыслящие, инакомыслящие». Вот дали бы мне возможность посадить человек 400 — вот вам и все инакомыслие закончилось бы… «Мы обменялись многозначительными взглядами, зная, что токующий И. П. их не заметит.
Моя беседа с И. П. продолжалась часа полтора, потому что прерывалась телефонными звонками. В конце разговора он посоветовал рассказать Лизе, «как американцы обделались во Вьетнаме», — это казалось ему серьезнейшим аргументом. Он не понимал, что Лиза, близкая по взглядам к «новым левым», радовалась, видимо, поражению американцев не меньше, чем сам И. П. Это, однако, не наполняло ее восторгами по поводу реалий нашей жизни и устройства нашего общества, равно как и положения в нем творческой интеллигенции. Я, однако, помалкивал, поддакивал, проникновенно качал головой, словом, не мешал начальнику чувствовать себя начальником — в общении с И. П. это было одним из главных элементов поведения. Наконец, И. П. наговорился и со мной, и по телефонам и, пожелав удачи, отпустил.
К таким беседам, какая предстояла мне, готовятся с тщанием. Прикидываются варианты, повороты, вопросы и ответы на вопросы. Беседа, задуманная как вербовочная, может соскользнуть в колею бессодержательной болтовни, бывает и наоборот: беседа, цель которой — установление хорошего личного или делового контакта, вдруг оборачивается полноценной вербовкой. Для спецслужбиста всегда важно уловить тот часто незаметный момент, слово, междометие, шум за окном, которые составляют центр разговора и могут поменять его сущность в значительной мере.
Лиза пришла в один из кабинетов МГУ, хозяином которого я притворился. Я назвался Борисом Ивановичем, любезно усадил ее в кресло и начал беседу с обычных малозначащих вопросов — как учеба, как жизнь, как «вообще»? Спрашивающего в таких случаях ответы не интересуют — ему интересно, как ведет себя собеседник: не встревожен ли, не напуган, не агрессивен и т. д. В зависимости от своих наблюдений спецслужбист не торопясь выстраивает линию разговора. Беседа, конечно, записывается либо стационарно, либо на портативную технику. Запись первой беседы изучается особенно внимательно — именно запись, звук, а не машинописный вариант. Фраза «Вы врете» в машинописи выглядит достаточно резкой, а то и грубой — на пленке же она может звучать грубо, укоризненно, осуждающе, увещевающе, насмешливо, недоверчиво, восхищенно, недоуменно, ласково, нежно — как угодно. В том случае, если это центральная фраза разговора (иногда спецслужбисты называют ее «информационной»), очень важно понять ее звучание и, следовательно, значение для развития беседы и последующих отношений между собеседниками.
Лиза держалась спокойно, охотно отвечала на вопросы, я тоже был любезен и даже забыл, что беседа «пишется» (часто спецслужбисты не любят говорить под запись, опасаясь, что впоследствии начальство либо найдет какую-либо ошибку, либо истолкует какой-нибудь момент беседы неверно — с точки зрения оперработника).
На каком-то этапе беседы я лицемерно вздохнул, задумчиво покачал головой и сказал Лизе, что вот, мол, есть на вас жалобы — попытка вывезти из СССР произведения искусства подпольным образом, что очень, понимаете ли, нехорошо. Сразу стало ясно, что я «попал». Худощавая, нескладная девушка моментально осунулась, съежилась в кресле, стала еще непривлекательнее… Она залепетала что-то о том, что картины хотела вывезти не подпольно, а просто в чемодане, что в СССР эти картины не считаются произведениями искусства, художникам не разрешают их выставлять и т. д. — то есть полезла прямо в расставленную ловушку.
Я понял, что надо «увеличить нагрузку», «дожать» собеседника. Достав из папки гранки статьи, я протянул их Лизе со словами: «Вот видите, уже и статья о вас подготовлена — чудом удалось перехватить. Почитайте не спеша — может быть, наплевать, пускай печатают? Или попробовать остановить публикацию?»
Пока Лиза читала, я делал вид, будто что-то пишу, на самом деле внимательно наблюдал за ней. Над верхней губой у нее выступил пот, через минуту закусила нижнюю — дочитала, видимо, до того места, где описывалось ее знакомство с НТСовцем Погрибным. Лиза знала, что это знакомство само по себе гораздо важнее каких-то картин — статьи о НТС у нас печатались достаточно часто.
Я прикидывал, не пора ли начать объяснять Лизе последствия такой публикации — высылка из страны, компрометация и т. д., и т. п. Но в это время она закончила чтение и после короткой паузы внятно, глядя мне в глаза, сказала: «Я не хотела бы, чтобы эта статья была опубликована».
По взгляду и интонации, с которой это было произнесено, я понял, что «условия игры» ею осознаны и приняты. Предстояло выяснить, что удастся вытянуть из Лизы и возможно ли, в конце концов, склонить ее к настоящему сотрудничеству — ее связи среди «неортодоксальных» художников представляли немалый интерес для соседнего отделения, и я уже был снабжен вопросником солидного размера, рассчитанным не на одну беседу. Меня же интересовали слушатели курсов русского языка, Погрибный (по нему тоже был вопросник из подразделения, занимавшегося НТС) и перспектива использования Лизы после ее возвращения на родину…
****
В контрразведке КГБ был обычай «слушания» начальниками управлений не только отделов, но и отделений — таким образом руководство не утрачивало связи с оперсоставом, имело возможность оценить руководителей отделений, рядовых сотрудников, донести до тех и других последние веяния оперативной мысли и разъяснить основные направления работы. Однажды, в начале существования 5-го Управления, Бобков «слушал» наше отделение.
Молодой здоровенный (и очень ленивый) литовец — он курировал Институт всеобщей истории, рассказывал о работе на своем участке, называя имена известных ученых и деля их на «ортодоксов» и «ненадежных»… Выслушав его, Бобков низко склонил голову над столом и задумчиво, как бы для себя, промолвил — именно промолвил, а не сказал: «Если мы (!) продолжим делить живых людей на «ортодоксов» и «ненадежных», Управление быстро превратится в филерскую службу». Он оказался провидцем…
А Гостев к этому времени прорабатывал мое досье на Т. М., которое ему очень нравилось, — там не было особой драмы, за японцем не числилось никаких прегрешений, и с учетом его карьерных устремлений исход мог быть весьма приятным. Виктор Тимофеевич консультировался с японистами ПГУ и 2-го Управления, и даже голос его теперь приобрел какие-то слащаво-подвывающие (ему, видимо, казалось, японские) интонации. Вспоминали различные «японские» истории. Один опер, например, задолго до вербовочной беседы с японцем принялся питаться исключительно бифштексами и икрой, услышав от кого-то, что эта диета позволяет долго сохранять трезвую голову во время «вербовочной» выпивки. Периодически проводя контрольные мероприятия, он убеждался (или убеждал себя), что да, помогает. Усадив японца за уютный стол, он приготовился к тяжелой и длительной борьбе с зеленым змием, но японец, проглотив первую рюмку, мешком упал под стол. Наверное, анекдот, а может быть и нет.
Гостев отправился на встречу с японцем, надев «вербовочный» костюм — это одна из оперативных шуток: «вербовочными» могут быть одежда, авторучка, очки, то есть все привлекательное, призванное произвести положительное впечатление. Я волновался, хотя был почти уверен в успехе.
Часа через три у меня на столе зазвонил телефон, и Виктор Тимофеевич бодро крикнул в трубку одно лишь слово: «Заходи!» Когда я зашел, они с Лебедевым смаковали какие-то детали беседы с японцем, по разговору было ясно, что встреча прошла успешно.
«Ну, Евгений Григорьевич, молодчина ты у нас. Все как по маслу прошло — вот и подписку о сотрудничестве японец нацарапал, псевдоним себе сам выбрал. Это, по-моему, первая вербовка иностранца в Управлении. Сейчас пойду Филипп Денисычу доложу».
В этих делах комсомолец Гостев был дока и возможности лишний раз подчеркнуть первенство отдела (и свое, разумеется) никогда не упускал.
Виктор Тимофеевич регулярно встречался с японцем, таскал от него кое-какую «информашку» по слушателям курсов, прикидывал, чем бы тому заняться по возвращении в Японию — выходило, что журналистикой. Ни мне, ни ему почему-то не приходило в голову во время этих встреч покопаться в прошлом японца, «повспоминать» вместе с ним. А зря, как оказалось…
В разговорах с ПГУ Гостев уже «трогал» тему передачи Т. М. на связь разведке, с тем чтобы ее сотрудники здесь, в Москве, имели возможность присмотреться к агенту, натаскать его, отработать приемы конспиративных встреч. Там смотрели на все это благосклонно, и передача вот-вот должна была состояться.
И тут я получил уведомление о том, что японца проверяет по оперативным учетам такой-то сотрудник ПГУ. Думая, что это связано со скорой передачей «свежего» агента, я позвонил по указанному телефону и услышал молодой голос. Поздоровавшись, я поинтересовался при помощи обычного набора имевшихся на этот счет выражений, в связи с чем проверяется объект моей разработки. Я ожидал ответа, что, мол, вот, собираюсь принимать его на связь, но после довольно длинной паузы меня робко попросили о встрече.
Тогда ПГУ, 2-й Главк, мы, пограничники и еще Бог знает кто — все вместе сидели в одном здании; через несколько минут к нам в комнату вошел очень приятный молодой человек моих лет, одетый во все «вербовочное» — только что из Японии, и, представившись, попросил меня ознакомить его с делом Т. М. Ну, сказал я, дело у заместителя начальника отдела, а знакомиться с ним он, наверное, не разрешит.
На оперативном языке это означало, что дело либо особой важности, либо за ним скрывается серьезный агент, знакомить с которым сотрудника другого подразделения нежелательно.
Пэгэушник загрустил, тяжело вздохнул и поведал грустную историю. Оказывается, примерно за полгода до нашей встречи он, работая в резидентуре в Токио, познакомился и подружился с Т. М., постепенно подвел дело к его вербовке, снабжал небольшими суммами денег и даже получал расписки. Одного он и его товарищи не проделали должным порядком вовремя — не поставили Т. М. на соответствующий учет. Сделай они это — я не смог бы завести на японца досье и заниматься им. Теперь, когда досье было у меня — вернее, уже у Гостева, продолжать заниматься им они могли лишь с нашего разрешения и практически под нашим надзором.
Сложилась ситуация, которую Гостев назвал «пикантной». Во-первых, то, что резидентура еще до нас вышла на Т. М., свидетельствовало, что мы верно оценили его оперативные перспективы, сделали правильный выбор.
Во-вторых, как вскоре выяснил у Т. М. Гостев, японец воспринимал нашу работу с ним как продолжение работы, проводившейся в Японии, и это тоже было здорово, потому что ни там, ни здесь, в Москве, оперработники не сделали ни одной ошибки в работе с Т. М., «тащили» его очень конспиративно, берегли, демонстрировали глубочайше уважение — словом, учитывали национальный колорит. И там, и здесь большое значение отводилось перспективам устройства его на интересную для нас и для него работу, и там, и здесь старались его, хотя и скромно, но материально поддержать.
В-третьих, ПГУ, которое часто с некоторым недоверием относилось к агентам, завербованным контрразведкой, считая, что они недостаточно хорошо проверяются, в этом случае имело не только «готового» агента, но и готового для работы с ним сотрудника, уже знавшего его слабые и сильные стороны. Молодой человек, приходивший ко мне, должен был вскоре возвращаться в Японию.
Все это время я благодаря имевшимся у меня возможностям наблюдал за поведением Т. М. Не изменилось ли оно каким-то заметным образом, не поделился ли он с друзьями своим знакомством с Гостевым? Бывало и такое… Не стал ли пить, сорить деньгами?
Да нет, все было спокойно.
Однако на этом спокойствие и закончилось. Далее события развивались как во сне бюрократа, начитавшегося Кафки.
Молодой разведчик, оказывается, проверил Т. М. по учетам без разрешения начальства: исправляя допущенную в Японии ошибку, он захотел завести на японца досье. Об этом и о его визите ко мне начальству стало известно, и ему «вломили» и за незарегистрированную работу в Японии, и за проверку, и за беседу со мной — а честно говоря, за то, что упустил почти готового тогда агента. Ну подумаешь, скажете вы, — передали его разведке, и дело с концом, фирма-то одна и та же, что за споры. Одна-то одна, да не очень, как оказалось. Разобравшись со своим сотрудником, ПГУ нехотя, сквозь зубы, по телефону попросило у Гостева досье на Т. М. для ознакомления — а не для приемки его на связь. А Виктору Тимофеевичу хотелось именно отдать разведчикам агента и поставить отделу (и себе) огромную жирную галочку. Поэтому он, «расправив упрямые плечи», ответил, что дело ПГУ получит, только запросив его письмом на имя Бобкова.
ПГУ скисло, погрустило немного и решило: черт с ним, с японцем, но на поклон к Бобкову не пойдем, просить агента у подозрительного 5-го Управления не будем, и точка.
Т. М. оставалось еще пару месяцев доучиваться на курсах. Виктор Тимофеевич встречался с ним, получал кое-какую малозначащую информацию о его коллегах по учебе. О серьезной подготовке для работы с агентом в Японии речи уже быть не могло: ПГУ надменно отвернулось и от нас, и от Т. М., а позиций для устройства его судьбы на родине у нас не было. Мы ничего не могли предложить ему и в Москве — даже при всем многообразии работы нашего отдела трудно было придумать что-нибудь подходящее, соответствующее его подготовке, знаниям, навыкам (очень скромным, кстати).
Как всегда в таких случаях, прощаясь с ним, Гостев обменялся паролями, телефонами, условными знаками… Примерно через полгода, когда Виктор Тимофеевич был в отпуске, у меня на столе зазвонил телефон, и я услышал условную фразу — Т. М. был в Москве и просил о встрече (мой телефон был резервным). Мы просидели в гостиничном номере часа три, выпили бутылку шампанского, к которому Т. М. был явно непривычен — шибало в нос, вспоминали его однокашников, поездки по стране. Он видел меня впервые, а я знал о нем так много — и так мало. Дела его были так себе — подработки в каких-то общественных организациях, переводческая работа, сопровождение делегаций из СССР…
Т. М. мог бы приносить скромную пользу, а может быть, и «расти», но при одном условии — патронаже резидентуры ПГУ. Без него он был просто сиротой.
Прощаясь с ним, я снова проделал все положенные манипуляции с паролями, звонками и условностями, хотя понимал, что все это зря. Мне показалось, что и Т. М. понимает это, прощание было каким-то грустным.
К тому времени я уже наслушался историй от старых агентуристов, да и сам матерел понемногу. Меня не покидало ощущение, что это не единственный «сюжет» такого рода, что я не последний опер, сидевший у разбитого корыта, что Т. М. не последний брошенный и никому не нужный агент.
Я был один в комнате — «Черный» перебрался в другой кабинет, Федор Иванович целыми днями пропадал в ведомстве, куда собирался уходить «под крышу», Владимир Иванович был в отпуске. Дело Т. М., готовое к сдаче в архив, лежало на столе, и я тупо глядел на него. Вошел, как всегда в облаке дыма, Алексей Николаевич.
Я был настолько подавлен, что даже не пошевелился, чтобы встать, и он это заметил: «Ну что, что ты замлел? И не такое бывало. Работа проведена отлично, агент не провален, не потерян — как еще все обернется, кто знает… Давай-ка посидим, покурим в тишине, да прикинем твой первый выезд — поедешь «на учебу» в Англию».
****
Август 1968 года свалился на «Дом 2», как рухнувшая колокольня. Опять никто (кроме высшего руководства) ничего не знал, опять никто, или почти никто, не был готов принять, понять или осознать случившееся. Растерянные взгляды, кривые улыбки одних и дежурный энтузиазм других перемешались в идиотском круговороте. Одни злорадствовали по поводу «блестяще проведенной военной операции», другие отмалчивались, третьи загадочно ухмылялись.
Был объявлен особый режим, о местонахождении каждого дежурным по отделам и управлениям должно было быть известно каждую минуту. Время от времени отдельных работников куда-то вызывали и отправляли — понятно куда. Некоторых обмундировывали в военную форму.
Мы с женой (доложившись по начальству) отправились в Центральный клуб КГБ на американский фильм «Скованные одной цепью».
Время от времени чей-то голос объявлял фамилии вызываемых, и они выходили из зала — отправка в Чехословакию шла непрерывно.
Может быть, я был единственным, кто твердо знал, что его фамилию не назовут…
Днем раньше в отделе проводилось очередное «говорение» — нужно было одобрить политику Партии и Правительства. Упоминавшееся выше «Рыхлое Существо», жившее докладами о работе других, сообщило мне, что я должен выступить. Разговор имел место примерно за час до «говорения». Я спокойно ответил, что очень, очень плохо себя чувствую (и это была чистая правда — меня тошнило от всего этого) и выступить не могу. «Существо» пристально посмотрело на меня, и его тонкие губы хищно шевельнулись. Я ответил взглядом занемогшего Иванушки-дурачка и грациозно удалился. Оба собеседника прекрасно поняли друг друга, но ведь ничего не было сказано…
А во время «говорения» «Существо» не отказало себе в удовлетворении ехидно спросить: «Вы что, Евгений Григорьевич, плохо себя чувствуете?». «Ну, не так, как чехи», — спокойно ответил я.
В ССОДе я впервые по-настоящему столкнулся со взяточничеством, которое теперь (к удовольствию взяточников) называют красивым заграничным словом «коррупция».
В представительствах, домах науки и культуры, библиотеках и фильмотеках ССОДа работало за рубежом порядка 250 человек. И интересы двух главных взяточников ССОДа — «Кадровика» и «Бухгалтера», были связаны именно с этими людьми. Они настолько привыкли к взяткам, что, когда по скудоумию и непрактичности некоторых сотрудников ССОДа не получали их, применяли изящную систему вымогательств.
Поначалу я не относился серьезно к разговорам, которые иногда как бы случайно возникали в моем присутствии, потом насторожился. А потом «зарядил» агентуру и вскоре был просто ошеломлен.
В ведении «Бухгалтера» находилось сотни полторы ссодовских представительств за рубежом, во все эти представительства он должен был ритмично, аккуратно переводить значительные денежные суммы — зарплата сотрудника (или сотрудников), содержание и обслуживание автомобилей, оплата жилья, представительские, командировки по стране и в Москву и так далее.
И вот представьте себе, что вы возглавляете, допустим, Дом советской науки и культуры, скажем, в Индии, и у вас работают помимо соотечественников человек 20 местного персонала, которым вы должны выплачивать зарплату, но не можете этого сделать уже… третий месяц.
С трудом дождавшись ежегодного совещания представителей ССОДа за рубежом, проходившего в Москве, вы — измученный денежными задержками «ссодовец» — мчитесь в столицу, сжимая кулаки и готовя страшные кары бухгалтерии, но ничего драматического не происходит. В одном из закоулочков старинного здания ССОДа или Дома дружбы вам в доступных выражениях объясняют, что у «Бухгалтера», например, слабое здоровье, и он остро нуждается в хорошем питании, которое можно приобрести только в «Березке», а там, старик, нужно платить валютой, так что сам понимаешь… Нужно помочь, и тебе тоже помогут… И зарубежные представители помогали. Шляпы и пиво из Чехословакии, электроника из Японии и США, одежда из Италии, обувь из Англии — нескончаемый поток подарков из разных стран четко регулировал своевременное поступление туда денежных переводов. В конце концов, подарки ведь можно было покупать и на представительские…
А «Кадровик» — этот хитрец любил, сложив губы в куриную попку, начать любую фразу словами: «Я, как коммунист…». Ну, денежные переводы от него не зависели. Зато от него, хоть и не полностью, зависели сами назначения на заграндолжности и, что ничуть не менее существенно, получение хорошего места по возвращении из-за рубежа… Проработав три, четыре, пять лет за границей, вы могли вернуться на ту же самую должность, с которой уезжали. Может быть, даже и худшую. А поступательное движение вперед? А рост молодых кадров?
К концу моего «раунда» встреч с агентами, я знал, что все они, работая за рубежом, таскали, передавали, привозили подарки — а точнее взятки «Бухгалтеру» и «Кадровику». Просить их о том, чтобы они сами о себе писали сообщения и справки, было, конечно, бессмысленно.
Однажды я увидел, как представитель ведомства в богатой стране скользнул в кабинет «Кадровика», пряча под плащом великолепный, дорогой зонт английской, наверное, работы, в фабричной упаковке. «Ну я тебя, подлеца, пощекочу», — подумал я о «Кадровике»…
Притаившись в коридоре и не торопясь покурив, я дождался, когда даритель (естественно, без зонта) покинул кабинет. Войдя и вызвав своим появлением умильную улыбку на устах негодяя, я после обмена приветствиями спросил, указав на зонт, распакованный и лежавший на подоконнике, зачем бы он понадобился в такой солнечный день. При этом я, как мне казалось, проникал чекистским взглядом в самое нутро взяточника и был готов к тому, что он рухнет на колени, обливаясь слезами раскаяния.
Однако на глаза собеседника тут же упали чугунные заслонки с крохотными прорезями, а рот образовал крошечное отверстие. «Как коммунист коммунисту, Евгень Григорьич, скажу — вот хвалят у нас все это заграничное барахло, а чепуха ведь, чушь сплошная. Вот жена подарила на день рождения зонт, полгорода обегала, пока нашла… А раскрыл — и брак… Вот принес сегодня, попробую найти мастерскую, где починить. Ты не знаешь?»
Я почувствовал, что глаза за чугунными заслонками заблестели насмешкой. Нет, я не знал такой мастерской…
А где же мораль? Да как же ссодовцы, проверенные, с безупречными анкетами коммунисты, могли согнуться перед этими двумя (были и другие…) взяточниками? А парторганизация? А руководство?
Ну, если вы задаете такие вопросы, сразу видно, что вы человек невыездной или не выезжавший.
Вот, например, вы — представитель ССОДа в США, то есть вам представилась возможность стать им годика на три — четыре, а лучше на пять — шесть. Готовы ли вы рискнуть разбирательством по поводу сорокадолларового «подарка» «Кадровику» или «Бухгалтеру»?
А полеты через океан в салоне первого класса? А огромная квартира в парково-садовом районе Чеви Чейз, обставленная совсем не мебелью деревообрабатывающего комбината в городе Крыжополе? А бесшумный «олдсмобил» (а лучше — «бьюик», а то и «кадиллак»), хранимый в подвальном гараже вашего дома, — спуск в гараж лифтом чуть ли не из квартиры? А положение первого секретаря (а лучше — советника) посольства СССР?
А освобождение, черт возьми, от американских налогов при любой покупке? А возможность контачить с приезжающими в Вашингтон из Москвы «нужными» людьми, оказывать им простенькие, а то и не такие уж простенькие услуги и взамен мягко вынимать из них то квартиру, то дачный участок, то… да Бог знает что…
Так что борьбу со взяточничеством в ССОДе я решил вести — и вел только личными средствами все время, пока был там куратором. Как только я видел в газете или журнале карикатуру, рассказ или фельетон о взяточниках, я аккуратно вкладывал их в конверт и, не указывая обратного адреса, направлял в ССОД либо «Кадровику», либо «Бухгалтеру»…
Очень они, наверное, переживали, мучились угрызениями совести… Или нет?
****
С Лизой мы встречались пару раз в неделю. Встречи я всегда проводил только в гостиницах, вести Лизу на какую-нибудь из наших квартир не хотелось — я не доверял ей. Она рассказывала и писала очень много — о Погрибном и встречах с ним, о своих приятелях-художниках, об их планах, кое-что о других слушателях курсов. Даже если Лиза знала что-нибудь действительно секретное, скажем, об НТС, его планах, задании, которое она имела, она не рассказала бы об этом. Практически эти встречи я использовал для того, чтобы получить мало-мальски интересные материалы от иностранного источника для подтверждения или опровержения уже имевшихся данных. Завербовать Лизу казалось малоперспективным — слишком много усилий надо было бы тратить на проверку ее искренности и объективности ее материалов.
Но начальство было довольно — шла живая работа с иностранным источником, получали какой-никакой материал.
Я видел, что эти встречи были неприятны Лизе, понимал, что на ее искренность надеяться не приходится — все было построено на страхе перед возможной публикацией. Но было и чувство вины — я это видел. Не знал только, из-за картин ли, вывезенных и не вывезенных за рубеж, из-за устройства упоминавшихся уже выставок или из-за чего-то еще, мне не известного, но значительно более серьезного.
С самого начала я предупредил Лизу, что наши встречи должны оставаться в секрете, и рассказывать кому-либо о знакомстве с Борисом Ивановичем ей не стоит. Я даже довольно прозрачно намекнул, что болтливость может ей серьезно повредить. При всем этом я пытался построить более или менее дружеские отношения или хотя бы придать имевшимся отношениям дружеский оттенок. Не получалось ничего. Слишком разные мы были люди. Как-то я повез Лизу в загородный ресторан — хотел отвлечь ее от наших сидений в гостиницах и бесконечной писанины да допросов, я сам от них здорово устал. Поговорили о том, о сем, повспоминали любимых писателей, фильмы, города… Но сделать наши отношения более человеческими, что ли, так и не удалось.
Практически от Лизы было получено все, что мы надеялись получить, понимая, что большего она нам не даст. Да и уверенности в том, что она знала больше, не было. Планировали расстаться по-хорошему, имея в виду возможность возобновления контакта.
Планировали одно — получилось другое.
Позвонили из «подслушки» и печально сообщили: «Сдала вас Лиза, Евгений Григорьевич, своему приятелю…» Я пошел прослушать пленку.
Лиза подавленно рассказывала: «…Да, опять этот Борис Иванович, опять вопросы, опять заставлял описывать моих знакомых…»
Ну что же, этого ожидали. К телефону, по которому звонила Лиза, я подходить перестал, а соседи по комнате говорили, что Борис Иванович уехал надолго…
Строго говоря — особенно это понятно сейчас, — можно было этим и ограничиться, но я почувствовал себя обиженным… К уже готовой статье о Лизе прилепили кусок о норвежце, который попался на каких-то мелочах с иконами и напрочь отказался пойти на контакт в первой же беседе. Статью под названием «Незваные гости», хотя оба были как раз званые, я отвез в «Комсомольскую правду» — и познакомился с Борисом Дмитриевичем Панкиным, который был тогда главным редактором. Я, конечно, и представить себе не мог, что когда-нибудь буду работать под его руководством.
Долго мурыжили статью «комсомольцы» — там было много деталей, неприятных для газеты. Б. Д. и его заместитель Лев Корнешов то откладывали выход статьи, то переносили из номера в номер, то ссылались на публикации о приезде в СССР маршала Тито — нельзя же, дескать, в том же номере публиковать статью под названием «Незваные гости»… Я чувствовал, что публикация «зависла», и уперся, как молодой баран. Кроме того, без статьи было бы труднее отчислить Лизу с курсов и выдворить из страны.
И тут произошло необъяснимое (по крайней мере, для меня): позвонил Бобков. Я слегка опешил — начальники управлений операм звонят крайне редко, они их вызывают. «Черный», который зачем-то зашел в кабинет, услышал, что я поздоровался с Филиппом Денисовичем, окаменел и весь превратился в уши.
— Ну что у тебя с этой статьей, что мучаешь «комсомольцев»-то? Она действительно так нужна?
— Филипп Денисович, эта статья — логическое завершение разработки, которую мы вели почти год. Чтобы ее закончить, а не просто сбросить в архив, статья необходима. — Я попал в точку. Бобков, начинавший службу опером, цену работе знал.
— Ну хорошо.
Через день или два статья появилась.
А предшествовало этому немало борений и хождений. КГБ не каждый день давал публикации по своим материалам, да еще в таких газетах, как «Комсомолка». Все данные статьи проверялись в различных подразделениях КГБ, она визировалась их руководителями. Каждый из них принимался что-то править, добавлять, убирать. Упоминался НТС? Наши спецы по этой организации вычитывали каждую букву и кромсали материал, как хотели. Австрия? Пожалте в 4-й отдел ПГУ. Элементы сионизма в поведении Лизы? Просим пожаловать к «евреям» — так в шутку называли сотрудников, занимавшихся сионистскими организациями. Только один из читавших статью не поправил ничего.
Миловидная секретарша в приемной начальника Управления «К» — контрразведки ПГУ — сказала: «Да-да, Олег Данилович вас ждет». Даже в эту короткую фразу она умудрилась вложить массу уважения к своему начальнику.
Калугин был молод, подтянут, одет в легкий американский костюм цвета хаки. Быстро прочитав статью, он задал несколько коротких, дельных вопросов и тут же поставил свою визу. Ни он, ни тем более я и думать не могли, что через 20 с небольшим лет ему придется спорить с Президентом СССР, а затем вымещать вполне понятную озлобленность уже не на Крючкове и других начальниках, а на всем КГБ. Даже те из чекистов, кто сначала сочувствовал ему в его схватке с властью, и я в том числе, отвернулись от него, когда он засуетился, засбоил, принялся мотаться в Америку и обратно, «отмываясь» от грехов там и топча КГБ здесь. А уж его появление в кругу сильных мира сего перед телекамерами в церкви — все они неумело осеняли себя крестным знамением — вызвало смех в поредевших и рассеянных рядах его бывших сослуживцев.
После статьи руководство деканата МГУ по работе с иностранцами не могло не отчислить Лизу с курсов, и вскоре она уехала за рубеж. И тут среди слушателей пополз слушок, который, может быть, и объяснял некоторые моменты в поведении моей «приятельницы». Несколько человек утверждали, что Лиза пользовалась наркотиками. Проверить эти слухи не было возможности, да теперь и не имело смысла…
Так и завершилось это дело — въезд в СССР Лизе закрыли, да и вряд ли у нее возникло бы желание возвращаться сюда. Я был уверен, что никаких противодействий не последует — по тем временам Лиза отделалась легко, а кипа исписанных ею листов с различными данными была надежной гарантией, что она будет держать рот закрытым…
****
На учебу в Англию? Да, именно. По соглашению с Британским советом ежегодно группа лучших студентов, изучавших английский язык в различных «языковых» вузах СССР, направлялась на стажировку в Англию. Обычно оперработники, внедрявшиеся в такие группы, ездили в качестве «дядек», заместителей руководителей групп, руководителями были преподаватели, а иногда и деканы из тех же вузов. Постольку поскольку я по возрасту еще подходил в студенты, да и образование — МГПИИЯ — позволяло, Лебедев и придумал «крышу» студента, как самую надежную и естественную. В Академии педагогических наук, куда меня привел сотрудник, курировавший ее, меня встретили любезно и снабдили списком студентов, отобранных для поездки. Я принялся за «домашнее задание».
Я связался со всеми органами КГБ, на территории которых находились вузы, посылавшие своих студентов в поездку, и вежливо, но твердо попросил проверить всех направлявшихся в Англию, выяснить, не связан ли кто-нибудь с нами, а если нет — установить по возможности оперативный контакт на предмет его развития в Москве (все участники поездки за несколько дней до отъезда собирались здесь).
Дальше все пошло как в рассказе Зощенко. (Некто, отправлявшийся в отпуск, мобилизовал всех своих многочисленных друзей на приобретение железнодорожных билетов. Те упирались, доказывая, что купить билет не так уж и сложно, но уезжавший твердо шел дорогой блата и настаивал. Система сработала, как хорошо смазанный маузер, — к дню отъезда в его распоряжении был целый пассажирский вагон — все до единого друзья вручили ему по билету. Времени продавать их не было — отпускник ехал в вагоне один.)
Когда уезжавшие на учебу собрались в Москве, почти половина из группы в тридцать человек жаждала встретиться со мной и получить инструкции по подглядыванию и подслушиванию друг за другом. Я понимал юмор ситуации, соседи по комнате, наблюдая за моими прыжками, оттачивали остроумие, Лебедев улыбался из клубов дыма.
Собственно говоря, основания суетиться в связи с моей первой зарубежной поездкой были. Все организации, надзирателем которых я являлся, находились в поле зрения спецслужб противника, никаких сомнений в этом не было. Примерно за год до поездки я, например, выудил из портфеля одного американца, посетив его номер в гостинице без приглашения, весьма любопытную свежую инструкцию Госдепартамента для американских граждан, отправляющихся в СССР. Копии инструкции я потом по просьбе ПГУ и 2-го Главка отправил им, и они были приняты с благодарностью. Так вот, в той инструкции в списке организаций, устанавливать контакты с которыми без разрешения посольства США не рекомендовалось, числился и ССОД — знали американцы, что все там перекрыто и перегорожено нами.
О курсах русского языка при МГУ в этих записках говорилось уже не раз, да и на других, летних курсах при МАДИ, у меня была весьма интересная находка. Молодой англичанин У., приехавший поучиться русскому языку на три месяца, проходил по списку совсем других курсов, где тоже учили русский. Это был список слушателей-офицеров спецслужб при Лондонском Университете, и добыл этот список в свое время Бен — покойный ныне разведчик-нелегал Конон Молодый, он там тоже «учил русский язык». Бена к тому времени уже вытащили из английской тюрьмы, и я разыскал его. Однако лично с У. он знаком не был и на фотографии, которую я ему показал, англичанина не узнал.
По старой «семерочной» привычке я решил посмотреть на У. живьем и поехал в МАДИ, где мне издалека его показали сотрудники наружки, заботливо пущенные мною за ним наблюдать. Чуть ниже среднего роста, с несколько великоватой головой, медлительный, он чем-то напомнил мне «Тихого» из «101-й школы» ПГУ. Никаких результатов работа по нему не дала: он действительно приехал заниматься русским языком и очень старался.
Кроме всего этого, были и довольно интересные материалы от тех работников и агентов, которые уже ездили в Англию по линии Британского Совета. К нашим студентам и преподавателям проявлялся не меньший интерес, чем КГБ проявлял к учащейся молодежи из Англии. В Лондоне я понял, что У. был одним из очень заинтересованных лиц.
Всех отправлявшихся в поездку периодически собирали на семинары и лекции; выступали то сотрудники МИДа, то преподаватель, уже побывавший в такой поездке, то чиновник из Академии педагогических наук. Я присматривался к будущим спутникам и спутницам, в основном это были девушки, ребят было немного — человек шесть-семь. Только три-четыре девочки из больших городов были не богато, но опрятно одеты, аккуратно причесаны. Остальные были всклокоченные, плохо отглаженные, с нездоровым цветом лица, неухоженными ногтями… Я уже знал убийственную разницу между десятком больших городов и «периферией». Страна, продудевшая всем уши болтовней о своем богатстве, равнодушно относилась к тому, как питаются и одеваются ее граждане, и особенно это равнодушие сказывалось на женщинах, и особенно в глубинке.
Телогрейка, валенки с галошами, сумки или мешки с провизией, смолоду спившийся муж, душная, потная комната или изба, где рядом спят (или не спят) родители и сопливые шумные дети, а чуть подалее — и мелкая скотина, тяжкий труд в поле или на заводе, где тоже грязь, мат и хулиганье, норовящее «подержаться», о красивой одежде и белье и речи нет… Рождаются и умирают в резиновых сапогах.
В лондонском аэропорту Хитроу нас встретила маленькая группа из Британского совета — среди них У. Ну вот, подумал я, хорошо живется тем, кто домашнюю работу делает вовремя и дома. Посмотрим, как здешние коллеги работают с такими делегациями — может, и опыта можно будет поднабраться… Я наслаждался крохотным преимуществом — я знал, кто такой У., а ему еще предстояло выяснять, кто в нашей группе связан с КГБ.
В огромном трехосном автобусе нас привезли в гостиницу «Европа» на Кромвелл-роуд и разместили в тесных каморках по три-четыре человека, окна выходили на стену стоявшего рядом, сантиметрах в тридцати, дома.
Разместившись, все вышли на улицу — гулять. Наружку я заметил сразу, да и сыщики, как мне показалось, не особенно прятались — скорее всего, у них были охранные функции: присмотреть за молодежью, как бы не вышло чего…
****
«Рыхлое Существо», о котором упоминалось выше, на свежей почве новенького 5-го Управления решило пустить крепкие корни. Мы уже знаем, что оперативной работы оно боялось как огня, да и по сути своей тяготело не к работе, а к руководству работающими. Дружило «Существо» с «Пропойцей» — начальником отделения, где «Существо» числилось. То есть, не дружило, видимо, а блокировалось: самому «Существу» употребление спиртных напитков, как и многие другие благородные мужские занятия, претило. «Пропойца» же, окрепший на участии в знаменитом деле Даниэля и Синявского, в оперативной работе разбирался тоже не шибко, зато был всегда готов до блеска вылизывать любые зады, были бы они расположены на служебной лестнице хоть чуть-чуть повыше. И «Существо», и «Пропойца» считали себя великими грамотеями и наслаждались составлением отчетов, справок и других документов — брали на себя «самую сложную, самую важную» часть оперативной работы. Оба немало читали, один немножко дребезжал по-английски, другой — по-французски и, оставаясь совершенно разными людьми, они имели совершенно четкую общую цель — выкинуться в генералы.
В обойму «Палкина» они вошли мягко, без щелчка, и, прекрасно разбираясь в людях, тот сразу оценил обоих. «Существо» возглавило партийную организацию отдела, «Пропойца» стал медленно, но верно продвигаться по служебной лестнице, торча из нагрудного кармана палкинского пиджака.
Забегая вперед, отмечаю — проявив целеустремленность и настойчивость, оба реализовали свои мечты. «Существо» некоторое время еще помыкалось в коридорах «Дома», потом с грохотом провалилось во время поездки во Францию — там оно должно было встретиться с кем-то из уехавших за рубеж диссидентов, а угодило прямо во французскую полицию. Надо было «Существо» выручать, когда оно было выпихнуто из Франции в родимые пределы, поэтому его послали работать куратором нашего же Управления в ЦК КПСС… Хитер был «Палкин» — на эту должность он периодически проталкивал ближайших блюдолизов, и они «курировали» его некоторое время, сиживали в президиумах на партийных собраниях Управления, сложив на зеленом сукне натруженные руки и устало вздыхая. Потом они возвращались в КГБ уже генералами — так случилось и с «Существом», которое ухнуло аж в кресло заместителя начальника 2-го Главка по кадрам!
Комитет хохотал до слез, удивляясь, что небо осталось на своем месте, а не рухнуло на землю, но «Существу»-то было на это наплевать. Поворочавшись немного в уюте зам. нач. главка, «Существо» опять уползло зачем-то в ЦК и вдруг вернулось уже не замом, а начальником… 5-го Управления!
«Пропойца» тоже карабкался по служебной линии вверх и, странное дело, то ли от водки, то ли от неуверенности удивительно глупел на глазах оперативного состава. Годы, когда он был руководителем многострадального 1-го отдела, были самыми трудными для большинства сотрудников: «Пропойца» уже не понимал простейших оперативных ситуаций, и ему приходилось объяснять все почти что на пальцах. Он весь, видимо, ушел в борьбу за генеральские погоны, и ничто другое его серьезно не интересовало.
Он их добился, став заместителем начальника 5-го Управления — то есть своего горячо любимого «Палкина», но пить продолжал по-старому, каким-то чудом не попадаясь. И все-таки, стоило «Палкину» уйти на пенсию, «Пропойцу» убрали в Высшую школу КГБ — на скучную, хотя и генеральскую должность. А какая в Высшей школе власть? Смех, да и только.
****
Что вспоминается о Лондоне? Занятия в Лондонском университете проходили в разных зданиях — так же, как Колумбийский в Нью-Йорке, он разбросан по городу. Чтобы побольше увидеть, я тщательно изучал карту города с вечера и ложился спать пораньше. Вставал в пять-шесть часов утра и, стараясь выбирать каждый раз новую дорогу, шел на занятия пешком, иногда далеко-далеко. Крепкую обувь и привычку ходить пешком я полюбил еще со времен наружки…
Крики газетчиков, похожие на клекот невиданных птиц, — названия могут различать только читатели, кафешки и забегаловки, странные запахи, утренний туман, левостороннее движение, которое отвергалось всем моим существом, архитектура, о которой можно было сказать — вот она, застывшая музыка…
Англия и англичане — это страна и люди, свернутые внутрь. Об их сдержанности и замкнутости написано столько, что добавить к этому что-либо невозможно. Однако я видел как-то драку зонтиками на автобусной остановке из-за очереди на автобус — дрались две женщины и довольно серьезно.
Странное лондонское метро, где билеты предъявляют не на входе, а на выходе, а людей поднимают наверх в больших клетях, похожих на шахтерские. Скуповатая «неназойливая» реклама, каменно-вежливые «бобби» — полицейские, которые все знают и, несмотря на невозмутимость, очень быстры и ловки, всегда готовы помочь. Они не бросаются, подобно нашим гаишникам, на водителя в машине с иногородними номерами, который нечаянно что-нибудь нарушил, а могут покрутить пальцем у виска и указать на незамеченный дорожный знак.
Вот еще одна «забавная» история, картинка из серии «нравы КГБ». Я думал, что распрощался с «семеркой» навсегда, да она-то думала иначе. Этот случай мне рассказал один из кадровиков 5-го Управления.
Примерно через полгода моей работы в 5-м к Бобкову, который был уже начальником Управления, пришла делегация из нескольких человек, не помню никого из них за исключением Евгения С. — худощавого, испитого сослуживца моей жены. Мы встречались раза два или три в коридорах ее отдела, я и подумать не мог, что пробудил в этом анемичном существе столь сильные чувства…
Делегация пришла предупредить генерала, что во вверенное ему Управление внедрился карьерист, «западник», стиляга и перерожденец. Бобков вызвал кадровика с моим делом и внимательно перелистал «файл». Оперевшись щекой на ладонь — лицо съехало чуть ли не на затылок, Филипп Денисович задумчиво проговорил: «Да-а, вырасти за девять лет аж до оперуполномоченного, старшего лейтенанта — это карьера… — И — кадровику: — А к нам-то он на какую должность шел?» — «Да на ту же самую, Филипп Денисович — опером». — «Действительно, карьерист… — задумчиво пробормотал генерал. И, посмотрев на пришедших: — Ну что ж, напишете, как полагается, заявление, мы его, как полагается, рассмотрим…» На том и распрощались. Ничего они, поборники чистоты наших рядов, не написали…
Примерно за полгода до этого визита «Рыхлое Существо», видимо, приглядывавшее за моими успехами, доверительно сообщило, что я — в списках на отправку в ПГУ. Как страстно я мечтал работать в разведке! Я был тогда настолько замотан с Лизой, Т. М. и прочими, что как-то не взвился от радости, хотя весьма заинтересовался.
По рассказам бывалых, дело было вот в чем. Каждый год все или почти все подразделения должны были «делегировать» в ПГУ какую-то часть своих лучших работников, тогда была поговорка — «на работу за рубеж мы направляем только лучших…» Я спрашивал себя — а что же здесь-то, самое барахло остается, что ли?
Бобков же, как говорили, недолюбливал пижонов из ПГУ, и когда приходило время отправлять туда сотрудников, предпочитал либо столкнуть в разведку все пополнение сопляков, только что пришедших из Высшей школы, либо недавно попавших в Управление невнятных новичков. Наверное, под эту марку в список втиснули и меня — да Лебедев-то уже положил на меня свой хитрый глаз. Он рассказывал, что во время какой-то беседы у Бобкова очень меня ему нахваливал — вот тогда, видимо, и попросил вычеркнуть меня из списков «выдвиженцев»…
И смех и грех — эти записки можно было бы назвать «мемуары несостоявшегося разведчика». Нет, боги спецслужб просто подрядились не выпускать меня на международные нивы тайного сыска.
****
У. познакомил меня с потрясающим приятелем — Филиппом Ф. Происходил Ф. из семьи мандарина в восточном Китае. Его отец ухитрился вывезти всю семью в Англию в 50-х годах, вскоре умер, и, казалось бы, над семьей должны были собраться тяжелые лондонские туманы. Но ничего подобного. Вдова, числившаяся прекрасной иероглифисткой, с элегантных изображений иероглифов плавно перешла на изображения сначала лошадей — таких стилизованных китайских лошадей я не видел никогда, а затем и на пейзажи, кажется, в манере японцев — Хокусаи, Утамаро, я не знаток. Вскоре она уже вывозила свои картины на выставки в Калифорнию — это синоним успеха.
Филипп блестяще говорил на мандарин, еще на каком-то китайском наречии, по-французски (естественно, и по-английски), осваивал русский. Причем осваивал по-китайски — методично, не торопясь, глубоко. Впрочем, для китайца выучить русский вряд ли было сверхзадачей.
У него был фордовский универсал «таунус» (в Англии такие машины называют «estate car» — хозяйственная машина, у нас — универсал, фургон, в Америке — «station wagon»). Он возил нас по городу, особенно запомнилась поездка в один из лондонских парков — кажется, в Сент-Пол.
Представьте огромное ухоженное зеленое пространство, немноголюдно, великолепные спокойные деревья, широкие аллеи — они же дороги: за специальную ежегодную плату можно прилепить изнутри на лобовое стекло бумажный значок, дающий право на въезд в автомашине в парк (не для мойки, ремонта или пьяных гонок по аллеям, разумеется). Машин в парке мало — то ли плата слишком высока, то ли желающих кататься по парку немного. Старички и старушки, инвалиды, многодетные семьи приезжают в своих автомобильчиках, долго гуляют, кормят птиц и устраивают скромные пикнички (сорить почему-то в голову никому не приходит). Старушки вяжут, старички почитывают газеты, покуривают. Мы не видели в лондонских парках ни одного пьяного! Нет, не умеют англичане отдыхать…
****
Оперативная работа на «вверенном мне участке» кипела. Верные агенты и доверенные лица постоянно информировали меня о настроениях в группе, коварных «заходах» английских преподавателей, явно провокационных вопросах — еще бы, в начале 1969 года было о чем поспрашивать сопливых студентов, чешский август 1968 в Европе не забыли…
Англичане в то время ввязались в нехорошую историю в какой-то крошечной стране, послали доблестных усмирителей, усмирили. Это лыко нам, защитникам коммунистических идеалов, было очень в строку, и мы принимались тыкать английским собеседникам в нос — а вы-то, мол, что?
Англичане спокойно отвечали, что дураки в правительстве еще и не такое могут придумать, но они, подданные британской короны, не поддерживают свое правительство в этом вопросе. А вы?
Ну, мы-то за свое, ленинское, горло перегрызть были готовы. Тогда торжествовал принцип, согласно которому у себя дома мы прекрасно разбирались что к чему и вечером, на кухне, с близкими друзьями (один из них к утру уже и сообщеньице для КГБ подготовит) да отключив телефон — почему-то после этого многие считают себя в безопасности, — такого могли наговорить — держись только. Но с проклятыми иностранцами — ни-ни. Не их это дело. Пусть сначала научатся своих президентов не убивать, да из кризисов вылезать, да негров не преследовать, да с безработицей разбираться…
В общем, твердо стояли.
Закончился курс занятий в Лондонском университете, и мы переехали в Кембридж. Нас расселили по семьям, согласившимся (как мы потом узнали, за неплохую дотацию) приютить приезжих студентов. Мне и пареньку из Орла выпало жить в великолепном особняке университетского преподавателя «инженерии» — так назывался его предмет — мистера Паско. У мистера Паско и его миловидной, приветливой жены было пятеро детей. Старшего, 19-летнего, сына мы не видели ни разу, он жил отдельно и родителей не навещал. Может, поссорились, может, разругались всерьез — сами Паско об этом не рассказывали, а задавать подобные вопросы в английской семье — все равно что на русских похоронах пускаться вприсядку. Были две дочери 14-ти и 15-ти лет — девочки редкой красоты и скромности — и близнецы полутора лет.
Дом Паско был невероятно хорош. Конечно, он был двухэтажный, с гаражом, где стоял великолепный, по тем временам, просторный «форд-зефир», при доме был чудесный маленький садик, но самое необычное — в отделанной розовым кафелем ванной был душ. Для многих путешествовавших и живших в Англии, нелюбовь англичан к купанью или умыванию в проточной воде так и осталась непостижимой тайной. Олдридж в великолепном романе «Не хочу, чтобы он умирал» описывает, как герой, «намылившись люфой, погрузился в ванну и предался любимому занятию англичан — мокнуть в собственной грязи…». То есть сами англичане, видимо, понимают, что делают что-то не то, но отказаться от любимых привычек не могут.
Я вовсе не хочу сказать, что англичане грязнули и неряхи. Это просто один из примеров того, насколько разные народы отличаются друг от друга даже в повседневных мелочах — ну кому из нас придет в голову заткнуть раковину пробкой, смешать в ней горячую и холодную воду, вымыть руки, потом той же водой ополоснуть лицо и считать себя умытым?
Занятия наши проходили в знаменитой на весь мир Школе Языков Белла. В большом здании среди просторных лужаек занималась молодежь чуть ли не со всего мира — человек, наверное, 200 не только «полировали» там свой английский, но и одновременно готовились к поступлению в английские университеты. Народ был всякий — скандинавы, поляки, «восточные» люди (они обычно подкатывали к школе в «бентли» и «роллсах», из которых выходили непринужденно и привычно, не путаясь в сари и бурнусах). Учились в небольших классных комнатах, маленькими группками, преподаватели были корифеями своего дела.
Бесплатный ланч (в Америке есть поговорка — «Бесплатных ланчей не бывает») готовили с учетом этнических особенностей курса: мусульмане не ели свинины, еще кто-то не ел еще чего-то, мы ели все. Правда, в некоторых семьях то ли не понимали, как нужно кормить учащуюся молодежь, то ли, получив от Британского совета деньги на содержание гостей, экономили. Жаловаться было неловко, и те, кто попали в такие семьи, приобрели необыкновенную легкость в движениях и постоянную готовность что-нибудь съесть. О том, сколько денег нам выдало Министерство образования РСФСР на весь срок учебы, упоминать не буду — никто не поверит. Может быть, хотели претворить в жизнь известную латинскую поговорку, звучащую по-русски так: «Сытое брюхо к ученью глухо».
Я обзаводился приятелями и приятельницами среди соучеников — где-то еще пересекутся наши дороги, глядишь, и подвербовать удастся сына или дочурку какого-нибудь шейха из Кувейта…
В начале занятий было сочинение, потом диктант, по результатам которых определяли уровень знаний и соответственно расписывали по группам: «А» — отличники, «Б» — хорошисты и т. д. Я «отписался» очень хорошо и даже чем-то блеснул в сочинении, поразив преподавателей. А зря: по «крыше» я был такой же студент, как и все, и блистать своими знаниями было непрофессионально; я же обратил на себя внимание — пусть неопасное, но все равно ненужное.
В совершенстве — действительно в совершенстве — иностранными языками владеют профессиональные лингвисты либо разведчики-нелегалы: и тем, и другим это необходимо. Позже мне приходилось не раз слышать высказывания о том, что слишком хорошо знающие язык иностранцы подозрительны. От одного старого внешторговца я услышал мудрейшее высказывание на этот счет. Я спросил его, почему он, десяток лет проживший в Америке и успешно работавший там, прекрасно зная язык, так небрежно, чуть ли не нарочито коверкает произношение — грамматика при этом безупречная. Он объяснил: «Видишь ли, Женя, если говорить с иностранцами на их языке безукоризненно, они начинают думать, что ты так же владеешь языком, как и они. Вот и начинают разговаривать с тобой, пользуясь выражениями, зачастую совершенно нам непонятными. Приходится переспрашивать, а иногда это неудобно, разрушаешь свой «имидж», создается впечатление, что хочешь выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. А когда не стараешься звучать, как они, говоришь с акцентом, это для них вроде сигнала — ты иностранец, и чтобы быть понятым, надо говорить попроще. Вот и разговариваю я с ними так, чтобы они пользовались простой, понятной речью — это удобно для обеих сторон».
****
И вдруг грянул гром! Из достоверного источника я узнал, что молдаванин из нашей группы привез из Кишинева и собирается пустить в дело 5 (пять) долларов!!! Ну подлец, ну фарцовщик! Да ведь неминуемо станет жертвой провокации в первом же магазине! Мобилизованы были все, с кем я секретничал и шушукался в Москве и Лондоне, вокруг бедного молдаванца выстроили каре и отпускали его одного только туда, куда ходят в одиночку… Наконец, после тончайшей работы по «скрытому воздействию в нужном нам плане» одна из девочек убедила молдаванина не рисковать, отобрала у него деньги — все 5 (пять) долларов и вернула их ему в Москве. Крылья победы шелестели у меня за спиной. Еще бы! В сложнейших зарубежных условиях я провел комплекс агентурно-оперативных мероприятий, направленный на исключение возможности организации провокации против советского гражданина!
Кембриджские боги тем не менее наказали нечестивца: во время катания по Кему на плоскодонных лодках он свалился в воду и промок до нитки. Я радовался — потому что сам на катанье не пошел, поскольку знал, что кто-то обязательно полетит в воду и даже знал, что этот кто-то буду я. Везло мне на такие приключения — но иногда предчувствия помогали их избежать.
От колледжей Кембриджа в памяти остались великолепные старинные здания, огромные залы с тяжелыми дубовыми скамьями, витражи на полтора десятка метров к потолку. Все прочно, надежно, устойчиво и продержится еще много лет. Здесь учат руководить страной, ее промышленностью, наукой и всем остальным. Здесь «тэйлент споттеры» (искатели талантов) подбирают кандидатуры для работы в английских спецслужбах.
Перед поездкой я, распираемый гордостью, пошел за советами к Владимиру Ивановичу К. Насмешливо поглядывая на меня, он в конце разговора сказал: «Ну, ты едешь в приличную страну, задание у тебя для Англии не опасное, так что бейсбольной битой по коленкам тебе не дадут. Работай себе да учись спокойно».
Я и не беспокоился особенно. Вздрогнул я только один раз, надеюсь, незаметно. Я шел из Школы Белла узкими кембриджскими улочками и вдруг из-за угла метрах в 30-ти от меня вывернул темно-серый «ягуар» очень дорогой модели, резко остановился — я был уже метрах в 15-ти от него. Из машины разом вышли трое рослых, хорошо одетых мужчин и уставились на меня. «Ну, елки-палки, — подумал я, — если украдут, хоть в приличной машине прокачусь…» Никто, однако, красть такую ценность не стал: мужики, все еще поглядывая на меня, вошли в дом, около которого остановилась машина, а я изменившейся походкой продолжал следование к дому г-на Паско.
Черт их, англичан, разберет! Может быть, они уже тогда знали, кто я такой, и разыграли описанную сцену, чтобы посмотреть на мою реакцию, а возможно, и позабавиться: вдруг старший лейтенант бросится бежать? Вот повеселились бы… Не учли, только, что я со страху почти окаменел.
Присмотр за нами в Школле Белла, конечно, был — когда я суммировал информацию, получаемую от своих помощников, становилось (или казалось) ясно, что некоторые преподаватели «работают» по вопроснику, разработанному спецслужбистами. Присмотр был и в некоторых семьях, где жили студенты: возможно, это входило в обязанности тех, кому Британский совет выплачивал деньги на содержание приезжих.
Наконец, стажировка в Кембридже закончилась, и я с маленькой грустной девушкой из Ижевска отправился поездом из Лондона вверх, на север, в Шотландию, в Мазеруэлл, в новенький, только что построенный там колледж — гордость города. Остальные, тоже группами в два-три человека, разъехались по городам Англии и Шотландии продолжать стажировку.
Колледж потрясал своей архитектурой — соединение огромных листов толстенного стекла и грубо обработанных гранитных блоков. Огромный холл с огромным же камином, пол из все тех же каменных глыб, там и сям небрежно разбросаны шкуры (не помню чьи), здоровенные дубовые скамьи-лежанки. На них, поглядывая на экран телевизора сидели, лежали — иногда парочками — студенты. Обнимаемые и целуемые несколько напоказ, девицы иногда взвизгивали, чтобы окружающие понимали: их кавалеры позволили себе что-то особенно интересное. Шотландцы — не англичане.
Надзором за студентами занимались «дядьки» из отставных сержантов, ветераны из Южной Африки — здоровенные мужики, бесшумно передвигавшиеся по помещениям колледжа в фетровых тапочках. Их присутствие было незримым и неслышным, но почти постоянным.
Жизнь в Мазеруэлле для нас была особенно голодна. Оказалось, что при строительстве колледжа сильно перерасходовали (или разворовали) средства и решили поэкономить на питании студентов. Учились там в основном свои, местные, шотландцы и англичане. Им было легко подкормиться в городе, дома, или получить помощь от родственников.
Живший в соседней комнате сицилиец Луиджи варил на спиртовке (что категорически запрещалось) спагетти, у меня была водка для сувениров — в общем, как-то пробавлялись. Комнаты для студентов были прекрасные, правда, все удобства — ванная (конечно, без душа) — в коридоре.
Однажды, перед тем как идти «на лапшу» к Луиджи, я сидел на корточках в ванне, пытаясь принять душ из-под крана. Выходя из ванной, услышал какой-то хлопок, на который не обратил внимания. Как только я вошел к себе в комнату, раздался условный стук в стенку от Луиджи. «Ага, вот и лапшичка поспела», — подумал я, прихватил бутылку с остатками водки, задвигал молодыми челюстями и направился к соседу. То, что я увидел, войдя к Луиджи, сначала потрясло меня, а потом повалило на пол в припадке неудержимого смеха.
Спиртовка, на которой стряпал Луиджи, взорвалась. Половина лапши висела на поваре, а другая, взлетев к потолку, прилипла к нему (верный признак, что она действительно готова) и слегка раскачивалась, словно сожалея, что ее стремительный полет остановлен.
Отхохотавшись, я собрал лапшу с парализованного ужасом итальянца (больше всего он опасался, что о спиртовке узнают сержанты); потом мы соорудили пирамиду из стола и стула, и я, будучи ростом повыше, полез к потолку за остальной лапшой. Она с неохотой расставалась со своим новым пристанищем, и, когда я соскреб ее, на потолке остались следы. Ужас в глазах Луиджи пробудил во мне талант художника: я развел в воде зубную пасту и бритвенной кисточкой довольно искусно побелил потолок.
А паренек Луиджи был не простой… Именно он познакомил меня с «1984» и со «Скотным двором» Оруэлла, вел со мной долгие беседы о преимуществах капиталистического образа жизни (теперь нам хорошо известных), но буржуазное легкомыслие итальянца вдребезги разбивалось о спокойное достоинство и идеологическую выдержку старшего лейтенанта КГБ. Я был вооружен до зубов единственно правильным учением, и объединить нас могли только водка и лапша.
Шотландия, как и почти вся виденная мною заграница, красива, ухожена, живописна. Самый красивый ее город, по-моему, Эдинбург, или, как его называют шотландцы, Эдинборо. Особенно хорош он сверху, когда глядишь на него из огромного старинного замка на горе, что рядом с городом. Старину в Англии (и в Шотландии, конечно) любят, ценят и оберегают как нигде. Во многих замках сохранились не только оружие, мебель, люстры, картины, но и гобелены, ковры, скатерти и даже постельное белье.
Сохранение старины здесь — это привычка всего народа (ну, или почти всего) уважать и любить старших и, соответственно, старое, древнее.
Англичанам и шотландцам никогда не прививали ненависти и презрения к тому, что было в далеком или недалеком прошлом, не призывали разрушать его следы, и, мне кажется, многие там ощущают это прошлое как бы за спиной. Они то гордятся им, то посмеиваются над кем-то из своих великих предков, но оно, это прошлое, есть и оно привело их к тому настоящему, которое сейчас является предметом зависти многих.
Как-то нас возили на экскурсию в Ковентри — город, который немцы во время войны подвергли особенно жестокой бомбардировке. Они даже пользовались потом глаголом «ковентрирен» — разрушить полностью. Общими усилиями нескольких европейских стран был построен новый кафедральный собор города — впечатляющее здание в стиле модерн. Во время осмотра собора я немного отстал от остальных — люблю бывать в таких местах в одиночку еще смолоду. И вдруг зазвучала музыка — репетировали (как я узнал потом) симфонический оркестр города и церковный хор мальчиков. Исполнялось нечто возвышенное и грустное, музыка сначала обрушилась на меня, потом обволокла и закутала, я почувствовал страшное одиночество, бессмысленность и лживость своего пребывания в соборе, в городе, в стране. И тут все смолкло — оркестр и хор были остановлены дирижером, который принялся им что-то объяснять, а я, стряхнув оцепенение, отправился дальше. В одном из залов я увидел стенд с фотографиями борцов за гражданские права в СССР и просьбами поддержать их подвижничество. Рядом стоял бочонок с прорезью для монет (не в поддержку диссидентов, а для пожертвований в пользу храма). Я бросил монету в бочонок: было слышно, как она одиноко брякнулась на дно, покатилась по нему и, примостившись поудобнее, успокоилась…
Подошел к концу срок нашей стажировки — из разных городов страны мы снова съехались в Лондон и через пару дней с аэродрома Хитроу вылетели в Москву.
Мои оперативные достижения были громадны: никто из группы не «выбрал свободу», не было вообще никаких эксцессов (красавец молдаванин так и увез обратно свои 5 долларов). Я вез с собой список интересных контактов, то есть они казались мне интересными — укреплять и углублять их я еще не очень умел.
Я так и не побывал в Англии больше ни разу — не было дел, не было и стремления. Память сохранила напряжение первого выезда спецслужбиста за рубеж, постоянное недоедание, замкнутую отстраненность англичан и их неискреннюю вежливость, задорный нахрап шотландцев, учебную нагрузку, трижды проклятое левостороннее движение…
****
А в Москве меня ждал новый набор слушателей курсов русского языка. В этот год сразу определились несколько человек, которыми я решил заняться, и среди них — высокий симпатичный австриец Карл Фогельман. Во время нескольких экскурсий по Москве и в поездке во Владимир он обратил на себя внимание особенно резкими замечаниями относительно советского образа жизни и нашей тогдашней действительности; позже, через коллег из 3-го отдела, «занимавшихся» МГУ, я узнал, что у него довольно обширные знакомства среди вольнодумцев из числа советских студентов. Один из них, с которым Карл сошелся особенно близко, вынашивал планы «свалить» за рубеж (измена Родине в форме бегства за границу!) и, как мне скоро стало известно, обсуждал эти планы с Карлом.
А немного спустя — уже совсем хитрыми ходами — узналось, что отец Карла — сотрудник швейцарских спецслужб и, предположительно, довольно высокого ранга. Было над чем подумать…
Имелись и другие интересные занятия, я с удовольствием в них погрузился, не предполагая, какие тучи уже собирались над моей головой. Случившееся надолго оттянуло меня от «чистой» контрразведки по линии 5-го Управления.
В один совсем не прекрасный день Алексей Николаевич вызвал меня к себе в кабинет, высунулся из клубов табачного дыма, и стряхивая пепел со стола на белоснежную рубашку, сказал:
— На-ка, Ж-жень, п-почитай, какая тут волынка закручивается.
Документ был из 2-го Главка — справка о встрече оперработника с неким «С» — оперативным контактом. «С» рассказал, что его неблизкая приятельница, дочь какой-то архитекторши из маленького НИИ, поведала ему следующую историю.
Знакомый ее матери, якобы известный философ, написал якобы разрушительный для нашей передовой философии труд и намеревается якобы передать его за рубеж для опубликования там. Приятельница и ее мама собираются ему в этом помочь, но не знают как. Обе скрытничали, ничего больше об этом деле «С» не было известно — не только фамилию или место работы философа, но и фамилию самой архитекторши «С» не знал и, соблюдая осторожность, выяснить пока не смог.
По справке было видно, что и «С», и беседовавший с ним сотрудник были люди толковые, грамотные, однако исходного материала было всего ничего. Сделав большие глаза, я спросил:
— А я-то тут при чем, Алексей Николаевич? Институтом философии занимается Женя К. — ему и карты в руки. Все, что мне известно о философии, это что она основа всех наук, причем я лично в этом сильно сомневаюсь.
— Вот постарше будешь, тогда и перестанешь сомневаться. Женя К. — умница, да и по образованию философ, эт-то верно. Но работает он недавно, а там что-то интересное лежит не на поверхности, а глубоко. Я «С» немного знаю — паренек толковый, и с оперработником знаком. По зряшному делу они нам эту писулю не прислали бы. Архитекторша ли с дочерью скрытничают, «С» ли недоговаривает — надо разобраться. Тут нужен твой сыщицкий нюх. Попробую нажать на ВГУ, чтобы они через «С» выудили хоть что-нибудь о маме с дочкой, а ты для начала потихоньку, без звона, потолкуй с Женей — пусть он аккуратно хоть какие-нибудь намеки, что ли, через агентуру поищет.
Чувствуя недоброе, я заныл, что у меня своих дел по горло, опять же Фогельман, пусть лучше Женя и займется поисками, а я ему помогу, и вообще сыщицкий нюх я давно уже утратил… Все было зря.
— А Фогельмана, между прочим, ребята из 3-го отдела просят передать им — и не просто просят, а через большое начальство. Решать, конечно, нам — отдавать или нет, будем думать.
Поведя плечами и изобразив высшую степень огорчения и недовольства руководством, я поплелся к себе в комнату.
Усевшись напротив Жени К., я принялся потихоньку, «без звона», вытягивать из него жилы, однако ничего интересного он рассказать не мог…
Прошло несколько дней. Женины агенты ничего не добавили к тому, что стало известно от «С», и я приуныл — никаких других концов не было. А вдруг, к счастью, все так и уйдет в песок, рассосется?
Да вот у Лебедева-то дела пошли получше, и через неделю ребята из ВГУ вытянули-таки через «С» фамилию архитекторши и ее имя. Я повис на телефонах и вскоре знал все первично-необходимое: место работы, домашний адрес и пр.
Затопали мои семерочные ноги (архитекторша к тому времени сменила два или три места работы), из одного НИИ я тащился в другой, потихоньку, опять же «без звона» беседуя с кадровиками и собирая все, что можно, на интересовавшую нас даму.
Скоро стало ясно, что философа таким образом я не найду — никак он не высовывался из чепухи, которую я наскреб. Я потащился к Лебедеву.
— Ничего не получается, Алексей Николаевич. Либо «наружку» выставлять за ней — так неизвестно, когда она встретится еще с этим философом, — либо давайте неделю телефон послушаем, может, там прорежется.
Обычно при просьбах о «наружке» или подслушивании лица начальников искажались грустью — и того, и другого всегда не хватало, в рамках 5-го Управления все крутилось вокруг диссидентов. Лебедев нахмурился и сказал:
— Ну, неделю — это ты заелся; пойду к Гостеву, может, выпрошу дня на три-четыре…
Хватило двух дней. А на третий я, аккуратно отпечатав на машинке все, что удалось выяснить о философе — Анатолии Сергеевиче А. (где живет, где работает и работал раньше, телефон и пр.), скромно положил на стол шефа листок бумаги и опустил глаза долу.
— Ну, эт ты м-молодец, Жень, эт ты просто умница. Вот видишь, а то… — и далее последовал поток похвал в мой адрес, сразу настороживший меня. Я знал, что часто он предшествовал самым скверным поручениям. — Архитекторшу с дочерью пока побоку, а в А. вцепись намертво. Пройди по всем институтам, где работал, найди сам людей, с которыми можно поговорить, собери все, что нужно для начала разработки. Давай.
Вот тут я расшумелся не на шутку. Я напомнил, что мне было поручено найти А. и я это сделал, что вообще это дело — не мое, что Институтом истории, где работал А., занимается здоровенный бугай-бездельник и пора бы его заставить немного и поработать… Из меня выплеснулось все, что допускал характер отношений с Лебедевым и дисциплина вообще. Не хотелось мне заниматься разработкой соотечественников по причинам, вполне понятным, да я и не скрывал этого от Лебедева.
— Ничего-ничего. По иностранцам у тебя результатов достаточно, участок освоен. Надо приобретать и опыт разработчика (так в Управлении называли тех, кто занимался разработкой советских граждан. — Е. Г.). Эт, ведь основное направление считается, Жень. А дело перспективное, и пока занимайся им.
«Пока» растянулось почти на четыре года.
****
Дело Фогельмана у меня забрали — и уж, конечно, не для того, чтобы разгрузить для занятий с А. Просто ребята из 3-го отдела вцепились мертвой хваткой в своего студента-вольнодумца, который, как оказалось, весьма неприятную книгу уже успел написать о нашей светлой действительности. И название хорошее придумал — «Империя лжи»… А с Карлом они задумали вот что.
Австриец собирался на каникулы домой. Он должен был передать свой паспорт и билет на самолет студенту — оба почему-то решили, что очень похожи, хотя по фотографии, которая хранится у меня до сих пор, этого не скажешь. После благополучного отлета студента Карл должен был заявить властям о краже паспорта и билета (сцена объяснения с властями репетировалась неоднократно).
Отец Карла был в курсе событий, а возможно, и вел всю эту «разработку».
Так все и пошло, да только под контролем 5-го Управления. Студент благополучно прошел паспортный контроль. Взяли его уже у трапа самолета, в тот же день арестовали и Карла.
Конечно, следствие, суд. Мне пришлось побегать, так как адвокатом у мальчишек был мой хороший знакомый. Начальство просило узнать через него то, это (вмешательство в судопроизводство?)… Карлуша отделался легко — какой-то символический срок и высылка из СССР, а куда и на сколько упекли неудачника-беглеца, не помню. Я уже глубоко влез в дело «Доцента» — такую кличку дали А.
Перебираясь из одного института АН в другой, я шел по его «следам», расспрашивал руководителей, ученых секретарей, кадровиков. Меня поражало, с какой готовностью они вываливали все, что знали о «Доценте», в том числе и, с их точки зрения, негатив — самовлюбленность, левацкие замашки, увлечение Контом (не путать с Кантом!). И никто не задал мне — и себе, черт возьми! — вопрос: а что вам, молодой человек, здесь вообще-то надо? Секретов у нас никаких, иностранцев — в год по чайной ложке, за рубеж посылаем достойнейших. Какого же дьявола КГБ делать в философии? Но нет, и мои визиты, и готовность оказать мне помощь — все это было, похоже, для ученых совершенно естественным.
Вырисовывалось вот что: «Доцент» был «леваком» не сам по себе, а входил в некую группу мыслителей-единомышленников. В ее числе были и довольно известные люди. Историк Г. был как бы духовным отцом. Другой философ, Б., служил в послевоенное время в армейской контрразведке переводчиком и тщательно проверял (так им казалось) всякого, кто приближался к этой группе или пытался в нее войти. И действительно, держались они особняком.
Вернувшись как-то от Бобкова, Алексей Николаевич сказал:
— Слушай, докладывал я Филип Денисычу, что мы тут наскребли на «Доцента», и он вспомнил (о, вспоминать Бобков умел…), что некоторые из наших знакомцев проходили по такому-то делу в последние годы войны и после войны. Подними-ка это дело из архива и посмотри — может, копнешь чего?
Через пару дней в архиве мне вывалили на стол четыре пухлых тома, но сказали, что, «согласно этой наклейке», ознакомиться с ними я смогу только с санкции руководства 1-го отдела ВГУ. Я оторопел — с какой это стати американская линия контрразведки запрещает знакомиться с делами на философов? Я пошел прямо к начальнику 1-го отдела — Расщепову.
Красивый, вежливый, прекрасно одетый, он внимательно выслушал меня, дал несколько дельных советов, предложил помощь и позвонил в архив.
Я засел за пухлые тома, на ходу составляя справки о прочитанном в рабочей тетради (на листах бумаги в архиве КГБ работать было запрещено). На втором или третьем томе я еще раз убедился в том, что воспоминания Бобкова приходились, так сказать, всегда к месту и ко времени.
Сестра «Доцента», Евгения, после войны полюбила молодого американца, Роберта Т., разведчика, работавшего в посольстве США. По тогдашним данным ВГУ, Т. занимался в Москве реальными и потенциальными вождями и руководителями будущего «социалистического лагеря» и стран «третьего мира», то есть непосредственно против СССР якобы не работал. Его отец, крупный делец в области производства то ли мебели, то ли конторского оборудования, поставлял свою продукцию чуть ли не в Белый дом. Когда молодой Т. собрался жениться на Евгении, то, чтобы устранить возможные препятствия со стороны наших властей, в нужных местах и в нужное время было оказано нужное давление, и брачующиеся благополучно выехали в США.
В дни, когда я читал эти тома, Роберт Т. числился в списках советологов в 5-м Управлении чуть ли не фигурой номер один. Он был автором нескольких серьезных (и, разумеется, неприятных для нас) книг, какое-то время работал в «РЭНД корпорейшн», которая нам тоже сахаром не казалась, словом, клейма ставить негде, и точка.
Тут я совсем приуныл. Запахло таким паленым, что вот-вот могло запахнуть и горелым — через такие каналы книга «Доцента» уже сто раз могла уйти за рубеж, возможно, даже вчера или позавчера, то есть когда уже имелась и голова, которую можно отвертеть за недосмотр. Я забегал по коридорам «Дома», как сеттер, потерявший след.
Было необходимо придумать нечто, позволившее бы одним махом перехватить злосчастную книгу «Доцента», повязать на ней всех, кто имел отношение к плану передачи ее в США, и быстро вернуться к работе на своем основном участке.
План, родившийся в моей разгоряченной голове, был энергичным, неординарным и в какой-то степени кинематографичным. Он сразу понравился Лебедеву и даже, кажется, Гостеву.
…Я, одетый, обутый и подстриженный под молодого американца, болтаюсь несколько дней в Москве по дороге, скажем, из ФРГ в Финляндию. Ну, понятно, документы, атрибутика, автомобиль и прочее. Я — сын богатых родителей, плейбой, везде завожу знакомства и через «С», а то и самостоятельно выхожу на архитекторшу или ее дочь. «Леди, как проехать туда-то? А вам не в ту сторону? Могу подвезти, а вы мне покажете дорогу» и т. д., и т. п. Выманиваю рукопись и с шиком «уезжаю» в Финляндию, а оттуда в США… Через неделю к «Доценту» ли, к архитекторше ли приходят мои коллеги и рассказывают, что на таком-то километре Минского шоссе разбился вдребезги американец такой-то. В его багаже нашли рукопись, спрятанную в… ну, не знаю, где, а из его записок следует, что рукопись он получил от таких-то и принадлежит она перу такого-то. Как говорится, пройдемте…
Сейчас все это выглядит невероятно глупо, но тогда казалось весьма возможным. Началась проработка деталей. Я проторчал день в ГАИ и добыл несколько фотографий изуродованных «мерседесов». Через связи ВГУ в УПДК были добыты немецкие овальные номерные знаки, которые выдавались в ФРГ иностранцам, купившим машины для вывоза. «Вставить» эти номера в фотографии разбитых мерседесов для наших спецов было раз плюнуть.
Проделана была вся подготовительная работа, доложено нескольким начальникам и одобрено ими, но на Бобкове все остановилось.
От него Лебедев пришел печальный (тоже увлекся моими выдумками) и повторил то, что мы слышали от Ф. Д. много раз: через дела надо видеть процессы, имеющие место в обществе. А в деле «Доцента» никаких процессов пока не видно… Надо копать глубже… Кроме того, сейчас мне кажется, что Ф. Д. сразу понял опереточность наших замыслов и, наверное, немало поусмехался на мой счет.
****
Все другие спецслужбы, кроме советской и ее бывших сателлитов, разговоров на тему о близости к народу никогда не вели и не ведут. Мы же и наши «друзья» из соцстран — так их называли на опержаргоне, орали об этой «близости» изо всех сил.
На самом деле — это страшная чепуха. Нет более удаленных от народа учреждений, чем спецслужбы — самые структурированные из существующих структур. Единственная причина утверждать, что мы были близки к народу, — та, что «заботами» ЧК — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ было охвачено большее количество граждан собственной страны, чем где бы то ни было.
Г. Х. Попов, комментируя как-то конфликт Калугина с президентом и руководством КГБ, раздраженно заметил: «Ну что все так заступаются за него? Человек всю жизнь шпионил против американского народа…» Это ошибка, иллюстрирующая полное непонимание задач и целей спецслужб даже достаточно грамотными людьми.
Спецслужбы «шпионят» не за народами. Их собственным и зарубежным народам на них сильно наплевать (народы никогда не знают, сколько денег вынимается из их карманов на существование этих самых служб).
Эти службы создаются и финансируются правительствами, и деятельность их направлена не против народов, а против других правительств, а также политических, военных, научных учреждений, иногда частных, принадлежащих «народу».
Если и говорить о близости спецслужб и народов, то только как о близости оперативных работников и их агентов.
****
В то время в «Доме» было пять или шесть столовых; две из них, говорили, в помещении бывшей внутренней тюрьмы, несколько буфетов для рядового состава и сколько-то «залов» для руководящего. В столовых «для всех» еда была вполне сносная, стоила она столько же, сколько и в городе, но все было почище и покрасивее. Чуть не вплоть до указа, Ранившего Каждого Русского Человека, продавали пиво.
Обедать было интересно: в кучу сбивались оперы из разных управлений, пограничники, разведчики — все помещались в одном здании. В столовых знакомились, обсуждали дела, которые там можно было обсуждать. Случай, из-за которого вспомнились столовые, врезался в память. Сотрудник нашего управления, офицер уже в годах, рассказывал соседям по столу об отпуске, который провел у родителей то ли на Смоленщине, то ли близ Рязани. Он с горечью говорил о нищете заброшенной деревеньки, почти первобытном ее состоянии. Там он родился, это была его родина.
А за соседним столом сидел молодой, но уже подававший большие надежды подлец из парткома КГБ — энергичная прилизанная тварь. Он не только подслушал разговор, но и взял под наблюдение рассказчика. Внутри здания тот, естественно, не проверялся… Установив номер комнаты, в которой работал отпускник, нетрудно было узнать и его фамилию. Хорек помчался то ли в партком, то ли к руководству с сообщением о «тенденциозных, искажающих нашу советскую действительность» высказываниях.
Хотя отпускник был офицером неплохим, отменно крепким физически, он был тихо, без собраний и выговоров, отправлен на пенсию — благо она была почти полностью выработана…
А столовые, как и столовые по всей стране, становились все хуже и все дороже. Очередной умник из команды г-на Бакатина додумался как-то привести в здание аж съемочную группу какой-то американской телекомпании, и американцы попросились пообедать в столовой для рядового состава. Очень, говорят, были разочарованы…
****
Тянулись месяцы, а по делу «Доцента» не удавалось получить ничего нового. И дома у него мы с Игорем П. побывали без ведома хозяина, и квартира была снабжена удобствами, о которых хозяин не догадывался, а толку чуть.
Крепкий, сухощавый мужчина лет за сорок, Доцент бегал трусцой, почитывал разнообразную литературу, пару раз в месяц навещал институт, где «работал», лениво пописывал плановые статьи, ухаживал за знакомыми дамами — и только.
А где же рукопись, призванная разрушить устои советской философии? Где коварные попытки передать ее за рубеж? Ничего не было ни слышно, ни видно. Ну встречался с коллегами, ну болтали на кухне о том, о чем болтали на кухнях в Москве (и не только в Москве) все (и мы в том числе), но ведь никаких призывов к свержению власти, никаких действий кроме болтовни не было… Называли Брежнева «Монголом», рассказывали про него анекдоты, «Доцент» создавал мини-теории. Например, «теория закручивания гаек»: при Хрущеве принялись было откручивать гайки, но давно забыли, как это делается, и откручивали через одну. Потом при «Монголе» решили затянуть их опять, но затягивали уже все подряд. Ужас, какая крамола.
К этому времени у меня уже и человек надежный был в окружении «Доцента», обложили «врага» со всех сторон — а прицепиться к чему-либо даже при очень сильном желании было невозможно.
Начальство нервничало: перспектива передачи не существовавшей рукописи за рубеж все еще маячила на горизонте и успокоения не обещала. Истекали сроки ведения дела — а они существуют для каждого вида разработки, нужно было сворачивать все и сбрасывать дело в архив, либо активизировать изучение, но уже после получения санкции на продление, идти за которой к высокому начальству не хотелось.
Попали как-то под горячую руку «Палкину», дело дошло до ссоры между ним и Лебедевым, которого он упрекал в вялом руководстве разработкой. Гостев попытался быть между ними чем-то вроде бампера, но безуспешно. От меня все требовали активизации того, что нельзя было активизировать.
Тут еще мои подопечные принялись обсуждать в квартире «Доцента» какие-то подземные сооружения в районе Комсомольского проспекта (а магнитофонные катушки все крутились), и оказалось, что эти сооружения действительно существовали… Ну кто вас за язык-то тянет? Эх, одно слово — философы…
Потом выяснилось, что дома Доцент почитывает самиздат, и даже довольно острые (в 5-м Управлении их называли «злые») вещи. Опять же — дома. Однако размножением и распространением самиздата не занимается, читки для молодежи и рабочих не устраивает, почитывает себе — и все.
****
А работа на «моих» курсах русского языка все шла да шла. Молодой австрийский паренек, Петер Б. мечтал о карьере журналиста, постоянно вел какие-то записи, которые припрятывал и не давал никому читать. Прочитать их загорелся я и, добыв наконец, получил громадное моральное удовлетворение. Записи начинались примерно такими словами: «Эти записи я постоянно ношу при себе, и они никогда не попадут в руки верных рыцарей Дзержинского…» Эх, дурашка. Еще как попали.
С первых же страниц стало ясно, что это не просто записи, а подробные ответы на поставленные кем-то вопросы. Описывались настроения различных групп населения, особенно молодежи, условия проживания в Москве иностранцев и возможности наблюдения за ними советских спецслужб — в общем, «разведсырье». Сходил в контрразведку ПГУ — там заинтересовались, запросили резидентуру в Вене, но ничего интересного не получили — «другими данными не располагаем»…
Подготовили почву для выхода на Петера — так, «пощупать» и посмотреть, что выйдет. Собрался идти Гостев, да все откладывал из-за занятости. Дотянули чуть ли не до отъезда австрийца, и Гостев все-таки пошел на встречу. Ничего существенного не произошло, но он вернулся расстроенный. «Эх, жалко, время упустили с парнишкой… Ну точно чувствую, наладился бы контакт, а так фактически попрощались, и все. Ну ладно, может где-нибудь еще мелькнет…»
Ничего себе «мелькнет», Виктор Тимофеевич! Полгода работы, пара месяцев охоты за записями… Их переводили по кускам мои знакомцы в Доме, владеющие немецким языком, и советовали не терять времени, проделывать дырочки в пиджаке для орденов — так интересно выглядели «путевые заметки»… Шутили, конечно. Пожалуй, записи и были самым интересным результатом разработки. Впрочем, ничего или почти ничего нового к нашим знаниям об этой категории иностранцев они не добавляли.
1972 год — год переезда ПГУ в новый загородный комплекс, запомнился мне надолго… Разведчики освобождали значительную часть здания на Дзержинской площади, ту, что желтого цвета. После войны ее строили пленные немцы — и построили добротно. Уезжали и располагавшиеся там пограничники — вернее, Управление погранвойск, которыми руководил любимец КГБ генерал Матросов. Сдержанный, интеллигентный, он часто выступал перед молодежью КГБ, и слушать его рассказы о службе пограничников было невероятно интересно. Помню, как он рассказывал о дрессировке дельфинов пограничниками, восхищался смышленностью дельфинов и вдруг, запнувшись на секунду и посмотрев куда-то в сторону, сказал: «Вот только убивать людей они не хотят учиться…»
Разведчики и «погранцы» уезжали, уступая место нам. 5-е Управление все росло и росло. Мы готовились к переезду, приводили в порядок бумаги, жгли ненужные документы и целые тома дел оперативного учета, долго пылившиеся в сейфах и оказавшиеся «балластными».
Собственно, я не жег и не уничтожал ничего — состояние моего оперхозяйства внушало зависть многим коллегам. Я уже давно понял, что без педантичного, скрупулезного отношения к работе с документами можно захлебнуться в этом бумажном море. Запросы, ответы на запросы, справки, сводки вспомогательных служб, радиоперехват, приказы — все было у меня направлено в определенные русла и текло по ним с завидной аккуратностью. Так что пока мои соседи по комнате наполняли бумажным хламом огромные мешки и волокли их в котельную, я спокойно посиживал за столом и придумывал новые козни для жертв своих разработок.
На следующий день я обнаружил пропажу голубой бумажной папки с 42 листами секретных и совершенно секретных документов — запросы, справки, материалы из ПГУ на некоторых интересовавших меня иностранцев.
Меня утешали, хлопали по плечу: ничего, в неразберихе переезда кто-нибудь подцепил и положил в свой сейф — найдется. Вот рассядемся, поищем в отделе — и найдется.
А я хорошо знал, что «подцепить» со своего стола никому бы ничего не позволил и сам себе потерять ничего бы не дал. Я понимал, что документы найдены не будут.
На оперативном совещании в отделе документы были «объявлены в розыск», который ни к чему не привел. О поисках объявили, к моему стыду, в Управлении — с тем же результатом.
Знавшие мой педантизм товарищи только руками разводили. Были и разговоры о том, что пропажа документов — дело не случайное. С одной стороны, дела мои шли неплохо и, можно сказать, очень неплохо, я был даже членом партийного бюро года два. С другой, отношения с некоторыми представителями старшего поколения чекистов складывались неважно. Вот мне и намекали, что документы вряд ли пропали «сами по себе», без чьей-то помощи. В душе я понимал, что могло случиться и такое, однако разговоров этих не поддерживал: при любом раскладе вина была только моя. Создали специальную комиссию, которая принялась изучать обстоятельства пропажи и характер утраченных документов. Особенно тревожили «сов. секретные» материалы из ПГУ. Комиссия отправилась туда, и, покряхтев, разведчики «разгрифовали» документы: они были архивными, и можно было переквалифицировать их в просто «секретные» — моя участь немного облегчилась. Тем не менее я продолжал себя казнить. Чекист, контрразведчик, сберегатель секретов и охотник за ними не смог сохранить документы в собственном сейфе… Позор, стыд.
Я ждал приговора почти девять месяцев — работала комиссия, придумывало кару начальство, для которого это происшествие тоже было совсем не сахар. Наконец гром грянул — строгий выговор за «халатное отношение к работе с секретными материалами».
Меня утешали, приводили случаи, когда даже строгие выговоры снимались досрочно, в награду за оперативные достижения, в общем, от души старались поддержать. Даже «Палкин» на совещании отдела прогрохотал что-то сочувственное — но одновременно и назидательное. Новый начальник отделения, Николай Николаевич Романов (об уходе Лебедева из отделения, отдела, Управления — потом), спокойный, крепкоплечий дальневосточник, сказал: «Да перестань ты себя грызть. Поработаешь с мое — поймешь: хороших работников без выговоров не бывает. Вкалывай себе, как и раньше, не тушуйся, держись».
Хороших работников без выговоров я действительно видел мало, но утешало это не сильно. Хотя строгий выговор «за нарушения в работе с агентурой» имел даже мой кумир Владимир Иванович К. — самый опытный агентурист, какого мне приходилось встречать. Выговор он получил за то, что тремя месяцами раньше принятая им на связь агентесса (между прочим, жена военного разведчика), «выбрала свободу» и не вернулась из зарубежной поездки. Поди, угадай.
****
И тут мои философы наконец дали всем «прикурить». На квартире «Доцента» они выработали некий документ, нечто вроде обращения к интеллигенции, а может быть и к стране. Поскольку грамотеи они все были знающие, толковые, а на душе не только у них к тому времени накипело достаточно, документ получился довольно «злой» и бил не в бровь, а в глаз. «Подслушка» потащила свою сводку на стол прямо к Андропову — вот как мы здорово работаем, товарищ Председатель…
Покойный Юрий Владимирович, видимо, прочитал не без интереса и наверняка не поленился позвонить нашему руководству: а что это у вас там, дорогие товарищи, делается? А почему не докладываете? — Да мы, да вы… Как всегда в таких случаях, мне сразу надавали по зубам не только за «вялое ведение разработки», но и за то, что технари потащили сводку к Ю. В., не показав ее нам, — не умею наладить правильных контактов со вспомогательными службами…
Досталось и Николаю Николаевичу. Мы принялись придумывать, что бы такое совершить, чтобы «активизировать» эту проклятую разработку.
Она, возвращаясь к прошлому, была, я думаю, одной из косвенных причин ухода Лебедева в бюрократическое Инспекторское управление. Конфронтация Алексея Николаевича с «Палкиным» началась уже давно, споры по разработке «Доцента» были лишь надводной частью айсберга. Это было столкновение не только чуждых друг другу личностей, но и тенденцией работы Управления. Тенденция «Палкина» сводилась к самым жестким мерам в отношении инакомыслящих — «посадка», психушка, высылка. Тенденция Лебедева (вернее, его учителя Бобкова) — профилактика, предотвращение, а не бесстрастная документация действий, «размывание» враждебно настроенных группировок и структур, высылка, в крайнем случае. Даже в знаменитом деле о попытке угона самолета в Ленинграде «отказниками»-евреями реакция Бобкова была неожиданной для всех. Угонщики, скупившие все билеты на самолет, были взяты с поличным, с оружием в руках прямо перед «акцией», никакой суд никакой цивилизованной страны не нашел бы для них оправданий. УКГБ по Ленинградской области сработало, казалось, безупречно. Арест, суд, приговор, заключение — и никакой липы, никаких натяжек.
А Бобков остался недоволен… Говорил, что надо было профилактировать, не допускать даже сгруппироваться как следует, не доводить дело до «дела»… Далеко он умел смотреть и при этом еще и видеть…
Расходились Лебедев и «Палкин» и в оценке работников, их деловых качеств. К этому времени «Палкин» уже основательно «почистил» отдел — один за другим его покидали опытные и интересные люди, в основном, выходцы из знаменитого 7-го отдела ВГУ. Приходило все больше молодежи, которую «Палкин» и его клевреты обрабатывали в нужном им плане, и часто небезуспешно.
А некоторых и обрабатывать не было необходимости. Палкин обожал брать на работу отпрысков и родственников областных и московских партийных деятелей, перетаскивая их из глубинки в первопрестольную, создавал личную преторианскую гвардию в отделениях, отделах, Управлении. К слову сказать, многие из них весьма «соответствовали»: хорошей работой похвалиться не могли, зато усердствовали на ниве «борьбы» с зеленым змием, любили поскандалить. Один из них, сынок посла СССР в восточноевропейской стране, в пьяной ссоре и последовавшей за ней драке застрелил милиционера из папиного, видимо, «вальтера», другой — сын крупной шишки из Верховного Совета СССР стал первым и единственным предателем 5-го Управления: выхлопотал себе загранкомандировку и не вернулся из нее. Со всех ответственных как с гуся вода — к этому времени предательство в ПГУ было уже чуть ли не привычным, а уж с нас какой спрос…
Лебедеву предложили — в Инспекторское с небольшим повышением, и он принял предложение, «от которого нельзя было отказаться»…
Он по очереди беседовал перед уходом со всеми, особенно с молодежью, о которой заботился, защищал от несправедливых (а иногда и справедливых) нападок, продвигал, учил тому, что знал сам, а порой и тому, чего не знал.
Мне он сказал: «Ну, Ж-Женя, жизни хорошей тебе тут не видать, конечно, «Черный» всех вас, и тебя в том числе, «обвалял» с головы до ног. Ты можешь продержаться на одном — на конкретных результатах и вербовках, теперь ты все это умеешь. Может, со временем удастся перебраться куда-нибудь подальше от этой команды, не пропусти случая. «Рыхлого» и «Пропойцу» опасайся больше всех, «Черный» рядом с ними — ребенок. Трудись, в случае чего иди к Филиппу. Но только в крайнем случае, когда уж будет совсем невмоготу. Да не давай им возможности шею тебе свернуть на «Доценте». Придумай вместе с Ник. Ником что-нибудь, да побыстрее. Заканчивайте эту разработку, а то как бы она вас не закончила. Думаешь, твоя молчанка в 1968 году забылась? Ты думал, что кроме Рыхлого да тебя никто ничего не заметил? А если «Палкин» сам не обратил внимания, так другие позаботились, обратили… Они ведь живут этим, они и здесь, среди нас, крамолу все выискивают…»
Вот так поговорили на прощанье. «Ободряющий» получился разговор, но полезный, и главное дело, своевременный, потому что Лебедев как в воду смотрел — на меня надвигалась очередная оперативная гроза…
Дороги наши разошлись, и много лет спустя я узнал о смерти Алексея Николаевича после тяжелой болезни. Он был совершенно одинок, и я начал разыскивать могилу — навестить, может, поправить чего… Не осталось никаких концов — так и не нашел.
В том же 1972 году я впервые поехал в Литву. С тех пор в течение 20 лет я бывал там либо в командировках, либо на отдыхе почти каждый год и навсегда полюбил эту крошечную страну и людей, которые там живут.
Слава Л. и я отправились в Литву на отдых с детьми; это была первая длительная автомобильная поездка в новеньких голубых «Жигулях», которые я приобрел незадолго до отпуска. Сыну было десять лет, дочери Славы — Наташе — восемь. Дети тоже запомнили эту поездку на всю жизнь…
Дорога от Москвы до Минска и дальше, через Гродно, по нашим меркам недурна — Минское шоссе широкое, и путешествие не представляет для опытного водителя никаких трудностей. В первые поездки мы обычно ночевали в Минске, давали детям возможность передохнуть, потом привыкли покрывать расстояние до Вильнюса «в один удар» — это около тысячи километров. Но то было уже время других машин и других спутников…
Литва сразу же, на границе с Белоруссией, распахивается перед автомобилистом как заграница: дорога, разметка на ней, знаки и указатели, поведение водителей — все не такое, как в России. Даже тогда, в 1972 году, литовская деревня или хутор были совершенно непохожи на деревню или хутор в России — по крайней мере, на то, что нам, городским жителям, приходилось видеть. Мы часто останавливались в маленьких городках или деревнях — то посмотреть старинный костел (а иногда его развалины), то взглянуть на ассортимент товаров в сельпо и поразиться выбору, невиданному для россиян, то перекусить и познакомиться с необычными литовскими кушаньями.
Литовцы опрятны, в селах и городах порядка и чистоты несравненно больше, чем у нас, в России.
Пологие литовские холмы, долины, напоминающие линии женского тела, плотные, уютные леса сообщают путешественнику чувство глубокого покоя. Глаз отдыхает на зеленых просторах, и вовсе не чувствуется, что Литва такая маленькая страна. Литовцам она кажется достаточно просторной, а любят они ее, как, по-моему, никто другой не любит свою Родину, — может быть, я заблуждаюсь. В этой любви нет истерической суеты южан, она не выставляется напоказ, ею не размахивают у вас перед носом и не требуют ее разделить навсегда и сейчас же.
Эта любовь трогательна тем, что большинство литовцев стремятся ее воплотить в жизнь, а не дребезжать о ней в долгих тостах во время застолий или нудных речах на собраниях. У нас привыкли называть эту любовь «национализмом» и испытывать сильное раздражение оттого, что литовцы любят Литву больше, чем СССР. Ну что ж тут поделаешь — ведь у нас есть пословица, прекрасно отражающая суть вещей: «Насильно мил не будешь», — да вот только не любим мы вспоминать наши мудрые поговорки, когда они обращены против нас…
Две главных беды России — дороги и дураки? Литве в этом смысле повезло. Дороги литовцы умеют беречь — весной и осенью запрещено выезжать на дороги транспорту, вес которого превышает допустимый. Литовцы говорили, что этот запрет не нарушает никто, кара какая-то несусветная.
Повезло Литве и с дураками — и это до сих пор осталось для меня совершенно необъяснимой тайной. То есть, дураки в Литве, как и везде, есть. Ну, может быть, поменьше, чем где-либо, но ведь и страна невелика, а вот в начальники они почему-то не попадают. На протяжении долгих лет я, мои родственники и знакомые дружили и водили знакомство с десятками литовских начальников — партийцев, строителей, художников, архитекторов, работников городского хозяйства — и часто сплетничали о них. Все сходились на том, что да — дураков среди них не наблюдалось. Это не значит, что весь руководящий состав республики был укомплектован агнцами, альтруистами, херувимами, — вовсе нет. Среди них были и жлобы, и карьеристы, и, наверное, мздоимцы, а может, даже и жулики, но дураков не встречалось.
В Литве очень любят скульптуру. Эта любовь восходит к тем временам, когда дорожные перекрестки и заставы украшались статуями Христа. Как правило, лицом Спаситель походил на соседа или знакомого из соседней деревни — старинные деревянные скульптуры Христа, бережно хранимые теперь в музеях и частных коллекциях, удивительно многолики, это вам не однообразные скучные изображения в европейских костелах и соборах. Литовский Христос с его удивительно очеловеченным образом был, наверное, понятен и очень близок верующим…
Предполагаемая нами тотальная нелюбовь литовцев к России не помешала им отлично выучить русский язык, ни в одной из республик СССР — я бывал во многих — не приходилось мне слышать такой чистой, грамотной русской речи. Может быть, учить русский им было нетрудно потому, что литовский язык очень сложен? Или потому, что они очень трудолюбивы? Или потому, что полюбили нашу литературу?
А вот русских, владевших литовским языком, даже проживших там всю жизнь, я встречал единицы… Но ведь и литовская литература прекрасна, многогранна, самобытна, глубока…
****
«Палкин» решил активизировать разработку «Доцента» старым испытанным способом — оказать мощное психологическое давление на разработчика… Однажды мне позвонили из приемной покойного ныне генерала Н. — тогдашнего заместителя начальника Управления и сказали, чтобы я зашел. Н. появился у нас сравнительно недавно, переводом из Астраханской области — это он (помните?) успешно боролся с холерой…
Любезно улыбаясь, Н. попросил меня принести дело «Доцента», чтобы ознакомиться с ним, а то, мол, оно на контроле у Председателя (это было сказано веско), а он, Н., его и в глаза не видел. Я отнес ему четыре толстенных тома. Увидев эту груду, Н. явно приуныл, но тут же бодро сказал, что поработает над ней и вызовет меня.
Благообразный, плотный, какой-то уютный, Н., сняв очки, любил, вскинув голову, вглядываться в неведомые для рядового оперсостава дали и озвучивать негромким голосом то, что ему удавалось там увидеть.
Через месяц наша беседа началась с того, что Н. осведомился, сколько лет я работаю в КГБ. Услышав, что 13, он с энтузиазмом заметил, что ну вот, стаж-то какой… «На вас ведь вся наша надежда, ведь вам мы передадим в свое время бразды правления, а вы, оказывается, не осознаете важности того, чем занимаетесь, не отдаете делу всего себя целиком. Видимо, как-то вам надо объяснить все это в доступной форме», — и пошел, пошел, но все это было только начало.
«Ну, — повернулся он к томам, из которых торчало несколько десятков закладок, долженствующих показать мне, какая кропотливая работа была им проделана. — Вот, например, такая-то. Почему бы нам ее не использовать и не подвести к этой архитекторше, а потом и к самому «Доценту»?
Я сразу понял, что Н. то ли ничего не читал, несмотря на закладки, то ли не представляет себе некоторых деталей агентурной работы, если не иметь в виду еще и «общечеловеческие ценности»…
— Именно ее мы и не сможем использовать, — сказал я, глядя в глаза генералу.
— Это почему же?
— Да архитекторша как раз ее мать, и мне кажется, вряд ли было бы удобно обратиться к девочке с нашей просьбой…
Н. мгновенно потускнел, согласился, что да, действительно, как-то он это просмотрел, но тут же взбодрился и сделал еще несколько предложений по ведению дела, к сожалению, адекватных первому.
Провалившись со своими советами, Н., в общем не злой человек, рассвирепел, но продолжал говорить спокойно и целеустремленно. Такой головомойки я не получал за все три с лишним десятка лет службы. Его речь закончилась тонким рассуждением о том, что люди, не отдающие себе отчет в важности своего дела, как-то не монтируются с современными требованиями, предъявляемыми к сотрудникам КГБ и вообще…
Получив кнута, я забрал злополучные тома, отнес их в комнату 574 и вышел на улицу. Ноги привели меня на Цветной бульвар, я устало опустился на скамейку и долго курил, тупо глядя на прохожих.
Сейчас смешно вспоминать мои переживания из-за несправедливой взбучки… Ведь в «Доцента» было вбито столько труда — и не только моего — и практически впустую. Мы при всем желании не могли бы предъявить ни ему, ни его приятелям никакой «компры» при самом большом желании (которое, кстати, испытывали далеко не все…).
Я вернулся в «Дом», поплелся к Николаю Николаевичу, рассказал о разговоре с Н., поплакал в жилет. Николай Николаевич сказал:
— Давай попробуем вот что: готовь все материалы и пиши рапорт на профилактику двух-трех человек из нашей компании.
— Да вы что, Николай Николаевич, какая профилактика, когда «Палкин» и Н. настроены только на «посадку», когда уже и Председателю материалы доложили. Не утвердят они рапорт.
— Ты делай, что говорю. Да, наболтали они в последнее время много, да ведь не сделали-то ничего. Надо в рапорте подчеркнуть, что и история с рукописью, из-за которой все началось, — липа. «Доцент» похвастался перед какой-то дамой, что готовит рукопись для передачи на Запад, да мы-то ведь знаем, что кроме трепа ничего нет. Вот и отрази — сам знаешь как. Я тут недавно на совещании у Ф. Д. был, так он полчаса твердил нам: профилактика и профилактика. Не доводите разработки до драматических концов, говорит, когда есть возможность остановить какого-нибудь «активиста», используйте ее для профилактики. А ты со своей тянучкой доиграешься, вот возьмет Доцент, да и напишет, да и передаст, да и подорвет устои советской философской школы…
— Это у меня-то тянучка? Да я все эти три года…
— Вот-вот. Три года.
Мы оба уже улыбались. Курс определился. Начиналась тонкая игра — на чье имя писать рапорт, кто из начальников пойдет в отпуск, кого нужно обойти, а к кому надо идти напрямую за поддержкой.
Я вовсе не хочу сказать, что нами двигали какие-то благородные побуждения или что таким образом мы вносили свой вклад в строительство демократии в разнесчастной России. Но ведь мы действительно не могли предъявить «Доценту» и K° ничего путного, хотя и имели массу интереснейших (для нас, не для суда) материалов! Самое время было остановиться.
Я полдня прокорпел над рапортом, аккуратно его отпечатал и пошел к Ник. Нику. Он внимательно прочитал мою писанину.
— Ишь какой ты у нас писатель, когда получишь по зубам-то. Ну, давай пройдемся еще разок, с карандашиком.
Рапорт действительно получился недурственный. Нарочито сухо и бесстрастно там излагалось, что, по имеющимся данным, такой-то намеревался, планировал, имеет родственников в Америке, настроен, высказывается, общается, встречается, выступает в беседах с друзьями с позиций…
Дальше так же бесстрастно рассказывалось, что с помощью таких-то мероприятий и по данным агентов все это — чушь и болтовня. Вместе с тем считали бы целесообразным такого-то строго предупредить, напугать, разогнать и пр. Предлагались довольно хитрые меры по «размыву» окружения «Доцента» и обещался строгий контроль за его поведением после профилактических мероприятий. Ник. Ник. прочитал еще раз, подписал в положенном ему месте и задумчиво поглядел на левый верхний угол документа, где под надписью «Утверждаю» были прописаны должность, звание и фамилия «Палкина».
— Сегодня Гостеву доложу, посоветуюсь, а потом к «Палкину», и прикинем, что дальше делать. «Палкин» точно оставит бумагу у себя, будет копить контраргументы. Мы в это время придумаем, как бы сделать, чтобы Ф. Д. узнал о рапорте…
Мне не хотелось бы создавать впечатление о Бобкове как о вселенском благодетеле, гуманисте и «умеренном либерале», да он и не нуждается ни в чьем заступничестве. Я просто считаю, что, даже перейдя из ВГУ в 5-е Управление, Ф. Д. оставался главным контрразведчиком страны и фигурой государственного масштаба. Он обладал, с одной стороны, способностью мыслить ретроспективно, анализируя огромный опыт, накопленный за долгие годы службы, а с другой — необычным даром предвидения. Он, например, предсказал наступление США по фронту «прав человека», «народную дипломатию» и многое, многое другое. Он давно разгадал сущность наших нынешних «демократов» и хорошо понимал, что они принесут стране.
Да и опасность грозила нашему государству скорее всего не «по линии» ВГУ, а именно по нашей, «пятой линии». Зарубежные спецслужбисты тоже просчитывали варианты политического развития СССР и больших ошибок, как видно, не допустили. Правильно была ими выбрана и агентура влияния — скорее всего, они вербовали ее давно, «на вырост», и дождались, когда она заняла достаточно высокое положение для реализации их планов по разрушению СССР, существовавшего строя, ограблению населения страны в невиданных масштабах, сталкиванию нас на узкие тропинки, по которым плетутся так называемые «развивающиеся страны».
А что творилось вокруг, как шли дела в Управлении? В военной да еще секретной организации о том, что творится вокруг, люди знают немного и в самых общих чертах. Даже в комнате 574, где я уже был самым старшим и по опыту, и по возрасту, и по званию, и по должности, мы знали о делах друг друга лишь то, что вольно или невольно слышали из телефонных разговоров или когда обращались друг к другу за советом, помощью в конкретных ситуациях. Я знал, например, что Женя К. вел сложнейшее дело по разработке какого-то «ревизиониста», проводил по нему хитрейшие комбинации, в которых по очереди участвовали некоторые сотрудники отделения и я в том числе, однако до сих пор я не знаю, кто этот ученый и в чем заключалась его вина. А ведь во время одной из операций я даже сидел в соседней квартире с оружием и имел приказ в случае специального сигнала стрелять в замок (не в людей, конечно) на двери «ревизиониста» (ключей от нее добыть не удалось), врываться в квартиру и «класть всех лицом на пол».
В разработке вольнодумцев использовалась и иностранная агентура, что всегда казалось некоторым из нас малоэтичным, а иногда сотрудники Управления выступали в роли иностранцев.
Количество людей, занимавшихся разработкой «объектов» из числа наших соотечественников, все возрастало, возрастало, наверное, и количество этих «объектов», они требовали все больше и больше «оперативного внимания», техники, работы вспомогательных служб и пр.
Тем, кто занимался иностранцами, становилось все труднее выпрашивать «наружку», «подслушку» и прочие оперативные прелести. Часто начальство просто отмахивалось от нас — считало, видимо, что угроза строю, обществу и благополучию некоторых исходит именно от соплеменников, недовольных строем, обществом и благополучием некоторых. Замечу, что многим из этих недовольных явно хотелось вместе с изменившимся строем и измененным обществом обрести и собственное благополучие. Сейчас весьма заметно, как они им наслаждаются.
А в массе своей, если можно говорить о массе диссидентов, это были люди неустроенных или разрушенных государством судеб, как правило — бессребреники, беспомощные в быту и повседневной жизни. Помню, как Владимир Иванович, вернувшись с обыска, долго сидел, подперев голову руками, а потом сказал: «Господи, Женя, какая же это нищета… Ну ничего же, кроме самиздатовских рукописей да пишущей машинки, в доме нет. А ведь двое детей, ни он, ни она нигде не работают — то есть их нигде по нашей наводке не берут на работу. Живут случайными заработками, переводами. В квартире грязь, тараканы, жучки какие-то везде…»
«Знаем, знаем мы эту нищету, — немедленно встрял в разговор «Черный», зыцвыкал зубом, зачесался сразу во всех местах. — Как-то живут, значит кто-то помогает, может, и из-за границы подбрасывают чего. А хочут работать — пусть ведут как следует…» Это он так нас воспитывал, поддерживал в нас чистоту убеждений, бессменный наш член партбюро. Он так и говорил — «хочут, хочем», этот офицер центрального аппарата, сотрудник советской контрразведки.
Как-то он договаривался по телефону о встрече с известной тогда и покойной ныне кинорежиссером (встречи «Черный» часто назначал в скверах, на площадях, «у фонтана» независимо от возраста и ранга собеседника).
— Понимаете, мы хочем с вами проконсультироваться…
Когда он закончил разговор, я не выдержал и попытался поднять уровень грамотности товарища по работе, не ранив при этом его тонкие чувства.
— А что? Правильно говорю: я хочу, он хочет, мы хочем, они хочут, — под хохот соседей по комнате разъяснил мне «Черный». Он был абсолютно уверен, что смеются надо мной…
****
А еще были розыскники. Все большее распространение получали «подметные» письма разного рода — листовки, обращения к руководству различных рангов. Наиболее «злых» переправлялись в КГБ с целью поиска авторов. В таких случаях иногда ориентировали оперсостав — не называя при этом адресата, конечно. Но по-настоящему могли решать эти (и многие другие) проблемы только розыскники, они специально этому учились — почерковедение и уйма других наук. Они были также неплохими стилистами — кстати, в составе лингвистической комиссии КГБ (была и такая) числился один из выдающихся советских лингвистов, автор словарей и трудов по русскому языку.
Сначала по стилю документа, потом по почерку (если письмо было написано от руки) они пытались найти — и находили! — автора «злого» письмеца, а то и серьезного преступника, разыскать которого было не под силу МВД или другим управлениям КГБ. Знаю точно, что они раскрыли несколько невероятных по сложности поиска дел с жестокими убийствами. Насколько мне известно, участие их в раскрытии преступлений почти никогда не становилось достоянием средств массовой информации — упоминались лишь сотрудники МВД. То ли это была присущая всем спецслужбистам сдержанность, то ли руководство не хотело афишировать наличие в системе КГБ этого небольшого, но мощного подразделения.
Один из начальников этого подразделения, Евгений Дмитриевич З. жил по соседству со мной на улице Лавочкина — мягкий, интеллигентный человек, говорили, лучший розыскник. Из разговоров с ним я сделал вывод — не знаю, правильный ли, — что огромные залежи всевозможных сочинений и изложений, хранящиеся в наших школах и вузах, хранятся там для того, чтобы розыскники могли вести поиски анонимов по почеркам писавших эти сочинения и изложения…
Кстати, о школах и вузах… Контрразведчики из 3-го отдела — в основном молодые, энергичные трудяги — «опекали» и советских, и иностранных студентов, так же, как опекают наших студентов, скажем, в американских университетах. Там, учится сейчас много детишек наших новых вождей — прекрасный материал для вербовок «на вырост», перспективные кадры будущей агентуры влияния.
Дело «Доцента» действительно зависло у «Палкина» надолго — не хотел он ограничиваться профилактикой. Мы с Николаем Николаевичем это время не упустили: лоббировали Гостева и убеждали его в правильности нашей точки зрения, особенно тщательно анализировали вновь поступавшие материалы.
****
Надо заметить, что наличествовал в нашей жизни и работе еще один, сначала не учитывавшийся руководством фактор. Разработчики, а иногда и мы все время получали разными путями огромное количество самиздатовских материалов. Они не считались секретными, и доступ к ним никем не ограничивался, за исключением каких-то особых случаев. Мы имели возможность читать все это — начальство считало, что нужно «знать противника», и многие из нас по-новому начинали смотреть на разные события и факты.
Были и другие «отдушины». В первые годы существования Управления один из наших сотрудников, Сережа Х. по прозвищу «Хлемансо», курировавший кино, устраивал в кинозале «Дома» просмотры лучших зарубежных фильмов из фондов Госкино. Для совершенствования языков фильмы были без титров и доставляли нам массу удовольствий. В зале сидели мы, сотрудники разведки, пограничники. Если фильм был на языке, не известном большинству — скажем, на итальянском, — всегда находился знаток такого языка и любезно переводил залу особенно важные моменты.
Потом эти просмотры тихо свернули, стали устраивать другие — уже в Доме кино, один из залов которого арендовали под семейные «вечера отдыха» Управления. Тут уж появлялось и начальство с женами, работали синхронисты, был буфет. Однажды рухнуло и это. Говорили, что «Пропойца» пришел к «Палкину» и рассказал, что его жена крайне возмутилась содержанием какого-то довольно легкомысленного фильма — кажется, с участием Бриджит Бардо. Как это так — сотрудники ЧК смотрят этакий разврат!.. В результате просмотры зарубежных фильмов прихлопнули и стали показывать только советские. Вскоре отменили и эти «вечера отдыха».
А в один прекрасный день было запрещено тем, кто не имел прямого отношения к конкретным разработкам, читать имевшийся в подразделениях самиздат. Борьба «за чистоту наших рядов» набирала силу и темп.
До переезда разведки за город для книгочеев вроде меня оставалась возможность реализовать свою тайную страсть в архивах ПГУ. Какая-то их часть хранилась рядом, чуть ли не в самом здании, другие дела по заказу оперработников привозили на следующий день из-за города. Заполнив анкету, я шел в архив и по выписанному требованию получал том, а то и несколько, из которых делал нужные мне выписки в рабочую тетрадь. Попадались иногда старинные дела: мне посчастливилось, например, прочитать подлинные материалы по знаменитым, ставшим впоследствии основой фильма «Трест» делам о комбинациях ЧК против белой эмиграции и Савинкова, ряд дел о работе нашей разведки во время войны и многое другое. Я читал рапорты на вербовку каких-то важных зарубежных шишек, написанные карандашом на четвертушках бумаги, списки оснащения и вооружения диверсионных групп, засылавшихся в середине войны в Норвегию, под псевдонимами наших зарубежных агентов угадывались имена, от которых лезли на лоб глаза, некоторые операции напоминали отрывки из фильмов о Джеймсе Бонде, которые мы успели посмотреть до запретов «Палкина»…
Позже, когда архивы вместе с разведкой уехали из «Дома», я сожалел о том, что чекистская молодежь не имела к ним такого доступа, как в наше время, — работа в архивах имела огромное воспитательное значение для молодого спецслужбиста. Там, в архивах, слава ЧК, ее победы и поражения, мощь и слабость, бюрократизм, предательства, там, как в капле воды, отражена история государства — ее секретные, не известные народу реалии.
Раздался телефонный звонок — второй раз я услышал голос Бобкова по прямому проводу: «Евгений Григорьевич, зайди, пожалуйста, если не занят…» Если не занят! Можно себе представить, как бы я ответил: «Да нет, как раз вот занят, в следующий раз загляну, Филипп Денисыч…»
Бобков сидел за столом, оперевшись щекой на руку. Напротив, у приставного столика, сидел «Палкин», весь темно-красного цвета. На столе перед Ф. Д. лежала моя рапортина на профилактику бедного нашего Доцента.
— Ну, что, нацелился на профилактику? Долго ты с ним занимался…
Я продребезжал, что да, вот нацелился тут. Исходя из, имея в виду то и это, с учетом этого и того…
— Ну а как же ты собираешься использовать вот этот, основной материал, самый горячий который? Ведь его легализовать не удалось, да и не удастся, наверное?
(В самую точку угодил Ф. Д. Это было самое слабое место.)
— Не знаю, — решительно сказал я, — не придумали еще, и пока придумать не получается. Тут какой-то неординарный подход нужен, необычный, не знаю какой.
— Ах, необычный… Ну тогда попробуйте вот что…
Да, это не лежало на поверхности, и додуматься до этого внешне простого, но очень смелого и действительно неординарного решения было можно — но не мне с моим малым опытом.
Я сидел и хлопал глазами, «Палкин» хранил каменное молчание.
Ф. Д. взял со стола ручку, жирно перечеркнул фамилию «Палкина» под графой «Утверждаю» и поставил свою подпись и число. «Палкин» из темно-красного стал черным, я чувствовал себя страшно неловко, знал, что он этой сцены мне никогда не забудет. Я до сих пор не понимаю, зачем Ф. Д. нужно было ее устраивать — а то, что он ее явно устроил, сомнений никаких…
— Ну, давайте, работайте, посмотрим, что там у вас получается.
Я подхватил протянутый мне рапорт, пожал генеральскую руку и тихим ангельским лётом вплыл в кабинет Ник. Ника.
— Ну вот, а ты ныл, не верил, что получится, чудак. Как будто начальству думается иначе, чем нам. Да у них этот «Доцент» тоже небось в зубах навяз.
Однако, когда я рассказал в деталях о разговоре у Ф. Д., приуныл и Ник. Ник. Он тоже не мог понять значения сцены, имевшей место при подписании рапорта. Однако быстро разобрался. «Вот увидишь, «Палкин» обязательно подключит к операции кого-нибудь из своих. Нужно продумать план профилактических бесед так, чтобы было расписано каждое слово, чтобы участник от «Палкина» не смог бы нам испортить обедню. И надо будет напугать его, чтобы самодеятельностью не занимался, а то они нам порушат все. Не устроили бы вместо профилактики провокацию».
Ник. Ник. как в воду смотрел. Провести беседу с «Доцентом» было поручено Гостеву, а с одной из приятельниц «Доцента», «философиней» Т., — «Черному»…
Раздумья моих начальников и мои собственные вылились в такой вариант беседы Т. и «Черного», при котором последний был лишен любых возможностей оперативного творчества. Шаг вправо, шаг влево… Он просто должен был повторить выученное почти наизусть заявление, выслушать то, что ему будет сказано в ответ, — и ни слова больше. Гостев, конечно, оставил себе возможность поговорить, но тоже держался жестких рамок — провоцировать «Доцента» и портить финал разработки мы позволить не могли. Кроме того, мы рассчитывали и на здравый смысл этого жизнелюбца. Вариант использования имевшихся у нас материалов, который предложил Бобков, не должен был оставить у «Доцента» никаких сомнений: каждый его шаг и слово, а также каждый шаг и слово его единомышленников, были нам известны и шутить КГБ не собирался. Опасаясь тенденциозных толкований, решили записи не проводить — Гостев и «Черный» должны были лишь составить справки об этих беседах для приобщения к делу.
Я устроил вызов «Доцента» в МГУ под каким-то предлогом. Двое коллег были уже там для подстраховки, я приехал в своей машине. С одним из них вошел в комнату, где чем-то занимался мой «злоумышленник», поздоровался, представился как сотрудник КГБ и попросил проехать «к нам» — «для консультаций». «Доцент» и глазом не моргнул, спокойно собрал какие-то тетради и вместе с нами вышел к машине.
Я предложил ему сесть рядом со мной, ребята сели сзади — все чинно, спокойно, и поехали, не спеша.
Глядя на сухое, энергичное лицо человека, сидевшего справа от меня, я почему-то уверился, что «Доцент» нас «не подведет» и правильно поймет, что происходит. Ребята сзади болтали о пустяках, отрабатывая линию поведения — не тревожить «клиента», не задавать ему никаких вопросов. Сам я тоже плел какую-то светскую чепуху, как будто мы ехали не в КГБ, а на просмотр моделей одежды фабрики «Большевичка».
Не торопясь, подъехали к «Дому», все выбрались из машины (с ребятами я тут же попрощался — им якобы было по пути), и мы с «Доцентом» вошли в подъезд.
Часовой был проинструктирован и только козырнул нам, мы поднялись на наш этаж, и я ввел приглашенного в кабинет Гостева, который с ним любезно поздоровался и усадил в кресло — в низенькое, конечно…
Дождавшись звонка от Гостева, я пошел к нему и застал его прощающимся с «Доцентом».
— Евгень Григорич, проводи, пожалуйста, Анатоль Сергеича…
Мы молча спустились на лифте вниз и вышли в Фуркасовский переулок.
Что я мог сказать на прощанье человеку, в жизнь которого просунул свои нос и уши почти на три года?
— Вы бы там с друзьями поосторожнее, что ли, Анатолий Сергеевич… Не попадайтесь, пожалуйста, опять…
— Да ни в коем случае, — бодро ответил «Доцент», и мы попрощались.
Я вернулся к Гостеву, где уже был «Черный», и послушал, как они делились впечатлениями от бесед с философами. В принципе, все получилось неплохо: разрабатываемые предупреждены, на профилактических беседах вели себя спокойно, никаких провокаций, никаких грубостей, никакого надрыва. За обоими отправилась «наружка» — нам, конечно, хотелось знать, куда они пойдут и с кем будут обсуждать происшедшее.
— Давай не тяни долго: пару — тройку дней снимешь реакцию, готовь рапорт о проведенной профилактике, а дело — в архив. Оно у тебя в порядке? Подшито?
Господи, еще в каком порядке оно у меня было! Как оно было подшито!
Через некоторое время все члены «группы» собрались на улице недалеко от дома одного из них (сообразили, что дома теперь не поговоришь!) и что-то долго обсуждали. Я, конечно, предусмотрел такой вариант и при очень большом желании мог бы узнать все, что говорилось на этой сходке. Но потом передумал: а если как раз сейчас и происходит самое интересное — дельце-то тогда в архив не сбросишь…
Через три-четыре дня все документы, нужные для прекращения дела, были собраны. В них описывались разнообразные меры по «растаскиванию» компании «Доцента». Напрмер, чтобы возбудить недоверие друзей к одному из членов группы, по месту его работы началось оформление в поездку в Италию (мы-то хорошо знали, что заграницы ему не видать, но приятели действительно усмотрели в этом некий знак и перестали ему доверять, — по крайней мере, на какое-то время). Отработали линию поведения для тех, кто вращался в окружении «Доцента», технари потихоньку убрали из квартиры «Доцента» «дополнительные удобства».
Получив соответствующие санкции, я «уничтожил путем сожжения» все материалы, не имевшие оперативной ценности, — все, что касалось личной жизни «Доцента», массу сводок и справок, потерявших какое-либо значение для грядущих поколений оперсостава КГБ.
— А не слишком ли ты заторопился? — спросил Ник. Ник.
— Ну если только чуть-чуть, — ответил я, и мы улыбнулись друг другу.
Дело «Доцента» улеглось на какой-то полке в архиве среди тысяч других томов. В этой истории всем ее участникам сильно повезло: мы «с блеском» завершили разработку профилактикой, поставив себе жирные галочки в учетных анналах, я сбросил с плеч ношу, тяготившую меня чуть ли не три года, а «Доценту» повезло больше всех. Ведь многие разработки кончались совсем не так.
****
Начальником нашего отдела стал Пасс Прокопьевич С. «Палкин» двигался вверх по лестнице (которая в конце концов привела его вниз), и Бобков представил оперсоставу отдела Пасса, сопроводив эту церемонию уничижительным замечанием в адрес «Палкина».
Бездарные царедворцы вроде меня выпучили глаза. Если Ф. Д. так относится к «Палкину», то зачем же дает ему «расти», зачем берет к себе в замы? Мы не понимали номенклатурных хитросплетений. Представить себе, что в Управлении может что-либо делаться вопреки воле Бобкова, мы не могли, хотя знали, что у «Палкина» связи в самых московских верхах — говорили, что он был вхож чуть ли не к Гришину. А Гришин уже мог и перед Андроповым похлопотать…
Пасса — он, кажется, был мордвин — Боков очень ценил, в соседнем отделе тот занимался разработками советских граждан. В нашем отделе его любили все. Крупный, красивый, спокойный и неторопливо рассудительный, он сразу же прекратил палкинскую практику многочасовых собраний и совещаний, разносов и нотаций. Он мгновенно разобрался кто есть кто в отделе и не жаловал палкинских стукачей и подхалимов. Это, правда, не мешало «Палкину» с прежней заботой «продвигать» их теперь уже с позиций заместителя начальника Управления — замом к Пассу был приставлен «Пропойца». Первый зам, Гостев, только руками развел.
Сосредоточенно думая над чем-нибудь, Пасс всегда вытягивал губы в дудочку и хмурил лоб…
****
Зима 1973 года… Телефонный звонок разбудил меня около двух часов ночи: дежурный по Управлению условной фразой сообщил, что мне надлежит срочно явиться на службу. Повесив трубку, я перезвонил, убедился, что разговаривал именно с ним и, по установленному порядку, позвонил в соседний дом Евгению Дмитриевичу З., розыскнику, члену нашей «цепочки», поднимаемой по тревоге.
— Да как же мы доберемся до Управления-то, Женечка?
— А заведем сейчас мою голубую «птису» и долетим на ней. Выходите на стоянку, Евгений Дмитрич.
Через десять минут мы сидели в машине. У каждого был с собой «командировочный» чемодан со всем необходимым и даже с запасом еды на три дня. Такой чемодан, сумка или рюкзак всегда были в хозяйстве каждого опера для подобных случаев.
Мороз градусов 15. Аккумулятор был слабоват, но машина завелась сразу, и мы помчались ночными улицами к Дзержинской площади, прикидывая на ходу, что могло случиться и где. Случилось же явно что-то серьезное, так как поднимали не отдельных сотрудников, а целые «цепочки».
Внутри «Дома» было пустынно, только по дороге к нашей дежурной службе мы встречали все больше сослуживцев. Это был неплохой признак — казалось, подняли не весь Комитет, а только наше Управление. В дежурной службе нам приказано было взять личное оружие и подготовиться к вылету в Грозный — столицу Чечено-Ингушетии. Автобусы стояли у подъездов, водители держали двигатели горячими. Мы разбрелись по комнатам за оружием, оно хранилось в сейфах. Я сунул свой «макаров» в чемодан, не вынимая из кобуры, спустился вниз и тут же вспомнил про автомобиль, который бросил около «Дома». Вернулся в кабинет, поднял телефонным звонком сонного Славу Л., объяснил ему, у кого оставлю ключи, и попросил отогнать машину на стоянку.
В автобусе было холодно, народ подходил медленно, я стал подумывать, не вернуться ли в «Дом», чтобы отогреться, когда мы, наконец, тронулись. Стало немного теплее, я задремал под возбужденные разговоры сослуживцев. Но поспать не удалось: прямо в автобусе начался инструктаж.
Было сказано, что в Грозном — массовые беспорядки, которые в настоящее время локализованы; нам предстояло изучить причины беспорядков и вообще — «изучить обстановку». Минут через 40 мы прибыли на военный аэродром. Автобусы выехали на летное поле и подрулили к огромному самолету, вокруг которого, светя себе мощными фонарями, возились техники и экипаж. Подкатили трап, открыли дверь, мы полезли в окоченевшую металлическую птицу.
Все расселись по местам, перешучиваясь по поводу отсутствия стюардесс, и самолет покатился по взлетной полосе. Уже светало.
Кто-то рядом принялся возиться с пистолетом, заряжая его. На него прикрикнули и велели убрать оружие, «пока не прострелил насквозь самолет».
Я все-таки заснул, и довольно крепко. И правильно сделал: мне рассказали потом, что посадка была непростая: аэродром летчики не знали и, едва не разбившись, сели лишь с третьей попытки.
Нас ждали автобусы; приехали в город — он был плохо освещен.
В гостинице, больше похожей на общежитие, уже жили люди из ВГУ. Они приехали днем раньше… Меня подселили к одному из них — Валерию К.
Утром, перекусив в буфете, отправились в Управление КГБ.
Улицы были малолюдны, сильно подмораживало. Одно из ярких воспоминаний — грозненские дворняги. Чтобы хоть как-нибудь погреться, они расселись на крышках канализационных люков — у каждой собаки свой люк. Большинство люков было на проезжей части, поэтому прохожие заботливо обходили, а автомобилисты объезжали торчащих, как придорожные столбики, псов. Те благодарно посматривали вокруг.
В Управлении нам объявили, что представителем Центра является генерал Н., а старшим группы 5-го Управления — помощник Бобкова, покойный ныне Евгений Семенович Курицын, крупный, седой спокойный офицер с выражением постоянной озабоченности на лице. Видимо, он был неофициальным представителем Ф. Д., так как Н. все время советовался с ним.
Обедали мы в столовой «Центрального Комитета» (так мы прозвали местный обком), и по дороге осматривались в городе. У меня давно вошло в привычку во время командировок разглядывать витрины многочисленных в таких городах фотоателье — это много дает для первого, поверхностного знакомства с жителями. На витринах Грозного преобладали фотографии восточных красавиц и красавцев в бешметах, черкесках и башлыках, танцующих, гуляющих на свадьбах, сидящих за праздничными столами. Видно было, что фотографироваться тут любили и относились к этому делу серьезно. Много фотографий детей — тоже в национальной одежде, и тоже танцуют. Лица на фотографиях — и взрослых, и детских — были серьезны, даже свирепы иногда. Руки мужчин и мальчиков довольно красноречиво сжимали рукоятки традиционных кинжалов.
Дань обычаям и традициям? Национализм? Показуха? Желание хоть таким образом ненадолго вырваться из грязно-серой повседневности? Всего понемногу, наверное.
Из столовой возвращаемся в Управление. Снова сводки, сообщения агентов, чтение перехваченных писем. Составление аналитических сводок по этим письмам. Из них выделяются послания, принадлежащие перу «среднего молодого человека». Это письма подругам, приятельницам, возлюбленным, и во всех — одно и то же. Описываются уличные бои — грохот пулеметов, залитые кровью улицы, скромно упоминается деятельное участие автора в жесточайших схватках, его благородство (помог старушке спрятаться в подворотне), верность любимой «до конца» и прочее. Все — хвастливая ложь. Восток — дело тонкое?.. В 1992-м они дорвались до настоящего оружия: темные очки, бронежилет на голое тело, «ствол» на пупе, жвачка — такие все рэмбовидные типы, супермены. Защитники отечества?
Вечером в гостинице слышим, как рязанского вида молодой человек, дозвонившись наконец до жены или подруги, кричит в трубку: «Да ты что!.. Да ты не понимаешь, что ли?! Да тут кровь ручьями по улице, пулеметы на каждом углу, а ты про подарки… По улице только бегом тут…»
Ну что с дурака взять? Арестовать за распространение ложных, вредных слухов? На работу сообщить? Дать подзатыльника? Завести дело оперативной разработки? Тяжело вздыхаем в унисон и отправляемся «в номера».
За ужином в ресторане гостиницы (еще не поняли, что ужинать здесь не с нашими «подъемными») встречаемся с другими «командами» и сдержанно обмениваемся впечатлениями. Два опера уже третий день «лопатят» местную экономику, и вид у них очумелый — то ли от беспрерывного чтения и писанины, то ли от того, что читают. Один потихоньку спрашивает, как мы думаем, сколько яиц в год в среднем несет курица в Чечено-Ингушетии? Мы — большие спецы в вопросах сельского хозяйства — пожимаем плечами. Пятьдесят? Сто?
— Два.
Мы смеется, тут же рождаются шутки о чечено-ингушских петухах и вспоминаются несколько анекдотов из курино-петушиной жизни.
— А в чем все-таки дело?
— Воруют страшно.
Другой опер рассказывает, что, когда на Чечено-Ингушетию из Центра к политическому празднику «выделяется» определенное количество правительственных наград (скажем, три «Героя», пять орденов Ленина и т. д.), встает вопрос — кого награждать? А того, у кого в хозяйстве или на предприятии воруют немного меньше, чем везде… Через пару дней после вручения наград орденоносец приходит на прием к руководству и, гордо протирая рукавом новенький орден, начинает требовать повышения, продвижения, льгот, благ… Воровство повсеместно и ненаказуемо.
Самое дешевое золото в СССР — в Чечено-Ингушетии. 12 тысяч рублей за кило. Его что там, навалом? Большие месторождения? Ничуть не бывало. Местные мужчины в больших количествах нанимаются на золотые прииски, в Сибири например. Нет, не копать, не искать золото. Нанимаются на должности (то есть покупают их), близкие к золотодобыче, чтобы скупать утаенное, припрятанное. Их жены, сестры, матери, дети часто ездят их навещать. И никакие охранительные меры не могут остановить поток ворованного золота из мест, где оно добывается, в Чечню. Этим бизнесом заняты многие сотни, может быть, тысячи людей.
На следующий день другой опер, владеющий местными языками, рассказывает, что начальство брало его с собой в качестве переводчика в полет на вертолете над пастбищами. Спустились около отары овец голов в 500–700 (местные определяют такие вещи с одного взгляда с поразительной точностью). К слову сказать, достаточно иметь отару в 30–35 голов, и можно не работать: шерсть, мясо, нормальный приплод. Сладкое восточное безделье гарантировано.
Спрашивают пастуха, чья отара. Не знает. Пытаются завести разговор, но из этого ничего не получается. Что взять со старика? Улетают, чтобы привезти милиционера и допросить старика с его помощью — интересно выяснить, чья же все-таки отара? По колхозным сведениям, здесь никаких отар быть не должно.
Возвращаются через час. Отары нет, и найти ее невозможно, уверяет милиционер. Как это невозможно? 500-то голов?
Опытный пастух спрячет и тысячу, и две. В значительной мере он получает деньги и за это: не столько пасти, сколько прятать. От колхозных руководителей, от конкурентов, от бандитов, от волков, от милиции и от КГБ тоже.
Вот такие «полеты во сне и наяву»…
Утром в буфете появляется и не исчезает вплоть до нашего отъезда колбаса из конины — невероятно вкусная и недорогая. Она становится основным блюдом на завтраках и ужинах. Обедаем по-прежнему в столовой «ЦК».
Кое-что становится ясным именно там. На глазах весь аппарат: машинистки, стенографистки, чиновники разных рангов и шишки покрупнее. Они отличаются хорошей зарубежной одеждой, несколько более свежими (но не совсем) сорочками и более пестрыми галстуками. И тем, что к обеду многие из них заметно пьяны. Очень осторожно начинаем расспрашивать соседей или соседок по столу: а кто вон тот? А этот?
Тот вон, с помятым лицом, — министр коммунального хозяйства. (Боже мой, да где у вас тут коммунальное хозяйство?) А вот этот — министр сельского хозяйства. Один министр через всю столовую заплетающимся языком приглашает другого на вечернюю баню: «Ты знаешь, где…» Тот кивает головой: «Спасибо, знаю, приду». Все показанные нам министры в свое время были «сосланы» сюда за пьянку, мздоимство и прочие прегрешения «перед партией и народом». Ну не ставить же их к станку, не посылать же овец пасти! Номенклатура все-таки… Нетрудно представить себе, какое душистое добавление к местному «букету» они являют собой.
Здешние законы? Шариат, кровная месть, взятка.
Для решения сколько-нибудь важных вопросов официальные власти организуют встречи со Стариками и то ли советуются с ними, то ли просят у них разрешения. Кто-то рассказывал, что однажды такая встреча была устроена и Бобкову, который на что-то подвигнул-таки Стариков.
Чем дальше от города, тем власть Стариков сильнее, всеохватнее.
Все вместе заходим в комиссионный магазин и поражаемся обилию и качеству звуковоспроизводящей и звукозаписывающей аппаратуры. Ничуть не хуже, чем в Москве, уверяют знатоки. Оно и неудивительно при 12-то тысячах рублей за килограмм золота — есть кому все это покупать и продавать.
Явный признак благосостояния — высота и качество забора вокруг дома. Один мы не удержались и обследовали повнимательнее, приблизительно определили высоту — около четырех метров.
И снова — Управление. Снова сводки, справки, сообщения агентуры, перехват телефонных разговоров, почтовых отправлений, составление аналитических документов, возня в картотеках и старых делах оперативного учета. Каждый день из кусочков мозаики складывалась картина того, что здесь происходило и могло еще произойти. Каждый день вечером в Центр отправлялась шифровка по результатам сделанного, выясненного, спланированного.
Везде в гостинице слышно радио. Если его выключить в номере, доносится из коридора — дежурная по этажу слушает, любит, чтобы громко. В основном народная музыка. Валера вслух мечтает записать часа полтора на квадрофонию и пустить воспроизведение на полную мощность в камере, куда посадить представителей местных властей, которых мы наблюдаем в столовой.
Здешнего партийного босса никто из нас не видел. Помнится, у него была какая-то простая русская фамилия. Через пару-тройку лет в Москве наткнулся на некролог в «Правде» — скончался после болезни. Начал читать, чувствую — несуразица. Родился тогда-то и там-то, учился, в таком-то году вступил в КПСС, в таком-то — назначен Первым секретарем обкома Чечено-Ингушетии… Стоп, тут что-то не так. Подсчитываю: в КПСС вступил в 40-летнем возрасте и через два года — Первым секретарем? Хотя бы и в Чечено-Ингушетию? Опечатка, что ли? Такого ведь не бывает!
При случае расспрашиваю одного из сослуживцев, с которым вместе были на «подавлении путча».
— Ну, старик, да это же было всем известно еще в Грозном. Как же тебе-то никто не рассказал? Был это скромный инженер, да женился на дальней родственнице Самого… Ну, быстро в партию пропихнули, а дальше что с ним делать? А в Чечено-Ингушетию его с младой супругой. Наверно, лучше места не нашлось, а может, покойный был создан для работы именно там…
Действительно, может быть и так.
Выходных, конечно, не бывает, работаем часов по 12. Но в одно из воскресений Евгений Семенович, спросив разрешения у Н., посылает нас на пару часов в местный краеведческий музей: «Сходите, хоть немножко отвлекитесь». Идем, человек десять.
Музей маленький, очень бедный, но опрятный. Народу, кроме нас, никого. Единственный запомнившийся экспонат — бешмет (или черкеска — всю жизнь путаю) Махмуда Эсамбаева. Он, оказывается, родом из этих мест, о чем гордо сообщает надпись под красочным нарядом горца.
Грязноватыми однообразными улицами возвращаемся в Управление. Снова за бумаги. Читая их, пытаюсь понять, а чего, собственно хотела толпа на площади? Об этом нам, между прочим, ничего не рассказали… «Сепаратистские лозунги», «территориальные притязания», «сеяли национальную рознь» — вот штампы, которые были выданы как исходные данные для нашей работы. Мы продолжаем собирать материалы, но обобщают их другие — группа из нескольких человек во главе с Курицыным. Это они каждый вечер составляют телеграмму в Центр. Только они, складывая кусочки мозаики, видят всю «картинку». Да видят ли? И нужна ли там, в Центре, действительная картина происходящего? По некоторым косвенным признакам догадываюсь, что нужна не всем и не такая, какой она является на самом деле.
Вечером, под душем, пытаюсь не слышать доносящиеся из коридора завывания радио. У меня начинает складываться свое мнение о том, что здесь происходит, и происходит давно.
Родовой строй. Целый народ оказался бездомным. Влияние и власть Стариков являются «вещью в себе» и служат только для сохранения самих себя — влияния и власти. Никаких перемен в пределах этой крошечной страны Старики осуществить не в состоянии. Кроме того, они жизненно заинтересованы именно в сохранении вековых обычаев, религиозных установок, в отсталости и невыносимой серости существования окружающих. Словом, всего того, что обозначается эвфемизмом «местный колорит»… Официальные местные власти — отбросы номенклатуры, они глубоко презирают местное население и в ответ получают не меньшее презрение и ненависть.
У Москвы то ли руки не доходят (а до чего они у нее доходят — до Праги?), то ли ее вполне устраивает существующий расклад: нефть и нефтепродукты поступают из Грозного вполне исправно, а на остальное наплевать?
Размещенные здесь войска мгновенно пресекают любые волнения. Каждый раз, когда эти волнения заканчиваются, все остается по-прежнему. Выхода из создавшегося положения не видит никто: нельзя выселить из Пригородного района осетин — да и куда? Нельзя расселить однажды уже выселенных ингушей где-либо еще. Нельзя в одночасье цивилизовать эту страну, оставшуюся на родовом уровне развития.
Видимо, подсознательно все принимают кажущееся единственно правильным решение: сохранять как можно дольше статус-кво, чтобы все было, как прежде.
Через неделю получаем информацию о том, что и в других городах — Нальчике, Орджоникидзе — тоже неспокойно. Часть нашей группы разъезжается по области, и мы начинаем получать информацию от товарищей с мест. Ничего особенного, все то же самое, только помельче и пожиже.
В один из вечеров возвращаемся с Валерой из Управления пораньше, и он рассказывает, как попал на работу в КГБ.
Москвич из интеллигентной семьи, он случайно (об этом — конфузясь) стал маленьким комсомольским чиновником. Маленьким, но очень старательным, исполнительным и даже верящим в нечто этакое. И угодил в очередной комсомольский набор на стройки то ли коммунизма, то ли социализма, то ли чего-то еще очень хорошего.
Валерина стройка оказалась атомным заводом у черта на куличках — он так и не назвал мне город, где она находилась, эта «стройка». Там все уже давно было построено — и бараки для зэков в лагере рядом с городом, и казармы для внутренних войск, и циклопические сооружения самого завода, на котором делалось что-то атомное, но Валера так никогда и не узнал, что. Было известно, что существует опасность радиоактивного поражения, имелась система индикаторов и проверок на облучение, проводились многочисленные профилактические мероприятия. Зэки работали на самых опасных участках. Иногда у них появлялся шанс сократить пребывание за проволокой.
Валера рассказал об одном таком случае.
Лопнул какой-то трубопровод. Началась утечка радиоактивной жидкости. Несколько цехов были немедленно оцеплены охраной, людей оттуда быстро выводили и везли прямо в профилакторий — выяснять, сколько кто «схватил» рентген.
В одном из цехов, у дальней торцевой стены, был огромный, чуть ли не в метр диаметром, вентиль, который перекрывал поступление радиоактивной жидкости в систему, в тот момент он находился в положении «открыто»… А жидкость уже покрыла тонким слоем большую часть пола (тогда-то Валера понял, почему он из толстого металла, — чтобы жидкость не могла просочиться в почву).
Валера вместе с группой начальников находился в другом конце цеха — примерно в полукилометре от вентиля. На всех уже были спецкостюмы, хотя мало кто на них надеялся. Вскоре прямо через ворота цеха въехали два крытых грузовика. Из них появилась сначала охрана, а потом зэки — «добровольцы».
Охрана выстроила их в длинную шеренгу. Зэкам показали издалека на вентиль и объяснили, что нужно бегом, как можно быстрее, добежать до вентиля. Один оборот вентиля направо — со «срока» снимается один год, два оборота — два года и так далее. Находившийся там же врач — он периодически посматривал на приборы — советовал больше двух оборотов не делать.
Раздалась команда «марш», и по металлическому полу, по лужам смертоносной жидкости забухали, зашлепали тяжелые ботинки первого «добровольца».
Возвращавшихся охрана сразу грузила в один из грузовиков, где были свалены комплекты одежды, — старую зэки по команде охраны сбрасывали на пол перед посадкой в кузов машины.
Валера «прокомсомольничал» на этом заводе почти три года, потом у него начался сильнейший ревматизм — видимо, от постоянного пребывания в помещениях с металлическим полом. Ревматизмом страдали там многие, поэтому придумывали прокладки в обувь, приклеивали и прибивали дополнительные подошвы и каблуки. Деревянные или резиновые настилы на пол были запрещены.
Приехавший с какой-то проверкой большой комсомольский начальник оказался Валериным приятелем и обещал помочь — в Москве как раз в это время проводилось очередное «усиление» КГБ комсомольскими кадрами. Оказалось, есть шанс даже с ревматизмом попасть на работу в «органы». Выбирать не приходилось — не было никакой уверенности в том, что в следующий раз зэки успеют добежать.
Наконец в Москву отправили телеграмму, в ответ на которую мы получили приказ сворачиваться. Сначала по двое-трое, потом большими группами мы уезжали из Чечено-Ингушетии.
Эта командировка напоминала мне — и напоминает сейчас — высадку инопланетян, бесстрастно понаблюдавших за незнакомым и совершенно чужим миром и с удовольствием отправившихся назад, на родную планету, далекую и непохожую на то, что им довелось увидеть.
Думаю, что в Центр направлялась достаточно объективная информация, но вот оттенки… Ах, эти оттенки! Они могут вывернуть любую объективную информацию наизнанку. Попробую привести примеры.
Митинг — толпа.
Чекисты — гэбэшники.
Собрание — сборище.
Патриот — националист.
Участник митинга — бесчинствующий молодчик.
Поездка — вояж.
Бандиты — боевики.
Коммунисты — красно-коричневые.
Погромы — волнения.
Уничтожение великой державы — реформирование страны.
Как видите, работает «в обе стороны». Вопрос в том, кто пользуется этими штампами и с какой целью. Впрочем, цель всегда одна — дезинформация. Я бы назвал эту работу «приведение объективной, подлинной информации к Виду, Приятному Для Руководства».
Главное в политической жизни России — назвать.
****
Помимо поездки в Чечено-Ингушетию, 1973 год запомнился мне еще одним событием: в Москве готовились провести Всемирный конгресс миролюбивых сил.
На протяжении всей «холодной войны» наши правители надсаживались на высоких трибунах, крича о своих достижениях в деле сохранения мира. Мне кажется, у значительной части населения нашей страны сложилось твердое убеждение, что весь капиталистический мир только и ждет момента навалиться на нас с водородными бомбами, да вот радетели в Кремле пухлыми номенклатурными грудями встали на нашу защиту.
На самом деле, до самого последнего времени все обстояло совсем иначе, если вообще не наоборот. Угроза войны в значительной мере исходила и от нас. С десятками тысяч танков и самолетов, ракетных боеголовок, многомиллионной армией мы были самой милитаризованной державой. Впрочем, наших военных вполне можно было понять: воспоминания об ужасах последней войны, о ее начале побуждали их требовать от властей все большие средства. Министерство обороны стало главным ведомством страны… Вся экономика была сожрана чудовищным молохом ВПК — образование, культура, медицина подбирали жалкие крохи с его стола. Просвещенные военные крайне редки везде, а интеллектуальный потенциал наших генералов и маршалов виден достаточно хорошо на экране телевизора (правда, штатские властители превосходят их не сильно). Добавьте к этому традиционное (и небезосновательное!) недоверие русских к Западу.
Врать и пускать пыль в глаза с большим размахом наши правители научились еще со сталинских времен, когда заморочивали голову таким мудрецам, как Бернард Шоу, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, Анри Барбюс, а те, вернувшись домой, расписывали прелести жизни в раю для рабочих и крестьян. Правда, надуть получалось не всех…
Всемирный конгресс миролюбивых сил был задуман как акция глобального масштаба, долженствующая убедить всех в нашем миролюбии. Целиком и полностью.
Приглашено было порядка трех тысяч человек из-за рубежа и республик Союза.
Головными организациями были, конечно, ЦК КПСС, Совмин, Комитет защиты мира. Но значительную роль играли и мои «поднадзорные» — ССОД и Комитет советских женщин.
Готовился к Конгрессу и КГБ. Еще бы! Чтобы среди тысяч иностранцев да не нашлось объектов «оперативного внимания»?
Мне было поручено перебраться в Комитет советских женщин и взять на себя работу по подбору и оперативной проверке всех переводчиков, привлекавшихся к работе на Конгрессе. Вместе с тем с меня, по крайней мере до начала работы Конгресса, никто не снимал обычных нагрузок и обязанностей.
Работать на Конгрессе должны были сотни переводчиков, и забот хватало. Надо было убедиться не только в том, что все они — люди достойные, знающие, не только выделить лучших из них для работы с наиболее серьезными делегациями, но и выяснить, кто из них каким-либо образом связан с КГБ и сможет выполнять наши «просьбы» во время работы Конгресса… Да и расставить их надо было так, как хотелось бы нам.
К этим заботам добавились десятки телефонных звонков, которые я сразу разделил на две части: полезную, когда звонили коллеги и просили пристроить на престижные места своих агентов, и блатную, когда коллеги же просили за жен, дочерей, сыновей и приятельниц.
Наконец подготовительные мероприятия завершились, все были расставлены по местам, и вместе с группой сослуживцев я перебрался на жительство в гостиницу «Россия», где предполагалось разместить большинство иностранцев и проводить официальные мероприятия. Для нас были выделены жилые и штабные номера, как и для работников многих других ведомств, связанных с работой Конгресса.
Немало рядовых сотрудников КГБ, а особенно руководство, обожали «обеспечивать» такие мероприятия. Конгрессы, Олимпиады, международные выставки, симпозиумы — это всегда тысячи людей, среди которых настоящий спецслужбист спрячется так, что найти его и помешать ему работать очень маловероятно. Но зато можно мобилизовать сотни сотрудников, расставить и рассадить их на каждом шагу, к вечеру каждого дня собирать по крохам всякую чепуху и придавать ей «нужное звучание». Ювелирной чекистской работы тут, конечно, быть не может, но зато много беготни, суеты, показухи, телефонных звонков, то есть того, что в Академии наук называлось когда-то «эскадировать»: СКД — симуляция кипучей деятельности. В конце мероприятия можно было с треском доложить наверх о принятых мерах, которые обеспечили, предотвратили, сорвали, не дали противнику… и т. д.
Но нельзя игнорировать и другую сторону дела: попробуйте себе представить психологию тех, кому поручено отвечать за безопасность таких мероприятий. Они никогда не забывают расстрела арабскими террористами израильской команды на Олимпиаде в Мюнхене… Я помню, как перед Московской олимпиадой меня в составе одной из спецопергрупп обучали обращению с только что изобретенным в лабораториях КГБ (позже я узнал, что с участием моего друга Славы Л.) оригинальным газовым пистолетом…
Уметь доложить «наверх»… Ведь наверху сидят такие же умники, какие в свое время были направлены в КГБ «на усиление», и они в восторге закатывают глаза. Это подумать только! Три (пять, десять) тысяч иностранцев — и все прошло без сучка без задоринки! Ну были какие-то мелочи, но мелочи же! Нет, недаром КГБ ест свой хлеб, молодцы ребята! Вот подбросим-ка им десяток орденков, поощрим руководство, пускай стараются…
Во время какого-то огромного мероприятия, кажется фестиваля молодежи, меня откомандировали в аналитическо-информационную группу. Туда стекалась информация из всех подразделений КГБ, с тем чтобы к определенному времени каждого дня мы готовили сводку для руководства КГБ и ЦК. Нам сообщали обо всем: о действиях иностранцев, подозрительных на шпионаж или провокации, — например, о межнациональных конфликтах между ливанцами и сирийцами, о легкомысленных связях наших девиц, об охранных мероприятиях по подготовке больших зрительных залов для масштабных мероприятий.
Однажды раздался звонок: «во время «зачистки» — проверки одного из залов — обнаружен, похоже, зажигательный контейнер, который сейчас будет доставлен к вам». Порядок был именно таков, но сотрудники подразделения, обнаружившие «контейнер», не хотели делиться славой ни с кем, поэтому прежде всего доложили своему руководству, те — выше, а оттуда — в ЦК, словом, ударено было в б-а-альшие колокола. Находку привезли к нам, и я сразу же принялся со смехом ее потрошить. Некоторые отшатнулись от стола, но внутри «контейнера» было, как я и ожидал, только то, чему там и полагалось быть, — «Тампэкс». Наверное, выпал из чьей-то сумочки…
Почти каждый, владевший языками, был прикреплен к какой-либо делегации, мы собирали то информацию о реакции иностранцев на выступление Генсека (всеобщий восторг), то сведения об отношении делегатов к какой-нибудь нехорошей акции Пентагона (гневное осуждение), то высказывания о постановке борьбы за мир в СССР (слезы умиления).
Умение быть в нужном месте в нужное время не подвело меня и на этот раз.
Помогло и знание английского — началось с того, что в баре я услышал обрывки малопонятного сначала разговора. Потом, с некоторым трудом, установил, в каких номерах жили собеседники, остальное — фамилии и то, что называется «установочными данными», получить было просто.
А там уж мы навестили англичан в их номерах (правда, без приглашения и ведома хозяев) и нашли чемодан с листовками, достаточно неприятными для рабочих и крестьян СССР. В листовках — почему-то розового цвета — довольно убедительно говорилось о том, что победа Октября ни шиша не дала рабочим, что коллективизация превратила крестьян в рабов, что наши профсоюзы — сплошная липа, такая же, как и наша «борьба за мир». Словом, «злобная клевета», а не какое-нибудь там «тенденциозное освещение советской действительности».
Остальное было несложно. Вместе с двумя другими сотрудниками мы организовали простенькое наблюдение за сыновьями туманного Альбиона и вскоре убедились, что листовки они раскладывали толстыми пачками среди информационных материалов Конгресса на специально отведенных столах и стендах, причем явно торопились отделаться от них. Мы двигались вслед за ними, аккуратно изымали пачки листовок и складировали в своем номере. Через пару дней весь «тираж» перекочевал к нам. За ним приехал сам Евгений Семенович Курицын, который долго хлопал меня по плечу, пел хвалебные песни, затем, сложив «идеологическую диверсию» в чемодан, уехал обратно в «Дом».
Как-то вечером позвонил Пасс и попросил зайти к нему. Вытянув губы в дудочку, он некоторое время смотрел на меня, а потом сказал: «Знаешь, тут ЦК решило наградить тех, кто отличился на Конгрессе, так что получи-ка да носи на здоровье». Он протянул мне маленькую коробочку, я открыл ее, увидел красивые часы и узнал их — я даже знал, что на задней крышке выгравировано «1973 Конгресс миролюбивых сил, Москва». Такие часы входили в блок подарков для именитых гостей Конгресса. Видимо, какая-то часть подарков осталась в запасе, и ЦК решило поощрить КГБ «со свово стола». Ну что ж, все равно было приятно.
Пасс вытянул дудочку еще дальше и добавил: «Знаешь, про эти листовки еще до Конгресса было известно, здорово их искали…»
****
Хорошо помню другое «масштабное» мероприятие — Конгресс ученых-историков. Тут уж было поднято на ноги все 5-е Управление и его агентура. Еще бы — мероприятие серьезное, здесь предполагались, и не без основания, столкновения мнений, идеологические коллизии, споры ученых по десяткам вопросов, начиная с проклятых протоколов советско-германского пакта и кончая длинной чередой проблем войны с финнами, которую они до сих пор сдержанно называют «Зимняя кампания».
На этот Конгресс приехали наши коллеги из аналогичных служб восточноевропейских стран — все они имели задания в отношении отдельных членов своих делегаций и просьбы помочь им в проведении оперативных мероприятий.
Установить контакты с ними было поручено мне, на меня же была возложена работа по организации нужных мероприятий. Чех, болгарин, поляк и венгр жили все в той же «России» вместе со своими делегациями. Работу по делегации из ГДР вел резидент ГДРовской разведки в Москве, сидевший «под крышей» в посольстве.
В скромнейшем костюме, затрапезном плаще, с женским зонтом, он мгновенно растворялся в московской толпе или в переходах метро, хотя уж в Москве-то в этом не было необходимости. Но его работа стала, как я понял, образом жизни и гораздо проще было от этого образа жизни не отходить ни на шаг… Он говорил по-русски едва ли лучше, чем я по-английски. Он знал все о делегации ГДР и каждом ее члене: кто и с каким докладом выступит, какие при этом допустит «идеологические отступления», как на них надо реагировать оппонентам. Этот человек был создан для разведки, рядом с ним я чувствовал себя учеником, хотя он был ненамного старше.
Я познакомился и с некоторыми другими резидентами дружественных разведок, а с Франтой К. и Лешеком Б. на долгое время подружился.
В редкие свободные минуты мы осторожно «трогали» различные «тонкие» темы, связанные с положением в наших странах, и уже тогда, в середине 70-х, в наших разговорах звучали тревожные ноты…
Везде было одно и то же: руководство, не пользовавшееся не то что популярностью — элементарным доверием народа, катившийся вниз уровень жизни, побеги ответработников и спецслужбистов «за кордон», недовольство «зажатой» интеллигенции, диссидентство. И везде партийная верхушка пыталась идеологические проблемы решать путем использования спецслужб, контроля за инакомыслием и его подавления. Невеселыми были наши разговоры.
Партийная элита, номенклатура… Я начал сталкиваться с ее представителями именно во время этих конгрессов и симпозиумов и вскоре впал в состояние полного недоумения. Раньше мне казалось, что номенклатура — это нечто единое, что власть в стране сильна именно своей монолитностью, отсутствием оппозиции (две сотни диссидентов не в счет), партийными структурами, пронизавшими все общество, как кровеносные сосуды пронизывают живой организм, с едиными интересами, едиными целями и путями их достижения. В конце концов, у них были одни и те же пайки, кормушки, дачи, персональные автомобили и положенные к ним холуи; бездельные, но помпезные выезды за рубеж, результаты которых единодушно одобрялись на каких-то Пленумах и совещаниях ЦК. И в то же время единства не было — были «подсидки», наветы, интриги, сколачивание блоков, карабканье на самый верх копошащейся отвратительной кучи.
Общаясь с ними, я ни разу не слышал разговоров о прочитанных книгах, о музыке, об искусстве вообще — в крайнем случае, говорили о какой-нибудь телепередаче, о передовой в «Правде», но главной и почти единственной темой была тема кадровых перемещений. Куда двинут Петра Александровича? Уйдет ли Федор Иванович сам или его придется «попросить»? Согласится ли Алексей Павлович на место, освободившееся после ухода на пенсию Александра Ивановича? Как бы поговорить с Николаем Петровичем, чтобы протолкнуть назначение Андрея Александровича, а не Владимира Петровича? Кадры действительно решали все. А они решали, как расставить эти кадры. Среди них было немало светлых голов — без них эта система не продержалась бы так долго, их терпели, этих умников, но втихомолку ненавидели, потому что в массе своей были неправдоподобно тупы и малообразованы. Но старались выглядеть, очень старались и, не разбираясь ни в чем, учили всех и всему.
Как-то мне пришлось целый месяц лежать в госпитале КГБ в одной палате с очень интересным человеком. Т. был инженером, ответственным за электросистемы, водоснабжение и канализацию всех объектов, охраняемых 9-м Управлением КГБ. В его ведении было все начиная с кремлевских звезд — он рассказывал, как лазил туда по высоченным лестницам, менял огромные лампы, и кончая водоснабжением правительственных дач. Был он человек штатский, хотя и «секретный», по-стариковски говорливый, а я уже здорово поднаторел в «разматывании» собеседников и часами слушал его рассказы… Оказалось, существовала сложная градация льгот, и на определенном уровне принадлежности к номенклатуре ее члены знали эту градацию назубок. Кому полагалась одна машина — «Волга»-«Чайка»-«ЗИЛ», а кому и еще одна — на нужды семьи, кому набивался казенными деликатесами холодильник определенного размера, а кому — холодильная камера с обязательным бочонком икры, дачи тоже делились по размерам, расположению, количеству охраны, если она полагалась. Все это оплачивалось тремя ведомствами — ЦК, Совмином и КГБ.
Слава Богу, фантазии наших вождей того времени не простирались так далеко, как, например, изыски их польских коллег — средневековые замки, куда можно добраться только вертолетом, старинные вина, шлюхи из Кении (поляки утверждали, что они там какие-то особенные) и многое другое, чего в конце концов их алчущая оппозиция просто не выдержала. Нет, «ленинская скромность» и панический страх друг перед другом сковывали творческие замыслы наших «мыслителей» — но до поры, до времени. Стали и они выезжать на африканские сафари, обустраивать свой быт и украшать его совсем неплохо.
Вот и сейчас видим ту же картину: «демократы» принялись с хрустом пожирать друг друга. И сейчас, уверен, в ФСБ не хватает технических средств на борьбу с мафией и коррупцией. Они, эти средства, наверняка вовсю используются против тех, кто может подгрызть шатающийся постамент с столпившимися на нем борцами за триумфальный переход к капитализму. Опять та же банка, и те же пауки в ней. Все глубже они уходят в эту борьбу, все больше сил она требует, все больше средств. Откуда средства? Да все оттуда же — из нашего кармана. Народ еще не осознал, что все мы — налогоплательщики, и именно на наши деньги наслаждаются жизнью наши «отцы», именно на них они ведут жестокую, непрекращающуюся и такую любимую ими игру — Борьбу за Власть. В эту игру теперь не сунет нос ни разгромленный КГБ, ни вконец разложенная армия, ни милиция, купленная и перекупленная настолько, что иногда не разглядеть разницы между ней и теми, за которыми она должна бы гоняться. Сдерживающие, вернее, сдерживавшие факторы сведены к нулю. Опасаться Игрокам следует только друг друга, и прелесть Игры заключается еще и в том, что Игроки на каком-то этапе, осознав общую опасность, могут и договориться…
Страна огромна, и разворовывать ее можно еще очень долго и очень многим, если заняться этим организованно и разумно. Хватит и детишкам — они как раз к тому времени разгрызут граниты наук в Гарвардах, Сорбоннах и Кембриджах.
Это возможное соглашение между «демократами» различных мастей, которые с некоторым опозданием сообразили, что произошло в Литве на выборах 1992 года, в Польше — в 1995 году, в Болгарии — в 1994-м, может стать самым страшным, что случится с нашей страной.
Вот тогда номенклатура станет монолитной. Она, конечно, будет называть себя иначе: парламентские фракции, союзы национального спасения, гражданские союзы, народные фронты, как угодно. «Пофракционировав» и оттяпав хорошие куски от российского пирога, они будут бесшумно переползать в «коммерческие» — а у нас это значит воровские — структуры уже не с пустыми руками, а как держатели капиталов, земельных участков, зданий, городской земли и многого другого.
****
Прошло очередное совещание о работе с агентурой, из которого особенно запомнились слова покойного Александра Ивановича Куликова (Маршала): «Нетленные ценности создают те работники, которые привлекают к сотрудничеству с нами людей, устремленных в будущее. Тех, кто вместе с нами долго будут являться инструментом практического осуществления политики государства и средством обеспечения его безопасности…»
Сказано было красиво и верно. Но практика опровергала теорию. Дело в том, что вербовочная работа все больше становилась показателем усилий, перечеркивая собственную сущность. К концу года отделения, отделы, управления докладывали о количестве привлеченных к сотрудничеству людей и очень редко в этих докладах выделялись качества новых агентов, разве что речь заходила о вербовках иностранцев.
Считалось нормальным, чтобы каждый опер в год вербовал, по крайней мере, двух агентов — хотя многие делали великолепные карьеры, и не понюхав вербовочной работы. Как правило, это были люди, любившие учить других, их беззастенчивость не раз приводила меня в изумление.
Агентурный аппарат «чистили»: регулярно освобождались от тех, кто оказался нечестным, необъективным, кто стремился использовать связь с КГБ в корыстных целях, кто, несмотря на все предшествовавшие вербовке проверки, был неспособен выполнять поручения КГБ. Попадались и болтуны. Один из них, довольно хорошо сейчас известный у нас и в Америке журналист, активный борец за права евреев в СССР, любил выдавать себя в общении с дамами за полковника КГБ…
Особенно активной работа по приобретению агентуры становилась к концу года, к «отчетному» периоду: многие торопились поставить «галочку» и не попасть в списки невербовавших. Над этим посмеивались, а солидные, степенные оперы считали вообще неприличным вербовать в декабре, если это не вызывалось конкретными мероприятиями или прямой необходимостью иметь «своего» человека именно там-то и именно в такое-то время. Но именно такой необходимостью и обосновывали целесообразность своих вербовок «декабристы», а начальству тоже не претило добавить в отчетный доклад лишнюю единичку… Вот так и бывало «ан масс», что вовсе не мешало иметь прекрасных, честнейших, эрудированнейших помощников, которыми могла бы гордиться спецслужба любой страны.
Между прочим, в нашей стране, где каждый каждого обвиняет или подозревает в стукачестве, принято стыдиться слова «агент». Кима Филби, Рихарда Зорге, Блейка торжественно именуют разведчиками — иначе говоря, штатными сотрудниками нашей военной или политической разведки. А ведь все они агенты — блестящие, храбрые, много сделавшие для нашего государства (каким бы оно тогда ни было). А сколько людей не числилось ни в каких картотеках и не давало никаких подписок, но помогало секретным службам в военное и мирное время? Сколько их предано суворовыми, гордиевскими, поповыми, пеньковскими? Почему во время телеинтервью с предателями никто из «свободных» журналистов не спросил их об этом? Снова и снова задаю себе и другим еще вопрос: кому же все-таки нужна — и для чего — героизация предателей? В интервью с Суворовым на экране то и дело появлялась драматическая надпись: «Приговорен к расстрелу». А к чему бы вы, господа, хотели его приговорить? К Нобелевской премии? К званию Герой Соединенного Королевства или США?
«Предательство как… благо». Это название статьи из популярного еженедельника, где на полном серьезе читателя убеждают, что измена Пеньковского спасла мир во время Карибского кризиса. Этой же теме посвящена толстенная книга о Пеньковском, которая так и называется — «Шпион, который спас мир…»
Написанная американским «журналистом» Джералдом Шектером и покойным ныне предателем СССР и советской разведки Дерябиным, она поражает обилием фактических материалов, которые ЦРУ с небывалой готовностью предоставило авторам — каждое лыко в строку.
Другой предатель, Гордиевский, тяжело, видите ли, переживал вторжение войск Варшавского Договора в Чехословакию и поэтому… Позвольте, если офицер настолько переживает по этому поводу, что вполне возможно, пусть напишет рапорт об отставке и уже в качестве гражданского лица оппонирует правительству, с политикой которого не согласен. Ан нет! Он предпочитает наняться в прислуги к английской разведке, предавать офицеров-чекистов, работающих вместе с ним, агентов, нелегалов — все и всех. Предательство как благо? Да, блага тут очевидны — заместитель резидента разведки в Англии знает много, и торговать было чем. Судя по тому, на каких уровнях англичане просили отпустить к Гордиевскому его семью, он, видимо, не продешевил.
А все эти публикации в защиту предателей, попытки изобразить их борцами против «режима КПСС» имеют только одну хорошо замаскированную цель — это работа высококлассных разведок по выводу из игры своих провалившихся или расшифрованных агентов.
Хорошо понимая, что агентура, перед которой стояла цель развала, разрушения нашей страны, уже «выработалась», состарилась, не имеет возможностей, запаса здоровья, влияния, зарубежные спецслужбы готовят новые агентурные кадры, призванные решать новые задачи. Эти агенты должны быть уверены в том, что в случае провала их не бросят в беде, используют любое влияние, чтобы вывезти за рубеж, обменять на собственных попавшихся агентов, отменить приговоры к высшей мере наказания…
«…Мы своих людей в обиду не даем…»
Интересно, с чьей это помощью наши сердобольные журналисты берут интервью у перебежчиков? Что, можно приехать в Лондон, например, и спросить у первого же «бобби» — как бы встретиться с Гордиевским?
Такие встречи, беседы, интервью может устроить только секретная служба, когда она заинтересована в этом.
****
Было еще одно путешествие за счет государства (так иногда называли в «Доме» командировки), которое я вспоминаю, когда слышу словосочетание «северные территории».
В конце мая 1973 года меня вызвал к себе Ник. Ник. и, загадочно улыбаясь, спросил, не хочу ли я проверить работу Управления КГБ по Приморскому краю? Я заметил, что проверять чужую работу гораздо приятнее, чем выполнять свою, и спросил, в чем дело. Оказывается, было принято решение проверить работу чекистов в Приморском крае, и Инспекторское управление (то самое, куда когда-то был сослан за строптивость Алексей Николаевич Лебедев) формировало рабочую группу из представителей всех подразделений центрального аппарата.
Наше Управление предложило две кандидатуры — полковника Ч. и меня. В те времена я не понимал, что попасть в такую группу — привилегия, и особого восторга не выказал, но Ник. Ник., сам опытный дальневосточник, вдобавок ко многому рассказанному им о работе в Приморском крае прибавил еще кое-что, и я всерьез заинтересовался поездкой. Она обещала быть довольно долгой — месяц. Я не любил уезжать из дома так надолго.
Я почему-то не попал на общий инструктаж группы: Ч. уже в самолете рассказывал о нем. Нас было человек 20: двое из ПГУ, пара молодых ребят из 2-го Управления, технари, представитель Инспекторского — перезнакомились уже в Ил-86.
Рейс был прямой — «Москва — Владивосток», летели страшно долго, все время что-то ели (тогда Аэрофлот еще не научился ненавидеть своих пассажиров), а один из сотрудников ПГУ довольно прилично «набрался». Во Владивостоке нас встретили коллеги и отвезли в скромную гостиницу в получасе ходьбы от Управления КГБ. Там начальник Управления и несколько его офицеров устроили прекрасный ужин, во время которого нам дали возможность познакомиться с местной кухней и особенно с тем, что в Приморском крае называют морепродуктами. Стол был заставлен креветками, которые там называют «чилим», рыбой, салатами из морской капусты и другими деликатесами.
После ужина я спросил Ч., почему, например, мы проверяем Приморье, а не Узбекистан. Ч., многоопытный умница, засмеялся и сказал: «Знаешь, Женя, в таких случаях только проверяемые знают или догадываются, почему их проверяют, а проверяющие не знают этого никогда. Может, хотят снять начальника Управления, может, наоборот, перевести в Москву, наше дело — разобраться, как тут обстоят дела по «пятой линии»».
Много лет спустя я вычитал на последней странице «Литературной газеты» изумительную фразу: тех, кому верят, проверяют те, кому доверяют…
Утром мы пришли в старенькое здание Управления и разбрелись по кабинетам. По дороге сопровождавший нас сотрудник показал строившееся новое здание КГБ, которое гордо торчало над Владивостоком и одним своим видом не должно было оставлять никаких сомнений у тех, у кого «рыльце в пуху».
Мы целыми днями сидели в кабинетах коллег, читали дела оперативного учета, знакомились с сотрудниками и даже ходили на «контрольные» встречи с агентурой; беседовали с руководителями отделений и отделов. Я впервые почувствовал, что неплохо, черт возьми, знаю свою работу… Никаких серьезных промахов или ошибок мы в 5-м отделе не нашли и найти не могли, потому что негде их было искать. Приморье было режимным районом, попасть туда можно было лишь в служебную командировку или по личному приглашению (желательно родственников); с точки зрения КГБ это пространство считалось относительно «чистым». Нас очень интересовало, как готовятся коллеги к работе по строившемуся тогда ДВНЦ — Дальневосточному научному центру Академии наук СССР.
Ученые, намеревавшиеся работать в Центре, уже часто наезжали в Приморье, а некоторые успели поселиться там. Нам с восторгом рассказывали об их работе: они постоянно находили то неизвестное раньше растение, то какого-нибудь рачка в океане.
Создавались и испытывались на основе только что открытых растений лечебные препараты, и уже было несколько печальных и одновременно смешных случаев. Один из препаратов якобы сильно повышал мужскую потенцию, о нем стало известно в Москве. И вот пожилой, заслуженный ученый, обращаясь к местному коллеге, говорит вполголоса: «Иван Александрович очень просил вас прислать ему того-этого…» Его, естественно, снабжают препаратом. Просителю неудобно расспрашивать о дозировке, времени приема, чтобы не выдать собственную заинтересованность, а местный коллега уверен, что уж в Москве-то знают, как обращаться с лекарством, и не лезет с объяснениями.
Вечером приезжий, насмотревшись в ресторане гостиницы на хорошеньких официанток, поднимается в номер, выпивает чайный стакан снадобья и замертво валится на пол. Нужно было, оказывается, только столовую ложку…
Сам Владивосток, в отличие от края, наши коллеги не считали особенно «чистым», как и всякий портовый город. Медленно, но росло число венерических заболеваний, набирались опыта контрабандисты, главным образом из числа моряков. Портовые ремонтные сооружения Приморья не в состоянии обслуживать корабли должным образом. Поэтому очень часто на корабль, требующий ремонта, сажают минимальную команду — «скелетон стафф», как говорят американцы, и отправляют на один, два, три, иногда и больше месяцев в Японию, Сингапур, куда-нибудь еще. На обратном пути судно чем-нибудь загружают, и фрахт окупает либо весь ремонт, либо какую-то его часть.
Конечно, на нищенские «суточные-шуточные» особенно не развернешься, но курьезы бывали. Один из них произошел незадолго до нашего приезда.
Из Японии «те, кому надо» сообщили, что механик ремонтировавшегося там корабля намерен контрабандой провезти во Владивосток… автомобиль. Таможенники, уже поднаторевшие в разоблачении хитростей дальневосточных мореходов, приняли информацию к сведению и принялись поначалу небрежно осматривать огромный пароход: все-таки машина — не иголка. Однако она никак не находилась, тогда как информация о ней была перед отходом судна из Японии подтверждена и уточнена. Таможня взялась за дело всерьез и только что не послала водолазов — посмотреть, не подвешена ли машина под килем судна.
А через пару недель, заново покрашенная и приведенная в приличный вид старенькая «тойота» появилась на улицах города. И таможня, и ГАИ, потрясенные находчивостью механика, повели себя по-джентльменски — черт с тобой, получишь номера, если скажешь, как провез автомобиль.
Механик с удовольствием рассказал и показал. За пару ящиков водки японцы сделали еще один потолок под потолком в машинном отделении. Они не только покрасили его в соответствующий цвет, но и провели по нему какие-то трубы, провода, подвесили лампы — в общем, японская работа. Автомобиль поместили между настоящим и фальшивым потолками, соединили все провода и трубы. Обнаружить его можно было лишь рентгеном…
Мы много работали, мало видели город, но я полюбил его очень. Там есть все: и узкие крутые улочки, спускающиеся чуть ли не к океану, и большие, просторные площади, хотя настоящей архитектуры, как и во всей нашей стране, нет. Есть градостроительство, и велось оно тогда очень неплохо.
Люди в Приморье показались мне более спокойными, выдержанными, чем мы, москвичи, более осторожными в оценках друг друга, с большими, чем у нас, запасами душевного здоровья.
Во Владивостоке я впервые услышал о «северных территориях»… Контрразведчики Приморья внимательно наблюдали за процессом нарастания японской активности в этом вопросе, и некоторых мне удалось «разговорить», но не очень, хоть я и был «представителем Центра». Эти люди отличались еще большей сдержанностью, чем мои коллеги в Москве.
Я интересовался этой темой с чисто исторической точки зрения. Мой интерес особенно возрос, когда я узнал, что «есть мнение» острова японцам отдать. Для носителей Мнения было очевидно, что у России в обозримом будущем не будет средств, чтобы должным образом поставить и развить на островах промыслы, разведку и добычу ископаемых, обустроить нормальный быт населения — его до сих пор ведь нет и в «метрополии». Согласно Мнению, острова должны быть отданы в обмен на нечто, еще не рассчитанное и неопределенное.
Но, чтобы не возбуждать аппетит и не создавать прецедент для, например, китайцев, отношения с которыми оставляли желать много лучшего, острова собирались передать в форме фиктивной продажи их за сумму, которая напрочь отпугнула бы любых желающих.
Впрочем, все это были разговоры. Работа наша по проверке Приморского КГБ подходила к концу, свободного времени прибавилось, и я активизировал свое любопытство: читал доступные мне документы, захаживал в архивы, беседовал со «штатскими».
Наша командировка подошла к концу, и обе стороны — инспекторская группа и представители Управления приступили к подготовке «коммюнике» — справки о результатах проверки. Мы по своей «пятой линии» нашли «драматические» недостатки: например, был случай, когда передача «Голоса Америки» на русском языке каким-то образом пошла через городскую радиосеть (концов так и не нашли, списали на технические неполадки). Или был недопроверен «сигнал» о хранении кем-то неисправного револьвера без патронов. Подумать страшно, что творится там сейчас…
Но недостатков в целом набралось достаточно для того, чтобы начальник Управления и руководитель нашей группы долго не могли придать справке вид, удобный для обеих сторон. Чуть ли не до ссоры дошло дело, но в конце концов документ был подписан.
Было ясно, что на словах в Инспекторском управлении будет доложено мало хорошего. Нам, рядовым членам группы, общая картина, как всегда, была неясна, говорить друг с другом откровенно о результатах своих «исследований» мы не могли. И, как всегда в таких случаях, уверенности, что Центр получит объективную информацию, не было.
Я вернулся к своему «участку» — делегации по линии ССОДа, Комитета защиты мира, Комитета советских женщин, «сигналы» из Института государства и права, слушатели курсов русского языка в МГУ — снова завертелся в привычном танце.
Мои рассказы о поездке в Приморье с удовольствием слушал мой приятель Стас С. Стасик, как и Ник. Ник., был дальневосточником и в свое время переводом попал в Москву, во 2-й Главк.
Как-то я зашел к нему «в гости»: Стасик сидел с наушниками на голове и гонял взад-вперед на маленьком магнитофоне «Награ» отрывок какой-то пленки. День был жаркий, Стас взмок, пытаясь что-то понять. Я предложил свою помощь, и Стасик с готовностью протянул мне наушники: какой-то гул и несколько слов на непонятном языке. «Ну как, ничего не удалось разобрать?» — деловито спросил Стасик, и я в шутку замахнулся на него наушниками.
— Это по-японски, что ли?
— А ты думал, по-каковски?
Пара японских туристов, муж и жена, купили какой-то странный тур в «Интуристе» — сначала добрались в европейскую часть СССР, потом поездом съездили в Хельсинки и вернулись для продолжения путешествия уже в комфортабельном джипе.
Теперь их путь лежал в Грузию и Армению, в горы.
Супружеская пара не первый раз была в нашей стране, и кое-что о них было известно — впрочем, ничего предосудительного. Все-таки Стас убедил начальство — да и начальству было интересно — оснастить джип неким дополнительным оборудованием.
У японцев разрешения на это не спрашивали…
А теперь Стасик прослушивал запись разговора во время проезда ими района, где было установлено какое-то наше противовоздушное или противоракетное радиооборудование.
— Хоть что-нибудь ты разобрал или нет?
— Да вот именно что-нибудь… Но одно слово интересное…
— Какое?
— «Включай».
— Что, только одно слово?
— Нет, не одно. То есть одно, но повторяется оно не раз. Слышно еще, что сверяют время, внимательно следят за картой.
— Слушай, а вы проверили, какой у них приемник в машине?
Стасик кротко и долго смотрел на меня.
— Ну где же нам догадаться… До этого только вы, «идеологи», борцы за чистоту рядов, могли бы додуматься… Конечно, проверили.
— Ну и что?
— Очень хороший у них приемник, Женя… Нам бы с тобой такой.
Стасик был прекрасным контрразведчиком, проверял все с японской дотошностью. Через несколько лет он получил высшую награду КГБ — знак «Почетный чекист», потом стал начальником отделения, потом почему-то молодым уволился на пенсию.
Я не знаю даже, почему много раньше ушел из КГБ Лорд, работавший в «радиогруппе», а ведь мы были в одном отделении… Все мы очень многого не знали друг о друге.
Конспирация, приобретенная подозрительность растаскивают спецслужбистов в стороны друг от друга; дружные, крепкие коллективы так же редки, как начальники, создающие такие коллективы.
****
Управление продолжало свою работу, через местные органы оно уже крепко охватывало всю страну. То, для чего была создана малая его часть, — контакты с интеллигенцией, в первую очередь с творческой, — осуществлялось повсеместно с разной степенью успеха. Иногда я задавал себе (а иногда и не только себе) вопрос — почему не создали подразделение по надзору за рабочими или крестьянами?
Я, конечно, шутил сам с собой. Это ведь только в нашей стране, создавая гигантские тенета лжи, правители пытались убедить население в том, что интеллигенция — лишь «прослойка». Сами-то они прекрасно понимали, что именно интеллигенция и является по-настоящему движущей силой общества.
Именно поэтому с самого начала наши вожди повели сложные, хитрые игры с интеллигенцией, используя ее тонко и умело в своих целях. Однако прежние игры теперь не годились — страну уже невозможно было держать в изоляции, как держали в изоляции Японию ее императоры до середины XVIII века. Но заставить интеллигенцию подпевать и поддакивать режиму хотелось, а для этого нужно было знать как можно больше о процессах, происходивших внутри ее, заглушать или активизировать их, в идеале — управлять ими.
Как мы ни конспирировались друг от друга, нарастание работы, увеличение штата Управления и его местных органов были заметны. Да и оперативные «новости» все равно просачивались из одного кабинета в другой. То с грохотом провалился негласный обыск у Солженицына, то удалось добыть хитрым образом какую-то уж очень «злую» рукопись — иногда с опозданием, а иногда и сразу об этом узнавалось.
Солженицын уехал, кажется, в Рязань, и к нему зачем-то полезли — то ли за архивом, то ли добавить «удобств» в его доме. Всех его близких держали под наблюдением, да оказалось — не всех. Какой-то знакомый случайно, а может быть и не случайно, вошел в дом, когда там копошились «искусствоведы в штатском». Один из них, сотрудник нашего отдела, решил инсценировать засаду уголовного розыска: вошедшему намяли бока, отвезли в милицию, потом отпустили. Всем было понятно все. На «разборку» провала собрали весь отдел, пришел аж Чебриков, который тогда был зампредом КГБ. Пропойца, который тогда руководил отделением «литературоведов», закатывая глаза от праведного гнева, сообщил о случившемся, Чебриков (в своей комнате мы прозвали его «Сом» за угрюмую молчаливость и вечно нахмуренный взор) пробормотал что-то осуждающее, но закончил тем, что не ошибается, дескать, тот, кто не работает. Пропойца почему-то принялся допытываться у Чебрикова, кого и как следует наказать, изъявляя готовность тут же подставить чью-то (ну не свою же) шею. Чебриков от этого разговора ушел, все совещание как-то скомкалось и кончилось ничем.
А вот рукопись у одного из особенно хитрых и недоверчивых диссидентов, которую просто необходимо было добыть, добыли.
Это сделал по просьбе Бобкова один из сотрудников ВГУ, контрразведчик.
Он явился к разрабатываемому домой и представился американским сенатором, сочувствующим правозащитному движению в СССР. Разговаривали долго, переводчиком служил сын вольнодумца, так как «американец» плохо понимал и говорил по-русски… На каком-то этапе разговора отец попросил сына поставить на кухне чайник, и догадливый юноша обследовал пальто «американца», висевшее в коридоре. Там, вперемешку лежали американские и советские монеты, связка явно несоветских ключей, а во внутреннем кармане — «полученная вчера» открытка из Вашингтона и пропуск в Посольство США, выданный «сенатору» на неделю. Эта проверка, наверное, и решила все. Автор сам попросил «сенатора» отвезти рукопись в США и найти издателя.
После чая «сенатор», взяв с собой объемистый пакет с рукописью, вышел на улицу, сел в «плимут» с посольскими номерами и уехал. Куда — понятно.
Молодые оперы торчали на съездах художников и композиторов, писателей и архитекторов со скрытой звукозаписывающей аппаратурой. Палкин через свои возможности в руководстве этих творческих союзов — а они у него были немалые, стремился продвигать «нужных», задвигать неугодных, «идейно ущербных», «тенденциозно настроенных». Я радовался, что был далек от всего этого, потому что много читал и видел — чем интереснее, правдивее произведение, тем более ущербным и тенденциозным оно считается. Чем талантливее автор, тем ближе он к кругам, неугодным 5-му Управлению. Чем популярнее роман, повесть, рассказ, тем больше там находит критика «художественных недостатков». Не раз в кулуарах наших совещаний я слышал обрывки разговоров Палкина, Пропойцы и их прихлебателей, в которых то и дело звучали фразы «Ну, я бы это убрал… Нет, народ этого не поймет… Ущербный фильм…. тенденциозный, националистический подход…» Они бы «это», видите ли, убрали!
Да что они сами-то создали, кроме нудных справок и записок в ЦК? Кроме должностей друг для друга, загранпоездок для своих детей и приятелей? Но им всегда хотелось что-то «убрать», вырезать из фильма или романа кусок-другой, поприжать автора. Это было их представление о работе. Постоянно утверждая, что ЦРУ ведет активную работу по идеологическому проникновению в СССР, по переносу идеологического противостояния на территорию нашей страны (в чем, кстати, ни у кого из нас не было никаких сомнений), они так и не добыли никаких настоящих доказательств этого. Единственное, чем козыряли наши «искусствоведы в штатском», так это списками приглашенных на приемы в западные посольства советских интеллектуалов. А кого туда приглашать, грузчиков с мясокомбината, что ли?
И все же уходили сквозь наши и контрразведчиков ВГУ пальцы и рукописи, и фильмы, и многое другое туда, на Запад. И уходили, думается, не любительскими каналами. Хорошо работало ЦРУ.
Много времени прошло, прежде чем я понял, что в нашей стране американские разведчики (и не только американские) работают в совершенно иной среде, чем наши спецслужбисты за рубежом.
****
Я всегда завидовал (завидую и сейчас) тем коллегам, которые занимались поисками военных преступников, видных нацистов, тех, кто в годы войны активно сотрудничал с немецкой разведкой, с полицией, участвовал в «акциях» по уничтожению соотечественников. Кстати, эти же люди занимались и германскими воинскими формированиями, состоявшими из власовцев, чеченцев, казаков, татар, словом, тех, кто решил бороться с советским строем в составе немецкой армии…
Один из аспектов их работы — Опознаватели.
До сих пор еще немало осталось в живых не только узников концлагерей, но и надсмотрщиков, полицейских, «врачей», членов лагерной администрации. Некоторые, отсидев в заключении положенное, живут среди нас тихой незаметной жизнью. Другие, не разоблаченные, с течением времени не только перестают прятаться, но пытаются выдать себя за узников гитлеровских лагерей, добиться каких-то благ, выступить в роли страдальцев.
Чтобы выводить на чистую воду таких мерзавцев, был создан институт Опознавателей.
Лагерей было много, уничтожались миллионы людей со всего света. В каждом или почти в каждом из концлагерей в составе подпольных организаций были люди, настолько уверенные в нашей победе, что там, в лагерях, они планировали возмездие для своих палачей. Готовились их списки, описывались приметы, привычки, увлечения. Но самое главное — готовились и люди, которые должны были выжить, уцелеть для того, чтобы донести до нас, потомков, эту информацию. И не просто донести, но и активно участвовать в поиске и разоблачении преступников.
Нет, Опознаватели, конечно, не знают в лицо каждого охранника или сотрудника администрации лагеря. Они не помнят всех заключенных в лицо, но по десяткам косвенных примет, по оттенкам и деталям в рассказах тех, кто пытается либо выдать себя за бывшего узника, либо скрыть свою принадлежность к корпусу палачей, Опознаватели определяют совершенно точно, кто есть кто.
Например, «узник» такого-то лагеря не мог знать расположения административных строений, так как всех, кто там работал, гитлеровцы расстреляли за день до освобождения лагеря… Уцелеть могли только расстреливавшие.
«Заключенный» другого лагеря не мог знать расположения бараков во всем лагере, так как именно в этом лагере узникам разрешали передвигаться только в определенных границах вокруг своего барака… Следовательно, план всего лагеря может нарисовать только охранник, или офицер администрации, или «врач», выбиравший для своих экспериментов очередную жертву.
Опознавателей берегут, многие из них живут среди нас не под своими настоящими фамилиями. В отличие от известного венского Бюро Симона Визенталя, которое занимается поисками преступников, уничтожавших только заключенных — евреев, Опознаватели не связаны никакими национальными ограничениями или предрассудками. Среди них — люди различных национальностей, занятий, профессий. Тот, с которым пришлось однажды встретиться мне, был школьным учителем в одном из маленьких городов Московской области. Родственников после войны у него не осталось, и никто из его окружения, из его учеников, не знал, что он был узником концлагеря, а потом стал Опознавателем.
Дело в том, что в странах с жестким контрразведывательным режимом чем выше человек поднимается по служебной лестнице (особенно в их «номенклатурах»), тем большим вниманием со стороны отечественных спецслужб он пользуется. И верно: ведь он, как правило, носитель секретов, обладатель власти и влияния. Его необходимо оберегать как от своих, так и от зарубежных «охотников». Трудно нашим разведчикам подбираться к таким «объектам», их плотно стерегут, да и с тебя глаз не сводят — двойная стена…
У нас все наоборот. Как только имярек «выкинулся в номенклатуру» — все, контрразведка трогать его не моги, рядом не мельтеши, суконное рыло не показывай. Ему же «разрешено все, что не запрещено». Когда на него «выходят» сотрудники разведки противника, они обеспокоены только тем, чтобы «не засветиться» самим, а «объекты» чаще всего раскрыты нараспашку и вести себя с должной осторожностью не умеют, а то и не желают. Исключения с завидным постоянством подтверждают правила.
****
Заканчивался восьмой год моей работы в Управлении. Я опять ставил своеобразный рекорд — в КГБ, где «все течет, все изменяется», я в «семерке» отслужил девять лет не только в одном отделе, что уже было редким случаем, но и в одном отделении! В одном отделении я продолжал работать и здесь. Любили меня начальники, не хотели никуда отпускать…
Я сильно изменился, изменилось и многое вокруг. К этому времени я стал, пожалуй, зрелым агентуристом, приобрел достаточное количество навыков и умений, вполне справлялся с работой на своем участке. Старший опер, капитан, я казался себе воплощением Успеха.
В «семерке» скрывать свои мысли, настроения, взгляды было гораздо проще, чем здесь, среди оперативных волков и гиен, да и в «семерке»-то у меня это не особенно получалось. Окружение и особенно люди наподобие Черного, Рыхлого, Пропойцы и без 1968 года разбирались во мне без особого труда.
Нет, диссидентом я, конечно, не был. Мало того, те диссиденты, о которых мне что-то было известно, совершенно мне не нравились вечной расхристанностью, разболтанностью, бесконечными пьянками и беспрестанной болтовней.
Я не выступал на собраниях с критикой начальства (ну, может быть, два-три раза), но «те, кому надо», догадывались о моем отношении к ним, к их пресмыканиям перед руководством, к их постоянным выпивонам в узком кругу, к их лени и неумению чего-либо, кроме карьеры, добиваться. Мы иногда поговаривали с коллегами о том, кто и как нас проверяет, но в КГБ особенно на такие темы не разговоришься, так что я все сокращал и сокращал круг товарищей по работе, с которыми чем-либо делился.
Наверное, временами прослушивали наши телефонные разговоры, совершенно точно я выяснил несколько лет спустя, что перлюстрировали переписку у тех, кто работал с иностранцами и выезжал за границу.
Изменилось и еще кое-что — и очень заметно.
Если раньше на оперативных совещаниях, инструктажах, в разговорах на профессиональные темы все или почти все вели себя по отношению к объектам «нашей заинтересованности» весьма корректно и не позволяли себе эмоциональных оценок или личных выпадов в их адрес (тон здесь явно задавал Ф. Д.), то теперь для некоторых стало «хорошим тоном» (его задавал уже «Палкин») показывать «личное отношение», а именно — ненависть к Солженицыну, Сахарову, Высоцкому, Евтушенко. Предполагалось, видимо, что высказывания подобного характера должны продемонстрировать особенную идеологическую чистоту оратора. Последователей этого «течения» было, однако, немного.
Мало того, хороший мой приятель Константин Иванович, воевавший вместе с А. Н. Рыбаковым, так встревожившим 5-е Управление своими последними романами, не скрывал своего отношения к старому боевому товарищу: «Вы мне хоть сто разработок заведите на Анатоль Наумыча, я-то его получше вашего знаю. Я с ним воевал». И точка. Константин Иванович твердо стоял на своем; так же, хотя и молча, на своем стояли многие из нас.
****
А разработчики тем временем активизировали свои мероприятия. Один из них, Вячеслав Ш., ставший потом большим начальником, изобрел метод «массированного психологического воздействия» на разрабатываемого. Цель его — создать невыносимые условия существования для объекта. Мало того, что человек (еще не судимый и не осужденный!) автоматически лишался своих прав — продвижение по службе, выезд за границу, в конце концов просто устройство на мало-мальски приличную работу, — он теперь мог подвергнуться еще и «массированному» воздействию. Что они делали со своими разрабатываемыми? Били стекла в квартире? Прокалывали покрышки автомобилей? Перерезали телефонные провода?
Однажды я получил от Ник. Ник. указание отправиться к одному из ведущих разработчиков, Борису Ш., и выполнить его «просьбу».
Мне выдали чеки Внешпосылторга, на которые в магазине «Березка» на Большой Грузинской улице, притворяясь иностранцем, я должен был купить несколько бутылок спиртного и через магазин отправить на дом одному из диссидентов — П. Якиру, сыну расстрелянного в 1937 году известного военачальника.
Ш., как и некоторые из моих коллег, почему-то считая меня похожим на иностранца, решил использовать в одном из своих мероприятий мою квазизарубежную внешность. Ему хотелось, видимо, лишний раз подчеркнуть и задокументировать связи Якира с зарубежьем хотя бы в такой форме.
Я пробормотал, что никогда не бывал в «Березках», не спросят ли у меня там паспорт, захотят ли отправить покупку по домашнему адресу?
— Да ничего у тебя не спросят. И посылку отправят. Они предупреждены…
Ну что ж, дело нехитрое. Скромными средствами, имевшимися в моем распоряжении, я придал себе вид «иностранца» и, оставив своего «жигуленка» подальше от «Березки», развязно ввалился в магазин.
Сложив в корзину несколько бутылок, показавшихся привлекательными, я (с сильным зарубежным акцентом) спросил администратора, нельзя ли отправить купленное моему приятелю домой.
По знаку администратора вокруг меня сразу засуетились трое продавцов в белых халатах, которые, перебивая друг друга, принялись убеждать меня, что можно, все можно, не нужно беспокоиться, все будет отправлено, доставлено, вручено и т. д. Расплатившись и оставив в магазине адрес Якира, я последний раз окинул взглядом многоцветье этикеток, развратные груды деликатесов и покинул «березовый» рай. Задание было выполнено. Я внес свой посильный вклад в дело подавления диссидентского движения в СССР.
Вернувшись в «Дом», я доложил Ш. о проделанной работе. Внимательно осмотрев меня, он усомнился в тщательности подготовки — его представления о том, как выглядят иностранцы, явно расходились с моими. Я заметил на это, что при подготовке следующей «операции» готов загодя слетать на неделю в Лондон или Рим и при наличии достаточных оперативных средств приобрести подходящий для посещения «Березки» гардероб. Посмеялись, пошутили. Я рассказал Ш., как полировал тротуары вокруг дома Якира еще в «наружке», выслеживал иностранцев, которые его посещали.
Борис Ш. был разработчиком чудовищной работоспособности и невероятной хитрости. Возвращаясь к себе в комнату, я вдруг подумал, что по пути из «Березки» к адресату купленные мною бутылки очень просто можно и «подшприцевать»… Но тут же остановил ход своих размышлений. Додуматься можно было черт знает до чего…
Плохо вот так, в виде подставного болвана участвовать в чужих разработках, не имея представления о ходе дела.
Но если что не так — Не наше дело. Как говорится, Родина велела.Ведь точно так же в моих разработках принимали участие коллеги, понятия не имевшие об общей картине. А уж об агентуре и говорить не приходится. Я сам, всегда предпочитая, чтобы «солдат знал свой маневр», часто вынужден было либо маскировать перед агентом смысл задания, либо приоткрывать его лишь отчасти. Это делается для того, чтобы информация агента не была «окрашена» его видением предмета, эмоциями. А иногда это нужно и для безопасности агента, чтобы он не «лез на рожон», не проявил свой интерес к чему-либо слишком открыто.
Хорошо помню, как только что пришедший к нам в отделение Игорь П., сначала мой ученик, а потом — начальник, услышав какой-то разговор в нашей комнате, удивленно спросил:
— А разве мы агентов обманываем?
В ответ раздался взрыв добродушного смеха.
— Бывает, что и обманываем, Игорек, для дела и для их же пользы. Так же, как и нас часто наши начальники обманывают по тем же причинам.
Только штатские думают, что КГБ, мол, знал все. В общем и целом, «наверху» знали немало. А каждый из нас в отдельности знал в идеале только то, что положено и, как правило, не так уж и много.
Как Игорь — выпускник МАИ, оказался на работе именно у нас, в «пятерке»? Ему, технарю, заниматься бы технической разведкой в ПГУ (о работе там он мечтал не меньше моего), либо во 2-м Главке — технической же контрразведкой. Но у нас ведь все не как у людей…
Он был необыкновенно трудоспособен и скоро начал удивлять нас успехами. То ли у него был какой-то особый подход к людям, то ли удачная для спецслужбиста внешность (по-моему, похож на комиссара Катттани), то ли абсолютная преданность идеям Ордена — но он быстро стал крепким агентуристом. Он рос и рос по работе, а месяца за четыре до августа 1991 года стал генералом, одним из заместителей начальника Управления. Существовали и другие мнения о его карьере, но я думаю, что это редкий случай удачного сочетания преданности работе и умения ладить с начальством. Редкий случай для КГБ, когда человек добивался того, что хотел, заслуженно.
Жаль было, когда эта карьера оборвалась из-за ошибки, допущенной во время августовских событий.
И вдруг грянула новость: руководство предложило мне новое назначение — уйти в действующий резерв, «под крышу», в ВААП.
Я немного удивился выбору начальства — недавно разведенный, я должен был, по традиции, какое-то время побыть в париях, а переход «под крышу» сопровождался небольшим повышением в должности. Видимо, сыграли роль знание языка и репутация книжного червя. В Агентстве мне надлежало занять скромную должность заместителя начальника Протокольного отдела Управления международных связей.
В создании Всесоюзного агентства по авторским правам КГБ, очевидно, принимал деятельное участие. ВААП, о целях, перспективах и возможностях которого многие имели тогда весьма приблизительное представление, для Комитета выглядел очень привлекательно. Разведка сразу нацелилась на контакты с интересными иностранцами, на представительства ВААП за рубежом, 5-е Управление рассматривало Агентство как серьезную возможность выходов на творческую интеллигенцию, как шлагбаум для «тамиздата».
****
…Бегство и предательство разведчиков ПГУ, да и военных, становилось чем-то привычным. Никто из крупных начальников не был наказан, никто не подал в отставку. Бывало, поступали негласные распоряжения, запрещавшие обсуждать эти «происшествия». Чего этим хотели добиться — непонятно.
Рассказывали, что разведка ГДР захватила одного из своих изменников за рубежом и вывезла в багажнике белого «мерседеса» в ГДР. Личный состав Управления был выстроен во дворе здания, на предателя напялили мундир, сорвали погоны, прочитали приговор и расстреляли…
****
В работе «под крышей» есть и масса положительных моментов — для тех, кто собирается там работать, а не отбывать рабочее время. Во-первых, возможность жить хотя бы частично в другой, как правило, небезынтересной среде.
Во-вторых, возможность научиться чему-нибудь новому, а учиться я очень любил и люблю до сих пор. Для работы в ВААПе необходимо было овладеть для начала хотя бы азами авторского права, о котором во всей стране имели четкое представление едва ли с полсотни человек. Кроме того, мне давно хотелось выучить еще хоть один язык, а совсем втайне — написать и защитить диссертацию по научной фантастике — я продолжал увлекаться этим жанром. Я знал нескольких «подкрышников» из ПГУ, которые, прекрасно выполняя основную работу, умудрялись делать великолепные репортажи для ТВ, писать книги, вести научную работу. Они становились все более независимыми от КГБ и от своих начальников. Начальников это раздражало — независимость в КГБ не любят больше чем где бы то ни было.
Ни шатко, ни валко потянулись оформление, сдача дел и участка работы. С этим мне повезло меньше всего. Сменщик мне достался вялый, апатичный, видно было, что хороший опер из него вряд ли получится. Он не внушал симпатии, не мог заинтересовывать людей, привлекать их к решению наших задач. Жалко было отдавать в такие руки полностью «закрытый» объект, а уж об агентах и говорить не приходится. Я чувствовал, что никто из них с моим сменщиком по-настоящему не сработается. А делать было нечего — служба.
Те, с кем я прощался в «подвластных» мне ведомствах, сожалели о моем уходе, как мне казалось, вполне искренне. Жаль было расставаться с ними и мне.
Особенно меня удивила подготовка моей «легенды». Я по наивности думал, что этим занимаются какие-то специальные люди, но нет, «легенду» мне предложили составить самому, а все остальное проходило на достаточно примитивном уровне. Впрочем, в этом был определенный смысл. Дело в том, что «легенда» — вымышленная биография спецслужбиста, должна максимально приближаться к подлинной — это дает возможность меньше врать, запоминать, придумывать и, следовательно, меньше попадаться.
Особенно я удивился, когда в парткоме КГБ мне выдали новый партбилет — никогда не думал, что дублируются и такие документы. Но не мог же я притащиться в ВААП с партбилетом, в котором уплата членских взносов проштамповывалась печатями КГБ…
За несколько лет до описываемых событий я посетил подразделение, где разработанные кем-то «легенды» приобретают практическое воплощение — превращаются в документы, справки, паспорта зарубежных стран.
Мне рассказали, как найти этот неприметный особняк на одной из оживленных магистралей Москвы, предупредили, что кнопка звонка на стальной двери замаскирована под головку болта. От частого употребления этот болт, в отличие от остальных, ярко блестел, отполированный многочисленными оперативными пальцами. Привыкший отгадывать подобные загадки догадался бы и сам.
Узенькая проходная, охранник в штатском со спокойным цепким взглядом, проверка документов, прохожу во двор. Небольшой, в три этажа редкой красоты особняк, а за ним необъятный (с улицы ни за что не догадаешься) двор. Во дворе несколько зданий. Пока иду по двору, вижу, как в небольшой крытый грузовик с помощью ручной лебедки загружают здоровенный ящик, сбитый из добротных свеженьких досок. На досках надписи по-арабски и какая-то непонятная символика — то ли орел, то ли корона. Работа идет неторопливо, четко, все «грузчики» — в светлых свежих сорочках, при галстуках, в ладно сшитых брюках. У старшего, лет 50-ти, из-под усов торчит сигара. День безветренный, запах табака на весь двор.
Вхожу в здание (опять проверка документов) и попадаю в «секцию Кью» из фильмов о Джеймсе Бонде. Иду через комнаты. На столах и стеллажах разложены инструменты, электродрели невиданных размеров и модификаций, какие-то приборы, перегородки, одна сторона которых — зеркало, другая — обычное прозрачное стекло.
Нахожу нужную комнату, где ждет человек, с которым мне суждено будет с этого дня приятельствовать долгие годы — Валерий И. Объясняю суть дела, спрашиваю, будет ли это готово в установленный срок. Валера веско отвечает, что здесь шуток не шутят и это будет именно готово и именно в срок. Вместе проходим двором в особняк, идем через комнаты, каждая из которых представляет собой ателье художника (сотни кистей и кисточек в стаканах и банках, растворители, краски, мольберты, палитры, запах скипидара), студию фотографа (десятки фото— и кинокамер, груды пестрых упаковок с пленками, софиты, рефлекторы, экраны), типографию (компактные печатные станки, принадлежности для гравировки, банки с типографскими красками) и многое другое. Народ везде молчаливый, красиво одетый, занятой. Видно — спецы высокого класса, знающие себе цену. Мне показывают, кто и как будет делать это, спрашивают, в каких условиях это будет использоваться. Делают пометки в блокнотах с пронумерованными страницами. Выходя из особняка, спотыкаюсь и оббиваю себе колено о станину какого-то механизма — похоже на части подъемника лифта. К огромной шестерне прикреплена бирка с надписью: «п-во…» и название страны.
В проходной — опять проверка документов, сдаю пропуск, выписанный на время визита. Выхожу на улицу.
Это, конечно, было готово в срок и действовало безупречно.
Люди, работавшие (работают ли сейчас?) в этом подразделении, участвовали в секретнейших и рискованнейших операциях КГБ в Союзе и за рубежом. Трусы, подхалимы, интриганы распознаются там очень быстро и долго не задерживаются. Их без шума и без треска на партийных собраниях рассовывают по вспомогательным подразделениям или увольняют в «народное хозяйство». Дисциплина и порядок чувствовались там везде и во всем.
А к нам в Управление и в отдел валом повалили совсем уже непонятные люди.
Один, с внешностью и ухватками завзятого урки как-то особенно громко и затейливо матерился по телефону, когда я вошел в комнату.
— С кем это он? — поинтересовался я.
— Да с женой, — сконфуженно пояснил другой молодой сотрудник…
Второй, быстро пробившийся в начальники, всегда выглядел, словно его только что вытащили из бетономешалки: вечно несвежие костюм и сорочка, брюки, знакомство которых с утюгом так никогда и не состоялось, нечищенная обувь. Рядом с телефоном на столе — полоскательница, где в луже спитого чая плавают десятка два окурков. Вечно чем-то напуган, до столбняка боится начальства, вокруг любой чепухи начинает плести бесконечные разговоры, обсуждения… Любит приходить на работу по субботам и воскресеньям, когда в этом нет никакой нужды, но есть возможность показаться начальству. Притворяется очень, очень умным и глубоким…
Третий — бывший учитель из Новосибирска. Быстро разъелся на московских колбасах, стал толще вдвое, хитрый словоблуд, на руках — татуировка. Этот умудрился, поучая и назидая, не приняв участия ни в одной серьезной операции, не завербовав ни одного агента, выпрыгнуть в начальники отдела, да и еще получить высшую награду КГБ — знак «Почетый чекист». Даже из какой-то безобразной пьяной истории Палкин вытащил его за чуб без потерь…
Четвертый, только что придя в отдел из Московского управления, услышал в перерыве партсобрания, что умер Тарковский.
— Собаке — собачья смерть, — громко говорит он и посматривает по сторонам — все ли слышали, какой он правильный и идеологически выдержанный. Впоследствии он крепко задружит с тем, который разговаривает с женой по-матерному…
Еще один — совсем уже дурак и, кажется, даже не особенно старается это скрывать. Поэтому его быстро делают секретарем партбюро отдела и он «имеет мнение» о каждом из нас, пишет на нас характеристики. В работе — ноль.
А ведь вокруг было немало знающих, опытных, приличных людей, даже из молодых сотрудников. Но не они играли первую скрипку, не они сидели в президиумах, не они создавали климат в отделе. Это те, другие, отталкивая друг друга локтями, поддакивавли Палкину, Пропойце, Рыхлому — проводили в жизнь «нужную линию». Как в древнегреческой трагедии, этот хор вторил главному актеру, и вторил слаженно.
Я все еще «ходил на прямых ногах», мне казалось, что мои-то дела двигаются прекрасно. Цели мои были скромны, работу я знал недурно, и она у меня получалась.
****
Мне было известно, что большинство комитетских должностей в ВААПе уже заняты. Возглавлял группу работников нашего Управления покойный Василий Романович Ситников — «дядя Вася», «Дед», как его прозвали позже. Он занимал должность заместителя председателя Правления — почти зам. министра. Это давало ему реальную власть в Агентстве. Один сотрудник «сидел» в отделе кадров, другой — в Управлении распределения гонораров и учета авторов, третий — в Управлении художественной литературы и изобразительного искусства. В том же управлении был «спрятан» сотрудник ПГУ, тоже покойный теперь Михаил Привезенцев. Пока шел процесс оформления, я перезнакомился со всеми, кроме Ситникова.
Вечерами я долбил учебник Богуславского по авторскому праву, внимательно изучал какой-то американский авторско-правовой журнал, откуда вычитывал английские эквиваленты вааповской терминологии. В перерывах раздумывал о том, что теперь у меня будет в два раза больше начальников, в два раза больше поручений и обязанностей, в два раза больше совещаний и партийных собраний, которые я теперь ненавидел еще больше, чем прежде, — палкинская свита сделала их невыносимыми. С достаточной ясностью мне пока представлялись только мрачные стороны моего существования.
Кроме того, в «оперативных кругах» мне не раз приходилось слышать весьма нелестные отзывы об офицерах действующего резерва. Их частенько называли «бездействующим резервом», и некоторые примеры, надо сказать, подтверждали это.
Но и примеров четкой, чистой работы офицеров «д/р» я видел немало, и меня не пугало ничего, что было связано непосредственно с оперативной работой. Тут я был уверен в себе — за плечами было уже достаточно. Кроме того, я чувствовал многие свои преимущества перед теми, кто априори был непригоден к работе под крышей. Например, в международных службах различных ведомств сидели люди, не знавшие ни одного языка… Они не могли прочитать ни одного документа, телекса, письма, не могли самостоятельно, без помощи переводчика, провести беседу с иностранцем. О каком секретном, доверительном общении с интересующими нас людьми могла идти речь? Но такие места обычно считались «блатными», «теплыми», и попадали на них обычно любимцы руководства. Еще бы! Там маячили и поездки за рубеж, и подарки от иностранцев, и застолье на приемах и раутах и кто знает, что еще… А любимцам начальства вовсе не обязательно знать то, что другие знать просто обязаны…
Имели место и омерзительные происшествия с «подкрышниками» — пьянки, адюльтеры, даже финансовые махинации, причем и то, и другое, и третье делалось так косолапо, что «светлый облик» КГБ страдал вдвойне — налицо была и утрата «облико морале», и элементарное неумение скрывать то, что стараются скрывать всегда и все.
Вместе с описанными выше изменениями в кадровом составе (отдела, Управления, видимо, всего КГБ), которые походили на всеобщую дебилизацию, такие случаи происходили все чаще. Я был патриотом КГБ (и до сих пор остаюсь им), и мне обидно было видеть, как пьяное хамье компрометировало Орден и всех порядочных людей, работавших там, — а ведь их было большинство…
Я понимал, что начинается не просто новая работа, а новая жизнь, и как мог, готовился и к тому, и к другому. Я знал, что переход «под крышу» сократит общение с палкинской свитой, да и в «Доме» теперь придется бывать не часто. А какова будет новая «среда обитания»? Что там за люди? Сложатся ли отношения с начальством? Пойдет ли работа сразу или долго надо будет втягиваться?
Уже тогда я инстинктивно понимал, что если не смогу знать и выполнять вааповскую работу лучше любого вааповца, то и моя чекистская работа хорошо продвигаться не будет. Позже оказалось, что я был совершенно прав — это один из неписаных законов работы «под крышей».
Да и в самом деле, как можно активно и успешно заниматься оперативной работой в ведомстве, не имея нормальных рабочих (а лучше прекрасных личных) отношений с руководством?
А как построить нужные отношения с иностранцем, если он не убедился в том, что ты отлично знаешь дело, можешь организовать то и это, можешь связать его с интересными ему людьми, а можешь и не связать, можешь подписать контракт, а можешь и не подписать?..
Как оказалось позже, это целая наука, и наука без учебников. Она постигается годами, и учиться желательно на чужих, не на своих ошибках.
Наконец, в начале июля 1974 года, все мои дела в «Доме» были закончены: я мог выходить на работу в ВААП.
Не было нужды обходить половину здания и прощаться со знакомыми — я знал, что буду появляться здесь. Тем не менее, прошелся все-таки по некоторым местам, где сидели товарищи, которые были мне особенно близки.
— Ты там только на рожон не лезь с начальством, — сказал Ник. Ник. и сделал лицо Старшего Товарища, Напутствующего Младшего.
— С каким начальством? — спросил я, изобразив буколического пастушка. — С вааповским или с Ситниковым?
— Да ни с тем, ни с другим.
Ник. Ник. всегда говорил меньше, чем знал. А он уже тогда начал догадываться, какие отношения сложатся между руководством ВААПа и «Палкиным», между Ситниковым и подчиненными ему сотрудниками.
Он был одним из тех, кто в палкинской свистопляске сумел сохранить выдержку, достоинство, душевное здоровье. Его нельзя было вынудить завести дело на кого-либо, если он не видел для этого достаточных оснований, он не «сдавал» своих сотрудников руководству отдела или Управления, никогда не торопился с выводами, характеристиками и заключениями. Он был один из тех на кого я хотел в чем-то походить.
— Ну, что ты загрустил? Все будет отлично, работа у тебя пойдет, а главное, будешь подальше от некоторых тут — все-таки побезопаснее.
Это он заметил точно. Я чувствовал, что это — одно из преимуществ ухода «под крышу», хотя и понимал, что преимущество довольно шаткое. Все равно мою судьбу решали не Ник. Ник. и даже не Ф. Д., а все те же «Палкин», «Пропойца», «Рыхлый» и иже с ними. Я просто имел теперь возможность реже встречаться и общаться с ними, но за ними сохранялась возможность по-прежнему держать меня «в черном теле».
Зашел к Жене К. Тот висел на телефоне — в который уже раз разыскивал по отделениям ГАИ свой автомобиль, который милиция накануне отняла у него, поймав «в подпитии» за рулем. Женя всегда ухитрялся выходить из неприятностей сухим.
— Ну не помню я номер, не помню. Бежевая такая машина, там еще плащ на переднем сиденье должен быть, — раздраженно выговаривал Женя дежурному по отделению ГАИ. — Ну попросите же кого-нибудь сходить и посмотреть. — И мне: — Совсем обленились, не хотят проверить даже… В четвертое отделение звоню, не могу найти «тачку»…
Обладая огромными связями, Женя часто менял автомобили и никогда не помнил их номеров. Ему не везло — то, выйдя из магазина, он находил свой автомобиль вдребезги разбитым — наехал грузовик, то ГАИ, которое издалека унюхивало Женькино «амбре», останавливало его и высаживало из машины.
Я не стал прерывать его поиски.
Не спеша спустился по лестницам, по которым привык передвигаться почти бегом в течение девяти лет, вышел на улицу, сел в машину и потихоньку приехал на Большую Бронную, к дому 6-а.
Долго сидел в машине, смотрел на школьное здание, в котором разместился ВААП, на людей, входивших и выходивших оттуда.
Был чудесный летний день, листва на деревьях была свежая, не запыленная. Дворник во дворе ВААПа подстригал кусты.
Мимо, не спеша, прошел Ростислав Плятт — потом я узнал, что он жил в доме рядом.
Заморосил дождь.
Я вышел из машины и отправился «под крышу».
ПРИТВОРЯЯСЬ
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней… Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней… Марк АврелийДля непосвященных словосочетание «протокольный отдел» звучит веско, значительно и, может быть, даже красиво. На самом деле роль протокольного отдела международной службы любого ведомства достаточно скромна. (Конечно, если вы не работаете в протокольной службе президента страны или огромной корпорации и не находитесь близко к власти, умея извлекать пользу из этой близости.)
Протоколисты, или, как их чаще называют, протокольщики — технические исполнители в международной работе — это вспомогательная служба: встретить и проводить делегацию, организовать завтрак, обед, ужин, подписание документов, сопроводить иностранца в поездке по стране, обеспечить билеты в театр или цирк, то есть то, что на языке Управления международных связей называется «организовать и провести программу пребывания» делегации.
В значительной мере работа протокольных служб зависит от уровня развития системы услуг в стране — транспорт, общественное питание, гостиницы, индустрия развлечений, изготовление сувениров и прочее. С учетом того, что в нашей стране все это находилось и находится в убогом состоянии, легко понять, что работа протокольщиков — дело непростое и, помимо всего прочего, зависящее от личных качеств сотрудников и их связей.
Подписав Женевскую конвенцию по авторскому праву, СССР, с одной стороны, принял на себя обязательства по защите прав своих и зарубежных авторов, а с другой — в образе ВААПа стал частью международной системы, обеспечивающей эту защиту.
Для контрразведки это говорило об одном: грядет приезд совершенно неизвестных иностранцев, занимающихся непонятными делами, и выезд за рубеж наших граждан, таких же неизвестных и непонятных, словом, неясные контакты неизвестных лиц, в числе которых могут оказаться… — дальше понятно. «Пятая линия» придавала всему этому дополнительно тонкий аромат неисследованности, ведь тут предполагалось активное участие творческой интеллигенции, «проклятой непредсказуемой прослойки»…
Пока же, находясь на «передовой линии» работы с иностранцами, то есть первым встречая их в аэропорту, я внимательно вглядывался в их лица, теша себя надеждой, что по дороге из Шереметьева до гостиницы сумею «расколоть» сотрудника или агента ЦРУ.
Нетрудно представить себе, что и мои контрагенты так же осторожно «обнюхивали» меня и вообще всех ВААПменов — так мы себя тогда называли.
****
А пока еще предстояло изучать протокольную работу, о которой я имел весьма приблизительное представление, приобретать хватку, навыки, знания, чтобы не просто занимать место, а стать полноценным сотрудником Агентства. Только при этом условии я мог надеяться, что смогу успешно выполнять свою основную работу.
Я начал разбираться в структуре ВААПа, в людях, которые там работали, взялся за изучение «коридора власти» — так называли третий этаж Агентства, где располагались кабинеты Б. Д. Панкина и его многочисленных заместителей.
Панкину меня представил В. Р. Ситников. Б. Д. меня, кажется, не узнал — наши встречи в «Комсомольской правде» по поводу моей публикации о Лизе У. были эпизодическими и вряд ли остались в его памяти. Я с напоминаниями не полез (может быть, и зря), так — познакомились, и все.
Борис Дмитриевич был лучшим председателем Правления из трех, под руководством которых мне пришлось работать в ВААПе. Выросший из рядового репортера в главного редактора одной из популярнейших газет страны, блестящий администратор, прекрасно разбиравшийся в людях, он сумел остаться еще и незаурядной творческой личностью. Пошучивали, что аббревиатура ВААП расшифровывается как «Всесоюзное агентство авторов Панкина»…
Ну что ж, его друзьями были Симонов и Паустовский, Трифонов и Айтматов, и никакое литературное агентство не погнушалось бы иметь таких авторов в своей «обойме».
Не проходило недели, чтобы Агентство не содрогалось в ожидании «завтра» или «послезавтра» визита одного из таких авторов к Б. Д. Нужно было подготовить материалы об ожидавшихся, осуществлявшихся или осуществленных изданиях их произведений за рубежом, ходе работ, гонорарах и т. д.
Крупнейшие наши иллюстраторы, художники, литераторы, композиторы были частыми гостями ВААПа, участвовали в его работе, выезжали в составе ВААПовских делегаций за рубеж. Работа в Агентстве была интересна, Б. Д. с самого начала и вплоть до своего отъезда в Швецию поддерживал нужный темп и ритм этой работы.
Вторым человеком в Агентстве тогда был один из заместителей Панкина, Юрий Федорович Жаров, раньше работавший в МИДе в ранге советника. Германист, выпускник МГИМО, он долгие годы прослужил в нашем посольстве в ГДР, начав карьеру с низших дипломатических должностей.
Жаров блестяще владел языками, имел обширные связи среди руководства ГДР и СЕПГ, переводил с немецкого. В Агентстве он курировал международные службы и входивший в них Протокольный отдел. Именно Жаров возглавил и успешно провел огромную работу по установлению, развитию, расширению контактов с зарубежными и международными авторско-правовыми организациями.
Руководителем УМС был Александр Александрович Лебедев, после работы в ВААПе — посол в Чехии, там же он долгое время работал до ВААПа. Он отлично говорил по-французски, по-английски, по-чешски, прирожденный дипломат, легко ладил с людьми.
Мне было особенно приятно после мрачневших с каждым днем коридоров «Дома» оказаться среди живых, эрудированных людей, с энтузиазмом осваивавших новое дело.
Разумеется, энтузиастами были далеко не все. В ВААПе было «всякой твари по паре», как и в любой только что созданной организации, — немало «позвоночников», устремившихся в экспортно-импортный ВААП в предвкушении загранпутешествий и прочих прелестей, но также и значительное количество «межкнижников» — бывших сотрудников внешнеторгового объединения «Международная книга» — очень знающий, грамотный народ. В тематических подразделениях трудились литературоведы, эксперты.
Огромное число хозяйственников, управленцев — ну эти в основном обслуживали третий этаж. Помню долгую борьбу управделами ВААПа с ГАИ за право установить на персональной машине председателя Правления «мигалку» и сирену… Зачем? Да кто же знает, наверное, нужно было…
Через неделю после прихода в Агентство, в столовой я услышал, как за соседним столом изящная дама из парткома с искренним недоумением рассказывала, что в Краснопресненском райкоме КПСС не могла найти учетных карточек некоторых сотрудников (далее следовали фамилии всех представителей резидентуры КГБ в Агентстве), а потом ей объяснили, что «эти люди» состоят на специальном учете. Соседи по столу, видимо опытные аппаратчики, тут же рассказали ей, почему «эти люди» состоят на спецучете, и снабдили свои пояснения комментариями о майоре Пронине и Штирлице.
«Крыша» с грохотом рухнула в одночасье. Потом нас уже не раз «продавали» в розницу и оптом — и своим, и иностранцам.
— В конце концов, — успокаивал меня Ситников, — в этом есть и рациональное зерно: случись что, люди будут знать, к кому обратиться за советом или за помощью.
Полковник Василий Романович Ситников прожил интересную жизнь (рассказывал он много, но умел и слушать). Он смолоду работал в разведке, во время войны занимался заброской в тыл немцев наших разведчиков. После войны работал в Австрии, потом в ГДР, считался неплохим германистом. В Австрии он был, видимо, уже на заметных ролях. Когда эта страна праздновала круглую дату своей независимости, в числе приглашенных на торжества в Вене был и «Дядя Вася».
Он тщательно скрывал, что в Высшую дипломатическую школу попал когда-то, не имея за плечами вуза, видимо, «протолкнуло» ПГУ. Любил выдавать себя за генерала…
Не попади он в 5-е, стал бы, наверное, и генералом, да вот как нами распоряжается служба…
Его взгляды были необычны даже для ПГУ — не говоря уж о 5-м Управлении. По «палкинским» стандартам, он был просто диссидент, почти антисоветчик. Отношения между ними не сложились сразу и навсегда. На долгое время это сблизило меня с «Дедом» — и его взгляды, и нелады с «Палкиным».
До ВААПа Ситников успел поработать «под крышей» в Институте США и Канады, потом в группе советников Ю. В. Андропова, когда тот был Председателем КГБ. Примерно в то время он попал в книжку Джона Бэррона «КГБ»: была там фотография с подписью под ней — «Василий Романович Ситников — заместитель начальника Управления дезинформации ПГУ».
Выдали его американцам сбежавшие на Запад знакомцы из разведки.
«Дядю Васю» «расшлепали», и направлять его на работу в ВААП было довольно рискованно… В нужных случаях он давал понять, что он теперь пенсионер, безобидный такой старичок…
Был он толстый, неуклюжий, болело уже и то, и это, но работал с удовольствием и огромный жизненный опыт использовал с большой отдачей для ВААПа и с несколько меньшей — для КГБ. Его положение в Агентстве и значительный круг связей в творческой среде давали массу возможностей для работы по обеим линиям, но ранжиры 5-го Управления были ему тесны.
«Дед» хорошо говорил по-немецки, отлично знал «немецкий менталитет», ловко общался и работал с иностранцами — до тех пор, пока старость крепко не схватила его за горло.
Одной из главных его ошибок (как легко рассуждать об ошибках других!) было то, что он не удержался от соблазна поучаствовать в тихой, но жестокой грызне, которая происходила между обитателями третьего этажа.
Все трое описанных выше людей были незаурядны, талантливы, но всех троих объединяло еще одно: они были выходцами из «непривилегированных слоев», добивались всего в жизни сами и, видимо, растеряли при этом значительную часть душевного здоровья, обычной человеческой доброты. Наблюдая за их тайным и чаще всего непонятным противостоянием, я вновь и вновь возвращался к своим размышлениям о разобщенности нашей славной номенклатуры. Постепенно я пришел к выводу, что эта хворь поразила их всех без исключения.
«Дед», конечно, был постарше и поумнее, гораздо осторожнее, но и опыт интриг и закулисных борений, приобретенный в ПГУ, был у него побогаче, чем у прочих, и явно требовал практического применения…
Руководство в «Доме», слушая рассказы об этих дрязгах, строго-настрого запрещало даже обсуждать их в Агентстве, не то что принимать чью-либо сторону или высказываться в чью-либо пользу: часто все или почти все, что говорил сотрудник КГБ в ведомстве, где он сидел «под корягой» (еще один арготизм), рассматривалось собеседниками как позиция или мнение КГБ. Постепенно мне становилось ясным поведение некоторых чекистов старшего поколения, которые в «ведомстве прикрытия» придерживались трех тем: анекдоты (бытовые), погода (дача), передовицы из «Правды». Ну, еще — очень осторожно — футбол или хоккей…
В эти первые годы существования ВААПа мы вместе с коллегами, помогавшими нам из «Дома», провели незаметную, но огромную работу по проверке практически всех работавших в сколько-нибудь значительных подразделениях Агентства. Выявляли «крамольников» (но так, по-моему, и не выявили никого), искали тех, кто ранее сотрудничал с КГБ в Союзе и долгосрочных загранкомандировках, чтобы опереться на них в наших «исследованиях», присматривали за теми, за кем тянулись «хвосты» проступков и проколов за рубежом. На них противник мог обратить особое внимание.
Никогда не старался вылезти в «передовые», но первую вербовку в ВААПе осуществил я — и неплохую. Я поставил себе целью иметь в агентурном аппарате только самых перспективных сотрудников Агентства, самых грамотных и подготовленных — тех, кому поручались наиболее интересные и ответственные задания, переговоры, командировки. Только эти люди владели подлинной информацией, могли оказывать влияние на ход событий.
Этот зарок я выполнил — труды мои не остались втуне, и я гордился моими помощниками. С их поддержкой за долгие годы работы в ВААПе не осталось невыполненным ни одно задание, они не допустили в своей работе ни одного «прокола», никто из них не расшифровался ни внутри ВААПа, ни за границей — во всяком случае, таких данных «не поступило».
Почти все они стали и моими хорошими товарищами, а в наше мерзкое время товарищество — лучшее украшение жизни.
Итак, основной задачей ВААПа было «продвижение лучших произведений советских авторов за рубеж». Задачей «д/р» было, чтобы туда, за рубеж, не попадали «худшие» (какие — мы уже знаем) — ни через ВААП, ни минуя его. А также изучение творческой интеллигенции, установление с позиций Агентства контактов среди соотечественников и иностранцев — партнеров ВААПа.
И руководство Агентства не теряло времени зря — использовало свое положение для установления и укрепления связей «наверху», проталкивая в зарубежные издательства труды сильных мира сего. Например, все, у кого собственные дети, дети родственников или друзей поступали или учились в МГИМО, из кожи вон лезли и добивались — особенно в бывших соцстранах — издания какой-нибудь книжки тогдашнего ректора этого престижнейшего из вузов.
Назначение же Б. Д. Панкина послом в Швецию, как твердили злословцы, было напрямую связано с тем, что все труды всех, носивших фамилию Громыко (и некоторых родственников министра, носивших другие фамилии), были изданы за рубежом — везде, где этого удалось добиться. А добивались с большой заинтересованностью и настойчивостью…
Кстати, вааповский нахрап и нажим по продвижению «лучших произведений» в бывшие соцстраны привел к печальным результатам. Там советская книга «шагала триумфальным маршем» под напором СССР, ВААПа и отдельных влиятельных лиц, ее издавали валом, в ущерб собственным авторам, теряя дорогостоящую бумагу, выплачивая весомые гонорары. В конце концов победное шествие «передовой, прогр И.» (помните?) обернулось в этих странах ее трагическим крахом. Болгарский, скажем, юноша вряд ли мог с ходу выбрать с прилавка, заваленного переводами с русского, действительно хорошую книгу — для этого надо было хоть немного знать советских писателей, да и литературу вообще.
Та же самая картина, как рассказывали, была с кино: среди десятков закупленных лент пойди, найди хорошую…
А вот за твердую валюту, которой всегда не хватало, в США, Англии, Франции старались покупать «по карману» — поменьше, да получше.
Вот и получалось: что ни книга или фильм с «загнивающего Запада» — то чуть ли не шедевр. Что ни книга или фильм с «процветающего Востока» — скука, трата времени и денег.
Количество, как мы убедились в середине 80-х, прямым ходом уверенно перешло в качество. Но этот переход происходил постепенно, и прийти к явным сейчас выводам смогли тогда немногие. Под грохот ежегодных победных рапортов об издаваемой в дружеских странах макулатуре, демонстрируемых там десятках советских фильмов, голоса этих немногих звучали неразборчиво.
Совсем другая ситуация складывалась на Западе: протолкнуть туда книгу советского автора было нелегко, исключения, как всегда, подтверждали правила.
Да и внутри страны у ВААПа с самого начала возникли немалые трудности. Дело в том, что своим появлением и существованием он испортил жизнь многим людям и целым организациям. Агентство монополизировало экспортно-импортные операции в области авторского права как часть внешней торговли страны — это было заметным вмешательством в дела издательств и авторов. Экспорт и импорт прав были полностью изъяты у издателей (они, правда, в этих делах совершенно не разбирались), а валютные авторские гонорары были обложены существенным налогом, в начислении которого могла разобраться только соответствующая служба ВААПа. Налог был прогрессивным (это помимо комиссионных!), и в некоторых случаях изъятия из гонораров были просто несусветные.
Обвинять ВААП в высоких налогах — этим занимались многие — было, однако, безграмотно: и налоги, и комиссионные, и ставки авторских гонораров устанавливались Минфином, Госкомиздатом, Минкультом, в общем, правительством. ВААП же в любой сделке с зарубежными партнерами старался оттягать максимально возможные гонорары — ведь на комиссионные он и существовал…
Личные качества сменявших друг друга председателей и их заместителей — людей властных, решительных, иногда капризных, тоже не добавляли любви к Агентству. Слышал как-то жалобы одного из сотрудников ЦК КПСС на Панкина — в ЦК Борис Дмитриевич, минуя отделы, шел «по верхам» и все вопросы решал там (правильно делал — только там и можно было их решать). Отделы и их руководителей это сильно раздражало.
Была еще и зависть. При всех его недостатках — ведь все делалось впервые и ошибки были неизбежны — ВААП долгое время был энергичной, эффективной организацией — это отмечали и многие зарубежные партнеры. Они часто хвалили Агентство, например, в Госкомиздате, не зная о глухой взаимной неприязни между этими организациями и их руководителями.
Были и противостояние, и противоречия. С некоторыми из них я ознакомился довольно необычным образом. Эту несложную операцию мне удалось провести примерно через год после прихода в ВААП.
В Москве находилась представительница одного из американских издательств в Европе — дама экзальтированная, несобранная. Она захаживала и в ВААП — не помню, зачем. Однажды я сопроводил ее в кабинет то ли к Жарову, то ли к Панкину, и переводил их беседу. Портфель дамы был набит какими-то документами, в которые она поминутно заглядывала, вороша их на столе. По приобретенной в КГБ (дурной, конечно) привычке я через стол косил глазом на них, лопоча перевод, и вдруг заметил в углу одного из документов гриф «конфиденшиэл» — примерно соответствующий нашему «секретно».
«Ну вот, — подумал я. — Попался, который кусался…» Через час-другой я уже несся бодрым скоком в «Дом», к Ник. Нику.
Похвалив меня «за цепкость глаза», тот остудил мой энтузиазм.
— Дело, конечно, несложное, но тут нужны и подслушка, и подглядка, и «сезам, откройся». Под иностранца это сейчас почти невозможно получить — все у разработчиков, все пристегнуто к диссидентам… Подумаешь, скажут, «конфиденциально»… Чего у нее конфиденциального может быть? Тем более — потащит она что-нибудь сюда, в СССР…
Неожиданно для себя я ощутил прилив творческой энергии — прямо «потные валы вдохновения» окатили.
— А она упоминала среди своих знакомцев Евтушенко. Что, если нам под это дело предположить, что она собирается вывезти за рубеж для опубликования какую-нибудь его рукопись? Под это дело нам дадут все…
Ник. Ник. посмотрел на меня с интересом.
— Это уже что-то. Да и Евгений Александрович нас, наверное, простил бы за упоминание имени его всуе… Пиши, давай, справку.
Я написал, написанное полетело «наверх», и нам санкционировали все, что требовалось. А в ВААПе мне сильно помогли пэгэушники, один из которых был знаком с дамой и мог ее куда-нибудь пригласить…
Через пару дней у меня на столе (в «Доме», конечно, не в ВААПе) лежала груда фотокопий всех ее документов.
Да, было что почитать… Гриф «конфиденшиэл» имели почти все документы, а некоторые еще были помечены и штампом «В СССР и страны Восточной Европы не вывозить»…
Целую неделю я переводил документы на русский язык, потом их долго печатали — спешить было некуда. ПГУ попросило копию материалов, и она была туда отправлена.
Одним из самых интересных документов «коллекции» был отчет тогдашнего президента Ассоциации Американских издателей Таунсенда Хупса о поездке в Москву в 1973 году. Во время поездки Хупс и его коллеги провели переговоры в ВААПе, Госкомиздате, ССП и посетили… А. Д. Сахарова. Раз уж копии отчета рассылались таким дамам, как описанная выше, вряд ли отчет (или его вариант, попавший ко мне в руки) был уж очень секретным. Тем не менее, он содержал подробные оценки деловых и личных качеств людей, с которыми встречались американцы, высказывались предположения о принадлежности некоторых из них к КГБ (не угадали никого), давалась интересная картина деятельности ВААПа и перспектив Агентства. Чрезвычайно интересными были и выводы. Цитирую один из них по памяти:
«…Мы должны использовать естественные противоречия, сложившиеся между ВААПом, Госкомиздатом и издательствами для продвижения на советский книжный рынок таких произведений американских авторов, которые окажут наиболее эффективное воздействие на советского читателя…». И далее:
«…Панкин и его команда в этих условиях (то есть в условиях гонки за валютой. — Е. Г.) будут вынуждены способствовать продвижению таких произведений, а права на них будут уступаться по доступным издательствам ценам…»
Еще дальше — о визите к Сахарову. Зачем бы сотрудникам Ассоциации издателей к нему ходить? А вот зачем:
«…Нет, Сахаров вряд ли будет представлять собой значимую политическую фигуру, он не подходит для роли политического лидера. Пожалуй, его можно сравнить с Дэниэлом Элсбергом, не более…» (Элсберг в свое время опубликовал в американской прессе весьма серьезные секретные материалы Пентагона. Скандал был страшный.)
Отчет о поездке больше напоминал ответы на тщательно подготовленный заранее вопросник — мне уже приходилось встречаться с образцами такой «литературы». Я без особого труда мог представить себе, где готовят такие вопросники и где получают гонорары за ответы на них.
В отчете было немало ссылок на источники: «…один из моих информаторов сообщил…», «другой мой информатор заметил по этому поводу…» Какой знакомый штиль!
Первый отклик на добытый материал я получил от коллег из ПГУ, работавших в ВААПе, — они знакомились с копией, отправленной по их просьбе в разведку. Затащив меня в свой кабинет в Агентстве и тщательно закрыв дверь, один из них, тряся мою руку, восторженно зашептал:
— Ну, старик! У нас твоя писуля пошла аж на самый верх! Тебе небось теперь обломится что-нибудь? Поощрят?
У нас «писуля» не пошла никуда. Ситников, прочитав материалы, пробурчал что-то невнятно-одобрительное и не более того. Он не участвовал в операции, но уже тогда был страшно ревнив к успехам других.
Палкин, убедившись в том, что «рукопись Евтушенко» не перехвачена, вообще вряд ли читал добытое нами. Во всяком случае, когда я процитировал кое-что из документов на одном из оперативных совещаний, он проявил внезапный интерес и попросил сделать для него выписки…
И все же польза из этой операции была извлечена. С явной неохотой «Пропойца» — он был тогда начальником отдела — разрешил ознакомить с документами, касавшимися работы ВААПа, Б. Д. Панкина.
Добиваясь разрешения на это, я исходил из того, что раз уж мы сидим «под крышей» ведомства, прикрываемся им, то должны в разумных пределах делиться получаемой информацией, особенно в случаях, когда она напрямую связана с деятельностью Агентства.
Я подготовил копию, на которой не было никаких наших «нашлепок» — резолюций, штампов, и конфиденциально передал ее Б. Д., предупредив, что материал получен оперативным путем и ссылаться на него нельзя. Через некоторое время он вернул мою папку, сдержанно поблагодарил. На этом я счел операцию законченной.
Я вспомнил о ней, когда сидел перед экраном телевизором: толстомордое и косноязычное большинство союзного парламента «захлопывало» одинокого нескладного академика, стоявшего на трибуне.
Хупс был прав: Андрей Дмитриевич не стал политическим лидером — явно не его это было дело. Да и не смог бы он им стать — для этого в нашей стране нужно иметь партийное прошлое, связи с преступным миром, быть малограмотным, говорить «ложить» вместо «класть», не знать языков, да и вообще знать и уметь как можно меньше.
Интерес американцев к перспективам академика стать лидером был понятен. Во-первых, они давно привыкли смотреть далеко вперед — любят и умеют по-настоящему планировать все и вся. Во-вторых, в чем мы с запоздалой печалью убедились в последние годы, у них накоплен весьма внушительный опыт управления любыми политическими фигурами, и они в довольно короткое время уверенно превращают эти фигуры в марионеток. Остается подергивать за ниточки — «фонды», взятки, «гонорары», славословия, особняки, виллы, местечки для детей в престижных университетах, «кадиллаки»… Не получается? Ну тогда «Буря в пустыне»…
Не став политическим лидером, А. Д. Сахаров оказался-таки знаменем для созидательной части населения нашей страны — интеллигенции (если можно считать интеллигенцией то, что мы ею считаем). А «знаменем» управлять невозможно. В крайнем случае, можно использовать в чуждых ему целях, но управлять — нет.
Зал съезда, источавший злобу, и Сахаров, ссутулившийся на трибуне, — вот иллюстрация «классовых противоречий», о которых так много говорили большевики. Знамя, но лишь для небольшой части населения. Именно населения, потому что мы, кажется, давно утратили право называться народом.
****
Увеличивалось количество соглашений с издательствами и авторами, произведения которых планировалось издавать в СССР. Но от этой самой интересной работы я был пока далек — я по-прежнему «окучивал», «перелопачивал», «просеивал» весь поток иностранцев. Встречал, провожал, сопровождал в поездках по стране, собирал информацию о них по крупицам, но к коммерческой работе Агентства отношения не имел. За исключением тех случаев, когда я выступал как переводчик, я оставался «за дверями».
Все равно было интересно: я осваивал протокольную работу, меня учили обходить «подводные камни», составлять и осуществлять программы пребывания гостей, выбирать «точки» питания для иностранцев, договариваться с официантами, чтобы они не писали в счет водку, при встрече иностранца в аэропорту проверять, все ли города, намеченные к посещению, проставлены в визе, смотреть в паспорте день рождения — не приходится ли на пребывание в Москве, сохранять корешки от билетов в театр для финансового отчета, заботиться, чтобы гость обменял часть своих денег на рубли, уточнять, что номер в гостинице действительно заказан, а в самой гостинице действительно ждут приезжего — и многому другому. Просто? Где-нибудь в Нью-Йорке — может быть.
В «Доме» я теперь бывал не часто — примерно раз в неделю, если не принимал участия в каком-то «мероприятии», тогда приходилось мотаться взад-вперед и по нескольку раз в день.
И все же работалось первые годы «под крышей» легко. Единственное, что меня действительно потрясало до глубины души, это «работа» советских чиновников (и не только в ВААПе), полное отсутствие исполнительной дисциплины и дисциплины вообще. Дело в том, что до прихода на оперативную работу в КГБ я практически не работал «на гражданке» — так, чернорабочим на Москве-реке, грузчиком в Хозяйственном управлении Комитета. Позже, на «курируемых» — ненавижу это слово — мною объектах хоть и проводил немало времени, но был все же посетителем, от которого многое старались скрыть.
Теперь же я видел жизнь и работу советского учреждения — не самого, кстати, плохого, не через агентуру и другие возможности, а собственными глазами, «в упор».
Мне было непонятно, как это можно приходить на работу не тогда, когда положено, а когда тебе хочется, целыми днями бездельничать, торчать в коридорах, выпрашивать у знакомых врачей освобождения от работы, и при этом не выполнять толком даже то немногое, что требовалось по вааповским стандартам. Некоторое оживление наблюдалось, когда приезжали партнеры из-за рубежа, а особенно когда ваапмены сами готовились к зарубежным поездкам. В Агентстве было много женщин, а среди них хватало жен, родственниц, любовниц кого-то там, «наверху». Многие из них не давали окружающим забыть о своих привилегиях, а уж в вопросах выездов за рубеж была возможность полностью «раскрыть свою индивидуальность». При этом те, кто обожал зарубежные вояжи, терпеть не могли работу с делегациями партнеров, которые принимали их у себя в стране.
После аскетической поездки в Англию я плохо представлял себе, как можно ездить за границу, и глухая возня вокруг вааповских выездов долгое время была мне не очень понятна.
Задним числом я начал припоминать, что нечто подобное имело место и в «Доме»… Естественно, в военной, да еще секретной организации многое было скрыто. Человек иногда уезжал за границу — как сквозь землю проваливался. Но часто весьма искусно эксплуатировались возможности ведомств, за которыми надзирал оперсостав. «Черный», который «заведовал» спортом, выезжал за рубеж два-три раза в год. Поцвыкивая зубом и почесываясь, он объехал полмира, без особых усилий «выбивая» себе эти поездки. В таких выездах, а особенно в больших мероприятиях, нелишне иметь в составе команды толкового спецслужбиста, хорошо знающего страну, языки, обычаи и т. д. Но ведь наш «Черный» по этим стандартам никак не подходил. Зато он был очень «пробивной»…
Дележ «выездного пирога» в ВААПе начинался на третьем этаже. Руководство распределяло между собой самые «вкусные», представительные поездки. Там же решались вопросы и с назначением представителей ВААПа за рубежом — исключение составляли должности, занятые разведкой. Там работали свои, пэгэушные, принципы, не сильно, правда, отличавшиеся от вааповских.
Одно такое назначение обернулось драмой.
Вопрос о представителе ВААПа в США долго висел в воздухе. Я удивлялся, почему и это место не было отдано разведке. Наконец Б. Д. Панкин постановил, что в Штаты поедет М., заместитель директора одного из институтов АН СССР, хороший его друг. У меня оказались общие с М. знакомые, а в их числе и знавшие его с детства. Один из них был сотрудником ПГУ — он, как и другие мои «источники», направленные на изучение кандидата, характеризовал М. как человека незаурядных способностей и знаний, хорошо владевшего языком и знавшего культуру США. Известно было также, что под руководством М. и при его участии защитили диссертации детишки многих весьма ответственных лиц. Почему бы и нет? «Компроматов» на М. не было.
ПГУ, которое вело свою проверку, в том числе и с позиций ВААПа, заняло негативную позицию относительно этой кандидатуры: М. злоупотреблял спиртным, не умел целенаправленно и планомерно трудиться, работа чиновника была ему совершенно чужда — а представитель ВААПа в Вашингтоне был еще и первым секретарем посольства СССР, членом «команды» дипломатов. М. не умел водить машину, что в Америке делает человека почти беспомощным — шоферские обязанности намеревалась выполнять его молодая (вторая или третья) жена — существо вертлявое и пролазливое. Она претендовала также и на должность секретаря своего мужа — вещь в советских колониях небывалая, и добилась этого — Б. Д. по-дружески разрешил ей скромный приработок. М. собирался взять с собой в США дочь от предыдущего брака и маленького ребенка от молодой жены, кажется, в это время они ждали еще одного. И вот он с молодой женой и детьми отбыл в цитадель империализма.
То, что через три года в конце концов произошло, не грянуло внезапно, а накапливалось исподволь. Довольно быстро в ВААПе всем, кроме председателя Правления, стало ясно, что М. работу «не тянет». Жена, которая, может, была неплохим шофером и секретарем, заменить его не могла, хотя и окончила у него аспирантуру. Затем из посольства и от делегаций ВААПа, посещавших США, стало известно, что схватку с зеленым змием, разгоревшуюся на американской земле, М. явно проигрывает.
Доходили слухи о неладах в семье, заметных окружающим. Этажом выше в доме, где жил М., случилось жить американцу литовского происхождения, которого мы сильно подозревали в сотрудничестве с ЦРУ и который очень задружил с М. и его молодой супругой…
Вместе с тем и из посольства, и из резидентуры ПГУ звучали голоса и в поддержку М. — как позже выяснилось, они принадлежали тем, чьи дети в свое время у М. успешно защитились. Дело житейское… А время все шло. Подошел момент, когда нужно было либо продлевать М. командировку, которая провалилась, либо достойно откомандировать его в Москву.
Баланс «за» и «против» некоторое время покачивался вверх-вниз, потом посол Добрынин с неохотой (говорили, что М. положительных эмоций у него не вызывал) подписал телеграмму в ВААП, подготовленную теми дипломатами, которым М. нравился.
В телеграмме веско говорилось о том, что М. незаменим в США, что командировку необходимо продлить, давалось понять, что М. вот-вот покажет высший класс работы. Злые языки поговаривали, что инициировал телеграмму сам Б. Д., что вполне возможно — он всегда горой стоял за друзей. Казалось, вопрос благополучно решен, но нет, точка не была еще поставлена. Ее поставили ЦРУ и ФБР.
Жена М. давно уже установила секретные связи с этими службами и была их агентом: домохозяйка, куснувшая «американского образа жизни», она твердо решила в СССР не возвращаться. В Америке она занималась личными делами, американские спецслужбисты ей, само собой разумеется, помогали. Ей даже удалось тиснуть в одном американском издательстве брошюру своего отца — что-то «о стрельбе из малокалиберного оружия» — все-таки деньги…
С ее помощью американцы занялись «мягкой» обработкой М. — им, конечно, было интересно оставить в качестве невозвращенца именно его, профессора, доктора наук…
В один далеко не прекрасный день бедняга, вернувшись домой, не застал там никого. Ему было оставлено письмо, в котором молодая жена извещала о принятом решении и советовала мужу присоединиться к ней. Она, помимо прочего, писала, что хочет вырастить детей в свободной стране, что мужу по возвращении грозят репрессии и т. д.
В течение трех дней М. в посольство ничего не сообщал, объясняя это впоследствии желанием поговорить с женой и разубедить ее. На самом деле, ожидая звонка от жены, он здорово пил, не выходя из дома.
Наконец она позвонила и попросила спуститься вниз, на улицу, где будет ждать его около теннисных кортов. М. вышел, она действительно его ждала. Но не одна.
Рядом были припаркованы машины с работающими двигателями. В машинах и рядом с ними были люди, в принадлежности которых к ФБР мог усомниться только слепой. Они обеспечивали операцию «вербовочный разговор»… Он состоял из попыток жены убедить М. не возвращаться на Родину, присоединиться к семье и его отказа сделать это. На том и расстались.
Поднявшись к себе, М. позвонил в посольство. Проведя соответствующие собеседования, его отправили в Москву.
Через пару дней мои коллеги-подкрышники из ВААПа и я сидели в кабинете Ник. Ника и читали длиннейшую телеграмму из вашингтонской резидентуры, в которой излагалось примерно то, что изложено выше. Но оттенки (ах, эти оттенки!) убедительно говорили о том, что ничего особенного не произошло, что потеря это небольшая, что ничего интересного дама рассказать американцам не могла (могла, могла…), а М. был выставлен почти как герой. Может быть, и правильно — нетрудно представить, сколько ему пришлось пережить в те дни. Но, скорее всего, сотрудники резидентуры берегли собственные зады — ведь они были в числе тех, кто из кожи лез, чтобы продлить командировку М.
Они подвели и посла, подсунув ему «продлительную» телеграмму. С тех пор, говорили, он невзлюбил ВААП.
По тем временам и для М., и для Агентства это был горестный эпизод. На «д/р» в ВААПе он никак не отразился — проверкой М. перед поездкой в США занималась, как всегда, целая куча подразделений, да и, скажи они «нет», Панкин все равно настоял бы на своем.
Наши контрагенты праздновали, наверное, победу, но не очень большую — ведь им не удалось пристегнуть М. к его жене…
Мы допускали и еще одну неприятную для нас вероятность. До замужества за М. и учебы под его чутким руководством дама работала в ленинградском «Интуристе» — она родом из Ленинграда. Маловероятно, но возможно, что американцы — и не обязательно именно они — «подцепили» ее еще тогда. Всякое бывает в сумеречной возне, которую ведут спецслужбисты по всем мире.
В Тбилиси проводился фестиваль «Закавказская весна», в котором принимали участие лучшие исполнители и музыкальные коллективы из Грузии, Армении и Азербайджана, творцы современной «серьезной» и легкой музыки.
К фестивалю проявили интерес американские и западногерманские партнеры ВААПа — в СССР приехали известный американский дирижер Марио Бонавентура, работавший тогда в компании «Ширмер», немец, владелец музыкального издательства Ганс Сикорски и его сотрудник, композитор, имени которого не припомню. Эксперту из Управления музыки ВААПа Нами Микоян и мне было поручено сопровождать иностранцев в Тбилиси, споспешествовать их контактам с музыкальными деятелями, организовать все, что нужно было организовать. Задачи наши были не очень сложны: Нами, изысканная и знающая дама, была на короткой ноге практически со всеми известными участниками фестиваля и сделала нашу программу пребывания в Тбилиси насыщенной и в творческом, и в гастрономическом смысле, а наши грузинские друзья в годы «застоя» имели еще возможность блеснуть традиционным грузинским гостеприимством.
Нам помогали руководитель грузинского отделения ВААПа, бывший партийный работник Нукзар Церетели, его заместитель (мой коллега по «д/р»), блестящая пара друзей — дирижер Джансуг Кахидзе и композитор Гия Канчели, руководитель Союза композиторов Армении Эдуард Мирзоян. Мы встречались с министром культуры Грузии Отаром Тактакишвили, с руководителями издательства. Я занимался протоколом, переводом.
Поездка оказалась довольно трудной в совершенно неожиданном плане. Каждый день примерно семь-восемь часов уходило на прослушивание музыкальных программ, что даже для любящих музыку — очень нелегкий труд. Иностранцы без конца делали пометки в своих записных книжках, оценивая услышанные произведения и исполнителей, я переводил и записывал для них по-английски грузинские, армянские, азербайджанские имена, названия произведений.
В Тбилиси тогда прекрасно уживались люди десятков национальностей. Когда на фестивале выступали солисты или коллективы из Азербайджана или Армении, большую часть зрителей составляли их соотечественники, жители Тбилиси. «Болея» за своих, они устраивали долгие овации, зал сотрясался от их восторгов, кстати, вполне заслуженных. Рядом так же неистовствовали грузины — музыка была одинаково понятна всем.
Что потрясало меня более всего — необыкновенная, врожденная, что ли, музыкальность грузин. Двое, трое, четверо впервые встретившихся людей затягивают за столом песню и сразу же «раскладывают» ее на два, три, четыре голоса!
Зрительская масса состояла вовсе не из рафине или заумных ценителей, я видел, что в зале были люди, принадлежавшие к самым разным социальным слоям. И никаких «межнациональных» конфликтов, никакой милиции или ОМОНа… Сейчас я часто вспоминаю этот фестиваль, когда смотрю на карту СССР, висящую дома…
Даже при этой напряженной программе я не мог избавиться от оперативного зуда. Я заметил, что Марио везде таскает с собой здоровенную зеленую папку и явно бережет ее. Сделав Открытое Сочувственное Лицо, я посоветовал ему не мучиться и сдать папку на хранение в сейф администратору гостиницы «Иверия», где мы остановились. Марио последовал моему совету с удовольствием…
Когда я вернулся в Москву, фотокопии были уже там. Ничего особенного, но все равно интересно: это были материалы, подготовленные для Марио перед его поездкой кем-то, кто очень хорошо знал реалии жизни в СССР.
Диссидентство, самиздат, «коварные методы КГБ», творческие союзы, литература, музыка — все было очень добросовестно отражено там в духе передач радиостанции «Свобода».
Помню, как назван там был Ильичев, — «сторожевой пес советской идеологии»…
Немцы в сопровождении Нами улетели в Москву, а мы с Марио оказались гостями Эдуарда Мирзояна. Вместе с ним и его мамой отправились посмотреть на его гордость — Дом творчества Союза композиторов Армении в Дилижане. Он расположен в живописной местности у подножья огромной горы. Снизу видна снеговая шапка на вершине — оттуда по трубам поступает чистейшая горная вода. Есть небольшой административный корпус с рестораном (повар — отличный), баром и красивой гостиной. Есть зрительный зал человек на 300–400. Есть десятка полтора дивных коттеджей — у каждого гараж, несколько комнат. Расположены они в отдалении друг от друга, чтобы звуки музыкальных инструментов не мешали соседям. Наверное, все уже «приватизировано»…
Одна из существенных трудностей работы в ВААПе заключалась в том, что здание бывшей школы было плохо приспособлено для офиса. Третий этаж, разумеется, был комфортабелен, а кабинеты председателя Правления и его заместителей просторны.
Хуже всех «сидели» те, кто вел основную работу — зарабатывал валюту для государства, «продвигал за рубеж лучшие произведения…» В среднем в комнатах экспортно-импортных управлений работало по семь-восемь человек. В комнате, где поначалу сидел я, было девять-десять. Пришлось учиться не замечать чужих телефонных разговоров (или, наоборот, очень даже замечать), хитрым образом разговаривать с коллегами из «Дома». Чаще всего для этого приходилось выходить на улицу и звонить по телефону-автомату. Когда была возможность, звонил из кабинета Ситникова.
Примерно через год работы в Протоколе меня вызвал один из заместителей Панкина — Марк Владимирович Михайлов, покойный ныне:
— В Варшаву едет делегация ВААПа во главе с Рудаковым (другим заместителем — по юридическим и финансовым делам в Агентстве). Делегация будет открывать представительства ВААПа в Польше, там и протокольные вопросы есть. Хочу предложить твою кандидатуру. Ты как?
— Я с удовольствием бы. Как начальство посмотрит, как Ситников…
— Ну, с Василием Романовичем я говорил, а он уж пусть с «Дзержинкой» решает.
«Дзержинка» дала «добро», и я попал в состав маленькой делегации.
****
Что можно рассказать о технических «штучках», которыми пользуются спецслужбисты?
Да, многократно описанные в детективах миниатюрные — впрочем, не такие уж и миниатюрные — фотоаппараты для секретной, скрытной фотосъемки существуют, хотя они, конечно, помещаются не в пуговице — такие, по-моему, пока невозможно измыслить. Они за ней. Пуговица прикрывает объектив.
Даже бытовая, не говоря о профессиональной, фототехника дает возможность снимать с дальнего расстояния, при плохом освещении, а то и ночью. Оперативная техника эти возможности раздвигает. Самая мощная оптика, наверное, на спутниках. Мне с трудом верится, что оттуда, сверху можно прочитать автомобильный номер, а то и заголовок газеты: нужны идеальные погодные условия, опять же освещенность, опять же зернистость пленки самых лучших образцов вряд ли позволила бы добиться таких результатов. Хотя, говорят, что новая цифровая система чудеса творит в этих областях. Можно быть уверенным в одном — и навсегда: все, что задумано и намечено человеком, каким несбыточным это ни кажется, будет выполнено и осуществлено. Вопрос лишь в том, сколько времени потребуется на практическое воплощение. И денег… А если все это умножить на сатанинскую изобретательность спецслужб…
Фотомонтаж? Да, возможен. Я слышал, что существуют фотоподделки, которые не может определить никакая экспертиза. Но мне кажется, все это штучки бытовых шантажистов, бандитов средней руки, но не спецслужбистов. Основные принципы работы спецслужб построены на добывании и анализе подлинной информации, а не на выдумывании мнимой. Естественно, исключения бывают и здесь, но, насколько мне известно, они вызываются совсем уж необычными причинами.
Разглагольствовать о том, что ваш телефон «со вчерашнего дня» подслушивается — там, дескать, треск и шорох появились, — глупо и даже неприлично. Сами принципы техники подслушивания исключают любые посторонние шумы. А если в вашей трубке трески или шорох, обратитесь в бюро ремонта, но при этом не забудьте, что наши телефонные аппараты, и вообще вся телефонная сеть, и вообще почти все системы связи в стране сравнительно с мировым уровнем — антиквариат.
Есть категории людей, чьи телефонные аппараты постоянно прослушиваются — сотрудники некоторых посольств, журналисты, разведчики, объекты оперативных разработок, да мало ли кто еще. Часто они знают об этом и давно к этому привыкли, хотя вообще разговаривать по телефону на любые темы, зная о наличии третьего, безмолвного, абонента, мне, например, было всегда неприятно. Ну что ж, ведь это обычные «издержки производства»…
Хорошо помню, как стушевался, засбоил Бакатин во время одной из своих бездарных пресс-конференций, кои он так любил давать в бытность председателем КГБ. Норвежская журналистка спросила его, когда же перестанут подслушивать ее телефон. Бакатин смутился, что-то начал переспрашивать… Любой опер из «Дома» тут же ответил бы — да через полчаса после того, как узнаем, что перестали подслушивать наших журналистов.
Так что не притворяйтесь перед друзьями (и перед собой тоже), что вы такая важная шишка. Если у вас есть серьезные основания думать, что к вам прислушиваются — никогда не выдавайте своей осведомленности и, наоборот, старайтесь использовать ваших подслушивателей в ваших же интересах, подбрасывая им выгодную вам информацию или дезинформацию. Как уже говорилось выше, «подслушка» — дело дорогое, сложное — установить, слушать или записывать, расшифровывать, стенографировать, печатать, пересылать и хранить материалы — не обольщайтесь на свой счет. Ну, если уж очень хочется, чтобы вас слушали, займитесь шпионажем, возглавьте группу серьезных преступников, создайте партию наподобие Жириновского…
«Жучки?» Да, дело известное. Джеймс Бонд, войдя в номер гостиницы, тут же либо на глаз, либо с помощью утыканного разноцветными огоньками ящичка начинает выдергивать из стен, мебели, букетов микрофончики…
Никогда не пытайтесь их обнаружить, не для того их ставят, чтобы их нашел эсэнгевский турист, приехавший в Рим из Урюпинска на полтора дня. Чтобы уж совсем успокоиться, имейте в виду, что микрофоном и передающим устройством может стать все, что вы привыкли иметь при себе: кейс, очки, брошь, расческа, пуговица, зубочистка…
Вот узконаправленные микрофоны, с помощью которых якобы можно подслушивать отдельные разговоры в толпе, — маловероятны. Они будут собирать шум со всей улицы, как узко их ни направляй. То же самое с оконными стеклами; может быть, их дрожь и передаст на соответствующую аппаратуру (это через наши двойные-то рамы!) то, что вы шепчете в постели, но при одном важном условии: все в округе замрет, и все остальные шепоты прекратятся. Иначе они тоже полезут в эту сверхчувствительную аппаратуру, и маловероятно, что самый умный компьютер выделит из этой мешанины уличных шумов именно ваши диалоги.
В определенных условиях можно наблюдать и фотографировать человека, когда он об этом не догадывается. Опыт таких наблюдений всегда возвращал меня к высказыванию знаменитого голливудского актера Генри Фонда: «Я никогда не делаю перед камерой ничего, что не сделал бы в жизни. Я никогда не делаю в жизни ничего, чего не сделал бы перед камерой»…
Тот, кто когда-либо вел подобные наблюдения, часто разочаровывается в человеческой натуре, бывает шокирован беззащитностью индивида перед бесстрастным бесстыдством спецслужб. До конца своих дней такие люди привычно контролируют свое поведение, даже находясь в полном одиночестве (или наоборот — плюют на все, ведут себя как заблагорассудится).
Конечно, существуют различные средства воздействия на объекты разработки, арестованных, допрашиваемых. Но применение их связано с санкциями столь высоких инстанций и случается так редко, что найти сведения подобного рода можно лишь в художественной литературе. За 33 с лишним года службы мне не приходилось не то что использовать что-либо из этого арсенала, а и слышать об этом.
Так что, если у вас расстройство желудка, не вините в этом спецслужбистов…
Вот американцы — те одно время очень любили пользоваться ядами. Их агент «Трианон» (помните — «ТАСС уполномочен заявить»?) при аресте отравился столь сильным ядом, что во время вскрытия погиб кто-то из бригады экспертов — вдохнул случайно пары от препарируемых тканей.
А специальная сенатская комиссия в США долго мучила допросами крупных чинов из ЦРУ, которое, как стало известно, планировало «внести необратимые изменения в состояние здоровья Фиделя Кастро»… Каков слог, а? С другой стороны, не напишешь же в конце XX века просто — убить…
Очень любят наши нынешние союзники (?) и всевозможнейшие хитрейшие электронные уши — прилепляют их к подводным телефонным кабелям, устанавливают на дне океанов и морей, в полях и лесах, в кабинетах сильных мира сего… Трудолюбивые жучки копят себе информацию, записывают ее, потом по сигналу с подводной лодки, из автомашины, а то и со спутника выстреливают радиовыстрелом на приемные антенны.
Радиовыстрел… Как долго никто не мог додуматься до простейшей, в сущности, вещи: не торопясь, аккуратно, нанести кодированную или шифрованную информацию на магнитофонную пленку или проволочку, а затем, подключив магнитофон к передатчику, прокрутить катушки с бешеной скоростью. Несмотря на все усилия, мы, как и во всех других областях, наверное, здорово-таки отставали от противника — это чувствовалось.
Разумеется, при чрезвычайных обстоятельствах действенны лишь чрезвычайные меры, и в серьезнейших разработках и операциях технари лезут из кожи, выдумывая невероятные вещи, но это — шедевры, а шедевры редки.
Основная сила и мощь спецслужб не в технике, а в людях, которые умело ее используют и способны дотошно анализировать получаемую информацию, делать правильные выводы. Которые с уважением относятся к противнику (то есть любому разрабатываемому) и в силу этого вправе рассчитывать на ответное уважение. Они защищают безопасность государства — такого, какое оно есть на момент их службы, а не такого, каким его хотелось бы видеть разрабатываемому (а часто и разработчику, кстати). Лучшие из этих людей — а может, и большинство — люди долга, что непонятно сейчас гражданским, но стало образом жизни спецслужбиста без каких-либо романтических оттенков.
Долг, дисциплина, а в лучших случаях — еще и честь. Вот этим и отличался разгромленный Комитет от милиции, не говоря уже о гражданских, купленых-перекупленых, разъеденных воровством и коррупцией структур. Эти качества оперсостава существовали как бы сами по себе, ими никто не размахивал и не гордился. Они были частью жизни и сознания. Да, не у всех, но у очень, очень многих.
****
Неделя, которую наша делегация провела в Варшаве, была насыщена работой: переговоры с польским партнером ВААПа — ЗАИКС, в творческих союзах, в отделе культуры ЦК ПОРП, беседы в посольстве. На меня кроме несложных протокольных обязанностей была возложена еще и роль водителя: недавно назначенный Константин Щербаков, представитель ВААПа в Польше, за рулем чувствовал себя неуверенно. Он тоже был другом Б. Д. Сын известного партийного деятеля, интеллигент, литературный критик, Константин оброс хорошими связями в творческих кругах Варшавы, установил правильные отношения в посольстве и быстро включился в работу ВААПа. Ему выделили для жилья и офиса квартиру бывшего корейского посла в доме, принадлежавшем Совету Министров ПНР. Это было большое здание с замкнутым двором и почти всегда запертыми воротами; в позднее время и ночью их открывал консьерж.
Когда мы в первый раз въехали во двор, я, увидев автостоянку, сразу сказал себе: «Э-э-э…» На ней была богато представлена продукция лучших западноевропейских фирм. Пока мы выходили из машины и что-то выгружали, молодая пара — оба лет по 18, оба сильно навеселе, оба в элегантных дубленках — уселась в ярко-желтый «порше» и, резко рванув с места, выехала со двора.
Был конец осени — дождливо, снежно, грязновато. Варшава сопротивлялась погоде яркими плакатами, прилично освещенными улицами, небогато, но со вкусом декорированными витринами.
Польшу и поляков я давно любил по прочитанному, по кино, по джазу, наконец, как родину Станислава Лема. В Варшаве нас дважды или трижды водили в экспериментальные театры, которые действительно были очень экстравагантны и необыкновенно интересны.
После недели пребывания в Польше страна и люди оставили какое-то зыбкое впечатление крутой национальной гордости, несмелой попытки выглядеть «шикарно» и смутно ощущаемой неуверенности, закомплексованности…
В Англии я мало сталкивался с посольскими, а в Варшаве, где открытие представительства ВААПа проходило под опекой и с участием дипломатов, впервые видел наш загранаппарат «в упор». Общение с загранкадрами в Варшаве оставило в памяти глубокий след…
Там, например, был Р., известный своими «подвигами» на дипломатической ниве. Женатый на дочери крупного дипломата, четверть века служившего послом СССР в различных странах, Р. «брал от жизни все». Во время его службы в США о нем ходили слухи как о непримиримом борце с зеленым змием: борьба между ними, похоже, велась на полное взаимоуничтожение. Легкие шутки с бросанием пустых бутылок из-под виски из окон на улицу не удовлетворяли энергичного дипломата и не соответствовали его довольно высокому рангу. Видимо, поэтому он во время одного из приемов, спутав окно с дверью балкона, вывалился со страшной высоты. Была зима, и он рухнул сначала на покрытую толстым слоем снега покатую крышу соседнего дома (принадлежавшего, кстати, Русской православной церкви — вот вам вмешательство свыше!) и только потом уже на тротуар, где серьезно повредил шею.
В посольстве злорадствовали — ну, после такого происшествия шея Р. будет сломана не только в буквальном смысле! Не тут-то было. Р. полежал в хорошей американской больничке, походил в специальном корсете и вскоре был назначен с повышением — в Норвегию, кажется… Говорили, что и там он твердо придерживался своих «принципов», за что был… переведен в Варшаву на должность советника и, с учетом значительного опыта зарубежной работы и родственных связей (они, как известно, самые прочные), стал чуть ли не вторым человеком в посольстве. Он активно помогал нам и производил впечатление неглупого человека. Но алкоголизм «скакал впереди него на лихом коне»… Выпив рюмку, он тут же валился под стол, и его выносили в соседнюю комнату «отдохнуть». Через некоторое время он возвращался свежим крепышом и мог выпить уже ведро.
Его жена, худощавая породистая женщина с испитым лицом, старалась не уступать мужу в этих эскападах и кое в чем даже превосходила его. Позже она решила убежать в Англию с каким-то поляком, но вовремя вмешалась польская контрразведка. Обидно было бы послу А., если бы задумка его дочери осуществилась. А. — преданный партии и стране человек, его другая, младшая, дочь — умница необыкновенная, скромница. Что и как происходит в таких (да и не только таких) семьях, почему дети никак не хотят идти «дорогой боевой славы отцов»?
****
Когда я приходил в «Дом», я все чаще убеждался, что между диссидентством, поддерживающим его Западом и 5-м Управлением началось нечто вроде гонок взапуски. Зарубежье, сначала рядившееся в одежды невмешательства во внутренние наши дела, объявило устами г-на Картера о священной борьбе за гражданские права (в основном за рубежом, не у себя в США), диссиденты с восторгом приняли эту уже открытую поддержку, хотя вообще о гражданских правах у нас до сих пор представления в широких народных массах более чем туманные. А уж тогда-то по пальцам можно было пересчитать тех, кто представлял себе перспективы и результаты этой борьбы. Я, конечно, среди них не числился. Из зарубежных радиопередач до меня доносились странно звучавшие имена и фамилии — Рой Медведев, Амальрик, Габай, Богораз. Я был вдали от этого и прилежным дятлом долбил свою «линию работы».
А что, если бы кроме «Доцента» мне пришлось бы серьезно заниматься разработками вольнодумцев?
Во многом сочувствуя им, принимая многое из того, о чем они говорили и писали, я вряд ли мог целиком разделять их взгляды и мировоззрение. Они выступали против государства, в котором жили и гражданами которого являлись. По тогдашним уложениям и законам, инакомыслие, мягко говоря, не поощрялось. Законы эти писались не в КГБ — КГБ как «орудие партии» их исполнял и заставлял исполнять других. А я вместе со своими товарищами защищал это государство — или, по крайней мере, мне это так успокоительно казалось.
Но все эти раздумья — из «тогда». Сейчас-то, окрепнув задним умом, многие отчетливо видят успехи победившей в нашей стране «демократии» и последние сомнения, если они у кого-то и были, исчезают.
«Демократы» наши, отстояв в «смертельном» бою свой Белый дом и ублажив (но еще не до конца, нет!) вашингтонский, не понимают, что их победа — предпоследний, оглушительный аккорд нашего поражения в так называемой «холодной», а совсем точно — в третьей мировой войне.
Холодной эта война была для тех, кто уютно следил за ней по экрану телевизора, попивая чаек, листая утренние газеты и намазывая джем на тепленькие тостики. Горячей горячего была она там, где, поигрывая мускулами друг перед другом, переставляли шахматные фигурки два военных супермонстра.
Горячей она была в Берлине 1948 года, в Корее, в Китае, в забрызганных напалмом джунглях Вьетнама, где в упор расстреливали из пулеметов жителей жалких тростниковых хижин. Она никому не казалась прохладной и в Латинской Америке, где вошел в моду «жилет» — жертве отрубали голову двумя ударами мачете, вырезая ее вместе с шеей из тела и доказывая, видимо, именно таким способом превосходство своей идеологии… От нее, «холодной», несло смертельным жаром на Арабском Востоке: шестидневная война, опустошение Ливана, непримиримое противостояние евреев и арабов, военных, спецслужбистов и террористов, мусульман и иудеев.
Афганистан, который состоялся-таки, как будто не было Вьетнама, как будто не было в руководстве СССР людей, способных спокойно проанализировать историю этой нищей страны…
«Холодная» война дышала обжигающим смертельным маревом в Анголе, гремела взрывами террористов в Ирландии, молниеносной агрессией США она раздавила крошечную Гренаду (весь мир целомудренно отвернулся — ах, какой-то там островок…). Сомали, Эритрея, Нигерия, Чад, Алжир, Египет, да где только любовно обработанное оружие не извергало неумолимую смерть, где только не завывали входящие в пике бомбардировщики, где только не срывались со стартовых площадок ракеты…
Единственное утешение для уцелевших — если они способны утешиться этим — осознанная США и СССР невозможность прямого военного конфликта.
Вот и передвинули мы с американцами третью мировую войну подальше от себя в страны «третьего мира» — сделали из них испытательные площадки для наших вооружений, огромные «песочные ящики» для маневров наших стратегов. С настоящими танками, самолетами и настоящими убитыми. В том числе и своими, правда, но зато не у себя же, не дома!
А совсем-то рядом, в Европе! Восстание в Венгрии, «Пражская весна», по которой мы прошлись танковой гусеницей? А югославская трагедия? Вовсе не «холодной», а совсем «горячей» продолжает эта война быть и сейчас для очень многих. Она полыхает уже вдоль наших границ, кулаками беженцев стучится в наши окна и двери. Это — третья мировая война, и не только по географии и вовлеченности в нее огромного количества людей. Это ведь еще и война экономик, выиграть которую мы не могли никак. Силы были слишком неравны, удивительно, что мы вообще могли продержаться так долго — почти 80 лет. Все-таки страна наша действительно «велика и обильна». Была.
Думаю, нынешнее состояние разгромленной и стремительно разоряемой страны, превращение ее в сплошную «зону бедствия» есть результат долгой, прекрасно спланированной, тонкой работы американских и швейцарских банков и корпораций в союзе с международной экономической элитой. Вот кто на каком-то этапе третьей мировой войны отодвинул легонько мощным плечом военных, дипломатов и спецслужбистов и сказал — ну ладно, ребята, молодцы, хорошо поработали. Теперь вступаем мы.
Поучительно, что, накопив изрядный опыт обращения с побежденными, американцы не трубят на каждом шагу о своей победе. Удивительно, с каким тактом и как плавно нас передали на доедание Международному валютному фонду, банкам, нефтяным корпорациям.
Мы, жители огромной и некогда великой страны, и не понимаем, что являемся гражданами поверженного, разгромленного, оккупируемого государства. Похоже, что процесс осознания этого поражения будет мучительно долгим для тех, кто способен глубоко переживать такие вещи, кто не превратился в манкурта, торчащего из киоска с жевательной резинкой и набором сомнительных ликеров.
Одержав победу в третьей мировой войне и добивая противника экономически, США вовсе не собираются оказывать нам никакой существенной помощи — это было бы просто абсурдно, нелогично.
Наша экономика, донельзя милитаризованная в течение 70 лет, почти разрушена. Политическая обстановка нестабильна и непредсказуема. В этих условиях (не говоря о многих других) никакое государство всерьез не задумается о существенных вложениях в такую страну. О частном капитале и говорить нечего — здравомыслящие бизнесмены, и без того достаточно рискующие ежедневно, не добавят себе забот, инвестируя средства туда, откуда они не только прибыль, но и свои-то собственные деньги вряд ли вернут.
Но окончательно «загнуться» нам не дадут по нескольким причинам.
Ну, самая, может быть, эфемерная: у многих богатых людей и обществ стремление делать добро становится социальным инстинктом. И нечего бубнить, что с филантропов и меценатов, дескать, налогов меньше берут. В Америке действительно много богатых и щедрых людей, и некоторые помогают нам довольно значительными пожертвованиями. Спасибо им большое. Помогают и совершенно простые, далеко не богатые — и этого нельзя не уважать…
Вторая причина — посущественнее. Территории, «освобожденные от большевизма», являются огромным рынком, который не оставляет равнодушным ни одного предпринимателя, ни одно развитое государство. Да, покупателю на этом рынке нечем платить, он нищ. Но можно ведь торговать и в кредит, можно и подождать с долгами…
Третья причина — еще существеннее. Это наши природные богатства, до которых теперь несравненно проще добраться, хотя и не так еще легко, как хотелось бы. Существует также сладкая перспектива сделать из нас огромную свалку для радиоактивных отходов и вообще любой третьесортной продукции, пищевой и промышленной.
И, наконец, четвертая причина, может быть, самая главная, хотя и довольно отдаленная во времени.
В первую очередь США, а вслед за ними и некоторые западные страны через израильско-арабский конфликт, через войну в Ираке все больше и глубже втягиваются в зловещее противостояние «христианский север — мусульманский юг». Мусульманский фундаментализм — религия жесткая, малокомпромиссная, все и вся, что вне ее, — неверные, нечистые, гяуры. Похоже, она постепенно внедряется в сознание огромных масс населения арабского Востока, всплески ее уже видны и в бывших наших, а ныне «суверенных» республиках Азии. Западные футурологи и прогнозисты вряд ли не рассматривают вариант, при котором эта религия, в конце концов, станет солидной базой для тотальной ненависти огромных масс арабских и тюркских народов к США и их европейским союзникам. Сценарий глобального противостояния «Север — Юг» кажется вполне возможным. Вот тут-то слегка подлеченное и подкормленное гигантское пространство бывшего СССР (если у нас к тому времени не хватит ума вновь собраться вместе) и станет бампером между конфликтующими или воюющими сторонами. А лет еще через 300 будем гордиться, что защитили западную цивилизацию от нашествия Новой Золотой Орды. Привычную разруху и нищету наши историки объяснят молодежи как последствия двухсотлетнего гнета, скажем… Ирака?
Смерть, которую мы продолжаем продавать (а чаще — дарить) странам этих районов, вполне возможно, вывалится нам на голову через бомбовые люки самолетов, сработанных на наших же заводах.
Среди наших руководителей пока не видно ни одного — мудрого, спокойного, способного видеть далеко вперед, одухотворенного понятной всем идеей, полного достоинства. Знакомец из Верховного Совета рассказывал мне, что едва на политической арене появляется фигура, способная со временем вырасти до национального масштаба, как ее тут же заталкивают либо в провинцию, либо на «вкусные» загранпосты. Понимают свою серость, оберегают себя от возможных конкурентов…
При некоторой интеллектуализации верхушечных слоев общества, почти незаметной, впрочем, вся страна медленно, неповоротливо сваливается в пучину неграмотности. Не хватает учебников, учителей и школ, не хватает грамотных дикторов на телевидении и радио.
Неумение склонять числительные среди людей, которые просто обязаны знать, как это делается, потрясает. Большинство дикторов голову над такими мелочами не ломают — подумаешь, президенты, и то не утруждают себя…
****
Непрерывной чередой проходят в памяти делегации, совещания, симпозиумы, названия фирм и издательств, фестивали, просмотры и прослушивания, подписания договоров и соглашений и работа, как это называлось тогда, «по контрразведывательному обеспечению»… Вся группа чекистов в ВААПе, насколько помню, работала ровно, без проколов, не было вопросов, которые мы не могли бы решать «с позиций ведомства прикрытия».
Примерно через пару лет моей работы в Протоколе стало ясно, что первичное изучение постоянных партнеров ВААПа и их представителей, регулярно приезжавших в СССР, завершено, держать офицера в протокольном отделе больше не было смысла. Мы несколько раз обсудили это с Ситниковым, он — с Ник. Ником, тот — с Гостевым, дальше уж не знаю, кто с кем это обсуждал «все выше, выше и выше», но было принято решение переместить меня на основную — коммерческую — работу ВААПа, в подразделение, называвшееся тогда «Отдел Западной Европы». В один прекрасный день Артур Похоменков, умница и красавец, опытнейший внешторговец в прошлом, вошел в комнату протокольного отдела и, поздоровавшись, сказал: «Ну пошли, что ли?» Он был начальником западноевропейского отдела.
В отделе работали разные люди, каждый — личность (а многие причисляли себя еще и к личностям творческим), входить в этот коллектив и строить нормальные рабочие отношения было нелегко. Да и мой характер с годами не улучшался — я «усыхал» на работе все больше, становился все жестче и наивно полагал, что неукоснительное следование всем положенным требованиям давало мне моральное право спрашивать это же и с других.
Впрочем, мой скромный пост — заместитель начальника отдела — не требовал от меня невероятных административных усилий — да я и сам не склонен был «лезть в начальники». Во-первых, всем было известно, кто я, и, перегни я палку, виноват был бы не я, а целый КГБ. Во-вторых, я «вкусил от руководящей работы», командуя еще опергруппой в «семерке», и понял, что руководство себе подобными — не мое призвание. Наконец, в отделе было много женщин, и, работая рядом с ними, нельзя было ни на минуту забывать, что одна — приятельница такого-то, другая — жена вон того, а третья — любовница аж вон какого. Словом, нужен был «б-а-а-льшой политес»…
Работы опять прибавилось. Из «Дома» настойчиво требовали «выходов с позиции ведомства прикрытия на творческую интеллигенцию», в Агентстве под рукой всегда была куча контрактов, разъяренные авторы, которым не вовремя выплачивали гонорар, раздраженные начальники с третьего этажа — словом, скучать времени не было, рабочий день пролетал, едва успев начаться. Все чаще и чаще приходилось после ВААПа заскакивать в «Дом» — отдать полученные или подготовленные материалы, «впитать» последние указания, учуять свежие веяния и, наконец, отдохнуть от «штатских».
Еще я с наслаждением вел одну интересную разработочку, которая тащилась за мной еще из Протокола. Смешно вспоминать, как все разворачивалось. В составе делегации крупного американского издательства был К. — стареющий плейбой, спортсмен, любитель выпить и закусить, знаток авторского права. Случилось то, что случается со спецслужбистами довольно редко: мы не просто прониклись симпатиями друг к другу, но и каким-то непонятным образом сразу же поняли, что «хлебаем из одной тарелки». До поры до времени об этом не говорилось ни слова — мы сидели на переговорах, обсуждали сложные авторско-правовые проблемы, я переводил. Обедали, ужинали, перешучивались и пересмеивались — я тогда еще был такой хохотун… Потом поехали куда-то по стране.
И однажды, после хорошего ужина и скромной выпивки, К. расслабленно сказал: «Да, а я-то думал, что визу для въезда в СССР мне не дадут… Как это вы меня впустили — не знаю…»
Внутри меня что-то неслышно щелкнуло, но, продолжая раскуривать трубку, я так же расслабленно спросил: «Это почему же?»
— Ну, старик, во-первых, я долго работал в ЦРУ, во-вторых, я был одним из тех, кто планировал полет Гэри Пауэрса… просто уверен был, что ваши меня не пустят.
— Да подумаешь, — раскурив наконец свою трубку, протянул я. — Когда это было-то? Да и почему ты думаешь, что они знают? (В висках у меня грохотали там-тамы, звенели бубны, визжали флейты.)
— Ну, когда-когда. Это неважно. А уж что знают — это я уверен.
— Ну пустили ведь.
— Да, действительно, просто с ума сойти…
Было еще несколько интересных разговоров, откровенных и душевных даже, во время которых я не педалировал тему ЦРУ, а К. к ней не возвращался. Я не торопил события — был уверен, что «наша любовь — впереди».
К. вернулся в Америку, а я на следующий день неторопливой иноходью прискакал в «Дом», заполнил кучу карточек, необходимых для заведения досье на американца, и вместе с подготовленной заранее справкой пришел к своему непосредственному начальнику Ген. Генычу.
Да, теперь моим начальником был он, а Ник. Нику, любимому нашему дальневосточнику, «Палкин» разрешил немного «подрасти»: он стал заместителем начальника отдела.
Ген. Геныч усмехнулся:
— Ну ты что, Жень, упоил его до невменяемости, что ли? Что это он разоткровенничался?
— Работать с людьми надо уметь, Генадь Генадич. Располагать их, понимаешь, к себе. Уметь, понимаешь, быть нужным, необходимым и где-то даже незаменимым, — загэгэкал я, пародируя «Черного».
— Ну ладно. А что ты с ним делать-то собираешься?
— Да откуда я знаю. Вот поставим его на контроль въезда, «зарядим» агентуру и вообще всех, кто будет ездить в Штаты в это издательство, поизучаем, как он там себя чувствует. В конце концов, выявили мы бывшего сотрудника ЦРУ или не выявили?
— Выявили, выявили. А нельзя из него чего-нибудь еще вытянуть? Из жизнелюбца этого?
— Да нет, Гена, вряд ли. Это у него под влиянием момента вышло. Расслабление какое-то наступило. Разговорились мы про наши разводы, про детей, ну и — я и сам не ожидал… Навряд ли он «потечет» еще раз. Он вообще-то крепкий такой, теннисист.
С помощью наших помощников и сотрудников «д/р», выезжавших в США и Европу, я еще года полтора держал К. в поле зрения. Рассказывали, что он стал появляться на людях в обществе весьма развинченной молодой особы; пил больше обычного, но держался по-прежнему крепко.
Потом узнал, что ему очень хотелось устроиться на работу в одном международном авторско-правовом учреждении в Европе, но он опасался, что СССР, имевший там приличные позиции, наложит вето на его кандидатуру. Опытный разведчик, К. знал, кому из членов делегации ВААПа на конгрессе этой организации рассказать о своих опасениях. На следующий день после возвращения делегации я уже знал о них.
Весна в Москве была такая, каких сейчас уже не случается, город, чистенький, с молодой листвой, которая только начала выглядывать из почек, выглядел и сам моложе. Я пешком прогулялся из Агентства в «Дом».
С Ген. Генычем посидели над тоненьким досье на К. с полчаса, почитали мои справки, сводки «подслушки» с записями наших с К. телефонных разговоров и бесед в гостиницах и ресторанах, еще раз посмеялись над одной из них: там было зафиксировано, помимо разговоров, и то, что мы как-то раз довольно прилично выпили. К. захмелел гораздо больше, чем я (а может, притворялся) и когда я, попрощавшись на ночь, уходил из его номера, он попросил помочь ему раздеться. Я отшутился и отправился к себе.
Перечитав эту сводку, Ген. Геныч с улыбкой спросил: почему я не помог «объекту оперативной заинтересованности»?
— Ну да, еще и раздевай их, — ответил я. — А вдруг он голубой? А если бы я не смог справиться с насильником? — И я кокетливо посмотрел на начальника.
— А вдруг именно интимная близость с врагом и позволила бы получить бесценный материал? — давясь от смеха, спросил Гена. — Да, не умеем мы еще жертвовать собой, не научились, понимаешь ты, полностью отдаваться работе…
Приняли решение и пошли советоваться к Ник. Нику.
— Ну и правильно. Подумаешь, «СССР Возражает Против Назначения Бывшего Цэрэушника»! Тоже мне, заголовок для центральной прессы… Какой страшный удар по ЦРУ! А американцы в ответ уж точно врежут по «живому» пэгэушнику. Сбрасывайте его, ребята, в архив. Пусть лежит там как справочный материал…
Вскоре я нашел возможность сообщить К., что «СССР возражать не будет». Вот и такие встречи среди многих других бывали во время работы в ВААПе.
****
Наступила интересная пора: я занялся контрактами, соглашениями, деловой коммерческой перепиской — вскоре я понял, что не зря корпел над учебниками по авторскому праву, нормативными актами, не зря разбирался и заучивал терминологию, не зря, сидя на переговорах переводчиком, делал для себя пометки и заметки.
Да было у кого и поучиться — в ВААПе работали прекрасные юристы, отличные «переговорщики» и мощные, хотя и малопонятные финансисты.
В Агентстве существовали так называемые «типовые контракты», при заключении которых с иностранным партнером заполняли пустые графы — финансовые условия, сроки выплат, количество бесплатных авторских экземпляров и т. д. Такие контракты «работали» в определенных странах, с авторско-правовыми организациями которых они были согласованы. Но бывали проекты, которые требовали специальных соглашений, написанных исполнителями и утвержденных нашими юристами. Первым моим таким контрактом стало соглашение на издание в финском издательстве «Вейлин и Гёёс» альбома Ильи Глазунова. Этот контракт — предмет моей гордости не только потому, что я «создал» его, но и потому, что это был первый серьезный вааповский контракт на произведение изобразительного искусства и первый на такую большую сумму гонорара.
В тот год должна была открыться выставка Ильи Сергеевича на Кузнецком мосту. Посвященные ожидали ее с особым нетерпением: впервые выставлялась «Мистерия XX века», на которой, как всем теперь известно, среди персонажей, сделавших XX век таким, какой он есть, был изображен и Солженицын. Непосвященные мечтали попасть на открытие выставки известного и любимого многими художника.
Был солнечный, очень теплый день. С несколькими коллегами из «Дома» я стоял напротив входа в Выставочный зал на Кузнецком мосту, мы ожидали открытия. Вдруг как из ведра полил энергичный летний дождик и почти сразу же кончился. Народ снова зашлепал по Кузнецкому, подошла жена, держа туфельки в руках и спокойно шагая в чулках по чистенькому асфальту.
— Ну что вы стоите-то?
— Да вот ждем, когда откроют…
Зря мы ждали — выставку не открыли. Какое-то руководство Союза художников запретило ее именно из-за «Мистерии», а точнее, из-за изображенного там Солженицына. Ну, естественно, пошли разговоры о кознях КГБ и прочая чепуха, и Илья Сергеевич — хваткий делец и опытнейший администратор, сделал из этого события — Событие.
Зашумели зарубежные «голоса» — только вчера они поносили художника за «примитивный славянизм», а теперь грудью встали на защиту его интересов… Илья Сергеевич умело руководил скандалом, кому нужно — давал интервью.
Вилле Репо, один из директоров финского издательства «Вейлин и Гёёс», решил использовать эту ситуацию и на гребне скандала быстро издать альбом произведений Глазунова (не знал еще ни художника, ни русской привычки пренебрегать любыми расписаниями).
А тут оказалось, что в больших друзьях Ильи Сергеевича ходил зампред ВААПа Юрий Федорович Жаров.
Ю. Ф. Жаров устроил в ВААПе переговоры с Вилле Репо и Глазуновым относительно издания альбома (Панкину эта идея, по-моему, не очень нравилась). Я был на этих переговорах уже не как переводчик, а как творец контракта. Все обсудили, все расписали, назначили сроки, обговорили гонорар, и работа пошла. Часть слайдов у Глазунова была, остальные должна была отснять группа из «В. и Г.». В проекте принимала участие и покойная Нина Александровна Глазунова.
Вилле, с которым мы быстро подружились, пригласил в Хельсинки делегацию ВААПа и Илью Сергеевича — «для активизации работы над проектом и ознакомления с типографией».
Наше путешествие началось холодным зимним вечером в вагоне поезда Москва — Хельсинки. Поезд отправляется из Москвы чуть ли не в полночь, и советские пассажиры сразу ложатся спать. То пограничники, то таможенники вяло осматривают вагон, купе, заглядывают под полки, неприятностей пассажирам не доставляют.
Пассажиры-финны (во всяком случае, их значительная часть) «гудят до утра» — вопреки мнению многих, в Финляндии сухого закона нет, но спиртное значительно дороже, чем у нас.
Утром короткий таможенный досмотр и паспортный контроль в Выборге, и скоро за окном поезда поплыли финские пейзажи — скалы, лес, аккуратные разноцветные домики, добротные складские строения, ухоженные дороги с автомобилями и грузовиками марок всего мира, непривычные надписи по-фински и по-шведски. Финский язык — один из сложнейших и самых устойчивых, он не терпит никаких заимствований из других языков — телефон, который, кажется, на всех языках «телефон», в финском — «пухелин». Шведский считался чуть ли не государственным, официальным языком, но больше по традиции. Позже, когда я его выучил, оказалось, что владеют им не многие финны.
Примерно в полдень поезд приходит на Лужайку — пограничную станцию и стоит минут сорок — час. В большом здании размещены таможенники, пограничники, железнодорожники, прилавки с прессой и мелочами, закусочная-ресторан с напитками и прекрасной разнообразной едой.
Уже здесь, на Лужайке, впервые приехавшие в Финляндию сталкиваются с ошеломляющей финской чистотой, добротностью всего изготовленного здесь, порядком везде и во всем. Все официальные лица преисполнены достоинства, энергичны, гладко выбриты и аккуратно причесаны, в отлично подогнанной форме. Никто из них не стоит, прислонившись к стене и слюнявя вечную сигарету. Женщины не собираются в уголке перекинуться новостями часика на два-три, оставив в окошке надпись «ушла на базу»…
Единственная поблажка у конторских финнов — бумажный стаканчик или чашечка отличного крепкого кофе. Финны пьют его в небывалых количествах, борясь, наверное, с зимней дремотой…
В 2 часа поезд приходит в Хельсинки, на красивый, старой постройки вокзал — чистейший, конечно. Там всего вдосталь — и носильщиков, и киосков со всем, что может пригодиться путешественнику, и такси на привокзальной площади. Это самый центр города и отсюда рукой подать куда угодно.
Город небольшой, уютный во всякое время года — и во всякое время года чистый.
На следующий день огромный крайслер — представительская машина «В. и Г.» — забрал нас из гостиницы, и шофер с внешностью и повадками японского борца привез делегацию в Эспо — сказочный живописный пригород Хельсинки.
На просторной стоянке около издательства — столбики с номерами машин сотрудников. Это не только для порядка. Под передним бампером автомобиля устроена электрическая розетка: в мороз она подключается к штекеру на столбике, и нехитрое устройство периодически подогревает масло в двигателе автомобиля в течение рабочего дня. Вечером владелец отключает электроподогрев, и двигатель заводится «с полоборота». Так экономится топливо, сберегаются аккумуляторы, двигатели, которые при холодном запуске изнашиваются куда быстрее, так берегут чистый, свободный от автомобильных выхлопов воздух и снег. В некоторых фирмах и компаниях за эту услугу надо платить скромные деньги, в других это бонус — льгота для сотрудников.
Вся эта техника, массовая и нехитрая, почему-то (это всю жизнь приводило меня в изумление) находится за пределами внимания инженеров, автомобилестроителей одной из самых холодных стран мира — той, в которой мы с вами живем.
По-настоящему пригодный к эксплуатации в зимнее время автомобиль — это появившийся в нашей стране в конце 60-х ФИАТ — «Жигули». И то — Италия ведь известна своими морозами…
После долгих переговоров нас познакомили с типографией — огромный, почти бесшумный зал, пощелкивают гигантские машины, которые печатают, обрезают бумагу, брошюруют и переплетают книги, складывают их в пачки (вес не более восьми килограммов, потому что в производстве заняты женщины, и это предельно допустимый вес, который они могут поднимать). Профсоюз!
Чистота и порядок, нигде ничего не валяется.
В зале восемь-десять человек в комбинезонах или в свободной, удобной одежде не спеша ходят между машинами, попивают из бумажных стаканчиков пепси или кофе. К машинам и столам там и сям прилеплены журнальные фотографии грудастых дам, какие-то записки, карикатуры из газет. На приветствия сопровождавшего нас менеджера рабочие отвечают вежливо и с большим достоинством. Это специалисты высшего класса и зарабатывают они гораздо больше менеджера.
Спустились в издательство. Начальники разных калибров сидят по отдельным кабинетам. Редакторы, корректоры, бухгалтеры — в уютных клетушках-ячейках, на которые разделен целый этаж. Перегородки между ними обиты звукопоглощающей тканью, пишущие машинки не слышны, телефоны звонят шепотом. Разговаривают по телефону так, чтобы не мешать друг другу, то есть тихо, спокойно.
Каждый, особенно женщины, украшает свою ячейку как может — цветы, репродукции, картины, фотографии близких. Мебель, машинки, телефоны, календари, канцелярские принадлежности — лучшего качества. Все удобно и красиво. В углах зала — автоматы с пепси, перколаторы, которые постоянно подогревают чай и кофе.
Чистота — хирургическая. Все красиво, разнообразно и удобно одеты. Все мужчины выбриты, женщины — заботливо причесаны. Все вежливы, сдержанны, внимательны друг к другу. Это — офис.
Обедали в общей столовой: обычно издательские боссы столуются вместе со всеми — это лучший контроль качества пищи…
Десятка два издательств маленькой Финляндии, в которых я побывал, — все такие. В огромном СССР я видел с полсотни издательств — и ничего похожего. Мы ведь живем и работаем совсем не так.
Это потому, что не живем? Потому, что не работаем?..
Еще об издательском деле в нашей стране и одновременно о жизни 5-го Управления.
В наличие этого явления здравомыслящему человеку поверить трудно, почти невозможно. Это — ведьмовщина.
Сколько помню, в доскональнейшем изучении находился то один, то другой «сигнал» из этой параноической серии…
То какой-то кретин разглядел на фотографии Маяковского запонки (!) и заметил, что на них вроде бы изображена свастика. Пошло-поехало: в каком издательстве, в каком журнале, газете, альманахе опубликовано фото? Когда? Кто редактор? Кто выпускающий? Кто фотограф? Была ли ретушь? Казалось бы, да черт вас разбери, ведь это фотография — значит, сделана при жизни поэта, значит, давно. Ну зачем еще и ретушировать? Нет, роют, ищут…
То еще кому-то очертания значка какой-то олимпиады показались похожими на человеческий череп… И опять — где изготовлен, кто художник, почему да отчего…
Свастику отыскивали то в календарях, то еще Бог знает где, сколько же сил, средств, терпения было потрачено на заведомую чепуху!
— Вы что тут, с ума посходили, что ли? Да выгляни ты, Игорь, на улицу из этой башни из слоновой кости! — так я называл новенькое здание Управления — о нем потом. — Двадцатый век на дворе к концу подходит, а ты тут этот… значок разглядываешь!
Игорь улыбнулся улыбкой комиссара Каттани и молча поднял глаза к потолку.
— Вот пойди к нему и попроси выглянуть в окно, на двадцатый век посмотреть. А я в дверях подожду — поймаю тебя, когда ты оттуда вылетишь. Поддержу товарища морально и физически. Ну, пойдем?
Зря свастики искали с лупами, разглядывая фотографии и календари. Достаточно было поднять газеты 20-х годов, и их нашли бы десятки. И на денежных знаках тоже. Тогда придумывали, искали новую оригинальную эмблематику для молодого государства рабочих и крестьян. Свастика — древнеиндийская эмблема плодородия кому-то показалась вполне уместной. Кажется, Кржижановский хватился, что ее уже сделали своей эмблемой итальянские фашисты — опоздали мы. А сходство в направлении мышления поразительное, а? Если б не итальянцы, ходили бы мы под черным пауком, и все считали бы это вполне естественным. Интересно, а что бы тогда придумали немцы — пятиконечную звезду? Серп и молот? Ни наша, ни их сущность от этого не изменилась бы.
До сих пор в Финляндии популярен Маннергейм, у нас известный лишь немногим по «Линии Маннергейма» — это был оборонительный вал, построенный финнами перед «Зимней кампанией», он так и не спас страну от поражения в этой войне.
А Маннергейм был блестящим офицером царской армии. Он служил и в военной разведке — весьма успешно. Рассказывали о некоторых привычках и обычаях, принятых в русской армии и завезенных Маннергеймом в Финляндию.
Например, у русских офицеров считалось неприличным, выпив рюмку водки, тут же соваться в тарелку с закуской и зажевывать выпитое. Вот и финны сейчас, выпив или пригубив рюмку водки, переглядываются, одобрительно кивают друг другу (мол, хорошо пошла…) и только потом, не спеша, принимаются за еду. Этот обычай показался мне изящным и трогательным…
Именем Маннергейма названа самая центральная, самая оживленная улица Хельсинки. Это проспект, выходящий постепенно на общеевропейскую автодорогу А 4, которая, если вы путешествуете автомобилем, выводит через Порво к Выборгу.
На этом проспекте и одна из лучших хельсинкских гостиниц — «Марски», «Маршалок» — так любовно называют финны маршала Маннергейма. Здесь же знаменитый магазин «Стокман», книжный отдел которого, как утверждает американский издательский журнал «Паблишерз уикли» — самый большой в Европе. И действительно, это рай для книжных червей всего света. Книги здесь на многих языках, в том числе и на русском, а русский отдел магазина — великолепен. У всех продавщиц, кассирш, служащих на груди нечто вроде орденской планки, на которой смонтированы маленькие государственные флаги — они обозначают языки, на которых говорит служащий.
В русском отделе магазина я сделал себе подарок — купил очень дорогое (для командированного) карманное издание «Мастера и Маргариты» американского издательства «Ардис». Прекрасная бумага, отличный шрифт. Этот сувенир был мне дорог втройне — одна из любимых книг, память о поездке в Финляндию и напоминание «бдеть». Уж «Ардис»-то всегда был в поле зрения 5-го Управления. Мы внимательно наблюдали за его основателями и, кажется, владельцами Карлом и Элендеей Проффер.
«Ардис» издавал литературу на русском языке и часто неприятную для борцов за чистоту нашей И. Вот мы и искали связи Профферов с ЦРУ, их контакты с советскими писателями, засылали к ним в издательство в составе делегаций людей, которые могли нам что-нибудь о Профферах и издательстве рассказать.
Для совслужащих и для представителей демократической Постсоветии Хельсинки — очень «блатное» место. Одна ночь в поезде — и ты дома, в Москве. Уровень и качество жизни, жилищные условия — сказка. Прямо за «спиной» посольства, что на Техтаан-кату, стоит здоровенный жилой дом с квартирами для сотрудников посольства и торгпредства.
Однажды там был скандал — финские эпидемслужбы опечатали мусоропровод. В Финляндии, как и во многих других странах, мусор можно выбрасывать только в специальных пластиковых мешках, тщательно их завязав. Ну, наши дамы, понятно, мешки приспособили для других каких-то нужд, а то и отправляли в виде подарков на Родину, а мусор упрямо сбрасывали в «живом» виде. Завелись неведомые в Финляндии звери — тараканы. Когда они появились уже и в соседних домах, то понять, откуда они взялись, финским врачам-эпидемиологам было нетрудно. Интересно, чем закончился этот случай — распечатали финны мусоропровод или наши дипломаты по-прежнему собирают мусор в пакеты и по дороге в посольство стыдливо сбрасывают его в мусорные ящики на улице?
Когда я готовился к поездке с Глазуновым в Финляндию, мне было интересно узнать, что, несмотря на постоянный «эпатаж» советской действительности и ее реалий, он никогда не был «объектом заинтересованности» нашего Управления. Он, конечно, упоминался в справках и сообщениях, но и образом жизни, и поведением, и творчеством, и кругом друзей поставил себя вне интересов спецслужб, как западных, так и наших.
Перед поездкой я пошел к нашим «искусствоведам в штатском».
— Ну что, Жень, конечно, он у многих бельмом на глазу сидит. Академики его на дух не берут, по модернистам и абстракционистам он сам на танке ездит, русофильство у нас не монтируется с интернационализмом, а его связи просто с ума сводят тех, у кого таких связей нет. Сейчас ты — не VIP, если у тебя нет портрета кисти Глазунова. Тебя, кстати, ему уже «продали» — из ВААПа… В общем, вот тебе альбомы, репродукции, справки — смотри, читай, делай выводы.
Я долго смотрел, читал, делать выводы не спешил — надо было посмотреть на живого человека.
Илья Сергеевич — прекрасный товарищ в общежитии и в путешествии. Всегда бодрый, энергичный, полный идей и знающий, как эти идеи воплотить в жизнь. Он любит и умеет пошутить, порой раздражителен, но ненадолго, заботлив и внимателен к окружающим. Не по-советски щедр: за многие мои путешествия с представителями нашей творческой среды я впервые видел, как он давал приемы и обеды издателям и финским друзьям.
— Конечно, — скажут многие, — с такими-то деньгами…
Денег глазуновских я не считал, как и ничьих других, но вот людей, вполне обеспеченных, за границей наблюдал немало — не помню, чтобы советский писатель или художник давал за рубежом хоть полдник кому-нибудь.
Творчество Глазунова? Одним оно нравится — многотысячные очереди на его выставки говорят сами за себя. Другим — нет.
Ну хорошо, скажете вы, все эти издательства, художники, а где же перестрелки, погони, прыжки в ночную тьму из вагона экспресса? Что же, чекисты за границу ездят баклуши бить? Как и многие штатские?
Да нет, не сказал бы. Во-первых, я полностью выполнил все, что полагалось по линии ВААПа, и не сделал при этом никаких ошибок. Во-вторых, установил немало интересных контактов с финскими издателями, которые очень пригодились в будущем.
В-третьих (или во-первых?), в одной из хельсинкских гостиниц встретился с человеком, который приехал на эту встречу очень издалека. Встречаться в его стране было «не очень удобно» для нас обоих. Мы посидели в уютном холле, ни от кого не прячась, да и прятаться было не от кого — в выбранный нами час в гостинице было пусто… Мы хорошо поговорили и пришли к некоему соглашению, приятному обеим сторонам. Вот и все, что касается перестрелок и погонь.
Как и все малочисленные народы, финны патриотичны, но патриотичны как-то особенно основательно, прочно. Любить Финляндию нетрудно — гранит, леса, чистейшие реки, озера, уютные города, привычный для северноевропейцев климат и повсеместная ухоженность — по всей стране, кажется, можно пройти босиком, не поранив ног.
Все, или почти все, что производится в стране, — высшего или лучшего качества. Большинство импортируемого ширпотреба — ниже по цене, чем производимое в Финляндии. Преференции — своим производителям. Финские бизнесмены в течение долгих лет испытывали ряд негативных воздействий со всех сторон. «Большой брат» — Россия («Веняя» по-фински) — давил через самое необходимое — нефть, бензин, топливо. Давил и через правительства, сменявшие друг друга, но постепенно выработавшие спокойные, достойные отношения с «Веняей».
Западу советско-финские отношения не нравились, и поэтому он, Запад (и особенно американцы), внимательно следил за тем, чтобы не пускать финнов с их товарами на свои рынки.
В Европе финнов за дружбу с нами тоже не жаловали, да и в «Нурд Калотен», Северном союзе, отношения между пятью северноевропейскими странами — дело тонкое и посторонним малопонятное. Видимо, финский тип бизнесмена выработался именно в этих непростых условиях.
Вот и варились они в своем соку, отлаживали хозяйство, придумывали новые продукты, новые технологии, благоустраивали страну. Я поразился, узнав, что крошечная Финляндия обладает самой разветвленной системой авиасообщений.
— Да куда там лететь-то?
Ничего, финны находят, куда. На каждом финском аэродроме чуть ли ни все типы самолетов — от огромных «Джамбо» до крошечных авиатакси на двух-трех пассажиров. Аэродромы и аэропорты поражают совсем уже по нашим меркам ненормальной чистотой — курить на всей их территории запрещено.
В любой области финны проявляют постоянную и привычную изобретательность. Может быть, это не «свершения века», но вещи нужные и полезные, Например, в одном из старейших издательств, в «Отава», придумали принципиально новый способ переплетать книги. Этот способ, названный «Ота-байнд», позволяет раскрытой книге лежать плоско, страницы не «гуляют», их не нужно придерживать рукой. Придумано это для работы с книгой и компьютером: книга лежит слева, а обе руки оператора — на клавишах. Он отвлекается только для того, чтобы перевернуть страницу. Впрочем, наверное, уже придумано устройство и для этого.
****
В тот год, как из рога изобилия, в «Доме» посыпались ЧП различного рода. Своим чередом продолжались побеги разведчиков, к которым все как-то уже привыкли, но эти происшествия озадачивали всех и в первую очередь, конечно, начальство.
Сдержанного, суховатого контрразведчика В. во время семейной ссоры жена дважды ударила ножом (!). В. еле выжил, но семейная жизнь продолжалась, он не предъявил жене никаких претензий…
Миша Б., элегантный питерец, разведчик, офицер «д/р», во время показа моделей в одном из модных домов открыл беглый огонь из табельного оружия по манекенщице, своей, как позже выяснилось, приятельнице, дважды ранил ее, слава Богу, не убил. Ревность?
Г., контрразведчик, давно считавшийся среди коллег странным, приписывали это «итальянскому менталитету» — Г. отлично владел итальянским, — «порадовал» товарищей по работе совсем уж потрясающей новостью. Одна из его молодых подруг (он был холостяком) почему-то знавшая, что Г. — сотрудник КГБ, написала на него жалобу Председателю: там были описаны не совсем обычные интимные привычки Г. Например, то ли он просил, чтобы в самые интимные моменты подруга лупила его хлыстом, то ли он ее лупил — не помню толком. Начальство было, конечно, шокировано незаурядными запросами Г., и его уволили. На эту тему было немало шуток, особенно насчет начальства, не понимающего запросы современной оперативной молодежи.
Американцы, раньше всех раскусившие сущность ВААПа, его сильные и слабые стороны, были, как всегда, нашим «главным противником». О приезде делегаций американских издательств и авторско-правовых организаций старались узнать заранее, тщательно готовились к работе с ними, окружали агентурой и доверенными лицами, подслушивали, подсматривали. В первые годы работы Агентства удалось действительно многое — и ВААП, и КГБ хорошо представляли себе «устремления противника» на этом канале культурных обменов, знали людей, издательства.
А американцы (да и не только они), внимательно изучив ВААП, двинулись дальше. Агентство, думается мне сейчас, служило для них трамплином для выходов на творческую интеллигенцию. Болтовня о том, что ВААП, дескать, — барьер между иностранными издателями и советскими авторами лишена какого-либо основания: было широко известно — и всячески подчеркивалось, что любой советский автор имеет полное право вести любые переговоры с любым зарубежным издателем вплоть до заключения договора. Декларировалось, что договор можно заключить только при посредстве ВААПа исключительно с целью определения налога и регистрации сделки — с тем чтобы другое западное издательство в той же самой стране не издало то же самое произведение. И это было правдой, но правдой неполной. Для того КГБ и держал в Агентстве пять-семь сотрудников, чтобы присмотр за потоком экспортных и импортных рукописей был повседневным, постоянным и квалифицированным. Разумеется, Агентство и само бы справилось с этим, но ведь речь могла идти и о нелегальных каналах, и тут требовались наши навыки, знания, умения.
Вот, например, показательный случай сотрудничества ВААПа и КГБ по одному из таких «нелегальных» контрактов.
Агент, работавший в соседнем Управлении ВААПа, принес мне ежегодный каталог итальянского издательства «Мондадори», где объявлялось о скорой публикации романа популярного советского писателя И. У нас этот роман печатался с большими сокращениями и считался чуть ли не запрещенным. И. достаточно популярен в нашей стране и по сей день, было время, я и сам зачитывался его произведениями, хотя редко возвращался к ним: обычно я регулярно перечитываю то, что мне нравится. Я потащился к Ген. Генычу, рассказал ему о «сигнале»:
— Знаешь, Гена, тут может интересный расклад получиться. Допустим, итальянцы собираются издавать этот роман, не приобретая прав. Случай маловероятный, но возможный. Мы ведем расследование с позиций ВААПа, заставляем их подписать договор и расплатиться с автором. Ура, в этом случае мы отстояли интересы популярного писателя, защитили его права. Другой вариант — И. без ВААПа договорился с итальянцами, подписал договор и помалкивает себе. Мы добываем копию договора, И. уплачивает налог, история становится гласной в Союзе писателей: во-первых, И. будет неудобно перед собратьями по перу, во-вторых, собратья сообразят, что присмотр за ними есть, и лишний раз подумают, заключать ли договоры, минуя ВААП.
В тот же день я позвонил И., изложил суть дела, спросил, не подписывал ли он контракт с итальянцами, и выразил готовность броситься в бой за справедливость.
И. очень правдоподобно возмутился, сказал, что нет, ничего он с «Мондадори» не подписывал, попросил защиты у родного ВААПа и пожелал мне удачи в моих борениях. Разговор получился мягкий, приятный — я гордился умением разговаривать по телефону вообще и с представителями нашей творческой интеллигенции — в частности.
Отправил телекс в Италию. Через довольно долгое время пришел ответ, что зря мы волнуемся — права на издание романа И. «Мондадори» приобрело у американского издательства (название не помню). Я снова позвонил И. Об американском издательстве, которое я ему назвал, И. знать не знал, ведать не ведал и звучал настолько естественно, что мое вжатое в трубку ухо не уловило никаких фальшивых оттенков. Я опять заверил И., что ВААП его в обиду не даст, писатель опять пожелал мне удачи и даже проявил какую-то заинтересованность в получении положенных ему гонораров.
Я сочинил еще один телекс — в США. Ответа на него не было, я повторил запрос. Опять молчанье — оно показалось мне подозрительным.
В то время я собирался в составе очень представительной делегации ВААПа ехать в Америку. Посоветовавшись в Договорно-правовом управлении Агентства со знающими людьми, я запасся телефоном и адресом американского адвоката, услугами которого пользовался в то время ВААП, и, приехав в Нью-Йорк, связался с ним. Вскоре приехал молодой красавец в консервативном костюме и ботинках, которые у нас почему-то называют «инспекторы»; мы поговорили с полчаса. Я передал ему ксерокопии своей переписки с «Мондадори» и американским издательством, упрямо мне не отвечавшим.
Через пару недель после возвращения в Москву я получил от адвоката объемистый пакет с любезным письмом и ксерокопиями документов: договор американского издательства, которое приобрело права на издание романа И. у американского же издательства «Ардис» (да-да, то самое…) и договор И. с издательством «Ардис» на издание того же романа. Видимо, купив у И. права на довольно объемистый роман, «Ардис» по каким-то причинам не смог его издать и переуступил права другому американскому издательству, которое, в свою очередь, продало их итальянцам. Финансовые условия во всех ксерокопиях были вымараны — коммерческая тайна. Интересно, с какой же суммы И. должен был платить налог?
С «Ардис» ВААП не поддерживал отношений, и переписку завязывать не имело смысла. Со стороны «Ардис» контракт был подписан покойным Карлом Проффером, я решил уточнить хотя бы приблизительно, когда и где это могло быть сделано.
Позвонил нашим «искусствоведам в штатском», попросил отобрать материалы пребывания Проффера в СССР на одной-двух наших книжных ярмарках. Изучил несколько томов: полтома телефонных разговоров — ноль информации, полтома подслушки — тот же результат, агентура, доверенные лица — все по нулям, наружка — проверяется профессионально, несколько раз уходил из-под слежки.
Да, вполне могло получиться.
Но все это уже не имело значения — с копией контракта, подписанного И., в руках можно было ничем более не интересоваться.
Прелесть этого расследования состояла в том, что, почти целиком проведенное с позиций ВААПа, оно было полностью законным и пригодным для любых юридических действий.
После долгих согласований решено было направить письмо от имени ВААПа в писательскую организацию для моральных порицаний со стороны коллег. Коллеги, понятно, чихать хотели на вааповские письма, никто и пальцем И. не тронул.
Это расследование длилось около года. Оно не занимало меня целиком, но было довольно интересным. Сейчас роман И. опубликован и у нас в СНГ — и ничего не произошло. Прежние гражданские войны не утихли, новые не разгорелись, вообще в романе политических моментов — кот наплакал. Публикация его на Западе тоже не привнесла бы в тамошнюю литературную жизнь никаких волнений. Роман забавный — и не более того.
Тем не менее, это был один из немногих «нелегальных» контрактов, который удалось спокойно и профессионально «отследить» — отвратительное слово, появившееся в российском новоязе в те времена.
Западные издательства, особенно американские, таких случаев не упускали — они обретали недорогих, но хороших авторов и одновременно гордились небольшим, но своим вкладом в дело борьбы с мировым коммунизмом, а позже — за права человека. Не у себя в Штатах, а у нас в СССР.
****
Вернемся к тому, что случилось с разведчиком-германистом Георгием Захаровичем С. Придя на работу в КГБ совсем мальчишкой, как и я, он еще успел погоняться за бандеровцами и только потом попал в разведку, закончил разведшколу, отшлифовал немецкий язык и провел в разных немецкоговорящих странах около 17-ти лет…
В одной из них он довольно долго работал под руководством Василия Романовича Ситникова, и я узнал о своем начальнике, в котором души не чаял, «много интересного». Георгий рассказал мне об этом, чтобы предостеречь от слепого доверия к шефу и несколько остудить мой восторженный пыл.
Итак, мой друг ожидал назначения в Швейцарию. В это время откуда-то вернулся его довольно близкий приятель по работе в разведке. Георгий, конечно, не знал, что он что-то натворил за рубежом и прочно сидел «под колпаком». Но тот чувствовал нечто, и в одном из телефонных разговоров стал жаловаться Георгию на начальство, причем на самое высокое — на Крючкова и Чебрикова.
Георгий, как и большинство кадровых разведчиков, к Крючкову относился пренебрежительно: «канцелярист», «канцелярская скрепка» — были самые безобидные эпитеты, которыми разведка награждала своего руководителя. А в разговорах с приятелем Георгий «развязал» язык совсем. Записи этих телефонных разговоров легли на столы тех, кого товарищи обсуждали. Боги обиделись: крючковы, чебриковы очень обидчивы. Они всю жизнь были уверены, что заслуживают полного и безусловного уважения просто за то, что занимают свои кресла.
Друг Георгия проходил к тому времени по нехорошим делам, связанным с финансовыми злоупотреблениями, Георгию же светило «поведение, недостойное (или порочащее) высокого звания офицера-чекиста».
Его начальство пыталось смягчить кару, но без успеха. Я так и не выпытал у Георгия, в каких же выражениях собеседники высказывались относительно наших «отцов», но уверен, что за их языки им было воздано сполна.
Единственное, что удалось сослуживцам Георгия во время долгого служебного расследования, — это задержать его увольнение до того, как вышел срок для получения пенсии.
Поздней ночью Георгий Захарович, бывший боевой офицер, бывший сотрудник разведки, сидел на кухне своей убогой квартирки. На столе стояла бутылка водки, стакан, лежала пачка сигарет, хотя он много лет не курил. Здоровенный белобрысый мужчина молча плакал от сознания своей беспомощности, беззащитности, унижения. А может быть, и от злобы на самого себя: даже находясь на Родине, разведчик должен не забывать об умении разговаривать по телефону — пусть и с друзьями.
Юрий Федорович Жаров, с которым Георгий был знаком по работе в ГДР, помог ему устроиться на скромную должность в одном из вспомогательных управлений ВААПа — там Георгий сразу же стал всеобщим любимцем. Мы часто проводили обеденное время вместе.
Георгия ждало еще одно горе — через некоторое время умерла его жена, которую он любил так, как сейчас уж и не любят. Она была не просто «спутницей жизни» — она была женой офицера разведки, его помощницей, политическим единомышленником.
Кроме Юрия Федоровича я встретил на поминках блестящих дипломатов, известных в своих кругах чекистов — хорошие друзья были у Георгия, влиятельные, но сделать для него они могли очень немногое.
****
1974 год ознаменовался для меня знакомством с новой для меня страной — Грецией и началом долгого, утомительного конфликта с Ситниковым.
В Москву приехал один из греческих партнеров «Международной книги» издатель Янис Янникос. С «Межкнигой» Янникос работал довольно давно и так же давно числился ее должником. Я узнал об этом, когда наводил справки о нем и вообще о бизнесе с греками — мне никогда не приходилось раньше встречаться с ними. По рассказам сотрудников «Межкниги», слава о греческих бизнесменах ходила неважная: неаккуратны, долги платить не любят — и вообще не любят платить.
Накануне визита Янникоса мы с Василием Романовичем сидели в его кабинете и обсуждали то, что мне удалось узнать.
В кабинет сначала заглянула Люда Смирнова — одна из лучших сотрудниц Агентства, а потом ввела к нам Янникоса и его очаровательную жену Евтихию.
С Янникосом все было ясно с первого взгляда — это был слегка пообтесавшийся энергичный проходимец.
То принимая картинные позы и подбочениваясь наподобие Муссолини, то раболепно заглядывая Василию Романовичу в глаза, Янникос поведал о своих планах. Он уже несколько раз брался без успеха за довольно большие проекты — то за «Детскую энциклопедию», то за отдельные издания, а теперь был обуреваем грандиозной идеей — издать в Греции ни много ни мало — Большую Советскую Энциклопедию.
Янис надувал щеки, разливался соловьем, Володя Чернышов из отдела переводов переводил, я корябал с пятого на десятое запись беседы в своем блокноте, Евтихия скромно улыбалась, Людмила с интересом следила за всем происходившим, Ситников слушал Янникоса, опустив глаза долу. Он оживился, только когда Янникос сказал, что для осуществления плана у него средств не хватит, но он знает одного возможного партнера — вполне состоятельного бизнесмена.
Поговорили и разошлись — Янникос, пригласив Ситникова в Грецию, вместе с Евтихией в сопровождении Люды отправился в Шереметьево, я остался в кабинете шефа.
— Ну что, Василий Романович, жулик ведь?
Ситников засмеялся.
— Конечно, жулик. Но жулик энергичный, целеустремленный, и, видимо, очень жадный. Да и связи у него есть, кажется. Давай посмотрим, что у него будет получаться, а ты пока обзаведись-ка, Женя, контактами в «Советской энциклопедии» — может, пригодится.
Я занялся контактами с издательством «Советская энциклопедия», а Ситников, Артур Похоменков и Людмила поехали в Грецию посмотреть на Янникоса «в действии» и ознакомиться с его возможностями.
Судя по их отзывам, поездка была интересной, Янникос свел Ситникова с рядом крупных издателей и бизнесменов и хорошо подготовил эти встречи. Василий Романович ценил гостеприимство, любил застолье и умел становиться центром внимания. Оратор он был незаурядный, хотя и напоминал иногда Остапа Бендера в кругу «единомышленников» из Старгорода. И Василий Романович, и Артур, и Людмила с восторгом рассказывали о Греции и о греках. Я слушал без особого интереса, Греция казалась мне дальней окраиной цивилизации, Янникос — безнадежным жуликом.
С ним завязалась переписка — заваливал нас проектами то по строительству в Афинах чего-то вроде Дома советской культуры, то по изданию разнообразных многотомников (все, естественно, за счет советской стороны). Мы с Василием Романовичем почитывали мои переводы всей этой писанины: я пренебрежительно кривился, Ситников задумчиво пошевеливал бровями. Наконец Янникос сообщил, что нашел «железного» партнера для работы над БСЭ и собирается приехать с ним в Москву. Не знаю, каким образом, но «Дед» сразу же учуял реальный «задел» и засуетился.
Он был очень тонким оперативником, наш Василий Романович, а отсутствие приличного образования умело прятал за огромным жизненным опытом, начитанностью, умением общаться и работать с людьми, использовать их в интересах службы и своих собственных.
Мы, его сотрудники, и по молодости, и по нехватке опыта, не учитывали некоторых аспектов жизни и работы своего шефа. А «дяде Васе» приходилось нелегко: с «Палкиным» на ножах, он не мог каждый день жаловаться или искать заступничества у Бобкова. Руководство отдела и отделения тоже быстро разочаровалось в нем: в 5-м Управлении ценили «конкретные результаты», вербовки, мероприятия, о которых можно было с треском доложить «наверх», а Ситников от всего этого был далек. Ведь простая вербовка требовала массы бумажной работы, проверочных акций, оперативной беготни… Конечно, «Дед», привыкший к вольготным руководящим должностям, давно забыл, как все это делается, поэтому смешно было требовать этого от него.
А нас он просить о помощи решался редко — видел, что мы загружены повседневной «черной» работой. Кроме того — это мы чувствовали всегда, — он до конца своих дней оставался разведчиком, а мы все-таки были для него представителями «политического сыска».
Он безумно любил внука, тяжело переживал какие-то нелады в семье дочери. Да и годы подпирали — ему уже переваливало за шестьдесят, здоровье было неважное, и он не очень умел его беречь.
Будучи ревнивым к успехам других (постепенно ему перестали о них рассказывать), «Дед», в конце концов, просто оказался в изоляции и от нас, своих подчиненных, и от сотрудников разведки, работавших в ВААПе. К нему перестали обращаться за помощью даже в тех случаях, когда было необходимо использовать его власть зампреда в оперативных интересах, — предпочитали идти напрямую либо к Панкину, либо к другим «вождям». К тому времени почти все мы уже освоились в Агентстве и были там на неплохом счету и у руководства, и у рядовых сотрудников. За редким исключением, все мы были при деле, не «сачковали», и отношение к нам было вполне лояльное.
К «Деду» тоже относились неплохо, да и сам он умел устанавливать, углублять и укреплять нужные связи, а поскольку он обладал реальной властью в Агентстве, это было не так уж и трудно. Творческие люди, даже зная о принадлежности его к КГБ, все равно захаживали к нему, всегда получая необходимую поддержку и пользуясь его влиянием в ВААПе.
Он изо всех сил боролся за то, чтобы оставаться в Агентстве как можно дольше, — не хотел уходить на пенсию, да и заработок его значил для семьи немало. Как и Георгий Захарович, «Дед» принадлежал к тем разведчикам, которые не больно разжились на зарубежных хлебах: не было у него ни роскошной квартиры, ни дачи, ни машины.
Наверное, он до конца дней своих оставался крепким коммунистом, убежденным ленинцем, что не мешало ему видеть и понимать все, что нас окружало. Он жадно читал вместе с нами самиздат, преклонялся перед Солженицыным и Сахаровым.
— Я-то не доживу, а ты еще застанешь, Женя, — напечатают у нас Александра Исаевича полностью, а не только «Иван Денисыча»…
Я не верил. Ведь до августа 1991 года было еще так далеко.
К концу службы с ним произошло то, что нередко происходило с чекистами-профессионалами: он стал любить не разведку, а себя в разведке…
ВААП взрослел, менялся, его зарубежные партнеры уже не сравнивали Агентство с «беби», выползающим из-под стола. Менялись и люди, кто-то уходил, разочаровавшись и не найдя себе места в этой новой энергичной структуре, кто-то двигался вверх по служебной лестнице. «Подрастали» и прежние рядовые сотрудники-подвижники Агентства, работавшие там с первого дня. Евгений Шараевский, Саша Протасеня, Василий Погуляев — все «с языками», все продолжали учиться и учить других, все понемногу начинали руководить небольшими вааповскими подразделениями, однако двигались вверх медленно: они могли предложить очень немного — знания, навыки, умение трудиться. А в ВААПе, как и во всей стране, все это не могло не раздражать тех, кто обладал совсем другими, «более ценными», качествами: связями (желательно родственными), умением находиться вблизи начальства и использовать эту близость, глубоко зная, что начальство любит и чего на дух не берет…
Чекисты, работавшие в ВААПе, пытались осторожно, конечно, помогать тем, кто помогал нам, но это было почти невозможно, более того, могло пойти во вред. Я очень скоро понял, что, просто хорошо высказываясь о ком-то, положительно оценивая чьи-то деловые качества, возбуждал у собеседника подозрение относительно субъекта разговора — а не своего ли агента он нахваливает?
Вдруг с грохотом «погорел» Жаров. До сих пор никто — кроме тех, кто участвовал в его падении, — так и не знает, как это произошло. Анализируя случившееся в нашей компании, мы пришли к выводу, что Жаров где-то «налетел на подслушку». Иначе нельзя было объяснить быстроту, с которой его сняли с работы — случай в номенклатуре нечастый. Он ходил «по верхам», пытаясь защититься, что-то кому-то доказать, но обвинения были, по-видимому, слишком тяжелы. В «Доме» тоже молчали, но не потому, что знали что-нибудь. Видимо, этот скандал шел исключительно по партийной линии, КГБ мог просто выложить кому-то на стол сводку или справку «о высказываниях».
Жалко было Юрия Федоровича, хотя, как мы знали, он недолюбливал КГБ. Впрочем, поработав недолго на скромной должности в «Союзкниге» и наведя там порядок, он сумел вернуться-таки в родной МИД — работать он умел.
На третьем этаже его падение с номенклатурных высот почти все встретили со злорадством. Жаров давно раздражал многих своей самостоятельностью, крутым нравом, знанием дипломатической работы, обширными связями за рубежом и частыми поездками по всему миру.
Не зря заволновался «Дед»: Янникос привез в Москву действительно интересного человека. Георгос Боболас, плотный, уверенный в себе красавец лет под 50, просто излучал энергию: в его присутствии, казалось, шли быстрее часы, барометры показывали повышенное давление, градусники — несусветную температуру. Хватка чувствовалась железная.
Георгос коротко рассказал о себе — инженер-строитель, владелец строительной фирмы. Флот из пяти-шести кораблей. Несколько контор. Вместе с братом занимаются и обувью — продают ее в ФРГ… Связаны прочно и давно со многими другими дельцами, хорошие связи в правительстве, в прессе.
А при чем же здесь БСЭ?
Оказывается, в Греции стало традицией для любой читающей семьи иметь энциклопедию. В то время в стране осуществлялось несколько «энциклопедических» проектов — итальянский, французский и какие-то еще. По разным причинам, главным образом финансовым, эти проекты то ли приостанавливались, то ли свертывались. Возникла «ниша», куда и планировал въехать Янникос на деньгах Георгоса.
Боболас рассказал, что в числе его ближайших друзей Александр Филиппопулос — один из ведущих греческих журналистов, при благоприятном повороте событий он обещал стать главным редактором БСЭ на греческом языке.
Первые прикидки были сделаны, и результаты выглядели неплохо. Пригласили группу сотрудников из «Советской энциклопедии» — те уже приготовили свои соображения.
У них был опыт экспортной работы: много лет назад американское издательство «Макмиллан» приобрело права на издание БСЭ в Штатах небольшим — не более 5 тысяч — тиражом. Особенно американцы почему-то хвалились какой-то необыкновенной, прочной, чуть ли не вечной обложкой. Но энциклопедию они выпускали без словников — то есть перевод с русского шел без алфавитной последовательности английской азбуки. Поэтому к каждым трем-четырем томам прилагался специальный справочник, по которому нужно было искать требуемое слово. Отказались американцы и от иллюстраций. Это было, конечно, издание для узкого круга специалистов.
Георгосу американский вариант не понравился.
— Если приниматься за этот проект, то надо ставить целью самое высокое качество, отличные, в том числе цветные иллюстрации, греческие добавления, прекрасную бумагу, шрифты, передовую технику. А реклама? В начальной стадии проекта это будет одна из самых дорогостоящих статей бюджета…
Однако дорогостоящими оказались решительно все статьи.
Все без конца что-то подсчитывали, а подсчитав, хмурили лбы. Мы прикидывали, чем советская сторона — кроме уступки права на издание — может помочь грекам. Не то что денег на рекламу, а вообще никаких денег у ВААПа, конечно, на такие цели не было.
****
С изданием глазуновского альбома дела шли ни шатко, ни валко. Задержки создавал Илья Сергеевич, и задержки эти были весьма обоснованны: его не устраивали цвета или полутона на слайдах, изготовленных финнами. Намерения Вилле Репо молниеносно издать альбом провалились. Требования Глазунова к качеству будущего альбома явно превышали возможности «В и Г» — в том числе даже и полиграфические. Я в этом смыслил тогда еще немного, и позиция Глазунова казалась мне слишком придирчивой.
А тут еще в «Доме» вдруг стали интересоваться настроениями и высказываниями Глазунова, сочтя меня, как его литературного агента, чуть ли ни его конфидентом. Мне стоило довольно большого труда разъяснить коллегам, что если даже Илья Сергеевич готовит монархический переворот, то, прекрасно зная, кто я такой, он вряд ли со мной поделится своими планами. Особенно их интересовала история создания «Мистерии», на которой, как уже упоминалось, был изображен «преступник № 1» — Солженицын.
Я дал коллегам «квалифицированный» совет. Ведь картина писалась в ФРГ — вот пусть резидентура и покопается там: как и кто помогал, кто воодушевлял, кто консультировал. Сейчас все это кажется дикой чепухой — страна медленно сползала в пропасть, а мы серьезно беспокоились, что какая-то картина написана вот этак, а не так.
В те годы пьянка по всей стране приобретала какие-то несусветные масштабы. Ходили глухие слухи о частых авариях и крушениях на почве «великого пития». Понаблюдав как-то гульбище пограничников в Парке культуры (надо же придумать такое — парк «культуры и отдыха…»), я полностью уверился в том, что в такой грандиозный праздник на Красную площадь мог спокойно опуститься не только какой-то жалкий Руст на крошечном самолетике — наши «погранцы», казалось, прогуляли бы и пропустили все американские ВВС, захоти они принять участие в торжествах.
Случай с Рустом поверг «Дом» в состояние ужаса, чередовавшегося с истерическим смехом. Несмотря на чудовищность происшедшего, появилась масса анекдотов, шуток, карикатур: Красную площадь предлагали переименовать в «Шереметьево-3», придумали для нее новый дорожный знак — «Посадка запрещена». На одной из карикатур был изображен крошечный самолетик, приземлявшийся на огромной, расшитой золотом зеленой пограничной генеральской фуражке…
****
Через полгода в Москву приехали Боболас и его готовая к работе команда: Константин Ронтирис, его юридический советник, Алекс Филлипопулос — будущий главный редактор греческого издания БСЭ, и Мария Бейку, сотрудница «Бобтрейд», которая почти 30 лет жила в СССР как политэмигрант, училась во ВГИКе, дружила с Василием Шукшиным, Тарковскими, Зиновием Гердтом, потом работала диктором в греческой редакции Гостелерадио, а потом от всех наших прелестей все-таки уехала в родную Грецию. Энергичная, деятельная, она была на только переводчиком, но и чем-то вроде связующего звена между греческой и советской сторонами проекта.
Пора бы мне уже было призадуматься и о том, как, например, к изданию БСЭ в Греции отнесутся ее «реакционные круги»? Пресса? Конкуренты-издатели? Наконец, Янникос, с которым у Боболаса намечался явный разрыв?
Янникос выглядел неважно.
Помимо его подозрительной внешности и нелюбви к уплате долгов удалось узнать о нем вот что.
Он выработал стратегию, по которой удавалось привлечь к осуществлению каких-то планов достаточно богатых и опытных дельцов. Вклады Янникоса в уставные капиталы создаваемых акционерных обществ или товариществ были, естественно, символическими — он был беден, с трудом кормил большую семью, за него платили компаньоны. Но в фискальных органах, где регистрировались эти общества, Янникос выглядел как равноправный партнер.
На каком-то этапе либо он сам затевал скандал, требуя «свою долю», либо компаньоны стремились избавиться от него и выплачивали «отступные», лишь бы не иметь с ним больше ничего общего.
Конечно, это была информация, не подкрепленная документами, «приватная», но вскоре пришлось убедиться в ее достоверности. «Акадимос», созданный Боболасом на его деньги, формально был акционерным обществом, и Янникосу, как акционеру, надлежало внести довольно существенную сумму, которой у него не было. Эти деньги внес Боболас. Он же выплачивал Янникосу жалованье, подъемные, командировочные, оплачивал и прочие расходы. Личные отношения между ними портились, начинались серьезные трения.
Обе стороны наняли адвокатов, и ссора пошла уже по накатанной в Греции колее — как я узнал позже, греки любят судиться и с большим вкусом занимаются этим.
А ведь как красиво все выглядело столь недавно! Подписание договора в кабинете Панкина, где Боболас и Янникос сидели рядышком и сладко улыбались друг другу… Панкин, который с самого начала понимал значение и масштабы этого проекта и ценил проделанную нами работу… Василий Романович, лучившийся удовольствием от телекамер в кабинете Панкина, запечатлевавших подписание договора, Мария, переводившая переговоры, Люда Смирнова и я, привычно подставлявший фото и телекамерам уже проглядывавшую лысину, — в отличие от «Деда» я гласности не любил. Алекс Филиппопулос, всегда сдержанный, немногословный, с мягкой улыбкой на устах — дипломат и умница. (Несколько позже, в Афинах, я слышал, как он кричал на провинившегося сотрудника, — на улице останавливались автомобили, и водители выходили из них, глядя на раскрытые окна офиса, думали, кого-то убивают.)
Наконец Янникос выпросил свой «кусок» и был выброшен из «Акадимоса». Нам показалось, что конфликт исчерпан — никто из нас не имел представления о греческих реалиях подобного сорта.
Последовал еще один вояж Боболаса, Ронтириса, Филиппопулоса и Марии Бейку, во время которого мы всей командой ездили с ответственными визитами.
Один из них — к Борису Ивановичу Стукалину, тогдашнему Председателю Госкомиздата.
Как упоминалось выше, Госкомиздат и ВААП в силу ряда причин противостояли друг другу. Чиновники ревниво наблюдали за развитием событий: ВААП, как это не раз уже бывало, выступал инициатором, готовил какие-то бумажки, подписывал договоры, торчал на экране телевизора, а Госкомиздат в лице «своих» издательств тащил работу, печатал, искал бумагу — в общем, практически воплощал. В этом была немалая доля правды.
Борис Иванович Стукалин, однако, принадлежал к разряду Государственных Людей, способных видеть ситуацию еще и вне границ вверенных им организаций. Спокойный, выдержанный, зрелый лидер, он, так же, как Панкин и Ситников, сразу понял значение проекта и оказал ему необходимую поддержку.
В тот приезд греки доставили в Москву две огромные копии фризов с Акрополя и, если не изменяет память, с Парфенона. Один из них был торжественно вручен в Госкомиздате Борису Ивановичу, другой — в ВААПе — Панкину. Вааповский фриз вскоре повис в комнатке спецбуфета и как бы освящал принятие пищи руководством Агентства.
С поддержкой Госкомиздата, да еще лично Бориса Ивановича, дело пошло вперед уверенно и ровно. Между прочим, на переговорах в его кабинете, где собралось кроме нас и греков человек восемь чиновников комитета, были и противники проекта. Было заметно, как Стукалин преодолевал их сопротивление.
А Панкин решил обеспечить еще и поддержку ЦК КПСС. Он организовал для Боболаса и Филиппопулоса встречу с Черненко — тогда секретарем ЦК. Однажды утром мы отправились туда в огромной старинной «Чайке».
Подъехали к зданию ЦК. Борис Дмитриевич, Боболас, Филиппопулос и Мария, которая должна была переводить беседу, отправились на встречу с Черненко, захватив сигнальный экземпляр первого тома Энциклопедии. Я скромно остался в машине: в таких горних высях делать мне было нечего.
Минут через 40 вся четверка, широко улыбаясь, вернулась в автомобиль. Борис Дмитриевич тихо сказал: «Ну, Евгений Григорьевич, теперь, кажется, все у нас «схвачено»».
Это было почти так — в те времена поддержка секретаря ЦК означала если не все, то очень многое.
****
Я жил в довольно странном режиме. Рабочий день был плотно забит переговорами, подготовкой контрактов, беготней из ВААПа в «Дом» и обратно. Вечерами — «протокольные мероприятия»: театр, ресторан, прием в посольстве. В те дни, когда работа заканчивалась в 6–7 часов вечера я спешил домой и валился в постель сразу после программы «Время», которую все смотрели по привычке, твердо отдавая себе отчет в том, что ничего не видят и не слышат, — это был один из пошлейших аспектов «промывки мозгов» населению СССР.
Просыпался я в 5–6 часов утра и, после зарядки и тихого завтрака — жена и падчерица еще спали, принимался за писанину. В течение многих лет все наиболее серьезные документы и по линии КГБ, и по линии ВААПа были мною написаны в ранние утренние часы. Писать их в Агентстве, сидя в комнате с десятком других сотрудников, было невозможно, а ходить в «Дом» только для того, чтобы написать там что-нибудь, заняло бы слишком много времени. Я, конечно, очень аккуратно относился к секретным документам, но жена посмеивалась над моими опасениями: вместе с характером портился и почерк, прочитать написанное было почти невозможно.
Энциклопедия в Греции «пошла». Греки мудрили с подсчетами, с рекламой, для части подписчиков продавали не тома, что было достаточно дорого, а тетради, из которых можно было впоследствии сшивать тома.
С самого начала работы мы столкнулись с еще одним параноидальным аспектом нашей тотальной секретности. «Советская энциклопедия», оказывается, не имела права передать грекам ни одной (!) карты — а их в издании тысячи, и все Управлением по картографии считались секретными.
Так и не помню, как греки решили эту проблему, — кажется, использовали карты из каких-то зарубежных изданий, наверняка лучшие, чем наши.
Издательство «Советская энциклопедия» блестяще справлялось, группа во главе с Натальей Владимировной Зарембой работала как часы — ни задержек, ни отсрочек, ни ошибок. Учитывая огромное количество материала, великое множество поправок, которые аккуратно вносились в устаревшие тексты каждой статьи, эти люди просто творили чудеса. За долгие годы моей работы в ВААПе и впоследствии в Госкомиздате я не встречал ни одного издательства, способного столь четко осуществить что-либо подобное.
Издание БСЭ стало фактором постоянного идеологического присутствия СССР в Греции — по тем временам, когда идеологию выпихивали в первые ряды, эта работа представлялась многим одним из существенных достижений нашей пропаганды.
Любая пропаганда — наша, американская, немецкая — вовсе не ставит перед собой цель информировать. Ее цель — влиять, воздействовать. Да, тут «возможны варианты»: одни работают тоньше, изысканнее, другие рубят сплеча, но ни те, ни другие не информируют — частью умалчивают, частью перекраивают, частью подгоняют под ранжиры, указанные правительствами, министерствами, владельцами газет или журналов. Свободная пресса? Свободная журналистика? Может ли быть «свободным» издательство в современной России, если тонна офсетной бумаги в 1993 году в феврале стоила 62 тысячи, а в ноябре — 400 тысяч рублей? От кого независима «Независимая газета»? А от кого зависима? Какую коммерцию проповедует «Коммерсантъ»? Кто оплачивает рекламу сводников и бандерш в молодежных газетах? У кого не дрогнула рука принимать деньги за такую рекламу?
К выходу третьего или четвертого тома БСЭ в Греции ВААП и Госкомиздат послали в Грецию делегацию для продолжения переговоров с греческой стороной, оказания поддержки, «активизации работы».
Делегацию возглавил главный редактор БСЭ — академик Александр Михайлович Прохоров, от ВААПа послали зампреда В. Н. Богатова и меня. Это была моя первая поездка в волшебную страну; несмотря на восторженные рассказы тех, кто там побывал, я не особенно вожделел предстоявшего путешествия. Помню, как за день до отъезда пришел с детьми в любимый Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Как-то незаметно оказались в «греческом зале», вспомнили монолог Райкина, посмеялись. Когда рассматривали макет Акрополя я сказал: «Ну, послезавтра буду там».
Дети опешили — до этого я о близком отъезде не говорил. Все советские путешественники, как правило, чуть ли не до дня отъезда не знали, состоится ли поездка: система выездов была построена так, что паспорта с выездными (въездные не составляли проблемы) визами получали, бывало, и в день отлета или отъезда.
****
В афинском аэропорту нас встречали Мария и Константин (Дино, как его называли друзья) Ронтирис.
Уже по дороге из аэропорта в Афины я влюбился в Грецию сразу и навсегда.
Сочетание ласкового солнца, морского соленого ветра, моря точно такого, как на туристских открытках, — бирюзового цвета, гор, в которых прячутся белоснежные развалины древних храмов, запаха оливкового масла и узо — анисовой водки на узких улочках, сиртаки, звуки которого я терпеть раньше не мог, но который в Греции — часть воздуха, прекрасные женщины и красавцы мужчины, шумные улицы Афин, психопатическое уличное движение — с площади Синтагма поток в четыре ряда поворачивает налево, но указателей поворота не включает никто — пусть сзади ртов не разевают, автомобили всех марок, включая «Запорожцы», если на улице крикнуть: «Господин президент!» — оглянется половина мужчин, открытые кафе и столики на улицах, где афинские бульвардье, потягивая пиво, разглядывают проходящих мимо красавиц, крики разносчиков разнообразного товара — все это обваливается на вас сразу и передохнуть не дает ни минуты…
****
Греческие партнеры разместили нас в самой, думается, лучшей гостинице Афин — «Гран Бретань». Это близнец гостиницы «Кинг Джордж» — они и расположены рядом в самом центре города, на площади Синтагма. Старинные здания, по-английски респектабельные — «тяжелые последствия английского влияния». Ковер в холле «Гран Бретань» — метров квадратных этак двести. Мебель — антиквариат. Картины, стенная роспись, посуда в многочисленных барах, ресторанах и кафе созданы для любования.
Если окна и балкон выходят на Синтагму, во время утренней зарядки можно и позагорать. Отдыхая после разминки, я услышал с соседнего балкона:
— Ну надо же, как ломается парень, вот бедняга…
— Да и тебе бы хорошо сбросить фунтов пять…
Оглянулся — молодая пара, он явно американец, она по виду — мексиканка или аргентинка. Познакомились, разговорились, выпили кока-колы.
— А вы что здесь делаете?
— Да вот, помогаем грекам Энциклопедию издавать…
— Потрясающе! Вот времена пошли!
— А вы?
— Да я тут налаживаю кое-какой компьютерный бизнес…
— Ну да, ну да, тоже интересно…
На шее у него болтался на цепочке пластмассовый квадратик с надписью «База ВВС США» и еще что-то помельче. Служащие американских баз в Греции выходят в увольнительную только в гражданской одежде. Многие из них предпочитают отпуск проводить тут же, в Греции, путешествуя, любуясь страной, посещая исторические места, музеи, храмы. Наверное, мои соседи и были такими отпускниками.
В 70-е годы американцы уже накопили приличный опыт поведения за рубежом: их присутствие было заметно в Греции только по огромным транспортным самолетам в афинском аэропорту, выкрашенным в непривычный для гражданского аэродрома темно-зеленый цвет, по такого же цвета грузовикам с номерами военных баз и по таким вот пластмассовым квадратикам, там и сям торчавшим из-под гражданских рубашек.
Впрочем, меня такие признаки «порабощения Греции американским империализмом» не волновали. В греческой прессе появились первые негативные отзывы на издание в стране советской энциклопедии, и меня интересовало, насколько далеко могут зайти недоброжелатели. Я не знал греческих реалий, уровня и характера преступности в стране и беспокоился, а не сожгут ли типографию, не испортят ли современнейшую технику? Насмотрелся в свое время фильмов о коллективизации и кулаках… Но нет, эти страхи были напрасными. Мне рассказали, как однажды главари наркобизнеса решили проложить через Грецию один из маршрутов доставки смертельного зелья. Были подобраны люди, все обусловлено и подготовлено. Вскоре греки, согласившиеся участвовать в этом деле, были найдены мертвыми. Говорят, что «очень крупные бизнесмены» усмотрели в замыслах наркомафии помимо всего прочего еще и угрозу туристскому бизнесу — и приняли решительные меры. Я сначала не поверил, но потом, разобравшись кое в чем, пересмотрел свои взгляды…
Переговоры в офисе Георгоса на Стадиу, 5 были посвящены тяжелому материальному положению проекта. Чтобы набрать необходимые суммы для покупки оборудования — в том числе современного фотонабора, обеспечить рекламу на телевидении и в прессе (кроме того, реклама была расклеена и на каждой автобусной остановке в Афинах), Боболасу пришлось продать часть принадлежавшего ему флота. В дело уже были вложены миллионы…
Мы снова обсуждали вопрос о косвенной поддержке проекта через поступления от каких-либо сделок с нашими внешнеторговыми организациями. Этот вопрос оказался невероятно сложным. Торгпредство в Афинах было «завязано» на многолетних испытанных партнерах, и ставить под угрозу связи, наработанные за долгие годы, никто из внешторговцев не хотел. Наши первые попытки прощупать руководство МВТ на уровне заместителей министра внешней торговли тоже не внушали оптимизма: как и по всей стране, все было спланировано — и надолго, согласовано — и со всеми, с кем положено. Любые слишком настойчивые или просто бестактные попытки ничего, кроме вреда, не принесли бы.
Боболас сделал нам королевский подарок — отправил всю делегацию в сопровождении Марии Бейку в трехдневную поездку по Греции.
Рассказывать о Греции — дело неблагодарное и для большинства желающих сделать это — непосильное. Во-первых, сочетание необыкновенной природы, почти всюду звучащей музыки, мучительно непонятного, но какого-то близкого славянину языка, памятников самой изысканной из когда-либо существовавших цивилизаций пробуждает в вас неведомые чувства, полностью осознать которые вы сами не в состоянии. Во-вторых, и слушатели, и читатели настолько уже заморочены описаниями и рассказами о нью-йоркских небоскребах и площади Пигаль в Париже, что неброские красоты Греции редко находят отклик в их сердцах. Грецию все мы «проходили» в школе и запомнили изображения каких-то слепоглазых статуй с обломанными руками. А узнав о том, что в Греции «ничего такого нельзя купить», советский слушатель теряет к ней интерес почти сразу. А зря…
Полюбить Грецию и хоть немного понять ее можно, только увидев. Ни кино, ни телевидение, ни рассказы опытных путешественников не в состоянии передать ни облик, ни дух этой страны. Греция может стать частью вашей судьбы. Либо вы попадете туда и навсегда останетесь там душой и сердцем, либо не увидите ее и проживете всю жизнь, не понимая, чего вы лишились.
****
Слава Л. получил орден Красной Звезды.
Мы сидели за вечерней трапезой в нашей крошечной квартирке на Комсомольском проспекте — Слава, Люся, его жена, я и моя «половина». Много лет спустя я узнал (не от Славы, конечно), что он со своими коллегами крепко прихватил американских разведчиков на тайниковой операции… Вот где была настоящая-то работа.
Словом, орден был обмыт и запит, как полагается. Все были относительно молоды, твердо стояли на ногах, впереди — интересная работа, новые города и страны, жизнь улыбалась всем нам широкой открытой улыбкой. Интересно, только ли во мне в то время поселилась суеверная тревога, а не придется ли когда-нибудь заплатить за все эти прелести? И какова будет цена? Но тревога эта была глухая, ненадоедливая — ведь до 1991 года было почти 11 лет. Крупные неприятности, как я уже знал, никогда не длятся долго, а на мелкие не стоит обращать внимания…
Мы тогда еще много шутили, смеялись, веселились от души.
Я вышел на балкон покурить, ко мне присоединился и Слава.
— Знаешь, мы с руководством недавно у Андропова были на докладе.
— Ну ты даешь, старик!
(Я-то многочисленных председателей видел только на фотографиях.)
— Да, в общем, чепуха — показывали ему видеозапись, было задание снять потихоньку очередную демонстрацию на Пушкинской площади. Там ведь каждый год правозащитники собираются. У председателя и ваше большое начальство было — извивались, как червяки.
— Почему?
— Да мы ведь каждый год ведем эту съемку. Вот они и пытались Андропову пудрить мозги — дескать, в этом году народу гораздо меньше, чем в прошлом.
— Ну а на самом деле?
— Да какое-там меньше. Еще как больше… Что они все замазывают-то, ведь себе дороже обойдется. Или уговаривают друг друга, что ли…
****
Итак, только через Министерство внешней торговли можно было хоть немного помочь «Бобтрейду» с выпуском БСЭ. А министерство, естественно, занималось своими делами и ничуть не интересовалось ничьими и никакими идеологическими экзерсисами. Даже роскошно изданная в «Акадимос» книга Брежнева «Мир — бесценное достояние народов» вызвала в министерстве только вежливый интерес, не более.
Боболас и его друзья ничего не знали о наших бюрократических играх и несколько были озадачены «потеплением» в МВТ. Впрочем, оно постепенно сошло на нет: МВТ вовсе не собирался в ущерб своим прежним связям и партнерам в Греции расширять торговые операции с «Бобтрейдом».
Казалось, что греческая компартия должна бы принять участие в кампании по подписке на БСЭ и в работе по ее распространению? Ничуть не бывало. В подписной кампании коммунисты принять участие не захотели, от поддержки проекта по изданию БСЭ практически воздержались. Большой помощи от них никто и не ожидал. Но все равно их позиция озадачивала.
Как-то раз «Дед» вернулся из ЦК, пригласил меня зайти.
— Вишь ты (иногда он любил подпустить славянизмов), я там заглянул в международный отдел и попробовал нашу греческую тему «потрогать», заручиться какой-никакой поддержкой.
— Ну и что они?
— Таким, понимаешь ли, холодом подуло… И даже намек тонкий подпустили, мол, не вовремя, не стоило бы… А один вообще болтнул, что трудно, мол, нейтрализовывать последствия неправильных действий. Ты как думаешь-то?
— Ну, мне бы еще свои уши в такие эмпиреи просовывать (а я любил притвориться этаким туповатым фельдфебелем).
— Вот и зря не просовываешь. А я-то подумал вот что. Видимо, эти ребята у Флоракиса почитывают западную прессу. Да и в греческой все эти материалы перепечатываются — насчет «руки Москвы», «кремлевских денег» и прочая чушь. Вот они и решили, что эти мнимые миллионы не из тех ли денег «выделены» Боболасу, что идут на поддержку компартии Греции? Вот почему они и не хотят ни шиша Боболасу-то помогать — ревнуют. Они же еще в Международный отдел и настучать на него могут с три короба.
Что ж, сейчас видно, что могло быть и такое…
****
В год 100-летия со дня рождения Ленина, особенно богатый на святотатственные анекдоты об основателе нашего государства, я лежал в комитетском госпитале, ожидая очень неприятной операции. Ее то назначали, то отменяли: то температура накануне повысилась, то с кровью что-то не то… Я приуныл. Соседи по палате сочувствовали.
Один из них, Петро, красавец хохол с традиционным чубом и тонкими чертами лица, пограничник, лежал с множественными осколочными ранениями. Его сослуживец по заставе решил уйти через «зеленку» в сопредельное государство, но уйти неординарно. Когда личный состав заставы собрался в красном уголке то ли на занятия, то ли на собрание, мерзавец бросил в окно связку гранат и только после этого ушел.
Покосило многих, а Петруха получил десятка два крошечных осколков, и почти все легли неудачно, засели в опасных местах. Врачи колебались — вырезав несколько кусочков металла, остальные они предпочли бы оставить, если бы время от времени те не причиняли Петру невероятные страдания. Ток крови передвигал то один, то другой, а иногда и несколько сразу, железо цеплялось за нервные стволы и окончания… Петр кричал страшно, врачи не могли помочь ничем, а держать парня на морфии опасались — мог неисправимо привыкнуть.
Выход нашла санитарка, здоровенная тетя Нюра. Она пользовалась нехорошей славой в связи с многократными и успешными вмешательствами в личную жизнь пациентов. Любимым трюком тети Нюры было подойти к группе больных, собравшихся у телевизора, а еще лучше — к парочке, уединившейся в уголке, и, поигрывая наконечником клистирного прибора, трубным голосом объявить: такой-то (или такая-то) — на прямой провод! Это был госпитальный эвфемизм промывания желудка. Мало какой флирт не разрушался таким грубым вторжением в область нежных чувств.
В очередной приступ у Петра, когда всех трясло от его криков и врачи в очередной раз колебались, давать ли морфий, тетя Нюра вбежала в палату, сгребла кричавшего парня в охапку и на руках понесла в процедурную. Там она плюхнула его в налитую для кого-то горячую ванну, и через минуту Петр замолчал — разогретая кровь опять подвинула осколки, и они перестали на что-то давить…
****
Роберт Максуэлл никогда не был агентом КГБ. Легкость, с которой это принялись приписывать покойнику, еще раз подтверждает невероятный цинизм и дешевизну «свободной прессы», а больше всего — ее неустанное стремление забить еще один гвоздь в крышку гроба Комитета.
Максуэлл приехал в Москву для переговоров с ВААПом году примерно в 1976–1977-м. Я еще работал в протокольном отделе Агентства, Максуэлла в лицо не знал, и встречать его в Шереметьево со мной поехал замечательный человек — начальник отдела США Юрий Николаевич Градов, ветеран войны, ветеран «Межкниги», энергичный ваапмэн, а впоследствии — представитель «Межкниги» в Китае.
Максуэлл был энергичным, подвижным и очень развязным человеком. Приветствуя Юрия Николаевича, а потом и меня, он как-то странно возлагал свою мощную длань на наши затылки и поглаживал их — так обычно гладят больших верных псов. Для Юрия Николаевича это, видимо, было не в новинку, он давно был с Максуэллом знаком, а я, слегка опешив, тут же вернул Роберту его ласку. Теперь опешил он, правда ненадолго.
Материалы, которые имелись в архивах КГБ на Максуэлла, я заказал в тот же день, незадолго до отъезда в аэропорт, а ознакомиться с ними сумел только дня через два.
Максуэллу были посвящены три или четыре ветхих, чуть ли не заплесневелых тома в каких-то дальних архивах Ордена.
Роберт родился в чешской деревушке, очень близко к границе с Украиной. Родители его были евреи, и настоящая его фамилия — Ках или Кох. Из того, что я прочитал в этих ветхих архивных томах, было неясно, как и где проходили детство и юность Максуэлла, но в середине Второй мировой войны он, как и многие чехи, поляки, французы, оказался сначала в Англии, а затем и в британской армии. Видимо, неплохо воевал (а может быть, сразу попал в разведку или контрразведку) и наверняка учился, потому что к концу войны имел звание капитана. Уже в то время агентура и знакомые Максуэлла отмечали его несомненную храбрость и незаурядность. После войны он работал в одной из многочисленных военных организаций, если память не изменяет — в Вене. Это была какая-то комиссия, принадлежность которой не вызывала никаких сомнений у тогдашнего НКВД. Но ведь как в спецслужбах: есть уверенность, есть подозрения, есть сомнения в принадлежности кого-либо к разведке или контрразведке противника, но, пока вы не увидите удостоверение личности конкретного лица или иные бесспорные документы, это лицо не рассматривается как «установленный спецслужбист». А хороший специалист может жить и работать так, что долго не будет давать повода для дополнительной заинтересованности в нем. Тем более в оккупированной стране, работая бок о бок с какими-никакими, а союзниками.
«Славянское» происхождение Максуэлла было быстро раскрыто, и, с учетом его личных и деловых качеств, стали высвечиваться заманчивые перспективы его вербовки.
На протяжении нескольких послевоенных лет оперативные «танцы» вокруг Роберта то замедлялись, то набирали темп, уж очень он казался интересным и «перспективным».
Собирали информацию о том, где он добыл деньги на организацию «Пергамон пресс» — своего издательства. Получил от жены? От английских спецслужб? Присвоил какие-то суммы в Вене? Как почти всегда в оперативных играх, точные ответы не просматривались…
А Максуэлл хитрил, подпускал к себе очень близко, но не так, как хотелось бы игрокам. Его неплохо изучили, знали, что он страдает от того, что не был по-настоящему принят в тех кругах, куда стремился, пытается вскарабкаться туда по грудам денег, оскальзывается и снова лезет вверх.
В одном Роберту повезло (или не повезло?): листая ветхие страницы архивного дела, читая десятки сообщений агентов, справок о встречах с ним оперативных работников, я видел совершенно ясно — ни разу во время этой долгой, терпеливой охоты рядом с ним не оказалось охотника, равного ему по воле, интеллекту, душевным качествам.
Ситников, узнав, что имеется обширный архивный материал, и выслушав мои рассказы о собственных впечатлениях, взвился было и даже заговорил о том, чтобы поднять дело из архива и продолжить разработку. Однако, когда я назвал фамилии тех, кто участвовал в охоте, он заметно приуныл — некоторых он знал и уважал. Мне, кроме того, казалось, что он скрывал от меня что-то — может быть, по работе в Вене он знал о Максуэлле нечто, не попавшее ни в какие документы. Но это — сфера предположений.
За годы, последовавшие за этими событиями, Максуэлл создал целую империю. На каком-то этапе американское издательство «Харкурт Брэйс Йованович» решило приобрести максуэлловское хозяйство. Наняли лучших адвокатов. Переговоры длились почти три месяца, в лондонском отеле «Кларидж» сняли чуть ли не целый этаж. Сделка так и не состоялась — как мне рассказывали сведущие люди, «хозяйство» оказалось столь огромным, что определить даже механизм смены хозяина не представлялось возможным. А может быть, в свете последних новостей после смерти Роберта, оно было слишком запутанным? Думаю, что единственным основанием предполагать принадлежность Роберта к агентуре КГБ было издание в «Пергамон Пресс» книги Андропова — но ведь многие зарубежные издатели выпускали и книги Брежнева, и произведения Горбачевых, даже Черненко был опубликован все в том же «В и Г». Была «разрядка», за возможность первым опубликовать писания наших вождей иностранные издатели частенько даже боролись, наивно полагая, что в условиях тоталитарного правления это будет способствовать развитию их бизнеса в России.
Некоторые из тех сотрудников ВААПа, которые непосредственно вели дела с Максуэллом, были уверены, что книги советских вождей, которые издавались в «Пергамон Пресс», выпускались тиражами по нескольку сот штук — для подарков авторам и их соратникам, для нескольких библиотек. Да и то — кто может представить себе нормального иностранца, жадно вчитывающегося в пухлый том речей очередного генсека, написанных кем-то из его челяди?
В СССР такая книга могла быть чем-то вроде пропуска в довольно высокие сферы, не говоря уже о возможности личной встречи с автором; ее можно было использовать в политических играх самого различного плана — «вчера я встречался с Андроповым и твердо сказал ему…» Поди, проверь.
Главный же интерес Максуэлла в СССР заключался в том, чтобы получить (то есть, купить, конечно) права на издание в «Пергамон Пресс» как можно большее количество журналов, издававшихся по линии Академии наук. Он даже пытался «отхватить кусок от американского пирога» (американцы уже приобрели к тому времени права на издание около двухсот таких журналов) — пробовал убедить ВААП переуступить ему права на многие из них. Это была лишь небольшая часть гигантских устремлений и широчайших интересов Максуэлла, ради их осуществления не было никакой необходимости подвербовываться в КГБ.
Шли последние месяцы работы — нет, пребывания в КГБ, когда поздним вечером в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил корреспондент «Нью-Йорк пост» в Москве, который попросил меня, как бывшего сотрудника ВААПа, дать интервью. Я не большой любитель не только телефонных интервью, но и телефонных разговоров вообще, но любопытство пересилило: это был разгар публикаций о Максуэлле, и я догадывался, о чем пойдет речь. Так оно и вышло: американец расспрашивал меня о Роберте и встречах с ним, и я рассказал ему то немногое, что знал. Затем он принялся выпытывать у меня, что я думаю о принадлежности Максуэлла к агентуре КГБ, и сослался на статьи в нашей прессе на эту тему. Я высказался, как мог бы высказаться сотрудник ВААПа, но корреспонденту этого было мало, и он предупредил, что собирается задать последний, возможно, самый неприятный вопрос. Я привычно ответил, что он получит последний, возможно, самый неприятный ответ.
— Мне говорили, что вы и сами были связаны с секретными службами… Правда ли это?
На протяжении всего интервью я «водил за салом» американца, а тут умилился. Ну кто же задает такие вопросы? Какой действующий спецслужбист ответит утвердительно? Какой профессионал впрямую задаст такой вопрос даже пенсионеру?
Меня не удивило, что американец знал мой домашний телефон — за долгие годы работы «под крышей» я давал его многим иностранным партнерам по ВААПу и Госкомиздату. Но этот звонок лишний раз подтвердил мою и моих коллег уверенность в том, что все мы давно были проданы нашим контрагентам за рубежом. Ну что ж, помимо друзей рядом с нами работали и враги, недоброжелатели, и удивляться было нечему — мы всегда были готовы и к таким неприятностям. В конце концов, по оперативному жаргону, даже самая хорошая «крыша» протекает.
****
Наладился постоянный обмен делегациями с греческими партнерами: раз в год в Грецию отправлялась делегация из сотрудников ВААПа и «Советской Энциклопедии», греки же приезжали чаще — им требовались консультации в издательстве по массе вопросов.
Издание БСЭ шло полным ходом, и сомнений в успешном завершении проекта не было. Правда, с учетом инфляции в стране, трудностей и проблем, связанных с работой такого рода, финансовый успех проекта выглядел проблематично: сам Георгос об этом не говорил, но его сотрудники рассказывали, что он вкладывал в издание все больше своих собственных денег без особых надежд получить их обратно.
А неугомонный Алекс Филиппопулос, один из лучших, а может быть, лучший журналист Греции, главный редактор БСЭ на греческом языке, раздумывал о новом проекте. Он был газетчиком и давно мечтал о работе в серьезной, солидной газете. Насколько я мог понять, Алекс был обеспеченным человеком, но основать такую газету и работать в ней он мог, только объединив свои возможности и способности, а может быть, и средства, с возможностями, способностями и средствами такого человека, как Боболас. Георгос и Алекс были, как мне кажется, близкими друзьями, сотрудниками, но вовсе не единомышленниками. Боболас прежде всего — предприниматель, промышленник, бизнесмен. Филиппопулос, конечно, тоже был и предпринимателем, и бизнесменом, но прежде всего — журналистом со стойкими взглядами оппозиционера. Их сотрудничество по изданию БСЭ было вполне естественным, но представить их работающими в одной газете было довольно трудно…
Газета получила название «Этнос» — «народ». Я не могу сказать, насколько она была народной, но сомнений в популярности «Этноса» не было ни у кого, тираж газеты увеличивался постоянно.
Мне не приходилось встречаться с нашими разведчиками, работавшими в Афинах. Мало того, каждый раз я нарушал один из приказов председателя КГБ, по которому сотрудник любого Управления, выезжавший в зарубежную командировку, был обязан ставить в известность об этом резидентуру ПГУ в соответствующей стране. Я не делал этого потому, что хорошо знал: на какую-либо существенную помощь рассчитывать не стоило, а я вряд ли мог быть полезен людям, работавшим в стране по нескольку лет. Уменьшалась и возможность быть проданным «с потрохами» — число предательств и побегов разведчиков ПГУ и ГРУ отнюдь не сокращалось. Горько лишний раз вспоминать об этом, но из песни слова не выкинешь: среди тысяч порядочных людей, работавших в разведке, находилось слишком много предателей, и рисковать я не собирался. Кроме того, с первых выездов я понял, что любое наше посольство за рубежом — это вовсе не посольство СССР, как было написано при входе. Это посольство ЦК КПСС, МИДа, всесильных блатных родственников, чьи дети работали там, но не СССР. Так же и резидентуры КГБ не были резидентурами КГБ — они были резидентурами ПГУ, ЦК КПСС и все тех же родственников. Вниманием, помощью или поддержкой посольства, резидентуры могли пользоваться лишь те, кто принадлежал к указанным кругам или к номенклатуре вообще. Так что я предпочитал сам отвечать за все порученное мне, и более того — это мне нравилось.
Первый «звонок» прозвенел в 1982 году: в приложении британского еженедельника «Экономист» — «Экономист форин рипорт» — появилась статья «Россия и Греция», где, помимо прочего, утверждалось, что «Этнос» субсидируется СССР, и даже указывалась сумма — 1,8 млн. долларов. Почему? А потому что «Этнос» был не похож на большинство других греческих газет. Писалось, что ЦРУ поддерживает «Солидарность», что оно замешано и в гибели корейского авиалайнера, афганские душманы назывались бандитами (так оно и есть), в общем, самоудовлетвориться для «Экономиста» можно было, только узрев «руку Кремля». Греки подали в суд, обвиняя «Экономист» в клевете, и тут коса нашла на камень — англичане, как и греки, обожают судиться.
Процесс шел пять с половиной лет, на нем выступали десятки свидетелей, включая министра культуры Греции — знаменитую актрису Мелину Меркури, и в конце концов «Экономист» рухнул. Его представители вынуждены были признать ложность измышлений, помещенных в журнале, принести извинения и выплатить штраф в сумме 180 тысяч фунтов — размеры судебных издержек.
Примерно в это же время разразился серьезный кризис — притихший было Янникос подал в суд на Боболаса, требуя… возмещения убытков и возвращения его доли в «Акадимосе». Цинизмом Янникоса все были просто потрясены — за время сотрудничества с Боболасом он вытянул из него достаточно, казалось бы, денег, ездил за его счет за границу, расплачивался его деньгами за свои долги и т. д.
Уверен, что я был единственным из участников проекта, кто связал воедино выступление «Экономиста» и акцию Янникоса. То ли врожденная, то ли приобретенная подозрительность говорила мне, что терпение контрагентов лопнуло, и начинается серьезное наступление на наших греческих друзей.
Через пару недель Ситников, я и директор одного из издательств, имевших отношение к работе с «Акадимос», — назовем его Н., вылетели в Афины. Планировались долгие переговоры, консультации, но главная задача была — уладить конфликт между Боболасом и Янникосом, найти компромисс, с помощью которого этот конфликт можно погасить.
Сделать это мог только «Дед». Он ближе всех был знаком с Янникосом, пользовался авторитетом у Боболаса, являлся, кроме того, большим дипломатом и хитрецом.
Переговоры велись сначала в офисе Боболаса на Стадиу, 5, где Георгос излагал свою позицию относительно вылазок Янникоса. Потом мы отправлялись на Акадимия, где Янникос снимал контору — нарочито нищее помещение с лампочкой без абажура. С ним был один из сыновей, наверное, старший, — худощавый озлобленный мальчишка лет 17-ти и несколько «советников». Как это любят делать провинциальные трагики, Янникос говорил патетически, принимал картинные позы и особенно напирал на энтузиазм, с которым он участвовал в проекте, и на «пламя души», вложенное в него. Деньги с Боболаса он надеялся получить не очень большие, но вполне приличные — я все время переводил мысленно миллионы драхм то в рубли, то в доллары. Сумму он с некоторым усилием назвал в ответ на мой прямой вопрос, как он оценивает «пламя души». Назвал и сам испугался — не «заломил» ли.
Ситников сначала надулся за то, что я влез в изящный диалог двух хитрецов с таким грубым вопросом, но потом, думаю, сообразил, что я избавил его от необходимости «вынимать» из Янникоса договорную сумму, и успокоился.
Перед отъездом на аэродром мы снова собрались на Стадиу, 5. Боболас, узнав о сумме, которую надеялся получить с него Янникос, почернел от гнева и раскричался во весь голос. Ситников, поразмыслив, посоветовал ему выплатить эти деньги и завершить конфликт. При этом он не совсем к месту привел поговорку «скупой платит дважды», которую я, хотел или не хотел, вынужден был перевести. Георгос от возмущения потерял на время дар речи.
Мы с Н. уехали, оставив «Деда» продолжать переговоры. Я надеялся, что он добьется-таки своего и убедит Боболаса уступить жулику, чтобы не втягиваться в конфликт еще глубже. Но этого не произошло. А раз этого не смог добиться Ситников, значит, добиться этого было нельзя. На третьем этаже Агентства было немало скрытой радости по поводу провала нашей миссии, но я уже ничему не удивлялся — пауки в банке обиделись бы на сравнение их с нашей номенклатурой.
«Этнос» становился все более неприятным для многих: Филиппопулос с самого начала существования газеты занял антиамериканские позиции и определял курс «Этноса» самостоятельно — Боболас, финансируя «Этнос», получал, естественно, прибыли, но направления газеты не определял, более того, конфликтовал с Алексом по ряду вопросов. Постепенно он не только сам увлекся газетой, но и стал подключить к работе в ней своих детей.
С 1982 года началась огромная работа западных спецслужб по компрометации «Этноса», Боболаса, его окружения. Вслед за «Экономистом» в игру вступили американские «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон таймс», «Уолл-стрит джорнел», английская «Дейли телеграф», французский «Экспресс», бельгийский «Валери Актуэль», западногерманская «Гамбургер абендбладет» и многие другие. К концу года публикаций были десятки, поднималась тема финансирования проектов Боболаса Москвой, под этим углом зрения рассматривались и «Этнос», и издание БСЭ, и «Акадимос», и вообще все предприятия Георгоса. Но теперь там звучала и тема КГБ — отказать себе в удовольствии использовать информацию из книги Бэррона, в которой красовалась фотография «Дяди Васи», могли очень немногие.
Было бы глупо думать, что «масс медия» нескольких стран, далекая от внимательного рассмотрения греческих проблем, вдруг одновременно проявила к ним такой живой интерес. Не нужно было быть сотрудником КГБ, чтобы понять — этим хором руководила опытная рука. Опытная и щедрая… Но самое интересное было впереди.
В 1983 году кипрский журналист Павел Анастазиадис, писавший под псевдонимом «Пол Анастази», опубликовал книжку «То «Этнос» ста хериа сас» — «Берите «Этнос» в руки» (обыгрывалось название газеты — «Народ»). Примитивная, написанная наскоро, книга содержала обычный набор сведений о КГБ, которыми наши контрагенты снабжали прессу, и обличения в адрес Боболаса и его друзей. Решительно все — от Панкина до Люды Смирновой, от Боболаса до Марии Бейку в книге причислялись либо к офицерам, либо к агентам КГБ, зацеплялись там и некоторые сотрудники нашего посольства в Афинах — кажется, один из них действительно был сотрудником, но не КГБ, а ГРУ. Обо всех этих деталях я узнал гораздо позже, когда по моей просьбе сын перевел мне книгу Анастази.
Пока же наши друзья подали в суд на Анастази за клевету и помимо тяжбы с Янникосом оказались втянутыми в еще один долгий изнурительный процесс.
Суд признал книгу клеветнической и запретил ее продажу, на Анастази был наложен штраф, и он был приговорен к условному тюремному заключению. Выяснилось, что ни «Нью-Йорк таймс», ни «Дейли телеграф», корреспондентом которых на Кипре он являлся, никаких заданий относительно «Этноса» или БСЭ в Греции ему не давали… Выходило, что книгу он написал по собственной инициативе, а материалы о коварных методах КГБ собрал на Кипре. Он был очень любознателен, этот Пол Анастази, и обладал удивительными «банками данных». Так, ему было известно, что некий Карл Марцони, писавший статьи для «Этноса» в Америке, в 30-х годах был уволен из Госдепартамента США за принадлежность к компартии США. Получить такую информацию, сидя на Кипре конечно же раз плюнуть… На процессе выступали и некоторые западные корреспонденты, намеревавшиеся побороться за свободу слова и за своего собрата — помню, что проверял внимательно всех. Среди них был бывший капитан армии Израиля, дама-американка, работавшая в Чили во время переворота и гибели Альенде, и еще кое-кто с не менее колоритным послужным списком. Словом, для профессионалов по обе стороны этого противоборства все или почти все было ясно.
Резидентура в Афинах разразилась длиннейшей шифровкой, в которой давала свою оценку «активной акции» ЦРУ, в общем, совпадавшую с нашей.
Маловероятно, но вполне возможно, что американские разведчики действительно поверили в то, что КГБ занимался и изданием в Греции БСЭ, и становлением «Этноса» — газета, кстати, набирала и тиражи, и темпы, вскоре появились приложения, спортивное и искусствоведческое, до сих пор, насколько мне известно, она представляет собой одно из самых успешных предприятий Георгоса Боболаса. Вот только Алекса Филиппопулоса больше нет — не выдержало сердце нечеловеческих нагрузок, и прекрасный дом на одном из греческих островов остался без хозяина…
Да и сам Георгос пережил серьезную болезнь, в Лондоне ему делали сложнейшую операцию.
А деньги Янникосу пришлось-таки уплатить — не знаю, какие, но, боюсь, что с судебными издержками даже большие, чем те, о которых он говорил в пыльной конторе на Акадимиа. Я уже давно твердил «Деду», что Янникос на каком-то этапе может быть использован американцами, и опять оказался прав в своих прогнозах: прошло немного времени, и мы узнали, что сын Янникоса получил стипендию в одном из американских университетов. Это — изящный гонорар за верную службу…
Ну что ж, в конце концов завершение этой пятилетней истории может выглядеть и таким образом (если есть широкая кисть и основательные запасы розовой краски): издание БСЭ в Греции завершено и долгое время будет фактором существенного влияния на широкие круги греческого читателя — со временем ценность большинства энциклопедий возрастает. «Этнос» существует и процветает. ЦРУ отвлекло значительные силы и средства на борьбу с КГБ, который свои возможности и средства в этой истории не использовал никак.
****
Книжная ярмарка во Франкфурте — ежегодный праздник всего книжного мира. Там встречаются все. Наша Московская легко умещается в жилетном или нагрудном кармане Франкфуртской — масштабы несопоставимы. «Мессе геленде» — выставочная территория — предназначена для выставок любого рода, в год их бывает до полутора десятков: книжные, автомобильные, текстильные, игрушечных поездов и паровозиков, парфюмерные и Бог весть еще какие. Городу они приносят огромный доход, и город это очень ценит.
Десяток огромных павильонов, стоянки для тысяч автомобилей с номерами всех стран Европы, на каждом шагу полиция и немецкий вариант ВОХРа, но все они не для того, чтобы бесконечно запрещать все и вся, а чтобы помогать людям, приехавшим на выставку, работать: подскажут, связавшись с кем-то по радио, где вам удобнее поставить машину, покажут или объяснят дорогу, а то и проводят вас. Они же мгновенно появляются в случае любых происшествий: например, шумную демонстрацию иракских студентов около стендов Ирана затолкают в автобусы с зарешеченными окнами в десять секунд — как будто ее и не было.
На территории выставки продается и сдается напрокат все, что может понадобиться экспонентам: мебель и осветительные приборы, телефонные аппараты и телевизоры, книжные стенды и панели для различных надписей, которые вам сделают тут же любым шрифтом на любом языке, цветы и икебана для украшения вашего стенда и жизни вообще. После завершения одной из выставок я решился полюбезничать с привлекательной дамой, помогая ей загружать в «фольксваген» множество горшков с цветами. Оказалось, что все эти горшки после закрытия выставки становятся достоянием благотворительных организаций, и она развозит их по квартирам пенсионеров, больных, по сиротским домам и госпиталям…
Еда на каждом шагу любая, и очереди редки. Надо ли упомянуть, что из административного павильона (или прямо с вашего стенда, если у вас есть телефон) вы можете связаться с любой точкой земного шара?
До поездок во Франкфурт я с недоверием прислушивался к разговорам вааповцев, возвращавшихся оттуда: один не успел что-то купить, другой устал так, что расхворался, третий божился, что он не мог спать от переутомления всю неделю. После первого «Франкфурта» я, любитель пешей ходьбы, месяц лечил какие-то связки в стопе…
Большой зал — центр литагентов точно воспроизводит картину напряженной работы муравейника и никогда не кажется просторным. Здесь проходят, как правило, короткие переговоры, в 20 минут принимаются окончательные решения по разговорам или переписке, тянувшейся год.
Каждый день ужины, обеды, приемы: прием от имени администрации выставки, прием муниципалитета в ресторане «Пальменгартен» («Пальмовый сад»), где есть и пальмы, и попугаи — все это в огромных залах с зарослями тропических деревьев и… ручейками, через которые посетители перебираются с тарелками и кружками пива в руках. Прием гигантского издательского концерна «Бертельсман», вааповского партнера, где целиком жарят быков, кабанов и кого-то еще — Гаргантюа угощает Пантагрюэля… Спиртное льется рекой, но пьяных почему-то не видно. Каждое приличное издательство тоже устраивает приемы для партнеров — всемирное гостеприимство.
Работа литагента на Франкфуртской выставке — еще и бесконечная ходьба от стенда к стенду, от партнера к партнеру (если ваш график не спланирован так, чтобы приходили к вам). Запомнить содержание всех встреч и переговоров невозможно, приходится многое записывать.
И, конечно, там много возможностей среди десятков встреч «спрятать» такие, которые в другой обстановке могли бы привлечь нежелательное внимание. Там можно скрытно бросить письмо, неприметно позвонить, а если нужно, — исчезнуть с выставки на целый день.
Издательства, а иногда и страны, оформляют свои стенды замысловато и национально. На финском стенде, например, была когда-то представлена настоящая финская сауна — дизайн делал специалист по саунам, известный архитектор Пекка Томмила.
Американские издательства любят использовать в оформлении стендов реквизиты и муляжи из кинофильмов — однажды были выставлены скафандры и оружие из фантастического фильма «Дюна», а в другой раз — пластмассовое чудовище из фильма «Чужой», под ручку с которым я поспешил сфотографироваться.
И книги, книги, книги. Франкфурт — книжная Мекка, и здесь есть все — литература всех жанров, книги всех форматов, одетые в невероятные платья-обложки, книги с вмонтированными в них аудиокассетами, кассеты, заменяющие книги, — вы можете не читать, а слушать что-либо, вставив кассету в магнитофон вашего автомобиля по пути на работу и обратно…
Современная полиграфия, качество бумаги, краски, фотокомпьютерный набор, средства связи позволяют в немыслимо короткие по нашим стандартам сроки написать, отредактировать и напечатать все что угодно.
Тем из наших издателей, авторов, чиновников, кто попадает во Франкфурт, сразу становится ясно, почему так туго продвигаются на международный книжный рынок наши книги, в том числе и лучшие — иллюстрированные детские издания: бумага, картон, полиграфия, дизайн не идут ни в какое сравнение с тем, к чему привык зарубежный читатель.
Полиграфия, кстати, с ее красками, запахами, огромными машинами, считается все более вредным, все более неприятным производством, и американцы, например, тихо, без болтовни и хвастовства выталкивают ее из Америки — масса книг печатается ими на Тайване, в Японии, в Италии.
****
ВААПу необычайно везло на дипломатов: деятельный Жаров, выстроивший основы международных связей Агентства, умница Лебедев, уехавший из ВААПа на высокую должность Представителя СССР во Всемирном Совете Мира, потом — посол в Праге, покойный Клименко, нелюбимый многими за крутой нрав, но толковейший работник, Лордкипанидзе (брат того самого «Лорда»), проработавший в Агентстве недолго, но умело, — все они казались мне исключениями из нашего загранаппарата.
Но сильнее всех был, безусловно, Николай Михайлович Вощинин, которого Лебедев сменил в Хельсинки. Он, как мне казалось, отвечал решительно всем качествам настоящего дипломата — всегда прекрасно одет и подтянут, немногословен, свободно говорит на четырех-пяти языках, организатор и педант-канцелярист, опыт дипломатической работы огромный. При этом — начитанность и глубокие знания в различных областях, общительность, постоянная готовность помочь, словом, явление в нашей жизни редкое.
Его приход в ВААП совпал у него с длинным рядом серьезных семейных неприятностей, и я, уже переживший такое, проникся сочувствием. Сложились хорошие рабочие, а потом и личные отношения — для спецслужбиста «под крышей» неоценимая поддержка и подспорье в работе — ведь Вощинин вел всю международную работу Агентства.
И вот ведь незадача — и у него, дипломата и хитреца, который сидя в зале Совета Мира, ЮНЕСКО или ООН, мог в десять минут просчитать, как будет голосовать за такое-то предложение, скажем, делегат Занзибара или Берега Слоновой Кости, опять-таки не сложились отношения с обитателями третьего этажа.
Это было время больших перемен. В ВААПе сменилось «первое лицо»: Борис Дмитриевич Панкин, издав везде, где было можно и нельзя, нетленные труды министра иностранных дел СССР А. А. Громыко и его родственников, отбыл послом в Швецию — в МИДе это вызвало взрыв бешенства среди возможных кандидатов на должность, а в Агентстве зажурчали разговоры об использовании служебного положения в личных целях…
За два-три года до описываемых событий, кажется, в 1978 году, мне пришлось пережить одно из сильнейших разочарований: еще раз были разрушены мечты о работе в разведке.
Как-то Михаил Привезенцев рассказал, что по его «наводке» мною заинтересовалось Управление «С» ПГУ, и якобы даже мое дело взяли на просмотр в один из отделов этого Управления. Как сейчас многим известно, Управление «С» занималось работой с нелегалами — разведчиками, тайно внедренными в зарубежные страны и общества. Эта часть работы разведки — самая секретная, самая рискованная и самая интересная. К тому времени я отвлекся от беспочвенных мечтаний и был совершенно удовлетворен работой, поэтому отреагировал на сообщение Михаила довольно прохладно, воспоминания о несбывшихся мечтах не подогревали новые надежды. 20-летие моей работы в КГБ я скромно, ну прямо как Штирлиц, отметил рюмкой вина в номере гостиницы «Гран Бретань», мне было под 40, казалось, что лучшее уже позади. Я твердо знал к тому времени, что никакие знания, навыки, подготовка, совершенно ничего не значат, если они не опираются на связи или «полезные знакомства». Ни то, ни другое я использовать, увы, не умел.
Михаил втолковывал мне, что такое предложение чекист получает раз в жизни, что он уже советовался с Вощининым, и тот обещал поговорить с Панкиным о поддержке моей кандидатуры. Речь шла о должности представителя ВААПа в США, которая и должна была стать «крышей» для сотрудника Управления «С». Я, как Станиславский, бубнил Михаилу: «Не верю, не верю». На этом разговор и закончился.
Миша предупредил меня, что «Деду» — ни слова; во-первых, заревнует, во-вторых, не захочет потерять «раба», в-третьих, кому-нибудь обязательно сболтнет.
Я продолжал вертеться в круговороте интересных занятий и почти забыл о разговоре, как вдруг Вощинин пригласил меня в кабинет и сказал, что готовится к разговору с Панкиным о моей кандидатуре на пост представителя ВААПа в США. Я так и сел.
Прежде всего поддержка и доверие такого человека, как Вощинин, значили для меня очень много. Николай Михайлович вряд ли хоть раз в жизни покривил душой и «споспешествовал» недостойному человеку, непригодному для какой-то работы. Затем, это означало, что я, черт возьми, стал настоящим ваапмэном — и даже лучшим, чем многие «чистые» сотрудники Агентства. Такой пост никчемному человеку руководство ВААПа не предложило бы — имелся уже печальный опыт, и не только в США.
Но никакого оптимизма, однако, я не почувствовал: что-то еще скажет Панкин, да и как можно на «подкрышной» работе перебираться из одного управления КГБ в другое, да и гожусь ли я для Управления «С», наконец?
А Привезенцев гнул свое — опыт работы у меня огромный, чего не умею, тому научат, если Панкин согласится, переход будет проделан мгновенно и т. д., и т. п.
Громом среди ясного неба было сообщение Николая Михайловича о том, что Панкин мою кандидатуру поддержал и даже сказал что-то одобрительное… Да неужели я так хорош?
Еще один разговор с Привезенцевым:
— Ну, старик, все на мази. Панкин уже говорил с Крючковым (тот был тогда начальником ПГУ). Вот только одна зацепка — боятся наши выходить на Бобкова, уж очень не любит он отдавать свои кадры…
Я пошел к Ф. Д. сам — теперь и я уже «завелся» и, почувствовав доверие и поддержку столь уважаемых мною людей, хотел «досмотреть кино до конца».
Бобков внимательно выслушал мое сообщение, оперся щекой на руку и, разглядывая меня, спокойно спросил:
— Ну а как ты сам-то?
Я так же спокойно ответил, что работаю в контрразведке — сначала в «наружке», потом в 5-м Управлении — 20 лет. Предложений, подобных тому, что сделано мне, дуракам не делают — это ясно. Есть и еще один, возможно, самый главный для меня аспект: не было никаких «блатных» звонков или хлопот, я никуда сам не вылезал и принимаю доверие, оказанное мне, не только на свой счет, но и на счет тех, кто были моими наставниками и учителями. Если возражений у начальства не будет, я бы принял предложение разведки.
Бобков еще раз внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Ну что ж, прямо скажу — жалко тебя отдавать. Но если все так получается, то пусть получится.
И он пожелал мне удачи.
Неделю или две меня хлопали по плечу глубоко уважаемые мною люди, но рукопожатие Бобкова для половины обитателей «Дома», и меня в том числе, означало нечто более весомое.
Вернувшись в ВААП, я рассказал Михаилу о разговоре, он тут же бросился звонить кому-то из своих в Управлении «С»: «Да, да, Бобков дает добро, он сам к нему ходил…» Теперь, казалось, ничто и никто не мог остановить грядущих в моей судьбе перемен. Панкин, Крючков, Бобков согласились и одобрили эти перемены. Михаил при встречах в коридорах ВААПа тихо советовал мне прикупать чемоданы, а я неторопливо размышлял о том, как буду «крутить» американскую «наружку». Ну, думал я, отольются вам мои семерочные слезы, песиголовцы проклятые. Устрою я вам в Америке веселую жизнь…
Но время вдруг замедлилось, и через неделю в какой-то момент я понял — все лопнуло, ничего не выйдет опять. Ни к кому, кроме Михаила, я с расспросами обратиться не мог, да и он, переживая сильно, не смог мне ничего объяснить. Лишь месяц спустя он сказал, что вмешался кто-то из заместителей Бобкова и «зарубил» мою кандидатуру. Это могли сделать только два совершенно разных человека, причем с одинаковым удовольствием: «Палкин», хотя трудно представить его перечащим Бобкову, или «Дед», взбешенный тем, что его обошли, не явились на поклон.
Я знал, что годы уходят и такого предложения я никогда больше не получу. У меня отняли то, что сейчас отнято у большинства населения нашей страны, — «завтра». Даже когда у человека есть самое скромное, непритязательное «завтра», он живет, чувствует, работает совсем по-другому. Человек, у которого нет «завтра», существует вчера.
****
Я не особенно ломал себе голову над тем, что произошло, — то ли за мной все еще тянулся 1968 год, то ли это была чья-то личная неприязнь, то ли, наконец, Бобков сказал одно, а сделал другое, это не имело уже практического значения, и особенно задумываться над этим не стоило. Задуматься — значило согнуться, а спина моя оставалась прямой.
Вокруг творилось такое, что судьба или судьбы отдельных людей, как всегда в нашей стране, значили все меньше и меньше — ведь нас было чуть ли не 300 миллионов. Скончался очередной генсек, давший жизнь рекордному числу анекдотов, его сменил человек, с которым многие связывали многие надежды, а в «Доме» была бесконечная Рождественская ночь — многим казалось, что теперь для КГБ настанут какие-то необыкновенные времена. Но веселились не все — никакие россказни об интеллектуализме Андропова не могли перечеркнуть его принадлежности к старой партийной элите, и он, хотя и с некоторыми девиациями, шел по тропе, проложенной его предшественниками и единомышленниками. Он не мог быть другим.
Мнимые послабления диссидентам, попытки поднять трудовую дисциплину, проверяя документы у прохожих и допытываясь у них, почему они не на рабочих местах в рабочее время, «андроповка» — вот и все, что запомнилось. Да, он был лучше многих, но он был такой же, как они, и делал все так же, как они. И думал так же, как они, наверное. И именно он выпестовал провозвестника новой эры, эры победы Запада в третьей мировой войне, глашатая перестройки, не способного разглядеть даже собственный политический конец, — первого и последнего Президента СССР.
Жизнь продолжалась, а вместе с ней и работа — ее всегда хватало. Помню, сразу после истории с Управлением «С» я поехал в Хельсинки.
В основном поездки в Финляндию были, конечно, поездками ВААПа, и я добросовестно работал на Агентство. А в «Доме» меня то наставляли «присматривать за Глазуновым в четверть глаза», то наказывали выяснить, почему это одно из старейших издательств — «Отава» опубликовало воспоминания о Шостаковиче очередного невозвращенца Самуила Волкова. Или, к примеру, почему другое издательство, тоже одно из самых солидных, «Вернер Сёдерстрём», собирается издавать «гнусную антисоветскую стряпню» Мартина Круза Смита «Парк Горького» и как бы помешать этому…
Я долго и безуспешно пытался убедить «искусствоведов в штатском» в том, что «Парк Горького» вовсе не антисоветская, а как раз просоветская книга, что один ее главный герой, американец, выведен совершенным негодяем, а другой — его русский оппонент — «хорошим парнем», и именно он одерживает победу в острой детективной истории — куда там… Если не ошибаюсь, именно под это поручение я и познакомился, а потом и подружился с заместителем директора «Вернер Сёдерстрём» Матти Снеллом, его очаровательной секретаршей Хеленой Арракоски и его другом Симо Мяенпяя.
Не помню точно, на скольких языках говорит Матти, но русский он явно выучил на каких-нибудь военных курсах «по подготовке к отражению русской агрессии». Матти видел меня насквозь и охотно разъяснял мне, почему «Отава» и «Вернер» издают не то, что хочется Кремлю, а именно то, что интересно финскому читателю, и то, на чем издательства могут заработать…
А фильм по книге, довольно известный у нас и неплохо сделанный, снимали в Хельсинки…
Матти рассказывал, что жители финской столицы не испытывают большой радости от съемок таких фильмов: красные флаги, лозунги, фанерные броневики, «человеки с ружьем», белогвардейцы, штурмы то Зимнего, то чего-то еще сильно надоедают даже спокойным финнам. А это ведь только кино…
Преследовали финны идеологические цели, когда издавали нежелательные для Кремля книги? Если да, то в очень небольшой степени. Они искали прежде всего экономической выгоды, да и ссориться с русским «медведем» было неразумно… Об этом я писал в своих отчетах и справках, стараясь как можно лучше отразить свои усилия в исследовании финского книжного рынка и его «зависимости от реакционных издательских кругов Запада».
Наверное, я не вполне прав, но у меня сложилось впечатление, что в КГБ, как и во многих других советских организациях, к Финляндии относились чуть ли не как к одной из советских республик — одновременно дружески, снисходительно, высокомерно и с некоторым подозрением: а не поведет ли себя слишком независимо?
Бывало, что когда складывались (или их складывали) ситуации, благоприятные для вербовки граждан Финляндии, начальство «упиралось» и не хотело подписывать соответствующих документов — в КГБ не одобряли вербовку жителей дружественных стран.
Тем не менее, по слухам, ПГУ держало там немалую резидентуру и добивалось неплохих успехов, работая против Америки и других стран «противника».
Слышал, что нашу разведку в Финляндии здорово «тряхнуло» бакатинское предательство — какие-то концы операции вокруг американского посольства вели именно к финнам.
****
Не хочу выглядеть нескромным, но думаю, что с чекистами ВААПу тоже повезло. На протяжении 13-ти лет, что я там проработал, в Агентстве перебывало нашего брата человек 15. Люди были разные, со своими достоинствами и недостатками. Одни поглупее, другие поумнее, одни «склонялись к зеленому змию», другие — нет. Неплохие ребята, за исключением одного из последних, который оказался редким лентяем, были и из разведки, все — работящие, толковые. В большинстве своем мы освоили вааповскую работу и вряд ли уступали в чем-либо сотрудникам Агентства — ну если только самым опытным из числа «межкнижников». Я настолько увлекся «подкрышной» работой, что часто чувствовал себя настоящим ваапмэном.
Думаю, что у всех нас сложились сравнительно неплохие отношения в тех коллективах, где мы работали (исключения, конечно, были), твердо помню, что никто и ни разу не использовал «оперативные возможности» против кого-либо из сотрудников Агентства. За все эти годы не то что кому-то закрыли выезд за рубеж (это считалось самой страшной карой), но даже «отмыли» несколько человек, которые пришли в ВААП невыездными — одним из них занимался я сам.
И все-таки мы — во всяком случае я — постоянно чувствовали со стороны некоторых коллег по Агентству какой-то холодок, неприязнь, что ли. Большинство моих товарищей, думаю, этого не заслуживали. А я — сам чувствуя это — становился все более жестким, сухим, и для кого-то, видимо, невыносимым. Работы было много, иногда наваливалась такая усталость, а то и отчаяние — например, во время нашего «греческого кризиса», что я уходил на Патриаршие пруды «к Берлиозу» и с полчаса, а то и больше сидел на лавочке, курил, «отмокал».
Как мне как-то сказал Ситников, я «изнемогал от человеческого несовершенства».
Будучи педантом по натуре, постоянно предъявляя к себе довольно высокие чиновничьи требования, делая все вовремя и никого никогда не подводя, я (глупо, конечно) решил, что могу предъявлять такие же требования к окружающим. Я забывал, что все они — штатские люди, за редким исключением, развращенные отсутствием дисциплины, инертные, не желающие пальцем шевельнуть без крайней нужды.
С большим трудом мне удалось за те годы научить десятка полтора человек пользоваться настольным перекидным календарем — убедить их в том, что для начала он ничуть не уступает компьютеру… Пунктуальность, обязательность казались им дикими и ненужными, а мои попытки приобщить их к работе, полной порядка и аккуратности, вызывали стойкое раздражение. С большим опозданием я понял, что многое из того, что я говорил и делал с самыми лучшими побуждениями, воспринималось только через призму моей принадлежности к КГБ, о которой не знал разве что дворник Агентства.
Думаю, что те из моих коллег по КГБ, кому, как и мне, не удалось «отрастить толстую кожу», чувствовали себя примерно так же.
Какой бы благородной нам не хотелось выставить нашу работу, все равно она часто представляет собой охоту на человека, и ничего тут не попишешь. А охота на человека, изучение его весьма часто приносят чувство невыразимого разочарования. Это происходит, например, когда кто-то, казавшийся образцом порядочности, мужества, скромности, на поверку оказывается совершенно другим.
Я вовсе не хочу сказать, что КГБ был упомплектован кисейными барышнями, только и знавшими, что переживать, но негативные ощущения и разочарованность накапливались у многих исподволь, незаметно, и иногда, по достижении «критической массы», человек срывался. Кто — незаметно для окружающих, а кто и не упускал случая отыграться на других — всякое бывало.
После невыносимо глупого и пошлого разговора с «человеком из бетономешалки» (чьи брюки никогда не встречались с утюгом), Юра Г., один из «подкрышников» в ВААПе вошел в одну из комнат отдела в «Доме» и коротким ударом карате двинул в стену — сломал руку в запястье, а ведь дал бы в лоб кретину — убил бы. «Дед» в таких случаях, пыхтя, спускался в вааповский дворик и долго ходил взад-вперед, кротко поглядывая на деревца и цветочки: общение с природой ему, наверное, помогало…
Панкина сменил новый председатель Правления — Константин Михайлович Долгов. Доктор философии, специалист по эстетике (и не последний в стране), он до назначения в Агентство «руководил» литературой в ЦК КПСС, и руководил, как рассказывали, круто. В скромный ВААП он принес жесткие манеры партийного аппаратчика, от чего вааповцы взвыли сразу же. Привыкший в ЦК к тому, что по одному его телефонному звонку сдвигались горы, Константин Михайлович долго не мог понять, как это, например, американские издательства не увеличивают выпуск советской литературы, когда на последнем партийном собрании Агентства было принято решение о «резком увеличении экспортных контрактов в США»? Мы ехидничали, предлагая высылать копии наших партийных решений в Ассоциацию американских издателей — тогда те наверняка увеличат количество импортных контрактов, причем именно «резко».
Долгов с ходу предал анафеме деятельность Бориса Дмитриевича в Агентстве, возмутился условиями работы и активно принялся проектировать новое здание ВААПа где-то у черта на куличках. По Агентству прошел тихий стон ужаса — большинство сотрудников работали там еще и потому, что жили в центре города, и перспектива тратить на дорогу полтора-два часа в день мало кого устраивала.
Через какое-то время Долгов осмотрелся и начал подбирать себе команду: он понимал, что ему необходимо на кого-то опираться, с кем-то советоваться. И, надо сказать, он неплохо подобрал людей — чутье и опыт матерого аппаратчика, помноженные на интуицию ученого, помогали ему разбираться в них. Но крутой нрав остался при нем, и весь третий этаж, включая «Дядю Васю», оказался по различным причинам у него в оппонентах.
А ведь «подкрышникам» необходимо поддерживать если не отличные, то хотя бы нормальные отношения с руководством — иначе работать в ведомстве прикрытия невозможно. Неожиданно для меня отношения с Константином Михайловичем сложились неплохие. Думаю, что это произошло по двум причинам. Во-первых, он уважительно относился к КГБ и не считал нужным скрывать это. Во-вторых, примерно половина из нас к этому времени была активно занята в самых интересных и самых денежных проектах. Я, например, «задружил» с американской фирмой «Юникавер», занимавшейся коллекционным фарфором, и контракт с ней на палехские рисунки для дюжины фарфоровых тарелок «весил» больше 200 тысяч долларов.
Успешно продвигались и мои дела по экспорту в США нашей НФ — научной фантастики. Думаю, что после Бэллы Клюевой и покойной Светы Михайловой — двух экспертов по фантастике, я был третьим, неофициальным, знатоком этого жанра. Я все еще читал фантастику по-русски, по-английски и по-шведски и, мало того, — имел в США неплохих партнеров, веривших моему вкусу и не «резко», но увеличивавших потихоньку выпуск НФ наших авторов.
Долгов фантастику не любил, он был в конфронтации с мудрейшим Николаем Пантелеймоновичем Карцовым, начальником Управления по литературе и изобразительному искусству. Я пытался стать чем-то вроде бампера между ними, «подбрасывал» Долгову самые интересные книги и монографии по фантастике, но все втуне — как представитель номенклатуры, он инстинктивно опасался НФ. А может быть, ему давали соответствующую накачку в ЦК? В конце концов, он так насел на Карцова, что тот был уже готов чуть ли не отказаться от работы с НФ. Помню, я даже осудил Николая Пантелеймоновича на каком-то собрании за уступчивость. И зря — за плечами у Карцова долгие годы борьбы с засильем ЦК на телевидении, он был не молод, не очень здоров, и лучше меня знал, где нажать, а где отпустить.
В конечном итоге мне, с использованием авторитета «Деда», удалось немного смягчить ситуацию: я заметил Долгову, что, если закрыть в ВААПе работу по целому жанру, это «будет использовано противником». Этот аргумент всегда срабатывал без осечки.
Тут-то и «грянула» уникальная история, случившаяся на протяжении всего существования ЧК только один раз и только с одним человеком — со мной. Ее можно озаглавить «За что боролся, на то и напоролся»…
Артур Кларк — один из ведущих фантастов нашего времени, блестящий ученый, футуролог, литератор. Это один из моих любимых авторов.
Услышав, что он написал продолжение знаменитой «Одиссеи 2001 года», я загорелся желанием прочитать его немедленно. Жена отправлялась в очередную командировку в США, я попросил ее привезти только что вышедшую в издательстве «Баллантайн» «2010 — Вторую Одиссею».
Еще с детских лет я не читал ни предисловий, ни послесловий — по крайней мере, до тех пор, пока не прочту книгу. Так произошло и в этот раз. Наскоро полюбовавшись суперобложкой и десятком различных вкладок невероятной красоты, я загнул все это под край «супера» и погрузился в блестящие выдумки любимого писателя. «Проглотив» книгу, я отвлекся на другие дела.
Примерно через полгода журнал «Техника — молодежи» начал публикацию книги Кларка в отрывках. К этому времени писатель был широко известен в нашей стране еще и как друг наших космонавтов, особенно Алексея Леонова.
Я решил еще раз, неторопливо, насладиться книгой и как-то вечером, устроившись поудобнее в любимом стареньком кресле, принялся перелистывать «2010 — Вторую Одиссею». Перевернув несколько страниц, я почувствовал, как волосы слегка шевельнулись на моей лысеющей голове: надпись на одной из них гласила, что автор посвящает свою книгу двум «великим русским», упомянутым в ней, — генералу Леонову и академику Сахарову. А ведь был конец 1983 — начало 1984 года, и академик Сахаров не по своей воле проживал в городе Горьком…
Я решил, что особой беды не будет, так как уже видел номер журнала, без этого посвящения, конечно, — Василий Александрович Захарченко, главный редактор, грамотно делил приключения на «нужные» и «ненужные». Обвал случился со стороны, совершенно неожиданной для меня.
Оказалось, что почти всем русским персонажам романа Кларк дал фамилии известных диссидентов — кто-то из сотрудников то ли УКГБ по Московской области, то ли нашего 5-го сразу брякнул в колокол. И пошло-поехало… Умысел автора был налицо, возражать против этого было бессмысленно. Самое смешное заключалось в том, что, не имея дела с диссидентами и не особенно интересуясь ими, я не знал этих фамилий и, дважды прочитав роман, не обратил на них внимания. Начались звонки в ВААП со Старой площади: там требовали крови — список наказанных по партийной линии.
Публикацию в журнале тут же свернули. Я затрусил к «Деду», но тот развел руками — ничего, мол, сделать не могу, в партийные дела вмешиваться невозможно, вывести тебя из числа намеченных жертв нельзя. Он мог, конечно, «отмазать» меня, но с этической стороны это было бы некрасиво, и я подумал — да гори все синим пламенем. В конце концов, получить выговор от КПСС за издание романа Кларка для любителя и знатока фантастики совсем недурно.
Бедняга Николай Пантелеймонович, в Управлении которого произошло это «ЧП», собрал всю прессу и все отзывы советских экспертов о Кларке, фотографии его в обнимку с Леоновым, но все втуне. Созвали партийное собрание и трем сотрудникам «врезали» по выговору. Некоторые смотрели на меня с нескрываемым удовольствием и интересом — дескать, как это кагэбэшник умудрился схватить выговор в ВААПе?
На разборке (раньше говорили — в прениях) я проблеял какую-то чепуху о том, что спутал, дескать, первый роман со вторым — названия действительно очень похожи, но принципиального значения это не имело. Свистнул партийный меч — значит, в пыль должны покатиться головы.
Но самое «интересное» меня ждало впереди — подошло время партийного собрания в «Доме», где тоже должны были как-то отреагировать на столь уникальный случай. Однако в контрактных тонкостях мало кто разбирался, и история больше вызвала улыбок и легкого недоумения, чем желательного для некоторых «справедливого возмущения». Особенно, как всегда в таких случаях, беспокоился «Пропойца»: нельзя ли прилепить еще один выговор — уже здесь, в КГБ? Его каким-то образом уняли и ограничились «обсуждением». Я стал невыездным — с партийным выговором за рубеж не выпускали, сорвалась поездка куда-то, куда, не помню. Жена, сначала переживавшая за меня, пошутила, что все-таки лучше тратить деньги на ширпотреб — практичнее и безопаснее «собрать все книги бы, да сжечь». Я резонно возразил, что подписал бы контракт, и не прочитав книги, — Кларк есть Кларк. Выговор меня нисколько не напугал, скорее позабавил.
****
А на нас накатывала перестройка: как хотелось всем (или почти всем) ощутить новизну, глотнуть чуть-чуть свободы! Гласность… Она была первым, единственным и бесспорным — но, увы! — недолговечным достижением этой химеры.
«Огонек», «Московские новости» потрясали живой журналистикой, разоблачениями, поисками нового, дискуссиями толковых обозревателей. Меня все это приводило в восторг — особенно огромное количество людей, умевших, оказывается, грамотно писать и говорить по-русски. Смущал только сам провозвестник перестройки с его «ложить», «принять», «начать», «облегчить». Я быстро научился улавливать в его выступлениях момент, когда его начинало «нести» и он говорил ради говорения, утрачивая смысл говоримого.
Приятно было видеть, как хорошо сшиты его костюмы, как изящно одета мадам Горбачева, но, когда замелькали на ТВ «случайные встречи» с трудящимися на улицах, я сразу вспомнил — «стоп, себе думаю, а не дурак ли я?»
В 5-м-то Управлении хорошо знали, как организуются такие встречи, и, например, отвечая на вопросы трудящихся в Вильнюсе, Михаил Сергеевич засбоил, затараторил, пытаясь не переубедить, а переговорить собеседников. Безуспешно…
Но это уже потом, позже, а пока я восторгался почти всем, что происходило вокруг. Мне нравились даже робкие еще наскоки на КГБ, редкие тогда. Нравилось, что КГБ больше не может оставаться вне «зоны критики». Я не мог предвидеть, что критика эта со временем превратится в травлю, потом настанет время «запретов на профессию», а позже будет разрушена полностью система безопасности огромной страны.
В КГБ к этому времени было закончено строительство нескольких новых зданий на Лубянке, и среди них — здоровенная башня на Пушечной улице, которую отдали 5-му Управлению. Интерьер — двери, окна, мебель в залах и некоторых кабинетах руководителей, люстры, оборудование столовых — был финского производства. Как и другие старослужащие, я был потрясен этой роскошью — на строительстве здания все чекисты отработали какое-то количество часов, но во время работ никто не представлял себе, как здание будет выглядеть, особенно внутри. В больших светлых комнатах тогда сидело не более двух-трех сотрудников, компактные сейфы были спрятаны в аккуратных деревянных шкафах, в избытке телефонов и всевозможного канцелярского оборудования. Измыслить, в какую копейку все это вылетело советскому налогоплательщику, было невозможно.
Построили подземные переходы из новых зданий в старое, в которых я сначала путался и предпочитал переходить из здания в здание по улице. Потом привык.
Особенно мне нравились двери — многослойные, тяжелые, снабженные замками известной фирмы «Аблой», они не просто плотно закрывались — внутри каждой двери было устройство, которое при закрытии опускало внизу какую-то планку, и щели под дверью не оставалось. Говорили, чтобы при пожаре не создавалось тяги для пламени, чтобы случайно не вынесло сквозняком документы. Я мрачно шутил: чтобы в коридорах не слышно было криков допрашиваемых.
Я тогда не особенно замечал происходившие во мне перемены. Сейчас, задним числом, они более заметны и понятны. Я почти перестал садиться за фортепиано, все реже и реже слушал музыку, разве что в машине. Только чтение оставалось любимым времяпровождением, да и оно наполовину было связано то с основной, то с вааповской работой: нужно было хорошо знать, что покупаешь, что хочешь продать. Я и до выговора, и после него старался прочитывать или, по крайней мере, просматривать наиболее интересные произведения, с которыми приходилось работать в Агентстве.
У оперативников, долго работающих «под крышей», постепенно утрачиваются связи в соседних подразделениях, управлениях Комитета. Иметь связи и контакты — значит уметь их поддерживать, и я старался, как мог, не забывать приятелей, работавших в соседних отделах.
Один из них служил в подразделении, занимавшемся радиостанциями «Свобода» и «Свободная Европа», и сейчас я часто вспоминаю его, когда слушаю передачи «Свободы» и чувствую себя при этом читающим «Известия» или «Московские новости» — настолько «Свобода» стала «своей».
«Свободе» очень не повезло с КГБ, который всегда имел там столько агентов и разведчиков, сколько хотел. Моим коллегам было даже известно, кто и почему ссорился внутри этого «коллектива». Многие ссоры, кстати, происходили из-за того, что сотрудники «Свободы» подозревали друг друга в сотрудничестве с КГБ (сотрудничество с ЦРУ само собой разумелось). Из кого формировался аппарат радио «Свободы» — и формируется сейчас, настолько понятно, что останавливаться на этом не стоит. Раньше официально признавалось, что «Свобода» существовала на деньги ЦРУ. Потом грех решили прикрыть фиговым листком — теперь, мол, деньги получаем от Конгресса США… В нескольких передачах радиослушателей убеждали в том, что сотрудники «Свободы» ну никак не ощущали влияния или давления со стороны ЦРУ. Конечно, не ощущали — разве только раз в неделю — в день получки! Что же на них было давить или влиять, когда целью и смыслом жизни каждого из них, как и каждого сотрудника ЦРУ, было разрушить или, по крайней мере, активно способствовать разрушению Союза, а сейчас — России… Отщепенцы, беглецы или насильственным образом высланные из страны, они почище любого западного спецслужбиста ненавидели Советское государство и были его непримиримыми врагами — лучшего материала для идеологической работы против СССР ЦРУ нигде не нашло бы. Долгое время совграждане то боялись, то брезговали общаться с сотрудниками «Свободы», самые смелые могли дать интервью «Голосу Америки» — государственной радиостанции США, но «Свободе» — ни-ни. Потом, когда перестройка покончила с радиоглушением (и слава Богу!), «Свобода» пошла внахрап. За некоторые, а потом и за многие интервью стали платить денежку, причем не облагаемую, конечно, налогами.
Потом «Свободу» хвалил и новый Президент, потом — все подряд, даже «демократический» российский посол в США продребезжал что-то одобрительное вроде того, что «Свобода» очень, дескать, полезную для России ведет работу… Почти официальной нашей радиостанцией стала организация, принадлежащая разведке главного противника и существующая на его деньги.
*****
Дипломатические приемы — это ярмарка тщеславия. Приглашенные экзальтированно приветствуют друг друга, как будто не виделись пару часов назад, скажем, в Доме литераторов. Но там есть и люди, которые работают, — это дипломаты и спецслужбисты.
Дипломаты «контачат» каждый на своем уровне, спецслужбисты из посольства «обеспечивают безопасность», их пришлые коллеги надзирают за приглашенными и тоже стремятся устанавливать «интересные в оперативном отношении контакты». А многие, особенно с некоторых пор, приходят поесть и выпить.
Одно из самых красивых посольств в Москве — шведское. И само здание, и сад необыкновенно хороши — действительно уголок Швеции. На вечерних приемах гостей обычно группировали несколько поодаль от стола, чтобы они вначале пообщались друг с другом. Потом, через полчаса примерно, по знаку кого-либо из посольских, гостей приглашали к столу с изысканной едой — даже хлеб шведы выставляли не русский. Приглашенные дружно склонялись над столом, почти одновременно начинали громыхать тарелки и вилки. Мы с Вощининым как-то поотстали и услышали, как атташе по культуре задумчиво пробормотал себе под нос по-русски: «Швед, русский колет, рубит, режет…»
Шведский язык я выучил (и вскоре забыл без практики), потому что на нем разговаривала жена. Два года ходил на городские курсы вечерами и уставал здорово. У шведов только и удавалось немного поговорить, да почитать иногда отличную газету «Дагенс Нюхетер», которую, как и другие зарубежные газеты, стали продавать в некоторых гостиницах.
Самый мощный состав посольства всегда был, конечно, у американцев — и приглашали они наиболее «нужных» людей. Особенно многолюдными и интересными были приемы в бытность послом Джека Мэтлока. Постепенно эти приемы превратились в выставки-ярмарки наших «демократов», которые соревновались между собой — кто больше понравится американцам, кто самый демократический.
Очень гостеприимны были финны — у них собирались огромные толпы народу, спиртное лилось рекой, и не раз приходилось с огорчением видеть, как советские гости позволяли себе лишнее.
Специальный рескрипт 2-го Главка — контрразведки: каждый опер, побывавший на приеме, должен обязательно «отписаться», что я и делал со своим обычным педантизмом. Таких аккуратистов было немного, а может быть, нечего было писать.
Очень хороши были приемы по случаю тезоименитства английской королевы. Англичане-дипломаты очень внимательны к гостям и не дают никому быть в одиночестве. Со мной как-то познакомилась пара очаровательных молодых людей — семья английского военного моряка. Они вызвались показать мне великолепную резьбу по дереву — в особняке посольства ее в избытке. Разговорились, и, узнав, что англичане находятся в Москве почти ровно год, я попросил офицера одной фразой выразить его впечатления от страны. Немного подумав, он решительно сказал: «Это мое третье дипломатическое назначение, но я никогда не видел народа, заслуживающего столь многого и имеющего столь мало…»
Шумно и многолюдно бывало у греков — там я «гостил» часто в течение нескольких лет, когда занимался с Энциклопедией. Может быть, мне это казалось, но у греков почему-то всегда собиралось много военных дипломатов из разных посольств в живописных мундирах, увешанных замысловатыми лентами, кистями и вообще военным «глазетом». Я любил их разглядывать, пока один из них, кажется бирманец, спутав меня с кем-то, спросил: «А почему вы сегодня в штатском?» Я не выдержал и так заржал — другого слова найти не могу, что бедный маленький генерал (а может быть и лейтенант — понять было невозможно) готов был вызвать меня на дуэль. Я долго извинялся, придумывая нелепые объяснения своему недипломатическому поведению.
На этих приемах я часто наблюдал за присутствовавшими на них нашими и иностранцами и с горечью убеждался в том, что большинство из нас слишком легко отличить от них. У военных редко встретишь элементарную выправку, у штатских — просто осанку. Об одежде и манерах говорить не приходится, и женщины, увы, не исключение, а если и исключение, то очень редкое. Да и откуда всему этому — выправке, осанке, манерам и умению одеваться — взяться в нашей нищей стране, при нашей системе воспитания и образования, при наших разваливающихся семьях… Русские видны издалека…
****
Очень сильное впечатление — особенно на спортивных болельщиков — произвело решение Президента Картера не посылать на Олимпийские игры в Москве американскую команду.
Я болельщиком не был и спорт не любил — предпочитал физкультуру и по-прежнему кряхтел по утрам со своими слишком тяжелыми гантелями.
На период Олимпийских игр меня вместе с несколькими другими сотрудниками включили в «спецгруппу», дежурившую в две смены днем и ночью в «Доме». Полностью ее функций никто, кажется, себе не представлял — в общем, считалось, что «в случае чего» дежурившие должны (неизвестно каким образом — машины за группой закреплены не были) перебрасываться в район «возможных происшествий».
Эта группа была вооружена не обычным табельным оружием, а впервые увиденными мною газовыми пистолетами: очень нескладные на вид, они были довольно интересно решены с инженерной точки зрения — стволом, собственно, служил сам патрон.
Олимпийские игры 1980 года были сказочной интермедией для москвичей: каким-то образом (оказывается, можно!) в Москву был сильно ограничен въезд даже советских граждан, и город за две или три недели сильно изменился — стало гораздо чище, меньше очередей, в магазинах даже москвичи могли наконец что-то купить. Ведь обычно там все расхватывалось приезжими…
****
Работа в Агентстве давала возможность встреч с интереснейшими людьми, особенно из писательской среды. У каждого или почти у каждого из ваапманов были свои любимые писатели, художники, хореографы. Люда Смирнова была помешана на Большом, знакома, как мне казалось, со всеми — от Григоровича до рабочего сцены. Это одна из причин издания за рубежом большого количества книг о театре, о певцах, певицах и хореографах, об операх и балетах.
Помимо НФ я постоянно занимался «продвижением» произведений писателей — участников войны: Бакланова, Быкова, Бондарева. Будучи совершенно штатским человеком, я понимал, или мне казалось, что понимал, значение войны в жизни человечества и значение литературы о войне. Одной из моих скромных целей было «продвинуть» в США книги наших лучших писателей-фронтовиков.
Жизнь американцев — благодаря географическому положению страны и в основном мудрой политике руководителей — сложилась таким образом, что почти до последнего времени этот народ плохо представлял себе, что такое война.
Она всегда была где-то далеко и даже для участников-американцев начиналась прежде всего с путешествия, которые американцы очень любят. Красивые, с налетом элегической грусти, проводы, потом долгое плавание или длительный полет, потом — обязательные приключения и некоторые тяготы — санузел в казарме, например, устроен не так, как в Чикаго, томаты только консервированные, свежих уже неделю (!), как не завозят…
Ну, на войне, конечно, убивают, но на этот счет американцы разработали очень красивую церемонию похорон, сворачивания флага и т. д. А главное заключается в том, что все это происходит где-то далеко, кровь, грязь, зловонные бинты, оторванные руки и ноги являются принадлежностью пейзажей, изумительно далеких от родных американских берегов. На родину же прибывают аккуратные, красивые гробы, звучат оркестры, склоняются знамена, зеленеют ухоженные ветеранские кладбища. Горе от потери близких имеет опрятный, благопристойный вид, а скорбные церемонии, наверняка разработанные спецами из Голливуда, соединяют скорбящих со зрителями и делают их как бы участниками одного и того же спектакля. Кстати, в этом может быть ничуть не меньше человеколюбия, чем показухи, просто американцы любят устраивать шоу из чего угодно, и правильно делают.
Тем более, что встречи ветеранов, вернувшихся живыми и увешанных ленточками, каждый маленький городок окружает таким грохотом, что тихую музыку похоронных процессий не так уж и слышно…
Мне хотелось, чтобы американцы хоть почитали о том, что такое настоящая война, когда она у тебя в доме топает солдатскими сапожищами, выгребает из сундука содержимое и распихивает по своим ранцам, жрет за твоим столом, гогочет над фотографией мужа, убитого в июне 41-го, тащит твою дочь в сарай, стреляет в курятнике из автомата… Мне хотелось не напугать американцев всем этим, а помочь им понять, что происходило не раз в нашей стране и что наложило вечный, неистребимый отпечаток на нашу психологию, образ мыслей, привычки, обычаи. Мне казалось, что даже те немногие, кто прочитает такие книги, смогут, быть может, представить себе нашу страну не так, как она изображена в голливудских фильмах с участием Фреда Астера.
Работа по продвижению таких книг в США — дело непростое. Здесь нельзя быть слишком упорным, чтобы не возбудить подозрений в «идеологическом проникновении», нужно находить людей, читающих по-русски, могущих объективно оценить произведение и высказать веское мнение в нужное время и в нужном месте.
Своими крупными удачами в США я считаю две книги, опубликованные там: «Навеки девятнадцатилетние» Бакланова и «Волчья стая» Быкова.
Книга Бакланова включала еще и большое количество наших и немецких военных фотографий, которые автору и редактору потрясающим образом удалось связать с текстом. Думаю, что решение «Даблдэй» опубликовать «Навеки девятнадцатилетние» в значительной мере зависело от этого.
Подписав контракт, я ходил «грудь колесом», и каков же был мой ужас, когда Григорий Яковлевич Бакланов беззаботно сообщил мне, что издательство «Советский писатель» потеряло все материалы к книге, включая негативы, слайды и что-то там еще. Григорий Яковлевич пришел в ВААП вместе со своим другом, который имел отношение к оформлению книги (кажется, тоже Григорий), и два красивых, немало повидавших человека стали снисходительно объяснять мне, что все это чушь, что они вон какие еще подберут фотографии для «Даблдэй» — закачаешься. Но я уперся: хороший литературный агент чувствует себя немножко автором полюбившейся ему книги. Я знал, что стоит Григорию Яковлевичу захотеть, и «Советский писатель» перероет все, но фотографии найдет.
Так оно и вышло — я проявил упрямство и переспорил «отцов».
А «Волчья стая» вообще вошла в десятку лучших книг для юношества, рекомендованную для всех американских библиотек. Не помню, какое издательство ее выпустило, а рекомендовала, если не ошибаюсь, аж Ассоциация американских библиотек…
Но все это были отдельные успехи, а вот работу с американским издателем Гербертом Аксельродом можно смело назвать крупной победой советско-американского сотрудничества в области книгоиздания.
Герберт — внучатый племянник Павла Аксельрода, которого так невзлюбил в свое время Владимир Ильич Ульянов. В юности он занимался медициной и бизнесом — первый миллион был «сделан» в 18-летнем возрасте…
Я и мои коллеги в Агентстве не переставали удивляться многообразию интересов и знаний Герберта и его «патологической» энергии. Уже будучи медиком, он попал на корейскую войну, а там и в китайский плен — словом, хлебнул лиха. Рассказывать об этом не любил, каждое слово приходилось тащить клещами. Но еще он любил музыку и неплохо играл на скрипке. Профессионального музыканта из него не вышло, о чем он, мне кажется, сожалеет до сих пор.
Герберт Аксельрод — владелец довольно большого издательства в городке Нептун-сити в штате Нью-Джерси. Это издательство делится как бы на две части, одна, «ТФХ», — самое большое издательство в мире по выпуску литературы о животных. Вторая половина фирмы — «Паганиниана» — издает литературу по музыковедению, жизнеописания музыкантов, историю музыкальных инструментов, книги по балету и хореографии. Читательская аудитория была выбрана единожды и навсегда и — безошибочно: домашние животные в Америке, как и в любой цивилизованной стране, — любимцы населения, и к ним примыкают все новые и новые виды, породы. Удавы, черепахи, хамелеоны — Бог знает кто еще собирается пополнить семью меньших братьев американцев. Среди сотен ежегодно выпускаемых в «ТФХ» названий — пособия по разведению и выращиванию этих животных, руководства по лечению их от болезней, гигантские и малые атласы по собакам, кошкам и особенно — по аквариумным рыбам.
Доктор музыковедения Аксельрод — еще и автор десятков исследований об аквариумных рыбах, и некоторые из них названы, представьте себе, его именем…
А среди постоянных подписчиков «Паганинианы» — пять тысяч ведущих музыкантов и музыковедов, дирижеров и хореографов, а также увлекающихся музыкой королей, шахов, принцев и пр.
Между делом Герберт коллекционирует камерные музыкальные инструменты. Кто-то из общих знакомых американцев рассказывал, что держать всю коллекцию в одном месте ему запрещено правительством США: в случае утраты это будет бедствие национального масштаба…
Герберт и его красавица жена Эвелин были участниками и спонсорами десятков музыкальных фестивалей, в том числе и конкурсов Чайковского в Москве. Все сколько-нибудь известные советские музыканты если не друзья, то знакомые семьи Аксельродов. Он помогал, например, Ростроповичу и Вишневской в первые годы их жизни в США, о чем я добросовестно писал в своих отчетах — знал, что начальство их читает наискось.
До какого-то времени казалось, что рассказы Герберта о его собственной популярности несколько, мягко говоря, преувеличены, но однажды я убедился, что мой американский друг просто скромничал. Как-то раз Герберт, будучи в Москве, сказал, что собирается съездить на Птичий рынок, где я, москвич, ни разу не бывал. Я предложил Герберту и Эвелин отвезти их, было воскресенье. Герберт показывал дорогу от гостиницы «Украина» до Птичьего рынка, что уже удивило меня немало — иностранцы, особенно американцы, чьи города размечены чуть ли не по линейке, плохо ориентируются в Москве.
Но на рынке я был по-настоящему потрясен. Герберт знал в лицо и был знаком с десятками торговцев аквариумными рыбами, а они знали его… Мало того, дважды подбегали какие-то шустрые мальцы и просили «доктора» надписать им его книги… Я был просто ошеломлен, а Герберт и ухом не вел — он передвигался по рынку, как какой-нибудь вуалехвост по аквариуму. Одновременно наслаждался произведенным эффектом и собственной известностью. Он восхищался изобретательностью наших аквариумистов и чистотой пород выводимых ими рыбок, говорил о том, что экспорт аквариумных рыб из СССР дал бы ежегодный доход порядка 14 миллионов долларов… Ему виднее… Он к тому же изобретатель десятков, а может быть, и сотен аквариумных устройств, приспособлений для фотографирования рыб и животных, его предприятия изготавливают для них всевозможные корма, а также пластмассовые заменители косточек для собак, поводки и т. д. и т. п. А еще доктор Аксельрод — заядлый рыбак и то в Нью-Джерси, то во Флориде «вынимает» из морских пучин рыбку метра в полтора-два длиной.
Будучи в течение нескольких лет довольно известен как импрессарио, он привозил в США наших музыкантов, организуя для них гастроли. Тут, правда, его терпения хватило ненадолго — Госконцерт способен быстро отпугнуть самого терпеливого партнера.
В середине 80-х Герберт тяжело заболел, надежд на выздоровление было немного. Однако воля к жизни, выдержка, искусство врачей и, конечно, деньги одержали победу над почти неизлечимой болезнью.
У Герберта работает человек сто, и дело расширяется, даже когда по всей Америке спад производства. Путешествия, деловые поездки, переговоры и встречи с друзьями, благотворительность — времени хватает на все.
В какое-то время Герберт увлекся Горбачевым и издал книгу «Горбачев и трагедия в Чернобыле», которую американская критика разругала как «красную пропаганду». В книге, и правда, кроме десятков официальных фотографий отца перестройки и полностью приведенных партийных документов ничего не было — действительно пропаганда. Америка устояла, не поддалась на нее…
Мы десятки раз встречались в Москве, во Франкфурте, в Нептун-сити, и всегда он полон идей, замыслов, проектов. Он бегом проносится по своим владениям в «ТФХ», гордясь то новым упаковочным цехом, то огромным аквариумом, вмонтированным в стену типографии, то компьютерным оборудованием издательского отдела.
Однажды я встречал Герберта в Шереметьеве поздно вечером, и, укладывая в багажник машины чемоданы, он попросил завезти утром в ВААП тяжеленный сверток — это подарок для Агентства, пояснил он. Я поинтересовался, что бы это могло быть, и Герберт разрешил развернуть сверток, но только доставив его в ВААП.
Утром я втащил небольшой, но очень тяжелый куль на четвертый этаж Агентства, долго его распаковывал, а распаковав, затрясся в приступе почти истерического смеха. Это был тщательно отлитый из бронзы бюст Брежнева…
Поставив бюст на свой стол, я скромно склонил голову над бумагами и в течение часа (ваапманы приходили на работу не торопясь) наслаждался произведенным эффектом.
Долгов, для кабинета которого предназначалась статуя вождя, поиграл бровями, спрятал улыбку куда-то под воротник, но бюст в кабинете оставил.
«ТФХ» издало серию книг о советских и зарубежных музыкантах и композиторах, написанных советскими авторами. Были, кроме того, изданы книги по всем балетам в постановке Григоровича, с которым Герберт очень дружен.
Однажды, сидя в Агентстве, я поднял телефонную трубку и услышал голос заведующей ассортиментным кабинетом, куда поступали все книги, присылаемые из-за рубежа:
— Евгений Григорьевич, тут пришла одна книга из Америки, она посвящена вам, я не знаю, что с ней делать…
— Это как — мне?
— Да вам, вам, тут написано…
Цепенея от недобрых предчувствий (наверняка провокация спецслужб противника…), я поплелся вниз. В ассортиментном кабинете мне вручили небольшую красивую книгу с фирменным знаком «ТФХ» (от сердца сразу отлегло) под названием «Руководство для начинающего аквариумиста». На титульном листе здоровенными буквами было пропечатано — «Посвящаю моему дорогому другу Евгению Григу. Д-р Герберт Ричардс» (это псевдоним Аксельрода).
Я все равно не избавился от опасений — теперь уже подозревая Герберта в каком-то розыгрыше. Долго рассматривал фотографии рыбок — не похож ли на какую-нибудь? Нет, сходства не обнаружил. Добросовестно прочитал книгу, хотя в аквариумисты не собирался. Ничего подозрительного — никаких намеков на КГБ, в сотрудничестве с которым Герберт меня периодически в шутку (или не в шутку?) шумно подозревал.
Я не утерпел и позвонил в Нептун-сити. Герберт путешествовал, и я разговаривал с его секретарем, очаровательной Пэтти Энглин. Подтвердив получение книжки, я начал мямлить что-то невнятное, и Пэтти, наконец, вспомнила: «Ах да, я поздравляю вас, доктор посвятил эту книгу вам… Он иногда так делает, любит сделать приятное друзьям…»
Многие из работавших в ВААПе благодарны Агентству за то, что оно дало возможность увидеть мир, встретить прекрасных друзей.
****
Конфликт между Долговым и Вощининым завершился отъездом Николая Михайловича в Женеву для занятия там какой-то значительной должности в ЮНЕСКО. Прощались невесело — я упрекнул Вощинина в том, что он не берет с собой в Швейцарию хоть одного-двух вааповских подвижников, которых он, кстати, очень ценил. Вощинин только плечами пожал, и разговор не получил продолжения. Я давно заметил, что люди с третьего этажа, перебираясь с места на место, меняя кабинеты и учреждения, никогда не брали с собой даже самых толковых работников. Шагали себе вперед и вверх, переступая через друзей и товарищей.
А события и новости валились на голову, как крупный град. Наши властители призадумались, например, над вечной проблемой пьянства в СССР и решили с маху, одним ударом и в короткое время покончить с этим действительно безобразным явлением: видимо, в этот период и зародилось понимание генетического вырождения населения нашей страны. Они беспокоились не зря.
Один из наших «медиков» из «Дома» украдкой дал мне почитать выдержки из какого-то медицинского документа, который он притащил из Академии наук для ознакомления с ним Большого Руководства. Не знаю, что сказало по поводу этого документа начальство, но, прочитав его, я долго не мог прийти в себя. Много позже, лет через пять-шесть, я читал куски из этого документа в каком-то журнале, в виде статьи или интервью.
Речь шла о жутком процессе дебилизации нашего общества, вещи была названы своими именами.
В течение XX века население подверглось двум страшным воздействиям — физическому уничтожению в войнах и репрессиях миллионов граждан (подсчеты могут быть только приблизительными) и разгулу алкоголизма, унесшему (и продолжающему уносить) чуть ли не такое же количество наших соотечественников. В документе говорилось, что, по подсчетам Менделеева, к 2000 году в России должно было бы жить около 600 миллионов человек; на самом деле в СССР нас было около 300 миллионов — вдвое меньше. Особенно подчеркивалось, что алкоголизм поразил все слои общества — рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию. А самое главное, и это наверняка делало документ секретным, там описывались примеры алкоголизма в высших кругах нашего руководства — от Сталина до Брежнева, перечислялись фамилии, описывались загулы наших вождей внутри страны и за рубежом. При этом делался вывод, что дебилизация, являющаяся непременным спутником алкоголизма, вместе с ним проникла и «наверх». Отсюда и дебильность принимаемых там решений…
Вот и с алкоголизмом решили бороться явно дебильными мерами. Закрывались и демонтировались заводы-производители «горячительного», вырубалась лоза — невосполнимая для виноделов потеря, средства массовой информации бросились развлекать нас лицемерными действами вроде комсомольских безалкогольных свадеб — смотреть было противно…
В государственных учреждениях СССР и за рубежом антиалкогольная кампания приняла одинаково идиотические формы и содержание — перестали подавать спиртное на приемах и официальных обедах, повалили валом анонимные письма на алкоголиков или «только что выпивших», завязались интриги среди высшего начальства на этой почве, одним из «сгоревших» был ленинградский партийный босс Романов, постоянно нахмуренный и чем-то недовольный.
Нет, не верится, что пьянство — национальная русская черта или любимое занятие народа с тысячелетней историей, славными предками, обширными просторами и богатыми недрами. Дело, думаю, в том, что в течение последнего века жизнь на этих огромных просторах сложилась такая, что невыносимость ее не вполне осознается большинством населения — другой почти никто не видел. Подсознание здесь, видимо, работает как бампер и в судорожных поисках противовесов реальностям находит только один — бегство от этих реальностей в наркологический туман. В нем исчезают миллионы, туда проваливаются уже и дети…
****
Я так и не провел положенный год в партийном «отстойнике». Долгову понадобилось ехать в Америку, и он повелел парткому ВААПа снять выговор с меня и моих товарищей по несчастью. В делегацию были включены Георгий Иванович Исаченко, директор ВААПинформа — он проработал в Америке более 15-ти лет, и Иван Филиппович Сеничкин — зав. сектором издательств из ЦК КПСС. Он всегда восседал в президиумах вааповских и госкомиздатовских собраний и строго посматривал в зал. Малорослый, напоминавший мне одного из моих школьных приятелей — домниковских хулиганов, Иван Филиппович был ветераном войны, и его «иконостас» с трудом помещался на пиджаке. Говорили, что маршал Жуков упоминал его в своих мемуарах как человека редкого мужества.
«Америка — это не другая страна, это — другая планета…» — так ответила на мой вопрос Света Тонкова, сотрудница одной из книжных выставок, с которыми мы ездили по США. Я спросил ее после месяца пребывания в Штатах, как она там себя чувствовала.
Сейчас Америка у всех на устах в нашей торопливо и безуспешно американизируемой стране, жаль только, что никто не хочет рассказать, почему Америка стала такой, а американцы — такими, почему, хорошо зная все пороки и недостатки американского общества, миллионы людей все-таки мечтают о жизни там и добираются-таки до благословенных берегов.
«Далеко-далеко за морем стоит золотая стена, в стене той заветная дверца, за дверцей большая страна…»
Мне кажется, существует очень простой способ объяснить, почему Америка и американцы — такие. Представьте себе, что сейчас, в наше время, в нашей разрушенной и поруганной стране вдруг становится известно, что где-то у черта на куличках, за океаном, лежит огромный материк. Ничей. Полно земли, воды, рек, лесов, недра богаты всем, что необходимо для развития цивилизации, климат дивный… Одна загвоздка — это дикая, неосвоенная земля, и там все надо начинать с самого начала — копать, строить, проводить каналы, искать золото, разводить скот, жить в фургонах и отбиваться от полудиких аборигенов…
Но это будет ваша земля, ваша свобода от тех гнусностей, что творятся сейчас в России, от нищеты, постоянной подчиненности дебильным правительствам, от опасной загрязненности жизни и в городе, и в деревне… Как вы думаете, многие бы поехали?
Вот то-то и оно, что немногие. И тогда, 200 с лишним лет назад, поехали далеко не все. Многие предпочли дотягивать свой век за «чертой оседлости», в стареющих европейских городах, в нищающих деревнях… Худо, но свое, привычное. А те, кто поехали, — они-то и сделали, построили Америку такой, какой мы ее знаем (или думаем, что знаем). Вот почему Америка — это Америка.
Дух освоения, обустройства и выживания в любых условиях успешно передавался от поколения к поколению и крепчал с каждым годом. Сказки наших партийных бонз о том, что Америка богата потому, дескать, что обокрала весь мир — это дикая чушь, созданная для самоуспокоения, для обмана собственного народа. Конечно, Америка и ее политики не безгрешны, но за 200 лет создать такую уникальную цивилизацию, выстроить такие города, возделать рачительной рукой такие поля, создать такое искусство, замешав все это на воровстве, невозможно.
Даже де Голль, известный американофоб, во время самого острого из франко-американских кризисов, когда Франция потребовала обеспечить американским золотом все доллары, скопившиеся у нее, заявил, успокаивая своих радикалов: «Все, что имеют американцы — заработано ими…»
Я многажды бывал в разных городах Америки, повидал и американскую глубинку, общался с самыми разными людьми, особенно часто — с молодежью.
Сколько бы ни утешала себя Европа новостями и рассказами о недостатках американского общества, расовых беспорядках, промышленных и экономических спадах, изъянах американского образования и т. д., и т. п., иногда кажется, что наш мир через 100–150 лет будет американским. Это не значит, что он будет лучшим из миров, нет, но американским он, похоже, будет (не дай-то Бог), и эту точку зрения разделяют многие, знающие Америку.
Никакая другая нация не движется вперед так самоупоенно, как американцы, никто так не рвется к вершинам профессионализма, как это делают они, мало кто из других народов добивается совершенства в проектах, потрясающих своими масштабами, в операциях — военных или финансовых, поражающих своей продуманностью и одновременно — дерзостью.
Америка, не торопясь, проникает в жизнь всей планеты через жевательную резинку, «Макдоналдсы», музыку, кино, литературу, видео, через технику и технологию, которые, хотя кое в чем временами и отстают, но в целом продолжают оставаться очень, очень передовыми…
Американская деловитость и трудолюбие известны везде, американская способность к организации всего, что требуется организовать, американское умение из чего угодно сделать шоу — и недурственное — не могут не привлекать внимания и симпатий молодежи повсеместно. А будущее, понятное дело, за ней, за молодежью.
Сами молодые американцы — я выступал с лекциями и беседами примерно в сотне американских школ, колледжей, университетов, не очень глубоко понимают исключительность своей собственной страны, условий, в которых они живут, учатся, растут. Взрослых американцев несколько беспокоит то, что молодежь воспринимает окружающее как должное, не отдает себе отчета в том, каких усилий старшим поколениям стоило построить такую страну и обиходить ее, организовать такое общество и гарантировать его стабильность.
Взрослые переживают еще и потому, что им известно — у молодежи не будет такой комфортной жизни, какая была у них: медленно, но неуклонно жизнь дорожает и здесь. Ее качество становится все выше, американцы окружают себя все более замысловатыми устройствами и удобствами, которые недешевы, но в стране, где комфорт прочно вошел в жизнь почти каждого, за него готовы платить.
Большинство взрослых американцев — и «коренных», и даже только что ставших гражданами Штатов — исключительность этой страны и ее народа ощущают и осознают достаточно глубоко. Америке очень повезло в том, что эта исключительность была осознана и идеологически оформлена не каким-нибудь маньяком вроде Гитлера или Пол Пота, а одним из основателей Америки — третьим ее президентом Томасом Джефферсоном.
Его президентство длилось около десяти лет в самом начала XIX века, и, будучи человеком рассудительным и здравым, Джефферсон умудрился в своей доктрине соединить американский изоляционизм и внешнеполитическую экспансию США. Европа, которую покинули и продолжали покидать будущие американцы, оставалась в их памяти континентом бесконечных захватнических войн, милитаристских союзов, феодальных замашек верхушечных слоев. Базой международного права считалась — и была — сила.
Джефферсон основывался в своих теориях на равноправии больших и малых народов, невмешательстве других стран в политическую жизнь любого государства, не говоря уже об изменении ими строя этого государства. Он не только теоретизировал — в период его правления армия и флот США были практически демобилизованы, многие дипломатические представительства США за рубежом закрыты. Америка занялась своими внутренними делами — свойственный американцам внешнеполитический (и не только внешнеполитический) прагматизм подсказывал им, что самоизоляция даст возможность двинуть вперед экономику, торговлю, отказаться от военных приготовлений и участия в войнах.
Первая часть доктрины Джефферсона как бы замыкала внимание американцев на их собственных проблемах, не давала распылять силы и средства на что-нибудь вроде «интернационального долга» или «соединения всех пролетариев» и, видимо, заложила теоретические и практические основы современного американского экономического расцвета.
Далее в теориях Джефферсона с большим вкусом и тактом обосновывался тезис о том, что «хорошесть» США и американцев должна послужить примером для всех остальных стран и народов. При этом подчеркивалось, что речь идет именно о «моральном примере», «духовном руководстве», «моральном лидерстве» США в системе международных отношений.
Я — американист в первом приближении, но мне кажется, что все дальнейшие внешне— и внутриполитические доктрины американских лидеров были построены на фундаменте, заложенном Джефферсоном. А потом через систему средств массовой информации, через систему образования и воспитания, наверняка через влияние различных церквей исключительному народу была объяснена его исключительность, обоснованы нежелание следовать архаическим ценностям Старого Света и готовность нации устремиться к новым идеалам свободы, «равных» возможностей (а вовсе не равенства) и твердо гарантированного права на собственность.
Думается, это очень важно для молодого, динамичного народа — своевременно осознать свою сущность и иметь грамотно очерченные перспективы развития, понятные и приемлемые для большинства. «Американский образ жизни», «Американская мечта» — вовсе не набор наших газетно-пропагандистских штампов, как некоторые долго думали, а совершенно конкретные и понятные американцам вещи.
Навряд ли о каком-либо другом городе написано и рассказано столько, сколько о Нью-Йорке, а чаще всего о Манхэттене. Архитектура Манхэттена — действительно застывшая музыка, причем Вагнер и Эллингтон, Чайковский и Гершвин, Бах и Джером Керн — все слились в невероятной, но стройной симфонии, воплотившись в многоцветном стекле, бетоне, стали, бронзе. Как и все великое, эта архитектура не принадлежит только Нью-Йорку или Америке, это собственность мира, и, шагая по Манхэттену, ощущаешь гордость от принадлежности к человеческой расе. Нью-Йорк — не «город желтого дьявола» и не «город социальных контрастов». Это город единства и борьбы противоположностей. Единства и борьбы.
Здесь человеческий разум взлетает выше небоскребов и оглядывается на вас из неведомых далей, зовя за собой. Здесь же, рядом, он неторопливо исследует содержимое мусорных ящиков и не особенно этого стесняется.
Центральный парк — 400 гектаров зелени, спортивных площадок, прудов в летнее время и катков в зимнее, влюбленные любят вечером кататься вокруг него в такси… Как и весь город, Парк пыльноват и грязноват, как и весь город, он слишком велик, чтобы быть должным образом ухоженным, но ньюйоркцы, да и приезжие любят его, правда, исключительно в дневное время; вечером и ночью он опасен.
Где-то здесь, как рассказывал на одной из встреч с молодежью КГБ Рудольф Абель, все еще лежит спрятанный им передатчик. Если бы его нашли при аресте полковника Абеля, суд мог бы вынести еще более суровый приговор. Но, доказав факт сбора Абелем секретной информации, ФБР не сумело доказать факт ее передачи…
Нью-Йорк — город-работяга, может быть, больше работяга, чем вся остальная Америка. Чудесно в утренние часы двигаться вместе с потоком ньюйоркцев, спешащих на работу. Экстравагантные секретарши и менеджерши выпархивают из автомобилей и, путаясь в замысловатых плащах, пончо или шубах, стремительно вбегают в подъезды великолепных зданий. Деловитые старики в отлично сшитых консервативных костюмах и двухсотдолларовых ботинках не спеша направляются в свои конторы и офисы, по-хозяйски поглядывая вокруг, — это их город, они его построили и задали ему бешеный ритм, от которого сатанеют и теряются приезжие даже из других американских городов. Но вообще-то это город для молодых, там они карабкаются «наверх», недаром в популярнейшей песне из фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» поется: «Если у тебя получится в Нью-Йорке, значит — получится везде…»
Нью-Йорк — формально моя «историческая» родина, в один из приездов я разыскал больницу, в которой родился. Я опоздал — архивы там хранятся 50 лет, но мое свидетельство о рождении все еще действительно…
С годами Нью-Йорк нравился мне меньше и меньше — я быстро уставал от него, хотя все равно чувствовал желание подсобраться и побежать вслед за ним, Нью-Йорком, вприпрыжку.
Бесконечные потоки элегантных автомобилей, автобусов и даже грузовиков, хотя днем грузовики — редкость, по улицам люди не гуляют, а идут, причем твердо знают, куда, к каждому подъезду что-то подвозят, подносят, везде что-то нагружают либо разгружают, на каждом шагу что-то агрессивно или меланхолично продают, везде реклама, на которую якобы не обращают внимания, но подкоркой внимательно изучают, сумасшедшая череда невероятных запахов, лица белые, черные, арабские, японские, бородатые, усатые, все — при деле, походка у всех одна и та же — деловая. Никто не стоит на месте, задумавшись, — на это нет времени, все энергично прет куда-то.
В воскресенье десятки желтых кэбов — такси — стоят, прижавшись к тротуарам, водители, собравшись в кучки, покуривают, поглядывают на прохожих без особой надежды — еще рано куда-нибудь ехать, по воскресеньям Нью-Йорк просыпается не спеша. Женщины в бигуди, а иногда и в халатах спускаются в ближние лавочки за чем-то, чего не хватает для завтрака, старички, еще не успевшие побриться, тащатся за воскресными, вполпуда, газетами…
А вокруг Центрального парка некое движение уже началось; туристов из-за рубежа и других американских городов катают на пожилых лошадках, запряженных в разнообразные экипажи — просто старые или сделанные под старину. Возницы в цилиндрах или неизбежных бейсбольных кепочках, запах конюшни, мягкие лошадиные губы аккуратно подбирают с протянутых ладоней поп-корн, печенье, орехи — у кого что есть.
****
Уже несколько лет офицеры КГБ в ВААПе внимательно наблюдали за тем, как разворачивались драматические события вокруг уступки прав на издание в США журналов, выпускавшихся Академией наук СССР и ее институтами. Как известно, советская сторона в этой области занималась исключительно пиратством — несколько институтов АН СССР выписывали наиболее интересные американские научные и технические журналы, гораздо более откровенные, между прочим, чем наши, и полуподпольно их репродуцировали в количествах, потребных определенному кругу ученых.
Американцы занимались примерно этим же, хотя их заинтересованность успехами нашей науки и техники была, понятное дело, не так велика. Потом, в течение двух-трех лет положение стало понемногу нормализовываться — американцы (в основном издательства «Плинум» и «Гордон и Брич») постепенно приобрели права на издание более 250 научных журналов. СССР имел с этих контрактов ежегодно миллионы долларов.
В Москве группа переводчиков и экспертов в различных областях науки и техники переводила весь этот огромный материал, и его «гнали» в Америку, где он слегка редактировался и шел в печать. Казалось бы, все довольны? Ну нет… Сначала была проявлена «пролетарская бдительность». Иван Филиппович Сеничкин на полном серьезе рассказывал мне, как «американцы засовывают весь материал, полученный из наших научных журналов, в компьютер, нажимают кнопку, и компьютер выдает открытие…» Разубедить его было невозможно. Другой мыслитель, недолго побывший в ВААПе между двумя посольскими должностями, горевал по поводу того, что к американцам попадают наши журналы по сельскому хозяйству — это же ужас, что они там прочитают… В общем, некоторые бдительные товарищи уже кокетливо употребляли в своих выступлениях такие выражения, как «утечка информации», «торговля Родиной» и прочее. Вторым планом (а возможно, и первым) шла волна «народного гнева» по поводу высоких заработков переводчиков; тут некоторых ваапманов обвиняли во взятках, получаемых от этих переводчиков, а заодно и от американских издателей. Начальство в «Доме» озабоченно хмурило брови и требовало от нас «разобраться, наконец, что там с утечкой важных сведений»…
Поначалу мы несколько растерялись перед натиском радетелей за интересы Родины, потом, собравшись с мыслями, принялись за работу. Естественно, еще раз были проверены все — и американцы, и советские участники этих переговоров и контрактов. Результаты — отрицательные, то есть, точнее говоря, — никаких. Мы, конечно, допускали, что кто-то кому-то что-то подарил, «положил на лапу», но суть контрактов на издание научных журналов была совершенно понятна любому ваапмэну. Просто американская сторона имела возможность заплатить. И предпочла это сделать, как и полагается цивилизованному партнеру.
Меня вааповское начальство включило в группу, исследовавшую заработки переводчиков. При этом, видимо, имелось в виду, что КГБ бросит все оперативные возможности на розыск взяточников и тунеядцев. Я же посадил за подписанные контракты пару вааповских бухгалтеров из лучших и попросил их исследовать простую проблему — получают ли переводчики положенные им по контрактам суммы или здесь возможны какие-то нарушения? Нет, никаких злоупотреблений не было выявлено. Я доложил комиссии результаты своих исследований, в доступных выражениях рассказал, что это такое — перевести (ежемесячно!) более 200 журналов, проконсультировать перевод у экспертов, внести поправки, отредактировать тексты и отправить их (своевременно!) в США. Доводы были, мне кажется, достаточно убедительны, но один из членов комиссии все-таки простонал:
— Но ведь деньги-то, деньги-то какие они получают, Евгений Григорьевич, это ж уму непостижимо…
— Получают или зарабатывают? — спокойно спросил я. — Давайте и мы с вами возьмемся за карандаши, бумагу, словари, наймем экспертов и курьеров, может быть, и у нас получится?
Носителям «пролетарской бдительности» не спеша, с расстановкой, объяснили, что «проклятые американцы» могут спокойно подписываться на всю научную периодику, платя за это копейки, и так же, как и мы, репродуцировать ее в нужных количествах. Множительной техники в США, кстати, хватает, только мы будем со всего этого иметь не миллионы, а шиш.
Так эта история и закончилась к некоторому неудовольствию наших начальников в «Доме» — им, конечно, хотелось «раскрыть каналы утечки информации», а главное — пошуметь вокруг этих каналов где-нибудь «наверху».
Решающим доводом было то, что ВААП никогда не имел научного аппарата для определения — что секретно в науке, а что нет. Этим занимались эксперты Академии наук, которые и решали, что печатать в журналах. ВААП же готовил и подписывал договоры на готовые публикации, уже прошедшие цензурные рогатки в Академии наук, и выступал просто как юридическая контора. Сама же наука, кстати, не секретна — бери лист бумаги, ручку, и придумывай, изобретай себе на здоровье…
Долгов удовлетворился результатами этих расследований и разбирательств, но не совсем: в нем сидел-таки государственный человек. Ему хотелось, чтобы и у нас «широкие круги научной общественности» имели доступ к американской научной литературе, чтобы в каждом НИИ или конструкторском бюро можно было получить лучшую американскую научную периодику. А денег у ученых не было ни на подписку, ни на приобретение прав для переводов этой периодики в СССР.
Мечты Долгова не имели бы практических воплощений, если бы не огромный американский опыт и влиятельные друзья Георгия Ивановича.
После долгих переговоров в Нью-Йорке с десятками партнеров мы маленьким шестиместным самолетом издательства «Харкурт Брэйс Йованович» вылетели в Орландо, штат Флорида, куда несколько лет назад перебрались из «Большого Яблока» почти все подразделения издательства — около 5 тысяч человек. С нами летел младший Йованович — Питер.
На частном аэродроме в Орландо два «кадиллака» бесшумно подкатили к трапу самолета, и мы, делая вид, что для нас это дело привычное, уселись в них и покатили в издательство. «Харкурт Брэйс Йованович» — гигантский куб из зеленоватого стекла, построенный в немыслимые по нашим понятиям сроки и вместивший все 5 тысяч человек.
В кабинете главы издательства Уильяма Йовановича (близкого друга Исаченко), расположенном как раз за огромными инициалами «ХБЙ» на фасаде здания, мечта Долгова ощутимо приблизилась к своему воплощению.
Уильям предложил силами издательства готовить дайджесты по основным направлениям американской науки и техники, представляющим наибольший интерес для советских ученых (Долгов перед отъездом провел подробнейшие консультации в Академии наук). ВААП и Академия наук должны были обеспечить перевод и распространение. Авторские права ХБЙ был готов уступать нам по вполне доступным ценам. Значение этого достижения даже я, никогда не занимавшийся научной литературой, понял сразу. В институты и учреждения Академии наук мог устремиться поток новейшей информации из области науки и техники США, доступный любому «мэнээсу», врачу, инженеру.
«Останется только засунуть все это дело в компьютер, нажать на кнопку, и вот тебе открытие», — нежно шепнул я на ухо Ивану Филипповичу, нахохлившемуся рядом со мной. «Да ладно тебе над стариком-то смеяться», — пробурчал он, но я видел, что ему понравилась и затея Долгова, и дружба Исаченко с Йовановичем, и договоренность, достигнутая только что. А ведь это было время эмбарго, наложенного американскими политиками на любые товары и информацию, которую СССР, по их мнению, мог бы использовать в агрессивных или репрессивных устремлениях…
Помимо массы интересных вещей, которые были нам показаны в здании «ХБЙ», я запомнил коренастую курносенькую женщину-полицейского с дубинкой на одном бедре и револьвером на другом. Перед нашим приездом ей, видимо, сказали, чтобы она «не высовывалась», но ей было любопытно посмотреть на настоящих русских, и она смущенно выглядывала из-за угла, придерживая рукой свою дубинку.
В «открытой» Америке охраняется, и охраняется добросовестно, решительно все. Полиция и охрана в любом здании, в любом учреждении, офисе, колледже, в большинстве школ, больниц, библиотек. Еще бы — одних компьютеров везде столько, что только их стоимость заставляет думать об охране. В школах охраняют и детей — от продавцов наркотиков. В один из моих приездов был страшный скандал — наркотики распространяли водители школьных автобусов…
Одной из самых забавных и даже пикантных (для меня) встреч в Нью-Йорке был небольшой семинар, устроенный с нашим участием для американских издателей в офисе их Ассоциации.
Для меня прелесть этого семинара заключалась в том, что я имел возможность понаблюдать и поговорить с Председателем Ассоциации Таунсендом Хупсом, о котором я упоминал в связи с удачно обретенными мною для КГБ документами. Жесткий, красивый, деловитый, Хупс мне очень нравился. Я часто вспоминаю изумительную фотографию, висевшую у него в кабинете: одетые в затрапезные рубашки и подвернутые джинсы Хупс и его жена (или дочь?) сидят на дощатом причале, свесив ноги к воде. Рядом прекрасный колли. Фотографируемые смотрят в объектив, фотограф, видимо, в лодке. Снимок сделан так, что вы чувствуете — это прекрасное летнее утро, воскресный день или отпуск, воздух по-утреннему свеж, от воды поднимается парок. Собака и люди полны спокойного, доброжелательного достоинства.
Другой, красивый, мир. Другие, красивые, люди.
Долгов во время встречи и беседы с Хупсом вдруг принялся обсуждать какие-то политические вопросы, я чувствовал себя неважно, не спал всю ночь, переводил еле можаху, и вообще не понимал, какого дьявола Константин Михайлович полез в эти дебри. Исаченко молча улыбался, он-то знал, зачем это было затеяно… До меня же дошло только в Вашингтоне, когда мы с Георгием Ивановичем подготовили телеграмму для отправки «по верху».
Обычно после деловой поездки советской делегации (а особенно во главе с первым лицом ведомства) члены ее готовили телеграмму, в которой отражались героические усилия, предпринятые командированными, противостояние «противника», победы на идеологическом фронте и прочие завоевания. Особенно же, как и на дипломатических приемах в советском посольстве, уделялось внимание якобы плодотворным дебатам с ответственными американцами; те будто бы соглашались в «доверительных беседах» с советскими и полностью признавали их правоту.
(Из-за этого, кстати, американцы не любили ходить на приемы в наше посольство. Дело в том, что Агентство национальной безопасности на следующее утро перехватывало и расшифровывало хвастливые телеграммы посольства о том, как удалось убедить американского имярека в абсолютной неправоте его президента и правительства. ФБР сначала балдело от поведения своих соотечественников, потом разобралось, в чем дело. Некоторые американцы стали носить с собой звукозаписывающую аппаратуру, чтобы подстраховаться и иметь запись всего, что они говорили в посольстве…)
Прочитав подготовленный нами проект телеграммы, Долгов преобразился и начал, посматривая на потолок, где предполагалось быть микрофонам, метать громы и молнии. Мы-то с Георгием Ивановичем, не раз писавшие такие телеграммы (я — десятки, а он — сотни), были уверены в том, что все отобразили правильно — и было что отображать. Один только проект с «ХБЙ» сулил информационный прорыв огромного значения, а были и другие интересные проекты.
Подобные телеграммы готовятся членами делегации, а отправляются из посольства (и в этом весь смак!), да еще за подписью посла… То есть посольство как бы дает оценку проделанной работе, подтверждает свое участие и сообщает об этом — согласно разметке — всем высшим должностным лицам страны. Ваша фамилия может попасть на глаза самому такому-то — сладкая дрожь пробирает при одной мысли об этом…
Опасаясь микрофонов, Долгов выражал свое возмущение междометиями и хмыканьем — если нас действительно слушали, то сводка «подслушки» должна была выглядеть потрясающе.
Мы с Георгием Ивановичем, поджав губы, сделали каменные лица, Эдик Малаян, первый секретарь посольства, приставленный к нам, забился в ужасе в какой-то угол, Иван Филиппович, мало понимая, что происходит, сделал на всякий случай президиумное лицо.
Схватив со стола ручку, Константин Михайлович принялся, сопя, править нашу телеграмму, чуть ли не рвя пером бумагу. Через 15 минут напряженной работы вождя мы уселись в Эдиков «шевроле» и поехали беседовать с Анатолием Федоровичем Добрыниным — одним из крупнейших советских дипломатов, по-демократически быстро забытым сейчас — уж больно умен…
Анатолий Федорович спустился к нам из своих покоев в стареньких мягких брюках и шерстяной кофте, моментально и привычно всех «обаял» и выслушал наш рассказ о поездке. Он остался доволен результатами и высоко, особенно договоренности с «ХБЙ», оценил их.
После этого Долгов дал ему «проект телеграммы», и тут все мы кроме автора поправок получили колоссальное удовольствие. Эдик просто лучился улыбкой, слушая, как Добрынин вслух читал телеграмму. Посол тоже не мог скрыть улыбки и два-три раза даже сказал: «Ну, вот, этого, пожалуй, не надо бы… Вот тут тоже слегка бы изменить…»
Поправки Долгова как раз были о том, что «в беседе с таким-то удалось доказать то-то, и такой-то (например, Хупс) был вынужден признать то-то и то-то…»
Посол угостил нас чаем и коньяком, после чего тепло распрощался, и мы отправились в один из закуточков старинного здания переписывать телеграмму… Константин Михайлович снова обиженно сопел, глядя, как возвращался «оригинальный текст» и исчезали описания его идеологических побед над проклятым врагом. Он знать не знал, ведать не ведал, что ждет его в Москве.
Почти все отчеты о командировках я писал в самолете — тратить время на них в Москве не хотелось. Гораздо важнее самих отчетов были планы мероприятий по ним — что нужно было сделать по заключенным соглашениям, достигнутым договоренностям.
Москва. Я пошел к Долгову подписывать готовый, тщательно отпечатанный отчет и план мероприятий по нему.
Ни до, ни после — я никогда не видел Константина Михайловича таким. Он просто позеленел, движения вялые, взгляд не то что потух — взгляда вообще не было.
Видимо, к тому времени он, как и многие другие строптивцы, а особенно обладатели столь крутых нравов, сильно надоел со своими инициативами и в ЦК, и в той же Академии наук. Помимо различных комиссий, постоянно проверявших, сколько бензина расходует его персональный автомобиль и каков его пробег, сколько денег и на что он потратил во время загранкомандировок, его решили «стукнуть» поосновательнее.
Академия наук начисто отказалась от всех договоренностей, достигнутых Долговым с ее представителями перед поездкой, сославшись на невозможность осуществлять переводы американской периодики. ЦК — явно по наводке оттуда же — перечеркнул все договоренности с «ХБЙ» и слышать не хотел об издании американской научной периодики в СССР…
Мне стало неловко от собственных предвидений. Я вспомнил, как в самолете спросил Долгова, а захотят ли бонзы из Академии наук, чтобы поток научной информации из США хлынул в наши НИИ, исследовательские центры, чтобы им мог воспользоваться каждый научный работник, каждый инженер? Ведь им, бонзам, гораздо удобнее, чтобы такой информацией могли пользоваться только они или их приближенные…
Мне оставалось лишь утешаться контрактом на издание в ХБЙ прекрасно иллюстрированной детской книжки — сказки Аксакова «Аленький цветочек». Я еще не знал, что «доделывать» этот контракт придется уже не мне.
Задуманное нами соглашение с «ХБЙ» могло стать событием огромного значения для советской науки и техники, и лучшее подтверждение этому то, что американцы гораздо раньше нас поняли — лучше не воровать информацию для кучки привилегированных «высоколобых», а швырнуть весь ее огромный объем в толпу ученых и технарей. А уж те сами разберутся, что к чему.
Эта история подействовала на меня необычайно сильно — я еще раз убедился в том, что наше общество, а особенно его верхушка — «голова рыбы» — безнадежно, неизлечимо больно. Ни врачей, ни лекарств, однако, видно не было.
Под Долгова «копали» довольно долго — он успел обзавестись недоброжелателями в гораздо больших количествах, чем Панкин, Жаров и Вощинин, вместе взятые. В ЦК уже готовили для него «строгача», как вдруг туда пришла анонимка о его «аморальном» образе жизни. Такой шанс упускать было нельзя.
Решение «состоялось», не стоило морочить голову людям и играть на нервах у потерпевшего, но, в лучших традициях умиравшей тогда КПСС, было проведено партийное собрание, где аутодафе обрело осязаемые формы. Щекастый комсомольский негодяй, за которым тянулся длиннейший хвост скандалов и интриг и который «копал» под Долгова особенно страстно, выглядел именинником и лез с вопросами к бывшему уже председателю Правления ВААП до тех пор, пока самые стойкие противники Долгова не заткнули ему рот.
Агентство вступило в полосу ожидания нового вождя.
****
Я стал чаще бывать в «Доме» и больше времени проводить там. С упоением наблюдая за триумфальным шествием перестройки по стране, вчитываясь в «Огонек» и «Московские новости», я хорошо видел, что многие из коллег моих восторгов не разделяли, и мне было интересно знать, почему. Состав отдела значительно омолодился, но принимать во внимание мнение молодежи я не торопился — чувствовал себя Мафусаилом рядом с ними и с одного взгляда видел, кто из них чего стоил. Немногие ветераны, с недоверием воспринимавшие новые реальности, казались мне ретроградами и консерваторами, и в собственных глазах я выглядел чуть ли не единственным носителем правильного понимания происходившего, хотя сомнения уже поселилось во мне (может быть, причиной тому были неумеренные и неуместные восторги Запада как по поводу происходивших у нас перемен, так и лично в адрес «прорабов перестройки»).
Видимо, именно тогда маленькая группа диссидентов, тревожившая столь сильно руководство КГБ, стала прямым орудием в руках западных спецслужб. Но по-прежнему, как мне кажется, основное внимание в КГБ уделялось именно этим немногочисленным потрясателям устоев государства, а не тем, кто ими искусно и скрытно руководил.
Приличия еще соблюдались — по крайней мере внешне — а закулисные аспекты напряженной деятельности горбачевской команды наша «демократическая» пресса предавать огласке не собиралась, да и вряд ли много знала о них. Беспардонная и нескладная торговля внешнеполитическими и внешнеторговыми интересами нашей страны уже шла — прибрежные шельфы, позиции в Восточной и Западной Европе, кокетство с Японией — все уже неслось бесшумным ходом к практическим воплощениям под ласковую, открытую улыбку батоно Шеварднадзе. В Литве, любимой моей республике, зашевелился «Саюдис», и я потихоньку от своих коллег ликовал: вот и в Литве запахло свободой… Я был совершенно уверен (и пытался убедить всех вокруг) в том, что самая крепкая советская власть именно в «Летуве». Ведь именно там она не только болтала о светлом завтрашнем дне, но и дала народу больше, чем где бы то ни было в Союзе. За долгие годы моих поездок, командировок, путешествий по Литве я видел, как менялась, хорошела, богатела на глазах эта когда-то самая нищая из Прибалтийских республик. Я гордился своей дружбой с литовцами, их успехами, их настоящим, неподдельным интернационализмом. Мало того, я потихоньку ворчал на литовских друзей из числа партаппаратчиков, которые держались прежних «догорбачевских» позиций, обвиняя их в приверженности протухшим партийным догмам.
Антакальнё часто вспоминалось мне, как и другие любимые улицы, а я повидал их немало.
Интересно, что в Литву и, в частности, в Вильнюс влюблялись все зарубежные партнеры, которых я привозил туда. Это ведь была одна из важнейших задач Агентства — способствовать продвижению республиканского искусства, национальных литератур за рубеж… Кому теперь все это нужно?
Я вспоминаю поездку в Вильнюс с Матти Снеллом и нашу встречу в Литовском отделении ВААПа с любимейшим писателем литовцев — Юозасом Балтушисом, автором великолепного «Сказания о Юозасе». Мы пили чай в уютном кабинете начальника литовского ВААПа, разговаривали о литературе. Матти спросил у Балтушиса, как соотносится с понятиями социалистического реализма, трактующими Одну Большую Любовь, творчество писателя, в произведениях которого этот тезис не находит подтверждения.
Доброе, мудрое лицо старика Балтушиса засияло мальчишеской улыбкой:
— Совершенно верно, совершенно верно… Есть только одна, Большая, Любовь, согласен… Но предметов этой любви может быть много…
****
Примерно через год после переговоров с «ХБЙ» мы с Георгием Ивановичем Исаченко снова оказались в Нью-Йорке. В течение 12 дней, не считая отдельных контактов, мы провели 48 встреч и переговоров и встретились с 98 представителями наших партнеров. Огромную помощь нам оказали друзья Георгия Ивановича — издатели Мартин Азарян и его жена Маргарет.
Возвращаясь вечером то вместе, то порознь, мы валились с ног от усталости. А жили мы в гостинице «Сент-Мориц», которую я полюбил и в которой мне посчастливилось останавливаться еще не раз. Знающие американцы рассказывали, что расположенный на юге Центрального парка «Сент-Мориц» был раньше традиционным пристанищем мужей, временно или навсегда покинувших своих жен. Это огромное здание, этажей в 30, с великолепными холлами, прекрасной кухней и достаточно уютными, хотя и немного потрепанными номерами. Почти до всех наших партнеров из «Сент-Морица» можно было добраться пешком.
Мы успешно поработали, сделали гораздо больше намеченного. Георгий Иванович, блеснувший дружбой с издателями супругами Бесси, обеспечил контракт на издание в США и еще в двух с лишним десятках стран знаменитой книги Горбачева о перестройке и новом мышлении. Естественно, продать права на книгу столь известного автора было не трудно, но подготовить и заключить контракт на таких условиях мог далеко не всякий. Снова забегая вперед, отмечу, что, насколько мне известно, покойному ныне Георгию Ивановичу не было сказано даже элементарное «спасибо»…
Я прекрасно понимал, как и кем пишутся такие книги: в любой приличной стране политики и руководители различных рангов пишут их, уйдя в отставку или на пенсию, ведь «писательство» на службе означает воровство времени и использование служебного положения. Оно требует бумаги, копирки, машинописи, редактирования, ксерокопий, корректуры, типографских услуг, работы художника… А большие начальники используют еще и труд своих референтов и помощников. Что-то мне не кажется, что все это они оплачивают из своего кармана, уверен, что за счет налогоплательщиков, то есть нас с вами. Бесстыдство, конечно, но ведь и то — с политиков какой же спрос…
Выполняя свою основную работу, я действовал почти как механизм. Встречался с нужными людьми, собирая информацию о том и об этом, об этих и о тех, реакцию на нечто, казавшееся важным; я понимал, что практически удовлетворял собственное любопытство: руководство интересовали диссиденты, обстановка в творческих союзах, «хроника текущих событий»…
На смену Долгову пришел Николай Николаевич Четвериков — бывший генерал ПГУ, бывший резидент разведки в Париже, бывший «подкрышник» в ЦК КПСС — да-да, сиживали и там «наши люди»…
Едва увидев его, я сразу затосковал: низкорослые люди, наделенные властью, всегда внушали мне опасения… А Николай Николаевич еще и любил, как «Палкин», сильно нажать на «р» в словах «решение», «разрядка», «перестройка» — этакий генеральский рык, как бы прибавлявший ему роста.
Говорили, что в ВААП он пришел работать с неохотой, целился на более высокие должности и горевал об утраченных звездах и креслах. Кажется, он был нездоров, но держался твердо, даже жестко, а порой и надменно. У него было немало неприятностей с визами: зная его прошлое, многие страны отказывали ему во въезде, и лишь после долгих нажимов и разъяснений по линии ЦК и МИДа «выезжаемость» вернулась к нему. А какой же русский не любит загранвояжей! Николай Николаевич многим показал, как это делается и сколько раз в году…
В моей памяти сохранился неприятный инцидент, хорошо иллюстрировавший деловые качества аппаратчиков типа Четверикова.
В один из приездов Герберта Аксельрода в Москву Четвериков, прослышав о значительных успехах нашего сотрудничества, пожелал повстречаться с американцем. Предчувствуя недоброе, я потащился с ними обедать в «Прагу» — прекрасно говоривший по-французски, Николай Николаевич английского не знал. Во время обеда он вдруг сказал мне: «А спросите-ка его, не сможет ли он здесь построить завод по производству видеокассет?»
Не веря своим ушам, я переспросил Четверикова, потом позволил себе осторожно усомниться, стоит ли об этом говорить, потому что к тому времени Герберт продал свой видеобизнес. Николай Николаевич сухо дал понять, что мое дело переводить — и точка. Я перевел.
— Да можно, конечно, — спокойно ответил Герберт. — Но прежде надо исследовать вопрос. Если хотите, я займусь этим…
Герберту Николай Николаевич очень понравился, он сразу угадал в нем мощного вождя, а мне было неудобно разубеждать его и рассказывать о своих предчувствиях. Тем не менее я намекнул ему, что Четвериков — человек новый и еще «не осмотрелся» в Агентстве. А Герберта уже понесло. Еще бы! Построить в СССР завод по производству видеокассет! Он то планировал со своим другом Тихоном Хренниковым строительство в Москве дочернего завода «Стейнвей», то прикидывал возможности разведения в США русских лаек, а тут целый завод!
Примерно через полгода Герберт вновь появился в Москве и тут же попросил о встрече с Николаем Николаевичем. Я сразу заметил у последнего отсутствие восторга, но деваться ему было некуда, и он милостиво согласился.
Едва обменявшись приветствиями с руководителем ВААПа, Герберт вытащил из своего необъятного портфеля, который я давно прозвал «желудок», изящно переплетенную, толстую, страниц в 200, брошюру. Он с гордостью сообщил, что это результат исследовательской работы трех инженеров фирмы «ЗМ», которых он пригласил к себе в Нептун-сити на несколько месяцев, чтобы они подготовили для Четверикова этот материал. Совершенно очевидно, он предполагал, что Николай Николаевич бросится в присядку от восторга…
Тот, однако, глядя в сторону, сказал мне: «Ну, переведите ему, что теперь он может этот материал отнести в Министер-р-рство внешней тор-р-рговли, и они там р-р-рассмотрят этот пр-р-роект…» Опустив очи долу, я пролепетал перевод. Мне было невыносимо стыдно.
Как и многие другие американские дельцы, Герберт, несмотря на немалый опыт общения с советскими начальниками, попадал-таки иногда под гипноз этих «р-р-р-р» и внушительных манер. Он решил, что, если первое лицо ведомства, которое (ведомство) он знал и уважал, заговорило о серьезном проекте, значит, и намерения у такого человека должны быть серьезными, и относиться к этим намерениям нужно серьезно. Вот он и отнесся — представляю, в какую копейку ему это вскочило. А спрашивать было не с кого. Николай Николаевич принадлежал к тем славным представителям нашей элиты, которые хорошо умели (и любили) спрашивать с других, но понятия не имели, что это такое — отвечать за свои собственные слова… Зато он мгновенно уловил в своей работе то, что у Панкина заняло несколько больше времени: причастность к зарубежным публикациям бессмертных произведений великих современников из числа высшей номенклатуры. Правда, героические усилия по изданию, например, в Италии нетленного труда тогдашнего спикера нашего парламента не спасли ни ВААП, ни кресло Николая Николаевича. Все было сметено «демократическим» вихрем, и новоявленный Железняк в образе немытого пьяницы Черкизова заплясал на развалинах Агентства, давя и круша все вокруг и возводя скверну на все, что было до августовского переворота…
До всего этого было еще года три-четыре…
****
Работа шла своим чередом, в том числе и вербовочная. За долгие годы этих занятий я пришел к твердому выводу, что противостояние «спецслужба — кандидат на вербовку» в нашей стране, при нашем тогдашнем строе неизбежно заканчивалась вербовкой. Исключения редки, их можно отбросить без комментариев.
Силы настолько неравны, что возражения или сопротивление на завершающем этапе работы — во время вербовочной беседы — если и случаются, то очень редко. Вербуемый составляет впечатление об офицере спецслужб чаще всего из нескольких встреч с ним, вербовщик же «перекопал» всю жизнь будущего агента. Он знает его слабые стороны, а возможно, и грехи, а возможно, и серьезные проступки, а то и преступления, и дает понять, что знает их; он осведомлен о сильных сторонах собеседника и умело использует это — льстит, «почесывает вербуемому спину», он, в конце-то концов (и это главное), приглашает собеседника оказать помощь стране, так кто же скажет — нет, чихать я на нее хотел? То есть сейчас-то почти каждый скажет именно так, но тогда…
Вербовались крепкие диссиденты, притворявшиеся сами перед собой, что они только притворяются, а работать с «органами» не будут, — работали… Вербовались ученые — бывало, что хотели использовать КГБ против своих оппонентов… Бывало всякое — бывало, что от сотрудничества ждали каких-то практических выгод…
В основном же люди — нравится это нынешним попирателям КГБ или нет — сотрудничали с разведкой и контрразведкой совершенно сознательно. Между хорошим «ведущим офицером» и хорошим агентом возникает связь и дружба, сравнить с которыми мало что можно. Не могу не процитировать Боба Вудворта — его книга «Признания шефа разведки», думаю, самая назидательная из книг о работе спецслужб:
«Одно из первых правил гласило: береги хороший источник. Часто осуществлялись тщательно разработанные маневры, запутывались следы, чтобы такой источник уберечь. Лгать, даже лгать публично или под присягой было ничто по сравнению с риском, который брал на себя источник. И, может быть, ничто не внушало источнику такого чувства уверенности или обоюдной и разделенной опасности, как вид его офицера-руководителя, висящего в петле на суку. Секретный источник, наверное, спит хорошо только тогда, когда знает, что его разоблачение означает и конец для его ведущего офицера…»
Так и мы берегли своих агентов и за редчайшими исключениями — сберегли.
Газеты и журналы соревновались друг с другом в «разоблачениях», «срывании масок», но некоторые темы — Ленин, КГБ, КПСС еще трогали пока робко, как купальщица трогает пальчиками ноги прохладную утреннюю воду. Однако купленые-перекупленые, политизированные и аполитичные, правдолюбцы и демагоги — журналисты уже начали вполголоса именовать себя «четвертой властью».
Лизнуть Ельцина, укусить Хасбулатова, потом наоборот — вот и вся власть. Лишь единицы поют своими голосами.
Да, говорить и писать можно стало наконец все что думаешь (или что думает твой наниматель). Осталось совсем ничего — научиться думать.
Книжные выставки в Москве или, как их называли участники, ММКВЯ — Московская международная книжная выставка-ярмарка, непохожи были ни на какие другие.
Первая случилась в 1977 году. Во Франкфурте, да и в иных весях руководители ВААПа и Госкомиздата долго советовались с партнерами и устроителями мероприятий подобного рода. Многие пробовали отсоветовать — выставок было и так уже слишком много: Франкфурт (№ 1), АБА (роскошная выставка американских книготорговцев), Монреаль, Болонья (детская книга и учебники), Варшава (соцстраны и немножко Запада), Лондон (все на свете).
Однако «состоялось решение» раз в два года выставки все-таки проводить.
Если ВААП, Госкомиздат, издательства имели определенный опыт, то в КГБ знали о выставках лишь из отчетов своих сотрудников и из сообщений агентов и доверенных лиц, побывавших на них. А наш брат, выбираясь на такие мероприятия, частенько любит поднапустить страху о «враждебных вылазках» — надо же обосновать необходимость своих поездок, да и начальству хочется почитать время от времени что-нибудь интересное…
По первой ММКВЯ было просто смешно ходить. После массы совещаний, составления планов, ориентации агентуры, привлечения курсантов Высшей школы КГБ выставка казалась не выставкой книг, а выставкой оперсостава КГБ. Наши были и в таможне, где постоянно возникали споры с иностранцами — что можно, а что нельзя привозить и выставлять в СССР. Большинство приезжих наших ограничений не понимали, были и большие любители пошуметь, повозмущаться по поводу «невыносимой советской цензуры».
Особенно запомнился известный тогда своей борьбой за гражданские права в Союзе (не в США, нет) издатель Бернстайн, которому даже какое-то время не давали визу для въезда в СССР. Много по этому поводу было страстных стенаний на страницах соответствующих изданий. Когда же через пару лет визу Бернстайну-таки дали, он бродил по ВДНХ совершенно неприкаянно и одиноко — поводов для шума больше не было… В тот период первая волна советской «предпринимательской» шпаны уже устремилась в Америку и начала поражать ФБР, полицию, да и вообще американцев невероятной, невиданной там ранее жестокостью. В Америке бытовало даже выражение на их счет — «Горбачев спустил воду в туалете…» На приеме, который давала в тот год Ассоциация американских издателей, я не преминул поинтересоваться у Бернстайна, как ему нравятся конкретные результаты его борьбы за свободу выезда из СССР — не пора ли теперь начинать кампанию за насильственное выселение прибывших обратно в Союз?
В различных точках выставки были комнаты, отданные КГБ, — там размещались оперативные центры, где собиралась и анализировалась полученная за день информация, оттуда можно было по специальным телефонам связаться с «Домом».
Как и на всех книжных выставках, на ММКВЯ воровали книги — причем с большим знанием этого дела. Большинство краж имели место в ночные часы, когда все помещения запирались и туда запускались служебные собаки, а войти могли только их проводники…
Постепенно ММКВЯ стала местом активнейшей пропаганды, направленной на советских евреев: здесь в едином блоке работали книжные стенды Израиля и Ассоциации еврейских издателей США. Раздавались значки, скромные сувениры, толпились талмудисты в макушечных шапочках, собирались толпы желающих «прикоснуться к исторической родине», звучала национальная музыка — дым стоял коромыслом, и многие иностранцы с соседних стендов потихоньку жаловались, а некоторые на следующих выставках перебирались в другие павильоны.
Все это носило несколько демонстративный, даже вызывающий характер, и было впечатление, что и экспоненты, и посетители не прочь устроить небольшой «шумок» — поэтому и милиция, и курсанты КГБ, надзиравшие за порядком в этой части павильона, были особенно внимательны.
Неприятные воспоминания устроителей и участников выставки были связаны с гибелью корейского самолета на Дальнем Востоке: ряд издателей иностранцев (главным образом американцы) покинул выставку в знак протеста. У нас нашлось достаточно любителей расцарапать лицо и взбить очередную волну истерии, обвиняя пилотов-пограничников, всю систему ПВО и Бог знает кого еще. Эти всплески с редкой безвкусицей используются для заплевывания политических противников (дескать, это все было при Горбачеве, при нас такого — ни-ни… ну если только по парламенту из танков пострелять, но ведь по своему же…), для инициирования дешевых газетных сенсаций. О том, что у двух с лишним сотен погибших остались скорбящие родственники и хорошо бы поберечь их, мало кто думает.
Мне причина гибели этого самолета всегда казалась достаточно ясной. Поверить в то, что он, оснащенный потрясающими навигационными системами, двумя дублирующими друг друга компьютерами, мог случайно углубиться в нашу территорию на 500 километров и лететь ошибочным маршрутом несколько часов, невозможно. Это так же маловероятно, как трижды выстрелить в течение 3–4 секунд из винтовки «Манлихер-Каркано» с оптическим прицелом в движущийся президентский автомобиль и все пули положить в цель…
Я был недурственным стрелком и знаю, что это — немыслимо.
Да, трудно не опознать характерный силуэт «Боинга-747». Но, во-первых, вряд ли кто-либо из доброхотов-исследователей сидел за штурвалом ночного перехватчика и знает, каково это, во-вторых, не могу поверить, что даже среди крутых летчиков ночного перехвата нашелся бы хоть один, способный открыть стрельбу по опознанному гражданскому самолету. Не стоит из наших и без того затурканных военных делать еще и ночных вампиров.
Какая-то из американских разведок (ЦРУ, АНБ, военные?) решила рискнуть жизнями своих соотечественников и корейского экипажа — и промахнулась. Поэтому под наши покаянные завывания и помалкивают американцы — наверняка есть причины молчать. Уж если рыло у них действительно в пуху, то признаться в гибели 200 с лишним гражданских из-за плохо спланированной разведывательной операции — смерти подобно. А те, кто легко распоряжаются чужими жизнями, как правило, очень бережно относятся к своей…
Во время следующих ММКВЯ все участники постепенно набирались опыта, в том числе и КГБ. Меньше стало болтовни и протокольного треска, почти не было видно оперсостава — на глаза попадались либо те, кто работал под крышей ВААПа или Госкомиздата, либо сотрудники из «Дома», имевшие прямое отношение к таким мероприятиям. А в павильоне Израиля сотрудник службы безопасности работал официально — к тому времени не только советская, но и израильская сторона поняла, что неприятности не нужны никому.
Шел уже 12-й год моей работы в ВААПе — я опять ставил рекорды «долгожительства». На моей памяти никто из офицеров «д/р» не сидел «под крышей» на одном месте, в одном ведомстве так долго. Даже иностранцы — постоянные партнеры ВААПа стали спрашивать меня, что это я так долго хожу в должности заместителя начальника отдела, ведь все вокруг «растут»? И действительно, подвижники, с которыми я начинал работу в Агентстве, становились аж заместителями начальников Управлений. Но не мог же я поведать своим зарубежным приятелям, что должность КГБ не подразумевает роста офицера в ведомстве прикрытия… Поэтому я весьма правдоподобно объяснял, что из-за невыносимого характера мое продвижение не раз срывалось, уж очень плохо я веду себя с начальством. Этому верили.
Работа в Агентстве становилась все менее интересной, состав руководства, да и не только руководства, менялся к худшему. Мы по-прежнему тщательно проверяли всех, приходивших на работу в ВААП, но теперь нашей информацией, как и нашими предупреждениями, явно пренебрегали.
В Агентство стали попадать люди, замеченные в неприглядных операциях с валютой, в спекуляции, о личных и деловых качествах говорить вообще не приходилось. Если они нравились начальству, их брали на работу, не боясь, что КГБ не выпустит их за рубеж. Новый председатель Правления Агентства, как мне удалось выяснить через общих знакомых, был крупным специалистом в области «подарковедения» и в свиту себе брал таких же спецов, предпочтительно невысокого роста…
На продвижение по линии ВААПа я смотрел, понятное дело, достаточно равнодушно, на основной же, оперативной работе в КГБ мне хотелось практически немногого — получить последнее, полковничье звание. Пенсия была «выработана», думать о карьере, мягко говоря, поздновато.
****
Очередной управленческий кадровик (они быстро меняли друг друга, находя себе «хлебные места») сообщил, что меня приглашает на беседу заместитель начальника Управления Василий Иванович Проскурин — за долгие годы службы в 5-м я и разговаривал-то с ним раза три — мы не были связаны по работе. Василий Иванович был известен среди чекистов как крепкий оперработник и очень скромный человек. Я не представлял себе, зачем я мог ему понадобиться, и пытался выведать у кадровика, в чем дело, но тот, как и полагалось, молчал. По привычке старого кадрового опера я не ждал от встреч с любым начальством ничего хорошего: повспоминал, чем мог вызвать гнев руководства, какие дела «проворачивал» в последнее время и какими грехами грешил — анализ не дал результатов, и я пошел к Василию Ивановичу наугад.
Поздоровались, генерал наскоро расспросил меня о работе, о жизни — ничего хорошего это не предвещало, и вдруг сказал: ну что ж, опыт работы у вас накоплен немалый, и есть смысл поделиться им с нашими афганскими друзьями. Руководством принято решение направить вас в долгосрочную командировку в Афганистан. Что вы на это скажете, что скажет жена?
Я, конечно, и бровью не повел, но от неожиданности выдержал долгую паузу. В голове мгновенно прокрутились единственно возможные варианты ответа на такое предложение, и я спокойно сказал, что воспринимаю это решение как знак доверия со стороны руководства, а моя жена — жена военного человека и последует за мной туда, куда меня пошлют.
На том беседа закончилась, я зашел к кадровику, заметил, что он мог бы и предупредить меня по дружбе. Тот объяснил, что было уже несколько случаев отказа отправляться в Афганию, людей по-разному наказывали, а то и увольняли за это, поэтому кандидаты должны были попадать на беседы с руководством, не догадываясь о предмете разговора. Чушь, конечно: я знал, что «блатняки» всегда были в курсе дела о таких беседах и шли на них с готовыми решениями.
Небезынтересно было представить себе лицо жены, когда я «обрадую» ее этой новостью… Впрочем, мы оба обожали путешествия, перемены судьбы, и я не беспокоился за нее — она была не только женой, но дочерью военного человека.
Вечером мы содержательно поговорили, внимательно прослушали и просмотрели очередное вранье Лещинского из Афганистана в программе «Время» и стали прикидывать, как будем собираться и у кого набраться опыта жизни и работы в этой стране. Я принял новость как знак судьбы и с привычкой старого служаки стал отыскивать в этом назначении положительные стороны, найти которые там было невозможно.
Началось оформление, в числе других командируемых я встретил неплохих ребят — все гораздо моложе меня — и решил, что в такой компании можно будет «пересидеть» любую осаду. Вот уже и медицинские комиссии прошли и я, и жена, и падчерица. И на загранпаспорта уже сфотографировались.
На все происходившее вокруг я посматривал отрешенно, подбирал книги по Афгании и ее проблемам. В программе «Время» мы с женой, не слушая белиберду, которую несли из Афганистана корреспонденты, рассматривали улицы, людей, транспорт, дома. Еще бы — после того, что мы видели и к чему привыкли, нам предстояло провести три года в, мягко говоря, непривычных условиях. Однако страсть к путешествиям брала свое, мы готовы были отбыть в афганские дали. Жена раздумывала, как она будет объяснять знакомым, почему муж, сотрудник ВААПа, уезжает в Афганистан? Что, там обострились авторско-правовые проблемы?
Я без особого сожаления готовился прощаться с ВААПом, который так сначала полюбил и к которому был теперь почти равнодушен — многое изменилось там. Меня, кстати, тоже интересовало, как я вдруг исчезну на долгое время из поля зрения многочисленных приятелей, нескольких друзей, учителей в авторско-правовом и издательском бизнесе, и потихоньку придумывал подходящую «легенду». Вскоре я узнал, что в Афганистане работал представитель Госкомиздата — помогал афганским «друзьям» по партии создавать издательскую базу для их пропагандистских усилий: можно было разрабатывать детали моей «липы».
Так же, как началось, все и кончилось. Видимо, решение о расширении аппарата КГБ в Афганистане было пересмотрено: никто из оформлявшихся вместе со мной там так и не оказался.
Надо ли говорить, что горечи от несостоявшейся поездки я не испытывал. Но я продолжал расспрашивать одного из коллег по «подкрышной» работе в ВААПе — Юру Гудскова, бывшего разведчика, он проработал в Афганистане год. Ничего интересного, кроме мельком упомянутых двух шансах навсегда оставить там свою голову, Юра мне не рассказал. А когда я сообщил ему, что поездка не состоится, он засмеялся: «Все хорошо, что хорошо кончается…».
Вскоре я узнал, что один из сотрудников нашего отдела, работавший «под крышей» в Госкомиздате, собирается уходить на пенсию. Мы с Борисом Михайловичем — так его звали — много разговаривали о работе, вместе возились с молодежью. Перед уходом он сказал, что рекомендовал на свое место меня. Ему работалось сложновато — без знания языков сидеть в Управлении международных связей — дело малоприятное. Но и на одном знании языков далеко не ускачешь — Госкомиздат был огромным ведомством, отраслью народного хозяйства, мне казалось, что там очень большой объем работы. Работы я не боялся, а некоторые моменты выглядели привлекательно: должность эта по линии КГБ позволила бы получить последнее звание — после почти 30 лет работы я был уверен, что заслужил его. Кроме того, было еще одно преимущество, которое многим покажется смешным, — заместитель начальника Управления международных связей имел отдельную комнату. Это был предмет моих вожделений давно — от многолюдных вааповских помещений голова к концу рабочего дня шла кругом.
Наконец, меня вызвал еще один заместитель начальника Управления — Юрий Владимирович Денисов. На этот раз я знал, о чем пойдет речь, потому что о переходе в Госкомиздат со мной разговаривал Игорь П. Генерал коротко порасспрашивал меня о работе в ВААПе, потом мы потолковали о Госкомиздате, о некоторых аспектах его развития и наших интересах там. Я ответил на вопросы, дал понять, что работа в Госкомиздате меня интересует — это была правда, там затевались (но так и не затеялись) интересные дела. Пошутил насчет своего затянувшегося пребывания в ВААПе, и на этом разговор закончился.
В начале осени 1987 года Денисов, Игорь и я через просторную приемную прошли под прищуренным глазом секретарши в огромный кабинет Председателя Государственного комитета по делам полиграфии, издательства и книжной торговли. Навстречу нам из-за стола поднялся низкорослый (опять, с тоской подумал я), с умным жестким лицом, подтянутый человек.
Секунды было достаточно, чтобы понять: в его взгляде сквозит неприязнь не к нам троим — он нас видел впервые, а к КГБ в целом. Такие вещи я научился различать с ходу и не ошибался.
И разговор-то получился удивительно неприятным: Ненашев сразу «оседлал» беседу, начав ее с того, что надо, дескать, работать в ведомстве, а не просто числиться, что надо то, надо это и прочее. Он порассказал немного и о Госкомиздате, но чисто для вежливости. Я терпеливо ждал, что Юрий Владимирович представит меня должным образом и развеет опасения моего будущего шефа — ведь от такой беседы зависело многое. Но он молчал до конца разговора — то ли стушевался, то ли тоже почувствовал негативные флюиды, источаемые Ненашевым.
Разговор закончился на какой-то дряблой ноте, все пожелали мне успехов на новом месте, и мы покинули негостеприимный кабинет госкомиздатовского вождя.
От ВААПа до Госкомиздата пешком 15 минут. И в работе этих двух ведомств было немало общего, хотя Госкомиздат был практически головой целой отрасли, включавшей сотни издательств, учреждений книготорговли, типографии. ВААП же — небольшое Агентство, которое, строго говоря, представляло собой юридическую контору с отделениями в республиках и представительствами в некоторых странах. Казалось, два ведомства должны, дополняя друг друга, сотрудничать, дружить на пользу книжного дела страны, ан нет. Между руководством Агентства и Госкомиздата установилась прочная глухая вражда. К ВААПу перешли из издательств внешнеторговые сделки по уступке и приобретению прав, Госкомиздат, будучи одним из учредителей Агентства и имея своего представителя в Правлении, лез в вааповские дела и не давал санкции то на то, то на это. Страдало, конечно, дело. Таким образом, под новой «крышей» меня ожидал вдвойне «теплый» прием — и как сотрудника КГБ, и как патриота ВААПа.
Вскоре я уже обживал вожделенный кабинетик, знакомился с людьми, структурой ведомства, с руководством. В таком же кабинете рядом работал другой «подкрышник» — сотрудник ПГУ Леша Морозов. Нас было двое на огромную отрасль, а в маленьком ВААПе с момента основания трудилась целая группа чекистов.
На коллегии Госкомиздата меня должны были утвердить в должности заместителя начальника УМС: в просторном зале собрались все ее члены, директора издательств и масса ответственных работников. Ненашев коротко представил меня, сообщил, что раньше я работал в ВААПе, и с неприязнью добавил: «Ну, в ВААПе объем работы не такой, как здесь…»
И правда: объем его, скажем, работы, был несравним с объемом работы Четверикова, но вот относительно объема моей он вряд ли имел представление.
После ВААПа, где каждый день приходили и отправлялись телексы, письма, приезжали авторы, принимали делегации, жизнь в Госкомиздате показалась мне тихой заводью: по коридорам медленно, степенно двигались какие-то полусонные люди, дела и бумаги перемещались из комнаты в комнату, из подразделения в подразделение не спеша, «отлеживаясь» в промежутках.
С трудом я привыкал к новому оперативному хозяйству, доставшемуся от предшественников. Я давно привык работать только с агентами, которых сам привлек к сотрудничеству, а теперь имел дело с теми, кто был завербован не мной. Медленно, не как в ВААПе, я знакомился с людьми и «притирался» к ним. Здесь было гораздо меньше молодежи, с которой всегда работалось легко, гораздо ниже — общий образовательный и интеллектуальный уровень. Это было ведомство классического застойного образца, которое Ненашев с редкой энергией пытался расшевелить.
Я вдруг оказался какими-то краями причислен к номенклатуре, и мне позволено было вкусить некоторых привилегий: одна из них меня привела в восторг — «пристегнули» к книжной экспедиции. Каждый месяц я получал тоненькую брошюрку, в которой выбирал из списка книги, оплачивал их и почти без очередей выкупал. Я все еще много, хотя и беспорядочно, читал, и это был ежемесячный «праздник, который всегда со мной». Кроме того, я имел возможность приобретать книги для друзей, что облегчало вечную проблему с подарками. Тираж этой ежемесячной брошюрки тогда был 9 тысяч экземпляров; я стал одним из 9 тысяч, имевших возможность покупать и читать почти любую книгу, выпущенную в стране.
Вторая привилегия повергла меня в смущение: я принялся было столоваться в душной и грязной госкомиздатовской столовой, выстаивая долгие очереди, и начальник Управления Станислав Остапишин спросил — почему я не обедаю в столовой для руководства? Я и не знал, что такая существует, но меня бросило в краску — как это я, всю жизнь презиравший и ненавидевший спецстоловые и спецраспределители, потащусь туда? Я принялся обзванивать своих предшественников: ходили ли в спецбуфет они? Оказалось, ходили, как и все заместители начальников других управлений. Более того, использовали эту возможность для встреч с руководством ведомства и решения каких-то второстепенных дел.
Короче говоря, вскоре я уже привык обедать в небольшой столовой человек на 20 на втором этаже: еда была лучше, хотя ничем особенным, конечно, не кормили, а времени на обед больше получаса не уходило никогда. Одним словом, предлогов и самооправданий для этого грехопадения нашлось достаточно.
Познакомился с неизбежным в советских ведомствах 1-м отделом, убедился, что технических секретов в отрасли нет: все передовое, новое и просто хорошее привозилось из-за рубежа, монтировалось, ремонтировалось и профилактировалось иностранцами. Ненашев пытался побудить наших производственных монстров заняться изготовлением типографских и вообще полиграфических машин и механизмов, но втуне. Эта техника с невероятной быстротой усложнялась, и мир ушел от нас так же далеко, как, наверное, во всех остальных областях… Для примера замечу, что известных во всем мире машин для цветной печати «Магнавокс» в СССР было семь или девять; в Вене (не в Австрии) их в то время было более 200.
В Госкомиздате я быстро и с немалой горечью понял, что экспортно-импортную работу там по-прежнему представляют себе как продажу и покупку тиражей, о чем цивилизованный мир давно забыл. Печатать книги в одном конце света, упаковывать и переправлять их на другой выглядело совершенным абсурдом: приобретя права на издание чего угодно, вы размещали заказы на типографские работы либо где-нибудь через улицу, либо на Тайване и получали тираж на такой бумаге, с такой обложкой и напечатанной таким шрифтом, каким вы хотели, и тогда, когда вы хотели этого.
Основная внешнеторговая работа велась по приобретению бумаги, материалов, оборудования или продажи их в такие страны, как Индия, Вьетнам. Для некоторых стран печатались деньги.
Таким образом, было за чем понаблюдать. Кроме того, Управление оформляло все выезды за рубеж и занималось приемом делегаций, приезжавших в Союз по линии Госкомиздата. Опять пошли бесконечные проверки по учетам всех и вся, изучение личных дел и т. д.
Достаточно было и «сигналов», до которых охочи некоторые из резидентур ПГУ. В первые же недели моей работы я столкнулся с одним из таких творений нашей разведки в США. В нем сообщалось, что имярек, работавший в Нью-Йорке в одной из международных организаций, подозревается в сотрудничестве с американскими спецслужбами, плохо ведет себя в семье и даже будто бы поддерживает интимные отношения с американкой — то ли агентом ЦРУ, то ли чуть ли не офицером одной из американских спецслужб. Подтверждений не было. Резидентура в Нью-Йорке смолчала, когда по окончании командировки имяреку выдали весьма приличную характеристику. Управлению «К» ПГУ было, конечно, не просто работать за рубежом, а особенно в странах с жестким контрразведывательным режимом — США, Англии, Канаде. Не просто там получить документальные свидетельства или документы, подтверждающие подозрения, но если их получить нельзя, то стоило ли так драматически расписывать эти подозрения?
Я покопался в личном деле имярека, порасспросил о нем, кого мог, подвел к нему толкового агента. Потом нашел возможность посмотреть на него — это так и осталось у меня со времени «семерки» — обязательно посмотреть.
Имярек показался мне типичным среднерусским вахлаком, нескладным и некомпетентным (так оно и оказалось впоследствии). Мне думалось, если у ЦРУ все агенты такие, то вряд ли они что-либо путное могли бы узнать в СССР. Я собрал несколько «шкурок» — так на сленге назывались характеризующие материалы. Ничего особенного — после возвращения из США, правда, развелся, но жил и работал тихо, спокойно, на работе характеризовался прилично. Так и закрыли этот сигнал. Это вовсе не означало, что имярек не был агентом ЦРУ, но доказать это спустя несколько месяцев после его возвращения в Союз можно было, только вцепившись в него по-настоящему, взяв в глубочайшую разработку.
По поводу многочисленных «сигналов» не могу не процитировать кусочек из переведенной мною маленькой книги Ле Карре «Этот невыносимый мир»:
«…На пасмурных рынках, где… приторговывают информацией, такие сигналы, как и деньги, отмываются самыми различными путями. Они могут быть искажены, подправлены, изобретены. Их можно взорвать, чтобы привести вас в оцепенение от ужаса, или подогреть, чтобы утвердить вас в вашем благодушии. Они выгодны тому, кто торгует информацией не меньше, чем тому, кто ее покупает, а иногда и больше. Они поступают без указания источника и без рекомендации к употреблению. Они могут разрушить жизнь или карьеру — умышленно или случайно. Но у них есть одна общая черта — они никогда не являются тем, чем кажутся…»
Вот такие-то дела с «сигналами»: я разбирался за долгие годы службы с десятками их, может быть, с сотнями и могу полностью подтвердить слова Ле Карре.
Одна за другой сыпались на страну чудовищные катастрофы: взрывались или ломались атомные реакторы, гибли в мирных водах подводные лодки и пассажирские корабли, на реках сталкивались друг с другом и врезались в мосты речные суда, разбивались самолеты и везде гибли и гибли люди… Напрасно некоторые твердили о знамениях свыше — никогда бы не поверил, что небеса могут быть так жестоки. Я твердо верил в другое — дебилизация нации переступала с одной ступени на другую, находя свои конкретные выражения во все более страшных несчастьях. Нет никаких оснований надеяться, что их перечень прекратится — заверения военных в абсолютных гарантиях охраны ядерного оружия, посулы строителей АЭС в их полной надежности — нигде не чувствуется твердой уверенности в говоримом и надежности производимого. Каждая из катастроф порождала горы лжи, недомолвок, замазывания истины, нелепых обещаний. Ну кто тянул за язык Президента СССР заявить после землетрясения в Армении, что через два года последствия будут устранены? Вскоре выяснилось, что только изыскательские работы в таких местностях после землетрясений занимают от трех до четырех лет… А под эту болтовню уже начали строительство — в самых сейсмоопасных зонах, кстати.
****
Как и в ВААПе, мне хотелось стать хорошим госкомиздатовским работником — по чекистской классике этого требовала моя основная работа. Но скоро выяснилось, что требования относительно невысоки, а объем работы совершенно неопределенный. Я мог спокойно не принимать во внимание издательства, так как все они находились под надзором Управления по Московской области или его районных отделов, за исключением двух-трех. Практически я сталкивался с издательствами и их работниками, когда они оформляли выезд за рубеж или когда их посещали зарубежные делегации и специалисты (опять-таки с нашей санкции). То же самое — с типографиями и прочими предприятиями. Состав Госкомиздата был перепроверен моими предшественниками досконально — я лишь время от времени изучал отдельные «сигналы». Делегаций по линии ведомства принималось — по пальцам пересчитать.
Я обрастал контактами, знакомился с людьми, намечал кандидатов на вербовку, прикидывал, какие из моих вааповских зарубежных контактов могут заинтересоваться сотрудничеством с Госкомиздатом.
Нужно было укреплять и отношения с руководством — особенно часто мне приходилось работать с первым заместителем Ненашева журналистом и общественным деятелем Дмитрием Федоровичем Мамлеевым и заместителем, курировавшим УМС, Василием Антоновичем Сластененко. (Общаясь с последним, я всегда улыбался про себя: в своем докладе о поездке в СССР Хупс когда-то описывал его как возможного сотрудника КГБ.)
В сравнении с моими предшественниками я выглядел довольно прилично — у них не было опыта работы с зарубежьем, какой был у меня; довольно быстро я доказал, что зарплату получаю не зря. Все были приятно поражены, когда через простенькую коммерческую операцию я обеспечил Госкомиздат факс-машиной — тогда большой редкостью, и Комитет обрел положенную солидному ведомству международную связь. Да и во время переговоров и встреч с делегациями я не отсиживался по углам, а переводил для руководителей Госкомиздата либо участвовал в беседе. Так же старательно работал и Леша Морозов — он, кстати, организовал и первое СП в системе ведомства.
Нет, опасения Михаила Федоровича не оправдались — оба чекиста трудились добросовестно. Мало того — моя физиономия надолго повисла на Доске почета…
В Госкомиздате не было масштабных долгосрочных программ с участием зарубежных партнеров, которые интересовали бы КГБ, — сотрудничество с финнами, например, осуществлялось через постоянную рабочую группу финских и советских издателей. В ВААПе я был членом этой группы от Агентства, в Госкомиздате один из сотрудников нашего УМС являлся ее рабочим секретарем, и я по-прежнему был в курсе всех ее дел, да и финские участники были хорошими знакомыми, приятелями, а то и друзьями. Канал «кошмарного шпионажа» со стороны Финляндии был перекрыт (во всяком случае, так мне казалось).
Выдавали новые удостоверения КГБ. Фотографировались в наших мастерских: сниматься надо было в форме, а ее почти ни у кого не было, хотя и полагалось иметь всем, даже «подкрышникам». На этот случай в фотомастерской был набор кителей, рубашек, галстуков военного образца и погонов с любым количеством звезд и звездочек. За день рубашки, галстуки и прочее надевали десятки, а то и сотни человек, ощущение было не из приятных. Потом фотограф (обычно это была женщина) аккуратно клала вам на плечи нужные погоны и предлагала посмотреть, как сейчас вылетит птичка.
На обложке удостоверения последнего образца слово «КГБ» было жирно подчеркнуто, и я пророчески назвал эти удостоверения «У последней черты»…
Все чаще мои знакомцы, а то и близкие приятели из «Дома» отправлялись в командировки «по просторам Родины чудесной»… Как всегда, много не рассказывали, но и то, что удавалось услышать, не радовало. Армения, Карабах, Чечня, Осетия, Азербайджан, Грузия — такова была география этих командировок, то одиночных, то групповых, то руководства с малым или многочисленным сопровождением. Судя по тому, как складывалась обстановка в стране, в КГБ, МВД, на местах и в местных органах безопасности и внутренних дел, можно было составить некую неясную, но приближенную к действительности картину.
Красиво именуемый теперь мафией преступный мир в южных наших республиках и областях небывало сросся с партийной и административной верхушкой. Видимо, согласие было достигнуто полное. Однако жертвы и оставшиеся еще в структурах власти немногие порядочные люди посылали гонцов в Москву, звонили туда, писали письма с жалобами и разоблачениями местных преступников. Чтобы нейтрализовать их, гарантировать невмешательство Москвы, нужно было заручиться поддержкой — и прочной — не рядовых милицейских работников, а руководства. Так же обстояли дела и по партийной линии… Только до КГБ не могли пока дотянуться липкие пальцы местных баев и басмачей разного калибра и мастей.
Они понимали, что с ослаблением международной напряженности и улучшением отношений СССР с Западом и Востоком у КГБ, милиции, армии будет гораздо больше возможностей, сил и времени разобраться, наконец, в кровавом клубке хлопковых, конопляных и каких там еще гешефтмахеров.
КГБ на местах, как правило, был прекрасно осведомлен об оперативной обстановке. Всем возвращавшимся из командировок, с кем удавалось поговорить, я задавал один вопрос — знал ли КГБ о готовившихся беспорядках, вылазках, погромах? Информировал ли местные партийные и административные органы? Ответ был всегда один и тот же: знал, информировал. Реакции никакой.
Да и какая могла быть реакция, если местная верхушка была намертво повязана с бандитами? Информация, полученная из КГБ, тут же передавалась главным преступникам. Ну а уж организовать «межнациональные конфликты» всегда было парой пустяков — мешок анаши, десяток ящиков водки, полсотни подростков, торчащих в подворотнях и пяток горластых крикунов — обычный, но не дававший сбоя рецепт.
Горели магазины (под это дело списывалось украденное), переворачивали и сжигали автомобили, били витрины, фонари, срывали флаги и погоны с военных, разбивали окна в домах и головы намеченных заранее жертв.
Информация с мест в Москве кем надо причесывалась, приглаживалась и попадала на высокие столы настолько видоизмененной, что и умные-то головы не разобрались бы.
Дело доходило до совершенно отвратительных гримас: на одном из заседаний Верховного Совета СССР «личный Рафик» Горбачева в ответ на запрос об очередной резне заявил, что «подрались на рынке из-за цен на клубнику»… Это сошло ему с рук, об этом промолчала перестроечная пресса, не последовало никаких дополнительных запросов и расследований…
Крючков со товарищи посылали на такие дела либо Бобкова, либо «Палкина». Последний, кстати, расследовал жуткое дело: секретарь одного из местных начальников ненадолго отлучилась, а когда, вернувшись, вошла в кабинет шефа, то увидела, что его голова, отделенная от тела, лежит на письменном столе… «Палкин» привез с собой наших розыскников, поднял на ноги все местные органы КГБ и милиции и убийцу нашел.
Бобков летал то в Армению, то в Чечню, улаживая и гася «межнациональные конфликты», но вряд ли уже докапываясь до их сущности и организаторов. Один из его помощников рассказывал, как однажды, прилетев с шефом в Чечню, сидел в комнате для заседаний местного руководства в кругу начальства и таких же помощников. Ждали Чурбанова, который захотел лететь отдельным самолетом и, как всегда, опаздывал. Наконец он появился в дверях, но запутался в них — так был пьян… Бобков брезгливо приказал убрать его, что и было сделано помощниками — под белы руки увели «отдыхать с дороги». Такие «инспекторы» сильно «помогали» местным и центральным властям. А местные власти все энергичнее сопротивлялись московским вмешательствам — преступный мир знал, что Москва может-таки до него дотянуться, а со своими «нашалниками» уже все было улажено, и давно.
Видимо, практика этих улаживаний и со своими, и с центральными руководителями имеет место до сих пор — иначе трудно объяснить чудовищную волну преступности в Москве и других городах России, поднятую посланцами Чечни, Азербайджана и прочих регионов. Трудно объяснить и позицию отцов города в свое время по поводу заявления «демократического» президента Дудаева, когда он пообещал сделать из Москвы «зону бедствия». Опасаются за русское население в Чечне? Так на этот счет есть известные и эффективные рецепты — если военные гарнизоны в таких местностях находятся не для того, чтобы с их территорий безнаказанно вывозились груды оружия, танки, БТР, установки «град» и многое другое. Правда, для рецептов этих нужны прямота, мужество, вера в свою правоту и справедливость — то есть все то, чего нет у наших вождей.
Примерно в те годы — 1986, 1987, 1988-й — наши властители начали, видимо, разработку тотального ограбления населения огромной страны.
С телеэкранов и газетных страниц нас убеждали, что мы ведем паразитический образ жизни, пользуемся бесплатным медицинским обслуживанием, живем в почти бесплатных квартирах, что цены на продукты первой необходимости у нас «не сбалансированы», а цены на предметы «не первой необходимости» (автомобили, видеомагнитофоны, загородные дома, икру и пр.) вообще должны стать такими, чтобы население перестало о них (предметах) думать.
Поминутно ссылались на Америку, но с большим разбором: об американской зарплате, системе кредитов, страховках, комфорте и многом другом помалкивали. Проливались крокодиловы слезы и о сельскохозяйственных тружениках — мол, задаром у них отбирается продукция, оттого ее и мало. Вот если «отпустить», «либерализовать» цены — слово «повысить» не употреблялось — тогда и наступит изобилие…
Все чаще на эту тему глаголели выехавшие или высланные в свое время из СССР, а теперь вальяжно рассиживавшиеся в уютных креслах телестудий советчики и знатоки — уж им-то было виднее, как «накормить народ»… Накормить народ брались те, кто клещами сидели у него на загорбке и взахлеб сосали кровь. Но хотелось не только приморить, но и обобрать.
Горбачевы продолжали умилять и раздражать изысканного покроя шапками, шляпами, костюмами и шубами. Особенно бушевали женщины, которым сладкая жизнь Раисы Максимовны покоя не давала. А ее манеры перед телекамерой и раздача конфет детишкам во время «случайных встреч» с народом выглядели все хуже — жизнь-то в стране не улучшалась. Постепенно становилось ясно, что, колеся по белу свету (каждый вояж обходился налогоплательщикам СССР в 105 миллионов инвалютных рублей), Михаил Сергеевич выпрашивал кредиты и займы, но менять ничего не хотел. Прекрасная поговорка: «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему»…
Набросились на «бюрократов», которых насчитали ни много ни мало 18 миллионов человек — вот они-то, оказывается, и были причиной всех зол. Сейчас все обличители бюрократизма умолкли наглухо: один аппарат Президента обходится налогоплательщикам дороже Верховного Совета со всеми его шумными съездами. А Совет Министров, который стал больше, чем СССРовский? А правительство Москвы? А правительство области? А представители Президента на местах? Сколько же теперь миллионов бюрократов? Охотников считать что-то не видно. Свободна, свободна наша печать…
Разбираясь в болезнях нашего общества и государства, покрывавших его чуть ли не сплошной коростой, я, как и многие коллеги, все равно оставался прилежным и старательным чиновником. Таково было воспитание, традиции, выучка. Оставался еще немалый интерес к работе, к людям. И оставалось еще одно, довольно странное ощущение — видя, как все вокруг приходило в упадок (а процесс уже пошел, пошел процесс), приятно было ощущать себя членом некоего сообщества, продолжавшего свой неблагодарный труд несмотря ни на что. Я никогда не чувствовал себя капитаном, но готов был оставаться на мостике (на борту?) до конца.
Опять развешивал уши на складные речи Собчака, Старовойтовой (по-прежнему тяготел к Армении в ее спорах с Азербайджаном) и неторопливый говорок Попова; члены Межрегиональной группы представлялись мне подлинными демократами, носителями принципиально нового понимания путей развития страны. Удивляюсь собственной легковерности, но сильно утешает, что я оказался не единственным обманутым. Обманули многих — почти всех.
Народ… Политиканы всего мира обожают это слово. Они употребляют его каждый раз, когда хотят обмануть народ или использовать его в своих целях. Как только кто-нибудь из них вымолвит это слово — жди беды.
Помню, с каким надрывом Николай Иванович Рыжков на Верховном Совете СССР по вопросу о частной собственности на землю прорыдал в зал: «А мы рабочих спросили, товарищи? А крестьян мы спросили?» Зал обрадованно загудел — каждый почувствовал себя сразу и рабочим и крестьянином, которого, наконец, спросили — отдавать землю в частную собственность или нет.
— Конечно нет! — громыхнул съезд.
Я давно мечтал о клочке земли и доме за городом, а по тем временам даже моих скромных накоплений хватило бы на крошечный коттеджик. «Богатеев» вроде меня было немало, и все, наверное, расстроились, когда съезд отказал в частном землевладении.
Теперь эта проблема теоретически уже решена, но, понятное дело, «землей владеть имеют право» именно они. Все те же. Кроме них, никто не успел «сделать» миллионы в «этой» стране.
****
Хотя международные связи Госкомиздата и рядом не стояли со связями ВААПа, выездная лихорадка колотила это ведомство куда сильнее, чем маленькое Агентство. «Посмотреть» ездили в США и ФРГ, в Югославию и Англию, в Индию и Испанию, на Франкфуртскую ярмарку и на выставки полиграфического оборудования. Пожалуй, только «технари» да бумажники из здания на Петровке, да трое-пятеро толковых издателей и директоров типографий что-то «высматривали» во время загранвояжей. Большинство же не «смотрело», а глазело, гуляло по Европам, по возвращении мучилось над составлением отчетов о поездке, не зная, что писать.
Я пытался навести некоторый порядок с этой писаниной, но мои добродушные попытки были восприняты как стремление КГБ контролировать тяжкий зарубежный труд командированных, и я, посмеявшись, успокоился. В тех редких случаях, когда мне действительно была нужна информация, я ее получал всегда: за плечами был изрядный опыт, позволявший извлекать ее почти из кого угодно в любой нужный момент.
Полученная через полгода после перехода в Госкомиздат папаха не порадовала — в тот день умер любимый мой пес, и это надолго заслонило происходившие вокруг меня события.
Вдруг, как истребитель из облаков, на Госкомиздат вывалился во время одного из своих приездов в СССР директор Информационного Агентства США (ЮСИА) Чарлз Уик: после его переговоров с Ненашевым родился проект по обмену книжными выставками между США и СССР. К проекту подключили несколько человек из американского посольства в Москве, Генеральную дирекцию международных выставок, художников, оформителей. Началась активная переписка, шли встреча за встречей с американскими дипломатами — в основном они были сотрудниками ЮСИСа, так называется зарубежная служба ЮСИА. Работники ЮСИСа занимают в американских посольствах должности до посла включительно — такое значение американцы придают этому ведомству. Именно в зданиях ЮСИА в Вашингтоне расположены редакции хорошо известных нам «голосов», «свобод» и прочих радетелей за наше счастье. В вестибюле одного из этих зданий — скромная табличка с именами сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Как в вестибюле здания ЦРУ в Лэнгли — только там не указаны имена — в честь каждого погибшего разведчика в мрамор врезана пятиконечная звезда.
«Командовать парадом» Дмитрий Федорович Мамлеев поручил мне. Началась напряженная работа опять-таки по проверке всех участвовавших в проекте — американцев и русских, дипломатов и издателей, сотрудников ЮСИА, оказывавшихся разведчиками, и явных разведчиков, на поверку выходивших совершенно штатскими людьми.
Постепенно рождался текст соглашения по первому обмену выставками, намеченному на осень 1988 года.
Все это двигалось вперед по инициативе американцев. Чувствовался их значительный интерес и по линии ЮСИА, и по линии разведки. Одно из условий соглашения — выбор каждой стороной трех городов для проведения выставки из списка предложенных. Потом выбирался девиз выставки, делались макеты плаката, подбиралась литература.
Экспозиции каждой выставки оставляли в дар главной городской библиотеке. Вскоре определились города и участники первого обмена. В избранные американцами города полетели мои шифровки, ориентировки, задания по наблюдению за теми, кто оказался в компьютерах и архивах, а то и в действовавших разработках КГБ. То же самое наверняка происходило в Штатах… Мы выбрали Вашингтон, Бостон и Лос Анджелес. Открывать первую выставку в Вашингтоне задумал Ненашев. Я решил в Вашингтон не ехать и попросил взвалить на себя эту честь другого заместителя — начальника УМС Николая Фурманова, который с удовольствием согласился меня на неделю подменить.
К подбору своей «команды» для работы в США я подошел очень серьезно, командировка предстояла достаточно долгая — около двух месяцев, работы — масса. Госкомиздатовские чиновники твердили мне: «Ну что там за работа — у стенда стоять…»
У стенда не стоят, а работают — кто умеет. И мне нужны были именно те, кто умеет работать. Мало того, требовалось не простое владение языком, а умение и терпение говорить на нем целыми днями, на любые темы, с юморком, который так любят американцы, и желательно — с шутками и прибаутками, известными именно в данном городе или штате. Надо было неплохо знать литературу, выставленную на стендах, писателей, основные направления современной литературы, прессу, политическую жизнь СССР того времени, реалии перестройки и уйму всего остального.
В первую поездку обе стороны отобрали по шесть человек — впоследствии ограничивались четырьмя. Мой выбор руководство Госкомиздата одобрило без замечаний, хотя, уверен, имели место подозрения, что я собрал всех агентов КГБ для этой поездки. На самом деле не было ни одного; я хорошо знал почти всех участников и был уверен, что в любой ситуации они не подведут. Почти все они знали, что я — сотрудник КГБ, и этого было вполне достаточно, как мне казалось. Единственная моя ошибка — я не знал и не потрудился выяснить, наколько некоторые из них могут (или не могут) работать в команде. А работа по линии КГБ в этой поездке требовала только моих усилий и моего умения — помощь агентов и резидентуры ПГУ мне была почти не нужна.
ЮСИА, организация сверхмощная, подключила к программе обмена выставками местные власти, городские библиотеки и их активистов, школы и родительские комитеты, колледжи, университеты, издательства, творческих личностей и ученых, болельщиков, ветеранов войны, комитеты по приему зарубежных визитеров — те из нас, кто втайне надеялся на спокойные вальяжные поездки по США, сильно просчитались.
Итак, выпустив из программы Вашингтон, я прилетел в «Большое Яблоко» — так американцы называют Нью-Йорк, вечер и ночь погостил у друзей, а утром с маленького старого аэродрома Ла Гардия улетел в Бостон, который был вторым после Вашингтона городом в нашей программе, и, устроившись в гостинице, отправился в Городскую библиотеку, где предстояло разместить нашу выставку.
Как и почти все в этой стране профессионалов, городские библиотеки в США построены как надо, такими, какими они должны быть. Для любого книжника экскурсия по ней — как для балетомана «Лебединое озеро» с Нуриевым, Плисецкой, Семенякой.
Само здание — образец какого-либо архитектурного стиля: иногда модерн, иногда классика, иногда конструктивизм, но всегда — архитектура…
Под зданием Городской библиотеки гараж для личных и казенных автомобилей, автобусов и автобусиков, грузовичков и грузовиков, все время привозящих и увозящих что-то.
Тут же несколько одно-, двух-, трехколесных тачек и тележек: американцы никогда ничего не тащат и не волокут, портя полы, — заменяют «трение скольжения трением качения»…
Лифтом из гаража — на любой этаж. Иногда в лифте специальный замочек, и пользоваться им могут только работники библиотеки — случайно или со злым умыслом попавший в гараж человек дальше гаража не двинется…
Светлые просторные комнаты. Функциональная и потрясающе удобная мебель. Бесшумные пишущие машинки и еще более бесшумные компьютеры. Почти бесшумные телефоны, по которым говорят чуть слышными голосами — все уважают друг друга таким образом, а качество телефонов и связи позволяет это делать.
Один этаж, например, как в Городской библиотеке Хьюстона в Техасе, устроен специально для школьников разных возрастов: просторные комнаты с толстыми коврами увешаны детскими рисунками и уставлены интересными познавательными игрушками, дети в школе часто сидят на полу или даже лежат — многим это кажется более удобным и свободным — то же и здесь, в библиотеке. ТВ и видео с записями учебного и развлекательного содержания. Тысячный выбор аудиокассет на любой вкус. Такой же выбор компактных дисков.
Школьники всех возрастов — частые гости библиотек. Американцы заметили, что с вторжением в нашу жизнь видео интерес к книгам резко пошел на убыль, и приняли активные меры по приучению детей к книгам, библиотекам с раннего возраста.
Присмотр за детишками и подростками отменный — каждую группу сопровождают преподаватель, член родительского комитета, сотрудник библиотеки. Дети послушны и организованны, исключений за время работы наших выставок в течение трех лет мы не видели…
Помещение или зал для работы научных сотрудников. Компьютер перед каждым библиотекарем, по которому мгновенно отыскивается нужная книга. Новации в каждой библиотеке свои, например, огромные книжные полки двигаются по рельсам, проложенным по полу, и, сдвинутые вместе, занимают минимум пространства. Все они могут быть передвинуты одним пальцем для прохода между ними и поиска нужной книги. На каждом шагу удобные подставки, на которые встают, чтобы дотянуться до нужных полок. Они всегда именно такой высоты, какая нужна.
Иногда в подвале и столовая со скромной (по американским понятиям) и недорогой едой.
Обязательно зал для собраний, читательских конференций и чего угодно еще — концертов, например. На сцене, безусловно, рояль, и неплохой.
Вход в американскую библиотеку бесплатный и свободный. Выходных там не бывает, но в субботу и воскресенье рабочее время короче.
Работники библиотек часто жалуются на то, что бездомные пользуются библиотечными туалетами для омовения и прочих нужд, причем не всегда ведут себя прилично. Многие из них выбирают уголки поуютнее и понезаметнее и придремывают там, а то и перекусывают, что в помещениях библиотеки запрещено. Не пускать их в библиотеку, как бы они ни выглядели, нельзя — это было бы нарушением закона, но за ними присматривают охранники или полицейские.
В зависимости от того, насколько богат город, богата и библиотека. Есть выдумки, которые делают многие библиотеки непохожими на другие. В Далласе, например, внутри библиотеки масса перегородок из толстенного стекла. Специальным лазерным образом внутрь стекла там и сям помещены сильно увеличенные фотографии детей сотрудников. Снимки разные — дети играют, лежат в колыбельках, читают, просто смотрят на вас… Эта персонификация рабочего помещения, неизвестно кем придуманная, — самое трогательное из всего, что я видел в Городской библиотеке Америки.
Единственное (кроме книг), что делает американскую библиотеку похожей на нашу — люди, которые работают там. Такие же немножко не от мира сего, такие же скромные, такие же «книжные черви». Подстать им и члены общества «Друзья библиотеки» — активисты библиотек, помогающие сотрудникам.
Зарплата невысокая (по американским, конечно, меркам). Как и у нас, там в основном работают люди, преданные своему делу, энтузиасты, подвижники. Несмотря на катастрофическое падение интереса американцев к книгам и библиотекам, строительство новых книгохранилищ и усовершенствование старых в США продолжается, тратятся огромные средства, потому что строят с расчетом на завтрашний день — компьютеры, световоды, спутниковая связь, связь с лучшими библиотеками США и мира.
А книги-то, что же книги? Да то же, что и все остальное. Книгоиздание в Америке, как и любое производство там, производит все.
О Бостоне, как и о любом крупном американском городе, можно рассказывать часами и описывать его в многотомных трудах. Вылизанные парки и аллеи центра, степенные особняки, надраенные бронзовые постукалочки на дверях, не давшие себя заменить электрическими звонками, автомобили прославленных европейских и американских марок, небрежно припаркованные около элегантных жилищ и слегка присыпанные осенней желтой листвой… Все это можно разглядеть, только неспешно прогуливаясь по городу, построенному и спланированному так, чтобы человек не чувствовал себя торопливым насекомым, пробирающимся между стеклянными утесами.
В Бостоне нужно быть осторожным с английским — если здесь поверят, что вы действительно хорошо его знаете, непредумышленно могут заговорить так, что вы поймете только местоимения и междометия (и то не все и не всегда). Непривычному уху бостонский английский представляется страшно пижонским языком.
В Бостоне мы дважды столкнулись с тем, что на языке дипломатов и спецслужбистов называется «провокация». Первый раз это была не вполне нормальная женщина, которая у наших стендов принялась громко требовать «свободы для Эстонии», и утихомирить ее не удавалось. Я попросил кого-то из ребят привести из вестибюля полицейского. Он привел молодого парня, который сделал короткое заявление в пользу освобождения Эстонии, сложил руки на груди и, улыбаясь, уставился на меня. Женщина продолжала кричать.
Так же улыбаясь, я, стараясь говорить с бостонским акцентом, сообщил ему, что выставка — часть правительственной программы обмена, и если он хочет и дальше оставаться участником демонстрации, то на следующий день может продолжить это занятие уже в штатском, и полицейской формы ему никогда уже не надеть… Паренек оказался на диво понятливым, перестал улыбаться и бережно вывел орущую даму на улицу. Вообще говоря, я боролся с искушением не мешать ей: у стендов — почти никого, было интересно, как долго она может кричать.
В другой раз местная еврейская организация якобы возмутилась надписью на одном из стендов с религиозной литературой: «иудаизм». Местные сионисты утверждали, что этот термин использовали в своих высказываниях и книгах нацисты, и грозили устроить демонстрацию.
Я узнал об этом за несколько часов до начала «акции». Вооружившись ножницами, краской и клеем, быстро переделал надпись, придав ей какое-то нейтральное звучание, и принялся ждать посетителей.
Ближе к закрытию библиотеки пришло человек шесть — руководитель вышеуказанной организации, огромный бородатый детина, красивая молодая женщина и несколько юнцов, один из которых решил добиться скандала во что бы то ни стало. Все были страшно разочарованы, что надпись переделана, даже смущены этим и поминутно оглядывались на двери входа, явно кого-то ожидая. Я-то хорошо знал кого — и точно, к моменту предполагаемого скандала появилась «пресса» в лице двух анемичных девиц, невнятно пробормотавших название какого-то печатного органа. Они внимательно вслушивались в любезную беседу бородача с нашими стендистами. В нее все время влезал упомянутый юнец, который принялся высмеивать мой английский, делая вид, что не понимает меня. Я разобиделся, сказал, что мой английский наверняка лучше его русского и вообще защищать интересы исторической родины, о которой он с таким пылом здесь шумит, хорошо там, в Израиле, а не приставать с этими вопросами к советским командированным. А то видали мы таких крикунов… Бородатый вступился за меня, укорил юнца, мы еще полчаса поговорили об антисемитизме в СССР и США и закончили диспут. Борцы за счастье исторической родины двинулись к выходу, а юнец — к телефону-автомату, на который он давно посматривал. Я, любопытствуя, последовал за ним и встал за колонной прямо у него за спиной.
Набрав номер, он тут же, не обращаясь по имени к собеседнику, начал говорить:
— Ничего не вышло, они переделали надпись, их предупредил кто-то…
— ?..
— Да были только две девки, больше никого…
— !!!
— Ну это ваши проблемы. Мы уходим, все кончилось уже…
Ну, прямо как у нас в годы застоя, подумал я, и двинулся обратно к стендам. До конца работы, то есть до закрытия библиотеки в 22 часа, оставалось еще много времени. На следующий день в какой-то маленькой газетке поместили безразличную заметочку о происшедшем, малопонятную. Американцы расставались с реалиями «холодной» войны с не меньшим трудом, чем мы. То есть не все американцы, а «те, кому надо»…
У своих стендов мы работали сменами, и в свободное время библиотечные активисты и все, кому это было интересно, занимались нами: например, возили выступать в учебных заведениях и исследовательских центрах с рассказами о нашей выставке, о жизни в СССР, о перестройке.
Я побывал в нескольких местах, которые в 5-м Управлении традиционно числились «идеологическими центрами противника», разговаривал и выступал перед советологами и кремленологами: фамилии многих я встречал в наших разработках и ориентировках… Народ был знающий, толковый, групповые фотографии Политбюро их давно перестали интересовать. Одних только кафедр по русскому и советскому литературоведению в США в то время было около 500. Что уж говорить об остальном…
Нас поражала, а потом стала даже надоедать горячая привязанность американцев к Горбачеву: сами-то мы уже начинали разбираться кое в чем и восторги наших хозяев не торопились разделять.
Из трех ведущих вузов — Кембриджа, Гарварда и Массачусетского технологического — мне посчастливилось побывать в первых двух. Да, в таких университетах только и воспитывать будущих президентов США. Лучше и короче о них не скажешь…
Лос-Анджелес, или, как американцы называют его по первым буквам, «Эл Эй», а еще — «Большой апельсин», — назвать городом не поворачивается язык. Это 500 квадратных миль, он больше Нью-Йорка, Чикаго, Сан— Франциско и Филадельфии, вместе взятых. Этот город зависит от техники больше, чем любой другой город мира, и автомобиль здесь — самое необходимое устройство. Без автомобиля Эл Эй погиб бы даже раньше, чем вся остальная Америка, как и без воды, которая доставляется сюда по трубам за сотни миль.
Для авиапассажиров и экипажей летающих тарелок ночной Эл Эй — зрелище, от которого невозможно оторваться. Это океан огней, беспрерывно меняющихся красок — окна домов, реклама, светофоры, фары и габаритные огни автомобилей. Калейдоскопу нет конца, он уходит за все четыре горизонта. Описанный тысячекратно бульвар Сан Сет — традиционный вечерний не людской, а автомобильный променад: вы можете здесь похвастаться новеньким экстравагантным автомобилем (автомобильный парк в Калифорнии — самый замысловатый в Америке), мотоциклом, который дороже половины автомобилей, спутником — красавицей или красавцем, умопомрачительной прической, макияжем, одеждой. Многие автомобили — конвертибл — открытые, чтобы все это было хорошо видно. Длина Сан Сета — миль 40, по нему можно часами ездить, никуда не сворачивая и глазея по сторонам.
Если у вас в городе есть знакомые, вас обязательно повезут в район Беверли Хиллз и, благоговея, покажут особняки кинозвезд и американской «номенклатуры» — продюсеров, банкиров, юристов. Беверли Хиллз вылизан, много зелени, тишина, поют птички, чуть ли не за каждым углом вдоль домов медленно двигается полицейский автомобиль. Порядок здесь берегут так же трепетно, как у нас вокруг «номенклатурных» комплексов. По лужайкам и газонам, не торопясь, бродят негры с заплечными пылесосами — засасывают в широкие трубы осенние листья и редкий здесь мусор.
Как-то раз на улице услышал женский визг — привлекательная, элегантно одетая негритянка то ли потеряла что-то, то ли ее обокрали — собралась небольшая толпа, к которой я примкнул, деля с жителями Эл Эй их повседневные радости и печали. Из небытия мгновенно возникла женщина-полицейский, хмуро начала расспрашивать потерпевшую. Та продолжала громко кричать, слезы текли по щекам, размывая тщательно наложенные краски и блестки. На трехколесном мотоцикле подъехал другой полицейский — метров двух роста, широкоплечий красавец. Он тоже достал блокнот, слегка оттер плечом свою коллегу и широко улыбнулся потерпевшей, протянув ей белоснежный носовой платок. Это одновременно была улыбка мужа, любовника, деда и отца — но не экранная, а искренняя, настоящая, она произвела чудо, каких я мало видывал в своей практике человековедения.
Имущественное начало в негритянке мгновенно растворилось в ее женской сути, и через 5 секунд она, утирая слезы полицейским платком, уже нежно ворковала, что-то диктуя Аполлону в сержантской форме и пытаясь заглянуть ему в глаза с явной надеждой найти в них совсем не то, что у нее украли…
Наша выставка проходила в одном из корпусов, нет, не корпусов — зданий UCLA, или, как у нас иногда его называют, УКЛА — Калифорнийского Университета Лос-Анджелеса. Я с улыбкой вспоминал свою молодость и месяцы, проведенные в английском Кембридже, — все европейское начало казаться мне маленьким и смешным. Впервые в жизни я понял, каким должен быть настоящий университет великой страны.
Это не «университетский городок» — это город, и проживают там 20 тысяч студентов, а вместе с преподавателями, ассистентами, обслуживающим персоналом — 80. Вход и въезд в американские университеты, как и в американские библиотеки, — свободный. О свободе университетов позаботился все тот же Джефферсон, который, помимо того что был Президентом США, автором Декларации независимости, ухитрился еще и основать Вирджинский университет и стать его первым ректором… Господи, ну откуда берут американцы таких президентов?
Почти каждое здание УКЛА — архитектурная достопримечательность. Разбросанные на огромных выхоленных газонах, они формируют ансамбль, который самим фактом своего существования облагораживает каждого, находящегося на его территории. Просторные лужайки, старые деревья, улицы, дорожки и тропинки, вечером — хитроумное освещение лампами, фонарями и прожекторами.
Спорт? Огромный стадион, бассейны, где все сделано опять-таки как надо, то есть навсегда. Я наблюдал как-то тренировку футболистов — американцы и здесь лезут вон из кожи, чтобы достигнуть профессионального уровня, и тихо радовался — Господи, какое счастье смотреть на это со стороны…
Еда? Любая в любое время: десятки студенческих столовок, закусочных, где супы и пицца, мексиканская, китайская и не знаю какая еще еда, фрукты и овощи, неизвестные у нас, обслуживание мгновенное, и все — по карману. Везде подрабатывают студенты.
Многие здания, сады, выставки названы именами основателей УКЛА, ученых, работавших здесь, благотворителей, пожертвовавших колоссальные суммы на строительство университета и исследования, проводящиеся в нем.
Огромный госпиталь на территории УКЛА — нечто вроде нашего «Склифа», туда несутся машины «Скорой помощи» со всего Лос-Анджелеса. Он же — место стажировки и практики студентов медицины.
Наука в США — не в «ящиках» и НИИ, не в бюрократических ведомствах, где ученые работают, потому что зарплата там выше. Она, наука, — в университетах. Именно там собраны лучшие кадры, именно там прогуливаются по дорожкам вместе со студентами нобелевские лауреаты, выдающиеся исследователи, светлейшие головы Америки, мыслители. Хотя в США и нет федерального органа, надзирающего за образованием по всей стране, там достаточно умных людей, понимающих, что подпитка знаниями молодых американцев должна осуществляться через лучшие источники, этим должны заниматься лучшие педагоги.
— Но ведь можно быть прекрасным ученым и никудышным педагогом, — спросил я одного из посетителей выставки, старенького профессора истории.
— Ну, хороший студент вытащит знания из самого плохого педагога. Главное, они — знания — у преподавателя должны быть…
Грубят, возражают полицейским или убегают от них в Америке только преступники либо ненормальные люди. Преступный мир хорошо организован, жесток, многообразен, и работа полицейских там очень опасна. Большинство полицейских — и мужчины и женщины — поддерживают отличную физическую форму, прекрасно водят машину, стреляют, умеют оказать квалифицированную медицинскую помощь и вообще умеют много всего. Причитания прессы по поводу «очередного» убийства полицейским негритянского подростка всегда немного отдают провокацией — наверняка ведь и негру-полицейскому приходилось подстрелить белого двухметроворостого «подростка» с бритвой в кармане. Полицейские стреляют не потому, что любят убивать подростков, а потому, что защищают либо свою, либо чью-то жизнь.
В Сан-Франциско видел, как полицейский потребовал документы у показавшегося ему подозрительным мексиканца — тот направлялся к своей машине. Мексиканец мгновенно отреагировал — положил руки на капот автомобиля, широко расставил ноги и заискивающим голосом попросил офицера самого достать документы из кармана его пиджака. Он знал, что если полицейскому покажется, что он достает не бумаги, а оружие, тот может выстрелить.
Вернувшись из США и «отписавшись» в КГБ и Госкомиздате, я полез в ворох документов, полученных по американской выставке в СССР, — как тут вели себя наши коллеги? Мои товарищи в Москве и трех других городах присматривали за ними…
Всякое бывало. Перед отъездом в Штаты я проверял американцев — сотрудников книжной выставки. Впервые за годы службы не заполнял никаких бланков, не писал запросов… Молодой паренек привел меня в компьютерную комнату, пощелкал клавишами киборда и взял у меня список с фамилиями. Пощелкал еще, и на экране высветились первые страницы досье на кого-то из американцев. Ну, дожил наконец, подумал я. Теперь это не только в кино… Принтер запнулся, кончился рулон бумаги, шло досье на молодую даму из украинской редакции «Голоса Америки». По каким только делам она ни проходила, эта энергичная националистка…
Я предупредил всех, кто занимался ею во время ее приездов в СССР, — и главным образом Украину…
Вот и в этот раз — встречи с националистами, попытки уйти из-под наружного наблюдения, шушуканья по углам и нелюбовь остальных гидов выставки. Среди них были разные люди, но откровенная ненависть юной дамы к нашей стране сплотила всех в единой к ней неприязни.
Хотя наблюдали за ней довольно скрупулезно, но сделать ничего все равно не смогли бы: во-первых, выставка, как и наша в США, проходила как правительственное мероприятие, во-вторых, как уже упоминалось выше, контрразведка в области идеологии — сложная вещь. Здесь не схватишь человека с секретными чертежами или образцами загадочных изделий, мои контрагенты никогда не пользовались средствами секретной связи, тайниками, мгновенными передачами — в этом не было нужды. А наша нынешняя действительность подтверждает, что они победили и в войне идеологий.
****
В 1988 году, как мне сейчас кажется, завершилась окончательная консолидация перед наступлением на нашу страну всех противостоявших ей сил: реакционных финансовых кругов Запада и Востока, представителей нашей «теневой», а точнее — преступной, подпольной экономики, специальных служб противника, растленных представителей партийной верхушки, решивших, что пора спрыгнуть с кренящегося корабля в спасательную лодку с надписью на борту — «демократия»…
(Наверное, тогда были уже спланированы и разрушение КПСС, и разгром КГБ и армии — ведь с преступностью и предательством могли покончить только они.)
Разрушение СССР тогда навряд ли казалось им возможным, об этом они, скорее, мечтали, но об отрыве Прибалтики думали уже серьезно и деловито.
Нет, КПСС не была «импотенткой», как выразился недавно один мой бывший приятель. Но вот руководители партии оказались действительно бестолковыми импотентами, а зачастую — предателями.
Средства, которыми уже тогда располагали наши преступные дельцы, были достаточны для занятия исходных рубежей: об этом можно судить по нынешнему автомобильному парку столицы, по мгновенно возникшим роскошным бизнесклубам, по многому другому, что сделало такой приятной жизнь для нескольких десятков тысяч соотечественников и почти невыносимой — для всех остальных.
Уже тогда, видимо, присматривались к тем журналистам и обозревателям, которых предстояло использовать для обработки общественного мнения, уже тогда подумывали о занятии административных — желательно политических — постов. Большинство из тех и из того, что оказалось сейчас купленным, было куплено, как мне кажется, именно в то время.
Сейчас те, кто размахивал у нас перед носом знаменами свободы и демократии, уже не считают нужным скрывать то, о чем и пискнуть не решились бы три-четыре года назад. Г-н Попов, например, очень обстоятельно объяснял на радио «Свобода», что взятка чиновнику не взятка, а награждение за хорошую работу… Он же снисходительно и утешительно растолковывал Борису Ноткину в ответ на вопрос о чудовищном росте преступности, что преступность есть везде и даже за границей, но это гораздо лучше, чем раньше, когда «хватали людей на улицах» — по его словам, «каждого могли схватить» и отправить в психушку. Даже Борис, понаторевший в таких беседах, оторопел и не сразу смог продолжить разговор…
Февраль — мы ушли из Афганистана. Трудно сказать, будет ли когда-нибудь написана или рассказана хоть часть правды об этой войне. Мы ведь давно потеряли представление о золотой, да и всякой другой середине. То Лещинский сипловато вещал о строящихся силами наших военных школах, то вдруг валом пошла «чернуха» о чуть ли не поголовном воровстве военных и солдатах-наркоманах, потом поплыли доброжелательные интервью с пленными и перебежчиками, очутившимися уже в Америке, — а тут глотки драли, требуя у афганцев вернуть их на Родину…
Это была еще одна карта в колоду горячо любимого Западом «Горби» — это он, хороший такой, убрал советских захватчиков из свободолюбивой горной страны… Мало кто знал, что его друг-приятель, батоно Шеварднадзе подписал соглашение, по которому и после вывода наших войск из Афганистана туда продолжало течь непрерывным потоком продовольствие, оборудование. Об этом соглашении было как-то вскользь сказано то ли по радио, то ли по телевидению, да и чего было в объяснения пускаться, перед кем отчитываться…
Наш уход не был таким позорным, как уход американцев из Вьетнама — вертолеты с гроздьями повисших на них людей не взлетали с крыши посольства… Зато у американцев другое преимущество — афганцы до сих пор хамят на афгано-таджикской границе, а вьетнамцам до США еле добраться, да за большие деньги, да на грязную работу устроиться… Наши «союзники» любят выполнить свой «интернациональный долг» то в Корее, то во Вьетнаме, то в Гренаде — главное подальше от родимых берегов. И правильно делают…
Что-то повеяло холодом от руководства Госкомиздата на меня и моего коллегу из разведки. Мы почувствовали, что под нас начали «копать». Вряд ли в этих подкопах инициатором был Ненашев, но окружение его старалось вовсю. «Подсидки» были достаточно серьезные, мы докладывали своему руководству: то наши фамилии «случайно» не попали в список служебных телефонов Госкомиздата, то нам не выплатили зарплату… Крыша «потекла». Наконец мы пришли к одному из замов Ненашева и спокойно разъяснили свой статус — если не было личных или служебных претензий, то сократить наши должности мог только Совмин… Наш статус определялся одним из его постановлений.
— Что-то я не слышал об этом постановлении, — сказал наш собеседник, неплохой человек, явно тяготившийся разговором.
— Значит, не положено вам о нем слышать, — сухо ответил разведчик.
И вдруг — назначение Ненашева руководителем Гостелерадио. К восторгу многих в Госкомиздате и горю сотрудников Гостелерадио, Михаил Федорович перетащил за собой всю свою «команду». Они с удовольствием побежали вслед за «хозяином», так как успели набедокурить в Госкомиздате порядочно…
Несколько лет спустя я спросил одного из ненашевских помощников, почему он так стремился отделаться от нас, от КГБ.
— Эх, старик… Ничего вы не поняли… Михаил Федорович тогда решал важные личные дела, и ваши бельма ему совсем были не нужны.
— Да мы никогда не интересовались его личными делами. Более того, если бы даже захотели, начальство руки укоротило бы моментально — номенклатура…
— Ну, это ваши тонкости, и он в них разбираться не стал. Убрали вас — и все.
Да, так оно и случилось, в конце концов, но было до этого еще два года.
Коллеги «под крышей» Гостелерадио принялись названивать нам — как новое начальство, как ненашевская команда? Мы поделились тем, что знали об этой компании.
— Судя по тому, что вы рассказываете, вашему Ненашеву здесь долго не продержаться. Здесь коллектив творческий, не то что сомы в Госкомиздате…
— Да и мы так думаем. Только бы не вернулся.
Мы, конечно, судили о нем с наших позиций.
А назначен на место председателя Госкомиздата был Николай Иванович Ефимов — старый «известинец», работалось с ним легко и интересно.
Опять беседую в «Доме» с одним из руководителей аналитического отдела «пятерки», моим приятелем.
— Как вы вообще анализируете обстановку, как докладываете «наверх»?
— Да очень просто, методика давно отработана, сбоев не дает. Регулярно, перед каждым серьезным праздником или мероприятием правительства рассылаем по всем «пятым» подразделениям страны (их 58) циркуляр с указаниями повысить бдительность, усилить работу с агентурой, сам знаешь эти тексты. Каждый раз получаем от них точную, толковую информацию — в последнее время, правда, из некоторых мест ее поступает все меньше… Потом обобщаем, что получили, не меняя ничего, готовим записку в ЦК или руководству Комитета — и на стол «Палкину». От него она возвращается причесанной, выхолощенной, розово-голубой…
Предполагать, что «Палкин» вводил в заблуждение высокое начальство с какими-то загадочными целями, не стоит. Скорее всего, просто боялся доложить правду и услышать неприятный вопрос: «А вы-то где были? Вы-то чем занимаетесь?»
Еще одно событие 1989 года — из провинциальных партийно-номенклатурных дебрей выкинулся аж в министры внутренних дел СССР г-н, а тогда еще товарищ, Бакатин. Красивый, подтянутый, внешне он не походил на привычный эталон партработника. Но назначение дилетанта в стране с чудовищной криминогенной обстановкой настораживало. «Они» по-прежнему были уверены, что могут руководить чем и кем угодно…
Обстановка в МВД потрясала своим драматизмом:
— зарплата милиционера в среднем составляла 200 рублей;
— 3500 офицеров МВД ушли работать в кооперативы;
— 1000 сотрудников МВД наказаны за противоправные действия;
— 1475 — привлечены к уголовной ответственности;
— 160 — покончили жизнь самоубийством.
Один из моих знакомых несколько месяцев проработал помощником у Бакатина в МВД и отзывался о нем с восторгом. Рассказывал о строгости и даже грубости министра, об умении заставить работать аппарат, о новых веяниях и тенденциях в МВД, словом, заливался соловьем.
Бакатин стал появляться на экране телевизора, выступать на заседаниях Верховного Совета, чувствовалось, что ему это безумно нравится, но звучал он слабовато…
Его удивительно быстро убрали из МВД — говорили, что за самовольное решение о предоставлении слишком большой независимости МВД Эстонии, сейчас только специально заинтересованные любители или профессионалы стали бы докапываться до причин. Он попал в какой-то привилегированный отстойник, где принялся терпеливо дожидаться очередного назначения, твердо зная, что обратно на стройку не пошлют — ну, на худой конец, секретарем обкома, крайкома, послом в Уагадугу… Им все равно — куда. Лишь бы «потеплее».
Московская книжная ярмарка 1989 года сильно поколебала мою уверенность в собственных литературных вкусах, знании книжного рынка СССР, способностях наших издателей и разгоне, набранном «перестройкой». За несколько месяцев до нее я получил по почте новый роман Ле Карре «Русский дом»: его литературные агенты знали, что я страстный поклонник бывшего спецслужбиста, и прислали книгу, чтобы узнать мое мнение о перспективах ее издания в СССР.
Я проглотил роман залпом, и он не понравился… Сложилось впечатление, что книга написана «вдогонку» перестройке. Кроме того, ведь речь там идет о предательстве: герои книги предают свои государства из побуждений, которые кажутся им достаточно убедительными. Через некоторое время раздалось несколько телефонных звонков — из Швейцарии, из Америки, откуда-то еще. Я ответил всем, что едва ли роман будет издан здесь в ближайшем будущем — предательство все еще считается в нашей стране тяжелейшим преступлением и навряд ли найдется достаточно смелый издатель…
Через несколько месяцев директор издательства «Международные отношения» Борис Лихачев подписал контракт на издание книги на русском языке. Это был, несомненно, Контракт Выставки — им она мне и запомнилась.
КГБ на выставке уже почти не было видно, цензура исчезла.
****
Недавно нашел старый номер «Московских новостей» за тот, 1989-й, год, и «приятно поразился», прочитав высказывания известного шокового терапевта, внука любимого писателя:
«…Идея, что сегодня можно выбросить из памяти семьдесят лет истории, попробовать переиграть сыгранную партию, обеспечить общественное согласие, передав средства производства в руки нуворишей теневой экономики, наиболее разворотливых начальников и международных корпораций, лишь демонстрирует силу утопических традиций в нашей стране…»
Выдергивать цитаты из текста — занятие малоприглядное. Просто интересно, как за пару лет свершилось почти все то, что даже авторам наших благословенных «реформ» казалось утопией.
К концу 1989 года тихо двинулся восточноевропейский оползень. «Пражская весна», не раздавленная, слава Богу, танками на этот раз, референдум в Венгрии, обновление в Болгарии, нарастание кампании за воссоединение Германии, гордость Румынии, с колоссальным трудом расплатившейся, наконец, со своими зарубежными кредиторами, — радовало все, что писалось тогда в нашей прессе об этих процессах. Уж там-то, думал я, намотали на ус и 1968-й, и 1956-й, и многое другое, теперь глупостей не наделают…
В тот год, опять осенью, мы вновь отправлялись в Америку, на этот раз с выставкой детской книги. Такую же выставку везли в СССР и американцы. Опять я засел за проверку — ведь, хотя книги выставлялись детские, работали на выставке вполне взрослые люди. Серьезных опасений не было: в США проходил год юного читателя, шефствовала над ним первая леди, госпожа Буш, навряд ли наши или американские спецслужбисты могли «омрачить светлый праздник трудящихся» — особенно двух из них, Горбачева и Буша, которые недавно встречались на Мальте и о чем-то пару дней там толковали.
В числе предложенных американцами городов был Сан-Франциско, и все участники нашей команды с восторгом отнеслись к возможности поработать там. Другие города, выбранные нами, — Атланта и Хьюстон.
За несколько дней до отлета в Вашингтон, с которого начиналась поездка, в Калифорнии произошло землетрясение… Его масштабы были относительно невелики, хотя немало зданий и частных домов, мостов и других сооружений пострадало. Были и человеческие жертвы. После горя, свалившегося на Армению, нетрудно было представить себе, каково американцам…
Ворочая коробки с книгами, я вдруг почувствовал дурноту, слабость, заболела голова. Это заметила моя команда, и меня вывели в зеленый дворик посидеть и передохнуть — мои мускульные усилия вообще-то не очень были нужны. Я поплелся в «рест рум» — комнату отдыха, так в Америке часто называют туалетные помещения. Посмотрел в зеркало: седая, лысеющая голова, морщины под глазами, равнодушный усталый взгляд. По-прежнему я еще мучил себя по утрам своей нечеловеческой зарядкой, по-прежнему ставил над собой нелепые эксперименты с разными диетами, но «звонки» уже раздавались. Сон так и не восстановился с далеких лет вечерней учебы и ночной работы, в середине дня я иногда начинал придремывать на многочисленных совещаниях и собраниях. Я стал уставать от двойной жизни — пенсия уже выработана, был смысл подумать об уходе на гражданскую работу, но представить себя где-либо, кроме КГБ, было невозможно.
Временами задумывался: а если бы я вообще не попал в КГБ? Не сложилась ли бы моя жизнь гораздо интереснее? Было бы в ней меньше лжи, притворства, лицемерия, постоянного ощущения то большой, то малой опасности? Все чаще искал ответы на эти вопросы, но не находил их.
Сан-Франциско — красавец среди красавцев, любимец Америки и всех, кто хоть раз в нем побывал. Раскинувшийся привольно на берегу ласкового океана, он необычайно холмист — улицы торчат по отношению друг к другу и к горизонтали под такими углами, что начинаешь сомневаться в существовании автомобилей, способных преодолевать эти спуски и подъемы.
Американская школа — явление не простое и не похожее ни на европейскую, ни, тем паче, на нашу.
В 1949 году президент Трумэн в одной из своих речей назвал положение дел со школами в Америке позором страны. Не знаю, это ли заявление президента или какие-либо другие воздействия изменили Американскую школу полностью.
За редким исключением, школьники в Америке не ходят в школу пешком — некоторых отвозят на автомобилях родители, большинство ездит на занятия и обратно в специальных, известных всей стране длинных желтых (иногда голубых) школьных автобусах. Их водят иногда штатные водители, иногда — члены родительского комитета. Маршруты продуманы так, что автобус подбирает по дороге в школу детишек, ожидающих его на обусловленных местах. Когда школьный автобус останавливается, водитель включает десятка два разноцветных габаритных фонариков: это означает, что идет посадка или высадка детей из автобуса.
Весь транспорт, двигающийся по улице, останавливается и ждет, пока не погаснут огни и автобус не тронется. Не остановиться по сигналу школьного автобуса — страшнейшее нарушение правил уличного движения…
В большинстве городов, графств и областей здание школы стало чем-то вроде символа, и там, где позволяют средства, оно еще и архитектура. Школы для бедных и частные, для богатых, школы, где преимущественно учатся цветные, и школы, где (особенно в Сан-Франциско) учатся все — белые, черные, желтые, школы большие и маленькие, многие с бассейнами для плавания.
Каждая школа имеет спортивную, отлично оборудованную площадку во дворе и хороший гимнастический зал, который годится почти для любой игры.
Каждая школа имеет просторную стоянку для автомобилей родителей и школьников и школьных автобусов.
Каждая школа, в которой мы были, имела сотрудника безопасности, или полицейского, или охранника, которые следят за порядком, и главное, за тем, чтобы оградить детей от торговцев наркотиками и сексуальных маньяков.
Каждая школа имеет отличный или приличный компьютерный кабинет или зал. Библиотеки, оборудование физических, химических кабинетов могут быть от роскошных до скромных, но все всегда — очень приличного качества.
А еще — это показалось мне очень важным, кабинеты «обществоведения». В красном углу такого кабинета стоит американский флаг, точнее, знамя. Это древко из прекрасно отполированного хорошего дерева, орел — там, где раньше у нашего флага было копьецо со звездой — бронзовый, красивый, грозный. Полотнище обязательно из чистого, свежего, ярких цветов нейлона. Такой флаг нельзя не уважать и не любить, этому учат с детства. Огромная работа по расовой терпимости: в одной из школ я видел трогательное, вышитое неумелыми детскими руками полотнище с таким примерно текстом: «Что такое США? Это дружеский коктейль из двух столовых ложек индейцев, чайной ложки ирландцев, полстакана черных, столовой ложки евреев, ложки китайцев, половины чайной ложки русских». Как мне разъяснили, дозировка «коктейля» соответствовала процентному отношению национальностей, проживающих в стране.
Не верьте жутким фильмам о вакханалии насилия в американских школах — может, где-то оно и есть, но в десятках виденных мною школ дисциплина и достойное послушание были нормальным состоянием вещей. Так же, как американская толпа отличается от русской, американские школьники отличаются от наших. Они разнообразнее и внешне, и как личности, причем личностями становятся, мне думается, раньше наших.
Единственное, что похоже на нас и в американских библиотеках, как уже отмечалось, и в школах, — люди, которые там работают: учителя, директора, члены родительских комитетов, активисты. Мне кажется, что там, где дело не касается безумно дорогих частных школ, учителя в Америке — как и, к сожалению, у нас, люди, которые оказались не способными на что-то «лучшее», хотя трудно представить более благородное, трудное и необходимое занятие. Так нет же, и в Америке учителя получают очень скромную (хотя по нашим меркам гигантскую) зарплату. Так же, как и библиотекари, они немного не от мира сего, уставшие от детей, но любящие свою работу люди. И еще показалось, что они больше любят детей, чем наши учителя: для этого у них больше времени, возможностей, да и вообще условия жизни в этой стране гораздо более человечны, чем в нашей. Наконец (может быть, это прозвучит кощунственно), но детей вообще любят в богатых странах больше, чем у нас. За ними лучше ухаживают, их лучше одевают, кормят, у них лучшие игрушки, книги, телевидение, а помимо всего прочего, они вырастают окруженные гораздо большей красотой и чистотой, чем наши. И архитектура, и краски, и воздух, и ухоженная природа — все, что окружает американца с детства, — красиво. Не все осознают эту красоту, многие принимают ее за должное, но она все равно незаметно «работает».
****
А в 1990-м все уже начало ощутимо двигаться к развязке.
«Победы демократий» в странах Восточной Европы обычно сопровождались либо демонстрациями, либо попытками, либо прорывами «возмущенных трудящихся» (главным образом использовались студенты и уголовники) в здания спецслужб. Наше телевидение с пока еще скрытым злорадством показывало кадры зарубежной хроники о захвате здания Штази в ГДР: толпы разгоряченных юнцов в коридорах, летящие в воздухе бумаги, вывернутые наизнанку ящики столов, не взломанные еще сейфы…
Почему штурмом взяли только Штази? Почему в других восточноевропейских странах акции вокруг зданий спецслужб проходили спокойнее? Да потому, что секретные службы ГДР были самыми мощными в Восточной Европе, а по ряду аспектов оперативной работы давали сто очков вперед и КГБ.
Разведка развернула масштабную деятельность в ФРГ и во всем мире — интерес к ее архивам и документам со стороны западных спецслужб огромен. Да и контрразведка ГДР была поставлена образцово. Конечно, ничего общего с картонными ужасами, описанными в прессе и детективной западной литературе, там и в помине не было, но интересного для участников погрома — немало. «Разоблачениев, разоблачениев!» — требуют господа Семплеяровы то из западных разведок, то из Бундестага и получают их, разоблачения…
После очередного из них я не спеша отправился в «Дом», в нашу, порядком уже замызганную, «башню из слоновой кости».
Просмотрел почту, что-то написал и отдал в машбюро и направился к Игорю.
Уныло обменявшись впечатлениями о триумфальном шествии демократии по Восточной Европе, мы помолчали. Я подошел к окну, посмотрел на разноцветные крыши, на фантастические сооружения Управления связи, скрывавшие огромные антенны, и пробормотал:
— Знаешь, я сегодня узнавал — у нас ведь по-прежнему в зданиях только две печи для уничтожения документов. В случае заварухи никто не успеет ничего сжечь. И охрана у нас — сам видишь — вахлаки какие-то. Не пора ли для начала просто привести в порядок документы, уничтожить лишнее?
Молодецкое презрение к бумагам, сложная система уничтожения секретной документации, лень позволяли скапливаться огромному количеству на первый взгляд несерьезных и не опасных документов. Однако в экстремальных условиях — заговори даже эти бумаги, беды не оберешься…
— Да, надо без паники и шума начинать эту работу.
Игорь загасил очередной окурок в полной пепельнице, курил он теперь почти без перерыва.
— Сегодня же соберем отдел и прикинем, с чего начать.
Я-то незаметно для окружающих и даже для большинства начальников начал давно… «Зачистка» моего хозяйства шла медленно, но равномерно — разрешения на уничтожение документов и дел я понемногу подписывал у разных начальников, мои обоснования звучали убедительно, и отказа не было.
А обстановка медленно накалялась. «Средства массового обмана» уже не прятали когти: атаки на армию и КГБ становились все более яростными и откровенными.
К моменту разговора с Игорем мое «хозяйство» легко уместилось бы в портфеле — оставалось только самое важное, самое секретное, с чем рука не поднималась расстаться: сведения о ценных агентах, то, что могло нанести вред людям, которыми я дорожил. Прикидывая варианты развития событий, я представлял себе, кто и когда наложит лапу на КГБ. Картина получалась малоприглядная, я был уверен, что в такие руки агентуру отдавать нельзя. Все, что у меня оставалось, можно было вынести из «Дома» в один присест и сжечь на каком-нибудь пустыре (это на крайний случай), но пока такие действия могли быть справедливо расценены как нарушение приказов и правил, а я был аккуратным чиновником… Я предусматривал оба варианта — и самовольное уничтожение материалов, и «разрешенное». Документы на получение нужных санкций были готовы, многие не спеша делали то же самое: невеселые предчувствия одолевали не только меня. Несколько беззаботно вела себя молодежь, но ведь у молодых сотрудников и дела были «помоложе». Интересно, чем в это время занималось наше руководство? В основном, похоже, карьерными делами…
«Палкин», к тому времени уже начальник Управления, присматривал, видимо, красивые должности для выхода на пенсию… «Пропойца» выскочил в генералы и был его заместителем… «Рыхлый», сидя опять в родном адмотделе ЦК, подумывал даже и о должности зампреда КГБ… Подумать только, это оперативное убожество мечтало о руководстве огромной секретной службой, имея самое туманное представление о том, как делается эта работа… Но он умел назидать и считал это главным. О, как он назидал — даже «Палкин» был бы озадачен этими назидательными всплесками…
Они чувствовали себя еще уверенно — все казалось прочным, незыблемым, ясно уже было, что главный перестройщик угомонился и ничего, кроме собственных дел, перестраивать не будет… Основную историческую задачу он уже перевыполнил — дал Западу все, что Запад хотел, не думая о последствиях для собственного народа и страны. Он упивался загрантриумфами, нобелевской премией, дачами и особняками, а главное — властью, такой большой, сладкой, бесконтрольной, безотчетной, казавшейся вечной… И, охраняя эту власть, он горой вставал на заседаниях Верховного Совета за тех, кто, как ему казалось, беззаветно был готов защищать ее и сопутствовавшую ей царскую роскошь. Как беспомощно лгал и доказывал он, что никаких привилегий не существует, что в аппарате ЦК всего-то 250 автомобилей…
Экономика тыкалась то в один тупик, то в другой. «Свободная пресса» послушно тявкала то про бригадный подряд, то про хозрасчет, то про 500 дней, то про аренду, но не получалось ни то, ни другое, ни третье… Удавалось без промаха одно — безнаказанно надувать тех, кого они любят называть «народом». Обещания светлого будущего начали приобретать конкретные, твердовалютные формы — провозгласили программу «Урожай — 90» (потом о ней наглухо забыли). Наобещали колхозникам златые горы и моря разливанные — только уберите урожай, а уж мы… будут вам и видеомагнитофоны, и холодильники, и автомобили…
Начали подбастовывать шахтеры и порадовали необычайной дисциплиной — ни водки, ни буйства — значит, не весь еще рабочий класс пропоили, думал я. Однако и тут быстро всех угомонили — наобещали прибавок, а где и прибавили — заткнули рты. Рабочих они по-прежнему боялись больше, чем морской пехоты США.
Пресса вплотную подбиралась к горлу Комитета, с горькими и «разоблачительными» статьями выступали бывшие чекисты. А организовать кампанию в поддержку ведомства было некому. ПГУ принялось драпироваться в белоснежные одежды, делая вид, что никогда не имело ничего общего с КГБ…
И все дружно тыкали пальцем в 5-е Управление — вот они во всем и виноваты, специалисты по политическому сыску, проклятые сатрапы, клевреты бобковские…
Из Управления и из отдела стала увольняться молодежь. Уходили толковые, грамотные ребята, такие, как «Матерщинник» или «Назвавший Тарковского Собакой» — оставались, их положение упрочалось. Бездарные, безграмотные, они держались кучно, делали карьеру, пробивали себе загранпоездки, гонки за которыми превратились уже в вид спорта.
Именно в это время сбежал на Запад единственный предатель 5-го Управления — сын известного в прошлом деятеля Верховного Совета Ш. Он работал относительно недолго, лет восемь, в аналитическом отделе, куда стекалась вся информация Управления… Нашлись доброхоты, устроившие ему командировку в Данию на какой-то международный конгресс, а из Копенгагена он прямиком удрал в США — это единственное, что стало известно.
Я отправился в отдел кадров взглянуть на его личную карточку — знаю ли я его? С фотографии на меня смотрела обычная, ничем не примечательная и не известная мне физиономия. Это правда, не значило, что он не знал меня. Было понятно, что с пустыми руками он на Запад не отправился бы. Интересно, думал я, выпустит ли меня начальство теперь в последнюю, завершающую поездку в Штаты с выставкой книг, посвященных Второй мировой войне? А пока я готовился ехать в Свердловск и на Байкал — туда по приглашению Госкомпечати отправлялся директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон с сыном Томасом; руководство поручило мне их сопровождать.
Ходили слухи о том, что Биллингтон заменит Джейка Мэтлока на посту посла США в Москве, контрразведчики интересовались любой информацией о нем. Я сильно сомневался в достоверности этих слухов — пост директора Библиотеки Конгресса пожизненный, и, по моим представлениям, нужно было обладать патологической неудовлетворенностью, чтобы променять его на какой-либо другой.
Тем не менее я внимательно прочитал все, что можно, о Библиотеке Конгресса и Биллингтоне.
Во время оно Библиотека Конгресса в КГБ числилась в списке разведывательных организаций противника — такой невообразимый массив информации там хранится и может быть представлен абоненту в кратчайшие сроки. Джеймс Биллингтон, кроме того, — один из известнейших русистов, специалист по истории России XVII века, учился и стажировался в Москве в течение нескольких лет, жил у нас с семьей, написал несколько книг — «Икона и топор» самая известная из них и самая неприятная для СССР, по оценке нашей критики. Одна из статей называлась «Топорная работа господина Биллингтона»…
С момента бегства Ш. я был почти уверен, что теперь я известен спецслужбистам США наверняка. Это означало, что информирована и резидентура ЦРУ в Москве, и те, кому положено об этом знать в американском посольстве; вряд ли они не подскажут Биллингтону, кто его будет сопровождать в поездке.
Так или иначе, об этом мне узнать не суждено никогда. Мы спокойно отправились с Джеймсом и Томасом в поездку. Биллингтон оказался удивительно изысканным джентльменом с «питерским» прононсом, когда он говорил по-русски. Томас — скромный паренек, изучавший бизнес, держался с отцом почтительно, со мной — уважительно, и все мы, кажется, оказались сносными спутниками (я изучал, наблюдал…).
В Свердловске была подготовлена великолепная программа — университет, архивы, библиотеки, американцев даже попарили в бане, к их восторгу. Побывали на месте, где стоял известный особняк Ипатьева. Там кем-то был поставлен большой деревянный крест, я сфотографировал около него американцев — это была одна из многих фотографий, сделанных мною во время этой поездки и подаренных Биллингтону.
В одном из архивов нам дали почитать личное дело главного убийцы царя, Юровского. Раньше приходилось читать об этой зверской акции лишь у Юлиана Семенова да в нашумевшей в свое время книге «Двадцать три ступени вниз». Поэтому мне было ничуть не менее интересно, чем американцам, просмотреть нетолстую папку. Нет, герой американского фильма «Николай и Александра» — руководитель «расстрельной команды» — никак не походил на нашего Юровского. Настоящий убийца был удивительно зауряден.
Из Свердловска перелетели в Иркутск, где хозяином нашим стал Валентин Григорьевич Распутин, они с Биллингтоном встречались раньше и рады были новой встрече. Распутин устроил поездку по Байкалу. Сначала нас привезли в «охотничий домик» — строение для услады номенклатурных чиновников. Джеймс и Томас сразу полезли в озеро — купаться в ледяной воде. Я завистливо вздыхал — мой чемодан по ошибке увезли обратно в Иркутск, и переодеться было не во что.
Богатое застолье, интересные разговоры… Наутро отправились в довольно нескладно спланированное плавание — весь день шли до острова Ольхон, там переночевали, погуляли по живописным, но безжизненным берегам и, торопясь уйти от надвигавшейся непогоды, пошли обратно.
Валентин Григорьевич — не краснобай и не говорун. Его речь не тороплива, не цветиста и не ярка, но удивительно глубока и содержательна.
Он вряд ли помнил меня — а я несколько лет назад, в ВААПе, расследуя маленький «сигнал» на него, провел под видом деловой беседы настоящий допрос и без особого труда «сигнал» закрыл. Сейчас я жадно слушал их беседы. Они оставили гнетущее впечатление. Биллингтон интересовался мнением Распутина по десяткам вопросов, тот в ответ рисовал апокалипсические картины будущего СССР и России — я с ужасом сейчас вижу, что он разглядел почти безошибочно наше нынешнее существование.
Я еще раз убедился тогда в том, в чем был уверен уже давно. Даже лучшие и самые знающие американские (что уж говорить о других) советологи, кремленологи, русисты, изучая СССР, а теперь — Россию, неизбежно впадают в совершенно простительную ошибку. Все они добросовестно пытаются рассматривать нас и изучать наши реалии с позиций нормальных человеческих существ, но наше общество, уклад жизни, манеры, привычки, повсеместное воровство и врожденная вороватость, неуемная тяга к алкоголю и любым другим порокам — и все это многократно помноженное на застарелое ощущение безысходности — давно сделали нас понятными только друг другу, да и то не всегда.
Словом, за время поездки я добыл неплохой материал «о заинтересованностях руководства американских идеологических центров и настроениях ведущих представителей творческой интеллигенции», который, как я понимаю, был немедленно после прочтения отправлен, фигурально выражаясь, в мусорную корзину. Ну, начальству виднее…
****
Руководство, к моему немалому удивлению, дало «добро» на третью, последнюю поездку с книжной выставкой в США. Эта выставка была самой интересной, самой драматической — ведь речь шла о войне… О войне, в которой наши народы были союзниками, о войне, после которой наши страны стали противниками.
Мы готовились к встречам с ветеранами, запаслись сувенирами, военными значками, пряжками, фотовыставками, перечитывали книги, которые собирались экспонировать. Я опять торчал перед компьютерами в «Доме», проверял американцев, собиравшихся приехать с выставкой к нам. Работы было полно: в Госкомпечати готовились к переговорам с делегацией журнала «Ридерс Дайджест» — его боссы решили попробовать издавать журнал в СССР. Да, работы хватало, но она была интересна, я встречался и вел беседы и переговоры со знающими людьми, узнавал массу нового. Со стороны Госкомпечати я был, видимо, единственным, кто читал «Ридерс Дайджест».
Когда-то он считался достаточно антисоветским, а сейчас родная пресса перещеголяла всех наших прежних противников. В обстановке всеобщей погони за валютой мне нетрудно было убедить и моих начальников в «Доме» и в Госкомпечати, что издание журнала, который я называл «домохозяечным», вреда нашему государству не принесет. Год назад при известии о намерении американцев издавать в СССР журнал, руководство вскинулось бы в охотничью стойку, сейчас оно равнодушно ознакомилось с моими справками и едва пожало плечами…
Американцы взялись за дело засучив рукава. В Москву приезжали то адвокаты, то бухгалтеры, то руководители редакции. «Ридерс Дайджест» — гигантское предприятие. Журнал издается в 22 странах, он действительно невероятно популярен, и издавать его в СССР было бы очередным прорывом, который так любят деловые американцы. Всю юридическую часть переговоров вел мой старый знакомец и один из учителей в книжном бизнесе — Мартин Левин.
Это один из людей, знакомство с которыми составляет лучшую часть моей жизни. Мартин — сын эмигранта-еврея из Литвы. Приехав в Америку, его отец, молодой тогда еще человек, поначалу зарабатывал на жизнь, торгуя питьевой водой.
Его сыну суждено было стать крупным издателем, президентом нескольких издательских объединений, председателем Ассоциации американских издателей, одним из патриархов американского книжного и авторско-правового бизнеса. В 60 Мартин решил «уйти на покой».
По Мартину Левину, «уйти на покой» значило вот что: он продолжал сотрудничать с известной юридической конторой в качестве консультанта, активно участвовал в делах одного из своих сыновей, Хью, владельца небольшого издательства, читал лекции по авторскому праву в Нью-Йоркском университете, а потом решил закончить юридический факультет этого же университета и проучился там два года, сдав массу экзаменов. Он построил для себя и жены великолепный дом недалеко от Нью-Йорка, на берегу залива, рядом с домом пристань и там — рыбацкая яхта, на которой Мартин выходит в океан.
В начале нашего знакомства он с хитроватой улыбкой упомянул в каком-то разговоре, что его день рождения — 20 декабря, в день годовщины ЧК. Я довольно успешно сделал вид, что не понимаю, о каком празднике идет речь, но ни разу за долгие годы нашего знакомства не забыл поздравить Мартина (это было легко держать в памяти…).
Как же случилось, что я, не веривший никому и ничему, привыкший все проверять, перепроверять и следить, поверил во всю эту развесистую клюкву с «перестройкой», «гласностью» и «демократией»? Как я не понимал, что всем этим занималась практически одна и та же шайка, стремившаяся в любых условиях, перекрашиваясь и предавая друг друга, отказываясь от того, что всю жизнь проповедывала нам и неплохо на этом зарабатывала, сохранить власть… Цивилизация проносилась мимо нашей страны, мимо них, они чувствовали, что в убегающие вагоны из нержавеющей стали им не попасть, если они не предъявят кондуктору хотя бы фальшивый билет, им хотелось по-прежнему выходить из личных самолетов под звуки гимна, пожимать руки президентам и королям, принимать салюты и рапорты, безнаказанно воровать, плести интриги, все, все хотелось сохранить не только для себя, но и для детей, внуков…
Началась торопливая череда предательств: предавали и продавали убеждения, друзей, партии, веру в светлые идеалы и отсутствие веры во что бы то ни было, Родину (платили немного), секреты — по второму и третьему разу, потому что те, кто соображал быстрее, уже продали их раньше…
Я чувствовал, что эта последняя по договору с ЮСИА поездка может стать вообще последней поездкой за рубеж. Поэтому я особенно тщательно готовился к ней, а во время поездки особенно внимательно вглядывался в Америку, пытаясь запомнить навсегда ее облик.
В Чикаго мы жили в отеле «Никко», позади знаменитого «Марина сити» — это два здания в виде кукурузных початков, десять нижних этажей которых — автостоянка, а верхние — квартиры.
Окна моего номера выходили как раз на автостоянку, по утрам, делая зарядку, я развлекался тем, что по багажникам припаркованных автомобилей пытался угадать марку и год выпуска — тогда американские машины еще сохраняли определенные традиции дизайна, и отгадывать было нетрудно.
А самые нижние этажи зданий, как оказалось, — причалы для яхт и лодок владельцев квартир… Здания-то стоят на реке, впадающей в огромное озеро.
На встречах со студентами, школьниками, обитателями псевдостаринных клубов и дамских обществ мы щебетали о перестройке, свободе слова, гласности и прочих реалиях, которые теперь обернулись такой ерундой… Правда, однажды я шокировал и американцев, и коллег, заметив, что Горбачеву пора бы уходить в отставку. Разглядывая разинутые рты собеседников, я перечислил все ляпы перестройщика, все его обещания, так и оставшиеся обещаниями. Я в который раз уже напомнил американцам, что они никогда не слышали Горбачева, а всегда слушали причесанные переводы его косноязычных излияний, и считать его интеллектуалом только потому, что на нем хорошо сшитая одежда, по меньшей мере, наивно.
«Черт возьми, могу же наконец и я понаслаждаться плодами перестройки и начать говорить «то, что думаю», — решил я.
Через полтора года, как я и предсказывал, вернулся с радио и ТВ Ненашев: человек редкого ума, но очень провинциальный, чего на ТВ не потерпели. Кроме того, он хотел через ТВ показать реальное положение вещей в стране, и власть предержащим это не понравилось. Большинство ненашевских клевретов так и осталось на телевидении — он не потащил их обратно в Госкомпечать, и их выдергивали потом из ТВ, как больные зубы.
Михаил Федорович принялся опять выживать нас, двоих чекистов, из Госкомпечати. Мой сосед-разведчик к тому времени уже больше работал в созданном им совместном предприятии — они размножались по всей стране, как кролики, и основная сила удара пришлась на меня.
Заканчивались переговоры по изданию в СССР «Ридерз Дайджест», готовилось к подписанию сложное соглашение, партнерами в котором были Госкомпечать, «Международная книга», издательство «Прогресс» и, естественно, «Ридерс Дайджест». Я крутился, как волчок, улаживая то капризы сторон, то их намерения рассориться и найти новых партнеров, то подсказывая им, где покупать бумагу дешевле и где лучше печатать — в Финляндии или у нас. Работы, как всегда, хватало.
1990 год заканчивался в водовороте дел, в ощущении непрочности собственного положения и смутных надеждах на то, что все как-нибудь образуется.
В Америке я не только выслушивал вопросы и пытался честно на них отвечать, я спрашивал и сам — мне было интересно узнавать об этой стране все больше и больше. Один из вопросов, которые я любил задавать американцам, особенно молодым: «Что такое «совиет» — совет? Что значит это слово?» Никто и никогда не мог ответить правильно. Некоторые думали, что «совиет» означает национальность, другие — гражданство. Я терпеливо разъяснял значение этого слова и говорил американцам, что они живут в гораздо более советской стране, чем СССР. Ведь в Америке «советы» графств, муниципалитеты, администрации штатов — действующие властные структуры, как Конгресс. У них власть, деньги, влияние, а уж кто там заседает, достаточно посмотреть на кадры хроники — шариковых не видно…
У нас власть любила называться советской, а на самом деле никакой власти Советам партия не оставила. Когда Верховный и местные Советы только-только начали что-то значить, царь Борис свернул им шею и вскарабкался на трон с помощью местных и заморских толстосумов… Наступает время, когда наши нувориши уже не потерпят никаких препятствий на пути широкой распродажи страны, и любой коллективный разум, способный хоть иногда принимать рациональные решения, им будет поперек горла.
Американцы давно поняли эту опасность и имеют на этот счет отличную поговорку: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно».
Можно ли представить себе Президента США выступающим в советском университете в нетрезвом виде? Можно ли представить себе его же или любого кандидата на государственный пост объясняющим Конгрессу, что вернуться домой ночью в непотребном виде — его «личное дело»? Сколько дней останется на посту Президент США, посуливший расселить одно из национальных меньшинств на бывшем полигоне? А обещания «лечь на рельсы»? А пострелять из пушек по парламенту?
Подумаешь, установили «подслушку» в штаб-квартире оппозиционной партии! Кто скажет сейчас, что не прослушиваются телефоны Жириновского, Зюганова и других…
В 1991 году многое уже висело на самом краю обрыва, и штурм вильнюсского ТВ столкнул это многое в пропасть.
«Саюдису» больше ничего не нужно было для полной победы и овладения голосами большинства избирателей. Дурацкая выдумка с Комитетом национального спасения прибавила литовцам уверенности в том, что с Союзом надо рвать. Ах, какая ошибка была допущена с обеих сторон, и явно было видно — непоправимая…
Ландсбергис не мог и мечтать о таком подарке, как бойня у телебашни, и я зубами скрипел, глядя, как мы безвозвратно теряем не просто Литву, а часть жизни многих из нас, друзей, леса и поля, порты, литературу и искусство, все теперь становилось чужим, и литовские делегаты во главе с Прунскене на заседаниях Верховного Совета холодно и спокойно добивались того, что казалось им самым нужным, самым необходимым, самым полезным для Литвы, — ее независимости от СССР.
Потеря Литвы казалась неизбежной и добавляла горя к тому, что творилось вокруг.
Мне кажется, что в то время КГБ находился в состоянии какого-то ступора… Крючков на заседаниях Верховного Совета пугал депутатов коварными методами иностранных разведок, не будучи в состоянии ничего доказать. Контрразведывательные подразделения, в том числе и 5-е Управление, беспомощно топтались на месте: когда в газетах писалось то, о чем раньше шепотом говорили на кухне, когда нараспашку открыли границы и в страну (и из нее) хлынули те, кто и подумать не смел о таких путешествиях, когда нападки на армию и КГБ для средств массовой информации стали не привычкой, а обязанностью, КГБ и партия растерялись…
Впрочем, лгали все и лгали, на удивление, нескладно. Несколько позже премьер Павлов осуществил первое мероприятие по разорению населения — внезапно были обменены крупные купюры. Пострадали те, кто находился в командировках и отъезде, очень немногие из преступников, сидевших в тюрьмах и лагерях, и огромное количество просто не успевших и не понявших, что происходит. Павлов привел совершенно абсурдные причины: западные банки (!) скопили у себя огромное количество советской валюты и вот-вот начнут мероприятия по ее подрыву… Иезуитская улыбка его говорила, что ему прекрасно известно — в зарубежных банках не существует счетов, на которых можно было бы держать советские деньги (там их за деньги не считают), а обесценение советских денег происходило явно через усилия именно кабинета товарища Павлова…
Под сухие четкие речи прибалтов в Верховном Совете я скоро узнал, что, минуя меня, поручено молодому, но очень шустрому сотруднику навести справки в Госкомпечати, а есть ли возможность в Москве набирать тексты на литовском, эстонском и латышском языках? Эге, подумал я, ясно, товарищи, что мы затеваем… Тут могло быть только два варианта — либо «обращения к трудящимся» очередного Комитета национального спасения, либо полуфашистские призывы к резне русских, которые (призывы) дали бы возможность штурмануть все телевизионные башни, имевшиеся на балтийском побережье.
Я пошел к одному очень уважаемому мной начальнику Госкомиздата, с которым известный мне паренек вел беседы о шрифтах, и предупредил его, что, по нынешним временам, в таких играх участвовать не стоит: продадут с потрохами, и немедленно. Так и не знаю, чем закончились эти заинтересованности 5-го Управления. Ведь им уже руководил «Рыхлый», а он ничего никогда не умел…
Возвращаясь из Госкомиздата домой, я каждый день проходил сквозь толпу, галдевшую на углу Пушкинской площади. Господи, какую чепуху там несли… Как-то раз я довольно долго слушал толстую женщину, увлекшись грамотной ее речью и удивляясь, почему она не в больнице, — ее ненормальность была совершенно очевидна. Потом я увидел ее на экране телевизора и узнал, что это Новодворская, одна из самых модных поборниц свободы в СССР…
Неожиданно для себя в мае 1991 года я опять оказался в США по обмену делегациями Госкомиздата и Ассоциации американских издателей на АБА — выставке американских книготорговцев. До августовских событий оставалось около трех месяцев.
Наша делегация остановилась в огромной гостинице «Мариотт Марки», там проходили конференции и встречи, а сама выставка — в новеньком огромном павильоне «Джейкоб Джэвитс Сентер», куда участников выставки и гостей возили на автобусах. АБА, конечно, поменьше Франкфуртской выставки, но поучиться и там было чему. Николас Велиотес, председатель Ассоциации американских издателей, организовал для нас несколько интересных встреч, в том числе с несколькими воротилами американского издательского бизнеса. Тон на этой встрече задавал Борис Иванович Стукалин, который давно уже был на пенсии и возглавлял «фонд Сытина». Однако он пользовался немалым влиянием в издательских кругах, и по-прежнему опирался на «проверенные кадры» — представителей старого мышления и старых представлений о сотрудничестве с американцами. Речь шла о проведении советско-американского семинара по авторско-правовым проблемам и различным издательским вопросам, и Борис Иванович всячески протаскивал для участия в этом семинаре старую издательскую гвардию. Я мешал ему, как мог: мне хотелось, чтобы в Америку поехали несколько грамотных, толковых (так мне казалось) и относительно молодых издателей. Сейчас вижу, как прав был он, как не прав я.
Вернулся в Москву почти безработным: коллега-разведчик и я оставались «за штатами». Я знал, что в Госкомпечати мне не работать — из разговоров с товарищами из 5-го Управления было известно, что «подкрышников» начинают выживать отовсюду. Я плюнул на все и ушел в отпуск — чувствовал, что в последний раз смогу подлечиться в одном из подмосковных санаториев КГБ.
Однако работа по линии Госкомпечати еще не закончилась — мне было суждено «блеснуть» последний раз в маленькой операции, которую я по привычке и с большой охотой провел в одиночку, не привлекая ни «наружки», ни «подслушки», а лишь помогавших мне людей…
В то время уже была создана масса совместных предприятий, большинство из которых быстро разваливалось или разорялось, а некоторые уцелевали и давали своим организаторам и владельцам валютный и рублевый заработок. Десятка три из них было и в системе Госкомиздата, я присматривал за ними вполглаза, хотя в основном они находились в поле зрения подразделений УКГБ по Московской области.
Я получил информацию о том, что мощности одного из СП использовались для тиражирования очень злой газетенки, не зарегистрированной в Госкомпечати и считавшейся крайне тенденциозной — нечто вроде «Хроники текущих событий». Кто, почему в этом СП занимался тиражированием газетки, было неизвестно, никаких контактов там не было.
Было жаркое лето, люди и организации, где я мог получить информацию, были разбросаны по всему городу, я по полдня сидел за рулем, собирая данные по крохам.
Вскоре узнал, что инициатор размножения газетки в СП — некая дама, жена сотрудника международного отдела ЦК КПСС, муж помогал ей, развозя тираж по торговым точкам и распространителям… В «Доме» все начальство, включая «Рыхлого», сразу ощетинилось — вот, мол, мы им зададим… Я знал, что не зададут — испугаются, но довел дело до конца. Через неделю я положил Игорю на стол пачку документов, которые принял бы любой следственный отдел. Из них было видно, кто и почему использовал СП для тиражирования газеты, иностранцы из каких стран и кто лично финансировал эту акцию. Среди них оказался и известный (всем, кроме меня) диссидент Александр Гинзбург. Я добыл копии счетов, квитанции от расплаты кредитными карточками, словом, все. В старые времена СП было бы закрыто, генеральный директор получил бы нахлобучку, которую запомнил бы на всю жизнь, МИД направил бы раздраженные ноты по поводу вмешательства во внутренние дела в посольства стран, из которых родом были иностранцы, финансировавшие газету, а им самим закрыли бы въезд в СССР до конца дней.
Игорь перебрал документы, улыбнулся, как давно уже не улыбался, и сказал: «Вот это настоящая контрразведка…»
Мы знали, что документам не будет дан ход, что никто пальцем не тронет ни даму, ни ее мужа, ни иностранцев, ни тем более газетку.
В уставах новых партий было записано, что они могут иметь поддержку из-за рубежа — это, конечно, широко не обнародовалось…
Так все и получилось. Документы полежали у «Рыхлого», потом вернулись — без подписей или пометок, без резолюции и указаний. А потом и он сам опять оказался в родном ЦК КПСС — видно, там ему нравилось больше, чем в КГБ, — власти много, а ответственности — ноль.
Управление возглавил приехавший из Свердловска Воротников — с комсомольским лицом и повадками, но пограмотнее прежних комсомольцев. Даже по телевидению выступал толково — рассказывал о борьбе с терроризмом.
Я еще захаживал в Госкомпечать, на двери «моего» кабинета еще висела табличка с моей фамилией, но «реорганизация» шла полным ходом — понять, что творилось, было невозможно. Ясно одно — остался без «крыши».
Я пыхтел утром со своими гантелями, когда раздался телефонный звонок — звонила соседка: «Евгений Григорьевич, включайте телевизор, военный переворот…»
Они сидели за длинным столом — опытные, хитрые, знающие, но с первых их слов стало ясно: не уверены в себе, плохо подготовлены, ничего не выйдет. На дерзкие вопросы журналистов они давали путаные, бестолковые ответы, несли ахинею о Горбачеве, о необходимости наведения порядка в стране, о том, что военная техника на улицах Москвы — это так, для того же порядка, что сил у них хватит. Особенно неясно было после выступления Пуго — почему он, министр внутренних дел, раньше не занялся наведением порядка и кто ему мешал?
Теперь Янаев, явно испуганный тем, что случилось, с трясущимися пальцами, которые ловко выхватил крупным планом оператор ТВ, пытался объяснить необъяснимое.
В «Доме» царило болезненное возбуждение. Одни восторгались происходившим и даже обнимались в коридорах, скоро выяснилось, что этого делать не следовало — все были проданы с потрохами новому начальству. Другие собирались в комнатах и слушали то радио, то принесенные с собой транзисторы — «Свобода», «Голос Америки», Би-Би-Си…
Я изрыгал злобу и мечтал о расстреле Крючкова во дворе «Дома» перед строем офицеров. Язов, настоящий военный, и Крючков с Пуго — военные довольно условные, выглядели в той ситуации как нарушившие присягу, а при очень большом желании им можно было приписать и измену Родине.
Никто (или почти никто) ничего не знал, никто не отдавал никаких приказов. Я пошел по начальству — Игорь был уже заместителем начальника Управления, и пару месяцев назад исполнилась его мечта — стал генералом… Он знал кое-что, но молчал, вытащить из него что-либо оказалось невозможным. Забегая вперед, скажу, что он стал одной из «жертв» переворота: от военного коменданта пришел рескрипт о закрытии типографий, и Игорь послал кого-то из молодых сотрудников этот рескрипт передать директорам двух или трех типографий, находившихся в ведении нашего отдела. Этого оказалось достаточно…
Другой заместитель начальника Управления, выполняя приказ одного из зампредов КГБ, послал нескольких оперов, и те задержали (а проще говоря — взяли под арест) двух депутатов и отвезли их в расположение воинской части, где тех и продержали до провала «путча».
Еще кто-то пытался отключить (или отключил?) какой-то канал ТВ.
Вот все, что мне известно об участии 5-го Управления в путче. О команде «Альфа» впоследствии много говорилось. Ясно одно — любой Белый Дом из двух существующих мог быть взят штурмом в четверть часа, и никакие «верные демократии» воинские части не смогли бы помешать — на то она и была командой «Альфа».
Выходило, что кроме самого Крючкова и его заместителей в операции были заняты руководители «девятки» и Управления правительственной связи, да каким-то краем часть руководства разведки — вот и все. Но этого оказалось достаточным, чтобы почти немедленно была развязана открытая кампания, направленная уже не на дискредитацию, а на полный разгром КГБ.
Короткое время — месяц с чем-то, Комитетом руководил начальник разведки Шебаршин — потом и он оказался в чем-то замешанным, и на Комитет обрушился господин Бакатин.
Но все это позже, а пока нам было приказано находиться в здании, сидеть на своих рабочих местах… Под окнами бесновалась толпа, проносили огромные трехцветные флаги. На площадь Дзержинского неторопливо выехал танк, поехал по Охотному ряду мимо Детского мира. По телевидению показывали танковые колонны, офицер демонстрировал пустую обойму и объяснял толпе, что никто не собирается стрелять: пустые обоймы, как оказалось позже, были не у всех…
Объявили, наконец, какую-то из разновидностей мобилизационной готовности — дела и документы приказали погрузить в мешки и приготовиться к их вывозу. Все возились с мешками, жгли и рвали несекретное — секретное уничтожать было запрещено. Потом опять все разложили по сейфам — мобготовность отменили.
В метро расклеивали листовки в поддержку Ельцина, где неумелых и нерешительных заговорщиков называли преступниками — вскоре их так же назвали по радио, это был первый признак провала. К тому времени пролилась кровь — кстати, нигде не упомянули, что во время столкновений с толпой погиб, по крайней мере, один военный — сгорел заживо водитель БТРа, не успевший выбраться из машины. Тут уж судьба заговорщиков выглядела совсем печально, но один из молодых сотрудников уверенно сказал мне: «Вот увидите, им ничего не будет. Спустят дело на тормозах. Ворон ворону глаз не выклюет…»
Тем не менее их арестовали, а узника Фороса, слушавшего о событиях в Москве «по старенькому японскому приемнику», бережно доставили в Москву: об него планировали вытирать ноги, использовать в укреплении власти и популярности Президента России.
Вечером 20-го позвонил один из любимых агентов и сказал:
— Ну что, Женя, мы ведь теперь по разные стороны баррикад окажемся? Стрелять в меня будешь?
Я слышал в своей трубке шум от проходивших неподалеку от его дома танков.
— Почему ты так думаешь, и почему баррикады? — спросил я. — Почему, наконец, ты думаешь, что я вообще буду стрелять?
— А как же присяга? Ведь тебя расстреляют, если откажешься выполнить приказ?
Я отшутился, не стал убеждать его в том, что если бы дело дошло до стрельбы, то я мог бы оказаться и на стороне защитников Белого Дома. Уверен в этом не был и с кем, конечно, этого не обсуждал. Сейчас стыдно за тогдашнюю глупость…
А 21-го наш отдел собрал Денисов и после чтения нескольких сообщений ГКЧП объявил, что будем ждать заседания Верховного Совета, тогда и определимся, чьи указания выполнять. «Матерщинник» задал хитрый вопрос о нашем юридическом статусе, Юрий Владимирович, сам крепкий юрист, ушел от ответа и повторил еще раз про Верховный Совет. Все заулыбались — ясно было, что откровенно высказываться нельзя, надо выждать, чья возьмет.
Во все подъезды «Дома» вывели пожарные шланги — как будто ими можно было остановить толпу; около каждого охранника висел омоновский щит и резиновая дубинка — «щит и меч»…
Оружие у оперсостава отобрали так давно, что никто и не помнил, было ли оно когда-нибудь. Выдавали его в дни учебных стрельб или спецмероприятий.
Вскоре после подавления путча на площади Дзержинского собралась большая толпа. Люди что-то скандировали, кажется, «убийцы». Толпа густела и густела к вечеру, вскоре стало ясно, что собираются снести памятник Дзержинскому.
Толпой умело руководили, разъясняли ей, что без крана и специалистов статую свергать нельзя — можно повредить подземные переходы, а то и станцию метрополитена. Особенно убедительно уговаривал толпу Станкевич — толпа в ответ скандировала: «Се-ре-жа, Се-ре-жа…» Сережа и ему подобные не хотели, чтобы толпа ворвалась в здание, — беспокоились, что могут быть найдены дела и на «демократов», а там много интересного можно было бы прочитать…
Нам объявили, что у каждого подъезда собрались группы «активистов», которые требуют, чтобы выходящие из здания чекисты показывали им содержимое портфелей — боялись, что будут вынесены и сожжены документы и дела. Было приказано не перечить, не поддаваться на провокации и портфели предъявлять… За спинами «активистов» расположились телекамеры иностранцев — ждали интересных сюжетов.
По окончании «рабочего дня» мы с Ген. Генычем вышли из здания, оба с портфелями. «Активисты» в темных очках с какими-то нарукавными повязками посмотрели в нашу сторону, но никто не двинулся к нам…
Вечером телевидение со смаком показывало, как статуя была сдернута с пьедестала огромным краном. В Москве, и без того обделенной красивыми памятниками, стало меньше еще на один.
Даже Бакатин назвал это вандализмом (конечно, постфактум), а вслед за ним и Попов. С того вечера я уже сильно засомневался в подлинности демократических устремлений наших «демократов» — все это так походило на столь любимое у нас вытирание ног о покойника.
Для большинства обитателей «Дома» потянулись длинные дни безделья. «Деятельность» (этим словом по всей стране давно заменили слово «работа») КГБ была объявлена противозаконной.
«Наверху» придумывали новые названия — Агентство федеральной безопасности, Служба безопасности России…
Во главе Российской службы, где оказалось человек 300, поставили Иваненко, но ненадолго. Названия тоже долго не существовали…
С Бакатиным пришла целая толпа недоумков, которые с комсомольским задором принялись переделывать то, в чем нисколько не разбирались, но тоже хотели все назвать по-новому. Назвать, обозначить, объярлычить…
Управления на короткое время стали называться департаментами, отделы — бюро. Люди слонялись по коридорам, курили, сплетничали, некоторые забегали по новым начальникам, «застучали», рассказывая, кто как вел себя во время попытки переворота.
Я нашел себе занятие — принялся готовить рецензию на книгу Ривза о Кеннеди для издательства «Международные отношения». Увлекшись работой, подумывал взяться за перевод. Прочитав книгу и подготовив рецензию, начал переводить другую — небольшую книгу Ле Карре «Невыносимый мир». Работал не спеша, с удовольствием, вполуха прислушиваясь к тому, что творилось вокруг.
Рапорта об уходе на пенсию подавали многие — не отказывали никому. 5-е Управление переименовали в Управление «З» — защиты конституционного строя. Предполагалось, что те, кто в течение долгих лет под одобрительные взгляды со Старой площади нарушал Конституцию самим фактом своего существования, будут ревностно ее охранять под ласковыми лучами солнца демократии, озарившего страну.
Все или почти все то оставались «за штатами», то вновь оказывались зачисленными в какие-то бюро и департаменты, но всех объединяло общее безделье. Единственная ежемесячная забота, в какой комнате, на каком этаже получать зарплату. «Все за штатами», — гласила последняя мрачная шутка, «только Ш. в Штатах»…
А о Ш. только и было известно, что он в Америке. Никаких публикаций, никаких заявлений — пропал человек, и все. Может быть, он тут же предал всех и все, ушел в глубокое подполье, может быть, американцы его признали двойником, и он попал в глубокую проверку — мы не знали ничего, да никто особенно и не интересовался. Творилось такое, что удивить оперсостав было уже невозможно. Аналитики и мыслители, приведенные в аппарат КГБ Бакатиным, видимо, из милиции, радовали всех то приглашением для интервью команды американского телевидения, то беседами с другими иностранцами, посольские автомобили которых теперь часто стояли во дворе «Дома»… Сам Бакатин в одном из интервью, которые он страстно любил давать, с наивностью провинциального простака пожаловался, что окна его (бывшего крючковского) кабинета выходят во внутренний двор, и «ему скучно»… Привыкшему веселиться в обкомовских кабинетах, все казалось ему «мрачным и хмурым».
Выдача американцам уникальной системы подслушивания в здании посольства потрясла обитателей «Дома». Бестолковые объяснения, последовавшие за этой акцией, никого удовлетворить не могли, а ссылки на то, что она была санкционирована Горбачевым и Ельциным, только подливали масла в огонь. Ясно было, что Бакатин торопился понравиться американцам, «пока он еще сидел в своем кабинете» в КГБ — опасался, что и оттуда его, как и из милиции, быстро попросят. Но — успел-таки.
Его ссылки на мнения экспертов и на то, что оборудование безнадежно устарело, не могли убедить никого в «Доме», и он навсегда останется в памяти профессионалов, как один из крупнейших предателей КГБ — правда, с него как с гуся вода, заседает в чем-то международном…
Второй его дикой выходкой была телевизионная любовь с бывшим диссидентом Буковским — они деловито обсуждали, что делать с агентурой КГБ — обнародовать списки или погодить. Буковский советовал погодить, Бакатин соглашался, потом крупным планом показали их рукопожатие…
Стал Бакатин встречаться и с личным составом: очень сердился на чекистов, обещая «искоренить чекизм», набрасываясь на собеседников с обвинениями в «необольшевизме». Кто-то посетовал, что инструкторами в службы безопасности Прибалтийских государств приглашены сотрудники ЦРУ. «А вы хотите, чтобы они из 2-го Главка приглашали инструкторов?» — взревел новый вождь КГБ… ЦРУ ему было роднее и ближе.
Я прилежно корпел над переводом, помногу беседовал с молодежью. Ребята потеряли ориентиры: оставаться работать в таком КГБ мало кто хотел, «гражданка» пугала бешеным ростом преступности, коррупции, засильем «демократов», да и неизвестностью. Многие хорохорились, поминутно хватались за перо, намереваясь писать рапорта об увольнении, но быстро остывали. Как всегда в смутные времена, наверх всплывало дерьмо — в нашем отделе все большую силу набирали «Назвавший Тарковского Собакой» и «Матерщинник». Они деловито сновали по кабинетам нового начальства, что-то ему советовали, кого-то рекомендовали, трогательно заботились о себе и о новых для себя должностях. Так было, видимо, везде в КГБ — даже Бакатин жаловался, что к нему пристают с доносами друг на друга высокопоставленные чекисты. С одной стороны, таких в КГБ было всегда в достатке. С другой — ну кто же из порядочных людей пошел бы к нему? Ведь он пришел с откровенной установкой на разрушение КГБ.
Он кокетничал, обличал, вертелся перед телекамерами, но было видно, что за веревочки дергал кто-то другой, да и тексты были придуманы явно не им.
Кто же вел кропотливую, долгую работу по разрушению КГБ, кто, наконец, имел достаточно власти, силы и влияния, чтобы довести эту работу до конца? Кто кого подталкивал, кто кого тянул, кто рвался с поводка? Кому мешал КГБ?
— Всем мешал, — злобно прошипел бывший мой знакомец, директор одного якобы государственного издательства. Он только что вернулся из завлекательной поездки по Европе со своей метрессой и был уверен, что раньше этого вояжа могло и не случиться, — думал, что КГБ так и бросился бы заниматься его сексуальными изысками да запусканием лап в издательскую кассу.
— Всем, — шумели на заседаниях съезда народные избранники. Они требовали запрета на подслушивание, подсматривание, вербовку агентуры — правда, как без всего этого можно вести секретную оперативную работу, никто не знал…
— Всем, — заливались бывшие диссиденты и те, кто выдавал себя за оных. Здесь протаскивался тезис о засилье КГБ, о всепроникающей организации, контролирующей всех ежечасно, ежеминутно. Несведущим становилось жутко, сведущим — смешно. Известных диссидентов по пальцам можно было пересчитать, но если бы даже преследуемых было, скажем, 10 тысяч (специально утрирую, ибо никакая спецслужба держать под контролем такое количество людей не в состоянии), то и тогда это была бы крошечные доля от огромного населения страны… Пресса стремилась поразить воображение читателей рассказами о ГУЛАГе и ужасах сталинских застенков, но ведь это когда было-то, господа, а у нас шел 1991 год… Но нет, высвечивали изо всех сил «звериный облик» современного КГБ.
А больше всего мешал он не диссидентам и не воришкам из числа бывшей номенклатуры, а тем, кто заваривал «межнациональные конфликты», тем, кто ворочал миллиардами в «теневой экономике» — то есть крупным ворам и, наконец, тем, кто давно вел твердую, успешную линию на разрушение сначала Союза, а теперь — России: тесному союзу западных финансовых кругов и секретных служб. Только КГБ мог с переменным успехом противостоять или, по крайней мере, знать кое-что, а иногда и многое, об этих силах, их центральных фигурах и некоторых операциях. Другой организации, способной бороться с ними, не было…
Диссиденты, пресса, «демократы», законодатели, исполнительная власть к 1991 году были настолько сильно пронизаны агентурой местного преступного мира и международной реакции, что служили лишь катализатором в процессе разгроме КГБ, наивно полагая, что разрушают его сами.
Обставив себя «своими» начальниками милиций, полиций, контрразведок, разведок и обезопасив свои деловые начинания и коммерческие успехи в области «приватизации», а проще говоря — коррумпировав высокопоставленных спецслужбистов, верхи наивно полагают, что средние-то и низшие звенья спецслужб будут исправно выполнять свои обязанности и ловить шпионов, жуликов, рекетиров и хулиганов.
Да ничуть не бывало.
Одно из основных качеств специальных служб заключается в том, что эти секретные военизированные организации эффективны лишь тогда, когда они сверху донизу пропитаны сознанием принадлежности к Ордену Неподкупных, сверху донизу гордятся этой принадлежностью. В противном случае извольте вспомнить щелоковых и чурбановых…
По-настоящему шевелиться и беспокоиться относительно роста преступности в стране верхи начинают, лишь осознав, что «девятки» на всех не хватает: вот уже и дочь (жену, племянницу) ограбили и изнасиловали средь бела дня, в собственном подъезде. Либо во время избирательной кампании, обещая резко взяться за борьбу с преступностью в районе, регионе, уезде, штате, губернии.
Если же верхушка по природе своей преступна, коррумпирована, то с преступным миром в масштабе всей страны ее связывают прямо-таки духовные, а поэтому невидимые связи. Разглядеть их, эти связи, мог только КГБ. Ну, конечно, когда ему разрешали это сделать…
Поговаривают о сотрудничестве спецслужб. Оно имело и имеет место «побочно» — например, в НАТО. Теперь зашла речь о другом сотрудничестве — ФСБ (так теперь называется то, что осталось от КГБ) и ЦРУ. Кстати, а против кого инструктируют наставники из ЦРУ спецслужбистов Прибалтийских стран? Против Хусейна? Кастро? Ой, вряд ли…
Если что-нибудь и заладится в таком сотрудничестве, то только то, что выгодно Западу не меньше, чем нам, — борьба с терроризмом, с наркомафией. Но самое интересное не здесь. Крупный чин ФБР выразил надежду на то, что в процессе сотрудничества с бывшими советскими спецслужбами ФБР получит имена американцев, работавших на КГБ. Готова ли ФСБ к этому?
Наконец, директор ЦРУ «похлопал по плечу» первого Президента России, заявив, что только тот приведет нашу страну к подлинной демократии… Ну, к этому мы были явно готовы — наши средства массового обмана, захлебываясь от восторга, многократно повторили эту похвалу…
****
Каждое утро и каждый вечер, приходя на «работу» и уходя с нее, я видел потные толпы «предпринимателей», окружившие тесным кольцом «Детский мир», протянувшиеся по улице Жданова явно с одобрения городских властей — пусть загадят и замусорят улицы вокруг ненавистного КГБ. Те, конечно, были рады и загадить и замусорить… Но больше всего они были рады обретенной свободе не стоять у станка, не крутить баранку грузовика, словом, не работать, а в открытую, внаглую заняться спекуляцией, воровством, обманом.
В каком-то помещении на площади Дзержинского размещался созданный еще до путча КГБ России. Оттуда Иваненко вел бесшумную борьбу за влияние и власть, подчиняя сначала часть, а потом большинство местных органов, только с огромным Московским управлением дела шли туго. Небольшое число сотрудников союзного КГБ и даже ПГУ потихоньку перебралось в КГБ России, или, как потом его переименовали, — АФБ. На них смотрели косо, как на перебежчиков. Рассказывали, что позже для них не нашлось приличных должностей в МБРФ — там перебежчиков не ценили.
А мы, сатрапы политического сыска, душители гражданских свобод, числились то в Управлении «З», то в каких-то департаментах и бюро, то вдруг оказались в Управлении по борьбе с контрабандой и коррупцией — УБКК. Аббревиатуры стали еще отвратительнее, чем раньше.
5-е Управление перестало существовать.
Появились какие-то новые должности — консультант, старший консультант… Кто должен был консультировать и кого? По каким вопросам? Для большинства ветеранов в этих новых структурах не высвечивалось никаких перспектив. Появлялись все новые и новые правила и приказы по уходу или увольнению на пенсию — они предоставляли все большие и большие льготы всем, кто покинул бы «Дом», независимо или почти независимо от сроков службы. Теперь засчитывали учебу в гражданских вузах, повышали пенсии за выслугу лет, словом, создавали условия для того, чтобы избавиться ото всех, кто работал долго и давно. «Подкрышники» оказались в довольно интересном положении — для них переход в «гражданку» был не так страшен, они ее уже знали. Казалось, что с нашими связями и контактами нам легче будет найти работу. Все повернулось совершенно иначе. Да, мы многих знали, но многие знали и нас, и взять на работу чекиста означало вызвать недовольство победившей демократии, рисковать не хотел никто.
Занимаясь переводами и беллетристикой, я старался уйти от реальностей бытия, но иногда заходил в кабинеты знакомцев и старых приятелей.
Игорь в числе других 10–15 генералов ждал приказа об увольнении на пенсию, а может быть, и пенсии могли лишить — возможно было все.
Владимир Иванович Костыря — один из лучших контрразведчиков страны, ему бы еще работать и работать, только такие люди могли защитить Россию — тоже собирался на пенсию. Еще бы, они-то сейчас и были особенно нежелательны. Именно их и боялись больше всего и наши зарубежные контрагенты, и особенно зарождавшийся тогда новый класс «предпринимателей», а точнее легализовывавшихся преступников, благочинно именованных «теневой экономикой». Они устали прятать золото и бриллианты, им надоело маскировать свое богатство, хотелось проноситься по улицам в «мерседесах» и «линкольнах», строить особняки, выгибать груди на приемах, торчать перед телекамерами, проводить отпуска в Швейцарии и Австрии, а лучше — в Майами и Калифорнии…
— Даже и думать нечего оставаться здесь, Женя, — с улыбкой сказал генерал. — Подонка этого сюда и поставили, чтобы он камня на камне не оставил от КГБ. Пока не разгонят всех, не успокоятся. Вот увидишь, они здесь устроят что-то вроде окультуренной милиции… партократ паршивый… Он еще здесь в преданности прежним идеалам обвиняет людей! А то мы не знаем, какие у них-то идеалы были… Уходи, Женя, уходи. Делать здесь больше нечего…
На цоколе памятника Дзержинскому ночью кто-то огромными белыми буквами написал: «Прости, что не уберегли тебя, Феликс»… Днем надпись тщательно замазали…
В «Доме» появилась масса каких-то непонятных людей. Мы с интересом рассматривали их во время обеда в столовой. «Ложьте, ложьте больше рису», — просил один из них раздатчицу. Его собеседник любил, сидя за столом, старательно извлекать из носа то, что там скапливалось и, придав добытому сферическую форму, скромно бросать на пол. В разговоры ни с кем, кроме как друг с другом, они не вступали, и мы не могли догадаться, откуда их появилось так много.
Все больше стало появляться людей из Московского управления. Говорили, что новый его начальник (то ли биохимик, то ли геофизик) был приятно поражен тем, что в действующих делах Управления не оказалось досье на его товарищей «демократов». Ими он заинтересовался сразу, как только вступил в должность.
Воспевая его и нового директора разведки, пресса и маститые комментаторы твердили, что такие ведомства, дескать, нельзя отдавать под руководство профессионалов — они вам наворочают таких путчей… И тут же следовали ссылки на Америку, Францию…
Эх, «господа»… В Америке-то и полный дурак если даже попадет в президенты, вреда стране нанести не сможет — система отлажена, стабилизирована и «фул-прувд» — защищена от дурака. У нас же все наоборот…
А сколько воевали, чтобы назначить нового, «своего», начальника милиции Москвы (тоже геофизика или биохимика) с блатной челкой? Кому-нибудь это, может, и казалось малосущественным, но мы-то понимали хорошо — такой не даст своим сотрудникам сунуть нос выше уличного киоска, дальше подземного перехода. Такой не заинтересуется распродажей земельных участков в центре Москвы или «приватизацией» десятков и сотен магазинов в ее центральных районах, такой не даст в обиду чиновников мэрии, тем более, что сам мэр скоро будет объяснять миллионам телезрителей, что взятка чиновнику не есть взятка, а награда за споспешествование успешному проекту…
Впервые воровство и коррупция не только приобрели невиданные ранее масштабы, но стали приятным занятием, поскольку оказались полностью безотчетными и бесконтрольными — некому контролировать, не перед кем отчитываться, а приватизировать можно все, на что положишь глаз.
Ради такой жизни можно и поболтать иногда о ваучерах и прочей чепухе, придуманной для широких масс трудящихся. Ваучеры… Да умножьте вы 150 миллионов владельцев на 25 рублей, уплаченных за каждый ваучер, — что-то около 4 миллиардов дармовых получили наши властители за эту дивную выдумку. 4 миллиарда положить в карман, не выдумав ничего, кроме этих бумажек, и не произведя ничего, кроме них, — как говорится, дешево и сердито. А теперь, дорогой соотечественник, пойди со своим ваучером и приватизируй завод им. Лихачева. Там тебя очень ждут. Ждут те, у кого этих ваучеров — чемоданы. Они, возможно, и приобретены на те самые украденные у нас 4 миллиарда рублей, но с чемоданом ваучеров уже можно кой-чего и приватизировать… Панама с ваучерами войдет в историю финансовых махинаций, так же, как и бесстыдное ограбление миллионов вкладчиков, державших вклады не в частных, а в государственных сберкассах. Ни МВД, ни МБРФ — Министерство безопасности Российской Федерации, ни Минфин, ни прокуратура не промолвили ни слова, когда ограблен был весь народ…
Иваненко недолго пробыл на своем посту — отправили на пенсию… «Не доверяли полностью», — как он говорил в интервью «Огоньку».
Один из ответственных сотрудников медицинского Управления, выдавая мне путевку, спросил: «Слушай, а сколько российский КГБ отберет у нас путевок в наши санатории, коек в госпиталях?»
«Они отберут у нас все», — спокойно ответил я.
Новым властям нужен был свой начальник МБРФ, и президентским указом решено было объединить МВД и КГБ. Как все зашумели, как забеспокоились, а не будет ли создан новый всеведущий монстр, как это однажды уже случилось? Конституционный Суд, депутаты Верховного Совета — все бросились дезавуировать указ и ликовали, когда Конституционный Суд отверг его и признал неконституционным. И как же легко обошел Президент эти запреты, всего-навсего назначив господина Баранникова — бывшего министра внутренних дел — начальником МБРФ… Тот объяснил журналистам, что не собирается руководить чекистами, так, контролировать, надзирать, а все, дескать, будут делать его заместители, из прежних зампредов КГБ.
Но кое-что быстро становилось понятным — начальником «хлебного» медицинского управления МБРФ стал личный врач Баранникова, из милиции же пришли люди руководить хозяйством Комитета, его госпиталями и санаториями, домами отдыха. Из милиции набрали новое пресс-бюро, и уже милицейский журналист (став перед этим генералом) рассказывал телезрителям, чем занимается Министерство безопасности и каких успехов добивается.
20 декабря, направляясь утром в «Дом», я увидел, как около «Детского мира» остановились две «Волги». Из них вышли несколько человек с парой венков и не торопясь направились к постаменту, оставшемуся от памятника Дзержинскому. Поднялись по ступеням, положили венки, взяли под козырек, постояли несколько минут, переговариваясь. Потом вернулись к машинам и уехали.
Ну что ж, я спустился вниз по Кузнецкому, в цветочном магазине купил десяток гвоздик и сделал то же самое. Может быть, больше для себя, чем для Феликса. Кстати, уверен, что наши «демократы» и слыхом не слыхивали, что Дзержинский до победы революции 1917 года был виднейшим польским социал-демократом… И даже сидел в царской тюрьме именно за это, за принадлежность к социал-демократической партии. Тоже был диссидентом…
Никто не верит, что и во время путча, и целый год спустя, в огромных зданиях на площади Дзержинского никто ничего не делал. Хотите, верьте, хотите — нет.
А с КГБ продолжали творить нечто совершенно невообразимое. Никакими «демократическими» устремлениями объяснить то, что происходило, было невозможно. Например, отделили от Комитета погранвойска, но при этом не подумали, а куда же их деть? В царской России, к примеру, они числились по линии МВД, как и таможенная служба — вроде бы логично, есть явная связь. Но нет, пограничников «пристегнули» к армии…
Это совершенно особый род войск, каждая погранзастава была тесно связана с местными властями, с местными органами КГБ, имела актив среди населения; велась патриотическая работа, воспитывалась бдительность среди молодежи. А специальная техника? А корабли, вертолеты, самолеты? Да одно собаководство стоило огромных денег… Перегибы с бдительностью? Их было полно, всегда и во всем. Теперь перегнули все в другую сторону: все оказалось распахнутым настежь. Наши бывшие республики решили стать «открытыми обществами», и границы свои открыли для кого угодно, а их границы с нынешней Россией кто-то нежно назвал прозрачными. Вот задача, кому бы все это было нужно? Может, все произошло случайно? Ну, тогда и миллиарды долларов случайно «сделали» на нефти, цветных и редких металлах, а потом и вывезли их в зарубежные банки — тоже случайно.
Армии, конечно, пограничниками заниматься недосуг — во-первых, она кое-кому на радость тоже разрушалась, во-вторых, отвечать за многие тысячи километров сухопутной и морской границы не хотела, а главное — не умела.
И пограничников через недолгое время тихо, без шума, вернули в систему Министерства безопасности. Так, поиграли генеральскими должностями, пожонглировали судьбами многих тысяч людей и, напортачив, «исправили ошибку».
После августа 1991 года переподчинили, конечно, «девятку» напрямую Президенту, вернее, его аппарату. Обезопасили себя от возможных новых переворотов — понимали, что их полюбят совсем не все… Но ведь в МБРФ теперь сидели свои товарищи, кого ж было опасаться?
Забавные истории творились и с армейской контрразведкой — ее, наверное, спутали с военной же разведкой и тоже из ведения КГБ передали… армии. То есть, организация, которая должна была надзирать за военными (а там есть, есть за кем надзирать), была передана в ведение надзираемых. Мечта жуликов в генеральских мундирах сбылась. Логика не простая, и понять ее на трезвую голову дано не всякому. Впрочем, это ведь был сплошной праздник победившей демократии, и трезвых голов, похоже, было немного. Да и приватизация в армии уже началась, а уж там-то было что приватизировать. Настоящие и мнимые нападения на воинские части, всегда сопровождавшиеся захватом несуразных количеств оружия и военной техники, планировались и осуществлялись небесплатно, и никакого присмотра, конечно, не хотелось. Очень хотелось поиметь миллионы, не портя нервы мыслями о кагэбэшном надзоре…
Так и шли перетряски, перетруски. Ниточки, за которые подергивали кукловоды, уходили так далеко и терялись в такой темноте, что разглядеть кукловодов было решительно невозможно.
А куклы тарахтели с трибуны Верховного Совета, выходили торжественно из личных самолетов, совершали сладостные триумфальные поездки по дальнему зарубежью и болтовней своей только добавляли тумана. Нагонять этот туман стало практически их единственным занятием — оно, конечно, несколько мешало полностью погрузиться в приятный процесс приватизации всего, что само так и просилось в руки.
Это у нас с вами они воруют нефть, газ, металлы, вывозят за рубеж и продают национальные ценности. Это у нас с вами они воруют технические и научные секреты — они есть, есть в этой стране и в немалом количестве. Это наших депутатов и журналистов недорого покупают во время комплиментарных зарубежных вояжей, и это нам они потом пытаются дурачить головы. Это нас с вами обдирают как липку наши «предприниматели» и «бизнесмены», по сто раз перепродавая продукты и товары, которые втридорога доходят до покупателя…
Разгром КГБ обернулся уже многими бедами и несчастьями всем нам.
В один прекрасный день было объявлено, что можно уничтожить секретные материалы, «хранение которых в подразделениях и архивах не вызывалось оперативной необходимостью»… Взяв под мышку объемистый пакет из плотной бумаги, я в сопровождении молодого сотрудника, Сережи З., долгими подземными переходами перебрался в старое здание «Дома». Мы вышли в Фуркасовский переулок и перешли в дом № 12, спустились в подвал.
У печей для сжигания бумаг было человек пять молодежи, среди них девушка — наверное, секретарша какого-нибудь отдела. Перешучивались, смеялись. На полу лежали плотно набитые мешки.
Сережин сверток тоже был небольшой, нам разрешили бросить в огонь наши документы «вне очереди».
Из открытой печи дохнуло жаром, я смотрел, как огонь жевал бумагу, фотографии, пленки. На душе было тяжело, но я чувствовал и огромное облегчение — ничьи грязные лапы до них добраться уже не могли.
Мы вернулись в нашу комнатку, теперь мой сейф был пуст, я знал, что он мне никогда не понадобится.
С нами работали новые кадровики — прежних разогнали по разным подразделениям. Ребята молодые, крепкие, к старослужащим относились сочувственно, с уважением. Мне даже как-то раз предложили должность аж старшего консультанта (я, правда, не знал, что это такое), но я вежливо отказался — решение уходить уже было принято: я ждал, не торопясь, когда мне предложат убираться на пенсию. Искал работу, поиски были нелегкими. Никто не верил, что я испытывал трудности, — я ведь знал сотни людей в стране и за рубежом, любил и умел помогать, мои телефоны трещали беспрерывно — я был нужен многим. Но только до поры до времени…
Это, пожалуй, был самый страшный случай, сохранившийся в моей памяти с тех дней.
Чечня, видите ли, даже больше многих других бывших республик СССР хотела независимости: там очень сильно в этом деле понимали… Ну, конечно, митинги, сходки, беснующиеся бородатые и безбородые старики в бараньих шапках, по-прежнему решавшие все по законам шариата, конечно, «боевики», то есть бандиты с оружием, украденным или купленным в русских воинских частях, словом, все по-чеченски. В одной из московских вечерних программ новостей диктор комментировал кадры телехроники: «боевики» захватили майора КГБ К., при котором было удостоверение и табельное оружие. К., бородатый, плотный, был подхвачен под руки этими бандитского вида «боевиками». Корреспондент спросил их:
— А за что его, куда его ведут?
— А он тут вынюхивал, кто что говорит на митинге…
— Да ничего я не вынюхивал, — обиженно пробормотал майор. Он еще не понимал…
— Его будет судить народ, — веско заметил один из «боевиков».
— Как же… — начал было репортер, но тут съемка либо прервалась, либо концовку обрезали в программе новостей.
На следующий день другой диктор рассказал, что К. был найден в камере (в какой, где — не говорилось) мертвым.
Еще через некоторое время объявили, что К. уже несколько месяцев как уволен из КГБ по состоянию здоровья…
Простите, а откуда же табельное оружие? А удостоверение, которое сдается, как только уволенный покидает здание КГБ? Позже еще один диктор, поигрывая бровями, объявил, что К. покончил с собой — использовал якобы кусок оконного стекла…
Что ж, кто-нибудь вступился? Местное начальство К. (даже если он был и уволен)? Прокуратура? Начальство центрального КГБ? Президент России? Все промолчали. В «Доме» пустили шапку по кругу и отправили деньги семьи, по тем временам получилось немало.
К. выбрал нелегкий способ «покончить с собой» — отрезал себе голову…
Надеюсь, что и в Чечне, и в различных подразделениях даже нынешнего полумилицейского ФСБ еще долго будут работать люди, которые запомнят это убийство.
Для нас, еще числившихся в службах безопасности страны, позиция руководства КГБ, прокуратуры, наконец, вообще властей, была как нельзя более показательна. «Лес рубят — щепки летят» — так, видимо, по унаследованной всеми нашими партократами привычке, думали они.
Все меньше и меньше знакомых лиц встречалось в переходах и кабинетах «Дома», менялось и само здание. Почему-то многие двери были теперь нараспашку, по коридорам гуляли сквозняки, а с самих дверей стали пропадать знаменитые финские замки «аблой», ручки и устройства, держащие двери в закрытом положении. Видимо, и здесь началась «приватизация»?
Дни проходили в разговорах с соседями по комнате, которых становилось все меньше — люди уходили на пенсию, разбредались по каким-то подразделениям, о которых раньше никто и не слышал; я стал пописывать небольшие статьи в разные газетки и журнальчики — брали все, что писал.
Весной позвонила жена из Вашингтона и пригласила приехать — провести вместе отпуск. Она все еще работала в посольстве, но чувствовала себя так же неуверенно, как и я, — новые власти потихоньку подбирались к посольским должностям в Вашингтоне, который, как известно, был Президентом провозглашен не только нашим партнером, но и союзником (сам Вашингтон, правда, таковым себя не считал). Нашим вождям невдомек, что союзничество между странами, как и дружба между людьми, предполагает определенную равность, сходство если не во всем, то во многом. Наше же союзничество нужно Вашингтону, как дружба озлобленного оборванца благополучному состоятельному человеку…
Я решил поехать — может быть, это последняя возможность побывать в Америке. Интересно было узнать, пустят ли меня за рубеж новые начальники, с которыми я почти не был знаком, а они так же мало знали обо мне. Написал положенный рапорт и довольно скоро, к удивлению, получил «добро». Я даже зашел специально в отдел кадров, чтобы проверить, а прочитало ли начальство, где я собираюсь проводить отпуск. Оказалось, прочитало, разрешило, все в порядке.
Оформление пошло обычным планом, но не без смешного происшествия: незнакомая суровая дама в отделе кадров выдала, как обычно, отпускное удостоверение, и я увидел, что в графе «место проведения отпуска» недрогнувшей рукой впечатано — США, Вашингтон… Я было разинул рот, чтобы спросить, кому же в Вашингтоне предъявлю его (их отмечали в наших санаториях и домах отдыха или в местных органах КГБ), но в этот момент дама пробормотала по привычке, чтобы я не забыл отметить удостоверение… Я подавил истерический смешок и, бережно сложив удостоверение, спрятал в бумажник.
Во-первых, это был потрясающий сувенир — отпускное удостоверение полковника КГБ, отправлявшегося в отпуск «в США, город Вашингтон». Во-вторых, я твердо решил отметить это удостоверение в Вашингтоне — не мог, правда, пока придумать где.
В самолете я заканчивал перевод книжки Ле Карре. Сидевшая рядом со мной пара американцев — здоровенный детина и его крошечная жена искоса, как я заметил, посматривали, как я царапаю своим неразличимым почерком в желтых страницах американского блокнота. Наконец, не удержавшись, детина спросил: «Упражняетесь в русском?»
Я пару-тройку минут «поводил за салом» приятных соседей, притворяясь американцем, потом признался, что упражняюсь не в русском, а в английском… Посмеялись.
Провести хорошо отпуск толком не удалось: на это же время пришелся визит в США нашего Президента.
Жена была занята в каких-то мероприятиях то с супругой Президента, то с Президентом Республики Саха… Я по неграмотности не знал, что это такое, и, когда он по телефону представился мне, подумал, что кто-то шутит, и долго расспрашивал его, что такое Саха…
Президент и его команда привезли в Вашингтон выставку архивных документов (в том числе и из КГБ), а также заманчивую для американцев чушь об их согражданах, якобы до сих пор томящихся в советских лагерях. Особенно на эту тему распространялся Волкогонов, расхаживавший по посольству с гордо поднятой головой разоблачителя. Втравили в эту ерунду и самого Президента, который бил себя в грудь в Конгрессе, обещая разобраться и под это обещание надеясь что-нибудь выпросить. Вскоре оказалось, что никаких американцев в лагерях нет, а о тех, что были, предпочли промолчать — большинство из них воевало на стороне Гитлера. Настоящих жертв были единицы.
Кстати, ГУЛАГовский опыт — не таких, конечно, масштабов и жестокостей, как у нас, существовал и в Штатах — очень редко и с большой неохотой там вспоминают, как во время Второй мировой войны засадили в концлагеря и держали там до конца войны десятки тысяч американцев японского происхождения: опасались шпионажа, диверсий, саботажа.
Выставка архивных документов показалась мне довольно бледной. Американцам она вообще была ни к чему, так как документы были на русском языке, а на английском лишь краткие их описания, да из скрытых динамиков по-английски переводили тексты нескольких документальных фильмов, которые крутили по установленным в залах телемониторам.
Я съездил автобусом «Грей Хаунд» в Нью-Йорк, повстречался там с дорогими мне друзьями, навестил Герберта Аксельрода в райском Нептун-сити, погулял по 5-й Авеню, что режет Нью-Йорк пополам, поел знаменитого и невероятно вкусного ньюйоркского «чиз кейка» — сырного пирога, и вернулся в Вашингтон. Месяц пролетел незаметно — я еще и повылизывал уже готовый перевод Ле Карре, — пора было возвращаться из страны победившего капитализма в страну развитого, но разгромленного социализма.
Вот только отпускное удостоверение осталось неотмеченным — я подумал, что, если обратиться с этой шуткой, скажем, в консульский отдел посольства, то можно напороться на лишенного юмора человека и зацепить таким образом жену. Пошел на почту, где попросил толстую негритянку поставить на удостоверении почтовый штемпель, но получил решительный отказ: «Сэр, я не могу свидетельствовать печатью почтового ведомства США непонятный мне документ…» Порядок, черт возьми, настоящий порядок!
Мелькнула безумная мысль — а что, если подъехать в Лэнгли или разыскать по телефонному справочнику вашингтонское бюро ФБР? Вот там — я был уверен — отнеслись бы к моей просьбе и с юмором, и с пониманием…
Так и отвез я удостоверение обратно в Москву неотмеченным — храню его до сих пор, все равно уникум.
Впервые за долгие годы службы в КГБ я был за рубежом и не должен был ничего разузнавать, ни с кем конспиративно не встречаться, не придумывать в самолете отчет о проделанной работе. Ощущение было удивительное…
Вернувшись в Москву, я услышал от кадровиков, что пора собираться «на волю»…
Вокруг творилось невероятное — то Якунину дали ознакомиться с секретными материалами по церкви, не взяв с него никаких расписок о разглашении — расстрига тут же помчался в «Огонек»… То резиденты и сотрудники ПГУ бросились в бега и предательства, «сдавая» противнику целые агентурные сети и зарабатывая себе таким образом на жизнь… Пресса радостно оповещала об этом читателей, и те имели возможность ознакомиться с тем, что пять лет назад скрывалось как государственная тайна.
Мне выдали направление для специальной медицинской комиссии — ее проходят при поступлении на работу в КГБ и при увольнении оттуда. Я сдавал анализы, ходил к врачам, в какую-то карту они тщательно выписывали болячки и болезни, накопленные за время службы.
А потом обходной листок порхнул мне в руки, и я быстро обошел необходимые комнаты — никаких документов или дел за мной не числилось, оружие я сдал еще во время оно, в кассе взаимопомощи не состоял.
Молодой кадровик, занимавшийся моими делами, слегка смущаясь, попросил меня написать рапорт с просьбой об увольнении…
— Э, нет! — Я был к этому готов, навел справки заранее. — Это вы меня увольняете, ребята, вот вы и напишите в моем личном деле об этом. А я отбарабанил здесь тридцать три года и мог бы работать еще и еще…
— Ну, хорошо, Евгень Григорич, пусть так.
Вскоре состоялся «церемониал прощания». Раньше в таких случаях собирали отдел, а то и Управление, уходившим сотрудникам говорили теплые слова (даже «Палкин» находил такие), что-нибудь дарили на память, а то и вручали правительственные награды.
Сейчас незнакомые люди в кабинете заместителя начальника Управления пробормотали какие-то не столько теплые, сколько сочувственные слова, и на этом церемония закончилась: мне нечего было сказать им в ответ. Я разглядывал их лица и видел, что никто из них не прожил такой жизни, как я, не повидал так много, не встречался и не дружил с такими замечательными людьми, не читал таких книг, не слушал такой музыки. Мне было жаль в эти минуты не себя, а их…
Мой кадровичок пошел проводить меня до выхода из «башни» — ему необходимо было отобрать у меня удостоверение, он опять немного смущался. Мы прошли вахту, я в шутку поцеловал красную книжечку и отдал ее.
Вышел на Пушечную улицу, забитую грязной толпой предпринимателей, освободившихся наконец от имперского гнета. Оглядываться на здание не хотелось, на душе было тяжело, как я ни бодрился сам перед собой.
Служба моя закончилась — тридцать три года, шесть месяцев, восемнадцать дней.
Москва, 1994.

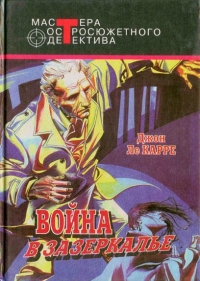


Комментарии к книге «Да, я там работал: Записки офицера КГБ», Евгений Григ
Всего 0 комментариев