Лев Романович Шейнин Записки следователя (сборник)
РАССКАЗ О СЕБЕ
Каждый писатель приходит в литературу своим путем, Моя литературная судьба сложилась за следовательским столом.
И сегодня, 25 марта 1956 года, когда мне стукнуло, увы, пятьдесят, я вспомнил о том, как все это началось. Вспомнилась мне Москва 1923 года и тот студеный февральский день, когда меня, комсомольца, студента Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова, зачем-то срочно вызвали в Краснопресненский райком комсомола.
Москва 1923 года, Москва моей юности, никогда не забыть мне тебя!… Закрываю глаза и вижу твои заснеженные улицы, узенькую Тверскую с часовенкой Иверской божьей матери в Охотном ряду, редкие стонущие трамваи, сонных извозчиков на перекрестках, лошадей, медленно жующих овес в подвешенных торбах, продавщиц Моссельпрома — первого советского треста — с лотками, в форменных замысловатых шапочках с золотым шитьем, торгующих шоколадом и папиросами «Ира» (о которых говорилось, что это — «все, что осталось от старого мира»; вижу дымную чайную у Зацепского рынка, где всегда грелись розничные торговцы и студенты, извозчики и зацепские мясники, рыночные карманники и пышногрудые, румяные молочницы, дожидавшиеся своего поезда по Павелецкой линии. Вижу твои вокзалы, густо заселенные студенческие общежития, ночную длинную веселую очередь у кассы МХАТ и кинотеатр «Великий немой» на Тверском бульваре, — ведь кино и в самом деле было тогда еще немым.
Удивительное это было время, и удивительной была та Москва. В ней еще уживались рядом бурлящая Сухаревка, с ее бесконечными палатками, ларями и лавками и комсомольские клубы в бывших купеческих особняках, сверкавшие свежим лаком вывесок магазины и конторы первых нэпманов и аудитории рабфака имени Покровского на Моховой, где вчерашние токари, слесари и машинисты спешно готовились к поступлению в университет; огромная черная вывеска московского клуба анархистов на Тверской («Анархия — мать порядка») и замысловатая живопись в кафе «Стойло Пегаса» на углу Страстной площади, где читали очень разношерстной и не очень трезвой публике свои стихи поэты-имажинисты.
В комсомольских клубах пели «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян», изучали эсперанто на предмет максимального ускорения мировой революции путем создания единого языка для пролетариев всех стран, упорно грызли гранит науки и люто ненавидели нэпманов, которых временно пришлось допустить.
А в городе, невесть откуда и черт его знает зачем, повылезла изо всех щелей всяческая нечисть — профессиональные шулеры и надменные кокотки, спекулянты с воспаленными от алчности лицами и элегантные, молчаливые торговцы живым товаром, бандиты с аристократическими замашками и бывшие аристократы, ставшие бандитами, эротоманы и просто жулики всех оттенков, масштабов и разновидностей.
Каждодневно возникали и с треском лопались какие-то темные «компании» и «анонимные акционерные общества», успевая, однако, предварительно надуть только что созданные государственные тресты, с которыми эти общества заключали договоры на всякого рода поставки и подряды. Появились первые иностранные концессии — лесные, трикотажные, карандашные.
Господа концессионеры, всевозможные Гаммеры, Петерсоны и Ван-Берги, обосновывались в Москве и Ленинграде прочно, обзаводились молоденькими содержанками, тайно скупали меха и валюту, рублевские иконы и вологодские кружева, драгоценные картины и хрусталь, потихоньку сплавляли это за границу, а попутно увлекались балетом и балеринами и вздыхали «о бедном русском народе, захваченном врасплох коммунистами, отрицающими нормальный человеческий порядок, но теперь как будто взявшимися за ум…»
Точно в назначенное время пришел я в райком, не понимая, зачем так срочно понадобился. Осипов — заведующий орготделом райкома — только загадочно ухмыльнулся в ответ на мой вопрос и сказал, что мне на него ответит Сашка Грамп, секретарь райкома.
Мы вместе прошли в кабинет Грампа, которого я, будучи членом райкома, хорошо знал.
— Здорово, Лева, — сказал Грамп. — Садись. Серьезный разговор…
Я сел против него, и он рассказал, что есть решение московского комитета комсомола о мобилизации группы старых комсомольцев на советскую работу. Меня, члена комсомола с 1919 года, включили в их число.
— Зверски нужны надежные фининспекторы и следователи, — продолжал Грамп, попыхивая огромной трубкой, которую он в глубине души терпеть не мог, но считал, что она придает ему вполне «руководящий вид». — Фининспекторы, заметь, ведают обложением нэпманов налогами, те находят к ним всякие подходы, а бюджет страдает… Понятно?
— Понятно. Только какое отношение это имеет ко мне? — неуверенно спросил я.
— Мы не можем допустить, чтобы страдал бюджет, — строго ответил Грамп и угрожающе запыхтел трубкой. — Впрочем, еще больше, чем фининспекторы, нужны следователи. В московском губсуде, оказывается, две трети следователей — беспартийные, и даже несколько человек работали следователями еще при царском режиме. Революция должна иметь своих собственных шерлок-холмсов… Понятно?
— Саша, но я не собирался стать ни фининспектором, ни следователем, — осторожно начал я. — В финансах я вообще ни черта не смыслю, а что касается Шерлока Холмса, то я помню, что он курил трубку, жил на Беккер-стрит и играл на скрипке. Кажется, он пользовался каким-то дедуктивным методом, и был у него приятель, доктор Ватсон, который всегда очень своевременно задавал ему глупые вопросы, чтобы Шерлок Холмс мог умно на них отвечать… Но главное не в этом!… Я учусь в литературном институте, собираюсь посвятить свою жизнь литературе и…
— И дурень! — неделикатно перебил меня Грамп. — Какое дело революции до твоих чаяний единоличника? Кроме того, если ты решил посвятить себя литературе, так именно поэтому тебе надо как можно скорее стать фининспектором, а еще лучше следователем!… Сюжеты, характеры, человеческие драмы — вот где литература, чудак! Но дело даже не в этом, советской власти нужны кадры фининспекторов и следователей. Мы должны их дать. И ты один из тех, кого мы даем. И точка. И знак восклицательный. И никаких вопросительных. Куда выписывать путевку — в губфинотдел или в губсуд?
— Ты же только что сказал, что никаких вопросительных знаков, — пытался я отшутиться. — Зачем же входить в противоречие с самим собой?
— Товарищ Шейнин, — произнес Грамп ледяным тоном. — Речь идет о мобилизации по заданию партии. Можешь до вечера думать, куда пойдешь. Потом приходи за путевкой. До вечера, Байрон!
Байроном Грамп величал меня потому, что в те годы у меня была буйная шевелюра, во что, впрочем, теперь трудно поверить, и я носил рубашку с отложным воротником.
Так я стал следователем московского губернского суда.
Скажем прямо: в наши дни трудно понять, как могли назначить следователем семнадцатилетнего паренька, не имевшего к тому же юридического образования. Но слова из песни не выкинешь, и что было, то было. Ведь происходило это в первые годы становления советского государства, когда сама жизнь торопила с выдвижением и воспитанием новых кадров во всех областях строительства нового государства. С судебно-следственными кадрами дело обстояло особенно остро. Лишь за год до этого, по инициативе В. И. Ленина, была создана советская прокуратура. На смену революционным трибуналам первых лет советское государство только что создало народные и губернские суды. Совсем недавно были введены уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, и правосудие могло опираться на закон, а не только на «революционное правосознание».
Я был огорчен мобилизацией. Я опасался, что новая работа оторвет меня от института и главное — от литературы. Тогда я еще не понимал, что для писателя лучший институт — сама жизнь и никакие другие институты в том числе и литературный, не могут ее заменить.
Не понимал я также, что в работе следователя есть много общего с писательским трудом. Ведь следователю буквально каждый день приходится сталкиваться с самыми разнообразными человеческими характерами, конфликтами, драмами. Следователь никогда не знает сегодня, какое дело выплеснет жизнь на его рабочий стол завтра. Но каково бы ни было это дело — будет ли оно о разбое, или об убийстве из ревности, или о хищениях и взяточничестве, — за ним всегда и, прежде всего стоят люди, каждый из них со своим характером, своей судьбой, своими чувствами. Не поняв психологии этих людей, следователь не поймет преступления, которое они совершили. Не разобравшись во внутреннем мире каждого обвиняемого, в сложном, иногда удивительном стечении обстоятельств, случайностей, пороков, дурных привычек и связей, слабостей и страстей, следователь никогда не разберется в деле, в котором он разобраться обязан.
Вот почему работа следователя неизменно связана с проникновением в тайники человеческой психологии, с раскрытием человеческих характеров. Это роднит труд следователя с трудом писателя, которому тоже приходится вникать во внутренний мир своих героев, познавать их радости и несчастья, их взлеты и падения, их слабости и ошибки.
Так случайность, сделавшая меня следователем, определила мою литературную судьбу.
В числе московских следователей, как правильно сказал мне Грамп, было тогда довольно много беспартийных и среди них несколько старых, «царских», следователей, из которых мне особенно запомнился Иван Маркович Снитовский, коренастый крепыш лет за шестьдесят, украинец, с лукавым добродушным лицом и темными смеющимися глазами. Он имел за своими плечами почти тридцатилетний опыт работы судебного следователя и перед самой революцией занимал пост следователя по особо важным делам московской судебной палаты. После революции, в отличие от многих своих коллег, Иван Маркович не эмигрировал за границу. Несмотря на свое дворянское происхождение, он сразу принял революцию и поверил в нее. Энтузиаст своего дела и глубокий его знаток, он охотно делился своим огромным опытом с молодыми товарищами, многие из которых сели за следовательский стол непосредственно от станка или пришли с партийной работы.
После моего назначения в губсуд я был прикреплен в качестве стажера к нему и еще к одному старшему следователю, Минаю Израилевичу Ласкину. Последний начал свою деятельность в качестве следователя уже после революции, в 1918 году, придя студентом в ревтрибунал. Небольшого роста, очень живой, быстрый, находчивый, Ласкин тоже без памяти любил свою профессию и был одним из лучших следователей московского губсуда.
Президиум губсуда, не без основания несколько обеспокоенный моим возрастом, поручил этим двум следователям в течение полугода поработать со мною, чтобы выяснить, как выразился председатель губсуда, «что получится из этого рискованного эксперимента».
Когда я вошел в кабинет Снитовского (уже предупрежденного о моем приходе и прикомандировании к нему), он быстро встал и, улыбаясь, подошел ко мне.
— Ну, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, — произнес он, пожимая мне руку. — Чай, осьмнадцать еще не стукнуло, а?
— Скоро стукнет, — сказал я, сразу проникаясь симпатией к этому приветливому, веселому человеку со смуглым, крепким лицом, освещенным сиянием больших темных глаз.
— Ну, ну, не беда, не смущайтесь. Молодость — это недостаток, который с каждым часом проходит. Давайте присаживайтесь вот здесь, в кресле, чувствуйте себя как дома, и начнем знакомиться…
А через час, очень незаметно для меня, с самым простодушным и веселым видом, Снитовский уже узнал обо мне чуть ли не все, что можно было узнать, Только потом я оценил эту поразительную способность выяснять с необыкновенной быстротой все интересующие его вопросы, отнюдь при этом как бы и не расспрашивая, не прожигая собеседника «проницательным» взглядом, а как-то весело и непринужденно, даже не разговаривая, а болтая, смеясь и шутя и необыкновенно при этом к себе располагая.
Нужно ли говорить, что уже к концу нашего первого разговора я был по-мальчишески влюблен в этого человека, и мне отчаянно хотелось заслужить его симпатии и веру в мои молодые силы.
В тот же день я познакомился и со вторым своим шефом — Ласкиным. Оказалось, что мы с ним земляки по городу Торопцу Псковской губернии, где я провел детские годы и вступил в комсомол, и что Ласкин отлично знал и хорошо помнит моих старших сестер, кончавших гимназию в то самое время, когда он заканчивал там же реальное училище.
Иван Маркович и Минай Израилевич отнеслись к поручению — проверить, «что получится из этого эксперимента», — с большой добросовестностью, и я многим обязан им. На стажировку мне было выделено полгода, после чего я должен был держать экзамен в аттестационной комиссии губсуда для окончательного решения своей дальнейшей следственной участи.
Может быть, благодаря тому, что я попал в очень умные и заботливые руки этих людей, сразу сумевших пробудить во мне интерес и уважение к своей профессии, и тому, что статьи уголовного и процессуального закона, которые я изучал, ежедневно оживали передо мною в лицах подследственных, совершивших преступления, предусмотренные этими статьями, — может быть, именно поэтому я жадно впитывал все премудрости следственного искусства.
Месяца через три Иван Маркович обнял меня за плечи и очень серьезно и тихо, глядя мне прямо в глаза, сказал:
— А ну, лопни мои очи, хлопчик, если из тебя не выйдет толк… Лицея не кончал, кандидатом на судебные должности в судебной палате, аки аз грешный, не был, зеленый, как огурец, а следователем я тебя все-таки сделаю, всем правилам божеским и человеческим вопреки!… Сде-ла-ю!…
И, заметив вошедшего в кабинет Ласкина, обратился к нему:
— Минай, скажи по совести, мудрая башка, не лукавь: быть ему слидчим по наважнейшим справам, как говорят на Украине, или не быть?
— Обидный вопрос, — улыбнулся Ласкин. — Разве ты не видишь этого по мне? Он ведь торопчанин!… С тех пор как в Торопце венчался Александр Невский, у торопчан все выходит как надо…
А через полгода я держал экзамен в аттестационной комиссии губсуда, и ее председатель Дегтярев, мрачный, бородатый, очень строгий старик, безжалостно «гонял» меня по всем главам и разделам уголовного, процессуального, трудового и гражданского кодексов, сердито что-то ворча себе под нос, выслушивал мои ответы и время от времени произносил:
— Это тебе, мил-человек, не в лапту играть… А скажи-ка ты мне, орел, что такое принцип презумпции невиновности и с чем его кушают?
— Принцип презумпции невиновности в уголовном праве, — отвечал я, — подразумевает, что органы следствия и суда должны исходить из презумпции невиновности обвиняемого. Это значит, что не он обязан доказывать свою невиновность, а они обязаны, если имеют для этого достаточно данных, доказать его вину… И пока его вина не доказана в законном порядке, человек считается невиновным…
— Гм… так… это тебе, брат, не хрен с апельсином… А вот, скажи ты мне, сделай милость, как допрашивают малолетних?
— Допрос малолетних производится следователем или в присутствии их родителей, или в присутствии воспитателей, или без тех и других. Следователь должен избегать наводящих вопросов, чтобы невольно не внушить ребенку того, что рассчитывает получить в его показаниях. С другой стороны, показания детей о приметах преступника, его поведении, одежде и т. п. заслуживают особого внимания, так как дети очень наблюдательны и их восприятие внешнего мира очень свежо. Допрашивая детей, надо разговаривать с ними серьезно, как с взрослыми, а не подлаживаться под детский язык, что всегда настораживает ребенка. Если ребенок допрашивается в качестве потерпевшего, например по делу о его растлении или развращении, следователь обязан выяснять все интересующие его детали очень осторожно, чтобы самый допрос не превратился по существу в развитие этого развращения и не травмировал дополнительно ребенка…
— Гм… Дело говоришь… И вот что, милок. На следователя мы тебя аттестуем, хоть ты и вовсе еще воробей-подлетыш… Запомни посему раз и навсегда для своей работы: спокойствие, прежде всего — это раз! Презумпцию невиновности надо не по учебнику вызубрить, а всем сердцем понять — это два! Допрашивая человека, всегда помни, что ты делаешь привычное и хорошо знакомое тебе дело, а он может запомнить этот допрос на всю жизнь — это три! Знай, что первая версия по делу еще не всегда самая верная — это четыре! А самое главное: допрашивая воров и убийц, насильников и мошенников, никогда не забывай, что они родились на свет такими же голенькими, как мы с тобой, и еще могут стать людьми не хуже нашего… А если когда-нибудь станет тебе скучно на нашей нелегкой работе или изверишься в людях вообще, — тикай, малец, тикай, ни дня не оставайся следователем и сразу подавай рапорт, что к дальнейшему прохождению следственной службы непригоден…
И старик Дегтярев, с его мрачным видом, старый большевик и политкаторжанин, которого все в губсуде уважали, но побаивались за острый язык, резкость суждений и непримиримость к проступкам судебных работников (Дегтярев был, кроме того, и председателем дисциплинарной коллегии губсуда), встал из-за стола, пожал мне руку, испытующе поглядел и даже — чего я никогда еще не видал — улыбнулся.
Когда я вышел из его кабинета, то увидел Снитовского и Ласкина, беспокойно расхаживающих по коридору. Не стерпели мои дорогие шефы и оба прибежали со Столешникова переулка на Тверской бульвар, где помещался губсуд, и здесь, дожидаясь моего выхода, кляли на чем свет стоит «бороду», как называли Дегтярева, который, видно, придирается к их воспитаннику и того и гляди завалит его на экзамене.
Увидев мое взволнованное, но сияющее лицо, они сразу с облегчением вздохнули и начали наперебой расспрашивать, как долго и как именно мучил меня этот «бородатый тигр и лютый скорпион».
А «тигр» этот в последующие годы моей следственной работы, до самого перевода в Ленинград, очень внимательно следил за моей работой, потихоньку изучал все расследованные мною дела, поступавшие на рассмотрение в губсуд, и частенько приглашал меня к себе домой, поил чаем с лимоном и, с тем же мрачным и ворчливым видом, сердито покашливая в свою черную с сединой бороду, внушал все «десять заповедей» советского судебного деятеля.
Но я уже не боялся ни его мрачного вида, ни сердитого кашля, ни его бороды, хорошо поняв и на всю жизнь запомнив этого умного, доброго, прожившего чистую, но очень трудную жизнь человека.
Понимал это не один я. Когда через несколько лет Иван Тимофеевич Дегтярев умер от разрыва сердца, весь губсуд шел за его гробом, и на кладбище, стоя рядом со Снитовским и Ласкиным, я видел сквозь слезы, что искренне плачут и они и многие другие работники, среди которых было немало и тех, кого в свое время сурово «шерстил» покойный председатель дисциплинарной коллегии за те или иные проступки.
И вспомнился мне тогда я мой проступок, за который я тоже предстал перед дисциплинарной коллегией, в страхе, что вылечу за него, как пробка, со следственной работы, которую я успел горячо и на всю жизнь полюбить.
Случилась со мной эта беда в самом начале моей работы, и была она связана с делом о динарах и, как это ни странно, с «адмиралом Нельсоном». Об этом забавном и поучительном случае я написал в рассказе «Динары с дырками».
После того как я прошел аттестационную комиссию, меня назначили народным следователем в Орехово-Зуево. Полгода я прожил в этом подмосковном городке, расследуя мои первые дела: о конокрадах, растратах в потребсоюзе, об одном случае самоубийства на почве безнадежной любви и одном убийстве «по пьяному делу» на сельской свадьбе. Я старательно исполнял все «десять заповедей» следователя, преподанные мне Дегтяревым, Снитовским и Ласкиным, то есть твердо помнил, что «спокойствие прежде всего», что искусство допроса состоит не только в том, чтобы уметь спрашивать, но и в том, чтобы уметь выслушивать, что первая версия не всегда самая верная, что человек волнуется на допросе не только тогда, когда он виновен, но и тогда, когда он невиновен, и что еще Достоевский верно заметил, что так же, как из ста кроликов невозможно составить лошадь, так и из ста мелких и разрозненных улик невозможно сложить веское доказательство виновности подследственного.
Через полгода меня неожиданно перевели в Москву, и я снова был прикреплен к следственной части губсуда. А через несколько дней я допустил свою первую ошибку, стоившую мне немало волнений. Связана она была с делом ювелира Высоцкого.
Весна 1924 года была очень слякотной, а жил я тогда в Замоскворечье, на Зацепе, откуда ежедневно ездил в Столешников переулок на работу. Я решил обзавестись новыми калошами и как-то приобрел в магазине «Проводник» великолепную пару на красной, едва ли не плюшевой, подкладке, называвшиеся почему-то «генеральскими».
И вот однажды, очень довольный своим новым приобретением, я приехал на работу и поставил свои великолепные, сверкавшие лаком и мефистофельской подкладкой калоши в угол комнаты. Сев за стол в своем маленьком кабинете, я стал заниматься делом, время от времени бросая довольные взгляды на свое роскошное, как мне казалось, приобретение.
Снитовский в то время вел среди других дел и дело о ювелире Высоцком, о котором имелись данные, что он скупает бриллианты для одного иностранного концессионера и участвует в контрабандной переправе этих бриллиантов за границу. Снитовский потратил много труда на то, чтобы собрать доказательства о преступной деятельности этого очень ловкого человека и его связях; наконец, набралось достаточно данных для того, чтобы принять решение об его аресте. Занятый рядом других дел, Иван Маркович поручил мне вызвать Высоцкого, допросить его и объявить ему постановление об аресте, после чего отправить в тюрьму.
Высоцкий был вызван, явился в точно назначенное время, и я стал его допрашивать. Это был человек лет сорока, очень элегантный и немного фатоватый, с золотыми зубами и сладенькой улыбочкой, которую, похоже было, раз наклеив, он так и не снимал со своего лица и даже, возможно, ложился с нею спать.
Он очень любил светские, как ему казалось, обороты речи и через два часа страшно надоел мне своими «позволю себе обратить ваше внимание», «если мне будет позволено», «отнюдь не желая утомлять вас, я просил бы, тем не менее и однако», «учесть, если вас не затруднит».
Окончив допрос и предъявив Высоцкому постановление об аресте в порядке статьи 145 УПК, разрешавшей в исключительных случаях арестовывать подозреваемых без предъявления обвинения, но на срок не более чем на четырнадцать суток, я стал терпеливо выслушивать его заявления, что он «абсолютно афропирован», находится «в совершеннейшем смятении» и рассматривает случившееся как крайнее, «если позволите быть откровенным, недоразумение», которое, как он «всеми фибрами души надеется, вскоре разъяснится».
При всем том этот довольно бывалый и ловкий проходимец оставался абсолютно спокойным, видимо рассчитывая, что ему и впрямь удастся вывернуться из дела, тем более что, по совету Снитовского, я ему еще не выложил всех доказательств, почему, собственно, предъявление обвинения и было нарочито отложено.
Дав Высоцкому расписаться в том, что постановление о мере пресечения ему объявлено, я оставил его в кабинете, предварительно заперев в сейф дело, и вышел, чтобы поручить старшему секретарю следственной части вызвать конвой и тюремную карету. Старший секретарь, когда я вошел в канцелярию, был мною обнаружен стоящим на высоком подоконнике и дико кричащим оттого, что по канцелярии бегала крыса. Его вопли меня рассмешили, хотя крыс я тоже очень не люблю, и я стал его успокаивать. Пока крыса не юркнула в дыру, секретарь не успокаивался, и мне пришлось ему довольно долго растолковывать, что надо сделать.
Нетрудно вообразить себе мое состояние, когда, вернувшись в кабинет, я не обнаружил ни Высоцкого, ни моих новых калош…
Зато на моем столе лежал лист бумаги, на котором рукою Высоцкого было размашисто написано: «Надеюсь, что вы будете далеки от мысли, уважаемый следователь, что я, человек интеллигентный, украл ваши калоши. Нет, я просто взял их взаймы, так как на дворе очень сыро, а мне предстоит, не без вашей вины, большой путь… Привет! Высоцкий».
Я в ужасе бросился к Снитовскому.
Едва взглянув на записку, Иван Маркович, мгновенно сообразив, что надо делать, поднял трубку телефона и позвонил в МУР. Дело в том, что Снитовским была установлена фамилия любовницы Высоцкого, и тот не знал, что следствию уже известна его связь с нею. Снитовский дал указание МУРу установить наблюдение за квартирой этой женщины, верно решив, что Высоцкий, прежде чем скрыться из Москвы, не преминет проститься со своей возлюбленной, наличие которой он, кстати, будучи человеком семейным, тщательно скрывал.
Лишь дав все необходимые указания, Снитовский обратился ко мне.
— Вот что, Левушка, — сказал он, — я уверен, что этого прохвоста задержат, но пусть эта печальная история с калошами запомнится вам как символ того, что следователю не к лицу самому садиться в калошу…
Я не мог найти себе места от конфуза и успокоился только вечером, когда агенты МУРа доставили задержанного ими Высоцкого, который, как и предвидел Снитовский, зашел к своей возлюбленной. Высоцкий, опять-таки не теряя спокойствия, снял в кабинете мои калоши, галантно сказав при этом: «Пардон, но было очень сыро, а я этого, с вашего позволения, совершенно не переношу, еще раз — милль пардон!»
В Москве я проработал до 1927 года, а затем был назначен старшим следователем Ленинградского областного суда.
Через три года я был снова переведен в Москву и назначен следователем по важнейшим делам, а затем, в 1935 году, — начальником Следственного отдела Прокуратуры СССР, где и проработал до 1 января 1950 года, когда полностью перешел на литературную работу.
Таким образом, двадцать семь лет своей жизни я отдал расследованию всякого рода уголовных дел. Естественно, что это и определило характер моей литературной работы, которую я начал в 1928 году, опубликовав в журнале «Суд идет!» свой первый рассказ — «Карьера Кирилла Лавриненко».
Этим рассказом я и начал свои «Записки следователя», которые в последующие годы печатались на страницах «Правды», «Известий» и ряда журналов. В 1938 году в издательстве «Советский писатель» они вышли отдельной книгой. Вся первая книга «Записок следователя» писалась в сутолоке оперативной работы, в горячке уголовных происшествий, в которых приходилось срочно разбираться. Естественно, что некоторые рассказы и очерки писались бегло, в часы досуга, такого бедного в те годы. Теперь я, конечно, многие из них написал бы иначе, но тогда я был лишен такой возможности.
Готовя к изданию эту книгу, я сначала хотел было заново переписать некоторые старые рассказы, но потом почувствовал неодолимое желание сохранить их в таком виде, в каком в свое время они были написаны и опубликованы. Право, мне трудно объяснить, как и почему родилось это желание!… Может быть, оно явилось подсознательным стремлением сохранить нетронутыми эти первые плоды моей физической и литературной молодости со всеми ее радостями и горестями, открытиями и ошибками? Может быть, здесь играет свою роль тоже подсознательное опасение «вспугнуть» правдивость этих рассказов шлифовкой литературного стиля и углублением психологических зарисовок? А может быть, я боюсь признаться самому себе в том, что, сохраняя в нетронутом виде свои ранние рассказы рядом с другими, написанными более зрело, я вижу яснее пройденный мною литературный путь?
А может быть, и то, и другое, и третье… Может быть.
Словом, я сохранил в этой книге все рассказы и очерки в том виде, в каком они родились. Я лишь указываю дату написания каждого из них. И, наконец, фамилии тех обвиняемых, которые давно отбыли наказание за совершенные ими преступления и многие из которых вернулись к честной, трудовой жизни, я, по понятным мотивам, заменил, потому что от души желаю этим людям добра и счастья и не хочу затемнять его напоминанием того, что давно отошло в прошлое и принадлежит ему.
В борьбе с уголовной преступностью тех лет родились и новые методы «перековки» профессиональных преступников и их возвращения к трудовой жизни.
За годы своей работы криминалиста я понял, что обращение к добрым началам в душе всякого человека, в том числе и преступника, почти всегда находит отклик. Я понял, что следователь, если он не вступит в психологический контакт с обвиняемым, никогда не поставит точного диагноза преступлению, подобно тому, как врач, не добившийся контакта со своим пациентом, не поставит диагноза болезни. Так после многих лет наблюдений родилась теория психологического контакта, которую я назвал «ставкой на доверие». Разумеется, я пришел к этим выводам и сформулировал этот термин не сразу. Разумеется, я опирался при этом не только на собственный следственный опыт, но и на опыт моих товарищей по работе, таких же криминалистов, как и я. Имена многих из них читатель встретит в «Записках следователя», и я считаю себя обязанным выразить им свою братскую признательность за многое, что они помогли мне открыть и чему научили меня с первых лет моей следственной работы.
Я убежден, что ставка на доверие оправдывает себя во всех областях нашей общественной жизни, как убежден в том, что она является сама по себе очень действенной формой воспитания.
Крупнейший русский судебный деятель, академик А. Ф. Кони, касаясь в своей работе о Достоевском романа «Преступление и наказание», писал: «Созданные им в этом романе образы не умрут по художественной силе своей. Они не умрут и как пример благородного высокого умения находить „душу живу“ под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом, показывать в ней то тихо тлеющую, то ярко горящую примирительным светом — искру…»
Эти замечательные слова одного из самых видных криминалистов России приобретают особое значение в наши дни, в условиях нашего социалистического государства.
В самые трудные годы самой острой борьбы с внутренней контрреволюцией Ф. Э. Дзержинский находил время и желание заниматься организацией деткоммун и трудовых колоний, ликвидацией детской беспризорности и установлением системы трудового перевоспитания в местах заключения.
Эти грандиозные социально-психологические задачи породили такие выдающиеся произведения советской литературы, как книги А. Макаренко, прогремевшие, без всякого преувеличения, на весь мир и вызвавшие самый почтительный интерес и признание даже со стороны буржуазных литературоведов, педагогов и криминалистов. О том, какие поразительные результаты давало иногда перевоспитание бывших преступников, в особенности молодых, не раз с восхищением и гордостью за нашу страну писал Горький.
Теперь, оглядываясь назад, на пройденный мною жизненный путь, я вспоминаю все, что мне удалось увидеть, услышать и понять за следовательским столом и что так помогло мне сложиться как писателю. Я вспоминаю о годах своей работы криминалиста с нежной признательностью, потому что обязан им как писатель, обязан темами ряда своих произведений, многими сюжетами, наблюдениями, характерами и конфликтами, которые я наблюдал и в которых мне приходилось разбираться.
В числе этих многих тем самой близкой и дорогой мне темой является проблема возвращения человека, совершившего преступление, к честной, трудовой жизни. Я убежден, что и человеку, совершившему преступление, пока он еще дышит, видит и думает, никогда не поздно в условиях нашего общества вернуться в нашу большую, дружную и светлую советскую семью, если только умело и вовремя ему в этом помочь.
И если мои записки следователя окажутся одной из форм такой помощи, с одной стороны, а мои читатели согласятся с моим убеждением — с другой, я буду счастлив сознанием, что не напрасно вступил на трудный, но радостный путь писателя.
ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ Из первой книги МЕСТЬ
Милиционер, дежуривший в эту ночь на углу Екатерининской площади и 2-го Лаврского переулка, ежился от сырости. Шел непрерывный мелкий дождь. Он царапался о деревья и стены домов, как животное, проникал во все щели. Дул резкий ветер. Лето 1925 года было как никогда дождливое.
Около трех часов ночи мерный шум дождя прорезал протяжный мужской крик. Бросившись на этот крик, милиционер увидел в нише подворотни крупное мужское тело, завернутое в большую простыню. Склонившись, он разглядел лицо неизвестного, который еще слабо дышал, но, видимо, уже потерял сознание. Из перерезанного горла густо шла кровь, она четко выделялась на белой простыне. Руки и ноги были связаны.
Вскоре примчалась, зловеще поблескивая фарами, карета скорой помощи, а за нею приехали работники угрозыска, дежурный следователь и судебный врач.
Но неизвестный был уже мертв.
Под унылый аккомпанемент дождя мы столпились у трупа и приступили к его осмотру. Покойный был рослым, сильным человеком, лет двадцати восьми — тридцати на вид. На нем были сапоги, синие брюки-галифе, темный френч.
У него было широко перерезано горло. Края раны были ровные, четкие — видимо, было применено достаточно острое орудие, вроде бритвы.
Никаких документов не было. Простыня была широкая, почти новая, из дорогого голландского полотна. В правом ее углу были вышиты инициалы «А. Ф.» Простыня еще сохранила легкий аромат дорогих духов.
В кармане пиджака был золотой хронометр.
На груди убитого была татуировка. Сложный рисунок изображал пронзенное сердце, каких-то зверей, кинжал, женскую головку. Татуировка указывала, что покойный принадлежал к преступному миру. Вызвали дактилоскопа. Сняв отпечатки пальцев покойного и отправив труп в морг, мы вернулись в угрозыск. Через час дактилоскоп сообщил, что покойный был зарегистрирован в угрозыске и неоднократно задерживался. Он был профессиональный вор-домушник, Гаврилов Сергей, по кличке «Сережа Цыган». В последний раз был задержан год назад.
Таким образом, личность убитого была установлена.
Мы выяснили также его адрес. Гаврилов проживал в районе Сухаревки. Жил он со старушкой матерью.
Ее вызвали в морг и предъявили труп.
Несчастная женщина долго не могла прийти в себя. Наконец, удалось у нее узнать, что сын в этот день был дома и часов в пять ушел.
— Сказал, что к товарищу пойдет, — рассказывала старушка, — а к кому пошел, не знаю. Много у него товарищей было. По правде вам скажу, начальство, другие у него товарищи нонешний год пошли. Остепенился ведь Сереженька. Пить бросил и чужого не брал. Все, бывало, говорит: «Я, мамаша, честно жить решил. Работать буду». Вот, гляди, и зажил.
И старушка опять заплакала.
— А скажите, мамаша, женщины близкой у Сергея не было?
— Была, голубчики, как не быть. Хорошая такая. Марусей звать. На кондитерской фабрике работает. Очень любил ее. Жениться хотел. Из-за нее и остепенился-то он.
Вызвали Марусю. Она сразу рассказала несложную историю своей любви. Они познакомились случайно в кино. Начали встречаться.
— Всё вместе гуляли — нравились друг другу. Сережа тихий был, ласковый. Я его спрашивала, где работает, а он сначала не говорил, только посмеивался. Я и не знала. Раз пошли в кино, а к нему двое подошли и говорят: «Цыган, ты себе новую маруху завел», отвели его в сторону и зашептались. Я как будто почувствовала недоброе, даже в сердце кольнуло. Потом спорить они начали. Сережа, видно, чего-то не хотел, а они требовали. Один из них и закричал: «Помни, Цыган, так это тебе не пройдет, своих продавать думаешь», — и заругался. Пошли мы дальше. Я и спросила Сережу, что за люди, почему ругаются, почему его Цыганом зовут. Он весь бледный стал, даже прослезился и говорит: «Маруся, все скажу тебе, ничего не скрою. Только люби меня. Вор я. И ребята эти воры. Бросил я это дело, а они опять зовут». Как рассказал он мне это, я света невзвидела. Вы подумайте только — с вором связалась. Но и бросить его не могла, привыкла очень. Сережа мне поклялся, что будет честно жить, работать начнет. К зиме хотели регистрироваться…
По тому, как девушка все это рассказывала, было видно, что она говорит правду.
«Видимо, — думал я, — Гаврилова убили старые компаньоны. Простыня явно краденая. Отсюда и надо исходить».
На следующий день мы проверили все заявления о домовых кражах. Среди них было заявление артистки оперетты Александры Фаворитовой, у которой до убийства Гаврилова похитили много домашних вещей. Когда Фаворитовой предъявили простыню, она сразу ее опознала.
— Моя, моя! У меня целую дюжину таких украли.
— При каких обстоятельствах вас обокрали?
— Я в театре была, а прислуга ушла в гости. Вернулась я из театра, замок взломан, дверь открыта, все шкафы перерыты.
— Какие вещи у вас украли?
Фаворитова подробно перечислила. Мы записали отличительные признаки ее вещей и дали задание агентам угрозыска следить на рынках и толкучках — не будут ли продавать эти вещи.
На третий день на Сухаревском рынке была задержана женщина, продававшая с рук шесть простынь с такими же инициалами. Женщину доставили в угрозыск.
— Откуда у вас эти простыни?
Немолодая уже, грузная женщина, со следами пьянства на опухшем лице, ответила сиплым голосом, воровато бегая глазами:
— Сама их купила у мужчины на Зацепе.
— Для чего же вы их купили?
— Известно для чего, для продажи.
— Сколько за них платили?
— По два рубля за штуку.
— Цену хорошо помните?
— Как не помнить, когда свои деньги платила.
Мы решили проверить ее показания.
— Человек, который продал вам простыни, уже найден, — сказал я.
В глазах женщины мелькнуло удивление. Но она продолжала молчать.
— Интересуетесь этим человеком?
— Что ж, — ответила женщина, — можно посмотреть. По моему указанию в комнату ввели под видом арестованного моего практиканта. Указав на него, я сказал:
— Вот он самый и есть.
У женщины, не смогшей скрыть удивления, забегали глаза. Потом она взяла себя в руки и успокоилась.
— Гражданка, у него вы купили простыни?
— Он, он самый. Я его хорошо помню. У него купила.
Мы дружно расхохотались. Обратившись к ней, я сказал:
— Извините, мамаша, вы попались. Мы пошутили с вами. Этот человек простынями не торгует.
Женщина густо покраснела и замолчала. Мы продолжали смеяться.
Когда до сознания женщины, наконец, дошло, что она попалась, она рассказала правду. Простыни эти она купила у своих знакомых воров — Сеньки Голосницкого и Петра Чреватых. Знала она их давно и часто скупала у них краденые вещи.
В тот же вечер я и агенты угрозыска поехали на Домниковку, где в одном из домов жили Голосницкий и Чреватых.
Дом был грязный, запущенный, какого-то дикого рыжего цвета. Нужная нам квартира находилась в полуподвальном этаже. Убедившись, что квартира имеет только один вход, мы по одному, чтобы не быть замеченными, прошли туда.
Дверь открыла худая старуха. Подозрительно глядя на нас, она неприветливо спросила, кого нужно.
— Сенька дома?
— Никого дома нет, — ответила лаящим голосом женщина и хотела захлопнуть дверь. Мы остановили ее и, войдя в квартиру, предъявили ордер на обыск. Старуха не удивилась, ничего не сказала и молча села на койку, стоявшую в углу.
В квартире больше никого не было. Мы решили ждать прихода Голосницкого и Чреватых, а пока приступили к обыску.
Квартира состояла из двух комнат и кухни. Низкие потолки, полумрак, спертый, нечистый воздух.
В крайней комнате в мешке были разные домашние вещи: настольные часы, столовое серебро, верхнее мужское платье. Вещей Фаворитовой не было. В кармане плаща, висевшего в углу, мы нашли бритву в футляре и странную записку следующего содержания:
«Митьку вчера замели лягавые. Не иначе как Цыган продал. Барахло у китайца».
На бритве не было следов крови. Лезвие было аккуратно вытерто.
Закончив обыск, мы сели и стали молча ждать. Серый осенний вечер уже переходил в ночь. За окном стихал рокот Домниковки, тускло подмигивал уличный фонарь. Иногда он раскачивался от ветра, и тогда на полу бегали желтоватые блики, похожие на крыс. Настороженно тикали часы.
Старуха сидела в углу молча, почти не дыша, как большая сонная птица. Она ничему не удивлялась и ни о чем не спрашивала.
В первом часу ночи в дверь постучали. Мы открыли, и в комнату вошла молодая, грубо размалеванная женщина. Увидев нас, она испуганно вскрикнула и хотела уходить.
— Легче, гражданочка, — тихо произнес один из агентов, — не лишайте нас вашего общества. Садитесь и не шухерите…
— Мне некогда сидеть. Я должна идти, у меня свои дела есть.
— К сожалению, придется подождать. У нас тоже дела.
Женщина недовольно вздохнула и села в углу. Опять наступило молчание.
Около трех часов ночи за дверью послышались легкие мужские шаги. Потом раздался стук, и пьяный голос громко произнес:
— Все дрыхнешь, старая ведьма. Отвори! Эй, отвори!
Мы открыли дверь и стали по бокам у входа. Высокий парень вошел в комнату. Его моментально обыскали.
— В чем дело? Что вам надо?
— Как ваша фамилия?
— Голосницкий. А что?
— Ничего, Сеня. А где Петр?
— Какой я вам Сеня! — нагло заявил парень. — Что вы от меня хотите?
— Ничего особенного. Вам привет от Цыгана.
— Никаких цыган я не знаю! — злобно вскричал он. — Говорите, в чем дело?
— Сережу Цыгана не знаете? А про какого Цыгана вам писали? — И я предъявил ему найденную записку. Он испуганно взглянул на нее и угрюмо замолчал.
— Сидите молча. Будем ждать Петьку, — сказал я.
Голосницкий покорно сел.
Через час пришел Петр Чреватых. Он был совершенно пьян, и в таком состоянии было бессмысленно с ним говорить.
Взяв их с собой, мы вернулись в угрозыск.
Голосницкий и Чреватых поняли безвыходность своего положения. И они быстро признали свою вину.
Уже к вечеру следующего дня следствие было в основном закончено.
Сидя у письменного стола, я перелистывал еще невысохшие листы протоколов допроса, перечитывая подробные показания обвиняемых. И вся картина этого преступления во всех его деталях возникла передо мною.
Два года Чреватых, Голосницкий и покойный Гаврилов «работали» вместе. Все трое были профессиональные «домушники» и не думали менять воровскую профессию. «Работали» довольно успешно.
Но вот еще в прошлом году Цыган начал возбуждать у них тревожные сомнения. Парень перестал пьянствовать, не посещал притонов, неизвестно куда отлучался. Все это было неестественно и непонятно. Наконец, он прямо заявил Голосницкому и Чреватых, что решил «завязать узелок», то есть больше не будет воровать и даже намерен поступить на работу.
— Несчастный фраер, — заявил ему тогда Чреватых, — провались к чертям со своей работой. Противно смотреть на твою глупую рожу, маменькин сынок, юбочный хвост, собачий…
И он еще долго изощрялся.
Самое неожиданное для них было, что Цыган действительно ушел, а уйдя, не думал возвращаться. Через несколько дней бывшие компаньоны встретили его на улице с какой-то миловидной скромной девушкой. Все стало ясно.
— Знаешь, Петух, — мрачно заявил тогда Голосницкий, обращаясь к Чреватых, — эта маленькая телка, за которую он уцепился, страшнее, чем все наши марухи. Цыган не вернется, он конченный человек. Можешь мне поверить, я знаю толк в жизни и в этой… в любви.
И Цыган действительно не вернулся.
А через несколько дней арестовали нескольких знакомых воров. И как-то, когда шумная компания собралась и обсуждала эти события, известный вор Миша Хлястик, враль и выдумщик, каких свет не видел, важно заявил:
— Чижики, я знаю, в чем дело. Цыган нас продает, Цыган стучит в уголовку. Он снюхался с этой кудрявенькой сучкой, а ее брат там служит инспектором.
Наступила мертвая тишина. Польщенный общим вниманием, Миша Хлястик вдохновенно врал, тут же выдумывая самые убедительные подробности. И ему поверили.
А на другой день арестовали еще одного вора: Митеньку Соловья. Это решило все. Чреватых послал об этом записку Голосницкому, уехавшему на день за город. Голосницкий сразу приехал.
На следующий день они поджидали Цыгана у его дома. В кармане у Голосницкого была бритва.
Вечером Цыган вышел. Приятели подошли к нему и поздоровались.
— Ну, Цыган, — сказал Голосницкий в самом дружеском тоне, — черт с тобой, живи, как хочешь. Но попрощаться со своими стоит. Надо же поставить на прощанье ребятам бутылку водки.
Цыган колебался, но потом согласился. Они пошли в «хазу» около Екатерининской площади, где не раз в прошлом вспрыскивали удачу.
В «хазе» никого не было.
— Ничего, Цыган, — произнес Голосницкий, — скоро наши подойдут, пока начнем сами.
Они начали пить. Цыган пил мало и неохотно, ему хотелось скорей отделаться и уйти. Но время шло, и никто не приходил.
В комнате было накурено и душно. Молчаливый Чреватых мрачно пил водку. Голосницкий старался много говорить. Он вспоминал прошлое.
— Ты помнишь, Цыган, — говорил он, тыкая вилкой в скользкий маринованный гриб, — ты помнишь, Цыган, как мы обчистили эту квартиру в Лялином переулке? Ну, еще собака там была — овчарка. Ты помнишь, как она хватала тебя за ногу, когда мы начали выносить мешок с вещами? Хорошая была собака, умная. А? Помнишь, сколько серебра мы взяли в квартире старухи на Покровке? Хорошая была старуха, а; Цыган…
Цыган молчал. Может быть, он думал о том, что отошел от этих людей, от этих разговоров, от этой профессии, о том, как хороша теперь его жизнь, когда он уже не вор, когда все это в прошлом, когда он уже не Цыган и не домушник. Он думал о том, что Маруся ждет его в маленькой своей комнатке, что она простила ему прошлое, что у нее такие ясные смеющиеся глаза и маленький рот.
Задумавшись, он почти не слышал слов Голосницкого и удивленно вздрогнул, когда раздался сиплый голос молчавшего все время Чреватых:
— Что ты, Сеня, говоришь, ему ведь теперь не до нас, мы для него рылом не вышли. Они теперь интеллигенция, а мы что? Так… шпана.
— Интеллигенция? — рявкнул Голосницкий, и глаза его налились кровью. — Чистенький стал, сволочь, честненький… А мы ворье, шпана? Ах ты гадина! А Митю продал? Ребят продал? Всех нас, сука, продать хочешь!
И, встав, он вплотную приблизился к Цыгану, продолжая ругать его, страшно уставившись выпуклыми пьяными глазами и размахивая сжатыми кулаками.
— Да что ты на него глядишь? — Чреватых поднялся и, подойдя к Цыгану, необыкновенно быстро и крепко ударил его в лицо. Цыган вскочил, но на него набросились оба, свалили его, и он, падая, увидел, как в дымной угаре накуренной комнаты молнией блеснуло лезвие бритвы, которую выхватил из кармана Голосницкий.
ОТЕЦ АМВРОСИЙ
…Люди совсем непроницательные думали бы, что пламенные страсти или необычайные случайности бросили этого человека в лоно церкви.
О. БальзакЗавсегдатаи ленинградского «Сада отдыха» хорошо знали высокую фигуру этого молодого человека, одетого всегда модно, даже с некоторой претенциозностью.
Он неизменно бывал один. Лениво развалясь в креслах эстрадного театра, он небрежно слушал программу, разглядывал публику и имел обыкновение пристально и не мигая смотреть в упор на нравившихся ему женщин.
Шел 1927 год. Весь «цвет» ленинградских нэпманов собирался по вечерам в «Саду отдыха».
По аллеям с важным видом в сопровождении разодетых, раскормленных, на диво выхоленных жен ходили сахарные, шоколадные и мануфактурные «короли».
Все они, неизвестно откуда и как появившиеся в годы нэпа, старательно подражали в своих манерах старому петербургскому «свету», вдребезги разгромленному революцией и гражданской войной.
Вечерами они любили собираться большими и шумными компаниями в модных ресторанах и кабаре, выбирали по карточкам блюда, барственно покрикивали официанту: «Эй, поскорее, отец!», делали замечания почтительно склонившемуся метрдотелю и неистово аплодировали артистам, приглашая их потом к столу и с удовольствием играя роль меценатов.
Пьянея, они начинали безудержно хвастаться своими коммерческими талантами и успехами, любили называть себя «солью земли», и нередко можно было слышать, как какой-нибудь обрюзгший нэпман в седых бобрах презрительно говорил случайному бедно одетому прохожему:
— Не толкайтесь, пожалуйста! Это вам не восемнадцатый год.
К концу программы молодой человек уезжал из «Сада отдыха» во Владимирский клуб. Там его встречали как дорогого и почетного гостя. Поужинав, он переходил в «золотую комнату» и начинал игру. Размеренно и спокойно он ставил крупные суммы под бесстрастные выкрики всегда невозмутимого, корректного крупье.
Обычно молодой человек проигрывал. Но по выражению его лица трудно было определить, каков результат игры. Он не бледнел, не раздражался, не был возбужден.
Уже на рассвете он покидал Владимирский клуб и возвращался домой, в один из переулков Петроградской стороны. Город окутывала бледная мгла рассвета. Мягко цокали копыта лошади по торцовой мостовой. Подъехав к дому, молодой человек щедро расплачивался с лихачом и проходил к себе. Он жил один в небольшой уютной квартире из двух комнат. Белая визитная карточка была приколота у звонка. Четкими закругленными буквами на ней было отпечатано:
Сергей Георгиевич Питиримов.
Молодой человек открывал дверь и входил в теплый сумрак передней. Через полуоткрытую дверь лестничной площадки свет пробивался тускло и неуверенно, выхватывая из темноты кусок ковра, ветвистые оленьи рога, соломенное кресло. Потом дверь захлопывалась. Питиримов проходил в комнаты — небольшую кокетливую спальню с низкой широкой кроватью, похожей на ладью, и полукруглую темную столовую с массивной дубовой мебелью.
Он медленно раздевался, ложился в постель, закуривал папиросу. В квартире было тихо. Огонек папиросы описывал в темноте мерные полукруги от изголовья к пепельнице на ночном столике и обратно. Потом папироса гасилась. И Питиримов засыпал.
Никто не знал, чем он занимается. У Питиримова было много знакомых, но никого он не посвящал в свои дела.
В доме считали, что он биржевой маклер. Близкие ему женщины были уверены, что он крупный инженер-изобретатель. Во Владимирском клубе почтительно подозревали, что он талантливый шулер крупного полета. Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он даже не был Питиримовым, хотя и носил эту фамилию. Несколько лет тому назад он был «Витькой Интеллигентом» и принимал участие в уличных налетах. Тогда он был еще совсем молод, и ему нравилась эта профессия. Ночью он и его товарищи неожиданно подбегали из-за угла к запоздалому оторопевшему прохожему или влюбленной парочке, привычные руки мгновенно снимали шубы, кольца, часы.
Недоучившийся гимназист Витька Интеллигент происходил из богатой купеческой семьи. Еще юношей он свел знакомство с преступным миром, усвоил воровской жаргон, посещал притоны. Внешний лоск и некоторая начитанность сначала вызывали там враждебное недоумение, а потом снискали к нему уважение и доброжелательный интерес. И часто где-нибудь в воровском притоне или в курильне опиума Виктор проводил целые ночи в обществе громил, карманников и проституток. Он жадно выслушивал рассказы об их похождениях, при нем происходил дележ «барышей», при нем обсуждались и вырабатывались планы новых ограблений.
Иногда Виктор читал стихи. Мечтательно запрокинув голову, он нараспев читал Гумилева. Читал он хорошо.
Тогда в душной подвальной комнате становилось тихо. Юркие карманники с Сенного рынка, лихие налетчики из Новой деревни, серьезные, молчаливые «медвежатники» — специалисты по взламыванию несгораемых касс, — их спившиеся, намалеванные подруги жадно внимали певучей, грустной музыке стихов.
Так прошел год. И Виктор задумал новое дело: грабить прохожих не просто, как раньше, а с мистикой, с психологией. Были сшиты белые саваны с черными крестами и маски для лиц.
Ночью Виктор и его товарищи прятались где-нибудь у городского кладбища. Появляется прохожий. Ночь. Тишина.
И вдруг прямо с кладбищенской стены тихо слезает одно, два, три привиденья. Прямо направляются к прохожему.
Сдавленный крик. Обморок.
Дело оказалось прибыльным и верным. Почти всегда обходилось без лишнего шума. Раз только одна женщина, упав на тротуар, так и не встала: разрыв сердца.
Но через несколько месяцев уголовный розыск набрел на след «белых саванов». Троих арестовали. Виктор успел скрыться и уехал в Крым. Там он провел несколько месяцев.
Потом он приобрел документы на имя Питиримова и вернулся в Ленинград. Нэп был в расцвете. Сергей Георгиевич Питиримов снял квартиру, зажил солидно. Он приобрел широкие знакомства, всюду бывал, удачно участвовал в нескольких аферах, посредничал в даче и получении взяток.
Однажды помог реализовать фальшивые червонцы. Но потом испугался и больше не продолжал.
Чем дальше, тем больше приходил он к заключению, что всякая афера, всякое преступление неизбежно приведут в тюрьму. А тюрьмы не хотелось.
Связи со стареющими богатыми женщинами опротивели. Да и молодости прежней уже не было. Надо было найти какой-то иной выход. И этот выход нашелся совершенно случайно.
Это произошло весной. Питиримов как-то поздно засиделся в ресторане со своей дамой. Когда вышли на улицу, было совсем тихо. Белая ночь была призрачна и тревожна. Почему-то хотелось говорить шепотом. Решили пойти пешком.
В одном из переулков, недалеко от центра, Питиримов и его дама услышали доносившееся откуда-то церковное пение. Подошли ближе и остановились у входа в церковь. Сквозь распахнутые церковные двери тепло мигали восковые свечи, тускло отражаясь в золоте икон.
— Знаете, Сергей Георгиевич, — воскликнула его спутница, — ведь сегодня пасха, заутреню служат!… Ах как интересно, пойдемте посмотрим!
Они вошли в церковь. Служба шла чинно, торжественно. У входа какая-то личность бойко торговала церковными свечами. Потом старухи выстроились в очередь святить куличи.
Сергей Георгиевич внимательно следил за происходящим. Он никогда не был верующим. Еще в гимназии на уроках закона божьего он всегда играл в перышки.
Но здесь он с интересом наблюдал. Уже потом, на следствии, Питиримов мне рассказывал:
— Знаете, вот тогда, в церкви, я подумал, что религия — это единственный вид мошенничества, которое может пройти безнаказанно. И потом даже весело: люди, которых ты обманываешь, не только не жалуются, не заявляют в уголовный розыск, не бегут к прокурору, но еще и деньги платят и смотрят на тебя, как на святого… Нет, в самом деле, мне это сразу понравилось.
И после этой пасхальной ночи Сергей Георгиевич добросовестно просидел шесть долгих месяцев над богословскими книгами, евангелием, житиями святых. Он готовился к новой профессии.
У него появились новые и странные знакомые: спившиеся дьяконы, попы-расстриги, бывшие монашки, церковные регенты, игумены и настоятели. Он познакомился с городским духовенством, участвовал в церковных диспутах, добыл себе новые документы об окончании какой-то духовной семинарии.
Так незаметно промчались лето и осень. И уже грянули крещенские морозы, когда на амвоне Павловской церкви впервые появилась высокая, стройная фигура нового священника — отца Амвросия. Бледное лицо, горящие глаза фанатика, взволнованные проповеди быстро создали ему популярность. Истерические прихожанки, кликуши, торговцы с Сенного рынка, вороватые церковные нищие дружно восхваляли на все лады святость, мудрость и прозорливость отца Амвросия. Уже из других церквей приходили смотреть новую знаменитость и слушать его зажигательные проповеди.
Отец Амвросий ликовал. Все больше ему нравилась новая профессия, все щедрее становились даяния верующих.
Он переменил квартиру, по-прежнему жил одиноко. Иногда он снова надевал штатское платье и ездил встряхнуться. Встречая старых знакомых, он только улыбался в ответ на их расспросы, где пропадает, и скромно отвечал, что ведет теперь замкнутый образ жизни, так как работает над одним серьезным изобретением.
Потом он снова превращался в отца Амвросия.
Прошел еще год. Все более крепла популярность отца Амвросия, непрерывно росли его доходы. И все шло хорошо. Крах пришел, как всегда, неожиданно. Отцу Амвросию понравилась одна совсем еще юная девушка, певшая иногда в церковном хору. Ничего в этом не было необычного, и многочисленные романы отца Амвросия с прихожанками не только сходили гладко, но и в немалой степени способствовали его популярности. Но на этот раз не повезло. Девочка, едва достигшая четырнадцати лет, заупрямилась. Ее упорство еще больше распалило отца Амвросия. И однажды, заманив ее в церковную сторожку, он овладел ею насильно. Девочка вернулась домой в слезах и все рассказала матери. Забыв о боге, религиозная мамаша побежала к прокурору. Началось следствие.
Отца Амвросия арестовали. Он упорно отказывался сообщить данные о своем происхождении, отрицал свою вину, плакал, путался в показаниях.
Через несколько дней после его ареста, когда отца Амвросия вели во дворе дома заключения на прогулку, из окна одной камеры раздались приветственные крики:
— Витька, сукин сын, здорово! Сколько времени не виделись, чертова кукла! Ты чего это в рясу нарядился?
Кричал один из заключенных, бывший грабитель, Митька Косой, когда-то участвовавший в шайке «белых саванов».
И все выяснилось. Страница за страницей была перелистана и прочтена книга жизни отца Амвросия — Сергея Георгиевича Питиримова — «Витьки Интеллигента» — купеческого сына Витеньки Храповицкого.
А в Павловской церкви появился новый священник, щупленький старенький отец Мефодий. И хотя он всегда завидовал успехам отца Амвросия, страшно не любил его и называл раньше не иначе как «Иродовым семенем» и «стрекулистом», но в первой же своей проповеди заявил, печально потряхивая неказистой рыжей бороденкой:
— Братья и сестры во Христе. С тягостной вестию пришел я к вам. Духовный пастырь наш, наш кедр ливанский, отец Амвросий, томится в узилище Иродовом за веру свою, за благочестие… Аки святой отец, томится он, и несть конца его мучениям за веру Христову! И в том зрим мы для всех благий пример…
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Два года тому назад инженер Синицын женился на Валентине Сергеевне Н. После свадьбы супруги поселились в квартире Синицына в Столешниковом переулке. Через полтора года Синицын был мобилизован на большое строительство, на Север. Валентина Сергеевна, привыкшая к удобствам большого города, не захотела расставаться с Москвой. Синицын уехал один.
Он очень тосковал по жене, часто писал ей, аккуратно переводил деньги. Этих средств было вполне достаточно, чтобы Валентина Сергеевна, которая нигде не работала, могла не нуждаться ни в чем. Но она привыкла жить широко. Валентина Сергеевна была красива, взбалмошна и не привыкла себя сдерживать. Она была свободна и жила в Москве одна. Она жила в Столешниковом переулке, где нэп в те годы свил себе самое излюбленное гнездо. Здесь гуляли самые «роскошные» женщины Москвы, здесь были магазины самых дорогих вещей, здесь в маленьких кафе («Вся Москва пьет наши сбитые сливки») собирались матерые дельцы, заключая на ходу головокружительные сделки и обдумывая очередные аферы. Здесь покупались и продавались меха и лошади, женщины и мануфактура, лесные материалы и валюта. Здесь черная биржа устанавливала свои неписаные законы, разрабатывая стратегические планы наступления «частного сектора». Гладкие мануфактуристы и толстые бакалейщики, ловкие торговцы сухофруктами и железом, юркие маклера и надменные вояжеры, величественные крупье, шулера с манерами лордов и бриллиантовыми запонками, элегантные кокотки в драгоценных мехах и содержательницы тайных домов свиданий со светскими манерами и чрезмерно ласковыми глазами, грузные валютчики, имеющие оборотистых родственников в Риге, и щеголеватые контрабандисты с восточными лицами, спившиеся поэты с алчущими глазами и мрачные, неразговорчивые торговцы наркотиками — вся эта нечисть стаями слеталась в Столешников переулок, отдыхала в нем, гуляла, знакомилась, встречалась.
Валентина Сергеевна жила в этом переулке, любила его, дышала его атмосферой, встречалась с его людьми, — в сущности, она сама была женщиной из Столешникова переулка. Не удивительно, что она начала торговать собой.
Но Валентина Сергеевна была хитра и осторожна. Поэтому она не встречалась с москвичами, понимая, что это может получить огласку и испортить ее репутацию.
В маленьких гостиницах, в театрах и на дневных сеансах в кино Валентина Сергеевна знакомилась с командировочными, с провинциалами различных возрастов и профессий, приезжавшими по делам в Москву. Безошибочно, одним взглядом определяя скучающего в чужом городе «командировочного», Валентина Сергеевна вступала с ним в разговор, приглашала его к себе.
Ее манеры и внешний лоск, отдельная уютная квартира, обычные заверения, что это «первая измена», что она не смогла сопротивляться внезапно вспыхнувшему влечению, оказавшемуся «беспощадным, как стихия» (Валентина Сергеевна любила выражения в «высоком» и, как ей казалось, «поэтическом» стиле), — все это действовало безотказно.
Встречи обычно заканчивались ценным подарком «на память» и торопливым поцелуем на вокзале, где Валентина Сергеевна неизменно провожала с цветами гордого носителя «беспощадной стихии».
Конечно, Синицын всего этого не подозревал. Конечно, он получал самые нежные письма и чувствовал себя счастливым, удачливым мужем.
Перед Новым годом Синицыну повезло — подвернулась командировка в Москву. Он решил сделать жене сюрприз и неожиданно обрадовать ее новогодней встречей.
В поезде он был весел и радостен. На всех станциях он выскакивал, без конца расспрашивая, сколько километров осталось до Москвы, и страшно надоел главному кондуктору вопросом: не опоздает ли поезд.
В Кирове он выбежал из вагона и, налетев на станционный киоск с кустарными изделиями, накупил уйму каких-то шкатулок, пудрениц, зайцев и медвежат.
Рано утром он приехал в Москву. Неторопливый извозчик довез его до дома. В тот момент, когда Синицын уже расплачивался с ним, кто-то схватил его за плечо и произнес:
— Здорово, Синицын. Когда приехал? Что нового на стройке?
Синицын обернулся и увидел заместителя начальника строительства, инженера, выехавшего по делам строительства в Москву за две недели до него.
Синицын обрадовался встрече, объяснив, что приехал в Москву в командировку.
— А ты откуда в такую рань? — спросил он инженера. Тот рассмеялся, сделал таинственное выражение лица и тоном, в каком обычно мужчины говорят приятелям о своих похождениях, начал рассказывать:
— У меня, брат, такое, доложу я тебе, приключение, такой роман… Понимаешь, пару дней тому назад случайно познакомился с очаровательной женщиной. Блондинка, двадцать пять лет, отличная фигура. Умна дьявольски, темперамент такой, что… Влюбилась, как кошка, очень воспитана. Словом, прелесть, а не женщина. Ну вот, ночевал у нее. Такая, доложу я тебе, ночь… Ну, конечно, я ей дал двести рублей; она стеснялась, но взяла…
Синицын, слушая легкомысленную болтовню приятеля, невольно улыбался, и вдруг сразу какое-то темное, страшное предчувствие заставило его вздрогнуть. С трудом овладев собой, он спросил изменившимся голосом:
— А где?… Где она живет?
Инженер, продолжая свою болтовню, спокойно ответил:
— Да вот, в этом доме.
И он указал на подъезд, в котором жил Синицын.
— А на каком этаже?
— На третьем.
Не говоря ни слова, Синицын схватил его за руку и потащил в подъезд. Со страшной силой, появившейся у него, он буквально втащил испуганного инженера на третий этаж и, указав на дверь своей квартиры, шепотом (у него вдруг пропал голос) спросил:
— Здесь?
Инженер молча кивнул. Он начал смутно догадываться о происшедшем, но так растерялся, что застыл на месте. Тогда Синицын начал бешено стучать в дверь. Говорить он не мог, но как-то странно хрипел, изо всей силы стуча кулаками и ногой в тяжелую дверь. Наконец, послышались шаги, и сонный женский голос недовольно произнес:
— Тише. Что за безобразие. Кто там?
Синицын не мог ответить. Он с трудом выдавил из себя какой-то странный звук, напоминающий скрип колеса.
Дверь открылась. Жена Синицына в шелковом халате появилась в раме дверей. Увидев Синицына и инженера, она страшно побледнела и начала пятиться назад. Синицын швырнул свой чемодан. Медвежата, зайцы и шкатулки градом посыпались на пол. Испуганный инженер почему-то вошел за ним, хотя он его уже не тащил.
Потом, так и не сказав ни слова, Синицын выхватил из кармана маленький браунинг. Он выстрелил в жену в упор. Она как-то всхлипнула и, пошатнувшись, осела на пол. Потом он выстрелил в себя.
В этом году супруги Синицыны прожили всего одну НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.
ГЕНЕРАЛЬША АПОСТОЛОВА
Дело, о котором будет рассказано ниже, мне пришлось расследовать осенью 1925 года. Я был тогда еще совсем молодым следователем Московского губсуда. Вокруг этого дела и тогда и в последующие годы развелось много всяческих сплетен и кривотолков, и, как всегда бывает в таких случаях, слухи обрастали всякими вымышленными, подчас просто фантастическими подробностями и деталями.
Я помню, что когда это дело слушалось в Московском губсуде, то у здания суда на Тверском бульваре собралась огромная толпа любопытствующих, и хотя было объявлено, что дело будет рассмотрено при закрытых дверях (как оно и было в действительности), публика не расходилась, и для поддержания порядка пришлось вызвать усиленный наряд милиции.
Раскрытие тайного дома свиданий, который содержала бывшая фрейлина и генеральша Апостолова, произошло при следующих обстоятельствах.
В мой следственный участок входила вся улица Горького с прилегающими переулками и с районом Белорусско-Балтийского вокзала. Этот участок считался одним из самых боевых в том смысле, что он давал большое количество разнообразных по своему характеру дел.
Так, в районе вокзала и Грузин совершалось значительное количество чисто уголовных преступлений, нередко случались убийства, имелись разного рода притоны. Я хорошо знал свой участок и постепенно его очищал. Однако у меня не было даже и мысли о том, что в моем районе функционирует широко поставленный тайный дом свиданий, притом обслуживаемый так называемыми «приличными, семейными» женщинами.
Вот почему я был удивлен, когда однажды мне позвонил по телефону товарищ из МУРа и сообщил, что, по его сведениям, в одном из переулков в районе улицы Горького функционирует тайный дом свиданий.
Он добавил, что не знает, где именно находится этот дом и кто его содержит, но как будто все это происходит во владении какого-то церковного прихода. Я поблагодарил товарища за сообщение и начал продумывать план проверки и реализации полученных сведений.
В то время на территории моего участка были три церковных прихода. Один из них находился на углу Благовещенского переулка и улицы Горького. Я лично осторожно обследовал все три прихода и остановился на последнем. Во дворе этого прихода, стоял небольшой белый двухэтажный домик. Совсем рядом кипело уличное движение, с грохотом пролетали трамваи и грузовики, стаями носились мальчишки-папиросники. В церковном дворике было тихо и пустынно. Дом принадлежал церковному приходу и еще не был муниципализирован. В первом этаже жил приходский священник, грузный седой человек.
Под предлогом распространения подписки на Большую Советскую Энциклопедию я его навестил. От подписки священник отказался и начал жаловаться на скупость прихожан.
— У нас что же, — гудел он, — центр, суета сует и Вавилон. Разве тут до бога? А вот, возьмите, отец Евтихий в Замоскворечье — другое дело, как сыр в масле катается. Кругом там народ верующий, положительный, солидный. Бывшие купцы, скажем опять же люди немолодые. Им только о боге и думать осталось. А у нас — все больше молодежь. А что с нее теперь толку для нашего церковного дела? Нехристи, как один…
Старик был прав. В церкви редко набирался народ, службы проходили уныло, и прихожан становилось все меньше.
Во втором этаже жила бывшая генеральша — Антонина Александровна Апостолова, высокая немолодая уже дама с надменным профилем и важными манерами. Бывшая генеральша жила с горничной Катей, старой девой, служившей у нее чуть ли не три десятка лет. В уютной квартире из трех комнат всегда было тихо и даже как бы торжественно. Плотные гардины и занавеси наглухо закрывали небольшой этот мирок от жизни города, упругие текинские ковры глушили шаг, старинные миниатюры на стенах, мебель красного дерева павловских времен, вычурные и неудобные кресла, диваны, секретеры — все это говорило о прошлом.
Антонина Александровна нигде не работала, и никто не знал, на какие средства она живет. А между тем она не нуждалась в средствах, хорошо одевалась и имела независимый вид одинокой, но вполне обеспеченной женщины. Она была очень религиозна и дружила с соседом священником. Нередко по вечерам спускалась она в его квартиру, и они подолгу пили чай, вспоминая старую Москву.
Она тоже отказалась от подписки на энциклопедию, но спросила, нельзя ли через меня приобрести переводную французскую беллетристику. Я спросил, что именно ее интересует.
— Что-нибудь полегче, — протянула она, — и без политики. Ну вот, скажем, Виктора Маргерита, Поля Бурже — одним словом, в этом роде…
Я обещал выяснить и сообщить ей.
За этим домом было установлено наблюдение.
Днем Антонина Александровна обычно куда-то уходила, всегда тщательно, по моде одетая, подолгу отсутствовала и возвращалась уже к вечеру. Иногда к ней днем приходили женщины и мужчины, но никогда долго не засиживались, нередко уходили порознь и время проводили без шума и музыки, без громких разговоров, смеха, танцев.
Обычно в течение суток ее навещали не более трех-четырех пар. Посещавшие ее мужчины и женщины всегда предварительно смотрели на окно, выходящее в переулок. Обычно на окне стояла лампа с зеленым абажуром. Однако дважды были зарегистрированы случаи, когда на окне была поставлена лампа с красным абажуром, и тогда люди, направлявшиеся к Апостоловой, возвращались, не заходя к ней.
Было ясно, что лампа применялась в качестве условного сигнала, своего рода светофора.
Собрав эти данные, я уже решил произвести операцию, как неожиданная случайность меня предупредила.
Как-то вечером мне позвонили домой по телефону. Говорил дежурный 15-го отделения милиции.
— Товарищ следователь, в Дегтярном самоубийство, Повесилась гражданка В-ва, молодая женщина. Оставила какую-то странную записку. Может, приедете?
Я сразу же выехал. В небольшой квартире из двух комнат жила покойная с мужем, молодым инженером. Всего два месяца назад они поженились. Жили счастливо, любили друг друга. Покойная была здоровая, красивая, молодая женщина. Было непонятно, почему она покончила с собой.
На столе лежала записка, написанная карандашом на клочке бумаги, тем полудетским, косым и разгонистым почерком, каким пишут обычно молодые неработающие женщины. Записка была адресована мужу.
«Сережа, родной мой. Я умираю потому, что не могу и не хочу тебя обманывать и не хватает силы воли все рассказать тебе, покаяться; ты был так тактичен, ты ни в чем меня не упрекнул, не спрашивал, даже сделал вид, что не заметил. Как можно после этого тебя обманывать. Не могу, не умею. Прощай, родной. Что бы ни было — знай, я любила тебя, я тебя не хотела обманывать и потому ухожу».
Я несколько раз перечитал это странное письмо. Рядом, в соседней комнате, сотрясался от рыданий муж — тихий, бледный человек с хорошим лицом и умными глазами. Он тоже не понимал, в чем дело.
Было ясно, что налицо какое-то преступление, шантаж, угроза разоблачений, И в этом направлении надо было вести следствие.
Я начал устанавливать круг знакомых покойной; узнал фамилию ее ближайшей подруги, вызвал ее к себе на допрос.
Подруга явилась. Высокая статная женщина лет двадцати пяти, одетая модно, даже несколько вычурно. Она была явно смущена и пыталась скрыть это напускной развязностью.
— Ваше имя, отчество?
— Ирина Сергеевна…
— Чем вы занимаетесь?
— Я замужем.
— Вы, кажется, были близкой подругой В-вой?
— Да, да. Мы с ней обожали друг друга. Вы не знаете, какая она была прелесть, какой чудный человек.
И Ирина Сергеевна приложила к сухим глазам кружевной платочек.
— Сколько зарабатывает ваш муж?
Ирина Сергеевна назвала скромную ставку среднего служащего.
— А на какие средства вы так одеваетесь?
Дама вспыхнула, что-то забормотала насчет умения экономить и закончила заявлением, что это к делу не относится.
Весь облик этой молодой красивой женщины, ее манеры, слишком яркий маникюр, привычка произносить слова нараспев, как бы играя, заученные движения ресниц, модное обтянутое платье, подчеркивающее формы, — все это было типично. Передо мною была «нэповская бабенка», из тех, что заполняли в те годы модные рестораны, бега, кабаре, а днем совершали по Петровке медлительный и вызывающий променад — парад выхоленных, раскормленных и разодетых самок.
Я продолжал допрос. Очень скоро обнаружилось, что Ирина Сергеевна давно дружна с В-вой, у них были общие знакомые, они были вполне откровенны друг с другом. И постепенно, шаг за шагом, передо мной вырисовывалась жизнь покойной, ее интересы, ее воспитание, даже ее первый роман. Происходя из мещанской семьи, строя все свои жизненные расчеты на «удачном замужестве», В-ва пришла в отчаяние, когда забеременела от человека, который и не думал вступать с нею в брак. И вот тогда ей пришла на помощь Антонина Александровна. Она устроила ей аборт.
— А вы знаете Антонину Александровну?
— Ну, знаю. А что?
— Ничего. Хорошо знаете, бываете у нее?
— Изредка, — тихо ответила Ирина Сергеевна, все больше смущаясь.
— Да вы не смущайтесь. Муж не узнает. Там что, дом свиданий?
— Да… нет… То есть не то чтобы… но вообще…
— А В-ва после замужества там бывала?
— Нет, она не хотела, но она боялась Антонины Александровны.
— А почему боялась?
— Боялась, что муж узнает о том, что она там раньше бывала. И я тоже боюсь… теперь все узнают… муж, знакомые, все…
И Ирина Сергеевна зарыдала уже без всякой игры, зарыдала, не вытирая слез, по-детски чмокая губами и всхлипывая сразу покрасневшим носом. Если женщина так плачет, она не притворяется. Мне стало ее жаль.
— Успокойтесь, Ирина Сергеевна, не волнуйтесь. Поверьте, никто не узнает, вам ничего не грозит.
И в тот же день с агентами уголовного розыска я явился на квартиру Апостоловой, в тихий церковный домик. В квартире были обнаружены мужчина и женщина, устроившиеся в спальне. Хозяйка и ее горничная были в столовой. Всех доставили ко мне на допрос.
Мужчина, крупный московский нэпман-мануфактурист, немолодой тучный армянин, долго не хотел давать откровенных показаний. В конце концов он рассказал:
— Иду, понимаете, по улице, устал — работаешь как зверь, и нет тебе ни отдыха, ни развлечений, — иду, понимаете, вижу старого приятеля — Скорнякова. Магазин шелка в Столешниковом. Долго не видались. Обрадовались. Ну, о делах, о мануфактуре, потом решили — надо встряхнуться. Но где, я вас спрашиваю, где? В ресторан — надоело. В кабаре — в зубах навязло. В казино — осточертело. В оперетту — опротивело. Скорняков и говорит: «Есть у меня семейный дом, высший свет, избранное общество. Хозяйка — стопроцентная генеральша. Одним словом, пошли». Пришли. Познакомились. Хозяйка — сразу кофе. Все чинно, благородно, понимаете. Скорняков говорит: «Антонина Александровна, Маринянц — мой друг, прошу любить и жаловать: мануфактурное дело на Никольской. Но, понимаете, скучает». Хозяйка и говорит: «Действительно, теперь все скучают. Ничего, я вас познакомлю, говорит, с интересными женщинами. Не заскучаете». И, понимаете, спрашивает: «Каких вы любите: блондинок, брюнеток?» Я и говорю, понимаете: «Люблю блондинок, полных блондинок, но, говорю, я — человек семейный», — «Что вы, говорит, что вы! У меня только семейные и бывают». Ну и пошло. Нина Михайловна. Заплатил сто рублей. Хозяйке тридцать. Потом Лидия Федоровна. Заплатил сто рублей. Хозяйке тридцать. Потом Мария Павловна. Заплатил сто, хозяйке тридцать. И, понимаете, все — замужние, порядочные женщины. Что и соблазняло. Ну и вот сегодня. Жена врача. Только вы, товарищ следователь, поймите, я человек женатый, у меня жена молодая, ревнивая. Скандалу не оберешься. Вы как мужчина должны меня понять…
Женщина, которая была с ним, действительно оказалась женой врача. Плача и волнуясь, она призналась, что систематически бывала у Апостоловой, которая ее знакомила с нэпманами, и она с ними сходилась за деньги в ее квартире.
— Скажите, вы вполне обеспечены, замужем, у вас ребенок, — что побуждало вас ходить туда?
— Знаете, сначала интересно было. Начиталась романов о парижских домах свиданий. А потом хотелось иметь карманные деньги на всякие мелочи, независимо от мужа. Ну, вот и получилось.
Так начало разворачиваться это дело. По фотографиям в альбоме, обнаруженном при обыске в квартире Апостоловой, по записям в ее бумагах удалось установить список женщин, которые посещали ее дом. Всего их оказалось тридцать шесть. Две опереточные актрисы, три балерины и тридцать одна домашняя хозяйка, жены своих мужей.
Антонина Александровна ловко заводила с ними знакомства. Она отлично знала этот мир дамских парикмахерских, модных портних, парфюмерных магазинов, «кабинетов красоты».
Неглупая и волевая, наглая и цепкая, она с поразительной быстротой прибирала женщин к рукам, умела расположить их к себе, вызвать на откровенность и потом связать этой откровенностью, когда нужно дать совет, сделать одолжение, польстить, в других случаях пригрозить разоблачением, припугнуть, иногда просто прикрикнуть.
Наметанным глазом она выискивала подходящих женщин, легко знакомилась с ними, приглашала их к себе. Одним взглядом она определяла жадных и безвольных, продажных, пустых и скучающих. Она предпочитала замужних потому, что знала, как боятся они огласки и как легко потом играть на этой их боязни.
С одинаковой легкостью она вербовала девушек, попавших в «беду», и зрелых семейных матрон, ищущих острых ощущений и легкого приработка. Для каждой из них у нее находились нужное слово и нужный подход.
В течение нескольких дней я допрашивал одну за другой этих женщин.
Для того чтобы не было семейных драм и всякого рода осложнений, я вызывал их не повестками, как обычно, а по телефону.
Все они, приходя на допрос, стандартно плакали, потом успокаивались, просили, чтобы не было огласки, и деловито рассказывали о подробностях. Потом, уже кокетливо улыбаясь, подписывали протокол допроса и уходили, оставив адрес верной подруги для посылки вызова в суд.
В руки Апостоловой они попадали по мотивам несложным и немногообразным: из корысти, из любопытства, в погоне за острыми ощущениями, по глупости и безволию и редко когда просто из чувственности.
Все они жили скучно и однообразно. Незаполненные трудом дни тянулись медленно и нудно. По утрам, валяясь в постели, еще нечесаные и неумытые, они перезванивались со своими подругами, хотя не знали ни дружбы, ни привязанности:
— Марго, здравствуй, дорогуша! Как ты себя чувствуешь?
— Здравствуй, Вава! Ничего. Вчера покутили в «Ампире», и, знаешь, страшно устала. Между прочим, был Сергиевский. Знаешь, у него чудесный рот. И танцует прекрасно. Как ты?
— Мы были в «Нерыдае». Ничего. Хенкин был очень мил. Сегодня иду на примерку. Ужасно тянет эта портниха.
Это был пошлый и отмирающий мирок холеных и продажных самок, видящих основной смысл своего существования в том, чтобы наряднее одеваться, вкуснее есть, роскошнее жить и больше развлекаться, а главное — жить не трудясь.
Одна из них, жена крупного инженера, с ужасом мне рассказывала:
— Понимаете, какой ужас. Вчера мы с мужем ложимся спать, и он мне рассказывает, что раскрыт какой-то дом свиданий, в котором бывали замужние женщины. Он так возмущался, так негодовал, он говорил, что всех этих женщин следует расстрелять. Понимаете, каково мне было это слышать, зная, что как раз по этому делу я должна завтра явиться к вам…
Умело действуя шантажом и подкупом, Апостолова окончательно подчинила себе большинство из них, отбирала себе часть их «заработка», заставляла их идти навстречу самым извращенным вкусам некоторых своих клиентов.
Среди мужчин, посещавших этот дом свиданий, были исключительно крупные нэпманы, семейные люди. Холостяков Апостолова боялась и не любила, называя их презрительно «петушками» и говоря, что это «самая ненадежная публика». Семейные люди ее устраивали потому, что они сами боялись огласки.
Наглость Апостоловой дошла до того, что она завербовала жену одного из своих посетителей, и однажды, явившись на очередное свидание, этот почтенный муж чуть не столкнулся со своей супругой.
Мне пришлось их обоих, и жену и мужа, допрашивать в качестве свидетелей. Было очень смешно слушать, как каждый из них просил сохранять в тайне свои показания, чтобы «не разрушить семейного очага». Для них так и осталась неизвестной роль друг друга в этом деле, потому что и на следствии и на суде их удалось допросить отдельно.
Антонина Александровна сначала запиралась, отрицая свою вину. По мере предъявления ей доказательств она давала показания. В конце концов, она рассказала все. На суде на вопрос председательствующего, как она квалифицировала свою «профессию», Апостолова ответила:
— Ну, а что же мне оставалось делать? Не в ткачихи же идти…
И она презрительно усмехнулась.
ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ СПИРИДОНОВОЙ
Мавра Тимофеевна накинула на плечи полушубок, взяла ведра и пошла за водой. Деревня просыпалась, кое-где дымили трубы, сонно мычали коровы. Утро было тихое, морозное.
На реке Мавра остановилась у проруби и привычно опустила ведра. В воде ведра за что-то зацепились. Мавра глянула вниз, и у нее потемнело в глазах: в неглубокой проруби торчали пятками вверх босые, толсто налитые фиолетовым воском ноги, напоминавшие чем-то церковные свечи.
Бросив ведра, Мавра с криком побежала назад. Когда собрался народ, из проруби вытащили багром труп женщины, которую все хорошо знали. Это была Надежда Спиридонова — председатель Загубниковского сельсовета. На трупе было платье. Глаза на посиневшем лице были открыты и смотрели на собравшихся пристально и как бы недоуменно.
Труп до приезда милиции положили у проруби. И долго еще не расходилась толпа.
У Надежды не было родных. Никто не бился и не плакал у закоченевшего ее трупа. Но вся деревня молча столпилась у проруби и долго стояла притихшая, задумавшаяся. Потом толпа сдержанно загудела. Вспоминали свою председательшу, ее простые и всегда искренние слова, ее решительность, нелегкую ее вдовью жизнь.
Вечером экстренно заседало бюро Славковского райкома. Секретарь райкома Федотов, старый путиловец, говорил коротко, с трудом сдерживая волнение:
— Спиридонова, товарищи, была из лучших наших активистов. Убийство ее не случайно. Она ведь здорово прижала кулаков, крепко следила за твердозаданцами, позиций не сдавала, не жаловалась, не сращивалась. И ведь росла на глазах. Помните, как выступила на районном съезде? И слова у нее нужные находились, и не стеснялась, как это бывает с нашим женским активом. Убийц надо найти, безоговорочно найти. Распутать надо дело. А как районная милиция думает? А что наш прокурор скажет? Что следствие? Как оно идет?
Начальник районной милиции снял для чего-то и снова надел очки в роговой оправе, странно выглядевшие на его добродушном курносом лице, и сказал:
— Собственно говоря, товарищи, еще мы на след не напали. Есть у нас, правда, ценный человек — некий Иванов. Парень толковый, надежный и сам помочь нам хочет. Он убитой вроде мужа приходится, собственно говоря… Ну, жил с ней. Так вот он говорит, что убийцы не из этой деревни, собственно говоря…
— Товарищ Зуев, — резко перебила его Авдеева, районный прокурор, — что ты на бюро семейную хронику разводишь? Скажи лучше прямо: никаких нитей у тебя нет, одни потемки. Кто убил — не знаешь. За что убил — не знаешь. Когда убил — и этого не знаешь. Еще и вскрытия-то не было, а ты уж в других деревнях убийц ищешь… Не выходит это дело — и всё тут. Теперь о прокуратуре. Я, товарищи, скажу прямо. За следствие не поручусь. Сама я человек в этом деле новый, второй только год как прокурорствую. Следователь тоже только институт кончил, зеленый еще. Можем ли мы поручиться, что раскроем это дело? Прямо скажу — не можем.
— Может, товарищ Авдеева Шерлок Холмса хочет, — язвительно вступил в разговор Зуев, — так он у нас проездом, собственно говоря, не остановился…
Зуева перебили и заговорили все сразу. Наконец, Федотов призвал собравшихся к порядку:
— Спокойнее, товарищи! Авдеева права, признала честно, что не может поручиться за следствие. А ты, Зуев, зря ее лягнул. Предлагаю телеграфировать в Ленинград областному прокурору. Пусть вышлет следователя, да поскорее. Зазорного в этом ничего нет.
Я выехал через Псков в Славковский район. Авдеева меня встретила радостно. Рассказала, что следствие идет пока туго. Арестованы по подозрению в убийстве три человека, все из соседней деревни. Их подозревает некий Иванов, с которым Спиридонова была близка. Прямых улик против них нет. Двое в ночь убийства не ночевали дома, но говорят, что ездили на базар в соседний район, за тридцать километров. Третий — хулиган, имеет две судимости. Мотивы пока неясны. Вообще дело темное.
Начальник районной милиции Зуев был растерян. Он доложил:
— Понимаете, улик мало. Но путаются они во времени. Один говорит, что выехал засветло, другой — что уже луна была. И потом — зачем они в чужой район на базар поехали? Районный наш центр ближе. Ну а третий, собственно говоря, личность известная и отпетая. Без него в районе ни одна поножовщина не проходит. Связан с преступным элементом, собственно говоря, и сам два раза судился.
— А чем доказана связь двух первых с третьим?
— А пока трудно сказать. Но все из одной деревни.
— А мотивы убийства?
— У Спиридоновой пропали полушубок и валенки. Может быть, для грабежа.
— Что же, по-вашему, из-за полушубка и валенок едут убивать в другую деревню?
— Собственно говоря, пока трудно сказать, мы ведь только начали следствие. Да вот во времени путаются. — Давайте поговорим с задержанными.
Мы начали допрос. Два крестьянина, немолодые испуганные люди, действительно давали путаные ответы. Они не могли толком объяснить, зачем поехали в другой район на базар, спорили о часе выезда из деревни. Но именно в этой путанице и была своя, житейская правда. Люди редко дают точные показания, когда речь идет о времени или о зрительных впечатлениях. Поездка на базар тоже не могла служить решающей уликой.
«Известная и отпетая личность», наоборот, держалась спокойно. Молодой еще парень, но с лицом, уже опухшим от пьянства, он довольно бойко отвечал на вопросы.
Парень говорил просто, не задумывался, отвечал сразу и даже с некоторой веселостью. Не чувствовалось в нем внутреннего напряжения, которое неизбежно бывает при допросе у человека, желающего что-то скрыть и боящегося разоблачения.
Вечером мы собрались у секретаря райкома Федотова. Авдеева молча сидела в стороне, Зуев сосредоточенно пыхтел трубкой.
— Ну, каковы ваши первые впечатления? — опросил Федотов.
— Говоря откровенно, не верю я, что убийство совершили те лица, которые задержаны. Да и зачем им было убивать Спиридонову? Улик против них почти нет, а те, которые имеются, явно незначительны, случайны. Мне кажется, что убийц надо искать в той деревне, где жила и работала Спиридонова. Но кто они — пока сказать нельзя. Завтра поедем на место, попробуем выяснить.
— Вам виднее, — произнес Федотов, — одно для меня ясно: убийство имеет политическую подкладку. Иначе быть не может. Спиридонова слишком активно работала, чтобы не нажить себе врагов среди кулачья.
Было решено утром выехать в Загубниково. Со мной вызвался поехать Зуев. Авдееву решили оставить в районе. Попрощавшись с Федотовым, мы вышли из дома райкома.
Была морозная мартовская ночь. На пустынной улице редко встречались прохожие, снег поскрипывал под ногами, дышалось легко и привольно. Мы шли молча.
Вот убита Спиридонова, думал я. Нет пока никаких нитей для раскрытия дела. Даже нет определенной версии. Примерно только известно, когда и как она была убита. Но кто, зачем и почему это сделал? Спиридонова своей советской работой была ненавистна кулацкой прослойке Загубникова. Но кто из этих кулаков и как организовал убийство? Кулаки сами редко идут на это. Они предпочитают действовать через кого-то, умело направляя со стороны удар, используя личные мотивы, бытовые раздоры, низкий моральный уровень исполнителя, его зависимость и т. п.
Кого в данном случае могли использовать? Спиридонова была одинокой женщиной, но она была близка с Ивановым. Он старательно отводил следствие от своей деревни. Иванов почему-то первый и так настойчиво высказал подозрение относительно задержанных, которые, видимо, невиновны.
Чем больше я обдумывал все детали этого дела, тем чаще всплывал Иванов. У меня смутно, но все более уверенно складывались подозрения о его причастности к убийству. И я решил тщательно проверить в деревне личность и роль этого человека.
Было совсем светло, когда мы подъехали к Загубникову. Деревня была уже на ногах. На наши сани смотрели с нескрываемым любопытством, видимо догадываясь, кто мы и зачем приехали.
Избушка Спиридоновой стояла на откосе, недалеко от проруби. Когда мы осмотрели внутри избу, то не нашли ничего, указывающего на следы борьбы или крови. После осмотра приступили к допросам свидетелей.
Выяснилось, что отношения Спиридоновой и Иванова не были секретом для деревни. Иванов происходил из зажиточной середняцкой семьи. Тридцатилетний парень, он долго жил в городе и в прошлом году вернулся в Загубниково, где поселился в семье. Вскоре сошелся со Спиридоновой, но продолжал жить дома.
Иванова в деревне не было: он поехал в районный центр.
Мы направились к его избе. По дороге нам встретилась высокая краснощекая девушка с подойником, полным молока. Мы спросили ее, как пройти в избу Иванова.
— Вам, товарищи, Володьку нужно? Так его нет, он уехал. Я сестра его.
— Как вас зовут?
— Маруся. А вам зачем?
— Ну, пойдем в избу, поговорим.
Мы пошли в избу. Никого, кроме Маруси, не было.
Девушка нервно мяла в руках передник и не поднимала глаз.
— Маруся, что вы так волнуетесь? — спросил я. — Мы ведь не кусаемся. Вы расскажите нам, где вещи лежат.
Девушка вздрогнула и испуганно спросила:
— Какие вещи?
Я умышленно свел на нет острый, видимо, для нее вопрос.
— Да брата вашего вещи, полушубок его.
— Полушубок брата, — протянула Маруся и с облегчением вздохнула, — новый полушубок на нем одет, а старый вон в сенях висит.
Было ясно, что девушку испугал вопрос о вещах, но что этот испуг прошел, как только выяснилось, что спрашивают о вещах брата.
Все прояснилось. Мною овладело то особое, радостное и уверенное чувство, знакомое каждому следователю, когда он находит правильный след.
— А почему, Маруся, — продолжал я, — вы даже не спросите, зачем нам полушубок, кто мы, зачем приехали? Маруся опять потупилась и медленно произнесла:
— Знаю. Вы ведь насчет Спиридоновой приехали. А полушубок мало ли зачем; вот он, полушубок-то.
И она охотно пошла в сени за полушубком. Я остановил ее.
— Не надо, Маруся нам полушубка. И вообще нам вещей вашего брата не надо. Другие вещи нам нужны. Спиридоновой вещи. Где они?
Девушка залилась краской, закусила нижнюю губу и, запинаясь, произнесла:
— Что вы меня в дело путаете? Мне разве нужны вещи-то? Я тут ни при чем. У меня свои вещи не хуже. Я за брата не в ответе.
Она начала рыдать, выкрикивая отдельные полусвязные фразы, смысл которых сводился к тому, что она неповинна в убийстве, но о вещах знает.
Мы стали ее успокаивать. Придя в себя, все еще всхлипывая, Маруся рассказала, что накануне обнаружения трупа Спиридоновой она проснулась поздно ночью и слышала, как пришли с улицы брат и его приятель Сенька Трофимов. Они о чем-то шептались. Девушке стало интересно, и она прислушалась. Говорили о каких-то вещах, где их спрятать. Володька предложил зарыть в овине.
Потом ушли а через некоторое время вернулся Володька и лег спать.
— Утром, как нашли Надежду в проруби, — продолжала Маруся, — так я догадалась, чье это дело. Побежала в овин, а там Надеждин полушубок и валенки спрятаны. Я вечером и говорю Володьке, а он как закричит, весь красный стал: «Не твое, говорит, дура, это дело! Молчи — и точка, а то я тебе дам путевку на тот свет!»
Вместе с Марусей мы пошли в овин и нашли вещи. Они были зарыты в соломе. К вечеру приехали Иванов и Трофимов. Оба были навеселе. Увидев в избе Зуева, Иванов подошел и бойко заговорил:
— Здравствуйте, начальство. Мы к вам, а вы к нам. Так оно и получается. Я все насчет дела езжу. Так что сведения собираю. Прямо в помощники к вам записался.
Высокий плечистый парень, он прямо смотрел в глаза, широко улыбаясь губастым ртом. От смеха глаза сощурились и бегали, как мышата, юрко и беспокойно.
— Бросьте, Иванов, дурака валять! — перебил его я. — Все уже выяснено. Вы арестованы как убийца Спиридоновой. Извольте рассказывать, кто вас подослал, зачем вы это сделали.
— Меня, — зарычал Иванов, — меня подозреваете?! Я, как собака, все узнаю, помогаю — и меня же за шкуру?! Здорово живешь, дорогие товарищи! Не выйдет это.
Мы молча показали ему вещи. Иванов сразу сник, отвернулся и тихо произнес:
— Признаюсь. Наше дело. Мы убили. По пьяной лавочке. Напоили, как дураков, и послали. Теперь все скажу.
Уже к утру закончился допрос Иванова и Трофимова. Оба признались, что убили Спиридонову. В эту ночь их пригласил к себе загубниковский кулак Заливанов. Немолодой уже, грузный человек, он долго угощал парней водкой и все соболезновал Иванову:
— Выходит, Володенька, связался ты со старой бабой. Ни тебе погулять, ни жениться. Не даст тебе старая ведьма ходу. А ведь парень ты, прямо будем говорить, один на деревне. Любая девка пойдет — не нарадуется. Да и моя Фенька хоть сейчас. А девка-то что груздочек!
Он долго еще говорил. И выходило, что вся жизнь Иванова потеряна и сломана из-за связи со Спиридоновой, которая действительно уже надоела Иванову. Он хмелел, слушая злобные, обжигающие слова, и когда Заливанов заговорил, что «надо убрать Надьку» и все «обчество скажет спасибо, хоть и не будет знать, кто убил», он поднялся и вместе с Сенькой пошел к Спиридоновой. Деревня мирно спала. Снег поскрипывал под ногами, и было морозно, но Иванову казалось, что ему жарко, дышал он хрипло и тяжело.
Они долго стучали в дверь. Наконец, разбуженная Надежда подошла и спросила, кто там.
— Открывай, я это.
— Володя! — обрадовано воскликнула Надежда. — Отворю, сейчас отворю. Да ты никак опять пьян-то! Сбился ты, Володя, с пути…
Спиридонова любила Иванова. У нее не было детей, и в отношениях Надежды к Иванову было что-то материнское. Надежда прощала Иванову его пьянство, нередкую грубость, лодырничество. Она понимала, что не пара Иванову, который был значительно моложе ее, и поэтому не настаивала на браке с ним, мирилась, с раздельной жизнью.
Когда Надежда отворила дверь, Иванов и Трофимов вошли в избу. Володька сел на лавку и растерянно замолчал. Сенька выжидательно сопел.
— Володенька, опять-то ты не в себе. Все пьешь, не бросишь. Ведь сколько раз говорили.
— Да брось нудить, старая ведьма, — грубо перебил ее Володька, — надоела ты мне.
И, чувствуя за спиной одобрительное сопение Сеньки, он резко встал, подошел к Надежде и, схватив ее за горло, бросил на лавку и стал душить. Надежда тихо вскрикнула, забилась в его руках, но не могла вырваться. Сенька подбежал и начал помогать Иванову. Они вдвоем навалились на нее, глаза Надежды все шире открывались, она уже хрипела, перестала биться, умолкла.
В избе было тихо, за окном потрескивал разошедшийся мороз.
НОЧНОЙ ПАЦИЕНТ
Летом 1928 года в Ленинграде начались ограбления булочных. Они совершались довольно регулярно — через каждые два-три дня — и отличались исключительной дерзостью и совершенно одинаковыми подробностями.
Минут за десять до закрытия, то есть около одиннадцати часов вечера, в очередную булочную врывались трое вооруженных молодых людей. Они закрывали за собой дверь, и старший из них давал команду:
— Ложись на пол, лицом вниз! Граждане, прошу не задерживаться…
Продавцы, кассирша и поздние покупатели довольно организованно выполняли это распоряжение.
Тогда грабители забирали выручку и уходили, оставив в кассе следующего содержания расписку:
«Расписка. Взято взаимообразно в кассе некоторое количество денежных знаков. Точная сумма будет сообщена кассиршей после подсчета».
Меры, принятые уголовным розыском к обнаружению преступников, не давали никаких результатов. Ограбления булочных продолжались.
Тогда было решено организовать массовую засаду во всех булочных города, с тем, чтобы в каждой из них дежурили под видом продавцов агенты уголовного розыска.
Так и было сделано, и в назначенный день во всех булочных города рядом с настоящими продавцами стояли за прилавком и отпускали хлебные изделия молодые люди в белых халатах.
В этот день грабители не пришли. Решили засаду оставить и на следующий день.
Ровно без десяти минут одиннадцать в булочной на углу Бассейной и Знаменской улиц с шумом хлопнула входная дверь, и в магазин вошли трое молодых людей, вооруженных наганами.
— Руки вверх! — скомандовал один из них, — Ложись на пол, лицом вниз!…
— Руки вверх! — ответили «продавцы», также обнажив оружие. — Руки вверх, стрелять будем!…
В этот час в булочной находились две поздние покупательницы, грузные пожилые дамы.
Схватив испуганных женщин, грабители выставили их впереди себя, понимая, что сотрудники угрозыска при этих условиях стрелять не будут. Сами же они за спиной остолбеневших женщин открыли стрельбу по прилавку. Один из агентов, перепрыгнув через прилавок, бросился к ним, но выстрелом в упор был убит наповал. Кто-то из грабителей начал стрелять в люстру, висевшую в булочной. Электрические лампы лопались одна за другой. Стало темно. И, воспользовавшись этим, грабители выбежали из булочной.
Агенты выстрелили им вслед. Один из грабителей был ранен в руку, — револьвер выпал из нее, и он со стоном схватился за раненую кисть руки. Это успели заметить.
Выбежав на улицу, грабители разбежались в разные стороны и скрылись.
Было ровно одиннадцать часов вечера.
К часу ночи все многочисленные больницы, поликлиники, амбулатории и лечебницы города, а также все частно практикующие врачи были официально уведомлены о том, что при перестрелке с агентами угрозыска был ранен в руку и потом бежал опасный преступник, грабитель и убийца.
«В том случае, — говорилось в этом уведомлении, — если к вам обратится за врачебной помощью человек с огнестрельным ранением руки, ваш гражданский долг немедленно сообщить об этом дежурному угрозыска или ближайшему постовому милиционеру и оказать им содействие в задержании преступника».
И это уведомление, как и тысячи других врачей, прочел и расписался в том, что прочел, хирург больницы имени 25 Октября, доктор Арзуманян.
В первом часу ночи, сдав дежурство по больнице, доктор Арзуманян направился домой. Он жил недалеко от больницы — на улице Восстания, и потому пошел пешком.
Дома его уже поджидала жена. Супруги были недавно женаты, очень любили друг друга, и Вера Ивановна, как звали жену доктора, никогда не ложилась спать, не дождавшись мужа.
За чаем доктор рассказал жене о срочном уведомлении угрозыска, полученном в больнице.
— Очевидно, произошло что-то серьезное, — продолжал доктор, с аппетитом похрустывая еще теплым печеньем, изготовленным лично Верой Ивановной, — надо полагать… э-э-э… надо полагать, мой дружок, что речь идет о серьезном преступнике. Иначе не стали бы поднимать такой шум… И, кроме того, этот мерзавец кого-то убил…
— Скажи, милый, — вдруг спросила Вера Ивановна, — ну представь себе, что вдруг… вдруг этот человек явился бы к тебе… Что бы ты сделал? Как бы ты поступил?…
Доктор Арзуманян улыбнулся и нежно посмотрел на жену.
— Ты задаешь странный вопрос, Верочка, — ответил он, глядя ей прямо в глаза, — разве ты меня не знаешь? Я просто схватил бы этого негодяя за шиворот и потащил бы его в милицию… Однако, — добавил он, взглянув на часы, — пора спать…
Около трех часов ночи доктор проснулся. Кто-то звонил. Недоумевая, кто бы это мог в такое время прийти, он накинул халат и пошел отворять. Когда, сняв цепочку, доктор распахнул дверь, он очутился лицом к лицу с высоким молодым человеком, стоявшим на площадке, лестницы.
— Простите, ради бога, — вежливо сказал неизвестный, — но, судя по этой карточке, вы врач?
— Да, — ответил доктор, — я хирург…
Но, сказав это, он почувствовал, что дальше ему говорить уже трудно. Дело в том, что, несмотря на полумрак, царивший в передней, он ясно увидел, что правая рука человека, стоявшего перед ним, забинтована. Доктора охватил такой страх, что он пошатнулся и прислонился к стене, чтобы не упасть.
— Так вот, доктор, — спокойно продолжал неизвестный, — я еще раз приношу свои извинения, но прошу оказать мне помощь. Дело в том, что я легко ранен в руку… Такая, знаете ли, романтическая история. Любимая женщина, муж… Одним словом, вы понимаете…
— Э-э-э… Очень рад… То есть я хотел сказать… Одним словом, — проблеял доктор, сам не понимая, что он говорит, — очень приятно…э-э-э…
— Мерси, — галантно поклонился неизвестный и, не слушая дальнейшего лепета доктора, легонько отодвинул его плечом в сторону и, войдя в переднюю, аккуратно запер за собою дверь.
— Где ваш кабинет?
Доктор неуверенно поплелся в кабинет, молодой человек следовал за ним.
— Должен вам сказать, — говорил он, — что я, конечно, мог бы обратиться в любую поликлинику или амбулаторию. Но, сами понимаете, огнестрельное ранение. Начнутся расспросы, милиция… Может всплыть имя этой женщины, может пострадать ее честь… Я и решил в частном порядке… Вы меня понимаете, доктор?
— Безусловно… что за вопрос, — поспешил согласиться Арзуманян, понемногу приходя в себя.
Вера Ивановна проснулась, услышав голоса в кабинете мужа. Она оделась, вышла в коридор и вызвала мужа.
— Что случилось, — спросила Вера Ивановна, — кто это там?
— Пришел этот бандит, — запинаясь, пролепетал Арзуманян.
Вера Ивановна побледнела. Она увидела, что муж взволнован еще больше, чем она. Это почему-то заставило ее успокоиться.
— Иди к нему, — прошептала она, — а я спущусь к управдому и оттуда позвоню в милицию…
Арзуманян тускло посмотрел на жену; потом он больно сжал ей руку и сердито прошептал:
— Ты сошла с ума! Какое нам дело? Не говори глупостей. Если мы его выдадим, то завтра его сообщники зарежут нас, как цыплят. Ты не знаешь этих уголовников…
И, резко повернувшись, он ушел в кабинет. Ночной пациент встретил его подозрительным взглядом.
— С кем это вы там шептались? — спросил он, глядя на врача в упор. — Смотрите, доктор…
— Жена проснулась, — виновато произнес Арзуманян. — Я ее успокоил…
И доктор промыл рану в руке этого человека, извлек пулю, застрявшую в мякоти, и привычно сделал перевязку.
— Ну, вот и все, — оказал он, — но если появится опухоль, краснота или температура, то немедленно обратитесь к врачу. Заражение не исключено.
— Благодарю вас, — снова переходя на любезный тон, мягко произнес неизвестный, — тогда я снова зайду к вам. Вот…
И он протянул доктору деньги. Арзуманян покорно их принял.
Как только захлопнулась дверь за ночным пациентом, началась первая семейная ссора. Вера Ивановна плакала, кричала на мужа, упрекала его в трусости. Доктор пытался оправдываться, но это еще больше раздражало Веру Ивановну.
— Стыдись, — говорила она, — ты вел себя, как шкурник, как обыватель, как трус!… Мне горько, что у меня такой муж!… Как ты мог так поступить?…
Уже на рассвете супруги примирились. Доктор клятвенно обещал жене, что если этот человек вторично явится («А он явится, безусловно явится, вот увидишь», — говорил доктор), то он его задержит.
— Я не струсил, — продолжал Арзуманян, — честное слово, нет… Но это было так неожиданно, что я растерялся, пойми, Верочка…
На следующий день вечером неизвестный снова пришел. На этот раз дверь отворила Вера Ивановна.
— Простите, доктор дома? — спросил он. Вера Ивановна взглянула на его перевязанную руку и поняла, кто пришел.
— Дома, — сказала она, — пройдите. И проводила пришедшего в кабинет мужа. Потом она прошла в столовую и тихо сказала Арзуманяну:
— Он пришел. Я пойду к управдому. Хорошо?
— Не надо, — ответил Арзуманян. — Я сам после перевязки выйду с ним на улицу и сдам его постовому милиционеру.
Вера Ивановна согласилась. Доктор прошел в кабинет, снова промыл рану, сделал перевязку и вместе с пациентом вышел из квартиры. Вера Ивановна, волнуясь, ожидала его возвращения. Наконец, он пришел, открыв своим ключом дверь.
— Ну? — спросила она.
— Видишь ли, — промямлил Арзуманян, — дело в том… Ах, как не повезло… Одним словом, постового милиционера почему-то не оказалось на месте. Наверно, ушел куда-нибудь…
И доктор начал старательно чистить воротник своего пальто. Впрочем, в этом не было никакой нужды; воротник был абсолютно чист.
Утром, придя на работу, я увидел в приемной молодую женщину. Она подошла ко мне.
— Мне нужно к старшему следователю, — сказала она.
— Я вас слушаю. Пройдемте в кабинет. В кабинете женщина сообщила, что ее фамилия Арзуманян, что муж ее врач и что явилась она в прокуратуру для того, чтобы заявить о преступных действиях мужа, который из трусости фактически стал укрывателем преступника.
И Вера Ивановна подробно рассказала обо всем, что произошло за эти два дня.
— Я пришла к вам, ничего не сказав мужу, — продолжала она. — Дело в том, что этот человек может прийти к мужу еще раз. Поэтому есть, мне кажется, возможность задержать его.
Я записал все, что рассказала Вера Ивановна. Она подписала протокол.
— Скажите, — спросила ока, уже уходя, — что грозит моему мужу?… Я понимаю, что он виноват, но… но мне все-таки жаль его…
В тот же вечер человек с перевязанной правой рукой был задержан в подъезде дома, в котором жил доктор Арзуманян. Он в третий раз направлялся к врачу.
Этот человек оказался матерым бандитом, имеющим много судимостей. Фамилия его была — Тимофеев, кличка — «Ленька Береговой». Он выдал двух своих сообщников, вместе с которыми совершал ограбления булочных.
Все они были преданы суду. По этому делу был также, привлечен к ответственности доктор Арзуманян. Все в зале насторожились, когда председательствующий произнес:
— Товарищ комендант, пригласите свидетельницу Веру Ивановну Арзуманян.
В зале зашептались. Подсудимый Арзуманян отвернулся от публики, насмешливо его рассматривавшей. Ленька Береговой уставился на дверь, откуда должна была войти свидетельница. Защитник Арзуманяна торопливо что-то записывал. Прокурор сдержанно улыбался.
Вошла Вера Ивановна. Она спокойно стала перед судом, но по тому, как она нервно мяла перчатку и часто переминалась с ноги на ногу, можно было понять, что она взволнована.
— Ваша фамилия, имя, отчество? — привычно спросил председательствующий. — Сколько вам лет?
— Вера Ивановна Арзуманян. Двадцать три года, — коротко ответила свидетельница. — Подсудимый Арзуманян ваш муж?
— Да.
— Объясните суду, что побудило, вас подать заявление в прокуратуру?
— Я ведь советская женщина, — просто ответила Вера Ивановна.
— Суду все ясно, вопросов нет, — заключил председательствующий.
ЧУЖИЕ В ТУНДРЕ
Товарный поезд вышел из Мурманска в первом часу ночи. Стоя в тамбуре заднего вагона, кондуктор Ивановский ежился. Ночь была холодная. Залив и город уже давно остались за поворотом, и поезд пробирался по правому берегу Колы, за которой начиналась пустынная, молчаливая тундра.
Миновали станцию Шонгуй — первую остановку после Мурманска. Когда снова затарахтели колеса и потянулись молчаливые, пустынные пространства, Ивановский туго набил трубку, присел в тамбуре и закурил. Кольца дыма тепло синели, расходились и таяли в прозрачных сумерках полярной ночи.
Паровоз засвистел — поезд проходил мимо двадцать пятого барака ремонтных рабочих службы пути, одиноко расположенного на перегоне Шонгуй — Кола. Барак стоял на пригорке, над железнодорожным полотном, и Ивановский привычно поднял взгляд вверх, на окна барака, где жили его знакомые. Он взглянул и вздрогнул. В среднем окне было ясно видно чужое, незнакомое мужское лицо. Неизвестный смотрел на поезд, прижавшись лицом к стеклу, и когда его глаза встретились с взглядом Ивановского, он стал тихо отходить в глубину комбаты, заметно прикрывая лицо рукою.
Ивановскому стало не по себе. Он хорошо знал обитателей барака и ни разу не видел этого человека.
Когда поезд подошел к Коле, Ивановский рассказал о странном человеке дежурному по станции. Сонный, сердитый дежурный неохотно выслушал Ивановского и, сплевывая в сторону, вяло сказал:
— Ну и чертовщина тебе, старому дураку, мерещится?
— Я не баба, чтобы мне мерещилось, — обидчиво ответил Ивановский. — Не первый год по дороге шныряю. Но только попомни, что неладное что-то в двадцать пятом. Ни к чему в такое время там чужому быть.
В это время машинист дал сигнал, и поезд тихо тронулся. Вскочив на ступеньку заднего вагона, Ивановский на прощанье крикнул:
— Смотри, Сергеевич, чую, что неладное у ремонтников!
Но последние слова его были заглушены стуком колес и тарахтением паровоза, развивавшего пары.
Дежурный проводил глазами хвост поезда и, стоя на платформе, оглянулся. Все кругом было знакомо и привычно. Тихо дышала морозная ночь. Вправо от станционного домика спал крохотный деревянный городок Кола. Городок был древний, еще времен господина великого Новгорода, и, пожалуй, мало изменился с тех пор. Маленькие бревенчатые домики были окружены тыном, наивно торчал деревянный купол покосившейся церквушки. Влево, за Колу, уходила безбрежная тундра, а впереди тускло поблескивала рельсовая колея.
Ночь была белая, холодная. Это была ночь под первое мая 1930 года.
«Ленинградскому областному прокурору.
Мурманска.
Восьмое мая.
Сего второго мая дорожный мастер Воронин, объезжая участок пути, обнаружил в двадцать пятом бараке перегоне Шонгуй — Кола одиннадцать трупов убитых рабочих, проживающих в бараке. Все зарублены топором. Четверо из проживавших рабочих исчезли. Прошу немедленно командировать старшего следователя.
Окружной прокурор Денисов».
Прокурор области ходил по кабинету, заложив за спину руки (привычка, приобретенная за годы сидения в царской тюрьме), и говорил мне и старшему помощнику Владимирову, бывшему наборщику, худощавому человеку с близорукими, застенчивыми глазами:
— Шейнину выехать сегодня же. Следствие поведет междуведомственная бригада: наш работник, работник ГПУ, работник угрозыска. Дело тяжелое, а главное, его надо раскрыть как можно скорее, О ходе следствия нужно телеграфировать ежедневно. Делом заинтересовался товарищ Киров, просил информировать его о ходе следствия.
В тот же вечер скорый поезд «Полярная стрела» мчал нас к Мурманску. Кроме меня, выехала группа сотрудников ленинградского транспортного отдела ГПУ.
За Петрозаводском резко изменилась погода. Мы выехали из весеннего, солнечного Ленинграда, где еще не отзвучали майские песни и пляски, а здесь была суровая северная зима. За Кемью и дальше был снег, замерзшие реки, мрачные леса и скалы.
Мурманск тяжело переживал это убийство. Обсуждались и создавались различные предположения и догадки. Местные следственные власти тоже не пришли к каким-либо определенным выводам. Часть местных работников считала, что убийство совершено теми четырьмя рабочими, которые исчезли из барака.
Кто, когда, почему, при каких обстоятельствах — вот вопросы, волновавшие в те дни Кольский полуостров, Карелию и Ленинград.
В первый же день после приезда был произведен тщательный осмотр места преступления.
Барак, в котором жили убитые, помещался на пригорке, над железнодорожным полотном. Ниже, под насыпью, протекала река Кола, еще стоявшая в это время. Во дворе находились два небольших амбара. Трупы убитых были сложены в этих амбарах: мужчины в одном, женщины в другом. Каждый труп был прикрыт мешком.
Пятна и брызги крови и мозгового вещества на стенках амбара указывали, что умерщвление производилось тут же. Убивали колуном, которым, судя по повреждениям, наносили, удары по черепу. Были обнаружены трупы рабочих Лещинского, Семенова, Вагина, Соловьева, Новикова и женщин Новиковой и Лещинской. Кроме того, здесь были трупы колониста Заборщикова, его жены, их ребенка и их жилички Зайкиной. Заборщиковы и Зайкина жили на хуторе на расстоянии нескольких километров от барака, и было непонятно, как они тут очутились.
Из живших в бараке рабочих отсутствовали: Суворов Дмитрий, Суворов Василий, Семенов Михаил и Новиков Михаил. Двое последних были родственниками некоторых из убитых.
В комнатах барака следов борьбы и крови не было, если не считать выбитого стекла в одном из окон. На полу был обнаружен бланк анкеты для вступления в ВКП(б), на финском языке. Было странно, как попал этот бланк сюда, где все рабочие были русские.
Как было установлено показаниями родственников убитых, из барака были взяты некоторые предметы домашнего обихода: ножи, чайник, балалайка, котелок, несколько тулупов, шапок и некоторое количество продуктов.
Барак стоял одиноко. Кругом на несколько километров не было ни жилья, ни становища. Глухомань. Изредка мимо проходили поезда. И снова наступала сонная зимняя тишина тундры, сурового безлесья, ненаселенных просторов.
Мы молча производили осмотр. Как-то давили эта тишина, эта суровая обстановка, страшное злодеяние, здесь совершенное. Закончив осмотр, мы не пришли к каким-либо определенным выводам. Кроме бланка на финском языке, никаких следов убийц не было. С другой стороны, была маловероятна версия, что убийцами являются четверо скрывшихся рабочих. Решили осмотреть окрестности барака, и, прежде всего, возник вопрос, где брали рабочие воду. Протоптанная от барака к реке Коле тропинка отвечала на этот вопрос. Мы спустились к реке, и сразу нашли прорубь. Но — странное дело — она была сверху замаскирована снегом и полита водой для обледенения. Видимо, кто-то умышленно хотел скрыть следы проруби. Это была важная нить. Тут же, не уезжая из барака, мы вызвали из Мурманского торгового порта водолазов, которые вскоре приехали. Одного из них мы направили для обследования дна. Вскоре он дернул сигнальную веревку. Оказалось, что подо льдом водолаз нашел четыре мужских трупа, которые и были извлечены из реки. Это оказались трупы четырех «исчезнувших» рабочих, которые были убиты тем же способом, что и остальные рабочие барака. На голове каждого из них был мешок, надетый вроде капюшона, а к ногам, в качестве грузила, привязан метровый отрезок рельса. Стало ясно, что убийцы, для того чтобы направить следствие по ложному пути, спустили четыре трупа под лед, причем, чтобы не испачкать кровью снег по дороге от барака к проруби, завернули их изрубленные головы в мешки.
Но не только трупы были найдены подо льдом. Водолазы извлекли оттуда также серый бушлат и старую шинель кавалерийского образца с пометкой: «Харьков. 1924 г.». Эта шинель имела еще одну странную особенность: вся спина ее была прожжена. Огромная дыра зияла, как черная рана, и края ее были рыжие, обуглившиеся. Видимо, один из убийц был одет в эту шинель, и так как она была слишком «пометлива», он решил от нее избавиться.
А в Мурманске нас ждали любопытные новости: в этот день в местный угрозыск приехали из тундры на собаках два лопаря — Ванюто и Дмитриев, рассказавшие о странном происшествии, которое с ними приключилось второго мая.
Они ехали днем в тундре, направляясь в Кильдинский погост. Привыкшие к безмолвию и пустынности тундры, лопари километрах в пятнадцати от Мурманска почуяли запах дыма; не каждый день в тундре случаются встречи, и лопари повернули на этот запад. Вскоре они подъехали и увидели трех мужчин, сидевших у разведенного костра. Неизвестные жарили баранью тушу. По обычаю тундры, лопари подошли к ним и вежливо приветствовали неизвестных, спросив, не нужна ли в чем-либо их помощь.
В ответ неизвестные, выхватив три обреза, навели их на лопарей и приказали ехать к городу Коле. Лопари подчинились, и неизвестные, погрузив свой багаж в сани и связав лопарям руки на спине, решили ехать. Затем они посовещались между собою и привязали Ванюто к дереву, а Дмитриева заставили ехать с ними в качестве проводника.
По дороге в Колу они встретили двух других лопарей и, сидя в санях, стали играть на балалайках, чтобы не вызвать подозрений. Около города неизвестные вылезли из саней и пошли пешком, а Дмитриева развязали и приказали ему ехать обратно. Дмитриев вернулся в тундру, развязал Ванюто, и они поехали в погост. Через несколько дней, будучи в Мурманске, лопари зашли в угрозыск и рассказали о случившемся.
— Это люди не из тундры, это чужие люди, — уверенно сказали они. — Люди из тундры так не поступают.
«Чужие» люди были значительно западнее, на станции Апатиты, там, где теперь новый социалистический город Хибиногорск. Тогда там только еще начиналась стройка, в которой принимали участие и заключенные.
В тот же вечер один из нашей бригады выехал с прожженной шинелью на станцию Апатиты.
А наутро следующего дня мы получили телеграмму:
«Шинель категорически опознана заключенными Апатитах. Она принадлежит заключенному Мишину-Гурову, осужденному киевским окрсудом на десять лет за бандитизм. Мишин-Гуров бежал совместно с другими заключенными — Грищенко, Мошавцем и Болдашовым — девятнадцатого апреля сего года. Выезжаю Мурманск личными делами, фотографиями всех».
Очередное совещание в вагоне. Дым от бесчисленного количества выкуренных папирос, споры, версии, вопросы, предположения, разгоряченные лица.
Мы уже знаем фамилии убийц. Но где они достали оружие? Где они теперь?
Трупы были обнаружены восьмого мая. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, убийство произошло в ночь на первое мая (недаром екнуло сердце старика Ивановского, увидевшего в окне барака чужое лицо!). Побег совершен девятнадцатого апреля. Где были, чем питались убийцы одиннадцать суток?.
Начинаем проверять журнал происшествий, зарегистрированных за эти дни на участке Апатиты — Мурманск. И сразу наталкиваемся на короткую, сухую запись:
«Двадцатого апреля в 12 часов ночи машинистом товарного поезда заявлено, что горит дом колониста Вянске, находящийся в полосе отчуждения, в трех километрах от станции Лопарская. Высланная на место пожарная команда обнаружила пепелище сгоревшего дома и трупы сгоревших жены Вянске и трех ее детей. Сам Вянске находился на лесозаготовках».
Выясняем, что местные власти производили расследование по поводу пожара, пришли к заключению, что он возник «от несчастного случая», и дело «дальнейшим производством» прекратили.
Всей бригадой едем на пепелище и находим: в куче пепла три спиленных дула от винтовок, в несгоревшем сарае — шкуру от освежеванного барана и синие очки. Вспоминаем о загадочном бланке, найденном в двадцать пятом бараке, и узнаем, что эти бланки могли быть в доме Вянске — члена ВКП(б), бывшего секретаря финской национальной ячейки партии.
И все становится ясным. Бежавшие бандиты забрались в дом Вянске, где удушили жену Вянске и троих детей. Из трех его винтовок (Вянске показал, что у него в доме были три винтовки) сделали три обреза, дом и трупы сожгли, чтобы уничтожить следы преступления. Запаслись мясом на дорогу и направились дальше, к Мурманску.
В ночь на первое мая бандиты проникли в барак и убили рабочих, выводя по одному в амбар. Это устанавливалось расположением трупов, каждый из которых был переложен старым мешком. В бараке случайно обронили один из бланков, зачем-то захваченных с собою с хутора Вянске.
Весь следующий день мы передавали по телеграфу приметы и фамилии убийц для розыска и задержания.
Вот эти данные:
1. Мишин-Гуров Егор Васильевич, кулак, 1904 года рождения, осужден в 1929 году к 10 годам Киевским окрсудом за вооруженное ограбление.
2. Грищенко Григорий Федорович, 1903 года рождения. В 1929 году осужден Волынским окрсудом за вооруженное ограбление к расстрелу с заменой 10 годами.
3. Мошавец Захар Иванович, 1904 года рождения, из семьи махновца, осужден в 1929 году Киевским окрсудом за вооруженное ограбление к расстрелу с заменой 10 годами.
4. Болдашов Михаил Григорьевич, 1906 года рождения, кулак, осужден в 1929 году Борисоглебским окрсудом к 10 годам за вооруженное ограбление.
Через три дня пришла телеграмма, что в селе Грузском Киевского округа задержан Мошавец, при котором найдены документы одного из убитых рабочих.
Вслед за этим следственными органами в разных районах Союза были задержаны Мишин-Гуров и Болдашов.
Четвертого из них — Грищенко — задержать не удалось по той простой причине, что он сам был убит своими сообщниками.
Длинный, костлявый Мишин-Гуров, с лицом скопца и тяжелыми, как бы чугунными веками, на допросе рассказал мне:
— А напослед я вам про Грищенку расскажу. Слабого душевного сложения был человек. Сопля, а не бандит.
— Вы скажите, Мишин-Гуров, где он. Подробности потом, — перебил его я.
Мишин-Гуров закурил, мрачно задумался, а потом добавил:
— Когда меня в двадцать девятом году в Киеве в окружном судили за грабежи, я признанья не давал и даже своему защитнику, когда с глазу на глаз говорили, очки втер: дескать, нет, невиновен. Защитник был от казны, толстый такой, с рыжей бороденкой, при золотых часах. И очки носил золотые. Добрый был человек, вполне мне поверил и даже слезу смахнул — расстроился… А на суд вызвали свидетелей, которые мной ограблены были, и те, паразиты, нахально меня уличили.
А один такой злостный попался, что на суде на меня ногой топал, кричал и на вопрос судьи — точно ли меня опознает, — начал креститься и закричал: «Он, он, бандитская морда! Я его, злодея, до смерти не забуду!» Ну, тут мне очень даже стало обидно, что я такого жлоба живым оставил и даже тогда, когда его грабил, пальцем не тронул; и я ему с места крикнул: «Если у вас совесть есть, скажите: хоть одну плюху я вам дал или деликатно обращался?» Конечно, тут все смеяться стали, потому что этими словами я признанье дал, а этот паразит ответил: «Обращенье действительно было деликатное, но все деньги, часы, чемодан забрал и даже штаны и сапоги снял». С тех пор большое зло у меня против ограбленных. Зарок себе дал — живыми не оставлять, чтобы потом свидетелей не было… Теперь про Грищенку. Когда мы из лагеря бежали, уговор был: свидетелей не оставлять. В бараке мы всех прикончили — сдержали слово. Ночью в тундре спали, у костра. Во сне Грищенко кричать начал, плакал, бился. Я и Мошавец разбудили Болдашова и смотрели, как парень мечется. А потом я сказал ребятам, что с таким компаньоном пропадешь: или выдаст, или во сне проболтается. Ну…
Тут Мишин-Гуров жадно затянулся папиросой и замолчал.
— Где труп? — коротко спросил я.
— Там же в тундре и зарыли, — так же коротко ответил Мишин-Гуров.
Поезд из Мурманска отходил вечером. Бродя по платформе, мы увидели одного из знакомых лопарей — Ванюто. Улыбаясь, он подошел к нам и с вежливостью, такой характерной для лопарей, спросил;
— Как с убийцами? Наши лопари очень интересуются. Зачем в тундре такие люди?
Мы поспешили обрадовать Ванюто и сообщили, что убийцы найдены, что они чужие, что они кулацкие выродки и бандиты.
— Мы видели много чужих, — серьезно ответил Ванюто. — Когда Мурманск захватили белые, мы приезжали на собаках из тундры, чтобы их посмотреть. Мы сразу поняли, что они чужие. Их прогнали, и пришли тоже чужие, но эти чужие были большевики, и они сразу стали своими. Мы, лопари, их знаем и любим. И у нас есть уже свои большевики-лопари. Чужие разные бывают. Но есть чужие — совсем чужие, на всю жизнь. И эти чужие никогда не становятся своими.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
Больше года тому назад скончался от брюшного тифа молодой талантливый инженер, технический директор одного из московских авиазаводов А. Я. Соскин. Общественность завода окружила родителей покойного вниманием, теплым сочувствием, оказала им моральную и материальную поддержку.
Завод возбудил ходатайство о пенсии, и это ходатайство было удовлетворено. Директор завода нашел и нужные слова соболезнования, и время для того, чтобы навестить растерявшихся от горя стариков.
И, может быть, единственным их утешением было сознание того, что они не так уж одиноки, что их горе разделяет многотысячный заводской коллектив, что их мальчик, их Алексей, сумел заслужить любовь и уважение своих товарищей по работе.
Но старики были окончательно ошеломлены и растроганы, когда по прошествии больше чем года после смерти их сына, в десятых числах декабря, к ним позвонил на квартиру секретарь Малого Совнаркома Белов. Назвав себя, Белов в самой чуткой и соболезнующей форме справился о самочувствии стариков и поинтересовался суммой определенной для них пенсии. Мать покойного расплакалась, сказала, что она удовлетворена и не ищет большего, но что никакая пенсия не может умалить ее горя. Белов в самых изысканных выражениях успокаивал старушку, говоря, что понимает ее состояние, а затем добавил:
— И все же, Елизавета Львовна, Совнарком считает, что назначенная вам пенсия недостаточна. Ценю вашу скромность, но не могу с вами согласиться. Нет, нет, не спорьте. Мы решили пересмотреть этот вопрос. Слишком велики заслуги покойного. Завтра я вам позвоню снова, пришлю за вами машину и попрошу вас приехать на заседание Совнаркома.
Весь вечер старики говорили о случившемся. Они были поражены и взволнованы и никак не могли понять, почему этот вопрос возник в Совнаркоме почти через полтора года после смерти сына и без всякого с их стороны заявления.
На следующий день внимательный товарищ Белов позвонил снова. Все тем же тихим грудным голосом поздоровался он с Елизаветой Львовной и сообщил, что заседание Малого Совнаркома перенесено.
— А пока, Елизавета Львовна, — продолжал он, — мы решили обеспечить вас продуктами. Дано указание нашей товарной базе об отпуске вам всего необходимого по твердым ценам. Пожалуйста, не стесняйтесь, не будьте слишком щепетильны. Из базы вам позвонят.
И действительно, через час позвонил какой-то человек и, назвавшись заведующим товарной базой Совнаркома, сообщил, что им получено распоряжение о снабжении семьи покойного всем необходимым. Он просил сделать заказ по телефону.
Заведующий оказался еще более предупредительным, чем Белов. Тут же, не отходя от телефона, он уговорил Елизавету Львовну сделать заказ на всевозможные продукты — от мяса до яиц включительно, тут же называл ей фантастически дешевые, сверхтвердые цены этих продуктов, и когда вконец растерявшаяся старушка заявила, что больше ей ничего не надо, то он с трогательной настойчивостью умолял ее заказать еще какао и шоколад.
Приняв заказ, он сказал, что скоро позвонит, когда и куда приехать за продуктами.
Однако после этого разговора у Елизаветы Львовны родились какие-то неясные сомнения. И, будучи близким мне человеком, она позвонила по телефону и рассказала мне о странных происшествиях последних дней, о Белове и о добряке заведующем, предлагающем какао и шоколад. Я сразу сказал ей, что здесь имеет место или очень циничное хулиганство, или афера, и решил выяснить это дело. Прежде всего, я позвонил в комиссию персональных пенсий СНК и сразу установил, что фамилия Белова пользуется там печальной популярностью. Мне рассказали, что в последнее время какой-то Белов звонит семьям погибших заслуженных товарищей, мистифицирует их, говорит от имени Совнаркома, обещает какие-то продукты по твердым ценам, и когда поверившие ему лица приходят в назначенное место за этими продуктами, то он просто-напросто отбирает у них деньги и скрывается.
Я позвонил заместителю начальника МУРа, который командировал на квартиру Соскиных сотрудника угрозыска. Как раз когда он приехал, снова раздался телефонный звонок и «заведующий базой» сообщил Елизавете Львовне, что продукты приготовлены и он просит ее приехать за ними в Андроньевский переулок, где будет ее поджидать у ворот такого-то дома.
Вместо Елизаветы Львовны поехал сотрудник, который быстро обнаружил в указанном месте элегантную фигуру пожилого человека, весьма задумчиво расхаживавшего у ворот условленного дома.
— Здравствуйте, Леонид Яковлевич, — приветливо обратился к нему сотрудник, — не меня ли вы поджидаете? Я тоже давно вас ищу.
Вечером я беседовал с задержанным жуликом, оказавшимся Леонидом Яковлевичем Иноземцевым, пятидесяти восьми лет, имеющим семь судимостей за мошенничество.
Передо мной сидел прилично одетый тихий человек. Его лицо дышало тем чрезмерным благородством, которое всегда возбуждает подозрение.
Венчик седых кудрей обрамлял его полысевшую голову, губы пресыщено отвисали, длинный унылый нос говорил о склонности к легкой грусти и размышлениям.
Леонид Яковлевич оказался человеком с солидным образованием, бывшим гусаром и лингвистом. Он свободно владел английским, немецким и французским языками. Но еще с юных лет его влекло к аферам.
— Странный у меня характер, — охотно рассказывал он мне, задумчиво выпячивая нижнюю губу, — не люблю, знаете, работать. Тянет к мошенничеству. Не буду скромничать, у меня немалые в сей области стаж и квалификация. Начал еще до революции, но тогда так, больше для забавы. Например, в тысяча девятьсот девятом году, будучи студентом Высшего технического училища, решил как-то летом пошутить. Звоню, знаете, приставу Петровско-Разумовской части Пшедецкому и говорю: «Господин пристав! С вами говорит комендант Большого Кремлевского дворца князь Одоевский-Маслов». — «Слушаю, ваше сиятельство. Рад служить». — «Господин пристав, предупреждаю вас: в Петровско-Разумовское поехал инкогнито великий князь Иван Константинович. Одет в студенческую тужурку. Вы там смотрите, чтобы не вышло чего — головой отвечаете!» — «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». Ну, и поехал. Только сошел с паровичка, за мной двое в штатском идут. Потом к ним присоединяется пристав. Иду, не обращаю внимания. Стал у пруда. Любуюсь природой. Подходит пристав. «Скажите, говорит, молодой человек, как нравится вам наша природа?» — «Да, отвечаю, нравится». — «А не угодно ли, спрашивает, на лодочке по пруду покататься? Уж очень вы мне как-то симпатичны!» — «Угодно, говорю, угодно». Сразу меня, знаете, посадили в лодку, пристав лично за весла взялся — и ну катать. Потом пригласил меня обедать. Пошел. Прекрасный, знаете, обед закатил. С шампанским. А потом и говорит: «Люблю, говорит, студентов, ваше высочество… люблю…» После обеда выстроил всех городовых, устроил в мою честь парад… Честное слово!!!
Мечтательно закатив глаза. Иноземцев продолжал рассказывать:
— …Да, знаете, было времечко!… Молод я был, любил позабавиться. Помню, раз, гусаром уже будучи, полковником нарядился. А потом и пошло. Революция. Тут еще у меня семейная драма произошла. Женат я был. Жена очень меня ревновала; я действительно кутилой был ужасным. И вот однажды пришел домой, а она вошла с бокалом, наполненным какой-то жидкостью… «Пью, говорит, Леонид Яковлевич, ваше здоровье!» И выпила залпом, Оказалось, что в бокале сулема. Через два часа скончалась… Ну, а потом совсем опустился. Пьянство, женщины, кутежи. Денег не стало. Решил применить юношеские способности…
— А откуда, Леонид Яковлевич, вы доставали адреса пенсионеров?
— Из газет. Аккуратно, знаете, делал вырезки похоронных объявлений. Если завком и ячейка сочувствие выразили, сейчас же вырезочку делаю. Полгода, год выжду и звоню. Большей частью удавалось. Человек у сорока деньги взял. Учел я, знаете, что население у нас привыкает к чуткости. Ну, вот и играл на этом…
И Леонид Яковлевич продолжал рассказывать. Он знал десятки способов обмана, вымогательства, шантажа. Он привозил посылки с фруктами от родственников из Крыма, обещал пенсии, советовал академикам вступать в какие-то группы по самозаготовкам, передавал приветы от родных я проделывал многое другое.
До трех тысяч в месяц зарабатывал предприимчивый гусар и сравнительно удачно ускользал от ответственности — всего семь судимостей после революции.
Продолжая рассказывать, этот представитель вымирающего племени «кукольников», шулеров и мошенников-профессионалов, этот последний из могикан с грустью произнес:
— …Но должен сказать вам прямо: стар уже стал, уставать начал. Пора на отдых. Да и тяжело работать стало. Публика не та, что прежде… Угрозыск покою не дает!
И он недружелюбно покосился на сидевшего тут же сотрудника МУРа.
РОМАНТИКИ
Несколько лет тому назад мне довелось побывать в одном из районов Воронежской области. Один из местных работников — H. — покончил с собою, бросившись под поезд. Месяца через два после его похорон в районе кто-то пустил слух, что Н. вовсе не покончил с собою и что в действительности он убит и уже мертвым был подложен под колеса поезда, чтобы таким путем симулировать самоубийство или несчастный случай.
Как всегда бывает в таких случаях, слух этот распространился быстро, расползаясь во все стороны и липко обрастая все новыми подробностями. В конце концов, об этом стало известно в Москве. Мне было поручено выехать на место и произвести расследование.
По обстоятельствам дела возникла необходимость в эксгумации, то есть извлечении из могилы и вскрытии трупа Н. Поэтому я пригласил П. С. Семеновского, одного из старейших и опытнейших московских судебных медиков, поехать вместе со мной.
Приехав в Воронеж, мы решили направиться дальше на машине. До района было около ста пятидесяти километров. В Воронеже нам сказали, что дорога хорошо укатана и снежных заносов нет. Мы рассчитали, что если выедем вечером, то к ночи попадем в район.
Стоял тихий зимний вечер, когда мы на маленьком «газике» выехали из Воронежа. В машине было тепло и уютно, дорога и в самом деле оказалась в хорошем состоянии, мы быстро мчались вперед.
Когда вместе сходятся следователь и судебный врач, а впереди у них дальняя ночная дорога, им всегда найдется, о чем поговорить.
Петр Сергеевич почти сорок лет провел в анатомическом театре, он был умным и вдумчивым свидетелем многих происшествий и человеческих драм и так много возился с покойниками, что начал отлично разбираться в психологии живых. Пока он рассказывал мне о многом, что ему довелось увидеть, услышать и разгадать за анатомическим столом, совсем стемнело и неожиданно разыгралась метель. Сразу потускневший свет автомобильных фар, казалось, был не в силах пробить плотную, упругую пелену густо падавшего снега. Дорогу стало заметать на глазах, и машина продвигалась вперед неуверенно, как бы ощупью. Хлопья снега бились, как белая мошкара, о переднее стекло машины. Впереди, по бокам и сзади неистово плясала, свистела и пела снежная пурга.
Я всегда любил зимнюю ночную дорогу. Я любил ездить в дровнях ясной морозной ночью, когда чуть потрескивает под полозьями снег, ласково пофыркивают лошаденки встречных крестьянских обозов и в небе стынет молчаливый месяц. Но вот уже нет и обоза и вокруг опять тишина, какая бывает только зимней ночью в пути и когда кажется, что нет и не будет конца этим молчаливым снегам, и этой белой дороге, и этому звездному ночному небу. Тогда как-то особенно прозрачно бегут мысли, воспоминания возникают одно за другим, и, улыбнувшись тому, что давно уже пережито и почти забыто, с любопытством пытаешься заглянуть вперед.
Но совсем другое дело быть застигнутым метелью, ночью в незнакомой местности, когда машина вязнет в снегу и контуры дороги начисто стирает, как резинкой, снежная вьюга.
Мы остановились и начали совещаться. Шофер предложил переждать, но, взглянув на небо, мы поняли, что это бесполезно: метель разыгрывалась все сильнее. И, наконец, нам следовало торопиться в район, где нас ожидали и где все было приготовлено для вскрытия могилы. Мы снова двинулись вперед, часто останавливаясь и проверяя, не сбились ли с пути. Стало холодно, очень хотелось есть. Кроме того, кончились папиросы. Машина часто вязла в снегу, и тогда мы ее с трудом вытаскивали на руках, набирая снег в сапоги. Ноги мерзли, и все усилия согреться не приводили ни к чему.
Неожиданно впереди показались какие-то дома. Маленький спящий городок сумрачно возник перед нами. Кривые, занесенные снегом улицы, черные дома с наглухо задвинутыми ставнями и сплошная белая пелена падавшего снега. Мы выехали на базарную площадь с покосившейся каланчой. Единственный постовой милиционер, завернувшийся с головой в огромный тулуп, спал жестоко и беспробудно. С трудом мы растолкали его.
Оказалось, что мы сбились с пути и попали в город Бобров. До района, куда мы направлялись, было километров сорок. Отогревшись в районной милиции, мы поехали дальше. Верховой показывал нам дорогу.
Только к двум часам ночи мы приехали. В квартире районного прокурора нас угостили горячим чаем. Пришли секретарь райкома, начальник политотдела МТС и еще кто-то. Чтобы не вызвать лишних толков в селе, мы решили вскрыть могилу ночью: в деревне не любят, когда тревожат покойников.
В три часа мы поехали на кладбище. Спотыкаясь о занесенные снегом могилы и кресты, мы с трудом отыскали могилу Н. Замерзшая земля поддавалась туго, лом, ударяясь о нее, звенел. По-прежнему свирепствовала метель, Мы работали при свете автомобильных фар. Неба не было видно, оно сплошь было затянуто белой завесой метели.
Наконец, лом глухо стукнулся о деревянную крышку гроба. Мы с прокурором спрыгнули в могилу и начали протягивать под гроб веревки. Потом вытащили гроб наверх, отодрали верхнюю крышку и увидели труп Н. Он еще сохранился, хотя рот, глаза и ноги были уже разъедены. Семеновский достал инструменты и приступил к вскрытию. Мы молча следили за его работой. Всем нам было как-то не по себе. Необычная обстановка, и эта зимняя ночь, как бы корчившаяся в судорогах метели, и усталость после тяжелой дороги брали свое. Покойник, которого привычно поворачивал и осматривал Семеновский, синевато отсвечивал под лучами автомобильных фар. Старые кладбищенские клены, раскачиваемые сильными порывами ветра, то и дело кланялись нам. Они скрипели и шуршали ветвями, как бы шепча молитву. Время от времени хлопья снега падали с них на лицо покойника, и тогда кто-нибудь из нас сметал их перчаткой.
Я невольно пытался себе представить судьбу H. — как он смеялся, двигался, говорил. Какой он был человек, как жил с женой, любили ли его соседи? Словом, хотелось представить себе его живым. Из этого ничего не получалось. Покойник как бы наглухо заслонял все, что в нем когда-то жило. Я задумался.
В этот момент внезапно послышался скрип шагов. Обернувшись, мы увидели странную фигуру, которая быстро надвигалась на нас. Небольшой человек с белой заснеженной бородой, в странной заячьей шапке-ушанке приближался к нам. Больше всего этот человек походил на деда-мороза, каким его рисуют дети. Мы с удивлением смотрели на него.
— Кого это несет в такую пору? — произнес тихо прокурор.
— Может быть, кладбищенский сторож? — спросил я. Мне никто не ответил. Наконец, неизвестный подошел и, отряхивая с бороды снег, весело произнес:
— Ну и погодка, а я уже боялся, что опоздаю.
— Товарищ Павлов! — обрадованно вскрикнул прокурор и бросился к пришедшему. — Откуда, какими судьбами?
— Очень просто. Узнал, что у вас интересное вскрытие, из Москвы Семеновский приезжает. Ну, я вот взял ноги в руки и пошел.
Прокурор ахнул. Обратившись к нам, он разъяснил, что пришедший — судебно-медицинский эксперт Павлов из соседнего района и что пришел он пешком, сделав тридцать километров в метель. Доктору Павлову было семьдесят два года.
Нас познакомили. Когда мы выразили свое удивление тем, как он мог в такую погоду рискнуть пешком пойти сюда, он ответил:
— Ну что особенного. Люди мы здоровые, молодые, ко всему привычные.
И он начал оживленно расспрашивать Семеновского о результатах вскрытия.
Потом, когда все было закончено и оказалось, что Н. покончил с собою (все железнодорожные повреждения на трупе носили прижизненный характер), мы отправились на отдых. На ночлег нас устроили всех вместе, но Павлов и Семеновский так и не легли спать. Всю ночь два старых судебных медика говорили о своем. Я задремал. Не обращая на меня внимания, старики с увлечением продолжали разговаривать. Они не виделись лет двадцать и торопились поделиться своим опытом за эти годы.
Павлов жадно слушал Семеновского, задавал вопросы, что-то записывал. Этот человек, проживший семьдесят два года, был увлечен своей профессией, как студент-выпускник. Ему казалось естественным и обычным, что он прошел пешком в пургу огромное расстояние лишь для того, чтобы повидать своего коллегу из Москвы. Он не чувствовал утомления и всю ночь проговорил с Семеновским.
Семеновский тоже забыл об усталости, о бессонной ночи, о промокших ногах, о тяжелой дороге и о многом другом. Они были молоды, эти старики.
Засыпая, я подивился этой молодости, рожденной любовью к своей профессии, — священной, чистой и романтической любовью, которая сильнее старости, расстояния и вьюги.
ПОЖАРЫ В САРАНСКЕ
В третьем часу ночи Бочков, сторож столярной мастерской в Саранске, вышел покурить. Апрель был на исходе, но ночь стояла темная, как в сентябре. Бочков жадно затянулся папироской и уже собирался по привычке сплюнуть, как чуть не поперхнулся: из выходящего на двор столярной мастерской окна нарсуда густо валил оранжевый дым, и языки пламени с треском вились по рамам.
Бочков бросился к телефону, и через несколько минут примчались пожарные. Они быстро ликвидировали пожар, и выяснилось, что огонь возник в помещении нарсуда, где на полу оказались сваленные в кучу облитые керосином судебные дела.
Всего сгорело около сорока дел, но сохранились алфавиты и картотека, и дела нетрудно было восстановить.
Загадочный поджог суда взволновал весь город. Строились всевозможные версии и предположения. Местные следственные власти решили, что поджог учинен уголовниками не то из мести, не то из понятного стремления уничтожить судебные дела. Эту версию разделял и старший нарсудья Демидов.
На всякий случай арестовали уборщицу нарсуда Гусеву, исполнявшую одновременно обязанности сторожихи. При этом «мудро» рассудили, что если Гусева и неповинна в поджоге, то уж в халатности изобличена безусловно.
Следствие шло, как принято говорить, полным ходом, но события продолжали разворачиваться и через две с лишним недели обернулись совершенно неожиданным образом. В ночь на 16 мая снова подожгли нарсуд, причем принятая на работу после первого поджога сторожиха Стешина оказалась убитой.
И второй пожар был замечен ночью все тем же неугомонным. Бочковым. Приехавшие пожарные застали страшную картину полного разгрома суда. На этот раз сгорело около четырехсот дел. Сгорели алфавиты и картотека. Стешину убили в ее комнате, размозжив ей череп. Оттуда труп волоком тащили в канцелярию (на это указывали следы крови на полу), где его обложили делами, облили керосином и подожгли.
Был сбит со стены и выброшен за окно электрический счетчик. Настенный телефон старательно и искусно подожжен. Из камеры судебного исполнителя была выволочена на двор почему-то хранившаяся там старая перина. Письменные столы судей Демидова и Палатова взломаны топором.
Словом, была типичная картина разбойничьего налета на суд.
Пять месяцев после этого топтались на месте саранские следственные власти. Сначала было единодушно признано, что поджоги учинены какой-то загадочной бандитской шайкой. Весь вопрос сводился только к тому, чтобы эту шайку изловить. Но это не удавалось. Местный угрозыск переворошил все свои архивы, однако не находил ничего подходящего. Старший следователь прокуратуры Мордовской республики Коннов исписал огромное количество бумаги и передопросил чуть ли не весь город. Но все подозреваемые, как бы сговорившись, представляли неоспоримое алиби.
В середине сентября 1936 года Прокурор СССР предложил мне и работнику МУРа Осипову выехать на место и принять энергичные меры к раскрытию этого дела. В ту же ночь мы выехали в Саранск.
Признаться, мы ехали туда с сомнением в успехе. Очень трудно вести расследование через пять месяцев после совершения преступления, да еще такого специфического, как двойной поджог с убийством. В таких случаях время неизбежно стирает показания «немых свидетелей» и затуманивает впечатления и факты в памяти живых.
Всю дорогу мы перебирали всевозможные дела за последние пятнадцать лет. Вереницы разных преступлений и происшествий, сотни преступных типов и характеров припомнились нам, но аналогий не было. Случай в Саранске был из ряда вон выходящим.
Ночью мы приехали. Город встретил нас проливным дождем, обрывистыми ямами разрытых улиц и черными провалами окон спящих домов.
В первые же дни нашей работы выяснились очень интересные подробности.
Оказалось, что дела, собранные для сожжения как при первом, так и при втором пожаре, были взяты из разных шкафов, где они хранились. Оказалось, что шкафы с архивными и гражданскими делами вовсе тронуты не были. Оказалось, что столы судей были взломаны топором, хранившимся за шкафом, и этого никто, кроме работавших в суде, знать не мог. Оказалось, что алфавиты и картотека были взяты из стола секретаря нарсуда и больше ничего оттуда взято не было. Оказалось, что в Саранске не было… бандитских шаек, и местная уголовная хроника ограничивалась регистрацией скромных домовых краж и не очень значительных хулиганских выходок. Ясно было, что здесь действовали свои, знающие и уверенные руки.
Бывший судья Демидов вошел в комнату, где мы работали, твердыми и спокойными шагами уверенного в себе человека. Высокий, чуть сутуловатый, этот человек молча сел, как бы ожидая вопросов. У него было тусклое, ничего не выражающее лицо, застывшее, как восковая маска, и только веки на этом странном лице беспрерывно и болезненно мигали.
Я не спешил задать ему вопрос и с интересом разглядывал этого человека. Чувствуя мой взгляд, Демидов неожиданно начал зевать, протяжно, чрезмерно протяжно, как бы с удовольствием, потягиваясь и выгибая грудь, запрокинув назад голову… Так сладко и заразительно не зевают у следователя, к которому приходят в первый раз.
— Вы что, не выспались? Тогда можем отложить нашу беседу до другого раза, — сказал я.
Демидов понял, что переборщил, и поспешил заявить, что он готов беседовать и сейчас. Я приступил к допросу.
Демидов начал работать в Саранске с 1934 года. Странное совпадение: сжигались дела, возникшие с 1934 года.
— Как это объяснить?
— Чисто случайный момент.
— Допустим. Но у меня есть данные, что вы подделывали определения суда об освобождении осужденных.
— Меня удивляет такое заявление.
— Но все же: да или нет?
— Нет. Безусловно.
— Установлено, что за взятку в триста рублей вы изготовили подложные определения по делу Богачева, кулака, осужденного в тысяча девятьсот тридцать четвертом году за хищение зерна к десяти годам.
— Нет, это неправда.
— Это точно установлено.
— Покажите мне определение.
Я предъявляю ему обнаруженное мною в судебном архиве фиктивное определение об освобождении некоего Богачева, написанное Демидовым от имени своего и несуществующих народных заседателей. Он с любопытством рассматривает этот документ и после небольшой паузы, не меняясь ни в тоне, ни в выражении лица, говорит:
— Да, это верно. Я и раньше хотел сказать, но как-то стеснялся, знаете… Действительно, я совершил преступление.
И впервые его тонкие губы раздвигаются в попытке изобразить застенчивую, конфузливую улыбку. Так началось наше знакомство.
Итак, идя методом исключения, мы установили, что поджоги и убийство мог совершить только кто-либо из постоянных посетителей суда. Мы начали проверять в этом направлении одного за другим. Второй судья, Палатов, в ночь первого поджога был в выездной сессии в районе. Почему он поехал в сессию? Оказалось, что его накануне послал в сессию Демидов, который до этого собирался туда ехать сам. Почему Демидов изменил свое решение?
В начале 1936 года Демидов рассматривал дело по обвинению некоего Галушкина в краже. Галушкин был приговорен к одному году исправительных работ. Вскоре после суда Галушкин дал Демидову триста рублей, за что Демидов в приговоре после заключительных слов «приговаривается к одному году исправработ» приписал всего несколько слов: «условно, с испытательным сроком на один год». Это было грубо сделано. Другими чернилами.
Галушкин весной этого года, сидя в пивной, проговорился о ловкости демидовских рук. И собеседник Галушкина Волков подал об этом письменное заявление в прокуратуру Мордовской республики.
27 апреля в республиканскую прокуратуру затребовали дело Галушкина и обнаружили подлог в приговоре. Вызвали секретаря нарсуда Григорьеву и допросили ее в связи с делом. Демидов в это время был в выездной сессии с прокурором Агаповой и слушал дело о поджоге колхозной конюшни. Вечером 27 апреля Демидов вернулся в Саранск и договорился с Агаповой, что 28 апреля, то есть на следующий день, они опять направятся вместе в выездную сессию в район. 28 апреля Демидов утром пришел в суд. Григорьева по секрету рассказала ему о ее вызове в прокуратуру республики по делу Галушкина. И Демидов сразу изменил свое решение ехать в район. Он посылает вместо себя судью Палатова. Страх охватывает его. Он знает, что в десятках дел имеются аналогичные подлоги. Это все может всплыть, обнаружиться. И тогда — крах. Что делать? Как быть?
И по еще не исследованному до конца закону ассоциаций Демидову вспоминаются факты, которые он рассматривал накануне. Он слушал дело о поджоге. Он вспоминает все обстоятельства этого дела. Как все это просто, возможно, осуществимо! Поджог — вот оно, нужное слово, нужное действие, единственный выход, единственная возможность спасения!
И в ту же ночь горит нарсуд.
— Скажите, Демидов, почему вы не поехали двадцать восьмого апреля, как собирались, в выездную сессию?
— Судья Палатов не хотел рассматривать назначенное в этот день дело, и потому мне пришлось остаться. Поехал он.
— Палатов это отрицает. Он говорит, что, наоборот, вы не хотели ехать…
— Палатов врет.
— Показания Палатова подтверждает, однако, и Григорьева, также слышавшая, как вы говорили, что не можете поехать потому, что заняты.
— Григорьева путает.
— По словам Григорьевой, она вам двадцать восьмого апреля сообщила, хотя и не имела на это права, что была вызвана в прокуратуру республики по делу Галушкина. Это верно?
— Она мне это сообщила после второго пожара, а не двадцать восьмого апреля.
Мы производим очные ставки. Демидов изобличен. Выясняется, что еще до первого поджога Демидов уничтожил переписку по судебным делам. Это было перед ревизией. В суде накопилась разная переписка, оставленная без движения. Здесь были заявления, запросы по делам, жалобы. Демидов скрыл эту переписку от ревизии и приказал Григорьевой сжечь ее. Демидов отрицает это. Но Григорьева припоминает, что Гусева тоже видела, как сжигалась переписка. И Гусева это подтверждает. Под тяжестью очной ставки с Григорьевой и Гусевой Демидов вынужден признаться.
— Да, это было, — медленно цедит он. — Я упустил из виду. Конечно, это — преступление. Я легкомысленно поступил.
И снова на его лице появляется застенчивая улыбка.
Так пошло следствие. Одно за другим раскрывались преступления, которые совершал Демидов. Выяснилось, что он кулак, проникший обманным путем в партию и в судебный аппарат.
Первый пожар был сразу замечен и быстро ликвидирован. Сгорела незначительная часть дел. Надо спешить.
Демидов каждую ночь приходит в суд. Но новая сторожиха Стешина, как назло, не уходит из здания, ночует, здесь же. Каждую ночь Демидов приходит в суд и пугает крестьянскую девушку. В три-четыре часа ночи он стучит в ее каморку:
— Ксения, ты еще жива? Тебя еще не убили?
Стешину пугают эти ночные визиты. К ней приезжает повидаться из деревни мать. Дочь рассказывает матери об этом. Она плачет и говорит, что ей страшно, что Демидов ходит неспроста.
Старуха уезжает в деревню. Мог ли Демидов предположить, что устами своей матери будет давать показания по его делу убитая им Стешина?!
Демидов продолжает ходить в суд. Он надеется, что напуганная им Стешина не станет ночевать в суде. Но Стешина боится, что если она уйдет с дежурства, то ей влетит, ее уволят. Ей даже кажется, что строгий судья проверяет, исправна ли по службе новая сторожиха. И она делится своими соображениями, кроме матери, еще и с теткой, о существовании которой Демидов не знал.
И Демидов, наконец, решается. В ночь на 16 мая, приказав жене отправить домработницу ночевать к подруге, он спешит в суд. Он убивает Стешину, сжигает на этот раз все дела, инсценирует картину налета…
Еще до своего ареста Демидов заготовляет письмо в Верховный Суд. Он-то ведь знает, что его должны арестовать! Он пишет. На всякий случай:
«Я незаконно арестован. Я посажен без предъявления обвинения. Меня обвиняют в поджогах, которые совершили бандиты, но которых не могут поймать. Я прошу вашей защиты…»
И он просит жену в случае его ареста отправить это письмо.
Письмо это я обнаруживаю при обыске в квартире Демидова запрятанным в русской печи.
Демидов смущается, когда я предъявляю ему этот документ. Неловко, знаете… И он говорит:
— Да, это моя ошибка.
Верховный Суд Республики приговорил его к расстрелу.
ПАРА ТУФЕЛЬ
Когда двадцатидвухлетняя комсомолка Аня Андреева уезжала со своей двухлетней дочерью Маргаритой из Моршанска, она была по-настоящему в счастлива и взволнована.
Аню провожала ее приятельница Груня Митрякова, и на маленьком Моршанском вокзале, в ожидании поезда, подруги поговорили по душам. Аня рассказала, что едет в Москву к своему фактическому мужу, отцу своего ребенка, к Ивану Гетману.
Гетман за несколько дней до того был в Моршанске, встретился с Аней, сказал, что очень жалеет о разрыве, который между ними раньше произошел, что скучает по дочери и хочет опять быть с ними вместе, прочно и навсегда.
Если добавить, что со дня рождения Маргариты до этой встречи Гетман ни разу не встречался с Аней, не интересовался судьбою дочери и не оказывал им никакой материальной помощи, то станет понятным упомянутое выше душевное состояние, в котором Аня Андреева уезжала из Моршанска в Москву.
Гетман обещал их встретить в Москве, на вокзале.
Оттуда они должны были ехать дальше, в Кинешму, где, как говорил Гетман, он устроился учителем в местной школе и получил небольшую, но уютную и теплую квартирку.
Пока Аня рассказывала обо всем этом Митряковой, на вокзал пришли сестра и мать Анны. Потом подошел поезд, и начались обычная вокзальная суетня, прощальные поцелуи, советы и пожелания.
И вот уже застучали колеса, Моршанский вокзал поплыл назад, поезд двинулся в Москву.
И как это бывает всегда, когда за поворотом рельсовых путей скрывается родной и привычный город, Ане стало немножко грустно.
За окном вагона догорал ноябрьский вечер, осень дымилась на горизонте.
А через несколько месяцев, в мае 1939 года, к народному следователю города Моршанска т. Левину явилась сестра Ани Андреевой и рассказала ему, что за все время нет никаких известий от Ани и что она вместе со своим ребенком куда-то бесследно исчезла. Сестра рассказала также, что Гетман, к которому уехала Аня, еще в феврале вернулся в Моршанск и работает в качестве директора школы и что, встретясь с нею на улице, он на вопрос, где же Аня, с удивлением ответил, что это ему неизвестно и что вообще он не понимает, почему она его об этом спрашивает.
Итак, было несомненно, что Аня Андреева со своей дочерью выехала в ноябре 1938 года в Москву. Что с ними случилось дальше, что произошло с ними в этом большом городе, почему они не встретились с Гетманом и какова их судьба, — все это было неизвестно, и об этом можно было только гадать.
И в самом деле, не было никаких данных о том, где, когда, почему именно, при каких обстоятельствах и в каком направлении затерялись, исчезли и сгинули комсомолка Аня и ее двухлетняя дочь Маргарита. Сразу допрашивать Гетмана было бы несвоевременно и неосторожно. Других же путей не было. Их надо было найти.
… И следователь выехал в Москву.
Здесь он разыскал подругу Ани — Дмитриеву. Оказалось, что Аня действительно была в Москве, заходила 2 ноября к Дмитриевой, рассказала ей о своем счастье и, оставив портфель, поехала на вокзал, чтобы встретиться с Гетманом. Больше она не возвращалась.
Следователь запросил МУР и все морги, но выяснил, что как раз за этот период времени никаких трупов неизвестных женщин и детей в Москве обнаружено не было. Таким образом, предположение о том, что Аня с дочерью явились жертвами уличного движения или какого-нибудь другого происшествия, отпадало. Идя методом исключения, следователь снова мысленно вернулся к Гетману.
Однако улики против Гетмана были случайны, разрозненны и слабы. Новых улик не предвиделось. В таких случаях следователь либо безнадежно опускает руки, либо, напротив, несмотря на слабую вооруженность доказательствами, с риском бросается вперед, в атаку, идя на прорыв. Левин решил рискнуть. И он поставил перед Прокуратурой республики вопрос об аресте Гетмана. Вопрос этот был спорным.
Но следователь настаивал на своем. Он убеждал, доказывал, ссылался на внутреннее убеждение, на профессиональную интуицию, на свой уже неоднократно проверенный опыт.
И в результате ему было разрешено арестовать Гетмана по подозрению в убийстве в порядке 145-й статьи Уголовно-процесуального кодекса, разрешающей ареста исключительных случаях, когда следователь не располагает еще достаточными данными для предъявления обвинения, но в интересах раскрытия тяжкого преступления стоит перед необходимостью изоляции подозреваемого. Закон обусловливает, что в течение четырнадцати суток либо должны быть собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения, либо арестованный должен быть освобожден.
Получив санкцию Прокуратуры республики, следователь вернулся в Моршанск. Впереди было четырнадцать суток. Четырнадцать суток, которые должны были решить исход этого дела, судьбу Гетмана и в известной мере судьбу и репутацию самого следователя.
И вот Гетман, двадцатипятилетний, худощавый, чуть сутуловатый человек впервые вошел в кабинет к следователю.
— Здравствуйте, Иван Дмитриевич, — вежливо сказал ему следователь.
— Добрый день, — спокойно ответил Гетман.
— Садитесь, Иван Дмитриевич, — любезно предложил следователь.
— Благодарю вас, — произнес Гетман.
Начался разговор. Гетман вел себя спокойно и с достоинством, не торопясь отвечал на вопросы, отвечал обстоятельно и толково, как может отвечать человек, который не чувствует за собой никакой вины и которому стало быть, нечего и волноваться.
У него было молодое приятное лицо с пухлым детским ртом, прямым носом и глазами, смотрящими открыто и приветливо на мир.
Гетман рассказал по просьбе следователя историю своих взаимоотношений с Андреевой, признал, что был отцом ее ребенка, и застенчиво покраснел, когда следователь язвительно заметил, что, судя по всему, он не был чрезмерно нежным отцом.
— Вы правы, — сказал он, улыбнувшись с милым смущением, — я поступил легкомысленно и не совсем по-советски. Но я осознал свою ошибку, искренне хотел наладить нашу семейную жизнь, и если бы не исчезновение Ани, то…
И Гетман, не закончив фразы, замолчал. Было очевидно, что ему больно говорить об этом. На один момент в сознании следователя внешность и поведение Гетмана вызвали острую и беспокойную мысль: «А что, если этот человек в самом деле не виновен? За что же я сейчас отправлю его в тюрьму?»
Но потом эта мысль исчезла.
Гетмана арестовали. Когда ему было объявлено постановление об аресте, он вспыхнул и начал протестовать.
Как раз в этот день было опубликовано сообщение о награждении лучших учителей орденами.
— Правительство, — сказал Гетман, — награждает учителей орденами, а вы в это время награждаете меня тюрьмой. Любопытное расхождение. Ну что ж, спасибо и на этом.
Милиционер повел Гетмана в тюрьму, Он вел его, как и полагается вести арестованного, посреди улицы, пустив его на шаг впереди себя, с оружием в руках.
Но и в тюрьму Гетман шел с высоко поднятой головой и с видом человека, гордого своей невиновностью и своей правотой.
Несколько дней Левин тщательно рылся в биографии Гетмана, надеясь найти в ней что-нибудь подозрительное, но биография этого человека оказалась безупречной.
Следователь тщетно допрашивал всех его знакомых. Ничего предосудительного о Гетмане ему не удалось узнать. Прошло десять дней, и прокурор, строгий человек, с придирчивым характером, ехидно сказал следователю:
— Ну что же, Левин, ничего, я вижу, у вас не получается. Десятые сутки на исходе, а улик никаких. Подумайте о том, как лучше извиниться перед Гетманом, когда вы будете его освобождать.
Но следователю не хотелось извиняться. И не столько потому, что не так уж приятно извиняться перед человеком, которого ты напрасно арестовал, как главным образом по той причине, что следователь продолжал быть убежденным в том, что Гетман совершил убийство, и был лишь бессилен пока доказать это. Но, как известно, одного убеждения следователя недостаточно, чтобы обвинить человека в совершении преступления.
И все же Левину неизбежно пришлось бы извиняться, если бы не… пара туфель. Одна лишь пара дамских туфель, которую, как выяснил в конце концов не прекращавший поисков Левин, Гетман продал школьной сторожихе по самой сходной цене.
Это была сторожиха той самой сельской школы, недалеко от Моршанска, в которой работал Гетман.
Туфли были предъявлены сестре и матери Ани Андреевой. Туфли были ими опознаны. Но родственники ведь могли и ошибиться.
Тогда Левин выяснил адрес сапожника, у которого Аня заказывала эти туфли.
Сапожник, старый человек, долго рассматривал туфли, постукивал по ним пальцами и даже зачем-то их понюхал, а затем сказал:
— Туфли моей работы. Это факт. Вот так вбивать гвозди умеет только один сапожник в Моршанске… Туфли эти делал я Ане Андреевой. Уж это точно.
И вот уже тринадцатые сутки на исходе. И вот уже прокурор напоминает об этом следователю. Левин слушает, что говорит ему прокурор. Ему не по себе. Не по себе потому, что на одной паре туфель в деле с двумя убийствами далеко не уйдешь.
И вот приводят из тюрьмы Гетмана, и он садится перед следовательским столом, и на столе стоят всё те же злополучные туфли. Они закрыты газетой, и только носки их как бы нечаянно торчат из-под нее.
Но мало ли что может находиться на столе у следователя. И какое это имеет отношение к делу? И почему Гетман, спокойный и всегда уверенный в себе Гетман, проявляет такой исключительный интерес к этим торчащим туфельным носкам?
О чем бы ни спрашивал его следователь, Гетман, как привороженный, смотрит на носы туфель.
Следователь как бы не замечает этого. Он нарочно говорит о разных посторонних предметах и вещах.
Наконец, Гетман не выдержал и задал вопрос.
— Скажите, — спросил он, — почему на столе следователя находятся дамские туфли?
Следователь ответил просто:
— Потому, Иван Дмитриевич, что это туфли убитой вами Ани Андреевой, и приобщены они к делу в качестве вещественного доказательства, и вас они изобличают как убийцу. Поэтому они и стоят на моем столе. Вот, полюбуйтесь!
И он спокойно поднял газету.
Гетман вскочил, с силой швырнул стул в сторону и закричал:
— Прочь! Заберите прочь! Прочь их!
— Успокойтесь, — произнес Левин, — Как вам не стыдно волноваться из-за какой-то пары туфель? И зачем вам нужно было их продавать? Да еще по такой низкой цене? Успокойтесь, Иван Дмитриевич, расскажите, как это все случилось и где находятся трупы.
И Гетман рассказал.
Волнуясь, всхлипывая и сморкаясь, сразу потеряв всю свою уверенность и внешний лоск, он долго рассказывал о том, как убил Анну Андрееву и Маргариту.
Он встретил их на вокзале в Москве, как было условленно. На перроне он долго и нежно целовал дочь и даже назвал ее «лесной маргариткой». Потом они сели в поезд и доехали до станции Ильино, Горьковской железной дороги.
Гетман сказал Ане, что здесь они сделают остановку на два дня, потому что ему нужно заехать к своему приятелю, работающему на лесозаводе.
Со станции они долго шли пешком лесной проселочной дорогой. По пути Гетман собирал поздние осенние мухоморы и отдавал их Маргарите. Потом они подошли к маленькому, но глубокому Синявскому озеру, расположенному в глухих лесных зарослях, и Гетман, обратясь к Ане, заявил:
Ну, женушка, смотри, как Маргаритка запачкалась. Вымой дочурке личико.
Аня взяла ребенка на руки. Присела на корточки на берегу и начала обмывать девочке лицо. Маргарита смеялась и тянулась ручонками к воде.
И тогда Гетман подошел к Ане сзади и, осторожно подняв валявшееся тут же бревно, ударил ее по голове.
Аня и ребенок пошли ко дну…
Было уже поздно, когда Гетман закончил свой рассказ. Потом следователь записал его признание, а Гетман подписал протокол.
Меня расстреляют? — спросил он следователя.
— Это — дело суда, — ответил Левин.
— А все из-за денег, — продолжал Гетман, — боялся, что придется алименты платить. У меня ведь есть еще одна жена, законная. Из-за жадности убил, из-за жадности и засыпался. Зачем мне эти туфли нужны были? Зачем я их продал?
Допрос закончился, и Гетмана увели.
Левин остался один. Казалось бы, для него наступил тот долгожданный и нелегко дающийся момент, когда человек стоит, наконец, перед счастливым результатом своего труда. Но, странное дело, Левин не ощущал в себе того чувства неповторимой легкости, полноты и удовлетворения, которое так благодарно венчает всякий подлинно творческий процесс. Ему было почему-то не по себе. Какие-то смутные сомнения продолжали его тяготить.
О, как знакомо и дорого каждому настоящему следователю это тревожное и смутное чувство! Неясное, оно, если к нему прислушаться, нередко помогает выяснить все до конца; оно настораживает, предостерегает и как бы говорит: «Подожди, дружище, ты еще не все сделал, тебе еще рано успокаиваться и рано торжествовать, ты еще не все нашел».
И Левин продолжал искать.
Он вспомнил, что по делу еще не выяснено, где находился Гетман за время с ноября 1938 до февраля 1939 года, когда он снова вернулся в Моршанск. И, выясняя этот, казалось бы, побочный и не имеющий отношения к делу вопрос, Левин натолкнулся на сундук, на обычный сундук с дамским бельем и пальто.
Он выяснил, что в адрес Гетмана из Кировоградской области в феврале прибыл сундук. Но в квартире Гетмана этого сундука не оказалось. После долгих поисков выяснилось, что сундук запрятан Гетманом в школьном подвале и завален там дровами.
В кармане пальто, находившегося в сундуке, Левин обнаружил крохотный талончик на воду (такие талончики имеют хождение в некоторых городах) с надписью: «Талон на воду, Черемхово».
Черемхово! Где оно находится, это Черемхово? Оказывается, Черемхово находится в Иркутской области. Но почему талон из Иркутской области попадает в город Моршанск Тамбовской области?
И снова сидит Гетман в кабинете Левина и отвечает на вопросы.
— Расскажите подробно, где вы находились в период с ноября тысяча девятьсот тридцать восьмого года по февраль тысяча девятьсот тридцать девятого года?
— Все это время я проживал на Украине, у своей сестры, в Кировоградской области.
Тогда Левин предъявил Гетману сундук с дамскими вещами.
— Чьи это вещи? — спросил он.
— Это вещи моей первой жены, — ответил Гетман.
— А где находится ваша первая жена?
— Проживает в Кировоградской области.
— Почему же у вас ее вещи?
— При разводе мы произвели раздел имущества.
— Почему же при разделе имущества вы взяли себе дамские вещи?
— Это произошло случайно.
— А ваша первая жена когда-нибудь была в Иркутской области?
— Нет, она постоянно проживает в Кировоградской области.
— Вам привет из Черемхова, — неожиданно заявил следователь.
И снова, как ужаленный, вскочил Гетман. Он начал кричать, что Левин ему надоел, что никакого Черемхова он не знает и что вообще, кроме убийства Андреевой и Маргариты, он ни в чем не виноват.
— Что вы от меня хотите, — кричал он, — что вы ко мне пристали? Я и так вам уже все рассказал, во всем признался, ничего не скрыл. Судите меня скорее, судите!…
Он долго еще кричал, бегал по комнате, потом садился и опять метался, плакал, жаловался и угрожал. Следователь спокойно сидел за столом. И когда, наконец, Гетман, обессилев, опустился на стул, он сказал ему:
— Ну, пора перейти к делу. Расскажите о следующем убийстве.
И Гетман рассказал.
Сразу после убийства Анны Андреевой и Маргариты он уехал в Черемхово Иркутской области и начал там работать учителем.
В Черемхове Гетман познакомился с кассиршей местной фотографии Валентиной Карташевой. Через месяц они сошлись.
В конце лета Карташева сказала Гетману, что она скопила три тысячи рублей и что если они поженятся, можно их истратить на приобретение новой обстановки.
— Мы хорошо заживем с тобою, Ваня, — сказала она, — купим кровать с никелевыми шарами, гардероб. Лично я одета, обута, на первое время есть все необходимое.
Ночью, проводив Валю, Гетман пришел к себе домой. Три тысячи, о которых она рассказала, всю ночь не давали ему покоя. Он до утра обдумывал план убийства.
На следующий день он явился к Валентине с астрой, собственноручно вырезанной из розовой бумаги, и, передавая ей цветок, сказал:
— Ты одинока, Валюта, и я одинок. Я решил, поженимся.
И он предложил ей запаковать все свои вещи в сундук и отправить багажом в Кировоградскую область, в адрес его сестры.
— А мы с тобой, — продолжал он, — поедем вместе, без вещей, чтобы легче было. Деньги держи при себе, багажом отправлять их рискованно.
Так и сделали.
Сундук с вещами Карташевой отправили в адрес сестры Гетмана (откуда он потом его и получил), а Гетман с Валентиной поехали в Иркутск, чтобы оттуда направиться дальше.
В Иркутске Гетман предложил Валентине пойти к его товарищу, который живет на расстоянии нескольких верст от города. Та согласилась.
Около четырех часов дня они вышли из города. Шли по крутому берегу Ангары и разговаривали о своем. На извилине реки Гетман остановился и, обняв Валентину, сказал:
— Смотри, как красиво, какой закат.
И в самом деле, было красиво. Стоял сибирский мороз. Над поздно замерзающей, стремительно летящей Ангарой багрово стыл жестокий ледяной закат. Кругом не было ни души.
Гетман отошел в сторону, поднял с земли тяжелый камень и, подойдя к размечтавшейся Валентине, ударил ее по голове. Ахнув, она зашаталась и стала медленно опускаться на землю.
Гетман торопливо обыскал ее карманы, взял деньги и паспорт и сбросил труп в реку.
Затем он вернулся в Иркутск, а оттуда выехал в Моршанск к своей «законной» жене, Наталии Гетман.
— …Я кончил, — сказал Гетман. — Я все рассказал. Я очень устал, и мне хочется спать. Отправьте меня скорее в тюрьму.
— Охотно, — ответил следователь, — только сначала подпишите протокол.
И он протянул ему исписанный лист протокола допроса.
Гетман взял протокол и, не читая, размашисто его подписал.
— Теперь уж меня наверняка расстреляют, — сказал он.
— Во всяком случае, вы этого заслуживаете, — произнес следователь,
УНЫЛОЕ ДЕЛО
Семнадцатого октября 1936 года в Ростове-на-Дону внезапно исчез стахановец литейщик Петр Калиничев. Исчез, очевидно уехав куда-то, бросив жену и двух детей, не простившись, не оставив никакого следа, ни словом не объяснив случившегося. Калиничев ушел из дому ночью, когда жена и дети спали. Захватил с собой отрез сукна, припрятанный женой на шубу, деньги, все ценное, что было в доме.
Все это было непонятно. Калиничевы жили дружно. Петр очень любил жену и детей и считался у соседей примерным семьянином.
Правда, после исчезновения Калиничева его жена Фаня рассказала соседкам, что без вести пропавший муж был не дурак выпить, а выпив, нередко ее поколачивал и что раньше она это скрывала, так как не хотела из избы сор выносить. И верно, Фаня Калиничева всегда была сдержанна на язык, не любила сплетен и чуждалась задушевных бабьих разговоров, нескончаемых бесед на лавочке в долгие летние ростовские вечера, когда город пенится цветущей акацией и у пристаней плещутся, как огромные белуги, пароходы.
Прошло много месяцев, а пропавший Калиничев ничего не давал о себе знать. Тщетно обивала Фаня пороги отделений милиции и справочных столов, тщетно переспрашивала старого почтальона, нет ли ей письма. Письма не было, а в милиции неизменно отвечали, что розыски гражданина Петра Калиничева пока безрезультатны.
Несчастная женщина, как водится, немало убивалась, плакала, жаловалась знакомым на свою судьбу. И действительно, ей было тяжело. Она осталась одна, с детьми, почти без всяких средств к существованию.
Впрочем, надо отдать ей должное, она не растерялась. Ей помогли устроиться на работу, она стала отпускать, кроме того, домашние обеды, дети продолжали воспитываться и расти, жизнь постепенно налаживалась.
И сама Фаня тоже начала забывать о своем горе. У нее опять, как и прежде, появился блеск в глазах, она тщательно следила за собой, очень похорошела, и, хотя одевалась скромно, но все так шло к ее статной, молодой фигуре, что опять, как и прежде, она считалась самой красивой женщиной в своем переулке.
Народный следователь Пролетарского района города Ростова, приступивший к расследованию дела «О загадочном исчезновении гражданина Петра Калиничева и о преступном оставлении им без средств к. существованию жены и двух малолетних детей», был болезненный, усталый человек. Он допросил потерпевшую Фаню (по паспорту ее звали Феклой), свидетелей, объявил розыск Калиничева и положил дело на самую верхнюю полку шкафа, куда обычно складывают совсем уж безнадежные и унылые дела.
В конце 1937 года в Пролетарский район была переведена следователем из другого района Екатерина Александровна Гриппас. В порядке разгрузки товарищей следователей она приняла от них двадцать шесть дел. И, не в обиду будь сказано товарищам следователям, они спихнули Екатерине Александровне самые старые, забытые дела. Среди этих папок было и пресловутое дело «О загадочном исчезновении гражданина Петра Калиничева и о преступном оставлении им без средств к существованию…»
Унылое дело. Унылое название. Унылые перспективы.
Именно так охарактеризовал это дело следователь, передавая его Екатерине Александровне. Он сказал:
— Дело — гроб. Унылое дело…
И с ним нельзя было не согласиться.
Двадцать пятого ноября 1937 года Екатерина Александровна впервые вызвала к себе на допрос потерпевшую. В маленькой следовательской камере они сидели вдвоем друг против друга, две женщины: высокая, статная, красивая Фаня с ласковыми черными глазами и худенькая, сероглазая, спокойная Екатерина Александровна.
Они разговорились задушевно и просто. Екатерина Александровна не задавала Фане подозрительных и пытливых вопросов, не ставила ей ловушек, не бросала на нее пронизывающих взглядов. Напротив, она сумела сразу создать обстановку интимности и простоты и лишила свою беседу с потерпевшей даже тени намека на допрос, на официальный и казенный разговор. Она заговорила с ней как женщина с женщиной, самым житейским и будничным языком, на самые житейские и будничные темы. Она сразу установила с нею тот особый, человеческий контакт, без которого следователь, вооруженный смутной догадкой, тщетно пытается выведать истину у допрашиваемого, кровно заинтересованного как раз в том, чтобы эту истину скрыть.
Фаня подробно рассказала о своей жизни с мужем, о его тяжелом характере, о пьянстве и побоях и, наконец, о его исчезновении. Екатерина Александровна соболезнующе возмущалась, сочувствовала горькой женской судьбе, внимательно слушала. Она сказала Фане, что как женщина и мать хорошо понимает ее положение.
И, может быть, поэтому — и только поэтому — Фаня рассказывала охотно и много, как никогда, рассказывала свободно и непринужденно, ослабив внутренний самоконтроль. И, увлекшись, она незаметно для самой себя переступила ту грань, за которой в спокойном течении самого правдоподобного повествования следователь угадывает подводные рифы фальши и обмана и в своем сознании, как лоцман, наносит их на карту дела.
Простившись с Фаней, Екатерина Александровна взяла дело и, зачеркнув на обложке старое название, надписала вместо него: «О загадочном убийстве гражданина Петра Калиничева», потому что она пришла к убеждению, внутренне уже уверилась в том, что все рассказанное Фаней Калиничевой — выдумка и ложь.
Очень ловкая выдумка. Очень искусная ложь.
В этом деле нельзя было спешить. С момента исчезновения Калиничева прошло больше года, и в лице Фани Екатерина Александровна имела хитрого и волевого противника, имевшего еще и сильного союзника — время. Да, время — потому что давность совершенного преступления навсегда поглотила те нити, за которые можно было ухватиться в самом начале расследования. С другой стороны, было ясно, что Фаня пойдет на признание своего преступления только под напором самых неопровержимых, самых прямых и бесспорных улик. Было ясно, что получить это признание будет не легко.
Осторожно и не торопясь, Екатерина Александровна начала собирать сведения о Калиничевых, об их взаимоотношениях, о родственниках Фани. Установила, что Фаня — дочь крупного кулака, казака станицы Александровской, добровольца белой армии. Отец жил в Ростове часто бывал у дочери. Две сестры Фани тоже жили в Ростове.
Калиничев недолюбливал родных своей жены, чуждался их. В последние годы Калиничев заболел туберкулезом. Фаня нередко попрекала его этим.
У Фани часто бывали гости, ее знакомые. Это были франтовато одетые мужчины, часто приходившие с какими-то свертками. Они приходили как раз в те часы, когда Калиничев бывал на работе.
Екатерина Александровна посетила и дом, в котором жила Калиничева. Небольшой двор, какие бывают в провинциальных городах, во дворе сарай, уборная.
Екатерина Александровна до мельчайших деталей выяснила, что изменилось в доме и во дворе за эти полтора года. Оказалось, что уборная перенесена на новое место.
— Где раньше стояла уборная?
Фаня, которой был задан этот вопрос, спокойно прищурила глаза, как бы припоминая, и ответила, что в углу двора, но где именно, точно не помнит. Фаня спросила соседку, старуху Мирошниченко, но та ответила:
— Не помню, милая. Старая я, память растеряла.
Этот разговор происходил во дворе 16 марта. Солнце, веселое ростовское солнце, уже по-весеннему пригревало, запросто заглядывало во двор, весело играло в почерневшей прошлогодней траве.
Екатерина Александровна, Фаня, старушка Мирошниченко стоя разговаривали. Дети Фани возились тут же. Три женщины. Дети. Провинциальный дворик. Солнце. Воробьи. Весна.
Для полноты этой мирной картины не хватало какого-нибудь уютного домашнего животного. И старуха Мирошниченко, как бы ощутив это, подошла к сарайчику и выпустила запертого там своего молодого кабанчика.
С радостным визгом свинья выбежала на волю, жадно втянула в себя запахи оттаявшей земли, задрав голову, приветственно хрюкнула солнцу и начала суетливо знакомиться с новой обстановкой. Животное, как бы охмелев от солнца и свежего воздуха, начало кружиться по двору, и вдруг его движения стали осмысленны и осторожны. Остановившись в углу двора, животное стало озабоченно врываться пятачком в землю.
Свинья! Что с нее взять!
И хотя Екатерина Александровна, продолжавшая разговор, машинально следила за животным, внезапная перемена в его поведении не прошла мимо ее сознания. Острая наблюдательность, отточенная и натренированная профессией, немедленно зафиксировала и этот, казалось бы такой незначительный и к делу не относящийся, факт.
И, подойдя к животному, она сказала:
— Вот здесь была уборная.
И она незаметно, уже для себя, запомнила и отметила это место.
Спокойно, неторопливо закончив разговор и простившись с двумя женщинами, Екатерина Александровна вышла на улицу и, потрясенная внезапной догадкой, быстро направилась в городскую прокуратуру.
Она взволнованно вошла в кабинет городского прокурора Васина и сказала:
— Товарищ Васин, мне срочно нужны тридцать рублей для дела.
Прокурор Васин, весьма спокойный и уравновешенный товарищ, удивленно посмотрел на Екатерину Александровну и с неудовольствием спросил:
— Тридцать рублей? На какие, позволительно будет спросить, нужды?
Волнуясь и торопясь, Екатерина Александровна рассказала о своих подозрениях и объяснила, что деньги нужны для оплаты рабочим, которых необходимо немедленно же позвать рыть двор, где, по ее мнению, находится труп Калиничева.
Васин мрачно задумался, но затем неожиданно просветлел лицом, обрадовавшись, что нашел законные основания для отказа.
Любезным тоном он произнес:
— Рытье трупов в смете хозяйственных расходов ростовской городской прокуратуры не предусмотрено, а посему вынужден вам отказать.
Это был чрезмерно спокойный и уравновешенный товарищ, что и привело в дальнейшем к необходимости освободить его от беспокойной прокурорской работы.
Выйдя из кабинета прокурора, Екатерина Александровна пошла к Роману Королицкому, известному среди ростовских следователей больше под именем «наш Ромочка». Дело в том, что товарищ Королицкий, являясь по профессии специалистом по овощам и состоя на работе именно по указанной специальности, уже несколько лет был активнейшим соцсовместителем прокуратуры. Все свое свободное время Королицкий отдавал прокуратуре, с рвением изучал кодексы и дела и пламенно мечтал о том счастливом дне, когда он сядет за следовательский стол и вместо зелени салата и огурцов перед ним возникнут зеленые обложки следственных дел.
Королицкий охотно взялся помочь Екатерине Александровне и даже пригласил своего товарища. Втроем они, захватив с собой лопаты, пошли во двор Калиничевой и начали рыть землю.
Близился вечер, они все рыли. Фаня, стоя тут же, невозмутимо пускала подсолнухи; старушка Мирошниченко с любопытством наблюдала.
Изредка, обращаясь к Екатерине Александровне, вспотевшей от непривычной работы, Фаня говорила:
— Ну зачем мучаетесь? Ведь все равно ничего не найдете.
Но они продолжали рыть.
И когда из глубокой ямы были извлечены полуистлевший мужской череп, нога и рука, Екатерина Александровна подошла к Фане и, убирая со лба взмокшую, слипшуюся прядь волос, спокойно произнесла:
— Вот видите, Калиничева, мучились-то мы не зря. Одевайтесь, — пойдете с нами.
А через три дня похудевшая, осунувшаяся Фаня — Фекла Калиничева — рванула с себя шейный платок, стиснула пальцы рук и, подавшись всем корпусом вперед, к Екатерине Александровне, бросила ей, как кирпич:
— Ваша взяла! Пишите. Признаюсь!…
И заплакала в первый раз, протяжно и резко, как плакали когда-то в деревнях над близкими покойниками бабы.
Понятно, что Екатерина Александровна была взволнована и счастлива. Молодой следователь, только три года назад начав самостоятельную работу, она впервые раскрыла сложное, большое, запутанное дело. Ее захлестнуло огромное чувство радости, внутреннего удовлетворения, гордости за свою замечательную профессию, то чувство, то сложное многообразие чувств, которое так знакомо каждому следователю, когда в результате напряженной и мучительной работы, в которую вкладываешь все, что знаешь и что имеешь, — все свое искусство и упорство, всю силу проникновения и анализа, воли и разума, — приходишь к раскрытию преступления, к разоблачению врага.
И Екатерина Александровна, полная этих чувств, несколько растерялась и даже лишилась своего обычного спокойствия. Вот почему она допустила свою первую ошибку по этому делу, поверив, что Калиничева сама убила своего мужа, что она действовала без соучастников и что совершила это убийство исключительно на почве семейных неурядиц.
Эту ошибку пришлось потом исправить. В помощь Екатерине Александровне Прокуратурой Союза был командирован следователь по важнейшим делам.
И дополнительное расследование вскрыло до конца это дело.
Фаня Калиничева, ее сестра Мария Андрюшенко, их отец Дмитрий Андрюшенко занимались темными делами, спекуляцией. Они ездили в Батуми и другие города, скупали мануфактуру и разные товары, спекулировали ими.
Старый кулак, деникинец, Дмитрий Андрюшенко имел для виду работу, служил где-то сторожем. Но в темных делах этой своеобразной семейной фирмы он играл не последнюю роль.
Фаня Калиничева была еще связана со старухой Козиной, старой сводней, проживавшей неподалеку, на 2-й Майской улице. Эта маленькая, коренастая старуха с опухшим от пьянства лицом и затекшими глазами была последышем старого воровского Ростова, «Ростова-Папы», Ростова налетчиков, карманников, проституток, мошенников и шулеров. Разбитная старуха выполняла мелкие поручения, лихо сбывала краденое и прятала приобретенные для спекуляции товары.
Петр Калиничев в последнее время стал подозревать, что в доме творится неладное. Он замечал, что к Фане часто приходят какие-то подозрительные люди, шепчутся с нею по углам, приносят и выносят разные пакеты и свертки, и все это делается скрытно, по-воровски.
Он стал вызывать жену на откровенность, уговаривая ее порвать связи с этими темными людьми, не гоняться за легкой наживой. Фаня раздражалась, пыталась усыпить его подозрения, запиралась и продолжала прежнюю жизнь.
Тогда Калиничев прямо заявил жене, что поставит в известность следственные органы обо всем, что ему стало известно, а уж там во всем разберутся.
Это и решило его судьбу.
Козина, узнав о поведении Петра Калиничева, посоветовала его убрать.
— Ты женщина молодая, — говорила она, — самостоятельная, сама себе голова. На кой он, черт чахотошный, тебе сдался? Чай, и понятия в нем настоящего мущинского нету. При твоих-то статьях мы тебе такого сокола подвернем, аж дым пойдет!
И она ущипнула Фаню.
Потом, оглянувшись, Козина добавила:
— Слово скажи, приведу человека со свалки, порешит он твоего Петьку, и все будет шито-крыто. А возьмет недорого.
Фаня рассказала о предложении Козиной. Ее отец долго раздумывал, молчал, а потом встал, положил на стол тяжелые, литые, словно чугунные руки и медленно произнес:
— Нет, дочка, криво получается. Это дело наше, семейное. Его своими руками делать надо. Чужие руки тут ни к чему.
И они начали разрабатывать план убийства.
Вечером пришел с работы Петр Калиничев. Фаня сбегала за водкой. Старик сел за стол с Петром и начал его подпаивать. Фаня отвела детей к Козиной и оставила их там ночевать.
А ночью, когда улица уже спала и всюду погасли огни, Фаня мигнула отцу. Он вышел в кухню, взял топор и, тихо подойдя сзади к охмелевшему зятю, с плеча рубанул его по голове. Петр упал, не проронив ни звука, стукнувшись об пол, как полено.
Потом они втроем расчленили труп я частями опустили в выгребную яму под уборной.
А через несколько дней старик Андрюшенко перенес уборную в другое место и засыпал старую яму.
И возникло унылое дело «О загадочном исчезновении гражданина Петра Калиничева и о преступном оставлении им без средств…»
ЯВКА С ПОВИННОЙ
Все чаще хроника происшествий лаконически повествует о людях, добровольно являющихся в милицию с повинной.
Люди разных возрастов, профессий и биографий — матерые налетчики с солидным стажем, юркие карманники, растратчики и убийцы, — они рассказывают о своих преступлениях, в которых их никто не изобличил.
Конечно, не все они легко и сразу пришли к решению явиться с повинной. Но все-таки они пришли.
Вот приходит в милицию ювелир, инвалид с деревянной ногой. Он служил на приемочном пункте Торгсина, принимал золото и драгоценности. Несколько лет упорно и ловко он комбинировал, нарочито путал отчетность и воровал. Прошли годы. Уже давно ликвидированы и Торгсин и приемочный пункт, все сошло безнаказанно, злоупотребления даже не были замечены.
И вот ювелир с деревянной ногой появляется однажды вечером в отделении милиции. Сбивчиво и смущенно он рассказывает все. Он отвинчивает свою деревянную ногу и из искусно вделанного в нее тайника высыпает на милицейский стол украденные золото и бриллианты.
Его спрашивают, чем объяснить такое неожиданное признание. Ведь никто не понуждал его к этому.
— Ну, неужели вы не понимаете? Я получил эту деревянную ногу, сражаясь за советскую власть, и было стыдно прятать в ней драгоценности, украденные у советской власти. А, кроме того, не так легко реализовать эти ценности.
Случись это за границей, репортеры гонялись бы за ним с фотоаппаратами, непременно были бы помещены интервью со всеми его родными и знакомыми, — он стал бы сенсацией дня. У нас этот случай никого особенно не удивил.
В 1937 году прокурором СССР было получено письмо из Белоруссии. Некто Ясенко, учитель сельской школы, писал о себе:
«…Я хорошо здесь устроен, и никому в голову не придет мысль в чем-либо меня подозревать. Напротив, меня здесь любят и уважают от души. Но тем хуже для меня, поймите. Вот уже год, как я веду размеренную, честную, трудовую жизнь. Вот уже год, как я здесь, и могу продолжать в таком же духе и дальше. Мне никогда еще не было так хорошо, как теперь. И именно поэтому я пишу вам, товарищ прокурор. Я вовсе не Ясенко и приехал сюда, бежав из места заключения. Когда-то я окончил педтехникум, и это помогло мне устроиться по забытой своей специальности. Конечно, не обошлось без липовых документов. Но теперь я полюбил свою педагогическую профессию и готов посвятить ей всю жизнь, за вычетом того, что мне осталось отбывать по приговору. Сообщите, куда и как явиться…»
Через несколько дней автор этого письма был в кабинете прокурора СССР. Просто и застенчиво он рассказал о себе. У него было хорошее молодое лицо и немного грустная улыбка…
— Трудно мне разобраться в своих чувствах, — говорил он. — Но ясно одно — возврата к прошлому нет. Я был бандит, налетчик, преступник, но вот один год попробовал жить честно — и теперь уже не могу жить иначе. Но надо быть последовательным, поймите. За мной небольшой должок… Я приговорен за ограбление к пяти годам, а бежал через несколько месяцев после вынесения приговора. И вот решил: сначала расплатиться, чтобы не входить в свою новую жизнь грязными ногами.
И он подробно рассказал о всех налетах и грабежах, в которых принимал участие. Он называл годы, месяцы, города и улицы.
Он не любил долго оставаться в одном городе и за несколько лет исколесил огромные пространства.
— Знаете, — говорил он, — когда я приехал в Белоруссию и устроился учителем, то сначала думал, что это будет адски скучно. Я ведь привык менять города и климат, видеть разных людей. Я любил острые ощущения, а здесь — школа, дети, кругом тишина, снежные поля, мало народу… Впрочем, я ошибся. Право, мне никогда еще не было так хорошо. Удивительно, но факт. Вот только, — улыбнулся Ясенко, — географию было преподавать трудно. Начнешь говорить о Черноморском побережье — лезут в голову налеты, которые там совершил. Рассказываешь о Сибири — вспоминаешь грабеж в Омске…
Его направили для отбытия наказания в одну из трудовых колоний. Он работает там сейчас по специальности, по своей новой и последней специальности. Он — педагог.
Без долгих вступлений и комментариев, в деловом и даже лаконическом тоне начинает Фролов свою «автобиографию»:
«Прокурору Союза ССР.
От рецидивиста Фролова Ивана Михайловича.
Автобиография
…Я, Фролов Иван Михайлович, 1911 года рождения, уроженец города Саратова, прежде всего извещаю вас, прокурор Союза, о себе весть такую: я в данное время, находясь совершенно без документов и боясь, как бы, попросту говоря, не засадили, решил обратиться к высшей прокурорской организации. Думаю, что прокуратура, а тем более лично вы, обратите особенное внимание, заслушав или прочитав лично заявление от вора-рецидивиста. Думаю, что вы примете те соответствующие меры и пойдете навстречу, — я не хочу выразиться мне, а вору, который, смотря и судя по новой Конституции, прочитав вашу речь на съезде, заключил, выразиться кратко и просто: крах босякам!
Итак, я начинаю вкратце описывать свою автобиографию, что меня заставило скитаться; и, прочитав мои строки, вы поймете, что меня заставило добровольно взяться за ум и желать честной работы. Как вам известно, я уроженец города Саратова, воспитан чужой грудью — жил у мачехи со своим отцом. Она была простая домохозяйка, а отец был волжский грузчик, который в 1921 году умер от голодовки…»
Дальше в письме рассказывается о беспризорном детстве Фролова, о том, как он начал воровать и получил «в сем деле немалую квалификацию».
«…Я пошел, — пишет Фролов, — по кривой дороге жизни. Ушел на улицу, сошелся с ворами, повел с ними пьяную жизнь. Мне нравилось посещать Сухаревский базар, рестораны и кафе, кино, где всюду требовались деньги. Так прошло полтора года в городе Москве, где я уже нахватался приводов у московского МУРа и получил срок. Теперь я решил обратиться лично к вам и, живя кое-как среди разных теток и дядек, прошу вашей помощи, ту путевку в жизнь, как от Верховной прокуратуры.
Прошу вашего распоряжения и направления в любое местожительство для работы и проведения моей дальнейшей жизни, чтобы быть полезным для советского общества. Жизнь, что я вел, ее я презираю, потому что на факте убедился, как можно хорошо жить, честно трудясь, и быть полезным для общества.
К сему расписываюсь и твердо обещаю.
Иван Фролов».
В конце этого письма Иван Михайлович из скромности или из лукавства не сообщает своего адреса и пишет:
«Прошу на мое данное заявление написать в газете „Известия“, какого вы мнения и как вообще поступаете с такими подобными. Главное, через исправительное или можно обойтись без них?…»
По поручению прокурора СССР отвечаю вам, Иван Михайлович Фролов:
Приходите в Прокуратуру СССР в любой день. С вами подробно поговорят и вам помогут.
Отвечая Ивану Михайловичу, я знаю, что он придет. Он придет потому, что рядом с ним бурлит наша жизнь, все ярче разворачиваются новые человеческие отношения. И это сильнее страха перед возможным наказанием, сильнее навыков и пережитков. Сильнее всего.
РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Началось это 16 марта.
Ровно в десять часов к дежурному коменданту Прокуратуры СССР подошел быстроглазый молодой парень. Протянув номер «Известий», он спросил коротко и просто:
— Жуликам куда являться?
Комендант удивленно взглянул на пришедшего и спросил:
— Не понимаю, гражданин. Вам, собственно, по какому делу?
— По личному. Прибыл по заметке. С повинной.
Получив, наконец, справку, пришедший отправился на четвертый этаж. Там он внимательно прочел надписи на дверях кабинетов, осмотрелся и сел в приемной на диване. Сотрудница прокуратуры Желтухина спросила его, кого он ждет.
— Я к Шейнину, — спокойно ответил парень, — только разрешите не сразу. Малость обожду. Тут еще должны наши ребята подойти.
— Вы что же, коллективно на прием, что ли?
— Да нет, просто вместе как-то веселей. Вернее, знаете, и спокойней…
И он снова уселся на диван. Через полчаса в приемной появился человек в коричневой тужурке с кошачьим воротником. Оглядевшись, он сел на диван рядом с пришедшим ранее, закурил и, сладко затянувшись, тихо произнес безразличным тоном, как бы ни к кому не обращаясь:
— Ваша «фотография» мне знакома. Если не ошибаюсь, мы вместе сидели в Сиблаге. Сидевший улыбнулся и ответил:
— Нет, это вам только показалось. — И после некоторой паузы добавил: — Мы с вами сидели в Бамлаге. В Сиблаге я, к сожалению, сидел уже без вас.
Так начался их разговор. Пока они вспоминали «минувшие дни», всевозможные дела и домзаки, пришли еще трое.
И хотя не все знали друг друга, но разговорились быстро и непринужденно, горячо обсуждая волновавший всех вопрос.
— Как пить дать, посадят, — говорил один из них, сутуловатый человек средних лет и унылого вида. — Знаю я эти фокусы. Нас думают поймать, как годовалых ишаков. Слушайте меня, урки, не ходите… Если Турман говорит, он знает, что он говорит.
— Зачем же ты сам пришел, если ты такой умный?
Турман тонко улыбнулся и ответил:
— Меня послали ребята разнюхать, в чем тут дело. Это же прямо смехота, — пишут в газетах и приглашают с визитом. Будто им написал Фролов и будто они ему отвечают. Какой Фролов? Почему Фролов, и кто знает этого Фролова?! Чистая липа, поверьте мне. Но интересно, зачем они все это придумали? Я, например, понятия не имею о Фролове. Если он есть, то почему не пишут кличку…
Между тем приходили всё новые. Безошибочно, одним взглядом определяя «своих», они присоединялись к собравшимся.
Когда их скопилось одиннадцать человек, совещанием завладел высокий, хорошо одетый человек с гладко выбритым лицом и отличными манерами. Чувствовалось, что это мужчина, знающий себе цену и привыкший распоряжаться. Его превосходство единодушно, без лишних слов было сразу же признано всеми. Звали его Костя Граф.
— Довольно трепаться, — говорил он, — и давайте говорить как деловые люди. Мы не маленькие, и нечего разводить философию. В чем дело, я не понимаю. У каждого из вас я вижу «Известия» и желаю отметить, что у всех почему-то за вчерашнее число. Любопытная случайность, детки. Все ясно. Есть Фролов или его нет, мне на это наплевать. Пусть нет. Но Турман, но Таракан, но Король, но Цыганка, но я, но все вы — мы есть или нас тоже нет? Мы есть. Так в чем же дело? Турман не верит — всего хорошего и счастливого пути. А я верю. Я иду. Иду на риск? Правильно. Но чем мы особенно рискуем, пупсики? Пусть делают с нами, что хотят. Пора кончать. Посадят — хорошо, не посадят — еще лучше. В обоих случаях я завязал узелок. Я кончил игру. Я пришел к финишу. Довольно. Верно я говорю или нет?
— Верно, верно, Граф, — ответили все разом. И даже унылый Турман произнес:
— Ну, я — как все. Если идут все, так я тоже иду…
Через час мы были уже знакомы. Вся компания сидела в моем кабинете, и каждый по очереди рассказывал о себе.
— Я домушник, — говорил Таракан, — и ворую восемь лет. Имею судимости, много приводов. Я «бегал» и «по домовой» и «по очковой». Все видел, все перепробовал. В Москве нюхал кокаин, в Бухаре пробовал кирьяк и анаш, во Владивостоке курил опиум. Я сидел и гулял. Я умирал с голода и кутил, как пижон. И вот уже год, как я начал тосковать. Кругом люди как люди: работают, живут, женятся, имеют детей и квалификацию. Чем я хуже? Я тоже хочу жить, как все. Не буду врать, — воровал и последний год. Третьего дня украл кожаное пальто в МГУ. И точка. Поверьте мне, я не кручу. Если можно, очень прошу — не сажайте. Дайте город, документ, работу. Увидите, я буду честным человеком.
Тут Таракан задумался, немного помолчал и неожиданно добавил, застенчиво покраснев;
— Очень счастья хочется. Жулики счастливо не живут, это уж точно я вам скажу. Раз только я счастлив был, да и то во сне.
— Что же это был за сон?
Таракан мечтательно улыбнулся и рассказал:
— Снилось мне как-то, что я еще совсем молодой, но уже очень деловой вор. И вот весна, чудная погода, солнышко, цветы и всякая такая карусель. И я иду прямо с дела с большим узлом, днем, по Столешникову переулку. Масса народу, девушки улыбаются. На углу Столешникова и Петровки стоит милиционер, обыкновенный милиционер, в белых перчатках. А прямо против него большой магазин с шикарной вывеской: «Мосторг. Скупка краденого». Понимаете, какая красота? И я вполне официально прохожу с узлом, мимо милиционера, в магазин, где меня встречает сам заведующий, любезно у меня все барахло принимает по таксе и так вежливо говорит:
«Что так редко бывать стали? Эдак я план не выполню…»
Цыганка, молодая, чисто одетая воровка с озорными глазами, рассказала о себе. Она родом из Одессы. Ворует с четырнадцати лет. В Одессе у нее дочь, которая живет у сестры. Муж ее тоже вор. Пришла она одна.
— Муж ожидает в Серпухове результат, — сообщила Цыганка. — Боится, что будут сажать. Меня послал для испытания — нет ли обмана. Тебе, говорит, как женщине, в случае чего будет снисхождение — меньше дадут, а я буду на передачи «подрабатывать». Ну, а если без обмана, сразу давай телеграмму, тоже приеду…
Карманник Волчок, шустрый, смеющийся парнишка, вполне оправдывающий по внешности свою кличку, протянул, улыбаясь, исписанный лист бумаги, сказав:
— Вот — тут я все сочинил, написал, что есть. Прочтите. Я потом добавлю. Вот что он написал:
«Дни преступной жизни.
В 1931 году я окончил семилетку, будучи еще молодым человеком пятнадцати лет. Никакой специальности не имел. После смерти отца, в 1932 году, почувствовал, что надо жить самостоятельно. Познакомился с „хорошими“ товарищами, которые стали всасывать в свою гнилую среду и приучать к преступной жизни, как-то: воровать, играть в карты и пьянствовать.
Спустя три года моей воровской жизни, как говорится на воровском языке, я „подзашился“ и получил срок. Отбыл срок в сентябре 1936 года и поставил перед собою задачу — бросить свою воровскую специальность и стать человеком, полезным для нашей родины. Но как я ни старался стать полезным гражданином, у меня, к сожалению, ничего пока не получалось. Сейчас получится обязательно, в чем даю честное слово, и буду дышать тем воздухом, которым дышат все граждане нашей страны социализма. Не хочу быть больше сорняком на урожайном поле нашей родины. Волчок. Прошу фамилию не опубликовывать, потому что есть невеста, которая не должна знать, кем я был. Пусть узнает после, когда все это будет в прошлом».
Костя Граф рассказывал о себе солидно, не торопясь и не вдаваясь в сентиментальности. Разговор его носил сугубо деловой характер:
— Я уже не молод, — говорил он, — мне тридцать восемь лет, и за свою жизнь я перевидал столько, что этим чижикам и во сне не приснится. У меня, знаете, специальность настоящая и деликатная. Нас остались единицы. Я работал «на малинку» в экспрессе Москва — Манчжурия. Партнерша у меня красавица, каких свет не видел, — Ванда, шикарная дама в котиковом манто. Хотя я вижу хорошо, но в поезде всегда был в роговых очках для солидности и имел вполне основательную внешность. Конечно, мы с Вандой ездили только в международном вагоне. Конечно, ездили, делая вид, что не знаем друг друга. И вот за ней начинал ухаживать какой-нибудь солидный пижон. В дороге, знаете, всегда начинают ухаживать. Ванда ухаживания принимала. Потом они пили чай или в ресторане пили вино за ужином. Она подсыпала в стакан снотворное, а когда пижон засыпал, то мы брали его вещи и сматывались на первой станции. Ясно? Но вот уже два года, как работать по прямой моей специальности почти невозможно. Аккредитивы портят все дело, и никто в дорогу не берет с собой наличных денег. Менять квалификацию на старости лет (хотя я не так уж стар) нет смысла и желания. И, наконец, скажу вам прямо: надоела вся эта волынка. Конечно, и в последнее время за мной есть кое-какие делишки, не буду скромничать и прикидываться дурачком.
И вот сейчас я пришел заявить вам об этом и не рассчитываю, что получу за это премию. У меня есть еще одна побочная специальность. Я — отличный топограф. Пожалуйста, пошлите меня в экспедицию и, если можно, куда-нибудь подальше. Оставаться в Москве пока боюсь: могу не выдержать, и засосет опять. Если поможете, уеду в экспедицию, пробуду пару лет, закалюсь и, когда почувствую, что уверен в себе, вернусь в Москву. Всё.
В таком же духе рассказывали остальные. Когда все они были опрошены, их принял т. Вышинский.
Все просили направления на работу в разные города по разным специальностям. Им это было обещано.
Ночью в «Известиях» происходило не совсем обычное собрание. Все рецидивисты, явившиеся днем в прокуратуру, ночью пришли в редакцию. Впрочем, не только все. По дороге они обрастали, как снежный ком, и потому в редакцию их явилось уже больше, чем в прокуратуру.
При этом произошло маленькое недоразумение. Сначала условились собраться в редакции к семи часам вечера. Затем выяснилось, что в редакции их смогут принять только в одиннадцать часов. Многие испугались, заподозрив, что тут готовится какая-то ловушка.
Костя Граф позвонил мне по телефону и рассказал об этом.
— Скажите прямо, — говорил он, — будут забирать или нет? Я и многие другие все равно придем, но некоторые ребята сомневаются. Могу ли я дать им честное слово, что им ничто не угрожает?
Я его заверил, что такое слово он дать может. Пришли все. В редакции, успокоившись и убедившись, что «забирать не будут», они еще более разоткровенничались. Некий «Король» рассказал, что он, собственно, присутствует в качестве «делегата» от небольшой, но теплой компании карманников, которая, посовещавшись, направила его в прокуратуру посмотреть, что из этого выйдет.
— Зорко ребята следят за результатом, — говорил он, — а завтра уж, наверно, все явятся. И в самом деле, выхода другого нету. И жить хочется, как всем людям, и угрозыск покою не дает. Больно тонко работать агенты начали.
Потом началось совещание. Прокурор Союза и редакция «Известий» руководили этим своеобразным заседанием.
Разговор шел начистоту. Прокурор Союза откровенно заявил, что закон есть закон и что явка с повинной еще не влечет за собой полной индульгенции.
— Вы пришли добровольно, — все же сказал он. — Никого из вас, явившихся сейчас с повинной, мы не будем привлекать к ответственности, поможем вам устроиться на работу, дадим возможность по-настоящему начать новую жизнь. Не все сразу дастся вам легко, — не рассчитывайте на это. Будут, конечно, и трудности и колебания. Но мы надеемся, что вы выполните свое обещание. От вас зависит ваше будущее, и я думаю, что оно будет счастливым.
От имени рецидивистов ответил Костя Граф. Волнуясь, он сказал:
— Хоть это и странно слышать, но если жулик дает честное слово, так это действительно честное слово. Это металл, это нержавеющая сталь, это платина. Мы ручаемся друг за друга. Можете не сомневаться, что все будет так, как мы говорим.
Таракан и Турман сосредоточенно что-то строчили в углу, тихо спорили между собой по поводу отдельных формулировок и, наконец, написали. Это было своеобразное воззвание к профессиональным ворам от имени собравшихся рецидивистов:
«Товарищи преступники, живущие еще в условиях улицы! Посмотрите, что для нас делает советская власть. Неужели мы не можем понять, что от нас требуется? Поймите, наконец, что нам протягивает Советский Союз пролетарскую руку и желает вытащить нас из помойной ямы. Бросьте сомнения и недоверие. Следуйте нашему примеру. Беритесь за работу и перестаньте воровать. Все равно из воровства ничего хорошего не выйдет. Не позорьте нашу родину. Будьте ее достойными сыновьями».
КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ
Вечером, в мартовскую оттепель, они разъезжались из Москвы с разных вокзалов. Уезжали «первые ласточки», первые тринадцать, явившиеся в Прокуратуру СССР. Точнее, их уезжало двенадцать.
Тринадцатый, Костя Граф, остался пока в Москве, откуда он вскоре поедет на зимовку в Арктику.
Каждый из уезжавших хранил в самом надежном кармане заветную путевку в город, куда он направлялся на работу и где ему предстояло выдержать нелегкий экзамен на новую жизнь.
Костя Граф носился по вокзалам, раздобывал билеты, усаживал в вагоны и произносил суровые прощальные слова. Еще никогда его жизнь не была такой насыщенной и трудной, такой радостной и полной.
— Смотрите, ребята, — говорил он уезжавшим, — не будьте жлобами. Не подводите себя и других. По нашему примеру будут судить обо всех. Мы можем провалить большое дело, и мы можем, наоборот, поднять его. Поднимайте, черт вас бери! Умрите, но не срывайтесь, плачьте, но не воруйте, отрубайте себе руки, если нельзя их удержать. Одним словом, вы меня понимаете…
Его действительно понимали. Его успели полюбить, в него верили, ему беспрекословно подчинялись.
На Киевском вокзале, когда стояли в очереди за билетами, Таракан невольно загляделся на стоявшую рядом даму с рассеянными близорукими глазами. Беспомощно щурясь, она искала кого-то в толпе, и два ее изящных, матово поблескивавших чемодана сиротливо стояли рядом у колонны. Право, на эти чемоданы было обидно смотреть. Они так и просились в руки. Таракан, покраснев от внутренней натуги, тщетно пытался отвести глаза от проклятых чемоданов. Костя Граф заметил его перекошенный взгляд.
— Чем это ты любуешься. Таракан? — спросил он страшным шепотом. — Не хочешь ли ты утонуть в этих паршивых чемоданах и завалить в них тринадцать человек?
Таракан побагровел и начал божиться, что не хочет.
— Да нет, Костя, — говорил он, — обидно слышать такие слова. Но ты посмотри, какие чемоданы, и главное — как она, дура, стоит… Понимаешь, они так в глаза и лезут…
— Лезут! — рявкнул Костя Граф. — Пусть они лопнут, твои глаза, если в них лезет всякая дрянь… Засыпь их песком или солью!
И, подбежав к рассеянной дамочке, он элегантно поклонился и вазелиновым голосом произнес:
— Пардон, мадам, вы, кажется, кого-то ищете? Считаю своим долгом предупредить вас: глядите за чемоданами, пока их не увели. На вокзалах, знаете, бывают урки, то есть, извиняюсь, воры, и надо смотреть за вещами…
Дамочка вскрикнула и, судорожно схватившись за чемоданы, бросилась в сторону.
— Профилактика, братцы, — улыбнулся Костя Граф, — если в нее вдуматься, — серьезная вещь.
Между тем количество являвшихся в прокуратуру стремительно возрастало. Начала работать специальная комиссия при МУРе. Всех приходивших проверяли, с каждым подробно беседовали, а затем комиссия решала вопрос о его направлении.
Среди явившихся было несколько человек, бежавших из лагерей. В прокуратуре им прямо заявили:
— Кто не отбыл наказания, должен отбыть. Повинная от наказания не освобождает. Идите в МУР, заявите, что вы бежали, и вас отправят обратно. Идите сами, мы вам верим.
Они ушли. И в тот же день все до одного явились в МУР и были направлены для отбывания наказания.
Явилось несколько растратчиков. Один из них, Саликов, пришел в прокуратуру вечером, навеселе. Дежурный комендант проводил его ко мне.
— Прибыл с повинной, — сообщил он не совсем твердым голосом. — Фамилия — Саликов. Разрешите доложить — за мной семнадцать тысчонок. Живу теперь под чужой фамилией. Обидно, но факт.
Ему было указано, что с повинной надо приходить трезвым. Его отпустили, предложив проспаться и вернуться утром.
Комендант с грустью выпустил его за ворота. Он опасался, что, протрезвившись, Саликов не придет.
Но Саликов пришел. Явившись с утра, он начал несколько смущенно извиняться за вчерашнее свое состояние.
— Простите, — говорил он, — скажу откровенно, выпил исключительно для смелости. Как-то странно, знаете, самого себя в тюрьму уводить…
И он рассказал свою несложную историю. Он служил в разных учреждениях и растратил семнадцать тысяч рублей. Скрываясь от ответственности, жил по чужим документам. Потом решил явиться с повинной.
Саликова арестовали, и он будет предан суду. Известие об этом он встретил спокойно.
— Я и не рассчитывал на иное, — ответил он. — Что ж, получу срок, отбуду наказание и заживу. Я не считаю себя потерянным человеком.
Так же как и Саликов, десятки других заявили, что не считают себя потерянными людьми. Может быть, в этом и заключается главный смысл того своеобразного Движения, которое началось среди этих людей. Их всех роднит, организует и направляет одно твердое убеждение: в нашей стране, у нашей родины не может быть, потерянных людей, пасынков. Он позвонил по телефону и сдавленным голосом произнес:
— Я очень прошу принять меня. Я не вор и не бандит, Я хуже. Моя фамилия — Рыбин.
Через несколько минут он вошел в кабинет, высокий, с густой шапкой золотых волос и остановившимися глазами. Лицо этого человека было гораздо старше его двадцати четырех лет. Рассказывая, он не глядел в глаза и будто вслушивался в собственную речь. Говорил он путано, с трудом выдавливая из себя слова.
— Я убил двух человек, — рассказывал он. — Это было давно. Но не очень. Первый раз это случилось в Скопине в тысяча девятьсот тридцатом году. Я убил его выстрелом в спину… Это было у полотна железной дороги… Он был противный человек. Очень. Я ясно излагаю?
Рядом наводящих и контрольных вопросов приходилось выправлять изломанную кривую его повествования. Очевидно, понимая недостатки своего изложения, он часто останавливался и спрашивал:
— Я ясно излагаю?
Второе убийство он совершил в 1932 году, в Средней Азии. Он служил тогда метеорологом на горной станции. Поссорившись с рабочим, служившим на станции, он столкнул его в пропасть.
Когда Рыбин все рассказал, его принял прокурор. Выслушав Рыбина, прокурор Союза сказал:
— Хорошо, Рыбин, проверим ваше заявление. Расследуем. Вы правильно поступили, что принесли к нам свой груз.
Рыбин впервые улыбнулся и ответил:
— Вот именно — груз. Он страшно давил меня. Я вконец измучился. И вот когда прочел, что даже профессиональные преступники являются, так подумал: как же мне-то не пойти?
Его арестовали и передали следователю, которому поручили это дело. Расследование подробно установит мотивы и обстоятельства совершенных им преступлений.
Стройный темноглазый Авесян позвонил по телефону из приемной и, отчеканивая каждый слог, произнес:
— Прошу меня принять. Нуждаюсь в помощи особого рода. Имею особые склонности.
Вскоре он вошел и спокойно, слегка грассируя, рассказал о себе.
— Представьте себе, — сообщил он, — обожаю психиатрию. Кроме того, прошу заметить, люблю сцену. Мне кажется, что настоящий актер должен хорошо знать психиатрию. Я хочу быть и буду актером. Сплю и вижу во сне себя в роли Отелло. Поверьте мне, что Папазяна я перекрою…
Я перебил его и спросил, какое отношение его артистические склонности имеют к прокуратуре. Авесян вспыхнул и заявил:
— Простите, я несколько увлекся. Я по профессии мошенник. Но по душе, повторяю, трагик. Судимостей нет. Несколько раз для смеха притворялся душевнобольным. Предварительно штудировал симптомы соответствующего заболевания по источникам. Ни разу не сорвался — врачи ставили нужный диагноз. Вы, конечно, понимаете, что делалось это главным образом для практики, для чисто актерской практики. Вот послушайте.
Он с чувством прочел монолог из «Отелло». Потом заговорил о психиатрии. Назвал Декарта, Маха, Бехтерева, Фрейда и других. Признаться, я подумал, что Авесян «подкован» в этой области не хуже иных молодых психиатров.
Он был направлен в Комитет по делам искусств. Его там проверили и нашли, что у него действительно большие способности Он зачислен в Гитис.
Так шли дни, и люди вереницами проходили через приемную прокуратуры, потом они шли в МУР и всюду находили сочувственный прием.
За московскими рецидивистами начали приходить рецидивисты других городов. В Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, Харькове, Ярославле и других городах люди начали являться с повинной в органы прокуратуры и милиции, заявляя о желании порвать со своим преступным прошлым.
В Киеве в Прокуратуру УССР 26 марта явился гражданин М. Протянув два номера «Известий», за 18 и марта, он произнес:
— Я к вам пришел по этому самому делу…
Вздохнув, М. изложил длинную историю своего прошлого. Двадцать пять лет он был профессиональным вором. «Работал» ширмачом, домушником, фармазонщиком. До революции успел побывать в Австрии, Бельгии и Югославии.
Почти всегда его кражи сходили удачно. За двадцать пять лет М. судился всего два раза.
Некоторое время тому назад М. устроился в Киеве на работу; для этого он воспользовался «липовым» документом. Несмотря на то, что он был вполне удовлетворен своим положением, он решил явиться в прокуратуру с повинной.
— Дни и ночи, — сказал он, — я думал по поводу прочитанного. Я очень взволнован и решил прийти и все вам рассказать. Делайте со мной, что хотите…
Аналогичные заявления поступают в прокуратуру и в других городах.
Из Кунгура на имя прокурора Союза пришла следующая телеграмма:
«Прошу вашего разрешения выехать делегатом от кунгурских рецидивистов тчк Телеграфьте. Кунгур Свердлова 21 Храпов».
Храпову отвечено, что ему незачем выезжать в Москву. Он может явиться в местную прокуратуру, и там ему дадут совет и окажут нужную помощь.
Большая часть людей, являвшихся с повинной, направлялась в разные города на работу. Московский угрозыск начал посылать на работу бывших рецидивистов. ВЦСПС принял участие в устройстве на работу людей, желающих порвать со своим преступным прошлым.
Прямая задача профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций была — как следует принять этих людей. Им надо было помочь устроиться в новом городе, окружить их вниманием, втянуть в общественную работу. Вместо мелкобуржуазного сюсюканья и обывательского праздного любопытства этим людям протянули руку помощи. И эта рука была протянута для крепкого рукопожатия — им, победившим в самой мучительной и трудной борьбе — в борьбе с самим собой.
УБИЙСТВО М. В. ПРОНИНОЙ
Она принадлежала к тому племени самоотверженных, скромных, беспредельно преданных своей нелегкой профессии людей, которых когда-то было принято снисходительно и несколько иронически называть, «незаметными героями».
Но революция, опрокинувшая прежнюю скудную номенклатуру героизма, сделала заметными этих людей, вывела их на широкую арену общественной деятельности, зачислила их в боевые отряды культурного фронта.
Она была народной учительницей, представителем того поколения советских учителей, которых одно время не очень разборчивые люди сокращенно и развязно именовали «шкрабами». Скромные «шкрабы» отнюдь не относились к плеяде блистательных латинистов и математиков в синих вицмундирах с орлеными пуговицами, к плеяде лощеных педагогов, которые успешно двигались по иерархической лестнице учебных округов, и после революции столь же успешно саботировали, презирая хлынувших в школу «кухаркиных детей» и вопя о разрушении культуры.
Напротив, Мария Владимировна Пронина, как и многие ее товарищи, в годы гражданской войны и разрухи не бежала из нетопленой школы, ни на один день не выпускала мела из обмороженных пальцев и не ворчала по поводу голодных пайков и недостатка в учебных тетрадях.
Сотни учеников выросли на ее глазах, спокойно и уверенно вступили они в жизнь, и дети многих из них уже пришли в школу все к той же Марии Владимировне, которая когда-то обучала их отцов.
Так проходили годы, и каждый из них приводил к Марии Владимировне десятки новых детей, осматривавшихся робко и пытливо, слушавших жадно и внимательно, запоминавших Марию Владимировну благодарно и навсегда, как запомнили все мы свой первый учебник, свой первый урок, своего первого учителя. И, быть может, лучшей наградой каждому педагогу является именно это нежное и благодарное воспоминание, которое мы обычно храним в течение всей своей жизни.
Почти три десятилетия отдала Мария Владимировна своему делу.
В городе хорошо знали и любили эту женщину. Дети, встречая ее на улице, всегда здоровались с ней радостно и звонко, их родители приветливо ей улыбались еще издали, завидя хорошо знакомое, по-русски добродушное, широкое и спокойное ее лицо.
И пусть это было в грязном и маленьком Мелекессе, где не было ни театров, ни музеев, ни даже хорошего клуба, — Мария Владимировна не скучала. Она была счастлива, потому что наше время открыло ей богатую, содержательную жизнь. Она видела, каким вниманием окружают страна и партия ее любимое дело. Она активно участвовала в общественной жизни края, будучи делегатом ряда съездов и бессменным членом городского совета. Наконец, она была удостоена высокого звания делегата Восьмого съезда советов и была в числе двухсот двадцати его лучших избранников, редактировавших текст Конституции СССР.
Всей своей скромной и чистой жизнью, тысячами обученных ею людей, всем, чем жила и что сделала Мария Владимировна, она по праву заслужила эту честь.
И вот почему с такой болью и с таким негодованием встретили Мелекесс, и весь край, и вся страна трагическое известие о том, что на ночной ухабистой дороге нашли искромсанное бандитскими ножами тело возвращавшейся со съезда делегатки.
Это произошло 11 декабря. В десятом часу вечера Мария Владимировна возвращалась с вокзала домой. С нею шла случайная попутчица Овчинникова, вместе с которой она ехала из города Куйбышева. Впоследствии Овчинникова рассказывала нам, что всю дорогу Пронина не переставая делилась своими впечатлениями о съезде.
Когда они приехали в Мелекесс, было уже совсем темно. Никто не удосужился встретить Марию Владимировну. С вокзала кривыми и пустынными улицами женщины шли вдвоем. Они заметили во мраке три неясных мужских силуэта, которые, однако, быстро растаяли в скользкой темени неосвещенной улицы.
Но вскоре под окнами дома N 17 по Больничной улице из-за угла внезапно снова выросли три фигуры. Их лица не были видны. Они набросились на Пронину, которая успела два раза крикнуть: «Разбой!» Испуганная Овчинникова отбежала в сторону и с криком о помощи начала стучаться в окна первого попавшегося дома, в котором жил учитель Тиунов. Разбуженный учитель и его соседи вышли с наспех зажженными фонарями, но, когда они подбежали к месту преступления, Мария Владимировна была уже мертва. Бандиты нанесли ей девять ножевых ранений.
И ничего, что давало бы в руки хоть какие-либо — пусть тончайшие и разрозненные — нити, никаких следов не оставили преступники на талой и грязной земле.
Перед следствием была поставлена нелегкая задача: найти троих убийц среди сорокатысячного населения Мелекесса. Вот почему так тяжело давалось раскрытие этого дела, вот почему так осторожно и неуверенно, как бы ощупью, как бы впотьмах, делало следствие свои первые шаги.
Работники прокуратуры, НКВД и угрозыска, работавшие сплоченно, не знали ни дня, ни ночи, лихорадочно проверяя одну версию за другой.
В Мелекессе почти не было учета уголовного элемента. Происшествия и преступления не регистрировались. Сотрудники МУРа были вынуждены рыться в судебных архивах, кропотливо изучать истории болезней и врачебные записи в местной больнице, тщательно восстанавливать все случаи ранений и грабежей. Следуя известному правилу криминалистов, надо было найти аналогичные по способу совершения преступления. Преступники обычно действуют одним способом, сохраняют индивидуальность в своем преступлении, применяя одни и те же методы, оставляя, как говорят следователи, свою «визитную карточку».
И вот в ряду этих случаев, в пыли судебных архивов было найдено и извлечено дело об убийстве гражданина Малова, совершенном еще в апреле прошлого года. Малову было нанесено пятнадцать ножевых ран. Он был убит ночью на улице. Все обстоятельства этого преступления напоминали убийство Прониной.
В деле об убийстве Малова, кстати прекращенном мелекесскими пинкертонами «за необнаружением виновных», оказалось анонимное письмо. В этом письме сообщалось, что Малова убили местные бандиты Розов и Федотов. В письме сообщалось, что Розов убил Малова, приревновав его к Лизке Косой.
Среди множества мелекесских Елизавет мы с трудом разыскали Лизку Косую.
Смущенно хихикая и не отвечая на вопросы, она долго запиралась и, наконец, рассказала, что Розов действительно ревновал ее к Малову и не раз грозился его «пришить».
— Уж очень лют, — говорила она, — чуть что, за нож хватается. А Федотов и Ещеркин, его дружки, у него вроде как помощники считаются…
На следующий день Розов, Федотов и их приятель Ещеркин были арестованы.
Когда мы ночью пришли в дом Розова, он спал на полатях. Разбуженный и недовольный, он потребовал предъявления ордера на арест, долго и придирчиво рассматривал ордер и затем, почесываясь, справился, имеется ли санкция прокурора на его задержание.
Такая неожиданная процессуальная грамотность быстро объяснилась: в кармане Розова была обнаружена выписка из 127-й статьи Конституции, в которой говорится о неприкосновенности личности и порядке производства ареста.
Это была вырезка из Конституции, в редактировании которой участвовала убитая им Пронина.
Розов вел себя нагло и уверенно. Он категорически отрицал свою причастность к убийству, требуя предъявления доказательств.
Первым сознался Федотов. Он тоже долго запирался, но не выдержал, когда мы ночью привезли его на Больничную улицу, на то самое место, где была убита Пронина.
— Уведите меня, — сказал он, — я все расскажу, как было, только уведите меня с этого места.
Всхлипывая и дрожа, он подробно рассказывал нам, как он, Розов и Ещеркин выследили двух женщин, возвращавшихся с вокзала, и убили одну из них.
После убийства, захватив ее чемодан, они убежали на кладбище. Там Ещеркин начал открывать чемодан, торопясь рассмотреть содержимое. Замки не поддавались, и он пытался открыть крышку чемодана ножом Розова, — тем самым ножом, которым была убита Пронина. Розов возмутился и дал понять, что этот нож предназначается для иного применения. Тогда, так и не открыв чемодана, они отнесли его в дом Розова, Наутро, узнав, что ими убита делегатка съезда М. В. Пронина, бандиты устроили совещание. Прежде всего решили сжечь чемодан, оставив, однако, вещи. Чемодан сжигали в печке, предварительно оторвав от него и запрятав металлические замки и застежки…
На следующий день они отправились втроем в Дом советов, где трудящиеся Мелекесса прощались с телом Прониной. Вместе с другими они подошли к постаменту, на котором был установлен открытый гроб, и внимательно рассмотрели убитую. Потом были похороны. И на них Розов, Федотов и Ещеркин присутствовали, с интересом слушая речи на гражданской панихиде.
— Очень важные были похороны, — говорил нам Федотов, — и жалостные. Ещеркин даже прослезился. Ей-богу, не вру. Народу было тьма-тьмущая.
Сразу же после допроса Федотова мы вместе выехали в дом Розова, где начали производить тщательный обыск. Под настилом дворового крыльца, в куче мусора, удалось обнаружить металлические замки и застежки, сорванные с чемодана М. В. Прониной.
Вторым сознался Ещеркин. Тупо улыбаясь, он цинично повторял уже знакомые подробности.
Розов все еще пытался отпираться. Когда ему было сообщено, что его соучастники уже сознались, он потребовал очной ставки. Ввели Федотова.
— Сашка, — хрипло произнес Федотов, — говори, чего уж там. Засыпались…
Розов метнул на него бешеный взгляд и, задыхаясь от злобы, закричал:
— Врешь, паразит, врешь, сволочь, это ты убивал, я ничего не знаю!
Тогда позвали Ещеркина. Все с той же тупой, дегенеративной улыбкой, обнажавшей гнилые зубы, Ещеркин подтвердил, что они втроем убили Пронину.
И только после этого, задыхаясь от бессильной злобы, клокочущей в его сожженном алкоголем горле, с раскаленными ненавистью глазами, главарь этой шайки Розов начал хрипло рассказывать о своем преступлении. Время от времени он прерывал рассказ и начинал вдруг протяжно, по-звериному выть, уставясь в одну точку налитыми кровью глазами. В эти минуты он походил на взбесившееся животное и был особенно страшен и отвратителен. Впрочем, его соучастники выглядели не лучше.
Все трое, спившиеся и озверевшие дети кабатчиков и кулаков, они являли собой гнусное зрелище отбросов общества. Они проводили время в бандитских налетах и грабежах, терроризируя население Мелекесса. Взращенные и воспитанные антисоветской средой, они занимались не только обычной уголовщиной, но и своеобразной борьбой с советской властью, с советским правопорядком. Недаром Федотов любил говорить о себе:
— Я ночной царь Мелекесса. Ночью я хозяин!
В течение последующих двух дней раскрывались все новые и новые преступления, совершенные этой шайкой.
Вещи Прониной были обнаружены на квартире сестры Розова Гуляевой и ее мужа, хорошо знавших о происхождении этих вещей. Там были найдены синие шапочки с трогательными помпонами, которые Пронина везла из Москвы в подарок своим детям.
Делегатский билет Марии Владимировны и сделанные ею на съезде записи были сожжены преступниками.
Так было раскрыто убийство Марии Владимировны Прониной.
ДЕЛО СЕМЕНЧУКА
В этот летний знойный день на перроне Северного вокзала было особенно шумно. Провожали владивостокский экспресс. На остров Врангеля уезжала новая партия зимовщиков. У синих, щеголевато выглядевших вагонов толпились родные, друзья, знакомые. Шла обычная вокзальная суетня. Уезжающие возбужденно смеялись, давали адреса и обещали писать. Впереди их ждала Арктика, долгие полярные ночи, сумрачные просторы острова Врангеля.
Врач Николай Львович Вульфсон был в этой партии зимовщиков. С ним ехала жена — Гита Борисовна Фельдман, тоже врач. Оба они ехали а Арктику и были полны надежд и планов. Большая интересная работа, далекий Север, необычная обстановка зимовки радостно волновали Вульфсона и его жену.
В одном вагоне с ними ехал и новый начальник острова Врангеля — Семенчук, плотный мужчина средник лет, с фельдфебельской выправкой и хмурым, незначительным лицом. Рядом с ним стояла жена — вертлявая, безвкусно разряженная женщина с резким, скрипучим голосом и вульгарными манерами.
Но вот раздался последний звонок, пассажиры бросились в вагоны, и под нестройный хор прощальных приветствий экспресс тихо двинулся вперед.
И почти через полтора года после этого в просторном кабинете прокурора Союза исхудавшая, вконец измученная женщина взволнованно, но твердо рассказывала о кошмарных подробностях событий, происходивших на зимовке острова Врангеля, о гибели своего мужа.
Семенчук, этот мрачный, всегда почему-то нахмуренный, туго соображавший человек, очень быстро восстановил против себя зимовщиков. Его не любили. Ему не верили. Но его боялись.
Жена Семенчука еще более обостряла отношения. Эта накрашенная, разряженная «барыня» сразу почувствовала себя «начальницей». Она потребовала даже, чтобы к ней обращались не иначе, как со словами «товарищ начальница».
Она вмешивалась во все дела, отдавала распоряжения, мешала работать. Супруги идеально дополняли друг друга. И еще во Владивостоке к ним примкнул биолог Вакуленко, ставший правой рукой Семенчука и нежным другом его супруги. Пьяница, наушник и интриган, Вакуленко оказался этой паре вполне под стать. Он охотно принял на себя обязанности шпиона и фискала и исправно докладывал Семенчуку о настроениях зимовщиков.
— Ну, скажи, а которые против меня? — обычно спрашивал Семенчук.
— Вульфсоны ненадежны, Константин Дмитриевич, — сладким шепотком докладывал Вакуленко, — беспокойный народ. И к тому же жиды, обратите внимание…
На острове Врангеля Семенчук развернулся во всю ширь. Льды, море, наивные, доверчивые, как дети, эскимосы. Они плакали, провожая бывшего начальника острова Минеева. Они гурьбой провожали его на пароход. Их дети со слезами тащили Минеева за рукава обратно. Дети не хотели его отпускать. Они любили его и были к нему привязаны, как любят и привязываются в Арктике, где суровая природа особенно сближает и роднит людей.
Минеев оставил зимовку в отличном состоянии. При нем остров Врангеля был подлинно большевистским форпостом в далеких ледяных просторах.
Еще труба парохода, увозившего Минеева, маячила на горизонте, а уж Семенчук, держа руку на открытой кобуре нагана, произнес свою первую декларацию:
— Начальник теперь я. Имею полномочия. Вплоть до расстрела. Щадить не буду.
Трудно описать все безобразия и преступления, которые творил Семенчук.
Он сорвал охоту на моржей. Он не давал эскимосам катера и не разрешал выезжать в море. Зимовщикам он срывал научную работу. Мясо, оставленное Минеевым, из-за нераспорядительности Семенчука погибло. И население острова начало голодать.
Запасы продовольствия были огромны, их хватило бы на несколько лет. Семенчук был обязан снабжать эскимосов. Но он им в этом отказывал.
— Не ваше дело! — грохотал Семенчук, когда Вульфсон упрашивал его помочь эскимосам. — Я здесь начальник, а не вы. Эскимосы — лодыри. Пусть жрут тухлое мясо. Ничего не дам.
Но даже тухлого мяса не было. На почве голода началась цынга. На западе острова местное население сорвало моржовую шкуру с байдары и варило из нее суп. Другие ели мешки из-под муки. Запуганные Семенчуком, зимовщики молчали. Парторг Карбовский, жалкий и безвольный человек, только разводил руками и в ответ на всеобщие жалобы уныло заявлял:
— Ну что, братцы, с ним сделаешь? Терпеть надо, терпеть…
— Как же терпеть? — возражали ему. — Ведь люди умирают.
— Что поделаешь! — вздыхал Карбовский. — Мы все уйдем под вечные своды. Это еще Пушкин сказал.
На суде Карбовский объяснил свое преступное поведение «боязнью за собственную шкуру».
Чтобы окончательно устрашить зимовщиков, Семенчук организовал в бане что-то вроде тюрьмы. Он сажал туда за малейшее непослушание. Рабочего Клечкина Семенчук содержал в этом своеобразном изоляторе два раза. Баня не отапливалась. Просидев однажды в холодной бане двое суток, Клечкин объявил голодовку и только после этого был освобожден. На суде Семенчук буквально заявил:
— Я в баню не сажал. Клечкин сам туда посадился. Так шли дни и месяцы. Вооруженный Семенчук грозно расхаживал по зимовке и всегда напоминал:
— Все права имею, вплоть до расстрела. Непослушания не потерплю. Тут я — хозяин. Я — суд, я — прокуратура, я — погранохрана. Я — всё.
Злобствующий мещанин и человеконенавистник, примазавшийся к партии авантюрист, он был опьянен своей властью, сознанием, что так удачливо пробрался в место, где его не видит и не, слышит никто, кроме десятка насмерть запуганных людей.
И лишь одно лицо нарушало покой Семенчука — доктор Вульфсон. В Николае Львовиче, казалось, не было ничего особо героического. Скромный беспартийный врач, хороший товарищ, жизнерадостный и веселый человек. Всё.
Тысячи таких людей живут среди нас. Мы их знаем, встречаемся с ними и не находим в них ничего выдающегося. Но вот неожиданное стечение обстоятельств — и эти наши «незаметные» знакомые, наши «будничные» соседи вдруг выпрямляются во весь свой рост и показывают образцы мужества и подлинного героизма.
Вульфсон отчаянно боролся с Семенчуком. Он открыто разоблачал его преступления. Он дрался, как солдат, за каждую банку молока для больного ребенка-эскимоса, за каждый килограмм угля для замерзающей, больной семьи эскимосов.
Он лично ходил к Семенчуку, просил, требовал, подавал рапорты, протестовал.
Вульфсон был опасен Семенчуку. И Семенчук решил его устранить.
В качестве физического исполнителя Семенчук наметил Старцева.
Старцев — паразитический тип, бывший колчаковец, девять лет безвыездно жил на острове Врангеля. Эскимосы не любили и боялись Старцева. Они знали его жестокость, его тупость, они считали его способным на все. Старцев насиловал эскимосок и еще в 1926 году собирал у местного населения какие-то недоимки по царским налогам, говоря, что имеет на то особые полномочия.
Слово Семенчука было для Старцева законом. И по приказанию начальника острова Старцев совершил убийство Вульфсона.
В процессе следствия и на суде эти обстоятельства были установлены железным кольцом косвенных улик.
Показаниями всех свидетелей, обстоятельствами дела, сохранившимися документами, судебно-медицинской экспертизой было твердо установлено, что убийство доктора Вульфсона совершил 27 декабря 1934 года Старцев по прямому заданию Семенчука.
Расследование по этому делу сразу столкнулось с цепью серьезных препятствий. Нелегко раскрыть картину преступления, совершенного в далекой Арктике, в обстановке, не знакомой следователю, много месяцев тому назад. Все в этом деле было необычно, запутанно и сложно.
Было ясно, что детальное выяснение всех обстоятельств, предшествовавших смерти доктора Вульфсона, установление быта, взаимоотношений и характеров зимовщиков, каждый, самый мельчайший штрих, бытовая деталь, человеческая характеристика представляют в настоящем деле особое значение. Следствие пошло в этом направлении.
Я хорошо помню, как в течение трех месяцев расследования по этому делу мне с трудом удавалось находить новые детали и улики, сопоставлять, перепроверять показания свидетелей, копаться в документах, изучать литературу об Арктике и острове Врангеля, рыться в метеорологических сводках. Но зато, какое огромное удовлетворение давал каждый новый непреложно установленный факт, совокупность этих фактов постепенно создавала стройную законченную версию.
После того как была установлена и полностью вскрыта общая картина быта и взаимоотношений на зимовке, когда характеры и нравы зимовщиков стали предельно ясны, следствие перешло к выяснению обстоятельств гибели Вульфсона.
25 декабря Семенчук вызвал к себе Вульфсона и приказал ему выехать на нартах в противоположный конец острова, в бухту.
— Я получил вызов, — сказал Семенчук, — от больных эскимосов. Немедленно выезжайте, окажите помощь. Проводником поедет Старцев;
Позже Семенчук заявил, что вызов был получен от местного жителя Тагью, у которого заболел сын. Следствие установило, что вызова к больному вообще не было.
Дисциплинированный Вульфсон немедленно стал собираться в дорогу. Но, несмотря на то, что была пурга и предстоял тяжелый, опасный путь, Семенчук отказал врачу в дохе и дал самых скверных собак. Это вызвало у Вульфсона первые подозрения, что с ним решено покончить. Потом врач попросил спальный мешок. И в этом ему было отказано.
Выезд был назначен на 26 декабря. Взволнованный Вульфсон долго не мог уснуть. Поздно ночью, когда жена врача спала, он набросал при мерцающем свете ночника свое последнее письмо. Оно было найдено уже после его гибели. Вот это письмо:
«Всем, всем, всем. В случае моей гибели прошу винить в этом исключительно начальника зимовки Семенчука. Подробности расскажет моя жена Гита Борисовна Фельдман. Последний привет сыну Володе. Врач Николай Вульфсон».
Эта трагическая записка красноречиво говорит о том, что Вульфсон догадывался, зачем его посылают в бухту. Вульфсон понимал, что он страшен Семенчуку как разоблачитель всех его безобразий, всех его преступлений.
Утром 26 декабря на двух нартах доктор Вульфсон выехал в свой последний путь.
И через несколько дней на зимовку вернулся один Старцев и заявил, что доктор «потерян» в дороге.
Семенчук хотел отложить розыски врача, но зимовщики настояли на немедленном выезде. На розыски выехали почти все зимовщики, и недалеко от бухты Сомнительной был обнаружен труп Вульфсона с проломленным черепом.
На следствии были установлены все детали исчезновения Вульфсона, судебно-медицинская экспертиза удостоверила факт насильственной смерти, была установлена умышленная и заранее продуманная организация этого убийства.
Старцев долго путался в показаниях на следствии и на суде, пока на прямой вопрос прокурора, наконец, не ответил, что он сознательно бросил врача по приказанию Семенчука. Старцев не добавил одного: что он бросил уже труп убитого им врача.
После убийства Вульфсона перед Семенчуком возникла новая задача — устранить Фельдман. Вдова убитого была тоже опасна Семенчуку. Она требовала объективного следствия и прямо обвиняла Старцева и Семенчука в убийстве своего мужа.
Раздавленная горем женщина подверглась изощренной травле бандитов. По приказу Семенчука зимовщики не смели с ней разговаривать. Ей было отказано в топливе, хотя она лежала больная, с высокой температурой. Ее лишили права сноситься по радио с Москвой и не выдавали полученных на ее имя радиограмм.
Лишь кое-кто из зимовщиков по ночам, робко озираясь, воровал уголь и приносил его в комнату Фельдман. Уголь приходилось красть, потому что Семенчук запретил его выдавать «жидовке».
Но Фельдман все-таки жила. Это не устраивало начальника острова. И он издал приказ о ее высылке «в отдаленную часть острова». Была приготовлена нарта, торжествующий Семенчук с наганом в руке ворвался к Фельдман и вручил ей предписание:
«Немедленно выехать в пункт, который будет вам сообщен особо».
Фельдман, у которой в это время была температура сорок, с трудом оделась. Но зимовщики впервые оказали сопротивление Семенчуку. Они отказались вывозить Фельдман, понимая, что это прямое убийство.
— Не повезу, — сказал рабочий Клечкин. — Как хотите, не повезу.
— Молчать! — заорал Семенчук. — Опять в баню хочешь? Начальника не слушаешь?
— Сажайте хоть третий раз в баню, не повезу.
Все преступления Семенчука были разоблачены и доказаны.
Шесть дней шло заседание Верховного Суда.
Злобно шипел главный обвиняемый — Семенчук. Он часто отказывался отвечать на вопросы, отрекался от им же лично написанных документов и потом снова их признавал, лгал упорно и глупо, несмотря ни на что.
Глядя на Семенчука, я вспомнил, как он вел себя на следствии.
Он так же упорно лгал и запирался. Он готов был отказаться от самого себя.
Уже в конце следствия, видя безнадежность своего положения, Семенчук прибегнул к симуляции. Он объявил себя марсианином. Его перевели в тюремную больницу.
— Вчера опять получил радиограмму с Марса, — сосредоточенно говорил он врачу, — все благополучно. А тут у меня арестовали всех родных и знакомых. Сто человек сидит.
Семенчук кривлялся, кутался в простыню и прятался за тумбочку больничной палаты. Была произведена экспертиза, установившая, что он симулирует. И эта карта стала бита. Буквально на следующий день Семенчук совершенно «выздоровел». Он перестал кривляться и явился в суд без всяких попыток симулировать сумасшествие.
И когда на суде т. Вышинский спросил его об этом, то Семенчук впервые немного сконфузился.
За многие годы моей следственной работы я видел вереницы преступных типов и характеров. Я допрашивал убийц, профессиональных бандитов, содержателей притонов, сутенеров и растлителей малолетних. Но еще никогда мне не приходилось встречать человека, в личности которого не было бы ни одного проблеска, ни одного светлого пятна, ничего человеческого. Семенчук был именно таков. Он жил и действовал, зная лишь один свой, семенчуковский, волчий закон.
Рядом с ним на скамье подсудимых сидел Старцев. Он притворялся простачком, делал вид, что не понимает вопросов, и всячески пытался изобразить из себя «дитя природы».
Верховный Суд приговорил Семенчука и Старцева к расстрелу.
ПОЛСАНТИМЕТРА
Выстрел раздался внезапно поздней ночью, около трех часов, когда в квартире все уже мирно спали. Это была обычная коммунальная квартира в новом военном доме, в Ростове-на-Дону. Выстрел раздался из комнаты, в которой жили лейтенант Реутов и его жена Анна Ильинична Кравченко. А через минуту из этой комнаты с криком выбежала в коридор, в одном белье, растерянная, насмерть испуганная женщина. Это была Кравченко. Бросившись на сундук, стоявший в коридоре, она долго кричала, плакала и билась. Сбежавшиеся соседи так и не могли от нее добиться, в чем дело, пока не вошли в комнату Реутова и не увидели труп лейтенанта, лежавший на кушетке, с огнестрельной раной в виске. Тут же на полу валялся его наган, к которому беспомощно свисала рука.
Растерявшиеся соседи зачем-то вызвали скорую помощь, хотя было очевидно, что лейтенанту никто и ничем уже не сможет помочь, а потом приехали следователь и судебный врач.
Они составили, как водится, протокол осмотра и деликатно расспросили несчастную женщину об обстоятельствах самоубийства ее мужа.
Всхлипывая и рыдая, молодая женщина с трудом отвечала на вопросы.
Она до такой степени растерялась и так была пришиблена случившимся, что не всегда понимала, о чем ее спрашивают, забыла, что она не одета, и недоуменно посмотрела на соседку, протянувшую ей халат.
— Мы были с Митей в кино, — рассказывала Анна, — потом дома он выпил. Вообще он в последнее время сильно пил. Плохо спал, метался. Потом легли спать. Митя лег на кушетке. Я заснула, и вдруг…
И она снова заплакала.
Труп самоубийцы был подвергнут судебно-медицинскому вскрытию. Вскрытие показало, что смерть Реутова наступила мгновенно — от сквозного ранения в правовисочную область головы. Наличие внедрившихся в кожу на виске порошинок и следы ожога у входного отверстия раны указывали на то, что выстрел был произведен в упор. Было также установлено, что лейтенант в момент самоубийства находился в состоянии опьянения.
Вскрытие производилось утром, в морге ростовской больницы. Помощник военного прокурора, которому было поручено расследование по этому делу, молча стоял у окна, пока судебный врач возился с трупом. Ему было не по себе. От специфического запаха трупного разложения, твердо устоявшегося в морге, прокурора слегка мутило, и он не мог дождаться конца этой унылой процедуры, которую в глубине души рассматривал как излишнюю и нудную формальность.
Труп лейтенанта лежал на столе, отливая тем особым желтовато-синим цветом, которым всегда отличаются покойники.
Наконец, вскрытие было закончено, и врач, молодой еще человек с тусклым, отекшим лицом почечного, больного, сказал, моя руки:
— Картина ясна: покойник был пьян и шлепнулся.
Через несколько дней Реутова похоронили на городском кладбище, а прокурор, прихлебывая чай и крепко затягиваясь папиросой, дописал заключительные строчки коротенького постановления о прекращении дела:
«11 февраля с. г. Реутов вечером у себя на квартире напился водки до стадии опьянения и 12 февраля с. г. в 3.00 покончил жизнь самоубийством выстрелом из револьвера „наган“ в правый висок головы…
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что Реутов покончил жизнь самоубийством в силу его морально-бытового разложения и что к самоубийству его никто не понуждал, а посему, руководствуясь ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, постановил: дело за N 17 о самоубийстве лейтенанта Реутова Дмитрия Степановича дальнейшим производством прекратить».
Как видите, не слишком грамотно и не очень убедительно, но зато весьма решительно и чрезвычайно просто.
Так, не задумываясь и не сомневаясь, без излишних анализов и размышлений, даже без обычной человеческой любознательности и любопытства, прокурор бросил на свои судейские весы, бросил легко и просто, как куль сена, жизнь, судьбу и честь лейтенанта Реутова.
И хотя свое заключительное постановление прокурор начал с глубокомысленного «и принимая во внимание», но в действительности ничего он во внимание не принял и в деле не разобрался…
Прошло полгода. Многое изменилось за это время. Уже лейтенанта Реутова основательно забыли, успокоилась и его вдова и, решив, что не вечно же ей оплакивать покойного мужа, вышла вторично замуж за сотрудника военторга X., который для нее оставил свою первую жену и детей и переехал в комнату Анны Кравченко, в ту самую комнату, где застрелился Реутов.
Они зажили широко и весело. У Анны появились дорогие наряды, безделушки, комнату обставили новой, изящной мебелью, Анна бросила работу. Новая жизнь и новый муж устраивали ее вполне, она очень похорошела и расцвела и огорчалась лишь тем, что начала полнеть.
Куда-то в другой город перевели помощника прокурора, прекратившего это дело, и новый прокурор, не такой поспешный и решительный, почему-то начал перелистывать старые, давно прекращенные дела.
Перелистал он и дело о самоубийстве лейтенанта Реутова и, вызвав следователя Меньшикова, поручил ему еще раз проверить это дело.
Трудно объяснить, почему он так поступил. Но бывают такие невинные с виду дела, мирно сваленные в судебные архивы, дела, которые у опытного следователя, судьи, прокурора почему-то сразу вызывают именно тот профессиональный и острый интерес, который пытливо и настойчиво приводит к истине. Нельзя точно сформулировать, почему это так происходит, почему такое старое, мертвое, прекращенное дело, покрытое временем и пылью, повествующее о людях, которых давно уж нет, рассказывающее о фактах, которые всеми позабыты, и о днях, которые безвозвратно ушли, — почему такое дело внезапно оживает и, движимое инициативой следователя, его находчивостью, опытом и талантом, раскрывается неожиданно и до конца.
Это так же трудно точно сформулировать, как трудно объяснить, почему опытный охотник иногда, еще не увидев следа, без всяких признаков, как бы беспричинно, вдруг ощущает присутствие зверя и, ведомый некиим шестым и всегда безошибочным чувством, приходит к его берлоге.
Следователь Меньшиков был знатоком и энтузиастом своего дела. И потому за внешней убедительностью протокола вскрытия, под шелухой рассуждений о морально-бытовом разложении Реутова, якобы приведшем его к самоубийству, он обнаружил, что основной вопрос в этом деле так и остался неразрешенным: почему покончил с собой Реутов и покончил ли он с собой?
На этот вопрос было трудно ответить через полгода, но ответить было необходимо.
И вот Меньшиков решил, что надо прибегнуть к математике, надо измерить и вычислить соотношение входного и выходного отверстий раны, определить путем точного расчета угол полета пули и тогда решить: своя или чужая рука приставила дуло нагана к реутовскому виску.
Нужно ли рассказывать о том, как это было сложно и трудно сделать. О том, как долго пришлось искать могилу Реутова на городском кладбище (он был похоронен без памятника и без указателя), как потом был извлечен из могилы его полуистлевший труп, как тщательно были измерены ранения его черепа, как потом производились вычисления и эксперименты, как на этом основании был, наконец, изготовлен фотомонтаж полета пули, пронизавшей его череп.
И о том, как этот фотомонтаж безоговорочно и материально, зримо и бесповоротно, наглядно и непоколебимо утверждал: ровно полсантиметра недостает для того, чтобы можно было признать, что Реутов застрелился сам, своею правой рукой.
Но если это так, то кто же? Выстрел произошел в тот момент, когда в комнате было только двое: Реутов и Анна Кравченко. Значит, если не он, то она. И вот Анна Кравченко входит в кабинет следователя Меньшикова. Она входит уверенной и изящной походкой молодой красивой женщины, знающей себе цену, привыкшей к успеху. Кокетливо и чуть надменно она здоровается со следователем, садится, непринужденно закинув ногу на ногу и спокойно любуясь лакированным носком своих элегантных туфель. Потом она просит разрешения закурить, и следователь галантно зажигает ей спичку.
— Мерси, — говорит она и привычно затягивается.
— Пожалуйста, — коротко отвечает следователь.
Пауза. Они сидят вдвоем, друг против друга, в извечной диспозиции следователя и допрашиваемого, вдвоем, лицом к лицу, вдвоем: она — которая убила, и он — который сейчас это докажет, она — которая совершила страшное преступление, и он — который его раскрыл. Он привычно наблюдает за нею и под маской наигранной беспечности улавливает искорки тревоги в глубине ее глаз, собранность и напряжение всей ее хитрости, осторожности и воли в этой сухой складке рта, в жилке, нервно пульсирующей на шее, в манере часто облизывать почему-то сохнущие губы и в нарочитости того чрезмерного спокойствия и уверенности, которые ей хочется показать, которыми ей хочется убедить.
Наконец, Анна Кравченко прерывает молчание:
— Зачем меня вызвали к вам? Вероятно, какая-нибудь справка по делу моего покойного мужа?
— Да, — говорит Меньшиков, — небольшая справка. Нам нужно выяснить: почему вы его убили?
Кравченко широко открывает глаза, с удивлением смотрит на следователя и с возмущением произносит:
— Что это за шутки? Притом неуместные. Зачем я вам нужна?
— Я не шучу. Напротив, я вполне серьезно. Геометрию изучали?
— При чем тут геометрия, я ничего не понимаю.
— А вот, посмотрите. Арифметика простая. — Меньшиков достает фотомонтаж; он и Кравченко склоняются над ним, и Меньшиков терпеливо, спокойно, как учитель, объясняет: — Вот это входное отверстие, тут выходное. Значит, пуля, проделав этот путь, имела уклон под градусом… Считайте…
Через десять минут Анна Кравченко бросила на стол перчатки, устало вытянулась и, щуря уставшие от непривычных расчетов глаза, протянула:
— Черт возьми, я ошиблась всего на полсантиметра. Как глупо!…
— Да, неосторожно, — согласился Меньшиков, — все остальное было неплохо исполнено. Ну-с, Анна Ильинична, перейдем от геометрии к делу. Рассказывайте.
— Сейчас, — сказала Кравченко, — только дайте мне, пожалуйста, папиросу.
Кравченко взяла папиросу, один раз затянулась и вдруг в ожесточении бросила папиросу на стол и заплакала, заплакала сразу, не вытирая слез, закрыв лицо руками и судорожно вздрагивая спиной.
Меньшиков протянул ей стакан воды, она попробовала выпить, но от судорог, потрясавших ее тело, не смогла это сделать и только пролила воду на кофточку. На минуту перестав плакать, Анна Ильинична вскочила, достала из сумочки платок и очень аккуратно вытерла воду с кофточки.
Допрос Анны Кравченко закончился вечером. Меньшиков прочел ей все, что записал с ее слов. Кравченко слушала протокол допроса невнимательно, и когда Меньшиков сделал ей замечание, она ответила:
— Не все ли равно. Главное сказано, записано и доказано, а подробности мне ни к чему.
Потом она подписала протокол. Меньшиков объявил Кравченко постановление об аресте и направил ее в тюрьму. Когда арестованную увели, следователь еще раз перечел протокол.
Он прочел показания Анны Ильиничны о том, как, будучи женой Реутова, она случайно познакомилась с сотрудником военторга X.
«Я решила выйти за него замуж и бросить Реутова. Но X. тоже был женат, имел двоих детей, и переехать к нему я не могла. X. был согласен переехать ко мне. К тому времени мы сошлись, и я решила, что X. как муж устраивает меня больше, чем Реутов. Размышляя, как мне поступить, я постепенно пришла к решению убить Реутова, симулируя самоубийство. И вот в этот день 12 февраля я пригласила Реутова в кино. Когда мы возвращались, купила водки.
Дома угостила Реутова, он выпил и потом уснул. Тогда я достала его наган и в упор выстрелила ему в голову…»
Оставалось выяснить, причастен ли к этому преступлению X., или нет. Меньшиков тщательно проверил этот вопрос, он несколько раз допрашивал Кравченко и X., анализировал множество всяких косвенных и мелких штрихов, улик и обстоятельств, о которых нет нужды здесь рассказывать, и, в конце концов, твердо доказал, что X. ничего не знал об убийстве Реутова.
И хотя внешние факты и обстоятельства были против X. и, казалось, имелись все основания его заподозрить, а заподозрив, арестовать, Меньшиков не пошел на это. И для реабилитации этого человека следователь потратил не меньше внимания, труда и таланта, чем для того, чтобы изобличить его жену.
В тот вечер, когда невиновность X. была окончательно доказана, следователь Меньшиков в первый раз за это время улыбнулся и сравнительно рано пошел домой. Он возвращался гордый самим собой, своей профессией, а главное — ее незыблемым и замечательным законом:
уметь не только разоблачать преступника, но и защищать от случайностей и оговора запутавшегося, но невиновного человека.
ОХОТНИЧИЙ НОЖ
Да, приказ был подписан, и в нем черным по белому значилось, что профессор кафедры зоологии Буров и его ассистент Воронов командируются на год на остров Колгуев в Баренцово море для проведения научно-исследовательских работ. В университете читали приказ и посмеивались. Дело в том, что и преподавателям и студентам, всем без исключения, было хорошо известно, что профессор и его ассистент не переваривают друг друга. Приказ о направлении этих двух людей на год в обстановку, где они продолжительный срок будут находиться вместе, вызывал недоумение и улыбки. Кое-кто шутил, что сделано это неспроста, в расчете на то, что суровый климат остудит вражду между профессором и его ассистентом.
— Друзьями возвратятся оттуда, — говорили шутники, — закадычными. Вот увидите…
Впрочем, больше всех были удивлены сами виновники этого приказа. В университете стало известно, что профессор, неожиданно для себя узнав фамилию человека, предназначенного ему в товарищи по зимовке, не спал целую ночь. Воронов, как рассказывали, тоже был очень огорчен.
Но приказ есть приказ, и через несколько дней экспедиция университета в составе профессора Бурова и доцента Воронова отбыла в далекое Баренцево море, на остров, где этим двум ученым предстояло вместе прожить долгий арктический год.
Уже через месяц после этого от них были получены первые письма. Буров и Воронов делились впечатлениями, подробностями путешествия и своими планами.
«…Все было бы хорошо, — писал профессор, — если бы не постоянное присутствие этого субъекта, который сам в сущности имеет все основания, чтобы стать объектом научно-исследовательских наблюдений зоолога. Право, этот молодой человек продолжает отравлять мне настроение. Здесь, имея печальную необходимость постоянно видеться с ним, я лишний раз убеждаюсь, насколько был прав в своих антипатиях…»
В свою очередь доцент Воронов в своих письмах также жаловался на «абсолютную нетерпимость старого ворчуна и мучительность повседневного с ним общения».
В университете читали письма, посмеивались и не переставали удивляться тому, как эти два человека, каждый из которых был по-своему симпатичен, упорны в своей взаимной неприязни.
Спорили о том, долго ли будет продолжаться эта беспричинная вражда. Оптимисты заверяли, что Буров и Воронов в конце концов помирятся и даже полюбят друг друга. Пессимисты утверждали обратное. Были зарегистрированы несколько случаев пари по этому поводу. И даже две ссоры.
…Но через месяц короткая сухая телеграмма с острова Колгуева уведомила университетскую общественность о том, что профессор Буров убит доцентом Вороновым.
Следователь по важнейшим делам, которому было поручено расследование по делу об убийстве профессора Бурова, прежде всего выяснил возможность поездки на остров Колгуев. К сожалению, оказалось, что по ряду метеорологических и иных причин поехать туда в это время года нельзя.
Тогда следователь снесся по радио с капитаном ледокола, курсировавшего у берегов Колгуева, и дал ему ряд поручений. Он просил капитана доставить в Москву, в замороженном виде, труп убитого, допросить свидетелей этого преступления, если такие окажутся, и, кроме того, произвести самый тщательный осмотр местности, в которой произошло убийство.
Следователь просил также доставить в Москву и Воронова, обеспечив такие условия, при которых он, даже при желании, не имел бы возможности скрыться.
Поручения следователя были выполнены, и однажды в его кабинет вошел капитан ледокола в сопровождении человека средних лет, с растерянным, испуганным выражением лица. Это был Воронов.
— Садитесь, пожалуйста, — с холодным любопытством разглядывая Воронова, сказал следователь.
— Благодарю вас, — тихо ответил Воронов.
Начался допрос. Следователь выяснял анкетные данные и биографию этого человека. Это была безупречная биография. Тридцать два года, которые успел прожить Воронов, до того как он убил Бурова и очутился перед следовательским столом, были прожиты хорошо и с толком. Воронов был молодым, но несомненно талантливым специалистом, он имел ряд самостоятельных научных работ, он стоял на верной и широкой дороге.
— Какого же черта, — не выдержал обычно спокойный и владеющий собою следователь, — какого же черта вы убили профессора? Чего вы не смогли там с ним поделить?
Воронов как-то растерянно развел руками.
— Видите ли, — произнес он каким-то извиняющимся, неуверенным голосом, — дело в том… дело в том, что я его вовсе и не убивал…
— Но он убит?
— Убит.
— В том месте, где он был убит, находился кто-либо, кроме вас двоих — вас и его?
— Мы были там только вдвоем, никого, кроме нас, не было и быть не могло. Это я утверждаю категорически.
— Тогда непонятно ваше отрицание. Согласитесь, что если из двух человек, находящихся вместе, один оказывается убитым, то убийцей…
— …может быть только второй, — поспешил согласиться Воронов. — Это безусловно так. Но я его не убивал. Самое страшное заключается в том, что я вполне представляю себе безвыходность своего положения. Полное отсутствие возможностей защищаться. Конечно, я совершенно… как это говорится… уличен. Будь я на вашем месте, я бы вовсе и не сомневался. Я понимаю. Я приготовился ко всему. К самому худшему… Но я… я не убивал…
И Воронов заплакал. Он и плакал так же странно, как говорил. Этот рослый, спокойный, культурный человек плакал, как ребенок, беззлобно, беспомощно и трогательно. Он вовсе не пытался разжалобить своими слезами, но, с другой стороны, и не старался их скрыть. Он плакал так же просто, как говорил. И так же непосредственно.
— Успокойтесь, — сказал следователь. — Если убили вы, — а по делу выходит так, — вам лучше сознаться. Если же вы не совершили убийства, то защищайтесь. Опровергайте, объясняйте, выдвигайте свою версию…
Следователь так сказал потому, что в этом необычном деле вина Воронова представлялась вполне доказанной. Обстоятельства дела сводились к тому, что Бурова убил именно Воронов, и никто другой. Но, к удивлению следователя, Воронов не только не стал защищаться, но, напротив, по собственной инициативе, сообщил ряд дополнительных и очень веских в отношении себя улик. Продолжая отрицать свою вину, этот человек в то же время торопливо выкладывал следователю все новые и новые обстоятельства, факты и соображения, которые для него были заведомо убийственны. Страстно, последовательно и неумолимо он как бы обвинял сам себя.
— Когда мы приехали на остров, — рассказывал Воронов, — наши и без этого неприязненные отношения с профессором стали все более обостряться. Мы оба старались сдерживать себя, но взаимная неприязнь буквально выпирала из каждого нашего слова, взгляда, жеста. Это было очень тяжело — постоянно сдерживать себя. И главное — это не помогало. Я чувствовал, что профессор остро ненавидит меня, и платил ему тем же. Бывали такие минуты, я должен прямо вам сказать об этом, когда мне приходила в голову шальная мысль ударить профессора, жестоко избить его, даже убить… Такие мысли приходили мне в голову все чаще. Они даже нашли свое отражение в дневнике, который я вел, Я захватил дневник с собой. Вот, посмотрите…
И Воронов протянул следователю пухлую тетрадь. Действительно, среди прочих записей в дневнике были и такие, которые свидетельствовали о том, что мысль об убийстве профессора Бурова все назойливее приходила в голову Воронова.
— Я не знаю, — продолжал давать показания Воронов, — может быть, в конце концов, не совладав с собой, поддавшись минутной вспышке, я бы действительно убил профессора, Может быть, Но я его не убил. Это случилось так.
В то утро мы решили поехать охотиться на уток на озеро, расположенное в глубине острова. Мы поехали туда на нартах, которыми управлял ненец Вася. На половине пути нарты сломались. До озера оставалось около трех километров. Тогда мы решили пойти пешком, а Вася остался чинить нарты.
Когда мы пришли к озеру и начали стрелять в уток, они отплыли к противоположному берегу. Я предложил профессору, чтобы он остался на этом месте, а я пойду к другому берегу и буду стрелять оттуда. Профессор согласился с моим предложением. Я пошел на противоположный берег.
Стоя там, я через полтора километра, нас разделявшие, довольно ясно видел фигуру профессора, одиноко стоявшего на берегу. Никого рядом с ним не было и быть не могло. Это я заявляю твердо. Потом с того места, где стоял профессор, раздался выстрел. Внезапно я увидел, как профессор как-то странно закачался, а затем упал. Не понимая, что случилось, я бегом бросился к нему.
Когда я прибежал, то застал профессора еще живым, но уже без сознания. Он был тяжело ранен охотничьим ножом, вонзенным глубоко, по самую рукоятку, в его левый глаз. Рукоятка ножа торчала из глазной впадины профессора, как большая гнойная опухоль. Ружье профессора валялось рядом…
Я совершенно растерялся. Не зная, как помочь несчастному, я попытался извлечь из его глаза нож. Но мне это не удалось, — с такой силой его всадили. Тогда, не помня себя, я бросился бежать к тому месту, где мы оставили нарты. Когда я прибежал, Bacя уже заканчивал починку. Я сказал ему, что с профессором несчастье, и он погнал собак. Но когда мы приехали, профессор был уже мертв. Мы отвезли его труп на зимовку, где с трудом извлекли из раны нож, которым было совершено убийство. Вот и все… Позволите мне закурить?
— Прошу вас, — сказал следователь.
Воронов закурил и жадно затянулся. После небольшой паузы он заговорил снова:
— Как видите, мне трудно защищаться. Я разумный человек и понимаю, что все в этом деле против меня. Вероятно, мне даже выгоднее признаться, чтобы рассчитывать на снисхождение суда. Чистосердечное раскаяние и признание, или как это там у вас называется… Я не юрист, но приходилось слышать. Но я не могу. Я не убивал его, не убивал… Но бессилен доказать. У меня к вам только одна просьба. Вот это — письма девушки, моей невесты. И это — мое письмо к ней. Пожалуйста, передайте ей их.
— Не могу, — сказал следователь, — вы передадите ей сами. Я не собираюсь вас арестовывать, Воронов.
Бывают такие судебные дела, в которых неожиданное решение, внезапная разгадка, окончательный вывод приходят вовсе не как результат сцепления имеющихся формальных улик и доказательств, не как логическое следствие того, что уже выяснено и установлено, не как завершающее подведение итогов. Случаются такие темные и запутанные лабиринты фактов, деталей и человеческих отношений, такие чудовищные нагромождения всякого рода случайностей и обстоятельств, что самый опытный следователь, сталкиваясь с ними, теряется и как бы опускает руки. Интуиция и талант следователя, его настойчивость, его революционная следовательская совесть, его гуманизм, гуманизм советского судебного работника — вот что ведет следователя в таком деле, вот что освещает ему путь, вот что приводит его к раскрытию истины.
Отпустив Воронова домой, следователь поставил себя в тяжелое положение. С одной стороны, виновность Воронова в убийстве профессора Бурова казалась бесспорной, она как бы логически вытекала из обстоятельств дела и была единственной версией в нем. Это была, кроме того, вполне обоснованная версияг принятая тем общественным кругом, который был осведомлен об этом деле и проявлял к нему законный интерес.
С другой стороны, освобождение Воронова базировалось исключительно на внутреннем убеждении следователя, на том, что он почему-то поверил Воронову. Поверил, вопреки формальной логике, вопреки многим обстоятельствам и фактам, вопреки грозному и очень тяжкому нагромождению этих фактов и обстоятельств. Поверил по тем неясным, расплывчатым и туманным основаниям, которые слагаются изнутри, которые внешне не всегда логичны, которые так трудно сформулировать и на которые не принято ссылаться, но которые в совокупности своей приходят как следствие таланта следователя, как выражение силы его психологического, профессионального проникновения и остроты его интуиции, как благодарный результат многих лет напряженного и вдумчивого труда, тренированной наблюдательности, криминалистического опыта и привычки к анализу явлений и людей.
Следователь был уверен, что Воронов не убивал профессора Бурова. Но эту уверенность надо было обосновать, доказать, и главное — надо было раскрыть и объяснить тайну гибели профессора Бурова.
Ибо для полной реабилитации Воронова убеждение следователя являлось недостаточным, как бы ни было оно сильно.
Доставленный в Москву труп профессора Бурова был подвергнут судебномедицинскому вскрытию, которое произвел П. С. Семеновский.
С обычными для этого человека тщательностью, осторожностью и знанием дела П. С. Семеновский произвел вскрытие и составил свое заключение. Оно состояло в основном из двух пунктов:
1. Смерть профессора Бурова явилась следствием ряда тяжких повреждений, причиненных ударом охотничьего ножа в левый глаз покойного.
2. Этот удар был нанесен с нечеловеческой силой.
— Что значит «с нечеловеческой силой», — спросил Семеновского следователь, — как понимать это, Петр Сергеевич?
— Это значит, — ответил эксперт, — что сила, с которой был нанесен удар ножом, превышает среднюю силу нормального человека. Поэтому я применил выражение «нечеловеческая». Но сказать вам точно, какая это сила, я не могу…
Следователь продолжал свою работу. Он тщательно осмотрел ружье профессора Бурова. Это был охотничий винчестер, и в нем не оказалось ничего интересного для дела. Нож, которым был убит профессор, тоже ничем особенным не отличался: обычный, довольно дешевый охотничий нож с деревянной ручкой.
Но когда следователь внимательнее его рассмотрел, он обнаружил одну маленькую деталь: в деревянной ручке ножа имелся небольшой дефект, следствие недостаточно аккуратной работы. Крохотный кончик металлического стержня, на который была насажена ручка, торчал из нее своим острием. Это было почти незаметно.
Следователь ощупал этот крохотный кусочек металла и внезапно вскочил: так обожгла его мысль, блеснувшая, как искра в ночной темноте.
Через час группа спешно вызванных экспертов — оружейников и охотников — толпилась в кабинете следователя.
— Скажите, — спросил следователь, обращаясь к охотникам, — скажите, с точки зрения обычной, житейской охотничьей практики, как поступит охотник, имеющий за поясом охотничий нож с деревянной ручкой, как он поступит, если патрон при досылке его в магазинную часть ружья почему-либо закапризничает, застрянет, плохо пойдет? Ну, скажем, патрон чуть разбух от сырости, или покривился, или плохо был сделан. Что сделает, как поступит охотник?
Эксперты чуть удивленно переглянулись между собой и начали шептаться.
— В таких случаях, — наконец, единодушно решили они, — охотник скорее всего возьмет свой охотничий нож и, постукивая его тупой деревянной ручкой по капсульной части патрона, постарается осторожно вогнать его до конца.
— И я так полагаю, — улыбнулся следователь. — Ну, а теперь осмотрите этот нож, обратите внимание на этот торчащий кончик металлического стержня и представьте себе, что охотник этим ножом постарается вгонять патрон. Что будет?
Эксперты осмотрели нож, исследовали прочность металла, из — которого был изготовлен стержень, и согласились на одном.
— Этот кусочек стержня, — сказали они, — по своей остроте и прочности металла вполне может сыграть роль бойка. И если этим ножом ударять по капсульной части патрона, произойдет взрыв, последует выстрел.
Тогда следователь обратился к оружейникам.
— Скажите, — спросил он их, — если патрон не дослан до конца, если вследствие неосторожности охотника произойдет взрыв, куда направится сила взрыва, какова степень этой силы?
— При таком положении, — ответили эксперты, — сила взрыва пойдет назад, она даст огромный толчок в руку охотника, держащую нож, отбросит эту руку назад, к его лицу. Сила взрыва, сила этого толчка будет очень значительна: примерно это сила давления пяти-семи атмосфер…
Следователь облегченно вздохнул. Внезапная догадка, пришедшая ему в голову, подтверждалась.
Но как раз в этот момент в кабинет следователя вошел Семеновский. Следователь рассказал ему о своей версии, показал нож, повторил заключение экспертов.
— Все это весьма остроумно и убедительно, — медленно произнес Семеновский, — и даже вполне правдоподобно. Если бы… если бы не одна деталь. Профессор ведь был убит ударом в левый глаз. А если бы произошло то, что вы предполагаете, то своей правой рукой он мог поранить себя только в правый же глаз, но никак не в левый.
И Семеновский тут же вычислил на основании длины, руки покойного профессора Бурова, его роста и соотношения размеров его тела, что своей правой рукой при толчке от взрыва он мог поранить себя в правый, но никак не в левый глаз.
Версия, казавшаяся такой ясной и правильной, рухнула…
Но следователь был упрям. Он был уверен в своей правоте и продолжал искать.
— Скажите, — спросил он родственников покойного Бурова, — здоровым ли человеком был профессор?
— Да, — ответили родственники, — и физически и морально профессор был здоров.
— Не было ли у него, — продолжал следователь, — каких-либо странностей, физических недостатков?
— Не было, — заявили родственники, — не было у него никаких странностей и недостатков.
— Не приходилось ли вам наблюдать, — не унимался следователь, — как профессор работал со скальпелем?
— Неоднократно, — произнесли родственники, — он часто работал дома.
— А в какой руке он держал скальпель? — осторожно, даже робко спросил следователь, боясь, что сейчас рухнет его последняя надежда.
— Да ведь профессор был левша, — спокойно промолвили родственники.
Следователь с трудом удержался, чтобы не закричать. Вот она, наконец, истина, разгадка, ясность и объяснение всего!.,
Левша!… И следователь помчался к Семеновскому. И Семеновский снова сел за вычисления. И вычисления показали, показали с предельной, математической точностью, что, загоняя патрон левой рукой, профессор при взрыве патрона мог и должен был ранить, неизбежно ранил себя именно в левый глаз.
Потом Семеновский и следователь изготовили фотомонтаж кривой, которую описала левая рука профессора, отброшенная взрывом патрона в его лицо, к его левому глазу.
И вот уже все как будто бы ясно, истина обнаружена, гибель профессора Бурова объяснена и Воронов реабилитирован.
И можно уже писать постановление о прекращении дела о гибели профессора Бурова «за отсутствием в этом деле состава преступления».
И это дело можно сдать в архив.
И можно перейти к расследованию других дел, которые уже стоят на очереди.
И снова блуждать в потемках, путаться в лабиринтах фактов и человеческих отношений, спотыкаться и все-таки идти вперед, ошибаться, но все-таки находить.
Да, можно, но вот этот нож… Откуда взялся этот проклятый нож?!
Брат покойного профессора Бурова, которого следователь познакомил с материалами дела, твердо заявил:
— Я готов согласиться, что вы правы и что профессор Буров погиб вследствие собственной неосторожности. Но откуда взялся этот нож? Я утверждаю, что у профессора не было такого ножа. Я знаю, что при снаряжении экспедиции такой нож выдан не был. Так чей же это нож? Чей? И вот до тех пор, гражданин следователь, пока вы не ответите на этот вопрос, я не могу признать следствие законченным…
Согласитесь, что брат профессора Бурова был по-своему прав. И на поставленный им вопрос надо было дать ответ.
Следователь прежде всего спросил Воронова. Но тот не знал, где профессор достал этот нож.
— Мне кажется, — сказал Воронов, — что этот нож принадлежал профессору. По крайней мере я видел у него такой нож не один раз.
Тогда следователь взялся за инвентарную опись экспедиции. В ворохе списков, описей, счетов, накладных, квитанций и отчетов, в тысячной номенклатуре снаряжения экспедиции — дроби, ружей, палаток, консервов, биноклей, кастрюль, термосов, топоров, вилок, клещей, молотков, бидонов, примусов, градусников, посуды и всяких других вещей следователь тщетно разыскивал четырехрублевый охотничий нож. Он этого ножа не нашел.
Тогда следователь вспомнил, что экспедиция отплыла в Баренцево море из Архангельска, где находилась несколько дней. Следователь явился к прокурору и попросил командировать его на один день в Архангельск.
— Зачем? — спросил прокурор.
— За ножом, — улыбнулся следователь.
Утром он приехал в Архангельск и, не заезжая в гостиницу, бросился в магазины. Ему показывали сотни охотничьих ножей, дорогих и дешевых, финских, вологодских, костромских, вятских, павлово-посадских, но такого, какой он искал, не было. Продавцы удивленно разглядывали капризного покупателя. Завмаги в недоумении разводили руками. Кассирши ехидно хихикали. Но ножа он не находил.
Наконец, уже к вечеру, на набережной Двины он забрел в маленький охотничье-промысловый магазин. И первое, что бросилось ему в глаза, был охотничий нож с деревянной ручкой, точь-в-точь как тот нож, который принес смерть профессору Бурову.
— Сколько стоит этот нож? — волнуясь, спросил следователь продавца.
— Три рубля семьдесят пять копеек, — ответил продавец.
Следователь вызвал завмага и выяснил, что эти ножи изготовляет одна артель, которая всю свою продукцию сдает только этому магазину. В те дни, когда экспедиция была в Архангельске, эти ножи уже были в продаже.
— Много их распродано, — продолжал завмаг. — Но, конечно, мы покупателей помнить не можем, так как нам это ни к чему…
Следователь вернулся в Москву. И в записной книжке профессора Бурова, среди сотен самых различных записей, нашел и такую: «Архангельск. 3 р. 75 к. охотничий нож».
— Садитесь, товарищ Воронов, — сухо сказал следователь, — я вызвал вас в последний раз. Ознакомьтесь с постановлением о прекращении дела. Распишитесь, что копию постановления вы получили. Вот здесь…
Воронов взял ручку. И вдруг все запрыгало и закачалось у него перед глазами — и ручка, и письменный прибор на столе, и лицо следователя, сидящего напротив…
Потом до его сознания дошло то, что сказал следователь. Он понял, что все страшное уже позади, что его невиновность выяснена, доказана, что истина найдена.
И что этот сухой человек, который невозмутимо сидит против него, спас его жизнь и его честь.
ПОМИНАЛЬНИК УСОПШИХ
Супруги были религиозны. Они жили в собственном доме на веселой ростовской окраине, в доме, который построили еще в 1929 году. Дом был большой крепкий, на кирпичном фундаменте. При доме был богатый сад, — восемьдесят одно фруктовое дерево приносило ежегодно немалый доход. Кроме сада, Щербинины разводили еще птицу и коз. И это тоже было выгодно.
Щербинины были бездетны. И как это всегда бывает у пожилых супругов, старость которых не согрета детьми, они жили замкнуто, скучно и одиноко. Правда, Анна Тимофеевна имела в Ростове родственников, но встречалась с ними редко.
Анна Тимофеевна работала уборщицей на макаронной фабрике, а после работы до поздней ночи возилась дома по хозяйству — в саду, на огороде, с птицей и скотом. Сам Щербинин, крепкий старик с сумрачным лицом и густыми нависшими бровями, столярничал и понемногу торговал. Чем больше разрасталось его хозяйство, его сад, количество его коз и птицы, тем все жаднее становился старик. Он работал с утра до поздней ночи не покладая рук, он требовал такой же исступленной работы от жены, он отказывал себе во всем, служа неистово, как фанатик, только одному богу — страшному богу стяжательства.
Впрочем, ему казалось, что он религиозен, что он поклоняется другому богу, что он имеет все основания добиваться и добиться уютного местечка на том свете.
Может быть, поэтому Щербинин не пропускал ни одной службы, стены в его доме ломились от киотов и икон, сам он был бессменным членом церковной двадцатки, и, при всей его скупости, в масле для многочисленных лампад никогда не было недостатка.
Так шла жизнь, медленно катились дни, и ни один из них не приносил ничего нового.
В 1936 году Щербинины сдали летний флигель новой жиличке — Дарье Нестеровой. Нестерова, разбитная вдовушка лет тридцати, была одинока.
Сначала Дарья дружила с Анной Тимофеевной, но потом между ними пошли нелады. Щербинина стала ревновать мужа к жиличке. Вероятно, у нее были для этого основания, так как в последнее время старик и впрямь как-то изменился, стал вдруг меньше работать, взгляд его сделался мягче, походка живее, нрав веселей.
Он частенько наведывался во флигель, и оттуда доносился игривый смех жилички и ласковый, сиповатый бас старика.
Анна Тимофеевна ревновала все сильней, сцены между ней и Нестеровой все учащались; дело уже доходило до драк.
И, очевидно, жизнь с мужем окончательно разладилась, потому что на троице, 20 июня 1937 года, Анна Тимофеевна, захватив свои вещи, навсегда покинула дом.
Сначала она уехала в Батайск, оттуда — в Орджоникидзе, потом в Сочи и, наконец, на Дальний Восток. Из всех этих мест Анна Тимофеевна присылала письма Щербинину и двум соседкам — Калининой и Сидоровой. Так как Анна Тимофеевна была неграмотна, то письма эти писали ей разные люди, по ее просьбе.
В октябре 1937 года дальняя родственница Щербининой подала заявление в девятое отделение ростовской милиции об исчезновении Анны Тимофеевны. В милиции проверили, но, выяснив, что от нее есть письма, дело прекратили.
В августе 1938 года родственница снова подала заявление в то же отделение милиции, что Щербининой нет и исчезновение ее подозрительно.
Вызвали старика. Он явился, спокойно рассказал все, как было, предъявил пять писем из разных городов, написанных разными лицами по просьбе бывшей его жены. В милиции почитали письма и отпустили старика домой.
— Чудная у вас старушка. Ловко смоталась, — сказал в заключение инспектор милиции.
— Да, не по-божески сделала Анна Тимофеевна, — согласился Щербинин.
Наконец, уже в 1939 году, все та же беспокойная родственница Щербининой подала третье заявление. Снова началась проверка. На этот раз у Щербинина даже произвели обыск, но ничего подозрительного не обнаружили. Потом этим делом заинтересовался прокурор Железнодорожного района г. Ростова, тоже, видимо, беспокойный товарищ. Он даже поручил народному следователю Багдарову снова произвести расследование по поводу внезапного исчезновения Щербининой.
И вот следователь Багдаров явился к Щербинину. Старик возился в саду. Они пошли в дом.
— Я по поводу вашей супруги, — сказал Багдаров. — Нет ли от нее писем?
— На первых порах писала, — ответил Щербинин, — а вот уже, почитай, год, как вестей о себе не подает. Меня уже с этим делом таскают-таскают, а что я могу сказать? Не так давно даже обыск делали, — а чего ищут, и сами не знают.
Так начался их первый разговор. Потом откуда-то пришла Нестерова. Не зная, что в доме посторонний, она вошла босая, раскрасневшаяся, веселая, вошла свободной и уверенной походкой женщины, которая чувствует себя хозяйкой в доме.
— Где ж ты пропал, милый, — певуче обратилась она к старику, но внезапно замолчала, увидев Багдарова.
— Жиличка наша, — коротко произнес старик в ответ на немой вопрос Багдарова.
— Давно у вас живет?
— Да около трех лет.
После допроса Щербинина, подробно рассказавшего об обстоятельствах отъезда Анны Тимофеевны, Багдаров предъявил старику постановление о производстве обыска.
— Что ж, ищите. — Щербинин развел руками. — Ваша власть. Только напрасно вы мою старость мараете.
Уже к концу обыска, не давшего никаких результатов, следователь подошел к углу, в котором висели иконы. Тут, же под киотом были аккуратно сложены большие и маленькие библии, евангелие и жития святых.
Увидев, что Багдаров протянул руку к книгам, Щербинин нахмурился и строго произнес:
— Я человек верующий, а книги это священные. Потому книги и прочее, что до религии касаемо, прошу не трогать и душу мою не задевать.
— Зачем же ее задевать? — спокойно возразил Багдаров. — Задевать не полагается. Я только осторожно посмотрю.
И он действительно осторожно, но тщательно посмотрел. И среди прочего обнаружил небольшую, уютного вида книжечку в кожаном тисненом переплетике с крестом и надписью: «Поминальник усопших».
В книжечке были аккуратно, по графам и числам, выписаны имена разных покойников, родных и близких, за которых Щербинину угодно было возносить молитвы.
И в книжечке этой среди прочих записей дотошный Багдаров вычитал и такую:
«20 июня. За упокой рабы божьей Анны Тимофеевны, отдавшей богу душу сего числа».
— Что ж это вы, живых людей как покойников записываете? — спросил Багдаров.
Щербинин улыбнулся и спокойно произнес:
— Для меня Анна Тимофеевна покойница. Для людей она жива, а для меня нет ее в живых.
— Это почему же?
— Потому что двадцатого июня она меня, законного супруга, бросила и уехала. Как жена — умерла она для меня.
И он продолжал настаивать на таком толковании своей записи. Но у следователя была другая версия. И потому он начал искать труп Анны Тимофеевны.
Сутки рыли ямы в разных направлениях большого щербининского сада. Багдаров разбил всю территорию усадьбы на тридцать пять участков, расположив их в шахматном порядке.
Сумрачно, но спокойно наблюдал Щербинин, как роют одну яму за другой. Иногда только он коротко бросал уставшим землекопам:
— Легче, легче заступом ворочай, корни яблоне подрубишь. Дерево жалеть надо.
Багдаров давал указания, он тоже очень устал, но не сдавался. Ямы безрезультатно возникали одна за другой, и выглядело все это бессмысленно, нелепо и томительно. Но следователь продолжал раскопки, уверенный в своей правоте, в своей версии, в своей догадке.
Наконец, вырыта последняя, тридцать пятая яма, но трупа нет.
Следователь задумался.
Щербинин подошел к нему и незлобно произнес:
— Говорил, что зря вы это делаете. Совсем напрасно. Уехала ведь она.
Багдаров улыбнулся и ответил:
— Последнюю попытку сделаю. В спаленке вашей пол вскрою. Если и там не найду — ваше счастье.
И они пошли в дом. В небольшой спаленке вскрыли пол и потом долго шли в глубину. Так же сумрачно, но спокойно стоял при этом Щербинин.
Наконец, на глубине двух с половиной метров был обнаружен труп Анны Тимофеевны. Когда открылось то, что было когда-то ее лицом, следователь сказал:
— Поздоровайтесь, Щербинин, вот она — ваша жена Щербинин перекрестился и тихо сказал:
— Теперь пишите. Я убил. Из-за жилички, из-за Дарьи. Она мне и помогла Анну Тимофеевну зарывать. А письма от нее Дарья писала и с оказией из разных городов мне посылала.
Может быть, теперь, когда все это рассказано, покажется простой и несложной работа, которую проделал следователь Багдаров. Но это обычное свойство всякого уголовного дела: будучи раскрыто, оно кажется простым.
Вдумчивый читатель разглядит за этой обманчивой легкостью, за этой кажущейся простотой сложность положения следователя, остроту его догадки, силу его интуиции, настойчивость его исканий, ясность его ума.
ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ
Судебное заседание подходило к концу. В большом зале Ленинградского губсуда, где вот уже пятый день слушалось это громкое дело, было душно. Публика толпилась в проходах, между скамьями и даже в коридоре, примыкавшем к судебному залу. Комендант суда, весь в поту, охрип и сбился с ног, усовещивая любопытных, но количество людей, жадно стремившихся протолкнуться в зал, возрастало с каждым часом.
Слушалось дело Леньки Пантелеева.
Почти два года это имя приводило в трепет владельцев булочных, кафе, мануфактурных магазинов и бакалейных лавок.
Ленька Пантелеев был грозой нэпманов и королем городских уголовников. Его налеты отличались неслыханной дерзостью, изобиловали легендарными деталями и романтическими подробностями.
Профессиональный грабитель и матерый налетчик, он любил то особое, бандитское молодечество и щегольство, которое в те годы так восторженно воспринимал преступный мир.
После каждого налета Ленька Пантелеев имел обыкновение оставлять в прихожей ограбленной квартиры свою визитную карточку, изящно отпечатанную на меловом картоне, с лаконичной надписью: «Леонид Пантелеев — свободный художник-грабитель».
На обороте этой карточки Ленька неизменно надписывал четким, конторским почерком (сам он был из телеграфистов): «Работникам уголовного розыска с дружеским приветом. Леонид».
После особенно удачных налетов Леньке нравилось переводить по почте небольшие суммы денег в университет, Технологический институт и другие вузы.
«Прилагая сто червонцев, прошу распределить оные среди наиболее нуждающих студентов. С почтением к наукам, Леонид Пантелеев».
Но больше всего он любил появляться в нэпманских квартирах в те вечера, когда там пышно справлялись именины хозяйки или свадьба или праздновалось рождение ребенка. О таких семейных торжествах Ленька загадочными путями узнавал заранее.
В этих случаях Ленька всегда появлялся в смокинге, далеко за полночь, в самый разгар веселья.
Оставив в передней двух помощников и сбросив шубу на руки растерявшейся прислуге, Ленька возникал, как привидение, на пороге столовой, где шумно веселилось избранное общество.
— Минутку внимания, — звучно произносил он, — позвольте представиться: Леонид Пантелеев. Гостей прошу не беспокоиться, хозяев категорически приветствую!…
В комнате немедленно устанавливалась мертвая тишина, изредка прерываемая дамской истерикой.
— Прошу кавалеров освободить карманы, — продолжал Ленька, — а дамочек снять серьги, брошки и прочие оковы капитализма…
Спокойно и ловко он обходил гостей, быстро вытряхивая из них бумажники, драгоценности и все, что придется.
— Дядя, не задерживайтесь, освободите еще и этот карман… Мадам, не волнуйтесь, осторожнее, вы можете поцарапать себе ушко… Молодой человек, не брыкайтесь, вы не жеребенок, корректней, а то хуже будет… Сударыня, у вас прелестные ручки, и без кольца они только выиграют.
Не проходило и десяти минут, как все уже были очищены до конца.
— Семе-э-н, — кричал Ленька в прихожую, и оттуда вразвалку, как медведь, медленно и тяжело ступая, выходил огромный косолапый дядя с вытянутым, как дыня, лицом. — Семе-э-н, — продолжал Ленька с тем же французским прононсом, — займитесь выручкой.
Помощник, сопя и тяжело вздыхая, укладывал в большой кожаный мешок груду часов, бумажников, колец и портсигаров.
За столом по-прежнему царила мертвая тишина. Когда Семен кончал свое дело, Ленька снова отсылал его в прихожую и садился к столу.
Он молча наливал себе бокал вина и, чокаясь с хозяйкой, пил за ее здоровье.
Потом, сделав изысканный общий поклон, он удалялся, не забывая оставить в прихожей свою визитную карточку.
Но дело в том, что все эти романтические подробности и эксцентричные выходки были только дешевой бутафорией и циничной игрой.
Под грубо и наивно намалеванной маской «грабителя-джентльмена», смельчака, рыцаря, «рубахи-парня» и «грозы нэпа» в действительности скрывался и жил расчетливый, жадный, холодный и очень опасный уголовный преступник, не останавливавшийся перед самыми тяжкими преступлениями.
Ленька бесстыдно и жестоко эксплуатировал даже своих сообщников, неуклонно присваивая себе львиную долю и посылая их на особенно опасные дела. Он буквально подавлял их ложным великолепием своих манер, парикмахерской изысканностью речи, мишурным блеском своей репутации. И они прощали ему все: и пренебрежительный тон, и беззастенчивый дележ «прибылей», и грубые окрики, и даже нередкие оплеухи.
В этом тесном уголовном мирке он был признанным и полновластным королем. Его приказания были безоговорочны, его желания священны, его решения непререкаемы.
Он же относился к своим «мальчикам» (так называл он своих сообщников) с нескрываемым презрением и в случае нужды готов был не задумываясь пожертвовать каждым из них в отдельности и всеми вместе.
Не удивительно, что суд над этим человеком, о котором в городе ходили легенды, вызывал такой жадный интерес. Нэпманские сынки, жуирующие пижоны с Невского, скучающие холеные дамочки, не знающие, как убить свой день, бледные, густо намазанные кокотки из Владимирского клуба, изящные барышни из множества балетных студий, расплодившихся как грибы в первые годы нэпа, элегантные шулера с надменными профилями и графскими титулами, тучные мануфактурные короли из Гостиного в кургузых, по колено, коверкотовых пальто, входивших тогда в моду, и в соломенных канотье, с беспокойным блеском в глазах, важные, с благородными седыми буклями, в черных кружевах, содержательницы тайных домов свиданий с отменными манерами и повадками классных дам и юркие, быстроглазые карманники с Сенного рынка — вся эта алчная, пестрая, шумливая человеческая накипь тех лет стремительно захлестывала коридоры, проходы и лестничные площадки губернского суда.
Это разношерстное, многоголосое человеческое месиво неудержимо тянулось к процессу, к его пикантным подробностям и к скамье подсудимых, на которой, впереди своих сообщников, сидел молодой худощавый парень с озорными цыганскими глазами и невеселой заученной улыбкой, сидел он, король этой толпы, ее кумир и ее гроза, — Ленька Пантелеев.
Чувствуя жадное любопытство публики, Ленька охотно, заметно рисуясь, давал показания, живописно рассказывал подробности, старался остроумно отвечать на вопросы.
Когда допрашивали свидетелей, он слушал с презрительной улыбкой их показания, часто поворачивал лицо в зал, разглядывал публику и поощрительно улыбался хорошеньким женщинам.
Прямо перед ним сидел его адвокат Маснизон. Адвокат был молод, щеголеват и тщеславен. Защитником Пантелеева он стал случайно, по назначению, и то, что он участвует в таком громком процессе, защищая основного подсудимого, а главное — что все это происходит при таком большом стечении публики, приятно щекотало его адвокатское самолюбие.
Он важно задавал вопросы свидетелям и подсудимым, с многозначительным видом, покачивая головой, выслушивал их ответы и, снисходительно улыбаясь, любил повторять их формулировки, чеканя слова каким-то выдуманным, неестественным голосом.
— Тэк-с, — тянул он, играя дорогим вечным пером, удачно приобретенным при поступлении в адвокатуру, — тэк-с, значит, вы, свидетель, утверждаете, что мой подзащитный взял кольцо и сразу закурил папироску. Сразу, вы это утверждаете?
— Да, — растерянно отвечал свидетель, — кажется, сразу…
— Нет уж, извините… — неумолимо допытывался Маснизон, — кажется?… Или сразу?…
— Ну, сразу, — уже с раздражением говорил свидетель.
— Сразу, — многозначительно тянул Маснизон и с таким видом, как будто именно это решало судьбу его подзащитного, торжествующим тоном отрывисто произносил: — Вопросов больше не имею.
И сейчас же оглядывался на публику, чтобы убедиться, какое это произвело впечатление.
Судебное заседание подходило к концу. Ленька, которому надоел интерес публики к его персоне, стал немногословен. Он уже не оборачивался в зал, щеки его заметно пожелтели, дурацкие вопросы защитника очень его раздражали. Он предвидел неизбежный приговор суда и в глубине души страшно его боялся.
Все наигранное, выдуманное им молодечество и ухарское безразличие к своей судьбе он как-то растерял за дни процесса и теперь, потный от духоты и невыносимого внутреннего напряжения, мучительно повторял самому себе:
— А вдруг… а вдруг, может быть, заменят?
Глупая, бессмысленная надежда слабо мерцала в его сознании, и, чтобы раздуть эту жалкую искру, этот бледный огонек, он старался найти какие-то особые, какие-то необыкновенные, неопровержимо убедительные доводы для своего последнего слова.
Но он их не нашел. И, к удивлению публики, нетерпеливо ждавшей именно этого момента, Ленька, когда ему было предложено последнее слово, растерянно улыбаясь, поднялся, зачем-то положил дрожащие руки на барьер и неуверенно, каким-то чужим, как бы напрокат взятым голосом произнес:
— Виновен я… Безусловно… Но только еще молодой… Не таких исправляют. Прошу снисхождения.
И с той же растерянной улыбкой сел на свое место.
Маснизон тоже готовился произнести необыкновенную, блистательную речь. Он возлагал большие надежды на этот процесс, твердо рассчитывая, что Ленька Пантелеев сразу поможет ему сделаться видным адвокатом.
Процесс освещался в печати, и Маснизон надеялся, что в очередном судебном отчете будет отдано должное «талантливой речи адвоката Маснизона».
Поэтому он тщательно готовил свое выступление, снова перелистывая издания речей знаменитых судебных деятелей — Кони, Плевако, Карабчевского и других.
При этом судьба подзащитного меньше всего интересовала Маснизона. Несмотря на свою молодость, он уже был профессионально равнодушен к человеческим судьбам и трагедиям, каждодневно раскрывавшимся перед судейским столом. И всякое дело, в рассмотрении которого ему приходилось участвовать как защитнику, увы, уже интересовало его лишь с точки зрения создания и укрепления своей адвокатской репутации.
Как юрист Маснизон понимал, что приговор в отношении Пантелеева может заканчиваться только одним словом: расстрелять. Он знал, что это заслуженно и неизбежно.
И потому единственное, что его интересовало, — это впечатление, которое его речь произведет на публику. Но публика, которую в этом процессе привлекали больше всего сенсационные подробности и личность самого подсудимого, вяло слушала речь адвоката.
Может быть, потому речь и получилась бледнее, чем ожидал Маснизон. Председательствующий хмуро смотрел в дело, публика позволяла себе шуметь и перешептываться, часто и раздражающе хлопали двери, Ленька тоскливо о чем-то думал, а один из подсудимых даже вздремнул и довольно явственно похрапывал.
Маснизон с полной и оскорбительной ясностью внезапно понял, что он и его речь ни суду, ни подсудимому, ни публике, никому вообще не нужны. Вероятно, поэтому он растерялся и вместо приготовленной эффектной концовки закончил свое выступление вяло и невыразительно.
Затем суд удалился на совещание. Маснизон подошел с каким-то вопросом к Леньке, но тот, даже не дав ему договорить, с равнодушной и оттого еще более оскорбительной ухмылкой, грубо сказал:
— Идите вы к чертовой матери!…
Потом был оглашен приговор. Пантелеев был приговорен к расстрелу, а его соучастники — к разным срокам лишения свободы.
Вечером Маснизон встретился с женщиной, за которой он давно и тщетно ухаживал. Валентина Ивановна — так звали ее — предложила пойти в кино.
По дороге она спросила Маснизона о процессе и выразила сожаление, что не смогла на нем присутствовать.
Маснизон очень живо (он был хорошим рассказчиком) описал процесс, фигуру Пантелеева, некоторые подробности этого дела.
Присутствие Валентины Ивановны воодушевило его, и он рассказывал интересно, тут же выдумывая какие-то живые, яркие детали и довольно ловко и выгодно освещая свою собственную роль в процессе. По его словам получалось, что он, старый судебный волк, незаурядный криминалист и вдумчивый психолог, сразу нашел ключ к душе этого легендарного злодея, разбудив в нем человеческие чувства, о которых тот и сам не подозревал.
— Понимаете, родная, — живописал Маснизон, — я сразу проник в дебри этой психики, в задний карман, этого заблудившегося сердца. Я нашел для него такие слова, такой подход, такой ключ, что он заговорил. Заговорил искренне, правдиво и сердечно. Все были поражены. Он все откровенно рассказал, раскрыл, все выдал… Да, это было нелегко. Но знаете, я как-то умею с ними разговаривать, я их понимаю, как никто. Поверьте, они обожают меня. Вот он, например, он так благодарил, так благодарил меня…
— За что же, ведь его приговорили к расстрелу? — наивно спросила Валентина Ивановна.
— Ну какое это имеет значение? — возразил Маснизон. — Ведь я впервые, может быть, разбудил его душу — душу, вы понимаете?…
Валентина Ивановна поняла и потому легко согласилась провести завтра вместе вечер в знаменитом ресторане Донона, — у того самого Донона, который вновь наконец открылся после нескольких лет революции и гражданской войны.
Первое, о чем он вспомнил, когда проснулся утром, было согласие Валентины Ивановны провести с ним вечер.
«Клюет, определенно клюет», — радостно подумал Маснизон и сладко потянулся.
Потом он оделся и взял газеты. В судебном отчете была упомянута его фамилия и излагался приговор суда.
Это тоже привело его в хорошее настроение, и он подумал, что надо заехать в тюрьму и предложить Леньке подать кассационную жалобу.
Дежурный по тюрьме, когда Маснизон попросил предоставить ему свидание с осужденным, почему-то замялся и предложил адвокату обратиться к начальнику тюрьмы.
Маснизон удивился — свидания с подзащитными обычно предоставлялись беспрепятственно — и пошел к начальнику.
Начальник тюрьмы внимательно выслушал Маснизона и несколько сконфуженно произнес:
— К сожалению, лишен возможности. Вам скажу по секрету: Пантелеев ночью бежал… Смотрите, по секрету…
— Понимаю, — сказал Маснизон и начал было расспрашивать о подробностях, но озабоченный начальник только махнул рукой.
Ему было не до него.
Маснизон поехал к себе. По дороге, в трамвае, первое, что он услышал, это как один из пассажиров говорил соседу:
— Слыхали новость? Ленька Пантелеев бежал после приговора.
Это же сообщил Маснизону знакомый адвокат, которого он встретил в юридической консультации.
А к вечеру о побеге Пантелеева говорил весь город.
Впрочем, этому особенно и не удивлялись. Шел 1924 год, порядок в республике только начинал устанавливаться.
Ресторан Донона находился на Мойке, в подвальном, роскошно отделанном помещении. В отдельные кабинеты имелся свой вход, за углом.
Маснизон предложил Валентине Ивановне занять кабинет, но она, немного подумав, сказала:
— Нет, давайте посидим в общем зале. Сначала…
И чуть заметно улыбнулась. Перехватив эту улыбку, Маснизон внутренне возликовал и вошел с Валентиной Ивановной в ресторан.
Еще в вестибюле, где они раздевались, снизу, из общего зала ресторана, донесся смешанный шум голосов, женского смеха, звуков настраиваемых инструментов. Мягко ударил в нос сложный, дразнящий запах дорогого ресторана: какая-то специфическая смесь духов, сигарного дыма, горячих блюд.
Седовласый швейцар, похожий на библейского пророка, привычно распахнул матовую стеклянную дверь, за которой были несколько ступенек, ведших в зал.
Маснизон и Валентина Ивановна спустилась вниз и заняли стол недалеко от входа. Ресторан был уже полон. За столиками сидели удачливые дельцы, нарядные женщины, трестовские воротилы, какие-то молодые люди с чрезмерно черными бровями и совсем еще юные, но уже очень развязные пижоны.
Со всех концов доносился оживленный говор, смех, стук ножей, звон бокалов. Бесшумно и деловито носились официанты.
Потом заиграл оркестр, и несколько пар начали танцевать.
Валентина Ивановна была оживленна, много смеялась. Маснизон тоже был в ударе. Они пили вино, болтали, разглядывали публику. Валентина Ивановна критиковала танцующих.
Маснизон заметил, что многие мужчины обратили на нее внимание. Это ему польстило. Она и в самом деле была очень хороша — светлая шатенка с задорным личиком и большими смеющимися глазами. Как всякая женщина, Валентина Ивановна почувствовала, что имеет успех, и потому была особенно оживленна. Маснизон смотрел на нее влюбленными глазами.
— Не пора ли нам перейти в кабинет? — не выдержав наконец, спросил он.
— Посидим еще, — мягко ответила Валентина Ивановна, — здесь, право, очень мило.
Между тем публика все прибывала. Все чаще хлопали пробки, все пьянее смеялись женщины, официанты сбились с ног.
Около двух часов ночи с шумом открылась дверь из вестибюля, и на пороге лестницы кто-то очень отчетливо и трезво произнес:
— Внимание, господа! Тише, слушайте меня внимательно, джентльмены!…
Спокойный и вместе с тем повелительный голос этого человека сразу приковал внимание. Сидевший спиной к лестнице Маснизон повернулся и едва не подавился куриной ногой: на пороге стоял Ленька Пантелеев. Рядом с ним были еще двое.
— Тише, тише! — еще раз крикнул Ленька, и в руках у него появился большой вороненый кольт. Стоявшие рядом с ним люди тоже навели на зал тускло блеснувшие револьверы.
В зале мгновенно стало тихо. У кого-то из рук вылетел и со звоном разбился графин, где-то истерически вскрикнула женщина.
— Ни с места, господа! — продолжал Ленька. — Дам прошу не волноваться, я интеллигентный бандит. Позвольте представиться — Леонид Пантелеев.
— Боже! — с ужасом вскрикнула какая-то дама. — Ленька Пантелеев!…
— Сударыня, — Ленька склонился в изысканном поклоне, — вы совершенно правы. Итак, добрый вечер, или, верней, доброй ночи, друзья. Позвольте доложить программу. Мои ассистенты сейчас обойдут столы. Прошу их не задерживать и заранее приготовить все, что вызывает наш искренний интерес. Дамы, к вам это тоже имеет прямое отношение. Предупреждаю, малейшая некорректность — четыре сбоку, ваших нет. Главное, чтобы не было шухера. Официантов и метра прошу пока обождать на эстраде. Музыканты, можете спокойно отдыхать, к Шопенам наша фирма претензий не имеет. Начали…
«Ассистенты» ринулись вниз. Ленька продолжал стоять на пороге, оглядывая зал.
У Валентины Ивановны стучали зубы о края бокала, который она почему-то продолжала держать у рта. Маснизон посинел и шумно сопел от страха.
«Ассистенты» действовали с феерической быстротой. Мужчины и дамы безропотно складывали на столы бумажники, кольца, брошки и портсигары. Кое-кто из кавалеров торопливо помогал дамам снимать серьги. Работа спорилась.
Маснизон, придя в себя, быстро вытащил из кармана бумажник и портсигар и аккуратно разложил их на столе.
— Ну, — хрипло произнес он, — Валя, снимайте это… скорее…
— Что?… — шепотом спросила Валентина Ивановна.
— Это, — хрипел Маснизон, — это… как это называется?…
И он ткнул пальцем в ее бриллиантовую брошь. Валентина Ивановна нервно засмеялась, но брошь сняла.
В этот момент их заметил Ленька. Он улыбнулся и подошел к столу.
— А, — сказал он, — юстиция… развлекается…
Маснизон вскочил и молитвенно протянул ему обе руки навстречу.
— Рад, э-э, чрезвычайно рад, — пролепетал он. — Такая необыкновенная встреча… Как вы себя чувствуете?…
— Вашими молитвами, — буркнул Ленька и, не подавая руки, присел к столу.
Маснизон, не зная, что ему делать, продолжал стоять. Валентина Ивановна привычно оправила прическу и затем, как-то отчаянно махнув рукой, начала спешно пудриться.
— Садитесь, господин Плевако, — мирно сказал Ленька, — но сначала представьте меня вашей даме.
— Эм-м, — промычал Маснизон, — охотно… Валя, э-э, Валентина Ивановна… э-э-э, как это говорится, позвольте вам представить… моего, моего… друга… гм-м…
— Очень приятно, — любезно сказала Валентина Ивановна и с большой готовностью протянула руку.
Ленька поднялся, щелкнул каблуками, ловко поцеловал ее руку и опять сел. Маснизон как-то неуверенно присел на кончик стула. Валентина Ивановна, наоборот, сразу почему-то обрела спокойствие и, кокетливо улыбаясь, смотрела на Леньку.
— Какой вы молодой, — протянула она, — я представляла себе вас другим…
Ленька засмеялся и налил ей и себе вина.
— Давайте выпьем, — сказал он просто, — давайте выпьем за нашу молодость…
— Охотно, — весело произнесла Валентина Ивановна и чокнулась с Ленькой.
— Э-э, прелестный тост, — залебезил было Маснизон, но Ленька только тяжело на него посмотрел, и тот сразу осел.
— Ваш муж? — коротко спросил Ленька, кивнув в сторону Маснизона.
— Нет, просто знакомый, — ответила Валентина Ивановна.
— Плевако, — продолжал Ленька, — мастер язык чесать. Соловей. Меня защищал.
— Поверьте, от души, — произнес Маснизон, — от всего сердца…
— Так и пел, так и пел, — продолжал Ленька, не обращая на Маснизона внимания, — славно пел, да плохо сел. К расстрелу меня приговорили. Слыхали, верно?
— Позвольте, — опять вмешался Маснизон, — я ведь сделал все, что мог… Всю душу вложил… Надеюсь, вы понимаете, что я здесь, так сказать, неповинен. Я сегодня даже в тюрьму к вам ездил, кассационную жалобу привозил. На подпись.
— Кассационную? — переспросил Ленька. — Что ж, это можно подписать. Давай подпишу.
— К сожалению, — как-то проблеял Маснизон, — я ее… э-э-э… не захватил с собой. Не учел, так сказать, возможность встречи. Разрешите, я за ней сбегаю домой… Это тут недалеко…
Ленька, прищурясь, посмотрел на него и весело сказал:
— Далеко пойдешь. Далеко пойдешь, Плевако. Но домой ты сейчас не пойдешь. Бог с ней, с жалобой. В другой раз подпишу… Верно, Валентина Ивановна?
— Вам виднее, — ответила женщина.
Ленька посмотрел на нее и, взяв ее руку, сказал;
— Красивая вы. Большой красоты женщина. Легко жить будете.
— Как знать, — почему-то вздохнула она.
— Факт, — настаивал Ленька. — У меня слово и рука верные. Потом не раз вспомните…
«Ассистенты» между тем заканчивали свою работу.
Разделив зал на две половины, они быстро обходили столы. Потом они подошли к Леньке и молча свалили на стол груду бумажников, часов, портсигаров, брошек и колец.
— Богат улов нынче, Леонид Пантелеевич, — почтительно сказал один из них. — Давно так не фартило.
— Да, очень благородно все получилось, — произнес другой. — И публика хорошего воспитания — ни один фраер даже не пикнул, честное слово…
— Чего удивляетесь, чижики? — ответил Ленька. — Настоящей работы не видали? Сами знаете, с кем пришли…
— Орел!… Чистый орел! — восхищенно воскликнул один из «ассистентов», глядя на Леньку влюбленными глазами.
Самодовольно улыбаясь, Ленька молча разглядывал груду драгоценностей. Потом он выбрал самое большое бриллиантовое колье и протянул его Валентине Ивановне.
— Вот, — тихо сказал он, — возьмите. Возьмите на память о Леньке Пантелееве, о нашей встрече. Валентина Ивановна густо покраснела.
— Что вы? Зачем? Это… это неудобно.
Маснизон, страшно испугавшийся, что ее отказ рассердит Леньку, вскочил и начал совать ей в руки колье.
— Возьмите, возьмите, — суетился он, — возьмите, это даже принято… Отказываться нельзя.
Вконец растерявшаяся Валентина Ивановна взяла колье.
— Мерси, — шепнула она.
— Ну вот и прекрасно, — обрадовался Маснизон.
— Идиот, — зло бросила ему Валентина Ивановна.
Ленька залпом опрокинул бокал вина, встал, молча поцеловал женщине руку и быстро ушел. Свалив награбленные вещи в мешок, «ассистенты» бросились вприпрыжку за ним.
Минуту в ресторане стояла тяжелая тишина, потом за одним из столов вскочил немолодой тучный человек в смокинге и, сорвав модное пенсне на золотой цепочке, истошно завопил с выпученными от напряжения глазами:
— Полицию! Полицию сюда… Эй, человек, звоните в полицию…
Седой сухощавый официант почтительно к нему склонился и тихо, но отчетливо произнес:
— Седьмой уж год, как нет полиции, ваша милость. А в угрозыск я сейчас позвоню…
Через несколько дней, глубокой ночью, в подвале старого мрачного дома на Обводном канале Ленька отстреливался от агентов угрозыска, окруживших дом.
Агенты угрозыска не отвечали на выстрелы, им было приказано взять Пантелеева живым. Дверь в подвал трещала под их напором, но не поддавалась. Один из них был уже убит, другой тяжело ранен, но все-таки они точно выполняли приказ и не применяли оружия.
Ленька отстреливался из большого маузера, в запасе у него были два заряженных кольта и несколько маленьких ручных гранат. Он рассчитывал пробиться.
Но один из агентов угрозыска, самый молодой, выбил окно, выходившее из подвала на улицу, и, маленький, ловкий как обезьяна, скользнул ногами вперед в маленькое оконце. Ленька обернулся и выстрелил ему в живот.
Истекающий кровью агент, собрав последние силы, прыгнул на Леньку и свалил его с ног. Они сцепились и, хрипя, катались по полу. Ленька насквозь прокусил агенту руку, в клочья разорвал на нем рубашку и начал его душить. Тяжелораненый агент обессилел и перестал сопротивляться.
Но в этот момент рухнула наконец дверь, и Леньку с трудом оторвали от агента.
Приказ был точно выполнен — Ленька даже не был ранен.
Потом его снова судили. Перед открытием судебного заседания Ленька через начальника конвоя вызвал следователя, который вел его дело.
— Очень большая просьба есть, — сказал он следователю с вымученной улыбкой. — Мне несколько дней жить осталось: сами понимаете, от расстрела два раза не бегут, как человека прошу вас, гражданин следователь…
И он неожиданно впервые заплакал. Потом, успокоившись, просил разыскать одну даму, по имени Валентина Ивановна, которую он видел тогда в ресторане.
— Передайте ей, — сказал он, — пусть придет на суд, пусть сядет впереди. Видеть ее хочу, еще раз взглянуть. Передайте, пусть непременно придет — я люблю ее…
«СУДЕБНАЯ ОШИБКА»
Представьте себя в положении человека, которому по долгу службы надо разрешить запутанное уголовное дело. По делу привлечено трое, им предъявлено серьезное обвинение в вооруженном грабеже с убийством. Один из них полностью признает свою вину, подробно рассказывает о том, как именно он совершил это преступление, и уличает в соучастии двух других, своих товарищей по скамье подсудимых. Признание его не голословно — оно подкреплено самим фактом вооруженного грабежа с убийством, а также вещами, взятыми при ограблении и обнаруженными затем у него.
И, тем не менее, остальные подсудимые всё отрицают. Правда, они не могут привести в свое оправдание ничего существенного, они не могут ничего противопоставить беспощадным разоблачениям своего соучастника. Правда, они бесконечно путаются в отдельных деталях и обстоятельствах этого дела, они отрицают сегодня то, что признавали вчера. Они ежечасно входят в противоречие друг с другом и со свидетелями, они беспомощно барахтаются в опутавшей их сети косвенных улик.
И несмотря на все это, со всей силой предсмертного человеческого отчаяния, угрюмо, с упорством, которое может показаться душевной тупостью, они твердят свое наивное «нет». Они повторяют отрицание своей вины и в последнем слове.
И вот вы уже в совещательной комнате, где вместе с народными заседателями должны решить судьбу этого дела, судьбу, честь и жизнь этих людей. Да — жизнь, потому что, если вы признаете их виновными в этом тяжком преступлении, вам останется произнести только одно слово: расстрел.
Все говорит против них — убийственные показания их соучастника, обстоятельства дела, множество косвенных улик, их собственное прошлое, далеко не безупречное, подозрительность их поведения, угрюмость их облика, сбивчивость их показаний.
И самое главное: они не только ничем не могут опорочить показания третьего, который их изобличил, но даже не пытаются сослаться на то, что этот человек из мести или из неприязни оговаривает их.
Напротив, на ваш вопрос об их взаимоотношениях с этим третьим они оба вынуждены признать:
— Никаких личных счетов у нас с ним нет. Были знакомы, вражды нет.
Вражды нет, логика вещей и фактов неумолима, — и вам остается подписать приговор.
Они выслушивают приговор стоя, с серыми лицами и потухшими глазами. По мере его оглашения их щеки все более заливает бледной, покойницкой синевой, и когда, наконец, приговор вами прочитан до конца, то они и в самом деле уже почти покойники.
Потом вы возвращаетесь домой, но вам не по себе. Вы не можете сосредоточиться, успокоиться, уснуть, работать. Жуткая мысль, которую вы не в силах отогнать, неустанно вас гложет. Она неумолима и прилипчива, как тяжелая, неизлечимая болезнь, она мучительна и ужасна, как самое большое страдание, она тревожна и цепка, как ночной кошмар. Она беспощадна и неотвратима, как… приговор, который подписали вы.
И эта мысль, вопреки логике, уликам, здравому смыслу, обстоятельствам дела, вопреки всему подсказывает вам, спрашивает вас, кричит вам: а вдруг они не виновны, а вдруг это — судебная ошибка?…
Судебная ошибка. Какое это чугунное и страшное слово! Вдумайтесь в него, и вы увидите человека, который пострадал ни за что, беспомощность его отчаяния, бессилие его правоты, всю горечь его унижения и трагическую обреченность его судьбы.
За этим словом вы. слышите напрасные рыдания его родных и видите растерянность и горе его близких…
И если мучительна и опасна ошибка хирурга, если недопустима и ужасна ошибочность врачебного диагноза, если преступна халатность железнодорожного стрелочника и потеря бдительности паровозного машиниста, то как квалифицировать по тяжести своих последствий ошибку, халатность, равнодушие и душевную тупость следователя, прокурора, судьи?…
И, может быть, самым страшным концом, самым трагическим исходом человеческой судьбы является именно этот — пасть жертвой судебной ошибки, которая раздавливает человека, как несовершенная, дикая, взбесившаяся машина.
Судебная ошибка. Какой это старый и вечно новый вопрос! Сколько томов исписали юристы всех времен и народов по этому поводу, сколько преподано казусов и советов, сколько сделано анализов и потрачено размышлений, сколько произнесено речей и заверений…
Не станем здесь приводить их и повторять.
Расскажем лучше об одном поучительном деле, об одной тяжкой, но вовремя исправленной судебной ошибке.
Было еще совсем темно, хотя и близился рассвет, когда восемнадцатилетняя колхозница Анна Долгова, спавшая на печи, почему-то проснулась. Какой-то непонятный страх, какое-то смутное тревожное предчувствие охватили ее. Внизу на кровати спала ее мать — Татьяна Семеновна, и Анна ясно слышала мерное дыхание спящей. Анна прислушалась: в углу избы, где стояли сундуки с вещами, кто-то возился, тяжело дыша. Анна нащупала спички и зажгла одну из них. В неверной вспышке смутно мелькнули две мужские фигуры, кто-то закричал: «Руки вверх — стрелять буду», и Анну ударили по руке чем-то тяжелым. Она вскрикнула, потом закричала проснувшаяся мать, и в темной избе раздались ругательства, упало что-то тяжелое, началась борьба.
Воспользовавшись сутолокой, Анна, босая, в одной рубахе, выбежала на зимнюю ночную улицу. Ужас цепко охватил ее, она бросилась к соседней избе и стала изб всех сил стучаться в окно.
Ей было так страшно, что она не чувствовала холода и забыла, что, почти обнаженная, босая, стоит в снегу, на морозе.
Соседи проснулись, бросились за ней к избе. У крыльца Анна столкнулась с человеком, выбежавшим с ружьем и каким-то узлом из ее дома. Она пыталась его задержать, но он в упор выстрелил ей в голову; она упала.
В темноте грабители скрылись. Анна оказалась убитой наповал. Разные домашние вещи Долговых преступники успели захватить с собой.
Утром из районного центра в село Губари, Песковского района, Воронежской области, где все это случилось, приехали следователь, работники милиции и судебный врач. Началось расследование.
При вскрытии трупа Анны было обнаружено, что она была убита выстрелом из берданки, заряженной кустарным зарядом дроби (изготовленной из сеченки свинца).
Других следов грабители не оставили.
Почти неделю продолжались розыски виновных, проверка разного рода версий и предположений, допросы свидетелей. Наконец, по подозрению в этом преступлении были арестованы Егор Водолазов, житель соседнего села, в прошлом уже судившийся за кражу, и его односельчане — Петр Забрусков и Михаил Ахтырский. Забрусков был взят под подозрение в связи с тем, что его жена Ирина, как выяснилось на следствии, 30 декабря днем приходила к Татьяне Долговой одалживать молоко, чего раньше не случалось. По мнению следователей, она пришла по заданию мужа, с тем, чтобы высмотреть расположение вещей в избе.
Основанием для ареста Ахтырското явилось то, что он в прошлом судился за кражу, а кроме того, было выяснено, что у него имелось дробовое ружье.
При аресте Егора Водолазова у него были обнаружены дробовое ружье и часть вещей, взятых при ограблении Долговых.
Арест Водолазова последовал через несколько дней после ареста Забрускова и Ахтырского.
Водолазов сознался и рассказал, что ограбление Долговых он совершил вместе с Забрусковым и Ахтырским и что Анну убил Ахтырский из ружья Водолазова, которое он ему дал. Свои показания Водолазов подтвердил и на очной ставке со своими соучастниками.
Несмотря на это, они отрицали свою вину.
Да, они продолжали запирательство. Тщетно следователи взывали к их разуму и чувству, уличали их противоречиями, припирали косвенными уликами, обрушивались на них психическими атаками очных ставок с Водолазовым. Тщетно следователь Попов и уполномоченный угрозыска Анисимов разъясняли обвиняемым бессмысленность дальнейшего отрицания, тщетно зудили: «Сознайтесь, вам легче будет», — преступники продолжали все отрицать, и, видимо, вовсе не хотели, чтобы им стало легче.
Однажды Анисимов в десятый раз привел этот довод, казавшийся ему высшим классом психологического допроса, и сказал:
— Следствие еще раз предлагает вам сознаться. Сознайтесь, вам легче будет.
Молодой шустрый Забрусков неожиданно засмеялся и возразил:
— Да чего ты ко мне пристал: легче будет, легче будет, а мне и сейчас не тяжело, мне легче не надо.
Прервав допрос, следствие явилось в кабинет к начальству и доложило ему о наглости арестованного и о том, что оно пришло к печальному выводу: преступник хоть и молод, но неисправим.
— Отпетые бандюки, — согласилось начальство, — чего с ними возиться, направляй дело в суд.
И дело было действительно направлено в Воронежский областной суд.
На суде Водолазов продолжал утверждать, что ограбление они совершили втроем и что один из них — Ахтырский — убил Анну Долгову.
— Чего ломаешься? — заявил он отрицавшему все Ахтырскому. — Ты лучше правду скажи, перед судом врать нельзя. Сознаешься — смотришь, тебе и снисхождение какое окажут, а то заладил свое: я не я и лошадь не моя…
Но бледный, молчаливый и застенчивый Ахтырский только испуганно глядел на Водолазова и продолжал отрицать свою вину…
Такую же позицию занял и Забрусков.
Зато Водолазов был на высоте положения. Он бойко, скороговоркой и весьма охотно рассказывал суду о подробностях ограбления, улыбался прокурору, укоризненно качал головой, когда Забрусков и Ахтырский говорили «нет», радостно и уверенно их изобличал, а когда они снова отрицали, грустно разводил руками, как бы говоря:
— Ну что с такими подлецами поделаешь…
Председательствующий и прокурор, обвинявший по этому делу, не могли нарадоваться таким подсудимым. И в самом деле, он так старательно помогал уличать остальных, так бойко и толково отвечал, не задумываясь, на вопросы, так лез из кожи, что со стороны можно было подумать, что это вовсе и не подсудимый, а свидетель или потерпевший.
Но если бы у председательствующего и прокурора по этому делу было больше чутья, опыта, больше осторожности и глубины анализа, то как раз то, что пленило их в Водолазове, заставило бы их насторожиться — и эта чрезмерная готовность все на всех показать, и эта нарочитая бойкость ответов, и это излишнее рвение в изобличении остальных, и эта поражающая точность в подробностях, и весь его облик: лебезящая улыбочка, манера глядеть не мигая, как бы подчеркивая, что он говорит только правду, и при всем этом та особая внутренняя развязность, с которой он себя держал на суде и которая удивительно сочеталась в нем с внешним подобострастием, и многое, многое другое, должны были предостеречь, насторожить, вызвать сомнение.
Всякому настоящему криминалисту хорошо известно:
то, что слишком хорошо пахнет, — пахнет плохо; то, что слишком правдоподобно выглядит, — обычно не согласно с истиной; там, где человек слишком точно рассказывает, — он рассказывает неправду.
Наиболее правдоподобно, сказал Франс, выглядит документ, который подделан.
И это верно.
Но суд этого не почувствовал и поверил Водолазову. Суд приговорил поэтому Ахтырского к расстрелу, а Водолазова и Забрускова к десяти годам заключения.
К счастью, Верховный Суд Республики, проверяя это дело по кассационной жалобе Ахтырского и Забрускова, не поверил Водолазову и усомнился в виновности двоих осужденных. Приговор был отменен, и дело обратили к доследованию.
На этот раз оно попало к старшему следователю Воронежской областной прокуратуры.
Новый следователь очень внимательно изучил дело и… дал еще одну очную ставку Ахтырскому и Забрускову с Водолазовым.
Опять Водолазов пламенно изобличал, опять они отрицали. И все.
Таким образом, основное в этом деле сводилось к одному: врет или говорит правду Егор Водолазов? Врет или не врет? Оговор или правда?
Следователь подумал, развел беспомощно руками и, наконец, обрадовался решению, за которое в подобных случаях всегда охотно цепляются не слишком настойчивые и не слишком одаренные следователи:
— Дело судейской совести, пусть решит суд.
И незамедлительно спихнул темное дело на судейскую совесть, то есть снова направил его в областной суд.
К счастью, судейская совесть в Воронежском областном суде не исчерпывалась уже упомянутым судьей, рассматривавшим дело в первый раз. На этот раз судейская совесть заговорила, и притом весьма решительно.
Признав произведенное доследование сугубо формальным, суд отказался принять дело к рассмотрению и снова вернул его для доследования.
В прокуратуре задумались. Старший следователь уже этим делом занимался. Как быть теперь? Кому поручить дело?
К счастью (не слишком ли много этих «к счастью»), нашелся и в Воронеже один бывалый прокурор, который вдруг ни к селу ни к городу начал рассказывать скучнейшую историю о том, как однажды он заболел некоей загадочной болезнью, обращался к лучшим врачам, но никто из них не мог разобраться, тогда он поехал к одному медицинскому светиле, которое долго смотрело, сопело и думало, а потом совершенно по-бараньи что-то проблеяло, и вот тогда…
— Ты еще долго будешь тянуть? — нетерпеливо спросил его областной прокурор. — Что же ты сделал тогда?
— Тогда я плюнул на светило и, поехав в деревню в командировку, обратился там к самому обычному, заурядному врачу, который сразу понял, в чем заключается моя болезнь. Он нашел у меня солитер…
— Что ты этим хочешь сказать?
— А вот что: давайте поручим доследование по этому делу самому обычному, рядовому, скромному нарследователю — пусть разберется…
История с загадочным солитером показалась поучительной, доследование было поручено самому обычному рядовому работнику, народному следователю города Борисоглебска Серафиму Александровичу Тихомирову.
Тихомиров начал с Водолазова. Он внимательно выслушал его заученные показания, дал ему возможность проявить все свои таланты, нашел, что он все врет, и сказал ему просто:
— А знаете, Водолазов, вы одного человека сами убили, а двух других покушались убить…
— Кого же это? — растерялся Водолазов.
— Ахтырского и Забрускова. Только их вы хотели убить не своими руками, а руками суда. Ведь вы их чуть под расстрел не подвели.
— Но ведь я, товарищ следователь, от всего сердца. Ведь я всю как есть правду выложил.
И он снова начал клясться, божиться и уверять.
— Подумайте, — сказал ему Тихомиров, — подумайте, пока не поздно. Не оговаривайте зря людей, это только усугубит вашу вину.
Придя к выводу, что рассчитывать на совесть Водолазова нельзя, Тихомиров поехал в Губари.
Там он, прежде всего, установил — установил точно и непреложно, — что Забрусков и Ахтырский в ночь на 31 декабря были дома и никуда не отлучались.
Затем путем настойчивых и скрупулезных расспросов, бесед и разговоров с сельской молодежью Тихомиров выяснил, что в тот день, когда было совершено преступление, в соседней деревне появился конокрад Васька Марковский, друживший с Водолазовым. Через два дня после ареста Водолазова Марковский почему-то внезапно исчез.
Затем некая Евдокия Кузьменко вспомнила, что 30 декабря у нее на вечеринке были Водолазов и Марковский. Около одиннадцати часов ночи они от нее ушли, и она, выйдя во двор, слышала, как они, закуривая на улице, говорили между собой. Водолазов сказал: «Ну, пора, а то поздно будет», а Марковский ответил! «Не беда, успеется». Потом они ушли.
Собрав эти данные, Тихомиров вернулся в Борисоглебск, где содержались арестованные.
Он вызвал одновременно всех троих. Готовясь к очередной очной ставке, Водолазов ухмыльнулся и сказал:
— Разрешите начинать?
— Что начинать? — спокойно спросил Тихомиров.
— Уличение грабителей, — ответил Водолазов все с той же подлой ухмылкой.
— Нет, негодяй, — с трудом произнес Тихомиров, напрягая всю волю, чтобы взять себя в руки, — нет, гадина, тебе больше не придется уличать честных людей. Встать!…
Оробевший Водолазов встал, за ним Ахтырский и Забрусков. Тихомиров обратился к ним двоим.
— Сядьте, товарищи, — сказал он. — Вы сядьте, прошу вас. Я поздравляю вас. Ваша невиновность доказана, вы честные люди, и этому бандиту больше не удастся обманывать советский суд.
И он прочел постановление об освобождении Ахтырского и Забрускова. Они слушали не дыша, с раскрытыми ртами, боясь поверить собственным ушам, заливаясь краской и дрожа.
— Ура! — закричал вдруг Забрусков. — Ура! Ур-р-ра!… Ура, товарищи! Домой! Домой!… Ура!…
И он, не в силах сдержать себя, бросил шапку под потолок, потом кинулся к Тихомирову, обнял его и стал целовать. Потом он вдруг заплясал, бросился к окну и еще раз крикнул «ура».
Ахтырский беззвучно плакал. По его бледному, по-деревенски застенчивому лицу текли слезы.
Не выдержал и Тихомиров. Его захлестнула такая теплая волна радости и внутреннего удовлетворения, такая гордость за результаты своего труда, своего проникновения, своей правоты, что и он… отвернулся.
Потом Ахтырский и Забрусков ушли.
— Ну, — сказал Тихомиров, — рассказывайте, Водолазов, правду. Привет вам от Васьки.
Водолазов, глядя себе в ноги, молчал. Потом он встал, молча постоял несколько минут и снова сел;
— Пишите, — произнес он внезапно охрипшим. голосом, — скорей, следователь, пишите, я сейчас все скажу. По совести, как было… Пишите, пишите скорей!…
И, захлебываясь и торопясь, как бы опасаясь, что у него не хватит времени, чтобы рассказать правду, которую он так долго таил, Водолазов все рассказал.
Он рассказал, как он и Марковский сговорились ограбить Долговых, как ночью они вдвоем совершили ограбление, как Марковский убил Анну, как потом они бежали ночью в свою деревню, как после ареста Ахтырского и Забрускова они сговорились, что если возьмут одного из них, то он должен в качестве соучастников назвать Ахтырского и Забрускова, хотя они ни в чем не были виноваты.
…В мае в Воронеже удалось обнаружить скрывавшегося Марковского. Он сразу сознался и подтвердил показания Водолазова.
Так была исправлена одна судебная ошибка.
Из второй книги ДИНАРЫ С ДЫРКАМИ
Прежде чем рассказать об этом забавном деле, с которым я столкнулся в самом начале своей следственной работы, мне хочется вспомнить одного уличного грабителя, от которого я впервые услышал, какой неожиданный отклик иногда встречает в душе уголовника доверие. Этот грабитель, высокий, атлетического сложения человек, отличался чуть сонным, удивительно добродушным при его профессии лицом, с которого на мир взирали круглые, как бы раз и навсегда удивленные глаза. Он имел, однако, уже несколько судимостей и в преступной среде, как, впрочем, и в МУРе, был известен под кличкой «Тюлень».
В этот день, после окончания очередного допроса, Тюлень попросил папиросу и, закурив, произнес:
— За табачок и человеческий разговор спасибочко. По такому случаю и я в долгу оставаться не желаю, как аукнулось, так и откликнется… Так вот, позвольте рассказать вам про некое происшествие моей жизни, вполне, можно сказать, необыкновенное…
— Пожалуйста, рассказывайте, — сказал я, с интересом глядя на почему-то смущенное лицо Тюленя.
— Шарашу я, как вы знаете, давно, — продолжал Тюлень, смущаясь все больше, — однако на мокрые деда никогда не шел и не пойду. Работал я всегда по ночам: дожидаюсь себе в каком-нибудь глухом переулке прохожего, а еще лучше — дамочку, ну, подойду, поздороваюсь и шубку сниму, или часишки, или сумочку, или что там придется… Но все это я делаю очень интеллигентно, потому что сам человек культурный, люблю кино и не переношу хамства, каковое считаю отрыжкой старого мира… Сам я, пальцем никого не тронул, тем более что пальчики у меня, извольте поглядеть, такие, что в дело их лучше не пускать…
И Тюлень, улыбаясь, протянул мне огромную лапищу. Потом, вздохнув, он продолжал:
— Брехать не стану, совесть меня не мучила, жил я себе спокойно, как говорят, не простуживался, пока не накололся на одну особу женского пола…
— Любовь? — спросил я, полагая, что сейчас услышу историю неудачной любви, какие нередко приходилось выслушивать от подследственных.
— Да нет, совесть, — ответил Тюлень. — Случилось это ночью, в одном из переулков на Девичьем поле. Стоял я на стреме, дожидался своего карася. Мороз, вокруг ни души, темень. Вдруг слышу, хлопнула дверь в подъезде, и выбегает из него девушка, видать молоденькая, тоненькая, в меховой шубке. Подняла воротник, и, наверно, страшно ей стало от подобной пустынности и ночного мрака. Побежала, каблучками постукивает и все оборачивается — не гонится ли кто за ней… Ну, думаю, подвезло, сейчас я эту шубку национализирую. Отхожу от подворотни и прямо к ней. Она меня увидала и навстречу бежит, хватает, представьте, за руку и так жалобно лопочет: «Гражданин, ради бога, извините, но мне очень страшно, вокруг ни души, проводите до извозчика»… Лучше бы она меня ножом ударила!… И сам не пойму, как это могло произойти, но только я ей руку крендельком подставил и бормочу: «Пожалуйста, не волнуйтесь, я вас провожу, не извольте опасаться».
— «Ах, говорит, как я вам благодарна! Я сразу почувствовала, что вы порядочный человек». И пошли… У меня сердце стучит, в жар бросило, не пойму, что со мною делается, а приступать к делу не могу, — ну вот никак не могу… Черт знает что такое!… В общем, проводил ее до Девички, самолично усадил в саночки, меховой полостью укутал и пожелал счастливого пути… Вот, гражданин следователь, что может с человеком сделать доверие…
— Но после этого вы продолжали «шарашить» — спросил я.
— Дня три на работу не выходил, потом опять начал. Однако, должен сказать, вроде как во мне что-то треснуло… Женщин вообще перестал грабить, и как-то все опостылело… Одним словом, потерял равновесие и пошатнулся в себе… Вот теперь получу срок и после лагеря «завяжу»… Хватит, больше не в силах!… Потому после этого случая я вроде как контуженый…
И в круглых глазах Тюленя появилась такая жгучая тоска, что я сразу поверил, что он действительно «завяжет»…
В те годы я работал народным следователем Краснопресненского района города Москвы. В мой участок входила вся улица Горького — от Охотного ряда до Ленинградского шоссе, Красная Пресня и примыкающие к ней улицы и переулки. МУР (Московский уголовный розыск) тогда помещался в Большом Гнездниковском переулке и, значит, тоже входил в мой следственный участок. В связи с этим у меня завязались самые близкие, товарищеские отношения со многими работниками МУРа. Особенно я подружился с начальником первой бригады МУРа Николаем Филипповичем Осиповым и его заместителем Георгием Федоровичем Тыльнером. Осипову тогда было за тридцать лет, а Тыльнеру около того.
Первая бригада МУРа занималась расследованием убийств, вооруженных грабежей и налетов и, таким образом, была сердцем угрозыска. Если учесть, что в те годы еще была довольно значительная профессиональная преступность, то станет понятным, что мои друзья были по горло загружены работой.
Осипов и Тыльнер были очень талантливыми криминалистами, любили свою нелегкую профессию и отлично работали. Николай Филиппович — сухощавый, всегда подтянутый блондин с быстрым, внимательным взглядом чуть прищуренных умных серых глаз — хорошо разбирался в людях, отлично знал психологию и жаргон уголовников и страстно увлекался, помимо своей работы, мотоциклетным спортом.
Мне, совсем молодому, начинающему следователю, дружба с этими людьми была не только приятна, но и полезна. Я многому у них учился и жадно слушал их живые, интересные рассказы о всякого рода запутанных уголовных делах, происшествиях и раскрытиях.
Приходилось мне не раз присутствовать и при том, как Осипов или Тыльнер допрашивали уголовников, и в первое время я вообще не мог понять, о чем они говорят, так как в вопросах и ответах было столько «блатной музыки», то есть жаргонно-воровских словечек, профессиональных терминов, что создавалось впечатление, будто эти люди беседуют на каком-то неизвестном иностранном языке.
Надо сказать, что преступный мир Москвы, конечно, хорошо знал как Осипова, так и Тыльнера. И если уголовники, как правило, работников угрозыска не любили, то к Осипову и Тыльнеру они относились с нескрываемым уважением и даже питали к ним, как это ни покажется странным, известные симпатии. Объяснялось это тем, что, по мнению уголовников, Осипов и Тыльнер «мерекали в деле», и тем, что были широко известны их справедливость и личная храбрость.
Кроме того, Осипов, хорошо знавший этот своеобразный мир, никогда не позволял себе издеваться над подследственными, не топтал их человеческое достоинство и, неуклонно соблюдая требования закона и не делая никаких скидок, в то же время умел по-человечески разговаривать с арестованными, проявляя при этом большую чуткость.
Тыльнер, очень воспитанный, красивый, неизменно корректный человек, славился совершенно феноменальной памятью и, как говорили в МУРе, «держал в голове» весь преступный мир Москвы, помня наизусть чуть ли не все фамилии, клички, приметы и судимости московских рецидивистов. Последние хорошо об этом знали и говорили, что «барону Тыльнеру лучше на глаза не попадаться: ему горбатого не слепишь и на липу не пройдешь». — то есть выдать себя за другого человека не удастся.
В мой участок входил, в частности, Благовещенский переулок, примыкавший к улице Горького, и в переулке этом стоял, да стоит и поныне, красивый, облицованный кафельной плиткой дом, в котором жили главным образом ответственные работники. Жил в этом доме и народный комиссар С.
И вот однажды, июльской ночью, воры забрались в квартиру С., находившегося на даче, и среди мелких домашних вещей «увели» большой кожаный мешок с коллекцией старинных и древних монет, собираемой С. в течение многих лет.
Поднялся страшный шум. Во второй бригаде МУРа, занимавшейся расследованием квартирных краж, сразу сообразили, что найти вора будет трудно и дело это, кроме неприятностей, не сулит ничего. Начальник второй бригады Степанов, высокий, крайне обходительный и весьма респектабельный мужчина, большой дипломат, узнав об этом деле, до такой степени расстроился, что выкурил вне установленного расписания лишнюю папиросу. Степанов все в жизни делал по раз и навсегда установленному расписанию, никогда не торопился и считал, что поспешность губительна для здоровья, которым он очень дорожил. В связи с этим он был известен в среде уголовников под кличкой «Вася Тихоход». Он долго разглядывал свои доблеска наполированные ногти и потом тихо сказал своему помощнику Кротову:
— Миша, не кажется ли вам, что это не простая, а квалифицированная кража? А?
Хитроумный Кротов удивленно вскинул глаза на своего начальника, но потом, молниеносно оценив этот ход (дела о простых кражах, в силу статьи 108 УПК, должны были заканчивать органы угрозыска, а дела о кражах квалифицированных подлежали передаче народным следователям), немедленно начал клясться и божиться, что за всю свою жизнь он не встречал кражи более квалифицированной.
Но дело в том, что по точному смыслу закона квалифицированной считалась кража со взломом или применением технических средств, чего в данном случае и не было, так как вор или воры забрались в квартиру через форточку и, таким образом, несомненно принадлежали к той категории квартирных воров, которые соответственно именовались «форточниками». Поэтому Степанов, иронически поглядев на продолжавшего божиться Кротова, пламенно стремившегося избавиться от этого хлопотливого дела, процедил:
— Миша, в статье сто шестьдесят второй уголовного кодекса в числе признаков, определяющих квалифицированную кражу, почему-то нет ссылки на заверения Кротова. Кража-то, голубчик, форточная… а?
Кротов запнулся, Опустил очи долу, но окончательно не сдался.
— Да, но ведь форточку открыли с применением технических средств, — выразительно произнес он, глядя в лицо своему начальнику необычайно ясными глазами.
— Разве? Что-то я не помню, — ответил Степанов. — Если вы, голубчик, докажете, что пальцы — это технические средства, то тогда, конечно…
— Василий Яковлевич, при чем тут пальцы? — горячо выпалил Кротов. — Все данные дела говорят за то, что форточку открыли с применением стамески, а шпингалет сломали… Налицо и технические средства и элемент взлома…
— Да? Жаль, жаль… Конечно, грустно расставаться с таким любопытным делом, но закон есть закон, Миша… — И Степанов вновь нарушил расписание и закурил папиросу, на этот раз уже от удовольствия. — Да, голубчик, ничего не поделаешь… Направьте дело, согласно сто восьмой статье, народному следователю… Подготовьте постановление.
И на следующий день ко мне поступило дело с весьма витиеватым постановлением, в котором Кротов с большим темпераментом и чувством живописал и «применение технических средств в виде специальной стамески, что можно заключить из протокола осмотра форточки», и «типичные следы взлома, выраженные в изломе форточного шпингалета, приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства».
Через час после поступления дела ко мне позвонил Степанов и самым любезным образом трогательно справился о моем здоровье, самочувствии и делах, затем долго расхваливал погоду и Татьяну Бах в «Сильве», очень советуя мне ее посмотреть, уже в конце долгого разговора он небрежно бросил:
— Да, там мы вам, Лев Романыч, одно дельце направили, так уж вы не посетуйте. Ничего не попишешь — закон. Но вы, конечно, можете не сомневаться, будем помогать… Всемерно будем помогать… Не откажите, дорогой, дать справочку, что вы это дело приняли к своему производству, мне для отчета нужна. А за справочкой заедет Кротов.
Положив после этого разговора трубку, телефона, я еще, увы, не понял, какая беда свалена на мою доверчивую голову лукавым Тихоходом, и выдал справку подозрительно быстро приехавшему Кротову.
Понял я это на следующее утро, когда мне позвонил губернский прокурор Сергей Николаевич Шевердин, добрейший и умнейший старик, в прошлом тоже, как и Дегтярев, политкаторжанин, и сказал, чтобы я немедленно к нему приехал с делом о краже в Благовещенском переулке.
Я перед выездом тщательно ознакомился с делом и тогда увидел, как притянуты за волосы «квалифицированные признаки», но уже был связан по рукам вынесенным мною постановлением о принятии дела к производству и справкой, унесенной Кротовым, как волк уносит ягненка.
Выслушав мой доклад и ознакомившись с делом, состоявшим в основном из документов, иллюстрирующих, как МУР спихнул его мне, Сергей Николаевич, улыбнувшись, сказал:
— Так, так, очень любопытно… Степанов, не будь дурак, спихнул дело вам, а вы, розоволицый сын мой, поспешили принять это дело к производству… Вы находитесь в том счастливом, хотя и опасном возрасте, когда уже научились, что делать, но еще не научились, чего не надо делать… А вот Степанов уже обучен не столько первому, сколько второму… Так как же теперь нам быть? Форточная кража почти безнадежное для раскрытия дело… А С. уже рвет и мечет, рычит, аки лев, и требует нас с докладом… Поедем, сын мой, предвижу уйму неприятностей, ибо ведом мне характер потерпевшего…
Когда мы вошли в кабинет С. и Шевердин представил меня ему как следователя, занимающегося делом о краже, С. — маленький, располневший, седеющий брюнет, находившийся в очень раздраженном состоянии, — проворчал:
— Ах, это и есть следователь?… Ну, тогда мне понятно, почему жулики безнаказанно обворовывают квартиры наркомов… Товарищ Шевердин, у вас детский сад или прокуратура?
Шевердин очень вежливо, но с достоинством возразил, что хотя я и молодой, но подающий надежды следователь, работаю хорошо, а что касается до обращенного к нему вопроса, так ведь он не спрашивает товарища наркома, какого возраста его инспектора.
С. еще больше рассердился и стал кричать, что он будет жаловаться правительству, если в три дня не будет раскрыта эта кража, что ему наплевать на домашние вещи, но он нумизмат, всю жизнь собирал коллекцию древних монет, что это удивительная коллекция, в которой имелись даже динары с дырками времен Александра Македонского, что это не шутка и он не понимает спокойствия губернского прокурора, не верит в следователей, у которых молоко на губах не обсохло, и вообще более трех суток, считая с этой минуты, ждать не намерен…
Шевердин, тоже не на шутку разозлясь, но, видимо, не считая возможным продолжать этот разговор при молодом следователе, попросил меня подождать в приемной, а через полчаса, багровый от ярости, вышел из кабинета С. и увез меня к себе.
По дороге, а потом в кабинете старик все время ворчал на С. за «барские замашки» и «не нашу фанаберию». И действительно: через несколько лет С., как не оправдавший доверия, был снят с поста наркома.
Я, запинаясь от волнения и мысленно проклиная хитроумного Степанова и собственную неосмотрительность, ответил Шевердину, что, как он правильно заметил, дела о квартирных кражах наиболее трудные и процент их раскрываемости весьма низок, что я как следователь не располагаю никакими оперативными и агентурными возможностями, а раскрыть такое преступление чисто следственным путем не берусь…
Было решено, что я направлюсь в МУР и договорюсь со Степановым, что они мобилизуют все свои возможности для того, чтобы помочь в раскрытии этой проклятой кражи.
Увы, Степанов, когда я обратился к нему, прямо мне сказал, что относится к этому делу пессимистически.
— Поймите, дорогой Лев Романович, — сказал он, — кража-то форточная, и вор, забираясь в эту квартиру, даже не знал, кого обворовывает. Толковый профессиональный вор вообще не полез бы в такой дом, это надо понять!… Следовательно, в данном случае действовал какой-то штымп, новичок, одним словом — не рецидивист… Черта с два его найдешь!… Мы уже с Кротовым и так наводили справки, прежде чем это дельце вам сплавить, хороший мой…
И Степанов с милой непосредственностью улыбнулся.
В самом скверном настроении я пошел к своим друзьям из первой бригады. Подробно меня расспросив, Осипов только покачал головой и стал ругать на все корки «этого проклятого Тихохода, который всегда умеет за чужой счет вылезти сухим из воды».
Ребята из первой бригады не любили Степанова и его «дипломатических методов». Осипов очень хорошо понимал, в какое тяжелое положение я поставлен, и искренне хотел мне помочь, но, как опытный работник, видел, что дело почти безнадежное. Он подтвердил слова Степанова, что «настоящий, деловой вор» ни в коем случае не полез бы в квартиру наркома.
— Прямо не знаю, как тебе помочь, друг, — говорил Осипов. — Судя по всему, этот нумизмат от тебя не отстанет. Ничего нет хуже, чем иметь дело с коллекционерами, — это почти всегда маньяки… А тут еще какие-то динары с дырками. Будь они еще без дырок — полбеды, но с дырками — полная хана…
В этот момент к Осипову подошла секретарша и протянула ему шифровку из Одессы. Осипов прочел телеграмму, о чем-то задумался и потом с внезапно просветлевшим лицом человека, неожиданно обретшего надежду найти выход из казавшегося ранее безнадежным положения, протянул мне телеграмму.
— Прочти, старик, — сказал он, — это имеет отношений к интересующему нас вопросу. Ты родился в сорочке…
Я схватил телеграмму, дважды ее прочел, но так и понял, почему она свидетельствует, что я родился в сорочке. В телеграмме было дословно написано:
«Начальнику МУРа Емельянову. В порядке оперативной информации сообщаю, что сегодня выехал скорым в Москву в международном вагоне известный медвежатник „адмирал Нельсон“. Не исключаю возможности серьезных гастролей. „Адмирал Нельсон“ год назад освобожден досрочно от наказания согласно амнистии. Оснований к его задержанию не имеем. „Адмирал Нельсон“ проходил до революции по фамилиям Ястржембский, он же Романеску, он же Шульц.
Начальник Одесского губрозыска Николаев».
— Коля, какое это имеет отношение к динарам с дырками? — робко спросил я Осипова.
— Имеет, — весело ответил он. — Имеет, друже, и вот почему. Я хорошо знаю «адмирала Нельсона». Это крупнейший специалист по вскрытию стальных сейфов, работал еще в царское время, медвежатник с европейским именем, — одним словом, последний из Могикан. Он — король в уголовном мире, и его слово — закон. В общем… он нам поможет… Завтра утром приходи ко мне, поедем его встречать…
— На следующее утро мы встречали на Киевском вокзале одесский скорый. Когда поезд подошел, мы остановились у международного вагона и стали поджидать «адмирала Нельсона». Он появился в соломенном канотье, с роскошным, перекинутым через руку коверкотовым плащом и солидной палкой в руке с большим слоновой кости набалдашником в виде львиной головы. «Адмирал» был уже немолод, сухощав, рыжеват, с единственным веселым, уверенным глазом, второй был закрыт черной шелковой повязкой. Его можно было принять и за преуспевающего негоцианта, и за старого морского волка, и за иностранного концессионера, и за международного злодея из фильмов выпуска киностудии «Русь».
— Здорово, «адмирал»! — подошел к нему Осипов. — С благополучным прибытием в столицу.
— Николай Филиппович, какими судьбами! — весело воскликнул «адмирал» и стал трясти Осипову руку с таким видом, как будто накануне он провел бессонную ночь в ожидании этой встречи. — Давненько мы с вами не видались. Я вижу, что наши фраеры из губрозыска уже накапали вам о моем приезде. Больше им нечего делать, как беспокоить занятого человека, ай-ай-ай… Я же приехал голый, как ребенок, — без багажа, без инструмента, так что они подымают шум, что, я вас спрашиваю?… Я приехал встряхнуться, осмотреться, прийти в себя после кичмана, так эти дураки вас беспокоят. С другой стороны, спасибо им и за это, я вас все-таки повидал…
— «Адмирал», есть серьезное дело, — перебил его Осипов. — Пойдем посидим а ресторане.
— Если пристав говорит садитесь, как-то неудобно стоять, — так утверждали когда-то в Одессе, — улыбнулся «адмирал». — Пойдемте хлопнем по кружке пива и поговорим о жизни… А кто этот милый молодой человек? — указал он на меня.
— Это мой большой друг, — ответил Осипов. — У нас общее дело…
В ресторане, выслушав от Осипова историю динаров с дырками, «адмирал» забушевал от негодования.
— Что у вас тут делается в столице? — кричал он с пеной на губах. — Почему распустились московские ворюги, я вас спрашиваю?! Надо иметь нахальство забраться в квартиру наркома! Что, им мало нэпманов, частных контор, иностранных концессий, — так нет, они лезут прямо на советскую власть!… Это же контрреволюция, я утверждаю это как советский человек!… Николай Филиппович, вы знаете мое куррикулум витэ, или как это там говорят, я не очень силен в латыни, вы знаете все, и я спрашиваю: после Великой Октябрьской революции взял ли «адмирал Нельсон» на абордаж хоть один государственный или даже кооперативный сейф? Да или нет?
— Ни одного, «адмирал», — согласился Осипов. — Это факт.
— Факт? Это не факт, а вопрос мировоззрения и мое профессией де фуа, как говорят французы. Вы слышите, молодой человек, вам это полезно знать, вы только начинаете жизнь. Мировоззрения!… С моими руками, о которых в тысяча девятьсот тринадцатом году берлинский полицей-президент говорил на всемирном конгрессе криминалистов в Вене как о явлении выдающемся, вы слышите — он так и сказал: «Майн либе герр, даст ист вундерлихт унд артистик», — с моими руками взял ли я хоть одну сберкассу или хотя бы уездную контору Госбанка? Боже меня упаси!… Я сказал себе так: «Семен, лучше отруби себе руки, чем взять хоть одну народную копейку!» Вот почему я возмущен до глубины души!
— О чем же мы договоримся, «адмирал»? — прервал Осипов этот поток возмущения.
«Адмирал Нельсон» очень выразительно посмотрел Осипова, потом тихо сказал:
— Вам известны мои принципы, Николай Филиппович? Короче — монеты будут, человека не будет… Ясно?
— Вполне, — ответил Осипов, вставая из-за стола и давая этим понять, что высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению.
Простившись с «адмиралом», записавшим на прощанье телефон Осипова и заверившим, что он немедленно кое с кем встретится, чтобы «сделать демарш и предъявить ультиматум», мы сели в машину и поехали в МУР.
— И ты веришь, что этот одесский жулик что-нибудь сделает? — уныло спросил я Николая Филипповича.
— Если только эти монеты украл человек, а не привидение, — спокойно ответил он, — то в течение максимум двух суток они будут у нас. Старик, ты не знаешь этого человека. Уже самый его приезд в Москву — событие для уголовников, а он рассердился не на шутку. Я себе представляю, какой шухер он поднимет на малинах!… «Адмирал Нельсон» никогда не был и никогда не станет осведомителем угрозыска — это я ручаюсь, — но если к нему обратились как к человеку — он лучше умрет, чем не сделает того, что обещал…
— Мне он показался хвастливым болтуном, — произнес я. — Эта легенда насчет восторгов берлинского полицей-президента…
— Легенда? — сердито переспросил Осипов. — Ну так едем ко мне, я тебе покажу, что это за легенда… У этого человека действительно золотые руки…
Через полчаса я уже перелистывал пожелтевшие страницы формуляра Московской сыскной полиции, на обложке которого было написано:
«Ястржембский Казимир Станиславович, он же Романеску Жан, он же Шульц Вильгельм, — опаснейший медвежатник международного класса, гастролирует в империи и за границей, проходит по донесениям С.-Петербургской, Одесской, Московской, Ростовской-на-Дону и Нахичеванской, а также Царства Польского сыскных полиций».
Формуляр содержал многочисленные донесения, запросы и рапорты всех этих сыскных полиций, излагавших похождения неуловимого «адмирала Нельсона».
Из них особенно подробным был «меморандум» директора департамента полиции министерства внутренних дел Белецкого, адресованный «его высокопревосходительству господину министру внутренних дел Н. А. Маклакову», датированный 12 марта 1913 года и, согласно резолюции министра, в копиях разосланный начальникам сыскных отделений полиции ряда крупнейших городов Российской империи «для сведения и руководства».
Вот что было в нем написано:
«Согласно приказанию вашего высокопревосходительства, сим докладываю о злоумышленной деятельности известного специалиста по взламыванию и расплавлению стальных сейфов одесского мещанина, проходившего под фамилией Ястржембский, Романеску, Шульц и неоднократно судившегося за совершенные им уголовно-наказуемые деяния указанного выше характера.
В текущем, как и в минувшем годах, по данным департамента полиции, ограбления и взломы банковских сейфов имели место в разных городах империи, но особого внимания заслуживают случаи в Нижнем Новгороде и Самаре.
В Нижнем Новгороде 12 августа минувшего года ночью неизвестный злоумышленник проник в помещение местного отделения Волжско-Камского банка, где и вскрыл два сейфа особой конструкции, выписанные вышеназванным банком из Лейпцига у известной фирмы по изготовлению банковских сейфов „Отто Гриль и K°“.
Как установлено полицейским дознанием, произведенным по этому делу чинами нижегородской полиции при участии чиновника для особых поручений при нижегородском губернаторе, злоумышленник находился в помещении банка не более тридцати минут, на которые самовольно отлучился с поста ночной сторож мещанин Иван Прохоров Козолуп, каковой, ввиду давности его безупречной дотоле службы в банке, а также ввиду весьма лестных о нем отзывов местной полиции, нижегородского отделения Союза русского народа и благочинного отца Варсонофия, от всяких подозрений освобожден.
По показаниям Козолупа, он в начале второго часа ночи, видя, что городское движение затихло, прохожих нет и даже в ресторане гостиницы „Россия“ погасли огни, решил на время отлучиться со своего поста, дабы напиться дома чаю, как он это нередко делал в ночное время, чтобы отогнать сон. Поскольку квартира Козолупа находилась неподалеку, он запер двери подъезда и пошел к себе, причем по дороге встретил неизвестного ему молодого человека в котелке, которому по его просьбе дал прикурить.
Когда по прошествии тридцати минут Козолуп вернулся на пост, то обнаружил подъезд уже открытым, а также открытыми стальные двери, ведущие в подвал, где хранятся банковские сейфы. Козолуп немедленно вызвал полицию, а также стал разыскивать директора банка, гласного городской думы, почетного гражданина Валентина Павловича Голощекина, какового лишь в начале пятого часа утра с трудом, да и то при содействии местного пристава, обнаружили в Канавском участке, в публичном доме, содержательницей коего является купчиха 2-й гильдии Скороходова.
Как в дальнейшем выяснилось, злоумышленник с необыкновенной ловкостью и отменным знанием дела открыл два сейфа, несмотря на то что они снабжены секретными и вполне оригинальной конструкцией замками. Похитив из упомянутых сейфов около ста тысяч рублей государственными ассигнациями, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Поскольку лейпцигская фирма „Отто Гриль и K°“ выдала дирекции Волжско-Камского банка фирменную гарантию, что ее сейфы, ввиду особой секретности замков, посторонними вскрыты быть не могут, г-н Голощекин немедля уведомил о случившемся по телеграфу главу фирмы, немецкого купца Гриля, каковой в тот же день ответил телеграфно, что командирует в Нижний Новгород старшего инженера фирмы Ганса Шмельца и расходы по его выезду фирма принимает на себя. Через несколько дней названный Шмельц действительно прибыл в Нижний Новгород, детально, в присутствии директора банка и чинов полиции, осмотрел оба сейфа и публично заявил, что даже он сам, автор этой конструкции и специалист по сейфам, не сумел бы вскрыть эти сейфы в течение тридцати минут, а затратил бы на это не менее пяти часов, да и то при наличии специальных инструментов.
Затем, в частной беседе с нижегородским полицмейстером, инженер Шмельц заявил, что в случае если злоумышленник будет обнаружен полицией и понесет заслуженное наказание, то по отбытии им такового фирма „Отто Гриль и K°“ охотно предложила бы указанному злоумышленнику работу на своих предприятиях на самых выгодных условиях. Что это предложение фирмы было серьезным, явствует из того факта, что инженер Шмельц даже позволил себе предложить полицмейстеру весьма ценный подарок за то, что тот примет на себя роль посредника в переговорах со злоумышленником, от какового подарка полицмейстер, разумеется, отказался, что, по крайней мере, следует из его рапорта нижегородскому губернатору.
Между тем в результате принятых местной полицией мер удалось установить, что 13 августа на пароход „Великая княжна Татьяна“ волжского пароходного общества „Кавказ и Меркурий“, отправлявшийся вниз по Волге, вступил в качестве пассажира первого класса неизвестный молодой человек в котелке, отменно одетый, рыжеватый, каковой в тот же вечер в салоне первого класса принял участие в азартной картежной игре в обществе других пассажиров. Как потом выяснилось, среди играющих был известный пароходный шулер Зигмунд Пшедецкий, возвращавшийся с нижегородской ярмарки, где он выдавал себя за польского графа Ланкевича и также крупно играл в ряде игорных домов. На пароходе, заметив ряд русских и персидских купцов, возвращавшихся с ярмарки, Пшедецкий снова затеял крупную игру, в которой принял участие и упомянутый выше молодой человек в котелке.
По свидетельству лакея пароходной кухни татарина Мурзаева, обслуживавшего игроков подачей как прохладительных, так и горячительных напитков, игра шла очень крупно, на десятки тысяч, и Пшедецкий обыграл самарского купца первой гильдии известного мукомола Прохорова, а также персидских купцов Гуссейна Хаджара и Сулеймана Айрома и, кроме того, хвалынского уездного предводителя дворянства графа Кушелева и в общей сложности выиграл не менее ста тысяч рублей. Что же до молодого человека в котелке, то и он, по свидетельству Мурзаева, сильно проигрался и, расплачиваясь, вынимал из большого кожаного портфеля, с которым не расставался, деньги, причем Мурзаев заметил, что портфель набит до отказа ассигнациями.
По окончании игры, когда пассажиры разошлись по каютам, Мурзаев, убиравший салон, услыхал какой-то шум в третьей каюте и, подойдя к ее дверям, подсмотрел в замочную скважину Пшедецкого-Ланкевича и молодого человека в котелке, причем последний основательно тряс Пшедецкого за ворот и кричал: „Отдай, жулик, полвыигрыша, а то я из тебя душу выну!“ — на что Пшедецкий кричал, что согласен вернуть молодому человеку лишь его проигрыш… В конце концов между ними началась драка, и молодой человек в котелке начал бить Пшедецкого спасательным кругом по голове, после чего Пшедецкий отдал молодому человеку половину всего выигрыша и тут же, захватив свой маленький саквояж, высадился на первой же глухой пристани, несмотря на позднюю ночь. Рыжий кричал ему вслед с палубы: „Теперь будешь знать, фраер, Одессу-маму! Пижон ты, а не шулер!“ — и вообще очень веселился.
По прошествии нескольких, дней и на следующий день после прибытия вышеупомянутого парохода „Великая княжна Татьяна“ в Самару, где молодой человек в котелке высадился, там же, ночью, было произведено неизвестным злоумышленником дерзкое ограбление самарского купеческого банка, где также были вскрыты два сейфа и похищены сто пятьдесят шесть тысяч рублей. При этом, как и в Нижнем Новгороде, злоумышленник произвел вскрытие сейфов в удивительно короткий срок.
По началу полицейского дозрения по этому делу было установлено, что в вечер прибытия парохода „Великая княжна Татьяна“ в Самару в гостиницу „Волга“ явился рыжеватый молодой человек в котелке и, предъявив паспорт на имя Казимира Ястржембского, занял номер. На следующие сутки около трех часов ночи он вернулся из города в гостиницу с саквояжем в руке и дал коридорной Аграфене Гориной, открывшей ему дверь, пять рублей на чай. При этом, как показала на дознании Горина, он был вполне трезв, но явно утомлен.
Именно эти данные и пролили известный свет на это дело, поелику по данным харьковской сыскной полиции известный медвежатник Шульц-Романеску проходил у них под фамилией Ястржембского.
Однако по получении и проверке этих данных Шульц-Ястржембский скрылся из Самары в неизвестном направлении.
И лишь через восемь месяцев следы Шульца-Ястржембского всплыли в Берлине, откуда поступило сообщение берлинского полицей-президиума о нижеследующем, обратившем на себя внимание немецкой полиции происшествии.
В феврале текущего 1913 года в Берлине была открыта техническая выставка, на которой как германские, так и другие европейские фирмы демонстрировали свои товары. В павильоне „Банковское и торговое оборудование“ ряд фирм демонстрировал новые стальные сейфы с секретными замками. В частности, демонстрировались и сейфы фирмы „Отто Гриль и K°“. В целях рекламы как эта фирма, так и германская электротехническая фирма „Симменс-Шуккерт“, демонстрировавшая сейфы с секретной электрической сигнализацией, объявили большой денежный приз тому из посетителей, который сумеет в первом случае вообще открыть сейф, а во втором — открыть его без того, чтобы автоматически включилась электрическая сирена.
7 февраля в присутствии многочисленной публики некий рыжеватый молодой человек в котелке подошел к администратору павильона и заявил, что сейчас он попытается открыть как сейф лейпцигской фирмы „Отто Гриль и K°“, так и сейф „Симменс-Шуккерт“. Его предложение было принято, и он, к вящему удивлению представителей фирм и восторгу многочисленной публики, в течение двадцати двух минут открыл оба сейфа, причем во втором случае сумел предварительно отключить секретную сигнализацию.
Ему тут же были выданы денежные призы, и он на плохом немецком языке пригласил всех присутствующих в пивную „Вагнер“, где и угощал их за свой счет, а сам, довольно сильно выпив, танцевал чечетку и провозглашал тосты за город Одессу, именуя ее „Одесса ди мутер“.
Между тем инженер фирмы „Отто Гриль и K°“ Ганс Шмельц, упомянутый выше, позвонил в берлинскую полицию и сообщил, что способ, которым неизвестный открыл сейф, очень напоминает ему происшествие, случившееся в нижегородском отделении Волжско-Камского банка.
Тогда представители берлинского полицей-президиума спешно явились в пивную „Вагнер“ и потребовали у неизвестного молодого человека предъявления документов. Он показал им русский паспорт на фамилию Ястржембского с визой на выезд за границу, данной конотопским уездным исправником. Чины берлинской полиции тем не менее предложили ему следовать за собой на предмет дальнейшего выяснения его личности, но Ястржембский от этого категорически отказался и стал просить защиты у публики, уже основательно подвыпившей за его счет. Публика единодушно встала на его защиту и оттеснила чинов полиции, а сам Ястржембский скрылся.
Докладывая о вышеизложенном вашему высокопревосходительству, со своей стороны полагал бы необходимым войти в сношение с господином министром иностранных дел, его высокопревосходительством г-ном Сазоновым, на предмет обращения в установленном порядке к германской полиции с просьбой об обнаружении, задержании и выдаче названного Ястржембского-Шульца, как серьезного уголовного преступника.
Директор департамента полиции министерства внутренних дел, действительный статский советник С. П. Белецкий».
Из дальнейшей переписки, которая содержалась в этом архивном деле, можно было понять, что в течение почти года царское министерство внутренних дел через министерство иностранных дел связывалось с германской полицией, которая разыскивала или делала вид, что разыскивает «адмирала Нельсона», а потом разразилась война, и эта трогательная переписка прекратилась.
Был уже вечер, когда я, закончив ознакомление с этими пожелтевшими документами и списав на память наиболее интересные из них, пошел с Осиновым в кинотеатр «Арс», где теперь находится драматический театр имени Станиславского.
Взяв билеты, мы решили погулять, так как до начала сеанса еще оставалось около часа.
— Скажи, Николай, чем может кончить этот «адмирал Нельсон»? — спросил я Осипова.
— Я сам часто думаю о нем и таких, как он, — ответил Осипов. — Как тебе сказать, дружище, это очень сложный и трудный вопрос. Мы получили в наследие от прошлого довольно большой уголовный мир с его навыками, традициями, различиями, если хочешь знать, «школами», и специальностями. Сейчас, в годы нэпа, уголовщина опять получила какую-то питательную среду. Рестораны, бега, частные магазины, торговля, кабаре, сами нэпманы, наконец, — все это, конечно, в какой-то степени порождает и уголовщину. Есть еще немало старых «специалистов» — грабителей, воров, содержателей всевозможных притонов и т. п. Думаю, что большинство из них будет нами рано или поздно поймано и отправлено по назначению. Какая-то часть, вероятно, «перекуется» и начнет трудовую жизнь. Куда пойдет «адмирал», трудно сказать… Но то, что он никогда не берет из государственных и кооперативных сейфов денег, — факт… Это все-таки нюанс… А в общем: поживем — увидим…
Утро следующего дня началось с телефонного звонка секретарши С., передававшей, что тот продолжает волноваться и велел напомнить, что осталось два дня. Нельзя сказать, чтоб это сообщение привело меня в хорошее настроение. В два часа со мною связался Осипов и сообщил, что ему только что позвонил по телефону «адмирал Нельсон» и сказал, что работа кипит, но монет пока нет.
В конце дня позвонил Шевердин, и по тревоге, с которой этот добрый старик справлялся о ходе дел, я понял, что он искренне обеспокоен и считает, что, если монеты не найдутся, мне несдобровать. Я в самых общих словах доложил Шевердину, что товарищи из МУРа приняли такие-то меры, но пока результатов нет.
— Жаль, жаль, — вздохнул Шевердин, — уж очень бушует наш потерпевший… Старайтесь, розоволицый сын мой, старайтесь, а то влипнем мы с вами в историю с географией…
Нетрудно представить себе мое состояние, когда в тот же день вечером под окнами моей комнаты загудела знакомая сирена осиповского «пежо». Я пулей выскочил на улицу и еще издали увидел улыбающееся лицо моего друга, рядом с которым сидел один из самых талантливых его помощников — Николай Леонтьевич Ножницкий.
— Садись, едем! — крикнул мне Осипов. — Звонил «адмирал» и просит срочно приехать в «Культурный уголок»…
Я сел в машину, и мы помчались на улицу Горького, где в невысоком доме на углу Малого Гнездниковского, который давно уже снесен и на месте которого теперь высится новый дом; помещалась пивная, называвшаяся «Культурный уголок» и славившаяся, однако, не столько культурой, сколько отличными вареными раками и совершенно необыкновенной вяленой воблой, подаваемыми вместе с моченым горошком к пиву.
«Адмирал Нельсон» уже поджидал нас за столиком в углу, сидя в своем отличном, очень модном костюме, с самым торжественным выражением лица.
— Добрый вечер, добрый вечер, — с достоинством протянул он. — Ну и задали вы мне работку, будь она проклята!… Это называется — человек приехал встряхнуться и отдохнуть!… От такого отдыха недолго и сыграть в ящик — как говорил мой покойный папа, а человека умнее его Одессе не было и уж теперь, безусловно, не будет… Между прочим, он был лучший слесарь-механик в этом великом городе, и я убедился по себе, что законы наследственности, не выдумка шарлатанов… Один раз, не сойти мне с этого места…
— Нельзя ли ближе к существу дела? — перебил его Осипов. — Историю с покойным папашей вы мне рассказывали еще в тысяча девятьсот двадцать первом году…
— Пардон, забыл, ей-богу, забыл, — произнес «адмирал». — Так вот, могу и ближе к делу… Вчера я прямо с вокзала собрал кого следует и провел пленарное заседание. Я произнес такую речь, что ребята заплакали… «Проклятые гидры контрреволюции, — сказал я им, — у вас хватило совести, жлобы, кинуться на наркома и свистнуть у него какую-то вонючую и никому не нужную коллекцию монет, чтобы сократить его нужную жизнь! Из-за каких-то паршивых динаров с дырками вы отрываете члена правительства от важнейших государственных дел, деникинцы! Я бросил все свои дела в Одессе я примчался, чтобы сказать вам свое „фэ“… На Молдаванке три дня плевались узнав о вашем гнусном злодеянии, которому нет слов, махновцы!…» Я говорил полчаса, не меньше, и три раза мне подавали воду, так я волновался… И тогда встал король московских домушников — вы его знаете, Николай Филиппович…
— Сенька Барс, знаю, — произнес Осипов.
— Именно. Обливаясь горючими слезами, он поклялся, что это не его работа. Что вам много говорить?… Там были сливки Москвы, и все поклялись бросить работу, пока не найдут этих проклятых монет, из-за которых мы все опозорены… И кому, как не вам, знать, что они действительно сдержали слово…
— Это верно, — подтвердил Осипов. — За эти сутки, впервые за последние годы, не было совершено ни одной кражи…
— Что значит кражи? — обиженно спросил «адмирал». — Что значит кражи, когда сутки вообще никто не работает… Ведь пришлось мобилизовать всех фармазонов, и уличных грабителей, и кукольников, всех стоящих людей… Был ли раздет хоть один нэпман, вырвана ли хоть одна сумка у какой-нибудь шмары, вытащен ли хотя бы один бумажник? Да что говорить, когда город объявлен на осадном положении… Нам недешево обошлись эти динары с дырками!… Может быть, вы думаете, хоть один человек спал хотя бы десять минут? Если вы это думаете, я перестану вас уважать…
— Нет, я этого не думаю, — поспешил заявить Осипов.
— Потому что умный человек!… Скажу больше — всю ночь я сам провел на главной малине…
— В Зоологическом переулке? — улыбнулся Осипов.
— Николай Филиппович, этого я от вас не ожидал, — нахмурился «адмирал», — «адмирал Нельсон» за всю свою жизнь не завалил ни одной малины, и такие вопросы — это не по конвенции… В общем… я ничего не скажу…
— Ладно, замнем, — усмехнулся Осипов. — Продолжаем заседание…
— Продолжаем. До утра я просидел на малине, каждые полчаса прибегали люди со всех концов города, и каждый говорил: «Нет!…» В семь часов утра ни один профессор на свете не дал бы за мою жизнь медного гроша, так меня трясло от волнения… В восемь я уже был одной нотой на том свете, и сильно попахивало могилой — сердце почти не работало; пропал пульс, и Манька Блоха, хозяйка малины, рыдала, глядя на меня, и вопила: «„Адмирал“, миленький, неужели ты помрешь из-за каких-то динаров с дырками? Ой, что мы скажем Одессе? Как объясним, что тебя не уберегли, мне сожгут малину, „адмирал“…» Кто, вы думаете, меня спас?… Сенька Барс. Он прибежал в девять тридцать и, увидев, что я уже почти не дышу, сразу понял, что надо делать… Дело в том, что Барс — человек с недюжинным образованием, он почти закончил фельдшерскую школу в Жмеринке и, видит бог, если б не стал вором, то давно был бы профессором медицины… В общем, он с ходу ринулся в ближайшую больницу и там средь бела дня стащил из-под какого-то больного подушку с кислородом, которую принес мне… Дай ему бог здоровья — это была единственная кража, совершенная за этот ужасный день… Хорошо я отдохнул в Москве, а, Николай Филиппович?!
— Ближе к делу, «адмирал», — неумолимо произнес Осипов.
— Мы как раз к нему подходим, и сейчас я брошу якорь, — сказал «адмирал», — Когда я немного отдышался, вбежал Колька Кролик из Марьиной Рощи с таким видом, как будто он только что сорвался с кола турецкого султана или украл в трамвае линии «Б» британскую корону, и заорал во все горло. «Что ты орешь, идиот?» — спросил я, а он все продолжал кричать, пока Сенька Барс не вытряхнул из него сути дела: оказывается, урки нашли все-таки этого проклятого ворюгу, и он оказался, во-первых, не москвич, во-вторых, что еще более важно, не одессит и, в-третьих, даже не настоящий урка, а какой-то приезжий штымп из Тулы… После этого я вас спрашиваю, можно жить на этом странном свете?
— Где же монеты? — спокойно спросил Осипов, пристально глядя прямо в глаза «адмиралу».
— Как раз этот вопрос, не будучи оригиналом, я задал Кольке Кролику, — язвительно ответил «адмирал». — Монеты в Туле, куда этот штымп успел их отвезти. Теперь за ними поехала туда такая делегация, что если в этом городе останется хотя бы знаменитый оружейный завод, так горсовет может устроить торжественное заседание… Скоро их привезут сюда…
Тут даже Осипов не выдержал и вздохнул с облегчением. У меня от радости кружилась голова. Ножницкий так смеялся, что слезы текли у него по лицу.
И тут кто-то бросил камешек в окно, у которого мы сидели. «Адмирал Нельсон» моментально вскочил и, воскликнув: «Послы прибыли! Музыка играет туш!» — выбежал из пивной.
Через несколько минут он возвратился в пивную с очень торжественным видом, неся в руках довольно большой кожаный мешок с медными застежками.
— Вот они — произнес «адмирал», и его единственный глаз засверкал от сатанинской гордости. — Могу дать голову на отсечение, что, если б даже все полиции мира, совместно с участниками Венского всемирного конгресса криминалистов, на котором берлинский полицей-президент так заслуженно тепло отозвался о моих руках, приехали бы сюда, чтобы разыскать эти монеты, им бы пришлось организованно утопиться в Москве-реке от неслыханного позора… Молодой человек, — обратился он ко мне, — вы только вступаете в жизнь и глубоко мне симпатичны, смотрите, любуйтесь, запоминайте: вот на что способны воры, когда задета их честь… Вот что такое «адмирал Нельсон» и его громадный авторитет!…
И, расстегнув застежки, он открыл мешок, где в специальных ячейках сидели, как голуби в гнездах, монеты.
Мы стали их разглядывать. Их было около двухсот, и все они были медные, зеленые и ржавые от древности, маленькие и большие, с вычеканенными на них быками и змеями, орлами и козлами, сфинксами и журавлями.
— Прошу встать перед лицом тысячелетий, — торжественно произнес «адмирал» и действительно встал. — Видите, вот, судя по дыркам, те самые динары, из-за которых поднялся такой страшный шухер… Боже мой, какая гримаса жизни, как любил говорить одесский присяжный поверенный Николай Николаевич Шнеерзон, защищавший меня в тысяча девятьсот пятнадцатом году, когда меня в конце концов поймала сыскная полиция… Действительно, гримаса — эти монеты противно взять в руки… Из-за такой дряни лучшие люди великого города носились, как коты, нанюхавшиеся валерьянки… Стоило волноваться наркому из-за этой ржавой меди!… Поистине, и большие люди — глупцы, как говорил философ Спиноза, хотя скорее всего, что он этого и не говорил…
«Адмирала» понесло. Опрокинув пару стопок водки и залив их большой кружкой пива, он извергал на нас потоки своего красноречия. Из вежливости — все-таки этот человек нам помог — мы его не перебивали. Осипов заметно погрустнел: он очень не любил болтовни. А на нас сыпались философские сентенции и хвастливые воспоминания старого медвежатника, лирические отступления и воровской фольклор одесской Молдаванки.
Наконец он иссяк, или, точнее, устал. Воспользовавшись паузой, мы уже хотели проститься, как «адмирал» неожиданно сказал:
— А знаете, что самое странное в этом странном деле? Впервые в жизни «адмирал Нельсон» занимался розыском вместо краж. Оказывается, это гораздо интереснее. Честное слово старого медвежатника, это были самые счастливые сутки в моей жизни…
И, внезапно отрезвев, «адмирал» посмотрел на нас печальным взглядом уже немолодого человека, неожиданно понявшего, что он зря растратил свою жизнь.
Осипов сразу встрепенулся и пристально посмотрел на «адмирала».
— Из всего, что вы нам сегодня сказали, Семей Михайлович, — серьезно произнес он, впервые так обращаясь к «адмиралу», — это самое стоящее и умное. И если, найдя эти монеты, вы еще сумеете найти и свою новую судьбу, — а это всегда возможно, если человек имеет голову, а не кочан капусты, и сердце, а не тухлое яйцо, — то я ваш верный союзник. Был бы рад сквитаться таким образом…
По тому, как сразу и густо покраснел «адмирал», я понял, что Осипов, как всегда, попал в цель. Установилось то общее молчание, которое нередко говорит больше, нежели любые слова.
«Адмирал» сидел, опустив голову, о чем-то думая. Осипов не сводил с него глаз, и в них светилось то теплое, человеческое участие, без которого, как и без веры в людей, криминалист всегда ограничен и слеп. Увы, как нередко потом мне приходилось встречать иных следователей, страдающих этой куриной слепотой и потому причинявших страдания, в которых не было нужды!…
После затянувшейся паузы «адмирал» поднял голову и тихо, почти шепотом сказал:
— Кажется, Архимед заявил, что, если ему дадут точку опоры, он может перевернуть мир… Я не Архимед, и мир перевернулся без меня… Но так как я вижу, что он перевернулся правильно, то что-то перевернулось и вы мне… Мне уже много лет, Николай Филиппович, и в мои годы трудно начинать жизнь снова. Но вы оказали мне доверие, и это тоже точка опоры, о которой мечтал Архимед… Попробую «перевернуть» свой старый, заскорузлый мир… Попробую расплавить тот ржавый сейф, который я таскаю в себе… Кто знает, может быть, в нем еще сохранилось что-нибудь стоящее… Может быть…
И, неожиданно встав, он, не прощаясь, выбежал из пивной.
Когда я приехал к Шевердину и рассказал обо всем, что было, старик начал так хохотать, что я за него испугался. Потом, совершенно неожиданно для меня, он очень строго сказал:
— А все-таки, голубчик, я вот тут посоветовался с товарищами, да-с, и решили мы единогласно, что придется вам предстать перед дисциплинарной коллегией губсуда… Да, именно… Пишите объяснение…
В полной растерянности я вышел из кабинета Шевердина и бросился к Снитовскому и Ласкину — первым моим наставникам. Оба были заметно расстроены. Ласкин, нехотя буркнув «здрасьте», барабанил пальцами по столу. Снитовский был холоден как лед. Кроме них в кабинете находился и помощник губернского прокурора по надзору за следствием М. В. Острогорский, высокий красивый человек со светлой пышной шевелюрой и большими серыми глазами, глядевшими на этот раз весьма строго.
— Маленькие дети — маленькие неприятности, большие дети — большие неприятности, — начал Снитовский. — Так вот, Лев Романович (никогда раньше он меня не называл по отчеству), скорблю, всей душой скорблю по поводу странного вашего поведения… Нехорошо, милостивый государь, нехорошо и, даже позволю себе сказать, — стыдно!… Тому ли мы вас учили, сударь, тому ль?…
— Иван Маркович, позвольте… — пролепетал я.
— Не позволю! — стукнул Снитовский кулаком по столу. — Не позволю! Ай-ай-ай, судебный следователь сидит в пивной с каким-то рецидивистом!… Ужас, ужас!…
— Кошмар! — поддержал его Ласкин.
— Это просто непостижимо, — процедил Острогорский.
— Когда нам Шевердин все рассказал, мы решили, что так это не пройдет, не должно пройти… Пусть вам наперед наука будет… Да, наука, как нашу корпорацию марать…
И через неделю я стоял перед большим, крытым зеленым сукном столом, за которым восседала дисциплинарная коллегия губсуда в полном своем составе и с мрачным бородатым Дегтяревым во главе.
К тому времени дорогие мои наставники успели вполне внушить мне, что я совершил великий и непростительный грех, и я теперь со всей искренностью лепетал членам дисциплинарной коллегии обо всем, что было, как было и почему. Ах, как мне было худо!…
Дегтярев слушал очень внимательно, и в его коричневых желчных глазах, как это ни странно, светилось, где-то в самой глубине, что-то ласковое и даже, кажется, веселое. Не потому ли он так сердито жевал свою бороду и время от времени зловеще бросал:
— Рассказывай, все рассказывай, орел!… Ишь какой ловкий!… Хорош, нечего сказать, хорош!… Шерлоком Холмсом захотел стать!…
Но обо всем этом я вспоминал уже потом, а тогда мне было не до размышлений, и я только очень боялся из-за волнения хоть что-нибудь утаить. Но я ничего не утаил.
Судьи совещались всего двадцать минут, но мне это показалось вечностью. И когда Дегтярев стал зачитывать решение, я с трудом, в тумане, застилавшем голову, расслышал главное: что меня не увольняют с работы и что коллегия, ввиду моей молодости и искреннего раскаяния решила ограничиться устным, но строгим внушением.
И тут я — дело прошлое — заплакал, на что Дегтярев, в очень ласковом, удивительном для него тоне тихо сказал:
— Ничего, ничего, не стесняйся, поплачь, милок, и пусть это будет твое последнее в жизни горе…
А через много лет, где-то в середине тридцатых годов, судьба снова столкнула меня с «адмиралом Нельсоном». Я работал тогда в Прокуратуре СССР в качестве начальника следственного отдела и однажды, придя в кабинет прокурора СССР И. А. Акулова, застал последнего в очень взволнованном состоянии.
— Вот, Лев Романович, полюбуйтесь, какое несчастье, — обратился ко мне Акулов. — Потерял я ключ от своего сейфа, через два часа мой доклад в правительстве, а все материалы в сейфе… Наш механик открыть не берется, потому что сейф сложный, с каким-то замысловатым замком… Механик говорит, что надо сутки с ним биться…
Я посмотрел на массивный стальной сейф и сразу вспомнил, что пару лет назад Осипов мне рассказывал, что «адмирал Нельсон» окончательно порвал со своим прошлым, перебрался на жительство в Москву и мирно трудится в качестве технорука одной механической артели.
— Одну минуту, Иван Алексеевич, — сказал я Акулову. — Попытаюсь вам помочь…
И я тут же позвонил Осипову, работавшему уже в МВД СССР, и рассказал ему о беде, постигшей прокурора Союза.
— Все ясно, старина, сейчас попробую разыскать Семена Михайловича и, если найду, приеду вместе с ним, — сказал Осипов. — Но я его с год не встречал, не знаю — жив ли…
Иван Алексеевич, всегда и все понимавший с полуслова, едва я положил телефонную трубку, спросил:
— Скажите, это не тот «адмирал: Нельсон», о котором вы мне рассказывали?
— Он, Иван Алексеевич.
— Ну этот, судя по всему, поможет. Старые кадры не подводят…
И Иван Алексеевич улыбнулся своей неповторимой, очень мягкой и лукавой улыбкой, которую так хорошо знали его подчиненные.
Не прошло и полчаса, как появился несколько запыхавшийся, но все еще тогда крепкий Николай Филиппович, за которым следовал чистенький, аккуратный старичок с небольшим саквояжем в руке, одноглазый, с такой же аккуратной, как и весь сам, черной повязкой над глазницей. Годы взяли свое, и «адмирала» было трудно узнать, так постарел он за это время, и только в самой глубине его единственного глаза все еще тлел тот живой огонек, который запомнился мне с первой встречи.
Иван Алексеевич встретил «адмирала» с обычной корректностью я тактом.
— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Мне говорили, что вы один из лучших… гм… механиков… Не так ли?
— В свое время так считали почти все полиции Европы, товарищ Акулов, — ответил с достоинством «адмирал». — Но ведь полиции свойственно ошибаться более чем кому-либо… Впрочем, как будто я действительно немного разбирался в сейфах… Речь идет об этой гробнице?
И он указал на злополучный сейф.
— Совершенно верно. Это, если я не ошибаюсь, немецкий?
— Да, лейпцигской работы, — ответил «адмирал», быстро оглядывая сейф. — Однако это не «прима», как говорят немцы… Это сейф фирмы «Отто Гриль и K°», и я немного знаком с ее продукцией. Мы имеем здесь двойную щеколду нержавеющей стали с внутренней пружиной и автоматическим боковым тормозом — вот здесь, слева, — который задерживает замок, если не знать секрета… А вот и самый секрет — он довольно музыкальный… Что делать — немцы любят музыку…
И «адмирал Нельсон» нажал головку одного из пяти медных болтов, которыми был заклепан замок. Головка сразу же подалась и с мелодичным звоном отошла в сторону.
— Совершенно верно, — улыбаясь произнес Акулов. — Я вижу, что полиция не всегда ошибалась. Семен Михайлович — если не ошибаюсь?… — вы действительно крупный специалист…
— Не хвалите раньше времени, а то можно сглазить, — ответил «адмирал».
— Сейчас мы подружимся с этим «немцем» как следует…
И, вытащив из саквояжа какой-то тонкий стальной прут и длинный ключ с передвигающимися бородками, «адмирал» начал совершенно бесшумно ими оперировать.
— Замки сейфов не переносят грубости, — говорил он, продолжая работать.
— С ними нужно деликатно обращаться, и они, как женщины, больше ценят внимание, а не силу… Конечно, когда такая старая калоша, как я, говорит о женщинах, это может показаться смешным, но в молодости бывший «адмирал Нельсон» разбирался не только в сейфах, несмотря на то, что имел всего одни глаз… Кстати, товарищ Акулов, именно благодаря этому меня и прозвали «адмиралом Нельсоном», который тоже был одноглазым… В тысяча девятьсот пятом году я гастролировал в Амстердаме и, дело прошлое, взял там один хороший сейф… На следующий день я прочел в газетах, что через неделю, это было в октябре, в Англии будет отмечаться сто лет со дня гибели Горацио Нельсона, павшего, как вы знаете, двадцать первого октября после сражения у Трафальгарского мыса, где он разгромил франко-испанский флот… Мне захотелось отдать дань внимания тезке… Я скупил в Амстердаме уйму знаменитых голландских тюльпанов, погрузил их на пароход и выехал в Англию. Три грузовых фургона доставили мои тюльпаны на кладбище, а сам я был в новом фраке и цилиндре… Клянусь вам честью, что, когда публика увидела мои тюльпаны, на меня стали глазеть больше, чем на первого лорда адмиралтейства… И тогда я произнес речь. «Леди энд джентльмен, — сказал я.
— Я имею честь и одновременно удовольствие представлять здесь неповторимую Одессу, подарившую миру столько выдающихся поэтов, музыкантов, моряков и правонарушителей. Ваш одноглазый адмирал знал свое дело, что, впрочем, свойственно многим одноглазым». Мне устроили овацию… Да, на старости нам остаются одни воспоминания, как сказал Кант, в чем я, впрочем, не уверен…
— В том, что остаются одни воспоминания, или в том, что это сказал Кант? — быстро спросил Акулов.
— Николай Филиппович вам может подтвердить, что речь идет только о втором. А в том, что, кроме воспоминаний, у меня уже давно ничего нет, уверен помимо меня и весь угрозыск.
— Верно, — произнес Осипов.
И в этот самый момент «адмирал» со словами: «Ну вот, спасибо, крошка», — распахнул сейф.
Акулов поблагодарил «адмирала» и деликатно осведомился, «сколько он должен», но «адмирал» так отчаянно замахал руками, что этот вопрос сразу отпал.
— Еще раз благодарю, Семен Михайлович, — очень серьезно произнес Акулов. — Я искренне рад, что познакомился с вами теперь, когда уже можно сказать, что вы выдержали трудный, может быть самый трудный на свете, экзамен. Я имею в виду не сейф…
— Я вас понимаю, товарищ Акулов, — тихо ответил «адмирал». — Вы имеете в виду не сейф, а того, кто его открыл… Да если говорить откровенно, я начал сдавать этот экзамен давно — когда мы искали эти динары с дырками… И теперь я каждый год хожу в Музей имени Пушкина — там есть отдел древних монет, — гляжу на эти динары и благодарю того неизвестного и давно покойного мастера, который чеканил их столько лет тому назад. И еще больше я благодарю тех живых и известных мастеров, которые чеканят наше удивительное время… И даже перечеканивают такие стертые монеты, как я… Пусть же здравствуют и наше время, и наши люди, товарищ прокурор!…
— Позвольте пожать вашу руку! — на первый взгляд не совсем по существу, а на самом деле в прямое развитие темы произнес Акулов.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Однажды, в апреле 1945 года, когда война уже приближалась к концу, мне позвонил мой знакомый, писатель Василий Павлович Ильенков, сказавший, что по поручению группы жильцов дома номер два по Проезду Художественного театра, где проживает и он, ему необходимо меня повидать по одному, как он выразился, очень странному и вполне необыкновенному делу.
Признаться, я тогда досадливо подумал, что речь идет о какой-то нагноившейся квартирной склоке, в которую, по доброте души Василия Павловича, его втянула одна из враждующих сторон. Велико было мое удивление, когда, придя ко мне, Василий Павлович рассказал, что пришел он в связи с таинственным исчезновением Елочки Доленко, совсем еще молодой красивой женщины, которую в этом доме знали с детских лет.
Оказывается, вот уже семь месяцев, как Елочка, поехав в одно из воскресений октября вместе со своим мужем в Пушкино на базар для покупки котиковой шубы, в пути загадочно исчезла, и с тех пор нет о ней ни слуху ни духу.
Ильенков добавил, что он явился ко мне не только по поручению общественности дома, но и по просьбе мужа Елочки, возмущенных тем, что МУР, занимающийся уже более полугода этим делом, не только не обнаружил пропавшей средь бела дня женщины, но даже не собрал никаких хотя бы косвенных данных, могущих пролить свет на эту загадку.
По словам Ильенкова, муж Елочки — инженер Глотник, занимающий ответственный пост в наркомате химической промышленности СССР, исчерпал все возможности для розыска пропавшей жены, доведен до полного отчаяния и тяжело переживает внезапно свалившееся на него горе, которое никто даже не может объяснить. В еще более тяжелом состоянии находится мать Елочки, проживавшая вместе с нею и зятем и воспитывавшая ребенка Елочки, родившегося от ее первого мужа, погибшего на фронте. Старушка совсем пала духом и никак не может понять, что же случилось с ее дочерью, которая была вполне счастлива в своем новом браке и уже ожидала второго ребенка.
Следственный отдел Прокуратуры СССР, который я тогда возглавлял, редко занимался делами подобного рода, отнесенными к компетенции МУРа или городской прокуратуры, но в данном случае, учитывая загадочный характер происшествия и то обстоятельство, что оно не выяснено угрозыском в течение долгого срока, я решил сделать исключение и получил санкцию на то, что дело «о загадочном исчезновении гр-ки Доленко Елены Ивановны, 22 лет, замужней, находящейся на шестом месяце беременности», будет принято к производству следственным отделом Прокуратуры СССР и что для расследования этого дела будет временно прикомандирован один из старших следователей московской областной прокуратуры.
Раздумывая над тем, кому поручить это дело, я остановил свой выбор на старшем следователе областной прокуратуры Голомысове, которого знал как очень вдумчивого, талантливого и кропотливого, хотя и сравнительно молодого работника, проявлявшего большие способности по делам такого рода. Любопытно, что отец Голомысова тоже работал в то время в качестве народного следователя в одном, из районов Московской области и привил своему сыну буквально с детских лет любовь и склонность к этой профессии, которую тот и избрал по окончании Юридического института. Так и началась «следственная династия» Голомысовых в московской областной прокуратуре.
Вечером старший следователь Голомысов — худощавый, высокий спокойный человек лет тридцати — уже сидел в моем кабинете и знакомился вместе со мною с двумя толстыми томами производства МУРа по этому делу, присланными в Прокуратуру СССР.
Справедливость требует отметить, что работники московского уголовного розыска потратили немало усилий на то, чтобы раскрыть тайну исчезновения Елочки Доленко. Они тщательно допросили ее мужа, мать, всех подруг, детально выяснили подробности ее поездки в Пушкино, из которой она уже не вернулась, энергично проверяли все несчастные случаи в Москве и ее окрестностях, разослали по всем направлениям фотографии исчезнувшей, посетили все городские и пригородные больницы, поликлиники и морги — одним словом, сделали немало. Результаты всех этих трудов и содержались в двух томах произведенного дознания в виде протоколов допроса свидетелей, всевозможных справок, оперативных сообщений и предписаний, запросов, телеграмм и т. п.
После ознакомления со всеми этими материалами ни я, ни Голомысов не могли упрекнуть работников розыска в том, что они халатно отнеслись к этому делу. Мы оба понимали, что это одно из тех дел, раскрытие которых неизбежно сопряжено с огромными трудностями, вытекающими прежде всего из того решающего для следствия обстоятельства, что отсутствие трупа исчезнувшей дает почву для самых различных версий и предположений по поводу ее исчезновения.
Как всегда по делам подобного рода, работники уголовного розыска проверили и возможность причастности мужа Елочки к ее исчезновению. В данном случае все говорило против такой версии. Было установлено, что инженер Глотник горячо любил свою жену, на которой женился всего за год до этого, что они жили очень дружно, что, наконец, он с радостью ждал появления ребенка и, независимо от этого, относился очень нежно и к ребенку Елочки от ее первого мужа.
Мать Елочки, проживавшая вместе с ними, так положительно характеризовала своего зятя и так горячо отвергла осторожный намек работников МУРа на его возможную причастность к исчезновению жены, что на эту версию сразу пришлось махнуть рукой, тем более что она, кроме того, опровергалась и самой положительной характеристикой Глотника на работе, где он в качестве начальника производственного отдела Главхимпрома пользовался, по-видимому, вполне заслуженным уважением.
Что же произошло в то роковое воскресенье 8 октября 1944 года, когда исчезла Елочка? Еще за несколько дней до этого — как рассказали на следствии ее подруги — она поделилась с ними приятной вестью: муж решил подарить ей к зиме котиковую шубку, ассигновал на это двадцать пять тысяч, получил со своего счета в сберкассе эту сумму, вручил ее Елочке (она сама показала толстую лачку денег подругам) и в воскресенье поедет вместе с нею на знаменитый в те военные годы пушкинский рынок, где шубку можно купить.
И в самом деле: в воскресенье утром Михаил Борисович Глотник и его жена поехали на Северный вокзал, сопровождаемые напутственными советами и пожеланиями подруг и матери Елочки.
В четыре часа дня взволнованный Глотник вернулся домой и спросил тещу, открывшую ему дверь, дома ли Елочка. Глотник сообщил теще, что в Пушкино он и жена ехали в разных вагонах, потому что ее он устроил, как беременную, в вагон матери и ребенка, а сам поехал в общем. В Пушкино он вышел на платформу, но Елочка почему-то из вагона не появилась, и он, решив, что она прозевала остановку, тщетно ее ожидал, встречая обратные поезда, но так и не дождался, после чего подумал, что она возвратилась в Москву, и тоже поехал туда. Узнав от тещи, что Елочки нет, Михаил Борисович, бледный от волнения, сразу же бросился опять на вокзал и лишь поздней ночью вновь вернулся и в полном отчаянии пролепетал, что никаких следов Елочки нет.
Начались страшные дни. Получив на работе отпуск по семейным обстоятельствам, Михаил Борисович и его теща непрерывно ездили по больницам, моргам, отделениям милиции, учреждениям Скорой помощи, станциям и полустанкам Северной дороги, расспрашивали местных жителей, работников транспортной милиции, дежурных по станции и стрелочников, кондукторов и смазчиков, взрослых и детей, давали показания в МУРе, ездили для опознания каких-то женских трупов, обнаруженных за эти месяцы, тщетно толкались на пушкинском базаре, но никаких, хотя бы самых косвенных, следов Елочки обнаружить не смогли.
Как всегда бывает в таких случаях, несколько раз они, казалось, нападали на ее след: то вдруг обнаруживался «очевидец» из Болшева, хорошо помнивший, что в то зловещее воскресенье он видел молоденькую красивую женщину, одетую именно так, как была одета в тот день Елочка, и на трепетные вопросы ее матери уверенно отвечал: да, с карими большими глазами; да, он заметил, что она беременна; да, она говорила чуть картавя.
По словам «очевидца», он «помнит, как сейчас», что эта женщина долго бродила по Болшеву, потом одна ушла в лес, а за нею вскоре пошел туда какой-то огромного роста человек в высоких болотных сапогах, которого никогда раньше он в Болшеве не замечал. То какая-то старушка из Пушкино заверяла святым крестом, что лично беседовала «с этакой молоденькой темноглазенькой, в синем драповом пальте, и, видать, на шестом месяце, дамочкой», и дамочка эта, невесть почему, «ужасть как плакала» и жаловалась на «несчастную судьбу», сказав, что «непременно руки на себя наложит». То пожилая стрелочница из Мытищ припоминала, что, кажись, в то самое воскресенье, вечером, из вагона на полном ходу электрички выбросилась какая-то молодая женщина, попала под встречный поезд и так страшно крикнула, что она, стрелочница, потом несколько ночей заснуть не могла.
Но самым тяжелым были вызовы в морги для опознания женских трупов, обнаруживаемых за эти месяцы в окрестностях и пригородах Москвы. Всякий раз с бьющимся от волнения сердцем входили мать и муж Елочки в очередной морг, вздрагивая еще на пороге от покойницкого, густо устоявшегося духа, а потом уже в тускло освещенном, длинном, со сводчатым потолком, холодном зале торопливо пробегали мимо ржавых от крови цинковые столов, на которых лежали голые покойники с фиолетовыми цифрами на пятках, грубо и косо намалеванными особым карандашом.
Работник угрозыска в присутствии служителя морга привычно предъявлял им «на предмет опознания и установления личности» очередной женский труп, и каждый раз Михаила Борисовича трясло, как в лихорадке, а мать Елочки, всхлипывая и заикаясь от волнения, едва была в силах пролепетать: «Нет, нет, не она…»
И в самом деле, это была не она, а какая-то другая несчастная, раздавленная поездом или машиной, внезапно скончавшаяся от разрыва сердца и потом обнаруженная случайным прохожим, — не она это была, не она! Не о ней говорил «очевидец» из Болшева, не с нею беседовала старушка из Пушкина, не она испугала стрелочницу из Мытищ…
Теперь, рассказывая мне и Голомысову об этом многомесячном хождении по мукам, мать Елочки, исхудавшая седая женщина, роняла все еще невыплаканные слезы и тихо повторяла:
— Не она, не она…
Я помню, что в этом долгом и трудном разговоре с матерью Елочки, задавая ей привычные и важные для следствия вопросы, и я и Голомысов не могли смотреть ей в глаза, потому что мы пока еще ничего не могли ответить на светившийся в них жгучий и такой правомерный материнский вопрос: что же случилось с ее единственной дочерью, что и почему случилось с нею и как это могло случиться вообще?
И хотя мы совсем недавно занимались этим делом, но такова уж психология следственного работника и криминалиста, что мы оба чувствовали и себя виноватыми в том, что до сих пор не разгадана тайна этого исчезновения молодой советской женщины, что мы даже еще не знаем, погибла она или нет, а если погибла, то, значит, не смогли ее сберечь, хотя для того ведь и поставлены на свои посты.
Как всегда, вспоминая об этом необычном деле и о многих других делах об убийствах, к расследованию которых мне приходилось иметь отношение за годы своей следственной работы, я думаю, что самым трудным в ней, как и в работе моих товарищей — сотрудников прокуратуры, угрозыска, милиции, — было именно это чувство собственной вины, так точно выраженное в трех скупых словах: «не смогли уберечь». А с другой стороны, нестерпимо и чувство своего профессионального бессилия, когда страшное преступление оказывается в результате нераскрытым и, следовательно, остается безнаказанным.
Но как ни тягостны для всякого криминалиста эти чувства, они бледнеют по сравнению с другим, неотвязным и жгучим, когда по уликам, хотя и веским, но косвенным, арестован по обвинению в тяжком преступлении человек, упорно отрицающий свою вину, и тебя, арестовавшего этого человека и ведущего следствие о нем, неустанно гложет сомнение: а вдруг он и в самом деле не виноват и все собранные против него улики лишь случайное и роковое стечение обстоятельств, обманувшее тебя, не сумевшего верно в этих уликах разобраться и правильно их оценить? А вдруг это вторая и еще более опасная сторона твоего профессионального бессилия, следствие твоей самоуверенности или легкомыслия, твоей безответственности и равнодушия к человеческой судьбе, — равнодушия, при котором следователь превращается в тупую и жестокую машину, бессмысленно калечащую ни в чем не повинных людей?
Могли ли я и Голомысов, приступая к работе по этому делу, предположить, что именно в связи с ним нам суждено пережить все три вида этих тяжелых сомнений и чувств?
На следующий день после допроса матери Елочки, кстати повторившей характеристику своего зятя, уже данную ею в МУРе, мне позвонил по телефону Глотник, просивший приема. К этому времени я и Голомысов уже приняли решение подробно с ним побеседовать, и потому я сразу заказал Глотнику пропуск.
Сначала мы разговаривали вдвоем, а затем к нашей беседе присоединился и Голомысов. Перед нами сидел уже немолодой полный человек, с рыжей, чуть седеющей шевелюрой, измученным лицом, усталыми глазами и мясистым, большим носом. По моей просьбе он подробно рассказал об обстоятельствах поездки в Пушкино.
— Елочке уже давно хотелось иметь котиковую шубку, — рассказывал Глотник. — Не скрою, и мне хотелось сделать ей это, мне было приятно исполнять ее желания. Когда имеешь молодую жену, а тебе уже под сорок, надо считаться с ее капризами, не так ли?… У меня были кое-какие сбережения, и я решил ассигновать на это двадцать пять тысяч. Словом, я ей обещал, и мы сговорились, что в воскресенье — в другие дни я по работе не мог отлучиться — вместе поедем на рынок в Пушкино, где, как вам, вероятно, известно, можно купить все что угодно… Я взял в сберкассе деньги и отдал их Елочке…
— Простите, вы не помните точно, когда вы передали ей деньги? — перебил я Глотника.
Он устало протер пенсне, снова надел его и, подумав, спокойно ответил:
— Ну как же, отлично помню. Я взял деньги в сберкассе в среду и в тот же вечер отдал деньги Елочке, так как боялся таскать их с собой.
— Благодарю вас. Продолжайте, пожалуйста.
— Ну вот, в воскресенье утром после завтрака мы поехали на Северный вокзал. Там было много пассажиров, и я решил, что Елочка поедет, ввиду ее состояния, в вагоне матери и ребенка, где было меньше толкотни, а я поеду в общем вагоне. Я купил билеты. Елочка сидела в зале ожидания; и когда я к ней подошел, то застал ее оживленно разговаривающей с какой-то дамой в бежевом камельгаровом пальто. Я знал, что Елочка очень общительна, и понял, что она уже успела познакомиться с этой дамой. Так оно и оказалось, и Елочка, представив меня этой даме, сказала, что та тоже едет в Пушкино на базар и что они поедут вместе в вагоне…
— Эта дама назвала свою фамилию?
— Нет, она просто протянула мне руку.
— Вы запомнили ее лицо, возраст, манеру говорить?
— Как вам сказать? Она меня мало интересовала… Помню только, что это была женщина лет под сорок, высокая, здоровая на вид, с чем-то неприятным в лице…
— Вы хорошо помните, что эта дама тоже ехала на пушкинский рынок?
— Да, она сама об этом сказала… Более того, эта дама обещала Елочке помочь подыскать шубку.
— В этот момент деньги были у Елочки или у вас?
— Сначала они были у Елочки, а потом деньги взял я, так как считал, что это надежнее.
— Когда вы взяли у Елочки эти деньги?
— Перед посадкой в поезд.
— При этой даме?
— Нет, я сделал это незаметно. И дама, видимо, считала, что деньги у Елочки.
— Почему вы полагаете, что дама так считала? — Потому что когда я подошел к Елочке с билетами, то спросил: «Проверь, деньги целы?» И Елочка посмотрела в сумку и сказала: «Все в порядке, Миша, не беспокойся…» Ну вот, мы и поехали. Она с дамой в вагоне матери и ребенка, а я в общем. В Пушкине я вышел на платформу, но Елочки и этой дамы не было. Я решил, что они заболтались и прозевали остановку, и стал поджидать встречные поезда. Но Елочка не появлялась…
И Глотник стал излагать уже известные обстоятельства этого дня: его возвращение в Москву, вторую поездку на вокзал, а оттуда в Пушкино, заявление в МУР и тщетные розыски жены.
Рассказывая о своем горе, он постепенно терял самообладание, несколько раз плакал, потом успокаивался и снова рассказывал, нередко повторяясь и все время жалуясь на работников розыска, проявивших, по его мнению, преступную халатность в этом деле. Глотник добавил, что он написал жалобы на бездеятельность работников МУРа, которые послал в «Правду» и ЦК.
— Когда я узнал, что Ильенков пойдет к вам, — добавил Глотник, — я страшно обрадовался, что наконец-то, делу дадут законный ход. Я так измучился от этой проклятой неизвестности!…
— Но ведь вы могли и сами обратиться в Прокуратуру СССР?
— Да, я даже думал об этом, но всякий раз надеялся, что МУР, в конце концов, раскроет тайну исчезновения Елочки…
И он долго еще говорил, взволнованно вспоминал какие-то детали своей семейной жизни, радость Елочки, когда он обещал купить ей шубку, ее приготовления к поездке на пушкинский рынок, советы с подругами относительно фасона и цены, свои мытарства по отделениям милиции и станциям Северной дороги. То, что этот человек по-настоящему измучен и утомлен, не вызывало сомнения: достаточно было приглядеться к его отекшему бледному лицу, мешкам под глазами, чуть дрожащим верным рукам, нервной жестикуляции.
В том, как он сам все это рассказывал, в свою очередь, казалось, не было ничего подозрительного. Напротив, в его положении все было естественно и понятно: и частые повторения, и некоторая бессвязность изложения, и невольное обращение к частностям, в общем не относившимся к существу дела, и жалобы на бездействие работников угрозыска.
И, пожалуй, лишь одна крохотная деталь заставляла насторожиться: всякий раз, прежде чем ответить на очередной вопрос, он снимал свое пенсне и медленно протирал его, без всякой к тому надобности. Потом, снова надев пенсне на свой хрящеватый мясистый нос, он отвечал спокойно и медленно, подчеркнуто прямо глядя нам в глаза. И в этом старательном, пристальном, подчеркнуто ясном, при нарочито чуть расширенных зрачках взгляде было что-то фальшивое и неприятное. По странной и в данном случае неожиданной ассоциации его взгляд напомнил мне манеру, свойственную некоторым очень холодным и порочным женщинам: по-детски широко раскрывать глаза и глядеть столь простодушно, наивно и ласково, что человек бывалый и хоть немного проницательный сразу испытывает здоровое стремление как можно скорее унести ноги.
Когда он, наконец, ушел, мы оба некоторое время молчали. Каждый подводил итог своих первых впечатлений, с которого, в сущности говоря, и начинается следствие в психологическом и отчасти подсознательном значении этого слова.
По давно установившейся привычке, я курил, шагая из угла в угол своего кабинета. Голомысов, сидя на диване, тоже курил, задумчиво уставившись в потолок своими чуть грустными умными глазами. Время от времени каждый из нас бросал мимолетный, как бы случайный взгляд на другого.
Дело в том, что мы оба, не сговариваясь и даже еще не высказав своих соображений друг другу, заподозрили Глотника в том, что он сам убил свою жену. Но ни один из нас в отдельности, ни оба мы вместе еще ничем не могли обосновать этого подозрения, как не могли в то же время сбросить его со счета.
В данном случае мое положение усугублялось тем, что в силу своего служебного долга, как прокурор, надзирающий за следствием по этому делу, я был обязан предостеречь следователя от поспешных выводов и преждевременных заключений, всегда могущих нанести непоправимый вред. И вот теперь, отлично понимая, что думает Голомысов, и вполне сочувствуя ему, я все же был обязан вылить первый стакан холодной воды ему на голову, хотя, по совести сказать, мне очень этого делать не хотелось.
— Ну, каковы же ваши первые впечатления, товарищ Голомысов? — спросил я, наконец.
— Еще Горький сказал, что первое впечатление не всегда самое верное, — уклончиво ответил Голомысов.
— Но тем не менее, если оно складывается, его надо сформулировать. Так?
— Да, так, — медленно произнес Голомысов. — Мне не понравился этот человек, Лев Романович… Совсем не понравился…
— Это ваше право, Голомысов. Мне он тоже не понравился. Но отсюда еще ничего не следует…
— Конечно.
— Я не закончил свою мысль. Отсюда ничего не следует, кроме одного: именно потому, что этот человек вам не симпатичен, может быть, даже больше, — именно поэтому вам придется при оценке всех обстоятельств и улик, которых, кстати, пока нет, делать двойное «испытание на разрыв»…
— Я понял вас, Лев Романович, — улыбнулся Голомысов.
И он действительно меня понял. «Испытанием на разрыв» мы называли на своем профессиональном языке тщательную проверку всякого рода косвенных улик, которую всякий добросовестный следователь обязан производить по каждому делу, подвергая эти улики самому жестокому и всестороннему обстрелу с позиций защиты обвиняемого.
После этого мы разработали с Голомысовым план первоначальных действий.
При разработке этого плана мы исходили из таких позиций.
Исчезновение Елочки Доленко могло быть объяснено либо тем, что она кем-то и почему-либо убита, после чего ее труп был тщательно спрятан, утоплен или уничтожен; либо тем, что она сама почему-либо покончила с собой — утопилась, а ее труп не всплыл и потому обнаружен не был; либо, наконец, тем, что она жива и здорова, но по каким-то причинам решила бросить мужа и скрыться из Москвы.
В деле не было данных, которые говорили бы за второй и третий варианты. У Елочки, судя по всему, не было поводов ни к тому, чтобы кончать с собой, ни к тому, чтобы скрыться из Москвы и бросить мужа. Следовательно, наиболее вероятным являлся первый вариант. Кто, зачем и почему мог ее убить?
Убийства из мести вообще очень редки в наше время, а Елочке, судя по ее короткой и весьма несложной биографии, мстить было некому и не за что. Убийство из корысти на почве ограбления нельзя было исключить, но в таких случаях преступники почти никогда не скрывают трупа жертвы. Следовательно, наиболее вероятным мотивом убийства являлись какие-то пока нам неизвестные бытовые, сексуальные или психологические мотивы, которые скорее всего могли иметься у близкого ей человека, мужа или любовника, если такой у нее вообще был. Учитывая значительную разницу в возрасте Елочки и ее мужа, этого нельзя было исключить.
Следовательно, надо было прежде всего выяснить все эти вопросы. И в прямой связи с ними было важно собрать наиболее полные и точные данные о личности Глотника, о его интересах и связях, его планах и настроениях, его образе жизни.
Вместе с тем, проверяя всю сумму вопросов, возникающих в связи с третьим вариантом, следствие было обязано все же учитывать в качестве резервных версий и два первых варианта.
Потребовались две недели самого напряженного труда, чтобы в поле зрения следствия появились такие, весьма любопытные, обстоятельства.
Во-первых, выяснилось, что Глотник действительна получил со своего счета в сберкассе за несколько дней до рокового воскресенья двадцать пять тысяч рублей, которые Елочка показывала матери и подругам. Это говорило в пользу Глотника. Но одновременно выяснилось, что на следующий же день после исчезновения жены, а именно в понедельник, Глотник внес двадцать пять тысяч рублей на свой счет в другой сберкассе другого района Москвы и о наличии такого второго счета ни Елочка, ни ее мать не знали. Это уже говорило против Глотника. Человек, потрясенный внезапным и загадочным исчезновением любимой жены, вряд ли в состоянии заняться своими финансовыми делами буквально на следующий день после свалившегося на него несчастья.
Во-вторых, выяснилось, что общая сумма сбережений Глотника, хранившихся в обеих сберкассах, явно превышает его возможности, даже учитывая положение крупного инженера, нередко получавшего помимо оклада денежные премии.
Это второе обстоятельство вынудило следствие осторожно проверить, какими незаконными методами обогащения мог располагать Глотник по своей работе в Наркомхимпроме. Но эту проверку надо было проводить очень деликатно, чтобы, во-первых, не вспугнуть Глотника, а во-вторых, не компрометировать его без достаточных оснований. Следовательно, надо было найти такой метод проверки, который не вызывал бы ненужных разговоров, предположений и догадок.
Когда выяснилось, что Глотник, как начальник производственного отдела Главхимпрома, имел некоторое отношение к отпуску всякого рода химикалиев, многие из которых были тогда дефицитными, мы организовали ревизию отпуска и сбыта химикалиев, к которой внешне прокуратура не имела никакого отношения. Никто в главке, а тем более сам Глотник, не знал, конечно, что документы, которые рассматривались ревизорами, помимо них изучались по вечерам и ночью Голомысовым.
И вот однажды, среди тысяч требований, ходатайств, просьб об отпуске тех или иных химикалиев, накладных и квитанций, ордеров и нарядов, коносаментов и счетов, Голомысов наткнулся на письмо Московского института связи, адресованное в Главхимпром. В этом письме заместитель директора института по хозяйственной части Г. Глотник обращался к начальнику производственного отдела Главхимпрома М. Глотнику со скромной просьбой отпустить для нужд института партию красителей, применяемых для окраски трикотажных и текстильных изделий. Не задаваясь законным вопросом, зачем нужны институту связи текстильные красители, начальник производственного отдела Главхимпрома М. Глотник эту просьбу удовлетворил.
Обнаружив этот маленький документ, Голомысов уже без особого труда выяснил, что Глотник из Главхимпрома и Глотник из Института связи — родные братья и что на склад института отпущенные красители не поступили. Более того: выяснилось, что стоимость полученных красителей внес на товарную базу Главхимснаба некий Гуридзе, никогда в Институте связи не работавший и никакого отношения к институту не имевший.
Тогда Голомысов осторожно проверил на товарной базе, кто же получил по наряду Главхимпрома эти красители. Оказалось, что их получил по доверенности Института связи, подписанной Г. Глотником, все тот же Гуридзе, причем в доверенности были указаны и его инициалы: «Ш. Л.»
Теперь надо было решать, как дальше расследовать этот эпизод. Мы оба считали, что еще рано вспугивать братьев Глотник. Поэтому надо было начинать с Гуридзе, неизвестно откуда взявшегося, неизвестно где работавшего и неизвестно где проживавшего. В Москве оказались проживающими несколько Гуридзе, но ни один из них не имел инициалов «Ш. Л.» Никаких данных о вызывавшем наш законный интерес Гуридзе, увы, не было. Тогда у нас возникло предположение, что этот Гуридзе мог быть приезжим. Были запрошены все московские гостиницы, но ни в одной из них Гуридзе в этот период, когда были получены красители, не останавливался. Тогда были подняты архивы временных прописок — ведь Гуридзе мог остановиться у родных или знакомых. Велико было наше разочарование, когда и архивы нам не помогли: проклятый Гуридзе даже временно в Москве не прописывался, а без него этот эпизод дела почти ничего не стоил…
Тогда мы решили идти не от человека к красителям, а от красителей к человеку. Это в данном случае значило, что надо выяснить круг иногородних артелей или промкомбинатов, которые нуждались в такого рода химикалиях. То, что речь шла именно об артелях или промкомбинатах, а не государственных текстильных и трикотажных фабриках, следовало из того, что последние, как известно, получают все виды сырья по плану, имея фонды, и, стало быть, не нуждаются в посредничестве братьев Глотник.
После проверки во Всекомпромсовете и других организациях мы выяснили, что такого рода артели и промкомбинаты существуют в Ленинграде, Тбилиси, Ереване и Ростове-на-Дону.
Через несколько дней мы знали, что Шалва Луарсабович Гуридзе живет в Тбилиси и работает в системе Грузпромтекстильтрикотажсоюза, объединяющего ряд тбилисских артелей.
И Голомысов вылетел в Тбилиси.
Справедливость требует отметить, что Шалва Луарсабович защищался, как лев. Он не имеет ни малейшего понятия ни о каких красителях и даже не знает, что это за штука. Он не был в то время, когда получали эти красители, в Москве и вообще уже много лет не выезжал из Тбилиси, не имея на это средств, хотя, видит бог, давно мечтает посетить великую столицу. Весь город может засвидетельствовать, что он честный труженик и бессребренник, далекий и чуждый каким бы то ни было комбинациям. Он никогда не слыхал фамилии Глотник и даже не знал, что на свете есть какой-то Институт связи, в чем, впрочем, не убежден и теперь, так как не понимает, зачем связи нужны еще какие-то институты, — это же не медицина.
Но, будучи человеком с низшим образованием, он не настаивает и готов допустить, поскольку это утверждает уважаемый московский гость, что такой институт действительно есть, хотя и в этом случае сие не имеет и не может иметь к нему решительно никакого отношения. Да, он видит, что на нарядах расписался в получении красителей какой-то Гуридзе, но это не его подпись, а Гуридзе на свете много, и, может быть, один из них действительно жулик и прохвост, о чем он, как однофамилец, глубоко скорбит, но помочь ничем не может. Что же касается того, что в доверенности значатся его инициалы, то, во-первых, это ровно ничего не значит, бывают и худшие совпадения: например, его двоюродный брат похож, как две капли воды, на Николая II, хотя, что сравнительно легко доказать, никогда не был императором; во-вторых, он хотя и Шалва, но, строго говоря, не Луарсабович, а если и Луарсабович, то не такой уже Шалва…
К чести Голомысова, он очень внимательно и спокойно выслушивал все возражения Гуридзе, совсем не вступал с ним в спор, но только тут же и очень точно фиксировал его показания, затем снова выслушивал и снова фиксировал. После каждой записи Голомысов давал Гуридзе прочесть записанный абзац и с пленительной вежливостью просил, если нетрудно, подписать. Гуридзе читал, благодарил за точность и подписывал.
Через несколько часов, когда было исписано уже два десятка листов, Голомысов, до того ни разу не перебивавший своего собеседника, вдруг обратился к нему с такой неожиданной фразой!
— А знаете, Шалва Луарсабович, пожалуй, уже хватит…
— Не понимаю, генацвали, чего хватит?
— Брехни, Шалва Луарсабович. Вы уже так заврались, что с меня достаточно…
Гуридзе вскочил и, бия себя в грудь, начал клясться памятью всех предков и детей, что он за всю свою жизнь не произнес ни слова лжи.
— Это очень трогательно, — согласился с ним Голомысов. — Тем более грустно, что сегодня вы налгали так много… Вот, послушайте сами…
И Голомысов очень выразительно прочел весь протокол — увы, полный противоречий и самого наглого вранья. Гуридзе слушал очень внимательно, даже покачивая в такт головой, потом спросил:
— Можно ли мне на всякий случай задать вам один вопрос?
— Если он имеет отношение к делу, — ответил Голомысов.
— Пока не имеет, но очень может иметь, — загадочно произнес Гуридзе.
— Я вас слушаю.
— Я слыхал, есть такая русская поговорка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Вы слыхали?
— Допустим. И что же?
— По-моему, неправильная поговорка. Вернее — не совсем правильная… Я бы сказал так: «Не имей сто друзей — это опасно. Но имей одного друга, и не сто рублей, а сто тысяч… Это и выгодней и безопасней…» Вам такая поговорка по душе, генацвали?
— Вот что, Гуридзе, — тихо, с трудом сдерживая ярость, произнес Голомысов. — Во-первых, я вам не генацвали, а гражданин следователь, и потрудитесь обращаться ко мне именно так. Во-вторых, ваша поговорка мне не по душе. И, в-третьих, если вы еще раз посмеете делать мне такие намеки, я дополнительно предъявлю вам обвинение в предложении взятки. А пока предъявляю постановление о вашем аресте…
Через два дня Шалва Луарсабович подробно рассказал о том, как, выехав в Москву, чтобы раздобыть красители для тбилисских текстильных и трикотажных артелей, он нашел «ход» к Глотнику из Главхимпрома через его брата из Института связи, получил без всяких фондов при их посредничестве дефицитные красители, лично передал за это братьям пятьдесят тысяч рублей, а приехав с красителями в Тбилиси, «заработал» на этой операции сто пятьдесят тысяч.
Гуридзе был доставлен в Москву, подтвердил свои показания, был опознан кладовщиком базы Главхимпрома, отпускавшим ему красители, и весь этот эпизод был выяснен до конца. Григорий и Михаил Глотники были арестованы в один и тот же день. Оба брата пытались было отрицать свою вину, но после очной ставки с Гуридзе и предъявления им всех документов по этому делу виновными себя признали и показания Гуридзе подтвердили.
При аресте Михаила Глотника у него были обнаружены два личных письма, направленные ему в Москву до востребования. Одно из города Сегежа, а второе — из Вологды. В первом случае писала Нелли Г. — молодая девушка, только в прошлом году окончившая Московский юридический институт и направленная на работу в Карело-Финскую республику. Из письма этой девушки следовало, что еще за год до окончания института она познакомилась с Глотником, который начал за нею ухаживать, обещал на ней жениться, заверяя, что решил развестись со своей женой. Нелли Г. ему поверила и вступила с ним в связь. Теперь девушка писала ему о том, что ждет своего перевода в Москву, который он ей твердо обещал, написав, что добился этого благодаря своим связям, а еще больше ждет его развода с женой.
Таким образом, даже после исчезновения жены Глотника его знакомая из Сегежа ничего об этом не знала и продолжала верить его обещаниям.
Второе письмо было написано другой молодой девушкой, Люсей Б., служившей в качестве медицинской сестры в военно-санитарном поезде. Из этого письма было видно, что Глотник вступил в близкие отношения и с этой девушкой, которой также обещал, что разведется со своей женой, после чего женится на ней.
Обе девушки были вызваны в Москву и подробно допрошены. Их показания вскрыли гнусную и несложную методу почти профессионального совращения и обмана, к которой прибегал в обоих случаях этот сорокалетний обольститель. Девушки предъявили и письма, которые он им посылал, написанные в одно и то же время, одними и теми же словами, с почти одинаковыми заверениями и обещаниями. Характерно, что и в тех и в других письмах Глотник очень ругал свою жену, писал, что она «отравила ему жизнь» и что развод им окончательно решен, о чем он будто бы уже объявил жене.
После того как все эти данные были собраны, мы решили допросить по этим вопросам Глотника. К этому времени было замечено, что он, сравнительно быстро признав свою вину в эпизоде с красителями и оказавшись в связи с этим в тюрьме, не только не горюет и не предается унынию, а, напротив, весел, заметно поправился и явно доволен своим положением.
Не оставалось сомнений, что заключение его в тюрьму по сравнительно мелкому делу успокоило Глотника, потому что он надеялся получить таким образом возможность уйти от дела об исчезновении Елочки, труп которой, как ему хорошо было известно, не только не найден пока, но не будет найден и в будущем. К тому же в течение всего времени расследования по этому делу его ни разу дополнительно не допрашивали о Елочке, и он пришел к выводу, что дело об ее исчезновении так же заглохло в Прокуратуре СССР, как до этого заглохло в МУРе.
Ровно в двенадцать часов дня Глотник был доставлен в мой кабинет на допрос.
Мы начали с того, что он вызван не по делу о красителях, которое нас мало интересует, а по делу другому, гораздо более важному — по делу о совершенном им, Михаилом Борисовичем Глотником, умышленном убийстве своей жены, находившейся на шестом месяце беременности.
Я никогда не забуду, как он начал кричать, бесноваться и протестовать. Он вскакивал с места, падал как бы в обмороке на диван, распинался в клятвах и заверениях, ужасался и негодовал, кричал, что это смертельное оскорбление, что он не позволит «пришить ему дело», что мы хотим взвалить на него ответственность за то, что бессильны раскрыть тайну исчезновения его горячо любимой жены, что это кощунство, что он будет жаловаться, что нам это так не пройдет…
Мы заранее уговорились с Голомысовым, что дадим Глотнику возможность произнести все монологи, которые он захочет произнести, не будем его останавливать и успокаивать, дадим ему выплеснуться до конца и исчерпать весь запас своих возражений, протестов и ссылок.
Вероятно, со стороны было бы любопытно наблюдать за тем, как два следственных работника молча и совершенно спокойно выслушивают угрозы и крики обвиняемого, удары кулаком по столу с воплями «не позволю!» и трагические придыхания и всхлипывания. Мы вели себя, как глухонемые.
Примерно через час Глотник устал и грузно осел в кресле.
— Итак, Михаил Борисович, может быть перейдем к делу? — спросил я его как ни в чем не бывало.
— Я не понимаю, что вам от меня нужно? — ответил вопросом Глотник.
— Нужны либо правдивые показания о совершенном вами убийстве, либо, если вы намерены продолжать запирательство, мы зададим вам ряд вопросов.
— Мне не в чем сознаваться. Когда я был виноват, то сразу это признал, а по этому делу мне рассказывать нечего.
— Ваше право, как обвиняемого, давать любые показания или вообще отказаться их давать. Наша обязанность, как следователей, задавать вам те вопросы, которые мы считаем нужными по ходу следствия. Таковы установленные законом процессуальные нормы, равно обязательные и для вас и для нас. В течение часа мы терпеливо выслушивали ваши крики, угрозы и даже оскорбления. Разъясняю вам, Глотник, что на все наши действия вы вправе жаловаться когда вам угодно и кому угодно. Но больше ни криков, ни оскорблений не потерплю. До сих пор, не скрою, мы выносили это из чисто психологического интереса. Но этот интерес уже исчерпан. Понятно?
— Я больше не буду, — ответил он.
— Надеюсь. Итак, перейдем к делу. Вы утверждали раньше и продолжали утверждать сегодня, что горячо любили свою жену. Это так?
— Безусловно, и я всегда могу это доказать!
— Следовательно, вы не собирались от нее отделаться?
— Ни в коем случае!
— Почему же вы собирались с нею развестись?
— А я и не собирался!…
— Но вы писали об этом своей любовнице Нелли Г.?
— Я этого не помню.
— Вот ваше письмо, в котором это написано. Угодно ознакомиться?
— Угодно, — ответил Глотник и впился в протянутое ему письмо.
— Что вы скажете теперь?
— Я… В общем… я не собирался всерьез разводиться с Елочкой…
— Зачем же вы обманывали Нелли Г.?
— Ну, знаете… Мне хотелось ее успокоить… Морально поддержать…
— Вы серьезно полагаете, что, обманывая девушку, вы ее этим морально поддерживаете?
— Нет, конечно, но бывают обстоятельства… В общем… я хотел ее успокоить…
— Но вы, кроме того, обещали Нелли Г., что женитесь на ней. Это тоже был обман?
— Я не хотел ее обманывать…
— Значит, всерьез думали на ней жениться?…
— Нет, я не хотел разводиться с Елочкой.
— Значит, не собирались жениться на Нелли?
— Да, не собирался.
— Значит, обещая жениться на ней, вы ее обманывали?
— Выходит так…
— Кого еще вы обманывали?
— Никого.
— У вас была в тот же период другая любовница?
— Серьезной не было…
— Вы делите любовниц на серьезных и несерьезных?
— Не придирайтесь к словам…
— А вы отвечайте на вопросы. У вас была другая любовница или не была?
— Кого вы имеете в виду?
Мы с Голомысовым переглянулись, так как сразу поняли, что смущает Глотника в этом вопросе. Он, видимо, не знал, о какой другой любовнице идет речь, и хотел это выяснить.
— Михаил Борисович, я должен вам разъяснить, что вопросы задает следствие, а не обвиняемый. Поэтому я не вправе ответить на ваш вопрос и повторяю свой: кроме Нелли Г., у вас были любовницы?
— Случайные встречи, у кого их нет, — с кривой ухмылкой протянул Глотник. — И потом мне кажется, что это сфера моей интимной жизни… Какое отношение это имеет к делу? Монахом я не был.
— Я далек от такой мысли. Повторяю; у вас были другие любовницы?
— Допустим… Это ничего не значит!
— Выводы опять-таки делает следователь, а не обвиняемый. Отвечайте по существу или отказывайтесь отвечать — это ваше право.
— Были.
— Вы им тоже обещали жениться?
— Спросите их.
— Мы уже спросили всех, кого считали нужным, а теперь спрашиваем вас.
— Мне надо подумать, вспомнить… Это не так просто…
— Хорошо, я в последний раз вам помогу. Вы обещали Люсе Б., что женитесь на ней?
— Люся истеричка и способна выдумать все что угодно.
— Разве? Она не производит такого впечатления. Но, допустим, что она так утверждает… Это правда?
— Все врет… Ничего я ей не обещал…
— Хорошо, так и запишем. Подпишите все свои ответы.
Глотник взял протокол и начал его подписывать. Когда он закончил, я сказал:
— Вот ваше письмо Люсе Б., из которого видно, что вы действительно обещали на ней жениться. Следовательно, вы напрасно обвинили ее во лжи. Учтите, Глотник, что вы ставите себя всяким лживым ответом в трудное положение. Теперь вы признаете, что обещали Люсе Б. жениться и что вы оклеветали ее в предыдущем ответе?
— Да, признаю! — закричал Глотник и вскочил с места с перекошенным от злобы лицом. — Признаю. А какое это имеет значение?…
— Прежде всего перестаньте орать и извольте сесть и вести себя пристойно. Я предупредил, что больше этого не потерплю.
В таком духе продолжался допрос Глотника. Он старался увиливать от ответов на скользкие для него вопросы, ссылался на плохую память, время от времени срывался на крик, потом снова лгал и снова изворачивался. Судя по всему, он уже махнул рукой на попытку уверить нас в своей искренности и правоте и теперь беспокоился совсем не о том, какое впечатление он производит на следователей, а о том, как ему увернуться от острых, очень точных по своему прицелу и потому очень жалящих вопросов.
Улики, собранные против Глотника на этой стадий следствия, были все еще недостаточны для предания его суду. Правда, его гнусный моральный облик был вполне разоблачен, серьезное подозрение внушал эпизод с деньгами, внесенными в понедельник в сберкассу, и это, конечно, разбивало созданную им легенду о мучительных переживаниях по поводу исчезновения любимой жены, но… но это еще не доказывало, что он сам ее убил, тем более что отсутствие трупа Елочки оставляло еще какое-то сомнение в самом факте ее убийства.
Правда, и Голомысов и я были искренне и полностью убеждены в том, что он — убийца, но все-таки, не имея трупа убитой, мы не имели и полной ясности в этом вопросе, даже перед лицом собственной следовательской совести.
Если бы, например, Глотник занял на допросе иную линию, то есть не пытался бы мелко и по любому поводу лгать, все более запутываясь и подтачивая наше доверие к его показаниям, а, скажем, с наигранной «прямотой» заявил бы, что да, дескать, я — подлец, развратник, обманщик, я действительно обманывал и Елочку, и Нелли Г., и Люсю Б и других девушек, я, кроме того, взяточник и бесчестный человек, но все-таки я не убийца и этого признать не могу, хотите — верьте, хотите — нет! — то наше психологическое состояние оказалось бы очень тяжелым, и он бы серьезно подорвал наше убеждение в том, что Елочка убита им.
Признание обвиняемого, как известно, отнюдь не «царица всех доказательств», и только очень неопытные или недобросовестные следователи делают главную ставку на это. Однако, особенно в таком деле об убийстве без трупа, признание обвиняемого приобретает значение, хотя бы потому, что, встав на путь чистосердечного признания, преступник выдает спрятанный им труп или его останки, а кроме того, ведь он единственный на свете человек, знающий всю правду о мотивах и обстоятельствах совершенного им убийства, а следовательно — он источник получения истины.
После ряда допросов Глотника я и Голомысов пришли к выводу, что он, сам того не понимая, помогает нам позицией, которую он занял на следствии. Да, помогает, — потому что ничто так не вооружает следователя и не укрепляет его внутреннего убеждения, как упорное и при этом явно лживое запирательство, свидетельствующее о злой и преступной воле.
— Но, с другой стороны, — нарочно говорил я Голомысову, — то, что он врет и путается, ведь можно понять и в том смысле, что человек, который на самом деле не убил, но которого в этом напрасно обвиняют, боится признать компрометирующие его так или иначе факты, чтобы этим не усугубить положения. Да, Голомысов, он взволнован, но ведь он должен быть взволнован и в том случае, если убил, и в том случае, если не убил, а его в этом тем не менее обвиняют. И трудно сказать, в каком случае он должен быть более взволнован…
И странное дело: по мере того как я старательно и подробно стал «защищать» Глотника от обвинения в убийстве, мое собственное убеждение в его вине не то, чтобы растаяло, но стало хрупким и ломким, как мартовский сугроб, — где-то в его глубине уже пробивались и журчали первые ручейки сомнения.
Тем не менее допросы шли изо дня в день. Глотник продолжал яростно защищаться, с каждым разом все больше теряя самообладание. Он бился за каждую деталь до конца, пока неопровержимые документы и данные дела окончательно не припирали его к стене. Тогда он совершенно спокойно и цинично заявлял, что это он признает, а раньше отрицал потому, что запамятовал, или потому, что считал это обстоятельство относящимся к его интимной жизни, а не к следствию, или, наконец, потому, что ему просто было стыдно признать этот неприятный факт.
С каждым допросом все более обнажалась оборотная сторона нашего психологического поединка. Увы, здесь не был достигнут тот удивительный контакт между следователем и обвиняемым, когда чуткость и такт следователя, его способность понять душевную драму человека, в силу тех или иных роковых обстоятельств совершившего преступление, и искреннее стремление в пределах закона этому человеку помочь и как-то облегчить его участь вызывают у последнего глубокое уважение и самую прочную признательность, которые нередко потом сохраняются на всю жизнь.
К несчастью, этот психологический контакт не был достигнут в деле Глотника. Дело в том, что тактический путь установления такого контакта сводится прежде всего к тому, что следователь при допросе обвиняемого обращается к добрым началам, нередко живущим, хоть и в дремлющем состоянии, в душе человека, совершившего преступление.
Так запомнился мне другой обвиняемый, убивший жену из ревности, честно признавший свою вину и, по-видимому, с искренним безразличием относившийся к своей судебной перспективе. Признаться, все мои симпатии были на его стороне. Он горячо и пылко любил жену, она же, пустая и холодная бабенка, обманывала его чуть ли не с первых дней их брака с поразительной беззастенчивостью и цинизмом.
Прощаясь со мною по окончании следствия, обвиняемый, которому не было и тридцати лет, между прочим сказал, что суда не боится: потому что его «внутренний суд» пострашнее.
Через несколько дней после вынесения приговора (его осудили на восемь лет) он прислал мне из тюрьмы такие стихи:
Перед собой я сам теперь в ответе,
Мой приговор указом не сотрут,
Ведь мне страшнее всех судов на свете
Мой собственный и беспощадный суд…
Именно этот «собственный и беспощадный суд», который иногда становится для преступника «страшнее всех судов на свете», является одним из результатов обращения следователя к добрым началам в душе обвиняемого.
К каким добрым началам в душе, биографии, образе жизни Глотника мы могли обратиться? Он считал нас своими врагами, потому что нам, когда он уже привык к мысли, что останется безнаказанным, удалось собрать против него улики и обвинить его в убийстве, которое он совершил, но за которое отвечать не хотел.
Все наши попытки вызвать его на откровенный разговор, объяснить ему сложность его процессуального положения и ошибочность занятой им на следствии позиции Глотник рассматривал как хитроумные уловки следователей. Как это часто бывает в подобных случаях, Глотник оценивал все наши шаги со своих позиций, с точки зрения своей психологии, своего характера. Ему трудно было поверить в искренность наших заявлений потому, что, будь он на нашем месте, он так бы себя не вел.
И, наконец, зная, что труп Елочки не только не обнаружен, но никогда и не будет обнаружен, если он сам этого не захочет, Глотник рассматривал это обстоятельство как своеобразный, непреодолимый «лот» своей обороны.
Поэтому он не сдавался и тщательно готовился к контрудару.
А время шло, и Голомысов и я уже почти отчаялись получить признание Глотника в совершенном им убийстве. Более того — посеянные мною семена дали обильный урожай: Голомысов стал все придирчивее относиться к своим выводам, впечатлениям, предположениям. Как человек большой душевной чистоты и того чувства высокой ответственности за каждое свое дело, а каждую человеческую судьбу, связанную с этим делом, которое всегда отличает вдумчивого, честного и талантливого следователя, Голомысов неустанно себя проверял и сам к себе придирался.
Наша криминалистическая наука всегда уделяла большое внимание изучению психологии преступника, и это хорошо. Но она почти не занималась изучением психологии следователя, — и это плохо. Между тем в общей проблеме предварительного следствия важно изучить и ту и другую психологии, потому что из их столкновения в сущности и состоит следствие в психологическом смысле этого слова.
— А знаете, Лев Романович, — сказал мне однажды вечером, после окончания очередного допроса, Голомысов, — не впадаем ли мы в тяжкую судебную ошибку?. А вдруг все наши предположения, выводы и версии — всего лишь дым, который развеется на суде, под перекрестным огнем сторон?… А вдруг он и в самом деле не убил?! Хотя я думаю, что он убил…
Я молча слушал Голомысова, и у меня было смутно на душе, потому что и сам я уже ловил себя на том, что в сутолоке рабочего дня, с его непрерывными телефонными звонками, докладами следователей по другим делам, ежедневной почтой, сообщениями о происшествиях всякого рода и характера, меня вдруг обжигала та же мысль: а вдруг он не виноват?
И дома, на досуге, я тоже возвращался все к той же мысли, не дававшей мне покоя.
Выслушав Голомысова, который, как всегда, говорил тихо, но выразительно, и поглядев на его усталое от напряженной работы и всех этих тягостных сомнений лицо, я сказал:
— К сожалению, мы не можем это исключить. Конечно, Глотник взяточник и подлец, и в этом смысле то, что он сидит в тюрьме, — правомерно и заслуженно, но его обвинение в убийстве пока полностью не доказано. Если мы с вами еще не можем предать его суду за убийство жены, то в еще большей мере не имеем права махнуть рукой на это дело, потому что улики все-таки есть: Елочка все-таки исчезла; и мы обязаны выяснить тайну ее исчезновения. Чего бы нам ни стоило это дело, мы доведем его до конца!…
Мне хотелось теперь ободрить Голомысова, вселить в него уверенность и этим ему помочь. Вероятно, мне это в какой-то степени удалось. Голомысов уважал меня как старшего товарища по работе и верил в мой опыт криминалиста, как я в свою очередь верил в следственное дарование Голомысова.
И Голомысов продолжал допрашивать Глотника. Если раньше в этом деле были прежде всего важны осторожность и вдумчивость следователя, его интуиция и чутье, тщательное изучение личности обвиняемого, изучение его быта, его интересов, его среды, кропотливое и настойчивое собирание мельчайших деталей его поведения и характера, то теперь решающее значение для исхода дела приобрела тактика допроса обвиняемого.
Надо сказать: в лице Глотника Голомысов имел умного, волевого, осторожного противника. Но, с другой стороны, Глотник не был профессиональным преступником и, следовательно, не обладал и профессиональным хладнокровием. Внезапный психологический удар, нанесенный ему как раз в то время, когда он уже почти окончательно успокоился, все-таки пробил брешь «в линии его обороны». И задача, стоявшая перед следователем, состояла в расширении и углублении «прорыва».
При каждом допросе Голомысов очень тактично, но твердо напоминал Глотнику о Елочке. Он показывал ее фотографии, зачитывал ее старые письма, касался отдельных эпизодов ее отношений с Глотником — первого знакомства, начала романа, первых месяцев их брачной жизни. Образ Елочки как бы незримо присутствовал при каждом допросе, Глотнику как бы давалась очная ставка с убитой.
И этой очной ставки Глотник в конце концов не выдержал. Чувствуя, что его способность к сопротивлению иссякает, что он не может больше выдержать психологических атак следователя, безупречных по своей корректности, но грозных своей методичной настойчивостью и последовательностью, Глотник ринулся в контратаку.
29 мая, около двух часов дня, мне позвонил по телефону начальник тюрьмы и сообщил, что Глотник покушался на самоубийство, вскрыв себе вену на руке осколком стекла от пенсне. Перед этим он написал и сдал дежурному по тюрьме для отправки по назначению жалобу в Комиссию партийного контроля, товарищу Шкирятову… Это была жалоба на меня и Голомысова.
Начальник тюрьмы добавил, что дежурный надзиратель, к счастью, заметив, что Глотник упал на пол в камере, сразу вызвал тюремного врача, который тут же оказал Глотнику необходимую медицинскую помощь.
Поспешно вызвав Голомысова, я бросился вместе с ним бегом во двор к машине, отрывисто рассказывая на бегу о сообщении начальника тюрьмы. Потом, когда мы мчались на предельной скорости к тюрьме, меня все более захлестывала волна самых противоречивых мыслей и чувств. Мы оба молчали, и, вероятно, в душе Голомысова бушевала та же буря, что и в моей.
Начальник тюрьмы нам подробно рассказал обо всем, что произошло с нашим подследственным. Накануне Глотник попросил дать ему бумагу для написания жалобы в высшую партийную инстанцию. Его просьба, согласно закону, была удовлетворена. Видимо, он писал ее весь вечер и первую половину следующего дня. Потом, вызвав дежурного по тюрьме, Глотник передал ему написанную жалобу, а когда дежурный ушел, вскрыл себе вену. Начальник тюрьмы добавил, что опасность благодаря принятым медицинским мерам миновала и Глотник находится в удовлетворительном состоянии.
По закону, следователь, получив жалобу подследственного, обязан направить ее по назначению. Я так и поступил и, ознакомившись с жалобой Глотника, попросил начальника тюрьмы срочно отправить ее в Комиссию партийного контроля, куда она и была адресована.
Жалобы подследственных на следователей иногда содержат известные преувеличения, а то и просто вымыслы, но всегда требуют очень серьезного к себе отношения уже по одному тому, что написаны лицом, лишенным свободы, и право заключенного жаловаться — его законное, естественное и неотъемлемое право, или, как выражаются юристы, процессуальная гарантия. Если следствие — это род борьбы, то не удивительно, что одна из сторон не только защищается, но и в свою очередь нападает. Другой вопрос, что формы этого нападения характерны для морального облика нападающего, но самое положение арестованного, борющегося за свое освобождение, в известной мере объясняет и не совсем благовидные методы самозащиты, иногда избираемые им. Вот почему я без всякого раздражения обычно относился и к таким явно необоснованным, окрашенным озлоблением против следователя, а иногда и просто клеветническим жалобам.
Так и в этот день, прочитав письмо Глотника на себя и Голомысова, я не поддался чувству раздражения, хотя никогда еще мне не приходилось читать жалобы более злобной, подлой и лживой.
Глотник писал Шкирятову, что он обращается к нему в самый страшный день своей жизни, когда, не выдержав свалившейся на него беды, твердо решил покончить с собой.
«Вы прочтете, Матвей Федорович, это письмо, когда меня уже не будет в живых. Это хотя бы дает мне надежду, что оно будет вами прочитано. Я не могу и не хочу больше жить, потому что не в силах доказать свою невиновность в самом страшном преступлении, которое только может быть инкриминировано человеку, — в убийстве своей жены…
Это тем более для меня невыносимо, что я всегда горячо любил свою жену, и когда она загадочно исчезла, я не уставал помогать органам следствия в раскрытии этой тайны и розысках жены… Больше полугода МУР ничего не мог сделать, и я имел наивность обратиться к начальнику следственного отдела Прокуратуры СССР Шейнину, надеясь, что он поможет мне в розысках жены… Но Шейнин не сумел разгадать этой тайны и тогда, — из ложного самолюбия, иначе я не могу объяснить, — стал превращать меня из потерпевшего в обвиняемого! Он и его сподручный Голомысов начали создавать против меня „улики“, обрабатывая свидетелей, ловко подтасовывая факты, собирая всякие сплетни и грязь, не имеющую никакого отношения к делу… Я доведен до полного отчаяния, у меня нет сил бороться с этим произволом, и я решил покончить с собою… Я пишу вам для того, чтобы Шейнин и Голомысов понесли заслуженную кару за свое поведение…»
Дальше Глотник очень деликатно касался эпизода с красителями, отметив, что «сразу признал допущенную им ошибку», которая является совершенно «случайной» для его жизни и работы, и что это признание лучшее доказательство его искренности.
Ознакомившись с этим любопытным человеческим документом, я подумал, что при сложившихся обстоятельствах буду поставлен в Комиссии партийного контроля в весьма сложное положение, тем более что по партийной совести я буду обязан сказать, что не могу ручаться за то, что Глотник действительно убил свою жену, хотя в деле имеется ряд серьезных косвенных улик.
И тут, как это всегда бывало в серьезные минуты моей следственной работы, я обратился к тому, что считал в ней главным: к теории психологического контакта и обращения к добрым началам в душе обвиняемого, без чего, как я всегда верил, верю и буду верить, следствие теряет свои благородный и государственный смысл. Да, государственный, потому что задача советского правосудия заключается как в том, чтобы обнаружить преступника, так и в том, чтобы его перевоспитать, и начинать это надо уже со стадии следствия.
И мы с Голомысовым пошли в тюремную больницу к Глотнику.
Я начал с того, что пристыдил Глотника за его поведение, тут же, однако, сообщив, что его заявление направлено адресату. Я не упрекал его за жалобу, но отметил, что он стал на путь клеветы, а это еще никому не помогало. Откровенно рассказав Глотнику причины, по которым мы пришли к выводу о его виновности, я предложил ему хоть на минуту мысленно поставить себя на наше место и честно сказать, как бы действовал он. Глотник слушал все это внимательно, и было заметно, что переживания последнего года дались ему не легко.
Я сказал ему и об этом и нарисовал психологическую картину его состояния в течение этого времени — ужас совершенного, страх перед расплатой, необходимость сокрытия следов преступления, постоянная и страшная необходимость всегда и при всех играть роль, любящего мужа, надломленного загадочным исчезновением любимой жены, надежда на то, что дело в конце концов заглохнет, потом новая тревога — в связи с расследованием дела о красителях, потом радость, что нет худа без добра и именно дело о красителях само собой «спишет» дело об исчезновении жены, потом новый приступ страха, когда выяснилось, что нет, не «списали» и этого дела, потом улики и его отрицания, улики и его ложь, и опять улики, и опять ложь.
Видимо, это была очень точная схема того, что пережил Глотник, потому что он слушал меня, широко раскрыв глаза, удивленный тем, что я говорю с ним задушевно и тепло, хотя только что прочитал его клеветническую жалобу. Потом он начал тихо плакать и вдруг, вскочив с кровати и рванув свою белую больничную рубаху, закричал:
— Да, я, я убил Елочку!… Пишите, скорей пишите протокол, пока я не передумал!…
Голомысов налил стакан воды и дал его Глотнику. Стуча зубами о края стакана, он сделал несколько глотков, облил свою рубаху и снова, весь дрожа, закричал:
— Пишите, скорей пишите, а то я боюсь, что передумаю, духу не хватит, боюсь!… Боюсь!…
Надо было видеть и слышать, как он выкрикивал это слово «боюсь», чтобы понять, как действительно боится этот несчастный, опустошенный всей своей нелепой и грязной жизнью человек, что у него «духу не хватит», да, не хватит духу сбросить со своей совести чистосердечным признанием, как рывком, страшный груз преступления, который он нес столько месяцев…
Потом он немного успокоился и стал рассказывать, По существу, снова начался допрос, отличавшийся от предыдущих лишь тем, что теперь мы с Голомысовым не уличали Глотника, а он сам рассказывал все, что хотел. Лишь изредка, когда он невольно уклонялся от сути дела, мы возвращали в нужное русло стремительно струившийся поток его показаний. Искусство допроса обвиняемого, как мне кажется, состоит не только в умении задавать вопросы, но и в умении выслушивать ответы, не только в том, чтобы спрашивать, но и в том, чтобы иногда только слушать, впитывая в себя все детали того, что обвиняемый говорит, как он это говорит и почему говорит.
— Я женился на Елочке в тысяча девятьсот сорок третьем году, она давно мне нравилась, — нравилось мне, как она смеялась, как она ходит, как она говорит, как она красит губы, как она кокетничает… Мне нравились ее лицо и ее фигура, ее глаза и ее ноги, все мне в ней нравилось… Меня не смущала разница лет, и я не очень об этом задумывался, вероятно полагая в глубине души, что это она, а не я, должна думать…
Потом я понял, как был неправ… Когда она дала согласие стать моей женой, я тоже не задумывался над тем, почему она согласилась? Потому ли, что любит меня, или потому, что ей было трудно жить одной с ребенком и старой матерью, а я, как она находила, был «хорошей партией»… Меня устраивало, что эта молоденькая, хорошенькая, кокетливая женщина будет принадлежать мне, и я думал, что это и есть счастье… Правда, я никогда не был монахом, вел довольно распутную жизнь, я очень люблю женщин, и, вероятно, они развратили меня, как я развращал их… Мы с вами интеллигентные, хотя и разные люди, и вы должны согласиться со мной, что в таких случаях процесс развращения происходит взаимно, не так ли?
Мне было очень; хорошо с Елочкой первые два месяца. Она оказалась, как я и предвидел, интересной женщиной, и это меня радовало, потому что я сам, если уж говорить откровенно, сладострастник.
Тут Глотник на минуту прервал свой довольно гладкий рассказ, снова отпил воды из стакана, потом, махнув на какую-то свою мысль рукой, продолжал:
— Да, надо говорить откровенно, иначе невозможно объяснить все, что произошло. В общем, через два месяца мне все это приелось. Мне захотелось новой женщины, черт бы меня побрал!… И начался роман с Нелли Г. Ее тоже хватило на месяц. Тогда я познакомился с Люсей Б., и — хотите верьте, хотите нет — у меня было такое впечатление, что уж эта устроит меня на всю жизнь… Но и тут меня — или ее, не знаю, как сказать, — хватило на два месяца. Да, не больше. Елочка стала раздражительна, нервна, криклива, начала устраивать мне сцены, оскорблять меня как мужчину… Она была уже беременна, и я проклинал себя за то, что допустил это, понимая, как будет трудно ее оставить… А то, что оставить ее нужно, — сомнений у меня не вызывало… К этому времени я окончательно запутался между Нелли и Люсей… и еще одной девушкой — Шурой, о которой вы, видимо, еще ничего не знаете…
И вот однажды, в самом начале прошлогодней осени, после очередного скандала, у меня впервые мелькнула мысль, что надо ее убить… Честное слово, я сам тогда испугался этой мысли!…
Но через неделю она снова пришла мне в голову и уже потом не уходила… Знаете, я как-то постепенно с нею сжился, с этой мыслишкой, и она стала расти, расти и обрастать какими-то подробностями: как убить, где убить, чем убить… В конце концов она стала уже не мыслишкой и даже не мыслью, а целым планом, продуманным во всех деталях… Мы жили на даче в Болшеве. Я хорошо знал лес, ведущий от станции Осеевской к Болшеву… Я решил убить Елочку в этом лесу. Я обещал подарить ей шубку, это вы знаете, и поехал с нею в Пушкино, это вы тоже знаете, но по дороге я сказал, что сначала надо зайти на дачу, крепче заколотить дверь, — этого вы не знаете. Она согласилась. А с собою я захватил из дому молоток…
Мы вышли в Осеевской и пошли лесом. Снега еще не было. Елочка шла впереди и стала ворчать, зачем мы сошли в Осеевской. Я молчал. Она продолжала злиться и стала меня ругать. Тогда я подбежал к ней сзади и ударил ее молотком в затылок. Да… Она вскрикнула и сразу упала. Видно, я хорошо ударил, если от одного удара она стала покойницей. Меня даже удивило это, и мелькнула дурацкая мысль: судьба!… Потом я поплакал — хотите верьте, хотите нет, да, поплакал…
А потом стал осуществлять свой план. Я засыпал ее тело сучьями, хвоей и песком, — там много песка, — потом поехал обратно и разыграл всю историю с ее пропажей… Потом снова поехал в этот лес с заступом, — в то время многие москвичи-огородники ездили с заступами, и это не было подозрительным… До поздней ночи я рыл могилу и зарыл в ней Елочку, сровнял могилу, чтобы не было заметно, и вернулся домой… Ну, все остальное вы знаете… Не знаете вы только, что я много раз ездил туда, к Елочке… Сам не знаю почему… И вот что я еще хочу сказать вам, уже не для протокола: никогда бы вы не доказали моей вины, если б сам я ее не признал… Конечно, у меня были просчеты — с письмами и с деньгами, — вы ловко за них уцепились, но все-таки не смогли бы доказать, что я убийца… А за то, что я хотел вам пакость устроить, — не сердитесь… Как говорят французы: се ля ви (такова жизнь)…
— Почему же вы решили сознаться, Михаил Борисович?
— Потому, что вы в полчаса рассказали мне весь этот проклятый год и все ожило в памяти… И еще потому, что вы не злились за жалобу и говорили, меня жалея… Это я почувствовал и этого выдержать не мог… А в общем — какое это имеет значение?!. Сознался и все!…
Уже наступил вечер, когда протокол допроса был закончен, прочитан им лично и подписан. Нам не хотелось откладывать извлечение трупа на следующий день, тем более что в глубине души я не исключал, что к утру Глотник передумает, откажется от показаний и скажет, что все это он выдумал, находясь в полубезумном состоянии, А без трупа Елочки его показания стоили мало.
Я поговорил с тюремным врачом, и он сказал, что Глотник вполне может ехать, так как состояние у него хорошее. Взяв его под свою личную расписку, мы вместе с Голомысовым вывели его за тюремные ворота и посадили в машину. Глотник и Голомысов сидели сзади, я — рядом с женщиной-шофером (в годы войны большинство шоферов прокуратуры были женщины), которую звали Ольга.
По пути мы заехали в Прокуратуру СССР за заступами, а потом помчались дальше. Тихий майский вечер уже совсем догорал, огромное багровое солнце дымилось на горизонте. На десятом примерно километре Северного шоссе выстрелил правый баллон — прокол камеры. Ольга долго возилась с переменой баллона, солнце скрылось совсем, и в небе вызвездило. Наконец, мы поехали дальше, и через пять-шесть километров снова спустил баллон. Снова большая задержка.
В результате к платформе Осеевская мы добрались поздно, около двенадцати часов ночи. Прямо за линией железнодорожного полотна черной стеною стоял лес. Уже было совсем темно, а я имел только карманный электрический фонарь-динамку. Глотник, хорошо знавший эти места, сказал, что машина дальше не пройдет надо до места добираться пешком. Впереди пошел я, жужжа своей динамкой, дававшей очень слабый и неравномерный луч света, вырывавший из темноты отдельные стволы густо стоявших сосен, кучи старого хвороста, муравейники. Лес был глухой, мой слабенький фонарик казался в нем совсем беспомощным, и от его робкого света по сторонам возникали и прыгали какие-то тени.
За мною шел Глотник, отрывисто говоривший, куда идти, за ним Голомысов, за Голомысовым шла, тяжело дыша от волнения, непривычно тихая Ольга, обычно очень бойкая, веселая молодая женщина.
Мы продвигались медленно, то и дело спотыкаясь о какие-то коряги и пни. Но Глотник шел уверенно, указывая направление, и было похоже, что в этом лесном мраке его ведет какое-то особое звериное чутье…
Наконец, пройдя километра полтора, мы выбрались на маленькую поляну, окруженную со всех сторон могучими соснами. Глотник остановился и, указав на одну из них, тихо сказал:
— Она здесь…
Я огляделся, усиленно сжимая рычажок своей динамки. Испуганные тени побежали в разные стороны, но вокруг было очень темно, и я до сих пор не понимаю, как Глотник мог определить в этом лесном мраке, что это именно то место, которое мы ищем.
— Она лежит здесь, — повторил Глотник. Я предложил Глотнику сесть у подножья сосны, а сам, вместе с Ольгой и Голомысовым, начал собирать хворост для костра, без которого трудно было начинать раскопки. Через несколько минут сухой хворост уже трещал в языках пламени, зловеще освещавшего эту маленькую полянку и фигуру Глотника, сидевшего у подножья сосны, прислонясь спиной к ее стволу. Даже в багровом отсвете костра его лицо поражало своей бледностью.
Голомысов, Ольга и я стали рыть. Земля оказалась рыхлой, и работа шла легко. Глотник молча следил за тем, как мы работаем, изредка вздрагивая и бормоча что-то невнятное… Голомысов, продолжая работать заступом, не сводил с Глотника глаз. Измученное напряженной работой и волнениями последнего месяца, лицо следователя было очень усталым, грустным и сосредоточенным. Где-то высоко над нами взволнованно перешептывались верхушки сосен.
— Осторожно, вы ей заденете ножку! — внезапно истерически закричал Глотник, и в ту же минуту мой заступ глухо стукнулся о каблук женского туфля: Мы нажали на заступы и через пару минут увидели труп Елочки.
— Ой, мамочка, что ж такое с собою люди делают?! — прошептала Ольга и, отойдя в сторону, зарыдала. Что могли мы ответить на этот горький вопрос?
ВОЛЧЬЯ СТАЯ
В начале 1928 года, в ту пору, когда я был переведен в Ленинград, там была довольно значительная преступность, и ленинградские следователи были завалены всевозможными делами. В городе неистовствовал нэп. Он отличался от московского нэпа прежде всего самими нэпманами, которые здесь в большинстве своем были представителями дореволюционной коммерческой знати и были тесно связаны с еще сохранившимися обломками столичной аристократии. Ленинградские нэпманы охотно женились на невестах с княжескими и графскими титулами и в своем образе жизни и манерах всячески подражали старому петербургскому «свету».
Нэпманы нередко обманывали руководителей государственных трестов и предприятий, с которыми они заключали всевозможные договоры и соглашения. Стремясь разложить тех советских работников, с которыми они имели дело, нэпманы старались пробудить в них стремления к «легкой жизни», действуя подкупом и всякого рода мелкими услугами, угощениями и «подарками». А соблазнов было много.
В знаменитом Владимирском клубе, занимавшем роскошный дом с колоннами на проспекте Нахимсона, функционировало фешенебельное казино с лощеными крупье в смокингах и дорогими кокотками. Знаменитый до революции ресторатор Федоров, великан с лицом, напоминавшим выставочную тыкву, вновь открыл свой ресторан и демонстрировал в нем чудеса кулинарии. С ним конкурировали всевозможные «Сан-Суси», «Италия», «Слон», «Палермо», «Квисисана», «Забвение» и «Услада».
По вечерам открывался в огромных подвалах «Европейской гостиницы» и бушевал до рассвета знаменитый «Бар», с его трехэтажным, лишенным внутренних перекрытий залом, тремя оркестрами и уймой столиков, за которыми сидели, пили, пели, ели, смеялись, ссорились и объяснялись в любви проститутки и сутенеры, художники и нэпманы, налетчики и карманники, бывшие князья и княгини, румяные моряки и студенты. Между столиков сновали ошалевшие от криков, музыки и пестроты лиц, красок и костюмов официанты в белых кителях и хорошенькие, кокетливые цветочницы, готовые, впрочем, торговать не только фиалками.
«Короли» ленинградского нэпа — всякого рода Кюны, Магиды, Симановы, Сальманы, Крафты, Федоровы обычно кутили в дорогих ресторанах — «Первом товариществе» на Садовой, Федоровском, «Астории» или на «Крыше» «Европейской гостиницы». Летом славился ресторан курзала Сестрорецкого курорта с его огромной открытой, выходящей на море террасой и только входившим тогда в моду джазом. Сюда любили приезжать на машинах ночью, после премьер в «Свободном театре» Утесова, или в мюзик-холле, или в театре комедии, арендованном в порядке частной антрепризы Надеждиным и Грановской — очень талантливыми комедийными актерами, любимцами города.
Здесь, за роскошно сервированными столиками на прохладной от ночного залива мягко освещенной террасе, под тихий рокот прибоя, «короли» завершали миллионные сделки, торговались, вступали в соглашения и коммерческие альянсы и тщательно обсуждали «общую ситуацию», которая, по их мнению, в 1928 году складывалась весьма тревожно.
Самые дальновидные из них начинали понимать, что «временное отступление» подходит к концу и что молодая, но уже окрепшая за эти годы государственная промышленность, кооперация и торговля начинают наступать на частный сектор. Нэпманов особенно беспокоила система налогового обложения их доходов, и они наперебой проклинали начальника налогового управления ленинградского облфинотдела Сергея Степановича Тер-Аванесова, руководившего работой фининспекторов и известного тем, что к нему «подобрать ключи невозможно».
Правда, в самом конце 1927 года прополз слушок, что лакокрасочник Николай Артурович Кюн и шоколадник Альберт Карлович Крафт сумели каким-то загадочным путем добиться благосклонности Тер-Аванесова, но они сами в ответ на вопросы своих знакомых «королей» так горячо и искренне уверяли, что эти слухи сущий вздор, что им в конце концов поверили.
И вдруг в начале 1928 года начались грозные события: были арестованы в течение одной ночи и Тер-Аванесов, и более десятка фининспекторов, и многие крупные нэпманы, в том числе Крафт и Сальман, Магид и Федоров, и многие, многие другие. По городу поползли слухи, что следственные органы вскрыли многочисленные факты дачи нэпманами взяток фининспекторам за снижение налогов.
Знаменитый Кюн сбежал в неизвестном направлении. На его фабрику лакокрасок был наложен арест. Чуть ли не в одну ночь с Кюном сбежал и крупный нэпман мебельщик Янаки, грек из Одессы, в руках которого была сосредоточена чуть ли не вся торговля антикварной мебелью.
Вместо арестованных фининспекторов были назначены другие, и подступиться к ним уже было абсолютно невозможно.
«Вечерняя Красная газета», имевшая в те годы широкую подписку в связи с тем, что в качестве приложения к ней печатался сенсационный «дневник фрейлины Вырубовой» — любимицы императрицы и подруги Гришки Распутина, — поместила довольно глухую, но весьма зловещую заметку о том, что следствие по делу группы фининспекторов, незаконно снижавших нэпманам налоги, успешно разворачивается и выясняются все новые лица, причастные к этим преступлениям.
Ночные поездки в Сестрорецк и кутежи в «Астории» и на «Крыше» прекратились. Начали закрываться многие частные магазины и товарищества. Лихачи и владельцы машин с желтым кругом на борту, обозначавшим, что эта машина работает на прокате, простаивали без дела на стоянках — пассажиров почти не было.
«Линия фронта» была явно прорвана во многих направлениях.
Большое групповое дело фининспекторов и нэпманов, получавших и дававших взятки, поступило в мое производство. В этом многотомном деле были десятки эпизодов, тысячи всякого рода документов, много экспертиз. Работать приходилось очень напряженно, и областной прокурор, наблюдавший за следствием, торопил с его окончанием, так как дело привлекало большой общественный интерес.
Существует мнение, столь же распространенное, сколь и ошибочное, что по так называемым хозяйственным и должностным делам следователю редко приходится встречаться с человеческими драмами, психологическими конфликтами и большими чувствами. Это далеко не так. Конечно, по делам о преступлениях бытовых, вроде убийств на почве ревности, доведения до самоубийства, понуждения к сожительству и т. п., сама «фабула» дела выдвигает перед следователем прежде всего вопросы психологические, связанные с любовью, ревностью, местью, коварством, обманом, насилием над чужой волей и прочим. По таким делам невозможно закончить следствие, не выяснив до конца всей суммы этих вопросов, имеющих первостепенное значение хотя бы потому, что они освещают мотивы совершенного преступления, причины и обстоятельства возникновения преступного умысла и подготовку к его осуществлению.
Конечно, в деле о даче и получении взятки эти вопросы иногда вообще не всплывают, и следствие, прежде всего выяснив самый факт взяточничества, должно ответить на вопрос, за что была дана и получена взятка. Как и в каждом уголовном деле, здесь нельзя ограничиваться признанием обвиняемых, давших и получивших взятку, ибо ставка на признание обвиняемых — как «царицу всех доказательств» — всегда свидетельствует либо о юридической и психологической тупости следователя, либо о его нежелании или неумении справиться со своими обязанностями. В деле фининспекторов и нэпманов почти все обвиняемые признались. Но это признание надо было объективно проверить и подтвердить документами, фактами, точно установленными цифрами, поскольку речь шла о незаконном снижении налогов.
Поэтому буквально по каждому из многочисленных эпизодов дела я считал своим долгом точно установить факт и размеры незаконного снижения налога, как результата данной и полученной взятки.
С другой стороны, меня не меньше занимал вопрос, имевший, как я был убежден, и социально-психологическое значение: как могло случиться, что значительная группа людей, в том числе и коммунистов, поставленных на ответственные участки нашего финансового фронта, встала по существу на путь измены, оказавшись в одних случаях перебежчиками, в других — лазутчиками врага?
Я старался найти ответ на этот вопрос в биографии, характере, условиях жизни каждого из фининспекторов, привлеченных по этому делу. Постепенно выяснилась и эта сторона дела, и вскрылись разные причины, мотивы и обстоятельства — пьянство и моральная неустойчивость, неизбежное сползание на дно на почве бесхарактерности и беспринципности, жадность и стремление к легкой жизни, очень последовательное и тонкое обволакивание со стороны нэпманов. Один становился взяточником потому, что никогда не имел за душой ни искренних убеждений, ни твердых взглядов, ни веры в дело, которому должен был служить. Другой начал пьянствовать и постепенно, незаметно для самого себя, стал алкоголиком и пропил и свою честь и свою судьбу. Третий, будучи раньше человеком честным, подпал под влияние дурной среды и, начав с мелких подношений и одолжений, которые он принимал от нэпманов, сумевших к нему подойти, потом уже стал матерым взяточником, махнувшим на все рукой по известной формуле «пропади все пропадом». Четвертый, подпав под влияние жены — цепкой и жадной бабенки, неустанно укоряющей за то, что «все люди как люди живут, а я одна, несчастная, мучаюсь — даже котиковой шубки себе справить не могу», — принимал в конце концов эту котиковую шубку от налогоплательщика и уже оказывался у черта в лапах.
Мне запомнился любопытный эпизод по этому делу, когда нэпман Гире, человек очень ловкий и вкрадчивый, сумев всучить котиковую шубку фининспектору Платонову, без ума влюбленному в свою молоденькую, хорошенькую и очень требовательную жену, — потом стал из этого Платонова веревки вить до такой степени, что начал от его имени получать взятки у нэпманов и, присваивая львиную долю себе, заставлял Платонова делать все, что он требовал. Платонов — молодой белокурый голубоглазый человек с добродушным лицом и полногубым, мягко очерченным ртом чувственного и бесхарактерного человека, пытался пару раз взбунтоваться, но Гире, уже считая себя полновластным хозяином этого человека, только выразительно поднимал брови и произносил своим скрипучим голосом неизменную фразу: «Вы, кажется, милейший, начинаете забывать, чем мне обязаны».
Это произносилось в таком открыто угрожающем тоне и сопровождалось таким злым и холодным взглядом, что Платонов начинал что-то лепетать и извиняться, проклиная в глубине души и этого дьявола, и свою хорошенькую жену, и ту страшную котиковую шубку, которая превратила его в раба…
Я хорошо помню, что тогда, как и в последующие годы своей следственной работы, сталкиваясь со многими фактами подчинения слабохарактерных, малоустойчивых, хотя в прошлом и неплохих людей чужой злой и преступной воле, я всегда жалел этих несчастных, хотя они и заслуживали презрения за свою тупую, какую-то скотскую, недостойную человека безропотность, превращавшую их в белых рабов. Безволие — сестра преступления, и как часто мне приходилось наблюдать это зловещее родство!…
Западня
Но именно по этому делу мне довелось столкнуться с одним особенно разительным фактом, когда любовь и безволие превратили честного до того человека в серьезного и опасного преступника, а его до того безупречная жизнь была в результате искалечена. Таким человеком оказался Сергей Степанович Тер-Аванесов.
В Ленинградском облфинотделе Тер-Аванесов работал чуть ли не с первых дней революции. Экономист по образованию, он был бесспорно очень крупным финансистом и отличным работником. Он не состоял в партии, но, как принято было тогда выражаться, «вполне стоял на платформе советской власти».
Он был уже немолод и одинок. Как-то так сложилась его жизнь, что сначала наука, а затем сутолока повседневной и напряженной работы поглощали его с головой, и в день своего пятидесятилетия Сергей Степанович обнаружил, что жизнь-то уже почти прожита, а у него нет и никогда не было семьи, детей, даже серьезных увлечений.
— В тот день. Лев Романович, — рассказывал мне Тер-Аванесов, — я, знаете ли, подошел к зеркалу и очень внимательно, как бы со стороны, на себя поглядел… Мне не понравился этот пожилой маленький толстый человек с большой лысиной и отечным лицом, который уныло смотрел на меня из зеркала и как бы говорил: «Э, брат, видишь, до чего ты меня довел? Старик, совсем старик, а на старости и вспомнить нечего! Финансовая крыса!… Что ты видел, осел, кроме своих параграфов и статей бюджета, начислений и пени?… Был ли у тебя хоть один настоящий роман с настоящей женщиной, с сердцебиением, бессонницей, ревностью, прогулками в белые ночи по набережной Невы, горечью от ее равнодушия и счастьем от ее первого „да“?…» В общем, это был скверный день с весьма печальным подведением весьма печальных итогов…
Тер-Аванесов вздохнул, закурил папиросу и задумался. За распахнутыми окнами моего кабинета, выходящими на Фонтанку, шумел солнечный майский день. Вдали зеленела пышная листва Летнего сада, оттуда доносились веселые крики играющих детей.
— А в общем, Лев Романович, — внезапно сказал Тер-Аванесов, — все это не имеет решительно никакого отношения к моему делу. Я признал себя виновным в том, что получал взятки от Кюна и Крафта и за это снизил им налог. А все прочее — изящная словесность и повод для размышлений в тюремной камере…
— Но до этого вы получали когда-нибудь взятки?
— Честное слово — нет!… До осени тысяча девятьсот двадцать седьмого года мне не за что краснеть!… Даю вам честное слово!…
Это вырвалось у него так горячо и искренне, что я сразу ему поверил. Да и в деле не было ни малейших, даже косвенных, указаний на то, что Тер-Аванесов за многие годы своей работы в финотделе совершил хотя бы один проступок. Напротив, его отношение к своим служебным обязанностям было безупречным, и это признавали все.
Что же могло столкнуть этого образованного, в прошлом честного и вполне зрелого человека с пути, по которому он твердо шел вот уже столько лет?
Однако ответ на этот вопрос мог дать только он один, а он явно не хотел этого делать. Несколько раз после окончания допроса я пытался завести разговор на эту тему, объяснял Тер-Аванесову, что интересуюсь этим «не для протокола», но он только грустно усмехался и тактично, но решительно уклонялся от ответа.
Между тем следствие по этому делу подходило к концу. Женам обвиняемых были разрешены еженедельные свидания с мужьями, и каждый четверг ко мне приходили эти женщины за ордерами на свидание. В частности, являлась и жена Тер-Аванесова, на которой он женился за два года до своего ареста, — очень красивая молодая женщина с большими зелеными глазами, пикантно вздернутым носиком и пухлым, капризным ртом.
Она, как и все жены обвиняемых, держалась очень скромно, справлялась о здоровье мужа, получала ордер и, кивнув головкой, удалялась. Я заметил, что всякий раз она приходила в сопровождении молодого, элегантного блондина, примерно одного с нею возраста, который всегда ожидал ее в коридоре, а потом уходил вместе с нею. Раза два я случайно увидел в окне, как они шли по набережной Фонтанки под руку; она смеялась, а он что-то ей весело рассказывал. Потом я заметил, что, приходя за ордером на свидание, Тер-Аванесова обычно приносила с собою обшитый полотном, в виде почтовой посылки, сверток с продуктами, который она передавала мужу через администрацию тюрьмы. Я обратил внимание на то, что надпись на свертках всегда отлично выписана синей краской — уверенными, твердыми, профессиональными штрихами.
— Кто это вам так лихо рисует надписи на передачах? — спросил я ее однажды, когда она вошла в мой кабинет, держа такой сверток в руках.
— Это один наш друг — ответила она, чуть покраснев.
— Тот самый, который вас обычно сопровождает? — спросил я.
— Да, — не очень охотно ответила она.
Я не стал больше ее расспрашивать, тем более что этот вопрос не имел прямого отношения к делу, но про себя подумал, что Тер-Аванесов расплачивается за то, что женился на женщине, которая лет на двадцать пять моложе его. В данном случае эта ситуация, весьма опасная уже сама по себе осложнялась и тем, что муж этой женщины находился в тюрьме и она знала, что минимум на который он может рассчитывать, — это десять лет лагеря, а в худшем случае ему угрожает расстрел, так как в те годы статья 114-я, часть вторая, ему предъявленная, предусматривала такую карательную санкцию.
Мне, как и всякому следователю, увы, приходилось не раз убеждаться в том, что жены обвиняемых редко остаются верны своим мужьям. Иногда еще в стадии следствия по делу эти молодые женщины уже начинали озабоченно подыскивать «запасный аэродром», как однажды цинично и прямо сказала мне одна из них.
Жена того самого Платонова, который погиб из-за котиковой шубки для нее, — статная, полногрудая, ленивая шатенка, всегда надушенная, модно причесанная и кокетливая, — несколько раз вообще не являлась за ордерами на свидание, и когда я, получив от него отчаянное заявление, вызвал ее и спросил, почему она вот уже два раза пропустила свидания и не отнесла мужу передачи, — посмотрела на меня ясными большими и очень красивыми Серыми глазами и спокойно произнесла:
— Неужели он не понимает, что мне надо позаботиться о себе? Не могу же я остаться женой арестанта и плакать у разбитого корыта!… Я уже не девочка, мне двадцать восемь лет, а хорошо выйти замуж не так просто… Еще счастье, что у меня нет детей, а то с ребенком и вовсе не устроишься…
— А вы не считаете, что у вас есть обязанности в отношении мужа, который, кстати, сел в тюрьму не без вашей вины, гражданка Платонова? — не выдержав, спросил я.
— Насчет моей вины вы бросьте, — ответила она. — Просто он тюфяк и не сумел умно себя вести. А что касается обязанностей, то всему есть предел. Я отдала ему все — молодость, красоту, первое чувство… И он обязан был создать мне красивую жизнь… Не сумел — тем хуже для него…
Я лишний раз понял, что имею дело с вполне законченной «философией» определенной категории женщин, считающих, что выйти замуж — это значит «устроиться», что мужья обязаны «создать им красивую жизнь» в виде своеобразного эквивалента за «молодость, красоту и первое чувство». Я до сих пор не могу понять, почему этим дамам не приходит в голову простой вопрос: что ведь и мужья отдавали им свою молодость, а нередко и свое первое чувство, и почему, следовательно, «котируются» только «вложения» одной стороны?… В самом деле, почему?
Правда, справедливость требует отметить, что хотя и редко, но еще встречались в свое время и мужчины-сутенеры, набрасывавшиеся на молодых красивых женщин, мужья которых были арестованы, как волки на овец. Видимо, считая, что жена арестованного, оказавшись в очень трудном положении, будет сговорчивей, такие негодяи начинали окружать ее тем особым профессионально-сутенерским «вниманием», которое всегда важно женщине, а тем более в таком положении, — и в конце концов добивались своего. А если эта женщина имела какой-то самостоятельный заработок или сбережения, оставшиеся от мужа, то присосавшийся к ней подлец старался извлечь из связи с нею не только любовные утехи.
Одним из таких «жоржиков» был и друг Тер-Аванесовой, тот самый светлоглазый элегантный блондин, который приходил с нею за ордерами на свидания. Я давно обратил на него внимание, но роль, которую он сыграл в жизни этой семьи, стала мне ясна только в день объявления Тер-Аванесову об окончании следствия. После подписания протокола о том, что с материалами дела он ознакомился и дополнить следствие ничем не может, Тер-Аванесов вдруг мне сказал:
— Несколько раз, Лев Романович, вы спрашивали меня насчет причин, по которым я, вопреки всей своей биографии, взглядам, убеждениям, стал взяточником. Под разными предлогами я уклонялся от ответа. Но вот сегодня мы с вами видимся в последний раз, впереди — суд, приговор, и возможно, что он закончится одним словом — расстрелять. Мне хочется на прощанье сказать вам спасибо за человеческое отношение. Поверьте, что в моем положении оно особенно дорого. Я хочу, кроме того, объяснить вам, почему Тер-Аванесов стал преступником. Можно?
— Конечно. Я давно хотел это понять.
— Ну, так слушайте… Я решил вам все рассказать именно теперь, когда следствие закончено и когда все, что я расскажу, не будет отображено в протоколах дела, потому что это уже не для протокола…
— Через полгода, после того как мне стукнуло пятьдесят лет, — помните, я вам об этом как-то начал рассказывать, — мне пришлось однажды поздно задержаться на работе, так как нужно было продиктовать срочный доклад в Москву. Это было в самом конце мая, когда у нас в Ленинграде начинаются белые ночи.
Должен заметить, что я никогда не разделял поэтических восторгов по поводу ленинградских белых ночей. Это беспринципное, я бы сказал, смешение дня и ночи, призрачная мгла, окутывающая ночной город и в сущности мешающая людям спать, это бледное, больное солнце, медленно встающее в бледном рассвете, — все это, знаете ли, решительно мне не нравилось и очень мешало работать. Вероятно, когда-нибудь наука выяснит, что в этих белых ночах есть нечто болезненное и тлетворное; и характерно, что именно в белую ночь началась и моя беда.
Словом, мне надо было срочно диктовать доклад, и так как машинистки моего управления уже ушли, то я вызвал машинистку из дежурной комнаты. Через несколько минут ко мне вошла очень хорошенькая, совсем молодая девушка. За нею вахтер внес ее машинку, и я начал диктовать…
Тут Тер-Аванесов прервал свой рассказ и стал раскуривать папиросу. Он зажигал спичку за спичкой, но пальцы его дрожали, и огонек угасал до того, как он успевал прикурить. Было заметно, что он очень взволнован, но не хочет, чтобы я это понял. Поэтому я не стал помогать ему прикурить и сидел с таким видом, как будто его неудачи с гаснущими спичками вполне естественны и обычны.
— Сырые спички, Сергей Степанович, — сказал я ему, наконец. — Позвольте предложить свою…
Я зажег спичку. Он прикурил, сделал несколько затяжек, а потом, резко повернувшись ко мне, сказал:
— Короче, через два месяца я женился на этой девушке. И был счастлив. Но я был очень занят на работе, приходил домой очень поздно, и жене, естественно, было скучно. В этом смысле доля жены ответственного работника — незавидная доля… Признаться, я до сих пор не понимаю, кто и зачем выдумал эти ночные бдения, бесконечные совещания, поздние вызовы к начальству… Но дело не в этом.
Галя начала тосковать. А я, приходя домой поздно, усталым, едва успевал поесть и заваливался спать. Однажды, после большого разговора с женой-прямо сказавшей, что ей томительна такая жизнь, я преддожил ей завести знакомства, бывать в театрах без меня, другого выхода не было… Словом, однажды жена меня познакомила с одним молодым человеком, с которым она встретилась у одной подруги. Он оказался художником видимо не очень способным, так как работал он в Лен-рекламе, сам рисовал мало, а больше принимал заказы на рекламу и вел расчеты с заказчиками и художниками.
Впрочем, судя по всему, он был вполне доволен своей судьбой… Он стал бывать у нас ежедневно. Я приходил с работы и обычно заставал Георгия Михайловича — так его зовут — неизменно корректного, очень-обязательного, чуть, к сожалению, приторного, с этакими прозрачными, с поволокой, светлыми глазами и чуть вытянутым вперед, как бы принюхивающимся носом…
Сказать по совести, мне был очень противен этот фатоватый пошляк, с его манерой говорить в напыщенном стиле, с его парикмахерским шиком, гнилыми зубами дегенерата, подобострастными ужимками и ложным пафосом, с которым он любил распространяться о «святом искусстве», которому будто бы служит… Я догадывался, что это тип с сутенерскими замашками, но не говорил об этом жене, по многим причинам не говорил… Но я не допускал, что она может мне изменить, не допускал!…
Было уже совсем поздно, когда Тер-Аванесов закончил свой рассказ. Признаться, он поразил меня. Но я еще не знал, что рассказанная обвиняемым история потрясающей человеческой подлости приведет в дальнейшем к западне хитроумно устроенной нэпманами для Тер-Аванесова. Тем более не знал этого сам Тер-Аванесов. Он знал только то, что рассказал.
Через полгода, после того как жена Тер-Аванесова начала встречаться с Георгием Михайловичем, он пришел к ней в слезах и произнес трагический монолог, уверяя, что пришел «проститься навеки», так как проиграл во Владимирском клубе десять тысяч казенных денег, «не может перенести позора» и потому твердо решил покончить с собой…
Поздно вечером, когда Тер-Аванесов пришел с работы домой, он застал жену в слезах. Он долго приводил ее в чувство, и, наконец, она сказала, что любит Георгия Михайловича и не может перенести его несчастья. На Тер-Аванесова сразу свалились две беды: известие о том, что жена ему изменила, и ее угроза покончить с собой, если ее любимый не будет спасен.
— Теперь я понимаю, что в ту страшную ночь, — рассказывал мне Тер-Аванесов, — эта угроза самоубийства Гали ослабила даже мою реакцию на факт ее измены. Как это ни странно, мне, вероятно, было бы тяжелее, если б я тогда узнал только о том, что Галя мне изменила… И когда она решительно заявила, что покончит с собой, если я не спасу Георгия Михайловича, я понял, как бесконечно дорога мне эта женщина…
Тер-Аванесов встал, сделал несколько шагов по комнате и, вернувшись к столу, за которым я сидел, продолжал:
— Она была так убита горем, так рыдала, так умоляла меня спасти человека, которого искренне любит и без которого не сможет жить, что я обещал ей любыми путями достать эти деньги. Но где я мог их достать? Мои скромные сбережения растаяли после женитьбы с удивительной быстротой, потому что появились большие расходы и я не хотел отказывать Гале ни в чем. На службе я мог получить максимум месячный оклад. Друзей, у которых я мог бы занять такую сумму, у меня не было… И вот на следующий день, когда я ломал себе голову, как найти эти проклятые деньги, ко мне явился с жалобой на обложение лако-красочник Кюн, один из крупных ленинградских нэпманов. Этот дьявол сразу почему-то заметил, что я не в себе, он ведь, как и все нэпманы, знал меня много лет… Он очень сочувственно спросил, что со мною; я ответил, что устал, но он понимал, что со мной происходит что-то необычное.
И вдруг впервые в жизни мне пришла в голову эта страшная мысль: вот передо мною сидит человек, который сразу, без особых просьб и с полным удовольствием немедленно даст мне десять тысяч, и никто на свете, кроме нас двоих, не будет этого знать, ибо он так же заинтересован в тайне, как и я. А этот проклятый немец — этот Кюн из остзейских немцев — все не уходил, не уходил, видимо почуяв, что со мною стряслась беда, на которой можно заработать.
Лев Романович, вы моложе меня в два раза, но вы — старший следователь, вы каждый день допрашиваете преступников, объясните мне: как, откуда, каким образом это ворон узнает, что ты — падаль? Да, падаль, потому что в этот день я действительно стал падалью!… По каким неуловимым, мельчайшим признакам все эти Кюны и Крафты, Симановы и Сальманы вдруг начинают чуять, что «Тер, который не берет» — так они прежде обо мне говорили, — вдруг «может взять»? Мне не пришлось просить денег у Кюна — в тот день он сам их мне предложил, и я, сгорая от стыда, позора, грязи, продался ему, как девка с Невского!…
Когда, уже поздним вечером, я пришел к жене и протянул ей деньги, она плакала от счастья, без конца обнимала меня, говорила, что никогда этого не забудет. И тут же, боясь, что ее Жорж не выдержит, оделась и отвезла ему деньги… Честное слово, это была самая страшная ночь в моей жизни, страшнее, чем первая ночь в тюрьме!
Конечно, я давал себе клятву любыми путями — экономией, сверхурочной работой, продажей личных вещей — рассчитаться с этим Кюном, но налог ему все-таки пришлось снизить…
И вот ровно через месяц я снова застал жену в полубезумном состоянии. Георгий Михайлович, оказывается, решил отыграться и проиграл во Владимирском клубе уже не десять, а пятнадцать тысяч… Опять он заявил Гале, что покончит с собой, опять она его умоляла, опять она кричала мне, что если я не достану денег и Жорж погибнет, то она бросится в Неву, и я… снова обещал.
Я сам позвонил Кюну. Он сразу приехал, и я пролепетал, что очень прошу одолжить мне еще пятнадцать тысяч. Он удивленно на меня посмотрел и сказал, что «считает себя со мной вполне в расчете», но, из уважения ко мне, готов помочь.
Я обрадовался, но выяснилось, что помочь он мне хочет по-своему: он посоветует своему другу, шоколаднику Крафту, дать мне эту сумму. И через час он привез ко мне Крафта и перепродал меня тому, как барана… И опять меня целовала жена и клялась, что никогда этого не забудет, и опять она помчалась к своему ненаглядному Жоржу с этими деньгами и вернулась только утром — успокоенная, счастливая, радостная…
Тер-Аванесов замолчал и стал раскуривать папиросу. Уже зажглись фонари на Фонтанке, с реки доносились смех и восклицания молодежи, катавшейся на лодках, где-то в районе Марсова поля играл военный духовой оркестр.
Потом я вызвал конвой и отправил Тер-Аванесова в тюрьму.
Прощаясь, он тихо сказал:
— Моя последняя просьба: не давать жене разрешений па передачи. Каждый раз, принимая посылку с этой «художественной» надписью, я схожу с ума!… Неужели этот подлец не понимает, что мне это противно, нестерпимо, страшно видеть?… Вот и все, о чем я хочу вас просить.
После того, что я узнал от Тер-Аванесова, мне особенно захотелось разыскать скрывшегося Кюна. Мне было известно, что Кюн имел две семьи — старую жену, с которой он не хотел расставаться, и вторую жену — точнее, содержанку — молодую, красивую брюнетку, которую звали Мария Федоровна. Было установлено, что эта одинокая молодая женщина занимает отдельную роскошную квартиру на Дворцовой набережной, в одном из аристократических особняков, что в средствах она не нуждается и, несмотря на внезапное исчезновение Кюна, продолжает жить широко, ни в чем себе не отказывая. С другой стороны, по имевшимся данным, Мария Федоровна не устраивается на работу и, по-видимому, поддерживает связь с Кюном.
Я вызвал ее на допрос, но она очень твердо и спокойно заявила, что «совершенно не представляет», где находится Кюн, никаких вестей от него не получает и вообще ничем в этом смысле помочь следствию не может.
Это была смуглая, темноглазая, очень элегантная женщина, с большой выдержкой и тактом. И было ясно, что она ничего не скажет. В разговоре случайно выяснилось, что Мария Федоровна дружит с женою одного из обвиняемых по этому делу, тоже молодой женщиной, гораздо менее интересной, чем Мария Федоровна.
Хотя я был еще молодым следователем, но уже знал, что если дружат две женщины такого пошиба и если одна из них менее интересна, то в глубине души она ненавидит свою подругу и жгуче завидует ей. Я вспомнил любопытный эпизод, имевший место в самом начале моей следственной работы еще до перевода в Ленинград. Мне пришлось как-то допрашивать в качестве свидетельницы по бытовому делу одну пожилую даму, которая в течение многих лет содержала ателье шляп в Столешниковом переулке.
По обстоятельствам этого дела возник вопрос о дружбе двух ее знакомых женщин. Свидетельница, уже ответившая на ряд моих вопросов, когда я спросил ее, насколько дружна такая-то с такой-то, язвительно усмехнулась, посмотрела на меня с удивлением и, лихо затянувшись папиросой, процедила:
— Товарищ следователь, я тридцать лет торгую шляпами. Не было случая, чтобы дама выбирала себе шляпу без подруги, и не было случая, чтобы подруга дала правильный совет… Вот все, что я могу вам сказать о женской дружбе…
Увы, эта своеобразная притча старой шляпницы не раз приходила мне на память, когда по тому или иному делу я вновь сталкивался с так называемой женской дружбой. Правда, справедливость требует отметить, что я, как криминалист, конечно, главным образом сталкивался с дамами определенного круга и воспитания, а следовательно — и с вполне определенной психологией.
Но ведь и Мария Федоровна и ее приятельница принадлежали именно к этому кругу. Вот почему, когда подруга Марии Федоровны пришла в очередной четверг за ордером на свидание, я между прочим завел с нею разговор о Марии Федоровне. Она бросила на меня быстрый взгляд, тень сомнения мелькнула в ее глазах, и, перейдя почему-то на шепот, произнесла:
— Ах, да что Машке! Катается как сыр в масле!… До того обнаглела, что и Кюна своего вытребовала… Сама мне сегодня сказала: «У меня теперь вроде медовый месяц…»
Через полчаса, выписав постановление на производство обыска, я подъехал к особняку, где жила Мария Федоровна. Меня сопровождали комендант облсуда и его помощник. Мы долго звонили у парадного подъезда, предварительно выяснив, что в этой квартире нет черной лестницы. Наконец, за массивной дверью послышались легкие шаги, и молоденькая горничная в кокетливом фартучке и наколке открыла дверь. На мой вопрос, дома ли Мария Федоровна, она ответила утвердительно. И в самом деле, в переднюю вышла и хозяйка в домашнем халатике. Я предъявил ей постановление на производство обыска и пояснил, что «обыск производится на предмет обнаружения Николая Артуровича Кюна, скрывающегося от следствия и суда». Она выслушала эту формулу очень спокойно, улыбнулась и сказала:
— Ах, пожалуйста, квартира к вашим услугам! Но только все это зря! Кюна у меня нет, где он — я не знаю. Напрасно, товарищ следователь, вы так недоверчивы к женщинам…
В этой квартире было семь комнат, великолепно обставленных дорогой стильной мебелью. В отличие от обычных нэпманских квартир того времени, меблированных дорого, но безвкусно, квартира Марии Федоровны отличалась строгим стилем, все вещи были подобраны тщательно и со вкусом. Начав с передней, я и мои помощники постепенно обследовали комнату за комнатой. Никаких признаков Кюна не было, и я, признаться, уже начинал думать, что приятельница Марии Федоровны солгала. Наконец, в спальне — это была последняя комната по ходу обыска — я обратил внимание на то, что роскошная, отделанная бронзой широкая низкая кровать карельской березы почему-то открыта, смяты две подушки, а на ночной тумбочке справа невозмутимо тикают мужские карманные часы.
Я взглянул на руку Марии Федоровны — ее часики были при ней. В пепельнице, стоявшей на той же тумбочке, лежало несколько окурков с характерным, чисто мужским прикусом мундштуков.
Перехватив мой взгляд, направленный на эти окурки, Мария Федоровна немедленно достала из коробки модных тогда папирос «Сафо» папиросу и начала курить. Я решил ответить на эту молчаливую демонстрацию и, выждав, пока Мария Федоровна докурила свою папиросу, попросил ее окурок. Она удивленно протянула его мне. Конечно, никакого прикуса на мундштуке папиросы не было. Я показал ей этот мундштук и тут же взял из пепельницы окурок папиросы, которую курил мужчина.
— Как видите, Мария Федоровна, — сказал я, — вот эти папиросы курили не вы, а Николай Артурович Кюн. Кроме того, вот эти мужские часы тоже, я полагаю, принадлежат ему, ибо они не в стиле этой изящной спальни. И, наконец, судя по окуркам, которые еще не засохли, он курил здесь не более часа тому назад… Я спрашиваю поэтому, где Кюн?
— Я могу только повторить, — ответила женщина с плохо скрываемым раздражением, — что не знаю, где находится Николай Артурович, давно его не видела, и ваши подозрения напрасны. Что же касается каких-то прикусов на окурках, то я давно не читала Конан-Дойля и не могу судить о вашем дедуктивном методе… Кажется, он называется так?
И она язвительно улыбнулась. Тогда я стал продолжать обыск. Из платяного шкафа был извлечен костюм Кюна, в карманчике которого оказалась плацкарта к железнодорожному билету на скорый поезд Москва — Ленинград. Из проколотой железнодорожным компостером даты было видно, что Кюн приехал в Ленинград два дня назад. Я предъявил плацкарту Марии Федоровне и спросил: считает ли она, что и эта плацкарта тоже относится к дедуктивному методу?
— Этот костюм, как и эта плацкарта, не имеет никакого отношения к Кюну. Они принадлежат другому мужчине, моему другу, но я не обязана его называть, поскольку речь идет об интимной жизни женщины. А теперь думайте что хотите!…
Обыск продолжался, но, кроме мужского летнего плаща, шляпы и ботинок, ничего обнаружено не было, а об этих вещах Мария Федоровна тоже сказала, что они принадлежат ее таинственному другу.
Наконец, уже в кухне, я обратил внимание на то, что большой белый кухонный шкаф закрывает одну стену, и попросил Марию Федоровну сказать, что находится за этим шкафом.
— Обыкновенная стена, — произнесла она и как-то странно взглянула на дворника, присутствовавшего в качестве понятого при обыске. Дворник, уже пожилой грузный человек в белом фартуке, отошел в сторону, сделав вид, что ничего не слышал, Я предложил моим помощникам отодвинуть шкаф, и за ним оказалась дверь, ведущая в большую темную кладовую. Мария Федоровна начала нервно покусывать губы. Я вошел в кладовую, тесно заставленную какими-то старыми креслами, сломанными стульями, шкафами. В кладовой никого не было. Но когда я подошел к одному из шкафов, то явственно услышал тяжелое дыхание. Я постучал в дверцу шкафа и сказал:
— Николай Артурович, милости просим!…
— Сейчас, — ответил басом спрятавшийся в шкафу человек и сразу вышел. Это был высокий, полный, очень румяный мужчина с козлиной бородкой и блестящей лысиной. Это был Кюн.
— Ну вот, — обратился он к Марии Федоровне, — все говорила: «Приезжай — поцелую, приезжай — поцелую», — вот и поцеловала…
Так вы, значит, и есть тот самый старший следователь, который меня ищет? — уже с любопытством, но не теряя спокойствия, поглядел он на меня. — Ах, какой молодой!… Завидую, ей-богу завидую!… Да, влип я аки кур во щи, как гласит русская поговорка… Но есть еще арабская поговорка, тоже вполне подходящая к данному случаю: «Выслушай совет женщины и поступи наоборот».
Увы, я не посчитался с арабами — и потому наказан. Не посчитался я также с мудрым Янаки, который отговаривал меня ехать в Ленинград. Этот старый плут как в воду глядел. Он так и сказал: «Николай Артурович, почему вас так тянет на место преступления? На этом погорела масса народу…»
— Значит, Янаки в Москве? — спросил я.
— Третьего дня был там. А где сегодня, не знаю… Ну, уж этого вы не поймаете, даю голову на отсечение!…
И Кюн начал одеваться. Прощаясь с Марией Федоровной, смущенно прильнувшей к нему, он сказал, улыбаясь:
— Ну, ну, Машет, майн либлинг, не надо огорчаться. Ты же все-таки действительно меня поцеловала, и ради одного этого стоило рискнуть. Потом — мне грозит максимум пять лет. Я же только давал взятки, а вовсе не получал их… Ауф видер зеен!
Кюн оказался человеком умным, отлично понимающим свое положение и не лишенным юмора. Как только я привез его в свой кабинет, он сразу, очень точно и подробно, рассказал об обстоятельствах, при которых дал взятку Тер-Аванесову, а затем свел последнего с Крафтом.
— Таким образом, неприступный Тер обошелся мне лично в тринадцать тысяч. К сожалению, мне тогда не пришло в голову, что это роковое число…
— Позвольте, почему тринадцать, Кюн? — спросил я его.
— Десять тысяч Теру и три тысячи посреднику, или, вернее, наводчику, не знаю, как его точно назвать…
— Вы имеете в виду любовника жены Тер-Аванесова? — сразу догадавшись, о чем идет речь, спросил я.
— Ну да, Жоржика, — ответил Кюн. — Я вижу, что вы не теряли время в ожидании меня. Он запросил пять тысяч, но мы сошлись на трех…
И Кюн подробно рассказал о том, как, отчаявшись «подобрать ключи» к Тер-Аванесову, он случайно узнал о том, что жена Тер-Аванесова завела себе любовника.
— Шерше ля фамм, говорят французы. Я понял, что, имею шанс подобрать ключик. Через неделю мне удалось познакомиться с этим котиком, и я понял, что имею дело не с Ромео, и не с Гамлетом, а с довольно обыкновенным прохвостом и сутенером, готовым на все. Мы провели вдвоем вечер и разработали весь сценарий: крупный проигрыш казенных денег, перспектива самоубийства и прочее.
Я не сомневался, что жена Тер-Аванесова при такой ситуации вытряхнет из мужа все его принципы. И в тот же день я пошел к Тер-Аванесову на прием. Вы знаете, глядя на его страшный вид, гражданин следователь, мне даже стало жалко, что я все это придумал… Но что поделаешь! Се ля вй, как говорят опять-таки французы, — такова жизнь!…
Я подробно записал показания Кюна и, признаться, был страшно доволен тем, что получил все законные основания для ареста подлеца и сутенера, сыгравшего такую зловещую роль в жизни Тер-Аванесова. В тот же вечер этот «Жоржик» — Георгий Михайлович Мейлон — был арестован. Как и все люди такого типа, этот подонок был очень труслив, дрожал на допросе, как в лихорадке, плакал и лгал, лгал и плакал и в конце концов признался во всем. Выяснилось, что двадцать пять тысяч рублей, полученных им в два приема от своей любовницы, он очень аккуратно положил на свой счет в сберкассу, потому что при всех своих прочих прелестях был еще феноменально жаден и скуп.
Его слащавая, подобострастная, какая-то конфетная физиономия, вкрадчивый голос, подхалимские ужимки и заверения, манера выражаться в высоком, как ему казалось, стиле, подбритые брови и подчеркнуто модный костюм вызывали чувство почти физического отвращения, и было трудно понять, как могла жена Тер-Аванесова поверить этому профессиональному сутенеру и бросить ему под ноги и свое чувство, и свою честь, и судьбу своего несчастного мужа…
Но я был доволен не только потому, что этот подлец понесет заслуженную кару, но и потому, что привлечение его к ответственности по этому делу правильно осветит и роль Тер-Аванесова и роль Кюна.
Вот почему я с большим удовольствием отправлял Мейлона в тюрьму. Мне приходилось встречать людей, совершивших более серьезные преступления. Но еще никогда до этого я не встречал более отвратительных субъектов. Я знал убийц, в которых, при всей тяжести их преступления, все-таки угадывались какие-то человеческие черты. Они должны были понести наказание за свои преступления, в которых я, в силу своего служебного долга, их изобличал, но они не вызывали того жгучего презрения и чувства отвращения, которые вызывал этот смазливый фатоватый тип, торгующий собою и способный на любую подлость. Мне приходилось встречать грабителей, которые, право, никогда не подали бы Мейлону руки, если б знали о нем то, что уже знал я. Конечно, шакал не тигр, но насколько же он противнее тигра!…
Тер-Аванесов и его роль в этом деле заслуживали презрения. Но при всем том он попал в западню, которую ему соорудили Кюн и Мейлон. И суд, естественно, учел это и сохранил Тер-Аванесову жизнь, осудив его на десять лет лишения свободы.
Словесный портрет
После того как был разыскан скрывавшийся Кюн, перед следствием оставалась последняя задача: обнаружить также скрывавшегося Христофора Янаки — крупного нэпмана, Этот проходимец, перед тем как скрыться из Ленинграда, предусмотрительно уничтожил все свои фотографии, и это, естественно, усложняло его розыск.
Со слов Кюна я знал, что Янаки находится, или во всяком случае находился, в Москве, но скрывается там под чужой фамилией. Однако, под какой именно фамилией скрывается Янаки, Кюн не знал.
Все мои попытки выяснить этот вопрос успехом не увенчались. Между тем по делу было установлено, что Янаки был одним из крупных взяткодателей и нажил нечистыми путями большие средства.
Поэтому я был очень обрадован, когда неожиданно получил данные о том, что Янаки время от времени появляется в одной из дачных местностей под Ленинградом.
Обдумывая, как дальше организовать его розыск, я решил прибегнуть к так называемому «словесному портрету». Система словесного портрета была впервые разработана в 1885 году директором Института идентификации парижской полицейской префектуры, известным французским криминалистом Альфонсом Бертильоном. В дальнейшем эта система была доработана швейцарским криминалистом Рейсом, к которому, между прочим, в 1912 году царское министерство юстиции направило на стажировку группу русских судебных следователей и криминалистов.
Под понятием «словесный портрет» криминалисты имеют в виду точное описание внешности человека (тела, головы, лица) при помощи специальной терминологии. Конечно, каждый человек, пытаясь описать внешность человека, о котором идет речь, делает это путем словесного описания его портрета. Но термины из обыденной разговорной речи, которые при этом будут им применяться, вовсе не дадут точного и четкого представления о внешности человека, словесный портрет которого надо получить. Между тем для розыска преступника очень важно точное описание его наружности.
В словесном портрете профиль человеческого лица подразделяется на три части — лобную, от линии волос до переносицы, носовую — от переносицы до основания носа, и ротовую — от основания носа до конца подбородка.
Следователь, объявляя розыск или прибегая к опознанию преступника или трупа при помощи словесного портрета, должен точно пользоваться терминами, употребляемыми для этой цели. Каждый криминалист постепенно вырабатывает в себе и развивает способность отличать и запоминать в человеке элементы словесного портрета.
Для того чтобы разработать словесный портрет Янаки, мне пришлось подробно допросить целую группу свидетелей, у которых я выяснял все его мельчайшие приметы. В результате, затратив немало труда, я разработал его словесный портрет, из которого явствовало, что Янаки имеет средний рост, с полным телосложением, овальным лицом, низким и скошенным лбом, дугообразными сросшимися рыжеватыми бровями, длинным, с горбинкой, носом, с опущенным основанием, средним ртом с толстыми губами, отвисшей нижней губой и опущенными углами рта, что у него тупой раздвоенный подбородок, большие, слегка оттопыренные уши треугольной формы, чуть запухшие зеленоватые глаза и рыжие волосы.
Я так старательно разработал словесный портрет Янаки, что ясно представлял себе его внешность, хотя никогда еще лично мне не приходилось его видеть. Именно этот словесный портрет я и разослал в установленном порядке, рассчитывая, что в результате неуловимый Янаки будет в конце концов пойман. В субботу я поехал в Сестрорецк, рассчитывая провести там и воскресный день. В те годы по воскресеньям в Сестрорецк обычно приезжало много публики, и великолепный сестрорецкий пляж в теплые летние дни был сплошь усеян купальщиками.
На следующий день в самом разгаре купанья, лежа на пляже рядом с товарищами по работе — следователем Рагинским и инспектором ЛУРа Бодуновьгм, я обратил внимание на двух молодых людей, которые медленно шли по пляжу, внимательно разглядывая отдыхающих и, видимо, кого-то разыскивая. Бодунов, очень талантливый криминалист и наблюдательный человек, тоже обратил на них внимание и сказал:
— По-моему, это ребята из транспортного отдела, и они кого-то ищут…
Через три минуты они подошли к нам, и один из них сказал:
— Товарищ Шейнин, мы приехали за вами. В отделении Детскосельского вокзала задержали по словесному портрету Янаки. Начальник просил вас приехать. У вас дома сказали, что вы в Сестрорецке, и мы приехали сюда…
Я страшно обрадовался, быстро оделся и помчался в Ленинград. На Детскосельском вокзале меня действительно поджидал начальник отделения, который с довольным видом заявил:
— Ну и дали вы нам жару!… А хитрая штука этот словесный портрет, я впервые с ним столкнулся… И мои ребята тоже о нем раньше не слыхали… Ну я, конечно, с утра собрал своих орлов, прочел им ваш словесный портрет, и начали искать этого рыжего…
— А где же Янаки? — нетерпеливо спросил я.
— Да их там уже больше десятка, — весело ответил начальник и повел меня в дежурную комнату. — Уж один из них, как факт, — Янаки, а остальные, наверно, все его братья…
Я похолодел. Начальник отделения Детскосельского вокзала, увы, действовал явно вопреки Бертильону и Рейсу.
— Поймите, — воскликнул я, запинаясь от волнения, — поймите, что по словесному портрету может быть задержан только один человек, и человеком этим должен быть только Янаки…
— Не спорю, — весело ответил жизнерадостный начальник отделения, — один из них и есть Янаки. А остальные в обиде не будут: мы их всех очень вежливо задержали, и они не в камере, а в дежурной комнате. Кто чай пьет, кто в шашки играет, кто журнальчик читает… У нас культура…
Махнув на него рукой, я опрометью бросился в дежурную комнату. Она полыхала полымем от скопления темно-рыжих, светло-рыжих, огненно-рыжих мужчин, которые в испуге метались по комнате, не понимая, что с ними стряслось. Их страх возрастал с появлением каждого нового рыжего, которого доставляли «орлы» Детскосельского отделения. Помощник начальника отделения — молодой человек в роговых очках — по-видимому, очень заинтересовавшийся «словесным портретом», действительно вежливо встречал каждого нового рыжего, но тут же, на глазах остальных, начинал внимательно измерять и разглядывать его уши, нос, линии рта и другие элементы словесного портрета, делая при этом какие-то загадочные отметки в записной книжке и что-то про себя бормоча.
Все это приобретало в глазах рыжих почти мистический характер, тем более что помощник начальника в ответ на их вопросы туманно отвечал, что «тут все дело в словесном портрете Бертильона и Рейса, скоро приедет старший следователь и разберется, а до его приезда просил бы обождать».
Никто из рыжих никогда не слышал ни о Бертильоне, ни о Рейсе, ни о словесном портрете. Никто из них не пил чай, не играл в шашки и не читал журнал. Самый пожилой из задержанных — мясник с Сенного рынка, — больше всего на свете боявшийся фининспекторов и налогов, как потом выяснилось, шепотом сказал другим:
— Все ясно — введен специальный налог на рыжих… И всем нам крышка!
— При чем тут налог, идиот? — возразил ему другой рыжий. — Нам же ясно сказали, что ждут следователя, да еще не простого, а старшего… Кроме того, этот очкастый всем измеряет носы и уши… Или вы думаете, что на разные носы будут разные налоги?
— Вы оба дети, — заскрипел третий, в прошлом биржевой маклер, — скорее всего готовится кинопостановка, и нужны рыжие персонажи… А уши и носы они измеряют для проверки кондиции…
Судя по всему, я появился в разгар спора. Рыжие окружили меня толпой и внимательно выслушали мои извинения. Я объяснил, считая это своим долгом, что произошло большое недоразумение, что мы разыскиваем одного скрывшегося преступника, тоже рыжего, но сотрудники Детскосельского отделения, к сожалению, перестарались. Проверив задержанных и установив по документам и по словесному портрету, что Янаки среди них нет, я снова извинился и сказал рыжим, что они свободны. Они врассыпную бросились на перрон вокзала, который сразу стал напоминать знаменитую картину Левитана «Золотая осень». И только один из них задержался, сделал мне таинственный знак и, отойдя со мной в сторону, тихо сказал:
— Тут трое рыжих дураков придумывали разные небылицы, но я внимательно следил за тем, какие носы и уши интересуют этого помощника начальника отделения. И даю голову на отсечение, что именно такой нос и такие уши носит Янаки… Я его знаю. Но в Ленинграде Янаки теперь нет. Говорят, он в Москве. Между прочим, он очень любит оперетту. Вот все, чем я, как рыжий, считаю себя обязанным вам помочь. Будьте здоровы, товарищ старший следователь!…
И он удалился с видом человека, выполнившего свой гражданский долг.
Оставшись наедине с начальником отделения, я откровенно высказал ему все, что думаю о нем и о его «орлах». Смущенный начальник извинялся и что-то лепетал насчет того, что с завтрашнего дня начнет изучать криминалистику и займется «освоением словесного портрета». И действительно, через месяц он пришел ко мне и доложил наизусть историю словесного портрета, его терминологию, схему и методологию разработки. Он цитировал Бертильона и Рейса, Вейнгардта и Якимова, а в заключение сказал:
— Теперь стоит мне закрыть глаза, как я ясно вижу лицо этого проклятого Янаки, из-за которого так опозорился… Я уж не говорю о том, что огреб за этих рыжих строгий выговор от начальства. А Бертильон — что ни говори — башка!… Здорово придумал этот словесный портрет!…
А на следующий день, после того как начальник отделения Детскосельского вокзала продемонстрировал свои успехи в освоении криминалистики, в областной суд на мое имя поступило письмо от самого… Янаки. Вот что он писал:
«Уважаемый старший следователь Шейнин!.
Оказывается, вы жаждете меня видеть. Я не могу сказать это про себя, а любовь счастлива только тогда, когда она взаимна. Я очень смеялся, когда мне сказали, как вы меня ищете по какому-то дурацкому словесному портрету, придуманному каким-то профессором Рейсом. Наплевал я и на этого профессора и на его словесный портрет. Адью!… Янаки».
Я разозлился не на шутку. Мало того, что жулик-нэпман скрывается от следствия и суда, но он еще при этом издевается над криминалистикой!…
Показав областному прокурору этот любопытный документ и обратив его внимание на то, что письмо отправлено из Москвы, я поставил вопрос о своем выезде в Москву. Я еще сам не знал, что буду предпринимать для розысков Янаки, но заранее рассчитывал на помощь своих старых друзей из МУРа. Областной прокурор, которого тоже разозлило это письмо, разрешил мне выехать.
Через день я уже сидел в МУРе в кабинете Осипова и рассказывал ему, Тыльнеру, Ножницкому и другим работникам обо всем, что произошло со словесным портретом Янаки. Потом я показал им его письмо. Осипов побагровел от возмущения.
— Ребята, — сказал он, обращаясь к своим помощникам, — неужели мы позволим, чтоб какой-то паршивый нэпман, взяточник и спекулянт, насмехался над криминалистикой и правосудием? Что будем делать, ребята?
— Как что делать? — спросил неизменно спокойный, корректный и уверенный Тыльнер. — Есть словесный его портрет — во-первых. Есть данные, что Янаки, как, впрочем, и все нэпманы, любит оперетку. Значит, надо пошуровать в «Аквариуме» и «Эрмитаже» — во-вторых. Наконец, Янаки — торговец мебелью. Значит, у него не может не быть приятелей среди московских мебельщиков. Надо поработать и здесь — в-третьих. Поскольку это дело приобретает уже принципиальный характер, я думаю, что наша группа, Николай Филиппович, независимо от общего розыска Янаки, должна принять участие в этом благородном деле — в-четвертых…
— Я такого же мнения, — как всегда тихо сказал Ножницкий, очень тактичный и добрый человек, страстный собачник и любитель книг. — Придется по вечерам бывать в оперетте… Будем по очереди… слушать «Сильву» и «Летучую мышь», ничего не поделаешь…
— Заметано, — коротко заключил Осипов и встал, давая этим понять, что совещание закончено. — Николай Леонтьевич, что сегодня в «Аквариуме»?
Ножницкий взял газету и, посмотрев объявления, сказал, что сегодня идет «Сильва» с участием Татьяны Бах, Бравина и Ярона.
В тот же вечер я и Осипов были в летнем саду «Аквариум», где шла «Сильва». Мы сидели в третьем ряду с правой стороны. Несколькими рядами позади сидели работники Осипова: Яша Саксаганский — худощавый молодой грузин с черными усиками, считавшийся одним из лучших специалистов по словесному портрету, и Вани Безруков — всегда улыбающийся, веселый, с лукавыми серыми глазами, которые, как говорили в МУРе, хорошо видели не только то, что находится впереди него, но и то, что находится сзади.
Уже в первом антракте, когда мы с Осиповым медленно прохаживались среди тощих лип «Аквариума», к нам подошел Саксаганский и сказал:
— Значит, картина такая: сегодня «Сильву» смотрят двенадцать рыжих. У двух подходят уши, но не годятся носы. У трех как раз те носы, какие нам нужны, но совсем не те уши. С отвислой губой обстоит совсем плохо — отвисает губа только у одного рыжего, но и то не так, чтобы очень… Тем более что я «срисовывал» его в тот момент, когда он держал в зубах трубку, а при этом почти у всех губа отвисает…
Услыхав это сообщение, я вздрогнул и мгновенно вспомнил дежурную комнату Детскосельского вокзала. Но я напрасно волновался, потому что имел дело с Осиповым, что и не замедлило сказаться.
— Яша, — перебил Саксаганского Николай Филиппович, — ваш доклад напоминает мне невесту из «Женитьбы» Гоголя. Эта дура тоже мечтала о том, чтобы нос одного жениха соединить с губами другого. Меня не интересует произведенная вами инвентаризация носов, товарищ Саксаганский. Меня занимает только один нос, и то при условии, что он принадлежит именно Христофору Янаки. Я спрашиваю: этот нос сегодня в наличии или нет?
— Николай Филиппович, — ответил Саксаганский. — Ко второму антракту я внесу ясность в этот наболевший вопрос.
— Проверьте второй ряд слева, — сказал Осипов. — Мы сидим далеко оттуда, но мне показалось, что там есть одна фигура, которая… Одним словом, поинтересуйтесь, между прочим, и вторым рядом, Яша.
Нужно ли говорить о том, что во втором действии я не столько смотрел на сцену, сколько на левую сторону второго ряда, где действительно между отполированной, как бильярдный шар, лысиной — с одной стороны, и пышной затейливой дамской прической — с другой, и впрямь пламенела чья-то огненно-рыжая голова. Из-за дальности расстояния я не мог хорошо разглядеть уши, нос и рот этого человека. Но зато я видел, как исполнительный Яша Саксаганский дважды прошелся мимо второго ряда, придерживая рукою щеку, как человек, у которого внезапно разболелся зуб.
Во втором действии, когда Эдвин и Сильва, обнявшись, начали свой знаменитый дуэт, в котором, как известно, выясняется актуальный вопрос: «помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» — таковое в действительности улыбнулось мне, потому что в этот момент в проходе, у которого мы сидели, неслышно появился Яша Саксаганский и, горячо дыша мне в ухо, прошептал:
— Сдается что в шестом ряду сидит Янаки… Правда, есть одно несоответствие с данными словесного портрета, но во всем прочем подходит… Если выяснится, что это не Янаки, — завтра подам рапорт об увольнении из МУРа… В антракте я вам покажу этого человека…
Я тут же передал Осипову слова Саксаганского. Ни на мгновение не меняясь в лице и продолжая покачивать головой в такт музыке с видом меломана, Осипов тихо ответил:
— Скорее всего Саксаганский горячится. А впрочем, все может быть… В антракте проверим…
В антракте Осипов взял меня под руку, и мы стали медленно кружить по ярко освещенным дорожкам сада среди нарядной, оживленной публики. Это была специфическая публика московского «Аквариума» тех лет. Мимо нас плыли пышные красавицы в летних манто с песцовыми и собольими накидками. На их матовых, густо напудренных лицах призывно мерцали подведенные глаза и пылали неистово накрашенные губы. Краснолицые бакалейщики и рыбники с Зацепы чинно вели под руки своих грудастых, круглолицых жен в шелковых цветастых персидских шалях, длинная бахрома которых со свистом подметала дорожки. Пожилые, солидные мануфактуристы с Никольской и Петровки поблескивали модными пенсне и золотыми зубами. Молодые пижоны в коротеньких узеньких брючках и кургузых, по тогдашней моде, клетчатых пиджачках стаями гонялись за манерными девицами, стриженными под мальчишек, с вызывающими челками на узеньких лобиках.
И вдруг яувидел жгучего брюнета, медленно шагавшего рядом с роскошной блондинкой в белом манто с голубым песцом, небрежно переброшенным через руку, лицо его показалось мне чем-то знакомым, хотя я мог дать голову на отсечение, что никогда раньше не встречал этого человека.
Я поглядел на крашеные волосы его дамы, отличавшиеся тем мертвым оттенком, который дает применение пергидроля, и вдруг понял, чем мне знакомо лицо этого жгучего брюнета: его мясистый горбатый нос, низкий скошенный лоб, густые сросшиеся брови, раздвоенный тупой подбородок, красные треугольные уши — все это были элементы словесного портрета Янаки!…
Заметив, что брюнет курит, я бросился к нему и попросил разрешения прикурить. Он медленно достал спички и зажег одну из них. Я посмотрел на его руки, и сердце у меня забилось — они поросли густым рыжим пухом и были усеяны веснушками. Тогда я поднял глаза на его лицо и увидел зеленоватые запухшие глаза и рыжие ресницы. Да, это был Янаки, но он был перекрашен!…
Отойдя от него, я увидел Яшу Саксаганского, стоявшего вблизи с самым рассеянным видом и таким выражением лица, как будто его вовсе не интересуют ни Янаки, ни летний сад «Аквариум», ни оперетта «Сильва», ни вопрос о том, будет ли он завтра подавать рапорт об увольнении.
Саксаганский подошел ко мне и тихо шепнул:
— Ну, я счастлив, что и вы заметили этого перекрашенного индюка. Или я ишак, или это Янаки!…
Милый, бедный Яша Саксаганский! Через несколько лет он умер от чахотки, и за его гробом, который вынесли из маленькой, скромной холостяцкой комнаты (зная, что у него туберкулез, Яша не считал себя вправе жениться), шли в искреннем горе его товарищи по работе, нежно любившие этого храброго, чистого, доброго и горячего человека, беззаветно служившего их общему и такому нелегкому делу и любившего его до последнего своего вздоха…
Еще раз поглядев на «черное издание» Янаки, я шепнул Осипову, что, по-моему, Саксаганский прав. Я обратил внимание и на то, что черные волосы Янаки имеют какой-то странный фиолетовый оттенок.
— Возможно, — с напускным равнодушием протянул Осипов и еще крепче взял меня под руку. — Очень возможно, что этот прохвост перекрасил волосы и потому так нахально держится. Но это еще надо проверить, потому что лавры начальника Детскосельского отделения мне ни к чему. Но если это действительно Янаки и если мы его «накололи» в первый же вечер, то я начинаю верить в загробную жизнь и в то, что старики Бертильон и Рейс сговорились на том свете помочь нам поймать Янаки, чтоб он не издевался над их словесным портретом.
После третьего звонка я и Осипов уже не сидели на своих местах, а стояли у стены, недалеко от шестого ряда, где находился этот подозрительный брюнет. Перед этим Осипов сходил за кулисы и, вернувшись оттуда с очень довольным лицом, таинственно прошептал, что сейчас будет произведен «забавный психологический эксперимент».
Оказалось, что мой хитроумный приятель решил произвести эту проверку при помощи той же оперетты «Сильва», как это ни покажется странным на первый взгляд. Зная, что в оперетте допускаются всякого рода актерские отсебятины, Осипов уговорил актеров в той сцене, где, к ужасу отца Эдвина, выясняется, что мадам Волапюк была в молодости певицей варьете и ее называли «Соловей», добавить, что она, кроме того, была дочерью мебельного торговца Янаки.
Публика, конечно, не обратила на эту подробность никакого внимания, но жгучий брюнет, сидевший в шестом ряду, нервно вздрогнул и, видимо решив, что это ему померещилось, наклонился к своей даме, явно спрашивая ее, какую фамилию произнесли на сцене.
— Он! — со вздохом облегчения шепнул мне Осипов. — Золото этот Яша Саксаганский… И ты молодец — хорошо разработал словесный портрет Янаки. Пошли, дружище, мы будем его приветствовать у выхода…
И через час задержанный нами Янаки уже находился в кабинете Осипова и не мог прийти в себя от удивления, что его все-таки поймали благодаря словесному портрету и несмотря на то, что он перекрасил себе волосы.
— Ну, Янаки, — спросил его Осипов, — надеюсь, теперь вам ясно, что профессор Рейс был гораздо умнее вас и что жулики не должны плевать на такую великую науку, как криминалистика?
— Гражданин инспектор, — уныло ответил Янаки, — к несчастью, я это понял слишком поздно. Мое письмо было выходкой нахала, и я прошу занести это в протокол. Еще в детстве покойный папаша мне говорил: «Христофор, ты не уважаешь науку, и это не кончится добром». Объясните мне, гражданин инспектор, как мог родиться у такого мудрого отца такой глупый сын, и как мог у такого идиота, как я, быть такой отец? Где же законы наследственности, я вас спрашиваю, как объясняют такие странные явления природы криминалистика и глубоко отныне мною уважаемый профессор Рейс?
— Я готов вернуться к этим законным вопросам, — ответил Осипов, — но после того как вы, Янаки, отбудете наказание за свои преступления и за свое нахальство. А теперь, выражаясь вашим стилем, адью!…
Так был реабилитирован словесный портрет Бертильона и Рейса.
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА ГРОВЕРА
Колхозники деревни Глухово, Старицкого района, Калининской области, вероятно, и теперь еще помнят тот удивительный случай, когда 13 ноября 1938 года, уже на исходе дня, из облаков внезапно вынырнул и сел прямо на колхозное поле очень маленький, ярко раскрашенный иностранный самолет, из которого вылез пилот и, обратившись к колхозникам, окружившим машину, сказал по-русски, но с сильным иностранным акцентом:
— О, здравствуйте!… Я англичанин, да, и я прилетел к вам из Лондона… Я прилетел за своей русской невестой, да…
— Будет врать-то! — сердито закричала бригадирша тетя Саша, сын которой командовал авиационной эскадрильей. — На этакой стрекозе да прямо из Лондона!… Ишь какой ловкий!… Чай, мы тоже в авиации смыслим не хуже других… А ну, пошли, жених, в сельсовет, там разберутся… Своих, видишь, девок им не хватает, так за нашими прилетел!…
По сообщению сельсовета на место прибыли представители следственных органов, которым неизвестный подтвердил, что он английский инженер-нефтяник Брайян Монтегю Гровер; работал раньше в Грозном и Москве и теперь прилетел из Лондона через Стокгольм, совершив на своей авиетке беспосадочный перелет Стокгольм — колхоз деревни Глухово. Гровер добавил, что в СССР он прилетел без надлежащей визы, к женщине, которую давно любит и без которой не хочет и не может жить.
На следующий день Гровер был доставлен в Москву, и, сидя перед столом следователя, подробно рассказывал о причинах своего перелета. Это был светлый высокий блондин с серыми, очень прямо глядящими на мир глазами. И он начал с того, что он, Брайян Монтегю Гровер, уроженец города Фолгстона, тридцати семи лет, должен прямо заявить, что, прежде чем вылететь в Советский Союз без визы, он выяснил, что это предусмотрено советским уголовным кодексом, но иначе он, Брайян Гровер, к сожалению, поступить не мог.
— О, я знаю, что есть такая статья нумер пятьдесят девять три «дэ»; я выучил эту статью наизусть и готов по ней отвечать. Я знаю, да, что по эта статья я могу иметь приговор на десять лет, да. Но английский юрист мне сказал, что в Советская Россия есть еще одна статья, нумер пятьдесят один, и что эта вторая статья может смягчить первая, да… Я думаю, господин следователь, что эта вторая статья как нельзя лучше подойдет для Брайян Гровер…
Гровер сравнительно свободно изъяснялся по-русски, хотя иногда и путал падежи и склонения. У него было милое тонкое лицо, четко вырезанный упрямый рот, крупные, крепкие зубы. Слушая его неспешный, спокойный рассказ, следователь с каждой минутой начинал все больше ему верить, хотя и задавал по обязанности контрольные вопросы, ибо как-никак перед ним был человек, нарушивший государственную границу. Самым подкупающим в поведении Гровера было то, что он считал правильным свой арест и внутренне был готов и к тому, что «вторая статья не подойдет для Брайян Гровер».
Вот что он рассказал об истории своей любви.
В начале тридцатых годов, будучи молодым, но знающим инженером и оказавшись на родине без работы, он принял предложение поехать в качестве иноспециалиста в Грозный. Гровера манили и перспективы неплохого заработка, и интересная работа, и, наконец, эта загадочная и совсем ему не известная «Совьет Раша» — Советская Россия, о которой он слышал и читал самые противоречивые и туманные суждения.
И вот он в Москве, в отеле «Метрополь», среди французов и немцев, американцев и шведов, бельгийцев и англичан. Кого только не было среди этих людей!… Коммерсанты и туристы, разного рода специалисты и дипломаты, специальные корреспонденты и профессиональные разведчики, — люди разных возрастов, профессий, политических взглядов.
Одни не скрывали своего враждебного отношения к этой стране и посмеивались над советскими пятилетками. Другие, напротив, признавали, что большевики, что там ни говори, осуществляют свои планы, хотя и непонятно, на какие средства, каким образом и какими руками. Третьи с уважением отзывались об усилиях народа, решившего в поразительно короткие сроки преодолеть промышленную отсталость своей необъятной страны.
Гровер знакомился с этими людьми, слушал их споры, потом выходил на московские улицы, дивился храму Василия Блаженного и простору Красной площади, башням и стенам древнего Кремля, кривым арбатским переулкам с их булыжными мостовыми и извозчиками на перекрестках, и милым открытым лицам московских женщин, не очень хорошо тогда одетых, но приметных своей особенной русской статью.
Гровер встречал на улицах комсомольцев с кимовскими значками, — и, право, это были довольно славные и вполне воспитанные ребята, никто из них на него не рычал, не вербовал его в «агенты Коминтерна», не подговаривал похитить британскую корону или взорвать Вестминстерское аббатство. Напротив, они охотно отвечали на вопросы иностранца, как пройти на ту или иную улицу, а нередко с самой при-ветливой улыбкой провожали его туда.
Незаметно для Брайяна Гровера ему начинали все больше нравиться и эта страна, и этот древний город, и этот народ.
Когда же он приехал в Грозный и стал там работать, его встретили так тепло и гостеприимно, что уже через несколько месяцев ему казалось, что он живет здесь много, много лет и потому приобрел так много друзей. Это чувство особенно окрепло после того, как Гровер познакомился с Еленой Петровной Голиус, работавшей фармацевтом в одной из грозненских аптек. Ему сразу понравилась эта тихая темноглазая миловидная женщина с чуть лукавой улыбкой и ясным, чистым взглядом человека, которому нечего скрывать и не за что краснеть.
Елена Петровна немного говорила по-английски, но у нее страдало произношение. Гровер взялся его исправлять, она же, по его просьбе, стала обучать его русскому языку. Оба делали успехи.
Через год Гровер болтал немного по-русски, а произношение Елены Петровны заметно улучшилось. Но еще заметнее улучшились их отношения. Отец Елены Петровны, тоже фармацевт, уже стал тревожно перешептываться с супругой касательно того, что «этот длинноногий чересчур часто гуляет с их дочерью по вечерам».
Мать Елены Петровны защищала дочь и робко говорила, что Брайян Монтегюевич милый человек, на что старый аптекарь отвечал сердитым кашлем и не лишенным логики утверждением, что «в СССР и своих женихов достаточно», а он не для того растил дочь, чтобы она погибла от чахотки в Лондоне.
На вопрос жены, почему же Леночка должна обязательно заболеть чахоткой, живут же в Лондоне несколько миллионов человек и далеко не все чахоточные, — старик разъяснял, что англичане привыкли к своему климату, а нашим стоит туда попасть — чахотки не миновать.
— А еще учти, — добавлял старик, — что молодым для любви и одного языка хватает, вспомни хоть нас с тобой, а у них уже два языка в обращении… Не кончится это добром…
Могла ли прийти в голову родителям Леночки мысль, что в эти самые дни далеко от Грозного, за двумя морями, в туманном Лондоне другое материнское сердце тоже сжималось от тревоги и почтенная миссис Гровер, читая письма своего сына из Грозного, не без волнения отмечала, что в них все чаще упоминается имя Елена…
А когда миссис Гровер получила в одном из писем и фотографию, где ее сын был снят рядом с какой-то молодой женщиной, на плечи которой был накинут его пиджак, она долго разглядывала фотографию, ревнуя своего сына к этой неизвестной женщине, как ревнуют своих сыновей все матери на свете — русские и англичанки, крестьянки и горожанки, независимо от цвета кожи и звезд, под которыми они живут. А после этого миссис Гровер удивила свою библиотекаршу, у которой уже много лет брала книги, тем, что вдруг начала читать исключительно русских писателей. Увы, это не очень успокоило ее: Анна Каренина изменила своему мужу, хотя он был несомненным джентльменом в самом высоком смысле этого слова, и вдобавок бросилась под поезд.
Шолоховская Аксинья тоже ушла от мужа и притом не дала счастья и своему Григорию. Вера из «Обрыва» почему-то отвергла любовь такого достойного человека, как мистер Райский, и отдала свое сердце более чем подозрительному Волохову. И, наконец, даже пушкинская Татьяна допустила такой немыслимый шокинг, что первая и, видит бог, без всякого повода со стороны мистера Онегина написала ему любовное письмо, чем и поставила этого милого молодого человека в довольно неловкое положение…
Ах эта загадочная Россия! Ах эти русские женщины, которым, при всей непонятности их поступков, все-таки не откажешь в каком-то особом, удивительном обаянии!…
— После Грозного, господин следователь, я был переведен по работе в Московский нефтяной институт, и Елена тоже переехала в Москву. Потом, в 1934 году, мой контракт кончился, и я уехал в Лондон. Я хотел снова приехать в Россия, но не было нового контракта, и я не имел виза, да… Но я видел, что без Елена я, Брайян Гро вер, жить не могу…
И Гровер решил прилететь за любимой. Он записался в лондонский аэроклуб и в несколько месяцев овладел техникой пилотирования. Накопив немного денег, Гровер приобрел подержанную авиетку за сто семьдесят три фунта и 3 ноября 1938 года с аэродрома Броксборн вылетел в СССР. Он летел через Амстердам — Бремен — Гамбург — Стокгольм. Из Стокгольма он взял курс на Москву и совершил беспосадочный перелет Стокгольм — деревня Глухово.
Сообщения об этом удивительном происшествии появились почти во всех газетах мира. Я вспоминаю наиболее характерные заголовки газетных статей того времени:
«Самое романтическое дело XX века», «На крыльях любви», «Любовь англичанина способна на чудеса», «Даже пространство дрогнуло перед любовью».
23 ноября английские газеты сообщили, что консерватор Кейзер намерен сделать в палате общин запрос Чемберлену по этому делу. 28 ноября агентство Рейтер уведомило человечество, что этот запрос сделан и что сэр Чемберлен заверил палату, что английский поверенный в делах в Москве запросил советские власти по этому вопросу.
Газета «Дейли телеграф энд Морнинг пост» писала, что «Гровер предпринял опасный полет, очевидно, из Стокгольма в тяжелых климатических условиях».
Гитлеровская пресса в те же дни стала печатать сенсационные статьи о том, что Гроверу угрожает смертная казнь, «ибо коммунисты не в состоянии понять, что такое любовь. Разве мы не знаем, что в СССР любят только по путевкам, которые выдают так называемые месткомы? Как могут там понять Гровера и его поистине шекспировское чувство? Нет, красная Москва — это не убежище для современных Ромео и Джульетт!…»
В противовес таким зловещим предсказаниям один британский юрист писал по этому же поводу:
«Да, Москва имеет правовые основания для того, чтобы осудить Брайяна Гровера. Любовь и закон — какая старая и вечно новая проблема!… Статья советского уголовного кодекса — и живое, трепещущее, горячее и столь любящее сердце!… Не дрогнет ли при виде этого трагического конфликта и сердце самого холодного судьи?… Мы далеки от мысли, что суд над Гровером превратится в расправу, и с оптимизмом ожидаем этого суда…»
Между тем для окончательной проверки показаний Гровера была допрошена Елена Петровна, полностью подтвердившая его рассказ. После этого ей было объявлено, что он прилетел в СССР и она сейчас получит с ним свидание. Когда Гровер узнал, что через несколько минут он увидит свою Елену, его обычно спокойное лицо заметно побледнело. Закусив нижнюю губу, он сразу закурил и заметно побледнел. Оставив его со своим помощником, следователь вышел в другую комнату, где ожидала Елена Петровна, и возвратился вместе с нею.
Гровер бросился к ней, и они обнялись. Они смеялись и что-то шептали друг другу, опять смеялись сквозь слезы и снова начинали что-то шептать.
И если еще оставался в этом деле хоть один вопрос, до конца не выясненный следствием, то это был именно вопрос о том, что же шептал своей Елене Брайян Гровер.
Шептал ли он ей о том, как в то хмурое ноябрьское утро он оторвался от аэродрома Броксборн и потом, добравшись до Стокгольма, летел оттуда над свинцовой и штормовой Балтикой, взяв курс на Москву? О том, как проплывали под крыльями его маленькой машины огромные пространства и как она трещала под сильными порывами ноябрьского ветра, а он все летел и летел, вцепившись в штурвал своего самолета, летел, как на маяк, на свет ее карих глаз, единственных для него в мире, единственных и неповторимых, как жизнь, как счастье, как любовь?
А может быть, он шептал о том, как измучился в ожидании этой встречи, и, что бы там дальше ни было, счастлив уже тем, что вот сидит сейчас с нею рядом и держит ее маленькую руку? Или о том, что его мать просила поцеловать Елену и сказать ей, что старая английская женщина благодарит эту русскую молодую женщину за то, что она подарила ее сыну такую любовь, поздравляет ее с этой любовью и даже немного по-женски завидует ей? Или о том, что хотя они и родились под разными звездами и свое первое слово «мама» пролепетали на разных языках, но это не помешало им найти единый язык?…
А потом, 31 декабря 1938 года, московский городской суд рассматривал это дело. Почти весь состав английского посольства приехал в суд, чтобы присутствовать при рассмотрении дела «по обвинению Брайяна Монтегю Гровера, гражданина Великобритании, 1901 года рождения, уроженца г. Фолгстона, в преступлении, предусмотренном статьей 59-3д уголовного кодекса РСФСР». Приехали дипломаты с моноклями и их дамы с золотыми лорнетами, английские и американские корреспонденты и чинные атташе.
Небольшой скромный зал, в котором слушалось дело, еще никогда не видал такой публики. У подъезда городского суда сверкали дипломатические роллс-ройсы и бьюики.
Председатель суда, белокурый светлоглазый человек с добродушным лицом, и две женщины — народные заседатели: пожилая ткачиха с Трехгорки и молоденькая работница с Электрозавода, обе в красных косынках, вышли из совещательной комнаты и сели за судейский, крытый красным сукном стол. Публика почтительно затихла, с любопытством разглядывая судей, и этот маленький зал, и портрет Ленина над судейским столом, и всю простую и строгую обстановку суда.
Да, не было в этом суде ни статуи Фемиды с весами, ни распятий, ни мраморных колонн, ни полицейских в парадных мундирах, ни пышных эмблем правосудия. Не было на судьях ни черных шелковых мантий с белыми испанскими, туго накрахмаленными воротниками, ни золотых цепей, ни средневековых париков. Не было в этом суде ни знаменитых присяжных поверенных с холеными лицами и в черных фраках с белыми пластронами, ни ядовитого прокурора с ехидными вопросами и неприступным профилем, ни строгих судебных приставов, ни кокетливых стенографисток с модными прическами — не было!…
Но были в этом скромном судебном зальце, в серьезных и вдумчивых глазах судей, в их открытых и доброжелательных лицах простых и чистых людей, — были во всем этом, как и в простой, под стать судьям, лишенной театральной торжественности судебной процедуре те удивительные и никогда ранее этой публикой не виданные черты, которые невольно внушали уважение и веру и очень ясно отвечали на вопрос — почему этот суд, впервые в человеческой истории, получил право величаться народным…
— Судебное заседание объявляю открытым, — тихо произнес председатель суда. — По желанию подсудимого, его защищает член московской коллегии защитников адвокат Коммодов…
А через три часа, внимательно выслушав подсудимого и его защитника, суд удалился на совещание. Зал гудел. А Брайян Гровер, только что рассказавший этим советским судьям, как он полюбил русскую женщину, и как она полюбила его, и как он из-за этой любви незаконно прилетел в СССР, сказал им в своем последнем слове:
— Я рассказал вам, господа судьи, всю правду. Свое последнее слово я хочу говорить по-русски, хотя имею переводчик, — хочу потому, что полюбил ваша страна, ваш народ, как полюбил своя Елена. Я несколько лет прожил в Россия, работал вместе с русскими и вместе с ними отдыхал.
В океане вашего огромного труда есть и моя маленькая капля, и Брайян Гровер позволит себе сказать, что он этим горд… Да, я жил и работал с русскими, с ними вместе смеялся и пел, и я считаю для себя честью породниться с этим народом… Брайян Гровер кончил, господа судьи.
И вот судьи совещаются, а зал гудит. И Гровер сидит в ожидании приговора и думает о том, что ему не страшно, что его могли не понять эти простые русские люди, решающие теперь его судьбу, и что если бы все вопросы в мире решались вот такими простыми английскими, русскими, американскими, немецкими людьми, то вообще никому и никогда не было бы страшно…
Потом раздался звонок и судьи вышли из совещательной комнаты. Председатель огласил приговор. Да, Брайян Гровер нарушил советскую границу и незаконно прилетел в СССР. Да, его действия предусмотрены статьей 59-3д уголовного кодекса Республики, и суд признает его виновным.
— Однако суд, — продолжал председатель, — не может пройти мимо мотивов, по которым подсудимый совершил это преступление. Суд считает установленным, что подсудимый искренне и горячо полюбил советскую женщину, ответившую ему взаимностью. Их чувство выдержало испытание временем и разлукой и потому заслуживает уважения. Это чувство и явилось причиной, по которой подсудимый прилетел в СССР. Поэтому, руководствуясь статьей пятьдесят первой уголовного кодекса, суд приговаривает Брайяна Гровера к одному месяцу тюремного заключения с заменой штрафом в размере полутора тысяч рублей.
Громом аплодисментов встретил судебный зал этот приговор. И в вечер того же дня приговору московского городского суда аплодировала вся Англия, услыхав о нем по радио.
Через три дня Гровер и его жена Елена Петровна, также получившая соответствующую визу, уехали в Лондон.
Снова зашумели газеты, «Дейли телеграф энд Морнинг пост» 6 января 1939 года писала: «Мораль всей этой истории такова: советская власть может быть очень человечной». Эта же газета напечатала заявление Гровера после его приезда в Лондон, в котором тот писал:
«Судебный процесс, назначенный ввиду моего незаконного перелета через границу СССР, происходил в условиях полной откровенности и справедливости».
Так кончилось это дело. Семнадцать лет прошло с тех пор. Мне ничего не известно о судьбе мистера Гровера, его жены и даже, может быть, их детей. Но я хорошо помню их лица, их встречу, их взволнованный и счастливый шепот, всю историю их любви.
Мне остается добавить, как криминалисту, что любовь этих двух людей, будучи уже установлена судебным приговором, вступившим в законную силу, поскольку подсудимый его не кассировал, должна тем самым рассматриваться как доказанная бесспорно, окончательно и навсегда…
Вот почему я от всего сердца желаю счастья и мистеру Брайяну Монтегю Гроверу, и его жене, и их детям, которые, принимая во внимание настойчивость и добрую волю обеих сторон, не могут у них не быть.
Вот почему, наконец, ошибочно весьма распространенное мнение, что криминалистам будто бы суждено сталкиваться только с отрицательными явлениями жизни.
Честное слово, это совсем, совсем не так!…
БРЕГЕТ ЭДУАРДА ЭРРИО
Когда телеграф принёс скорбную весть о смерти Эдуарда Эррио, нашего старого французского друга, мне вспомнилось одно давнее происшествие, косвенно связанное с первым приездом в СССР этого замечательного человека.
Трезвый политик и честный человек, виднейший государственный деятель, Эдуард Эррио всегда был сторонником франко-советской дружбы, для которой он так много сделал и за которую так долго и горячо боролся…
Эррио понял гораздо раньше, чем многие другие политические деятели Европы, что возникновение нового государства рабочих и крестьян — исторический факт, что уже никакие силы на свете не повернут историю вспять, что франко-русские симпатии имеют свои многолетние и прочные корни и что Франция так же заинтересована в дружбе с Советским Союзом, как Советский Союз в дружбе с Францией.
В 1922 году он впервые посетил Советский Союз. Политика изоляции СССР тогда ещё была в самом разгаре, совсем недавно закончилась гражданская война, молодая Советская республика только-только отбилась от бешеных атак иностранных интервентов и белогвардейских полчищ.
Вернувшись после этой поездки в Париж, Эррио начал горячо выступать за признание Советского Союза и установление дипломатических отношений к ним. В 1924 году Эррио стал главой французского правительства, которое установило дипломатические отношения с нашей страной, объявив, что сделало этот шаг, будучи верным дружбе, объединяющей русский и французский народы.
Жизнь подтвердила мудрость этой политики, и через тридцать с лишним лет, уже в 1955 году, Эдуард Эррио заявил: “Я никогда не сожалел об этом решении, принятом мною в 1924 году… Я повторяю: никогда я не жалел о своей инициативе, выступив за восстановление нормальных отношений с Советским Союзом”.
Перед началом второй мировой войны Эррио, со свойственной ему дальновидностью мудрого политика, понял, какую страшную угрозу для Франции и для всей Европы представляет восстановление германского милитаризма. Он делал всё, чтобы спасти мир и предотвратить катастрофу. Настойчиво и терпеливо он предупреждал свой народ и народы других стран Европы, выступал письменно и устно, разоблачая чудовищные замыслы фашизма и борясь с его пятой колонной в самой Франции…
К несчастью, те, которые ему верили, не имели власти, а те, которые её имели, не хотели ему верить!…
Враги Франции были врагами Эррио. Как только гитлеровцы в 1940 году оккупировали Францию, Эдуард Эррио был арестован и заключён в концлагерь.
Но друзья Франции были друзьями Эррио. Его спасли и освободили советские солдаты, как они спасли и освободили сотни тысяч других французов, англичан, американцев, бельгийцев, немцев, поляков, чехов, венгров и румын.
До последнего дня своей жизни Эдуард Эррио продолжал бороться за мир, против восстановления германского милитаризма, против поджигателей войны, против создания так называемой европейской армии. Опять зазвучал его голос, и опять он срывал маски с лицемеров, опять предупреждал свой народ.
Незадолго до смерти Эррио советский офицер, участвовавший в его освобождении из фашистского концлагеря, послал ему из Свердловска письмо, в котором писал: “Вы опять поднялись на борьбу. Вашу борьбу за прочный мир, за дружбу народов, против возрождения германского милитаризма весь советский народ считает воистину героической… Разве не героизмом была Ваша речь в Национальном собрании Франции против создания европейской армии, которую Вы произнесли, будучи тяжело больным!”
В том самом 1924 году, когда Эдуард Эррио установил дипломатические отношения с СССР, я, будучи ещё комсомольцем и совсем начинающим молодым следователем, приехал в служебную командировку в Ленинград. Тогда мне и рассказали ленинградские товарищи об одном происшествии, случившемся в Ленинграде, когда Эррио впервые приехал в Советский Союз. Об этом забавном происшествии мне и хочется написать, тем более что оно было одним из первых фактов, давших мне понять, какой благодарный отклик иногда встречает даже в душе уголовника оказанное ему доверие…
Приехав, я, как положено, представился начальнику следственной части губернского суда Зальманову, работавшему в качестве судебного следователя ещё до революции в петроградской судебной палате. Это был высокий, сухощавый, седой старик, неизменно корректный, суховатый, немногословный, со строгими манерами и хорошей, чисто мужской сдержанностью отлично воспитанного человека.
Он встретил меня очень любезно, ничем не выдав своего удивления по поводу моего возраста, слишком юного для следователя (мне только минуло восемнадцать), и выделил мне кабинет для работы.
Вечером Зальманов представил меня старшим следователям губернского суда. Среди них были, например, такие выдающиеся криминалисты, как Игельстром, который как раз в это время вёл следствие по делу известного провокатора, “злого гения “Народной воли”, Ивана Складского; или Невский, являвшийся в те годы едва ли не лучшим следователем по сложным хозяйственным делам; или Никольский, неизменно улыбающийся, добродушный розоволицый человек, весьма успешно разбирающийся в самых кровавых делах об убийствах, в раскрытии которых он специализировался. По делам этой категории у Никольского был лишь один конкурент — народный следователь Бродский, пришедший на следственную работу в первые годы революции и сразу зарекомендовавший себя как талантливый криминалист.
Из более молодых следователей мне особенно пришёлся по душе Васильев, работавший главным образом по чисто уголовным делам. Это был невысокий худощавый человек лет за тридцать, с тихим голосом и нездоровым чахоточным румянцем.
Дня через три после моего приезда Зальманов и Васильев порадовали меня сообщением, что в губернский суд приедет вечером для встречи с судебными работниками А.Ф. Кони.
Я, конечно, уже давно зачитывался его воспоминаниями “На жизненном пути” и был заочно влюблён в этого выдающегося русского криминалиста, знаменитого судебного оратора и близкого друга Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, М.Г. Савиной и других. Именно Кони, как известно, рассказал в своё время Л.Н. Толстому сюжет подлинного судебного дела, положенный гениальным писателем в основу “Воскресения”, которое в связи с этим Лев Николаевич именовал “коневской повестью”.
Октябрьская революция застала А.Ф. Кони на посту члена государственного совета Российской империи. Это был один из немногих её сановников, понявших всемирно-историческое значение революции и отказавшихся эмигрировать за границу. Это был единственный член государственного совета царской России, который сразу пошёл со своим народом.
В письме народному комиссару просвещения А.В. Луначарскому Кони писал:
“Ваши цели колоссальны. Ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне, большому оппортунисту, который всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которую я жил, — всё это кажется гигантским, головокружительным… Но если власть будет прочной, если она будет полна внимания к народным нуждам… что же, я верил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, обобран и спал. Я всегда предвидел, что, когда народ возьмёт власть в свои руки, это будет совсем в неожиданных формах, совсем не так, как думали мы, прокуроры и адвокаты народа. Так оно и вышло”.
И вот я увидел этого человека. Это был невысокий старик (ему было около восьмидесяти лет), с продолговатым тонким лицом, чем-то напоминавшим поздние портреты Бернарда Шоу. Он опирался на костыльки, но был ещё очень бодр для своих лет, обладал поразительной памятью и каким-то особым обаянием незаурядного человека, прожившего большую, сложную, умную жизнь.
Я навсегда запомнил его чуть прищуренные внимательные, совсем молодые глаза, его спокойный, чуть глуховатый голос и манеру строить свою речь живо, увлекательно, образно. При всём том он ещё владел очень спокойным и тонким юмором.
В тот вечер он рассказывал о деле Веры Засулич, по которому ему пришлось председательствовать в судебном заседании Санкт-Петербургского суда, когда присяжные заседатели, как известно, оправдали Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова за то, что по его приказу был подвергнут порке политический заключённый Боголюбов.
Потом Игельстром сделал мне приятный сюрприз: он представил меня Анатолию Федоровичу как молодого московского следователя. Я не без трепета пожал руку Кони, которую он мне дружелюбно протянул, и смутился от его острого, внимательного, хотя и приветливого взгляда. Он, видимо, заметил моё смущение, но виду не показал, и стал расспрашивать о старых московских следователях Голунском и Снитовском, которых знал ещё с дореволюционных времён. Услышав, что Снитовский был моим первым наставником на следовательском пути, Кони одобрительно улыбнулся и произнёс:
— Вам, молодой человек, повезло. Иван Маркович Снитовский отличный криминалист. Как же, как же, я прекрасно помню его по Московскому окружному суду, где он служил следователем по важнейшим делам. Ну, а как вы себя чувствуете в роли следователя? Не очень огорчает возраст?
Я окончательно смутился и пролепетал, что не хочу скрывать — возрастом своим пока действительно огорчён, но рассчитываю в этом смысле на лучшее будущее…
Кони рассмеялся и уже совсем ласково произнёс:
— Надежды ваши вполне, увы, основательны. Вот пройдут годы — ах, до чего же незаметно и стремительно они проходят! — и как же вам будет недоставать того, с чем вы теперь так искренне стремитесь расстаться…
Теперь, вспоминая эту давнюю и, к сожалению, такую мимолётную встречу с Анатолием Федоровичем, я нередко думаю, как прав был он в своём грустном предсказании…
После небольшого перерыва Кони заговорил о Достоевском. Он рассказывал о том, как произведения Достоевского “Записки из Мёртвого дома”, “Преступление и наказание” и “Братья Карамазовы”, помимо своего огромного литературно-художественного значения, явились откровением для криминалистов всего мира. Так, например, известный французский судебный деятель Атален неизменно заканчивал свои лекции молодым криминалистам словами: “В особенности, господа, читайте, читайте, читайте Достоевского”. А председатель парижского апелляционного суда Бернар де Глайо в своей книге, посвящённой вопросам судебной практики, цитировал различные места из “Преступления и наказания” как образцы психологического проникновения в такие специальные вопросы, как возникновение преступного умысла и подготовка к его осуществлению.
— Все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так гениально умел описывать Достоевский, — говорил Кони, — не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омрачённой, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения… Вот почему, дорогие друзья, для всякого криминалиста образы, созданные Достоевским, будут всегда дороги, как пример удивительного умения находить “душу живу” под самой грубой, мрачной, обезображенной формой и, раскрыв её, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру…
Кони произнёс эти прекрасные, не раз уже им высказанные слова с искренним волнением, которое передалось его слушателям. Судьи и прокуроры, следователи и адвокаты, до отказа заполнившие зал, где происходила встреча, находили в этих словах крупнейшего русского криминалиста опору и подтверждение тем чувствам и размышлениям, которые возникли у многих из них. Сидевший со мною рядом Васильев прошептал, указывая взглядом на Кони:
— Ах, какой чудесный старик, какой старик!…
Был уже поздний вечер, когда встреча с Кони закончилась и он, провожаемый толпой слушателей, уселся в машину и уехал. Васильев предложил мне пройтись.
— Слушая сегодня Анатолия Федоровича, — говорил Васильев, — вероятно, каждый из нас вспомнил какие-то случаи из своей практики. Ведь каждому следователю, судье, прокурору приходится, я глубоко в этом убеждён, испытывать иногда чувство симпатии к человеку, которого он по долгу службы предаёт суду… Да, преступление доказано, сомнений в нём нет, надо за него судить, а вот человек, которого надо судить, чем-то тебе мил, он вызывает к себе чувство симпатии и доверия…
— Без доверия нельзя искать ту “душу живу”, о которой говорил Анатолий Фёдорович, — произнёс я. — Только начиная свой следственный путь, я уже столкнулся с этой проблемой…
— Вот видите… — неожиданно улыбнулся Васильев. — Мы часто говорим о психологии обвиняемого. На эту тему написано и ещё будет написано немало книг. И это хорошо. Но вот о психологии следователя не пишет никто. Согласитесь, что для воспитания важна не только психология воспитуемых, но и психология воспитывающих… Это особенно относится к нашему брату — следователю, поскольку нам приходится первыми сталкиваться с преступниками и самый характер нашей работы — я имею в виду допросы — даёт большие возможности психологического общения, если учесть, что при допросах нет публики, сторон, регламента судебного заседания и прочего. На допросе нас только двое — следователь и обвиняемый, — это уже само по себе многое значит… Не так ли?
— Да, вы правы.
— И то, что обвиняемый может рассказать с глазу на глаз, он не всегда решится произнести в зале судебного заседания. Я имею в виду главным образом интимные вещи… Вот почему мне кажется, что процесс перевоспитания преступников должен начинаться уже в стадии следствия. Если, конечно, оно в руках следователя, а не протоколиста, какими бывают иногда некоторые из нас.
— Помните следователя, о котором писал Салтыков-Щедрин? Он рассуждал примерно так: “Есть у меня два свидетельских показания, надлежащим образом оформленных, я говорю: есть. Нет — я говорю: нет. А какое мне дело до того, совершено ли преступление в действительности и кто его совершил?” А ведь и такие следователи ещё иногда встречаются… К несчастью! Но не о них сейчас речь. Дьявол с ними. Они, как правило, сами себе могильщики!… Вернёмся к вопросу о доверии. Я вовсе не сторонник огульного доверия ко всем уголовникам. Среди них — я не раз это видел — много людей неисправимых, очень опасных, им доверять преступно… Как говорится, не в коня корм. Скажу больше: у таких негодяев оказываемое им доверие вызывает циничный смех, и их первая реакция на доверие — стремление им злоупотребить… Но есть уголовники, которых человеческое доверие способно переродить… Два года тому назад в Советский Союз приезжал Эдуард Эррио, теперешний премьер-министр Франции. В Эрмитаже у него украли брегет… Мне довелось заняться этим делом… Вот послушайте…
И Васильев рассказал мне о происшествии с брегетом господина Эррио. Вот как всё это случилось.
В 1922 году Эдуард Эррио, будучи сенатором и лидером французской радикал-социалистической партии, посетил Советский Союз.
Советские, а также иностранные газеты подробно освещали пребывание Эррио в СССР, где его встретили по-русски тепло и гостеприимно, в чём сказались и традиционные симпатии нашего народа к Франции.
После Москвы Эррио посетил Петроград и в течение нескольких дней знакомился с городом.
И вот однажды, при посещении знаменитого Эрмитажа, почётный гость полез в карман за своим золотым брегетом, чтобы справиться о времени, и, увы, его не обнаружил…
Заметив растерянность гостя, сопровождавшие его лица спросили, в чём дело.
— Ничего особенного, господа, — спокойно улыбнулся Эррио, — просто я не обнаружил своего брегета… По-видимому, гм… По-видимому, я забыл его в отеле… Не придавайте значения этому пустяку…
И он продолжал осматривать Эрмитаж.
Само собой разумеется, что кто-то из сопровождавших Эррио немедленно позвонил в гостиницу, где были отведены апартаменты высокому гостю, и справился о брегете. Его не оказалось.
Дело принимало крайне неприятный оборот.
Пока Эррио продолжал осматривать сокровища Эрмитажа, о случившемся был уведомлён по телефону губернский прокурор Иван Андреевич Крастин. Прокурору высказали предположение, что брегет скорее всего украли в Эрмитаже в тот момент, когда Эррио осматривал нижние залы, оказавшись в густой толпе посетителей.
Иван Андреевич, латыш по национальности, был старым большевиком и до революции не раз сидел в царских тюрьмах. Юрист по образованию и криминалист по профессии, он хорошо знал уголовный мир того времени.
Получив сообщение о скандальном происшествии, Иван Андреевич вызвал к себе старшего следователя Васильева. Васильев внимательно выслушал Крастина и задумался.
— Ну, что же вы задумались, мой друг? — нетерпеливо спросил Крастин, выдавая этим своё волнение, — вообще он был необыкновенно спокоен и нетороплив. — Это же скандал, политический скандал!… Из такта Эррио сделал вид, что не считает себя обворованным… Но нам от этого не легче! В Кремле все возмущены… Мне уже два раза звонили, что брегет любой ценой должен быть разыскан.
— Вы не знаете, сколько времени Эррио пробудет здесь? — тихо спросил Васильев.
— Два, максимум три дня… А какое это имеет значение?
— Обычное расследование потребует большего срока, — ответил Васильев. — Во всяком случае, не менее двух недель, Иван Андреевич…
— К тому времени Эррио уедет не только из нашего города, но и вообще из СССР, — произнёс Крастин. — Нет, такого срока нам никто не даст! Мы обязаны найти брегет раньше — понимаете? — обязаны!…
— Понимаю, — согласился Васильев. — В таком случае санкционируйте, как губернский прокурор, привлечение к розыскам брегета уголовников… Уверен, что они нам охотно помогут…
— Гм… Чёрт знает что такое! — забормотал Крастин, нахмурился, а потом вдруг неожиданно захохотал. — А знаете, в вашем предложении что-то есть!… А где же мы с вами найдём этих уголовников? Не станем же мы бегать по малинам… Согласитесь, мой друг, что это нам не совсем к лицу…
И обычно серьёзный, но добрейший Иван Андреевич снова начал так смеяться, что на глазах у него появились слёзы.
— Где мы найдём уголовников? — повторил вопрос Крастина Васильев. — Где же, как не в тюрьме, Иван Андреевич… Вот именно, в тюрьме…
— В тюрьме?! — воскликнул Крастин, сразу перестав смеяться. — Не хотите ли вы сказать, что мы освободим преступников для розыска этого проклятого брегета? Надеюсь, не об этом идёт речь, товарищ старший следователь губернского суда?
— Нет, именно об этом, — невозмутимо ответил Васильев, глядя прямо в глаза прокурору. — Я предлагаю освободить одного или двух уголовников, разумеется из числа наиболее авторитетных, дав им возможность найти украденный брегет…
— Так это как же, в порядке частной амнистии, что ли, или, вернее сказать, сделки судебных властей с преступниками? Не так ли?
— Не так, — тихо ответил Васильев. — Право амнистии ни вам, ни мне не предоставлено. Что же касается сделки, как вы изволили сформулировать, то о какой сделке может идти речь, если уголовники будут действовать вполне бескорыстно, абсолютно ни на что не рассчитывая, поскольку мы им абсолютно ничего не будем обещать…
— В таком случае, молодой человек, может быть, вы потрудитесь мне объяснить, — язвительно спросил Крастин, — о каких именно уголовниках идёт речь и ради какого дьявола они станут искать для нас с вами брегет, если мы им за это ничего не обещаем?
— Сейчас объясню, — спокойно ответил Васильев. — В числе моих подследственных теперь содержатся в “Крестах” два подходящих человека. Николай Храпов по кличке Музыкант — профессиональный мошенник-кукольник, — и вор-домушник Пётр Милохин по кличке “Плевако”, тоже крупный рецидивист…
— “Плевако”? — спросил Крастин. — Это что за кличка? По фамилии знаменитого русского адвоката, что ли?
— Да. Милохин славится в воровской среде как выдающийся оратор, — ответил Васильев. — Отсюда и кличка…
— Не собираетесь ли вы поручить ему выступить на общегородском митинге воров? — язвительно спросил Крастин.
— Иван Андреевич, — спокойно возразил Васильев. — Храпова или Милохина, а лучше их обоих, я могу спокойно освободить под честное слово, и, если они его дадут, я не сомневаюсь, что, выполнив задание, они вернутся в тюрьму. Что касается митингов, то о них речь не идёт…
— Ну, я ещё готов допустить, — сказал Крастин, — что если настоящий уголовник даёт честное слово, то это… гм… не так уж мало… Согласен… Но из каких побуждений станут они разыскивать брегет, не имея никаких обещаний с нашей стороны?
— Из патриотических, — ответил Васильев. — Они считают, и вполне резонно, что являются гражданами Советского Союза, как и мы с вами… И если мы обратимся к ним как к советским гражданам, оказав им тем самым доверие, — Васильев подчеркнул последнее слово, — они сделают всё, что в их силах…
Выслушав эти слова, Крастин нажал кнопку звонка и попросил явившуюся секретаршу прислать в кабинет чай. Когда его подали, прокурор обратился к Васильеву:
— Вот, попей чайку, — сказал он, переходя неожиданно на “ты”, — а я пока поразмыслю над твоим предложением… Всё не так просто, как это кажется на первый взгляд…
— Хорошо, подумайте, — произнёс Васильев. — От чая не откажусь…
И он стал неторопливо отхлёбывать чай, с интересом глядя, как длинноногий, чуть сутулый Крастин ходит из угла в угол с самым сосредоточенным выражением лица, что-то бормоча себе под нос. В самом деле, думал Васильев, решится ли губернский прокурор санкционировать освобождение под честное слово двух матёрых рецидивистов, а если решится, то сдержат ли эти рецидивисты данное ими слово и не подведут ли следователя, который за них поручился?
Васильев не был карьеристом, и его сомнения были менее всего вызваны стремлением к перестраховке. Эксперимент с розыском брегета представлял для него интерес совсем с другой стороны — как откликнутся Храпов и Милохин на доверие, которое им будет оказано?
Об этом же самом эксперименте размышлял и Крастин. Он давно и горячо симпатизировал Васильеву, в котором разгадал доброе и чистое сердце, любовь к людям, такую необходимую для всякого судебного деятеля, а в особенности следователя. Крастин знал многих и разных следователей, надзирая как губернский прокурор за их работой. Были среди них и добросовестные служаки, верные своему долгу, но с годами выработавшие в себе некое профессиональное равнодушие, подобное тому равнодушию, с которым иногда старые хирурги относятся к физическим страданиям своих больных. Были и следователи, больше всего ценившие в своей работе некий охотничий, чисто спортивный азарт, для которых процесс раскрытия преступления представлял почти самодовлеющий интерес. Крастин ценил их розыскные способности, но в глубине души не любил этих следователей и не очень им доверял. Были и такие следователи, которые очень быстро начинали задирать нос и, упоённые своей властью, ходили с таким видом, будто весь мир состоит у них под следствием. Таких следователей Крастин откровенно презирал, абсолютно им не верил и в конце концов добивался их увольнения, всякий раз брезгливо заявляя: “Ах, этот. Да ведь ему наша работа противопоказана… Ему всё равно, кого сажать, за что сажать, зачем сажать — только бы сажать! Нет, нет, это человек чужой и на посту следователя социально опасный!” Но были и следователи типа Васильева, и их больше всего любил губернский прокурор, потому что в них, и только в них, видел он образ советского следователя, каким он должен быть…
Теперь, размышляя над предложением Васильева, Крастин колебался, главным образом, из-за автора предложения. Крастин опасался, что если рецидивисты надуют Васильева и скроются вопреки своему “честному слову”, то это даст кое-кому повод высмеять Васильева, его “иллюзии” и нанесёт этому вдумчивому, хорошему человеку серьёзную травму. С другой стороны, провал Васильева в этом деле мог быть использован и той, пусть незначительной, группой судебных работников, которые не верили в возможность “перековки” уголовников и открыто посмеивались над сторонниками “перековки”, утверждая, что “чёрного кобеля не отмоешь добела”.
Между тем Васильев уже одолел второй стакан чаю и, удобно откинувшись в кресле, молча курил, изредка поглядывая на продолжавшего размышлять Крастина. Иногда их глаза встречались, и тогда Крастин безмолвно делал знак рукой, обозначавший, что он ещё думает. Васильев также молча кивал головой, что значило: ничего, мне не к спеху… Он уже не сомневался, что прокурор даст санкцию.
И когда Крастин наконец проворчал: “Ладно, действуй, только гляди, как бы над нами весь город потом не смеялся”, — Васильев коротко ответил: “Постараюсь”, — и, пожав руку Крастину, поспешно вышел из кабинета.
Сначала он вызвал из камеры Храпова. Тот пришёл с заспанным лицом, удивлённый, что его вызвали на допрос вечером, чего обычно не случалось. Храпов был маленький, юркий, с худым, очень подвижным лицом и лукавыми глазами.
— Здравствуйте, Храпов, — очень серьёзно сказал Васильев. — Нам надо срочно поговорить.
— К вашим услугам, — галантно склонился Храпов. — Не секрет, почему такая спешка? Я уж, признаться, вздремнул…
— Ничего не поделаешь, — ответил Васильев, — вопрос срочный… И к вашему личному делу отношения не имеющий…
— Если не имеющий, так и совсем хорошо, — произнёс Храпов. — Мне всегда почему-то больше нравились вопросы, не имеющие отношения к моему делу…
— У вас большие связи в среде карманных воров?
— Я этих подонков не уважаю, — ответил Храпов. — Сам я, как вы знаете, всю жизнь работал кукольником, так сказать, по мошеннической части, но по карманам никогда не лазил. И вообще хотел бы заметить, что как человек интеллигентного труда — да, да, не улыбайтесь — я не находил общего языка с обычными уголовниками… Не те, знаете ли, интересы, не тот интеллект… Наконец, не тот образ жизни…
И Храпов, он же Музыкант, презрительно махнул рукой.
— Но вы как-то говорили, что имеете авторитет в среде уголовников. Это верно?
— В известном смысле — да. Однако почему вас это интересует?
— Дело в том, что в Советский Союз приехал французский сенатор господин Эррио…
— Ну как же, знаю, читал в газете. Даже видел его портрет. Производит впечатление вполне интеллигентного человека. Я полагаю, что его визит может способствовать укреплению франко-советских отношений… А каково ваше мнение по этому вопросу?
— Я с вами согласен. Дело в том, однако, что этот визит несколько омрачён…
— Можете не продолжать, — улыбнулся Музыкант. — Суду всё ясно. Что шарахнули у глубоко мною уважаемого сенатора и лидера радикал-социалистов?
— У него украли брегет.
— Крайне неинтеллигентно! — с чувством произнёс Музыкант. — Скажу больше: типичное хамство!… Скорблю за честь города… Но, насколько я понимаю в медицине, вы меня вызвали не для выражения сочувствия… Что должен сделать Музыкант для укрепления франко-советской дружбы?
— Помочь обнаружить этот брегет, — улыбнулся Васильев.
— А что я буду за это иметь?
— Ровным счётом ничего.
— Ценю откровенность. Но, сидя в тюрьме, даже Музыкант бессилен вам помочь…
— Конечно. Я хорошо это понимаю…
Тут Храпов с интересом взглянул на Васильева. Следователь спокойно улыбался. Храпов отёр платком почему-то вспотевший лоб, потом снова поглядел на Васильева. Но тот продолжал загадочно молчать.
— Мы долго будем играть в молчанку? — не выдержал Храпов. — Если вы намерены ограничиться информацией о происшествии с брегетом, то, может быть, мне лучше пойти спать? Хотя трудно заснуть, узнав о таком скандальном факте…
— Я не намерен ограничиться информацией…
— Слушаю. Я весь — внимание!
— Если вы дадите мне честное слово, что не попытаетесь скрыться от следствия и суда, Николай Храпов, я готов освободить вас на несколько дней, чтобы разыскать украденный брегет. Ясно?
— Как шоколад. На сколько дней?
— Максимум на трое суток. Устраивает?
— Постараюсь уложиться. Хотя срок жестковат.
— Я могу вам верить, Храпов?
— Ни в коем случае! Но если я дам честное слово, смело можете за меня поручиться…
— Я так и думал.
Храпов встал, задумался, потом торжественно произнёс:
— Так вот, Музыкант даёт честное слово! Я не могу поручиться, что найду этот брегет, но приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие…
— Не сомневаюсь.
— Дать подписку о возвращении в тюрьму через трое суток?
— Никаких подписок! Мне достаточно вашего честного слова…
Через полчаса Музыкант вышел из ворот тюрьмы и вскочил на подножку проходившего трамвая.
А Васильев вызвал Милохина.
В отличие от Музыканта Милохин, он же “Плевако”, был неповоротлив, флегматичен, толст и ленив. Его круглое, пухлое лицо с тупым коротким носом и маленькими, как у медвежонка, глазками выражало, несмотря на здоровый румянец, крайнее разочарование в жизни, а оттопыренные полные губы подчёркивали презрение к человечеству. Буйная шапка волос и глубокая ямочка на подбородке отличали его внешность.
Васильев знал, что эти настроения овладели “Плевако” после того, как он был взят с поличным в квартире, которую собирался обокрасть. При этом не самый факт ареста так повлиял на характер “Плевако” — это было ему привычно и никогда раньше не приводило в уныние, — а те обстоятельства, при которых он попался.
В тот злополучный день “Плевако” проник, взломав замок, в квартиру, за которой давно следил. Он знал, что хозяйка квартиры днём едет на рынок и возвращается не раньше чем через полтора часа. В этот день, дождавшись, когда она вышла из подъезда, “Плевако” направился в её квартиру. Перед этим он выпил четвертинку водки, потому что был холодный день.
Забравшись в квартиру и разомлев от тепла, “Плевако” только было собрался приступить к делу, как услышал какой-то шум в соседней комнате. Он заглянул туда и увидел ребёнка, который в одной рубашонке ползал по ковру и грозно рычал на своё отражение в трюмо. Ребёнок, видимо, изображал льва, и эта игра доставляла ему большое удовольствие. Его розовое личико, обрамлённое светлыми пушистыми волосами, толстенькие ножки и тёмные весёлые глазки сразу пленили “Плевако”. С другой стороны, нельзя было приступать к делу, не наладив отношений с ребёнком, о наличии которого “Плевако”, кстати, раньше не знал. Он тихо открыл дверь и, тоже встав на четвереньки, пополз навстречу мальчику, также издавая грозный львиный рык. Увидев толстого незнакомого дядю, неожиданно вступившего в игру, ребёнок мгновенно проникся к нему симпатией. Заливаясь счастливым смехом, оба рычали, гоняясь друг за другом по ковру. Потом вспотевший от возни “Плевако” решил отдохнуть. Он вынул папиросу, но не обнаружил в кармане спичек. Смышлёный малыш, топая ножками, помчался в кухню и принёс оттуда спички. “Плевако” закурил и начал пускать такие необыкновенные кольца дыма, прогоняя одно через другое, что Миша — так звали малыша — сразу понял, что впервые в жизни ему удивительно повезло с обществом.
И как раз в этот момент на пороге комнаты появились соседка Мишиной матери, дворник и милиционер. Дело в том, что мать Миши, уходя на рынок, попросила соседку присмотреть за ребёнком. Та тихо вошла в квартиру и услыхала незнакомый мужской голос. Тогда она обратила внимание, что замок в двери взломан, и, догадавшись, в чём дело, помчалась за властями.
“Плевако” задержали и повели в милицию, оторвав от него плачущего Мишу, потрясённого тем, что уводят такого милого дядю. В милиции выяснилось, что “Плевако” давно разыскивают за многие совершённые им кражи, и дело о нём, как квалифицированном квартирном воре, поступило к Васильеву.
В тюрьме “Плевако” тщательно скрывал обстоятельства своего ареста, явно стесняясь их. Но недели через две арестовали другого вора, который со смехом рассказал в камере, как попался “Плевако”, игравший с ребёнком. Вору рассказали об этом в уголовном розыске.
На следующий день вся тюрьма знала эту историю, и на прогулке Милохину кричали: “мамочка”, “няня”, “бабушка Петя” — и делали ему “козу”. Этого самолюбивый “Плевако” не мог стерпеть. Он замкнулся в себе, презрел человечество и стал задумываться над смыслом жизни. Дважды ему снился Миша, его счастливый смех и толстенькие ручонки, которыми он так нежно обнимал развлекавшего его дядю.
Васильев отлично понимал, что происходит в душе этого обвиняемого. Васильев знал биографию “Плевако”, знал, что он был один раз неудачно женат и что его единственный ребёнок погиб от дифтерита в трёхлетнем возрасте.
И тихий, согнутый неизлечимым недугом Васильев, отгоняя мучительные мысли о приближающемся конце (он знал, что у него чахотка и что его положение безнадёжно), нередко размышлял о дальнейшей судьбе “Плевако”, обладавшего завидным здоровьем при искалеченной судьбе. Васильев думал, как согреть и поддержать тот робкий, как травинка, пробившаяся в трещине асфальта, росток человеческого чувства и тоски, который удалось посеять в этой больной душе маленькому Мише.
Вот почему в связи с делом о брегете Васильев сразу подумал о Милохине. В деловом смысле Васильев больше рассчитывал на Музыканта, но ему захотелось, воспользовавшись этим предлогом, оказать доверие и “Плевако”, чтобы поддержать в нём уже начавшийся процесс нравственного самоочищения.
“Плевако” ввели в кабинет. Ещё с порога он мрачно пробурчал “здрасьте” и остановился, глядя себе под ноги.
— Здравствуйте, Милохин, — ответил Васильев. — Садитесь, пожалуйста. Я вас не разбудил?
— Тюрьма не санаторий, — ответил “Плевако”. — Тут мёртвый час не соблюдается… Ваше дело — вызывать, наше дело — приходить… Конец скоро будет?
— Вы имеете в виду окончание следствия?
— Ну да. Судить пора. Чего кота за хвост тянуть?
— Следствие подходит к концу. Но я вас вызвал по другому делу.
— С меня и одного достаточно. Я не жадный.
— Речь идёт о деле, которое к вам не относится.
— А ежели не относится, зачем вызывать?
— Сейчас поймёте. Вам известно, что к нам приехал с визитом французский сенатор Эррио?
— Он мне телеграммы о своём приезде почему-то не прислал. Наверное, не знал адреса… Что дальше?
— Вчера у него украли брегет.
— Брегет? Это бимбар, что ли, такой со звоном?
— Именно. Что вы об этом скажете?
— Вчера я в тюрьме сидел. Что я могу сказать? Вообще я по карманам не промышляю… Золотой хоть бимбар-то?
— Золотой. А почему вас это интересует?
— Просто интересно, какие бимбары у французских сенаторов бывают. Что дальше?
— Эта кража позорит город, Милохин.
— Подумаешь! В Париже, наверное, почище нашего шарашат.
— Позвольте, это же наш почётный гость… Гость нашего правительства.
— На лице у него не написано… Откуда уркам знать, что он гость, да ещё сенатор? Вы ему это объясните. Если он толковый сенатор, то поймёт… На худой конец можно ему по оценке деньги выплатить или другой бимбар подобрать.
— Не могу с вами согласиться. Мы должны найти и вернуть ему этот самый брегет.
— Найдите, если сумеете. Я тут ни при чём?
— Меня удивляет ваше равнодушие, Милохин. Неужели вы не понимаете скандального характера этой истории? Вы же как-никак советский человек, и, что ни говори, петроградец… Наконец, вы неглупый человек.
— Неглупые в тюрьме не сидят… Вы толком скажите, чего от меня хотите?
— Я хочу освободить вас под честное слово на трое суток для того, чтобы вы помогли найти этот брегет.
— А ежели я сбегу?
— Я в это не верю, Милохин. И вы — тоже.
— Почему не верите? Ваше дело — ловить, наше дело — сматываться. Скажите — не так?
— Не так! — стукнул кулаком по столу, не выдержав, Васильев. — Не клевещи на себя, Милохин! Я тебя насквозь вижу! Тебе давно обрыдла эта дурацкая воровская жизнь, эта среда, этот вонючий быт… Думаешь, я не понимаю, почему ты тогда с ребёнком заигрался и про дело забыл? Чего же ты, дурень, этого стыдишься?… Ах ты, балда, балда! Я верю, что ты ещё человеком стать можешь, настоящим человеком. И этого человека я дурости твоей не отдам — слышишь? — не отдам!
И тут у Васильева начался один из тех мучительных и страшных приступов кашля, которые доводили его до полного изнеможения. Тщётно пытался он остановить приступ водой, глубокими вздохами, огромным напряжением воли. Его бледное лицо посинело от напряжения, а беспощадный хриплый кашель, казалось, рвал на куски его лёгкие, бронхи, гортань. Он откинулся на спинку кресла с помутившимися от страдания глазами, то и дело конвульсивно вздрагивая и зачем-то хватаясь руками за подлокотники кресла. Потом, едва успев выхватить платок, он прижал его к своим посиневшим губам, и платок сразу взмок от крови, хлынувшей горлом.
Милохин, которого захлестнула горячая волна сострадания к этому задыхающемуся человеку, бросился к креслу и поднял, как пёрышко, своими могучими руками худенькое тело Васильева. Он перенёс его на диван, осторожно уложил и зачем-то расстегнул ему ворот.
— Ничего, ничего, — лепетал Милохин, — сейчас доктора вызовем… Он капельки даст — как рукой снимет… Лежите, лежите, я сейчас доктора вызову…
И, подойдя к письменному столу, он нажал кнопку звонка, которым следователь вызывал из дежурной комнаты конвоира.
Когда конвоир пришёл, Милохин коротко ему крикнул:
— Доктора, доктора скорее! Следователю худо стало!
Конвоир заподозрил было недоброе, но потом, заметив, как сочувственно глядит арестованный на следователя, выбежал из кабинета за врачом.
Солнце уже стояло над городом, купаясь в широкой Неве, когда Васильев, пришедший в себя, выехал из тюрьмы на Арсенальную набережную в присланной за ним машине. Рядом с Васильевым сидел Милохин, освобождённый на трое суток под честное слово.
Васильев, бледный от бессонной ночи и перенесённых страданий, жадно вдыхал свежий утренний воздух. Время от времени он бросал взгляд на сидевшего рядом Милохина, который смотрел широко открытыми глазами на сверкающую, почти розовую от солнца Неву, набережные, парки.
Васильев понимал, что Милохин любуется этим свежим утром, этой удивительной рекой, этим прекрасным городом. И в то же время лицо Милохина было строгим и сосредоточенным, и это тоже хорошо видел Васильев.
“Дураки считают, — подумалось Васильеву, — что мы только золоторотцы, ассенизаторы. Конечно, надо и навоз чистить, это тоже важно. Но ведь и на навозе вырастают удивительные, благоухающие цветы, если только уметь их выращивать… Какое счастье всякий раз видеть, что ты научился не только вычищать навоз, но и выращивать цветы!”
Прямо из тюрьмы Музыкант поехал на Обводный канал, к своей старой приятельнице, известной в уголовном мире под кличкой Мондра Глова. Эта тучная, уже пожилая женщина была содержательница воровской малины и славилась в уголовной среде недюжинным умом и умением всегда выходить сухой из воды, за что она и получила свою кличку.
В свою очередь, Мондра Глова относилась к Музыканту с нескрываемым уважением. Он импонировал ей изысканностью манер и речи.
Когда Музыкант вошёл в её квартиру, помещавшуюся в подвале старого, рыжего от древности дома, хозяйка, сидя за столом, раскладывала свой любимый пасьянс “Могила Наполеона”. Увидев Музыканта, толстуха пришла в неописуемый восторг.
— Музыкантик, деточка! — кричала она, целуя своего любимца. — Вырвался наконец? Какое счастье? Каких только слухов о вас тут не было, радость моя! Кто говорит, что вам уже десятку вкатили, кто говорит, что вы в тюрьме заболели…
— Мамаша, всё это враки, — сказал Музыкант. — Прежде всего я хотел бы позавтракать, а потом поговорим о деле… Пока вы приготовите что-нибудь поесть, я побреюсь и приведу себя в порядок…
Мондра Глова сразу побежала на кухню и растопила плиту. Пока Музыкант брился, она готовила его любимое блюдо — яичницу с ветчиной, успевая при этом рассказывать последние новости: кого посадили, кого осудили, кто, напротив, вернулся после отбытия наказания.
Поев и опрокинув стопку водки за здоровье дражайшей и любимой Мондры Гловы, гость изложил ей историю с брегетом Эррио. Он сказал также, что освобождён всего на трое суток под честное слово.
Мондра Глова внимательно его выслушала, а потом сказала:
— Дело серьёзное. Музыкант. Весь город говорит о приезде Эррио. Все его очень хвалят, в газетах его портреты — одним словом, тут международная политика, дружочек.
— В том-то и дело! — поддержал её Музыкант. — Потому я к вам и приехал! Как быть, царица души моей?
— Срочно созвать всех “королей”, — ответила хозяйка. — Иначе всем нам крышка… В общем, вы здесь отдохните, Музыкантик, а я поеду собирать народ… Ай-ай-ай, как нехорошо!… Я возмущена всеми фибрами души… Мчусь, бегу, лечу!
К трём часам удалось найти нескольких “королей”, и они срочно приехали к Мондре Глове. Каждый из них возглавлял воровскую шайку. Рыжий король карманников, известный под кличкой Хирург, уже немолодой, полный человек в золотом пенсне и с внешностью старого врача с богатой практикой, принял на себя обязанности председателя. Рядом с ним сидел худой, чёрный, как ворон, глазастый Ванька-ключник, король шайки квартирных воров. На диване, стоявшем в углу комнаты, мрачно посапывал Колька-бык, славившийся своей недюжинной силой, молчаливостью и удивительной способностью внезапно засыпать. Он был уличным грабителем и в воровской среде считался крупным профессионалом. У него было широкое, оплывшее бабье лицо, тупой, тусклый взгляд и жирный, отвисающий, как вымя, подбородок.
Наконец, рядом с Музыкантом, тоже устроившимся на диване, восседал с очень важным и даже надменным видом некто Казимир, личность во всех отношениях загадочная. В преступном мире его немного побаивались, и никто толком не знал, чем он, в сущности, промышляет. Одни говорили, что Казимир опытный шулер, хотя не брезгает и мошенничеством в чистом виде. Другие утверждали, что он скупает валюту и драгоценности и связан с иностранными концессионерами, которые сплавляют эти ценности за границу. Во всяком случае, было бесспорно, что он занимается скупкой краденого и на этой почве имеет обширные связи и с карманниками, и с грабителями, и с мошенниками. Он был немногословен, его холёное, красивое лицо и пристальный, цепкий взгляд, тонкогубый, чуть дёргающийся рот и кривая, ироническая ухмылка, застывшая, как на гипсовой маске, обличали очень целеустремлённую и злую волю.
После того как Музыкант доложил “королям” о происшествии с брегетом, первым заговорил Хирург.
— Я такого брегета не видал, — сказал он, — хоть часов за эти дни взято немало. Сезон нынче хороший. Попадались и славные часики — и “Шавхуазен”, и “Лонжин”, и даже один “Филипп Патек”; были и золотые часы, но вот брегета не было… Я сам давно брегет подыскиваю. Вы знаете, какой я любитель часового дела и на своём веку перевидал столько бимбаров, что и не счесть, а вот хорошего брегета не нажил… Ты, Музыкант, говоришь, что скорее всего увели этот брегет в Эрмитаже? Верно, там наша бригада орудует, но брегета никто в котёл не сдавал.
— Значит, не одному тебе брегета захотелось, — засмеялся Ванька-ключник. — Знаем мы ваши котлы! Как что получше свистнут, так себе в карман кладут. Тоже мне артельщики! Это не то что у нашего брата-домушника. У нас не залимонишь — прямо с дела на хазу несут и всё честно учитывают и делят, потому что в нашем “тресте” без общественного контроля — хана…
— Ну, это ты брось, — нахмурился Хирург. — У меня народ проверенный, на такое дело не пойдёт… У меня система…
В этот момент в разговор вмешался Казимир.
— Какое нам дело до этого дурацкого брегета? — спросил он, по обыкновению криво ухмыляясь. — Разве Эррио приехал в гости к нам?
— А честь города? — перебил Казимира Музыкант.
— Если Эррио убедился, что наши карманники работают не хуже, чем в Париже, то это как раз и поддерживает честь города, — парировал Казимир. — С другой стороны, какое нам дело до чести города? Что такое город в конце концов? В нём живём мы и работники уголовки, живут те, которые крадут, и те, у которых крадут. Те, которых судят, и те, кто судит. И всё это называется одним словом — город… Туфта!
Тут все вскочили и поднялся невероятный шум. Музыкант с пеной на губах доказывал, что Казимир — “гидра” и “осколок”.
Хирург кричал, что история с брегетом пахнет политикой, чего он вообще терпеть не может. Ванька-ключник ядовито спрашивал, у кого из иностранных концессионеров научился Казимир таким рассуждениям.
Крики разбудили давно похрапывавшего Кольку-быка, который удивлённо оглядел кричащих и перебивающих друг друга “королей” и, поняв только одно — что все ругают Казимира, спокойно подошёл к нему и лениво ударил его в ухо. Казимир вскочил и бросился на Кольку-быка. Сцепившись, они свалились на пол и начали драться. Хирург, очень не любивший Казимира, подбадривал Кольку-быка криками: “Бык, не поддавайся, пусть знает, пся крев, почём фунт лиха!” Остальные с интересом следили за дракой, споря между собой, кто победит.
Победил Колька-бык. Усевшись верхом на Казимире, хрипевшем от бессильной ярости, Колька-бык очень добродушно приговаривал: “Не мешай людям спать, жлоб, не мешай. Это тебе не краденое скупать, паразит!”
Потом, встав и лениво потянувшись, Колька-бык снова перешёл на диван и мгновенно захрапел, чем и вызвал общий восторг “королей”.
— Ну и мастер ухо давить! — завистливо, но с нескрываемым уважением сказал о нём Ванька-ключник. — Казимир, вставай, не отлеживайся…
И Ванька-ключник помог Казимиру подняться. Казимир, с затёкшим глазом и окровавленным носом, встал, перевёл дыхание и, процедив: “Ну, я это ему припомню”, удалился.
— Что будем делать, сеньоры? — спросил Музыкант, оглядывая замолчавших “королей”. — Дорога каждая минута, джентльмены, нельзя об этом забывать…
— Искать надо, — коротко ответил Хирург. — Вечером соберёмся опять.
И совещание было прервано…
Между тем и “Плевако” не терял зря времени. Сразу после освобождения из тюрьмы он поехал тоже на Обводный канал к знаменитому среди домушников деду Силантию, в прошлом тоже квартирному вору, забросившему промысел по старости лет. Теперь он содержал воровскую хазу.
Дед Силантий был глубоким стариком с длинной, седой, как у патриарха, бородой, беззубым ртом и хитрыми слезящимися глазами. Хотя ему было далеко за восемьдесят, он был ещё крепок, много пил, азартно играл в карты и нередко при этом передёргивал. Скупая за бесценок краденые вещи, дед потом выгодно сбывал их через свою обширную агентуру, состоявшую из рыночных торговок, мальчишек и всякого рода пропойц.
Дед был богат и скуп. Он жил скромно, пил обычно за чужой счёт и любил жаловаться на плохие дела.
Когда “Плевако” появился в комнате деда, у него сидел карманный вор Митрошка-маркиз, прозванный так за франтовство Это был юркий, подвижный парень с ярким галстуком, в модных брюках дудочкой, остроносых лакированных туфлях “шимми” и пиджаке цвета “остановись, прохожий!”.
Увидев вошедшего “Плевако”, дед и Митрошка-маркиз заревели от восторга и начали расспрашивать неожиданного гостя, как ему удалось “выбраться из тюряги”. “Плевако” откровенно рассказал им, как, зачем и на какой срок он освобождён. Митрошка-маркиз, узнав о происшествии с брегетом Эррио, сразу сказал:
— Знаю, знаю, в курсе дела! Я его видел.
— Ты видел брегет? — вскочил “Плевако”.
— Не брегет, а этого Эррио, — ответил Митрошка-маркиз. — Вычитал в газете, что приезжает этот француз, и сразу поплыл на вокзал. Там, понимаешь, чистый шухер на бану. Вся власть, милиция, цветы, кинооператоры, лопни мои глаза! Я, как всегда, был одет очень культурно, и меня даже приняли за кинооператора. Как только поезд подошёл, подбегает ко мне один из распорядителей и кричит: “Камеру, давайте камеру!” А мне, понимаешь, послышалось: “В камеру, в камеру!” Я, конечно, сдрейфил и хотел смыться, но вовремя трехнулся, о какой камере идёт речь… Потом вышел из вагона этот Эррио — черноватенький, с усиками, похож на защитника, с улыбочкой. Одним словом, душа-человек. Ну, тут представитель города закатил речугу. Как сейчас помню, очень душевно говорил. Дескать, рады мы вас видеть в городе революции, господин Эррио, чувствуйте себя как дома, не простуживайтесь; вы один из первых иностранцев, кто к нам в гости пожаловал, но ничего, авось и другие за ум возьмутся… А насчёт харчей не волнуйтесь — сделаем для вас первый сорт, и вообще будем друзьями… Ну, конечно, и Эррио за словом в карман не полез, тоже деликатно отвечал. Мерси, говорит, за тёплые слова, век не забуду. Я, говорит, Россию весьма уважаю, хоть вы теперь и большевики, а что вы своего Николку рыжего на тот свет командировали, так за это, говорит, честь вам и слава, туда ему, дураку, и дорога… В общем, говорит, давайте познакомимся, может, и толк какой выйдет…
— Ты мне про брегет скажи, — прервал Митрошку-маркиза взволнованный “Плевако”. — Где брегет?
— В глаза не видал, — ответил Митрошка-маркиз. — Не стану же я на гостя бросаться, да ещё француза, когда я сам маркиз…
— Ну, а потом про этот брегет не слыхал?
— Слыхал. Параничев вчера говорил…
— Какой Параничев? Из уголовки?
— Он. Встретил меня на Сенном и спрашивает: “Ты про брегет знаешь?” А я на него сердит. Он меня два раза сажал: один раз за дело — ничего не имею против, а второй раз — по ошибочной несправедливости. На Сенном какой-то псих мясников ограбил с применением огнестрельного… Параничев мне это дело пришил. Но правосудие сказало своё веское слово в нарсуде четвёртого отделения, и меня оправдали. Ладно. Вчера как Параничев ко мне подъехал с этим брегетом, я ему из вежливости говорю: “Здрасьте”. Он с таким подходцем спрашивает: “Ну как живёшь, Маркиз, чем занимаешься?” А я отвечаю: “Живу неплохо, а занимаюсь теперь научной работой: выясняю, живут ли люди на луне”. А он говорит: “Ты про луну брось, ты мне про брегет лучше расскажи”. А я ему так, понимаешь, в сердцах отвечаю язвительно: “Вы, по всему видать, гражданин Параничев, не в себе. Или, может, вам совестно, что вы зазря мне мясников пришили? Так не волнуйтесь: пролетарский суд исправил вашу грубую опечатку”.
— Ну, неужели так и отломил? — спросил “Плевако”.
— Не сойти мне с этого места!… Так он даже поёжился, вроде как от озноба… А потом опять этак жалостно спрашивает, не видал ли я этот брегет. А я и верно его не видал…
— А ребята ваши ничего не знают об этом брегете? — спросил “Плевако”.
— Те, кого я видел, говорят, что не знают. И слуха об этом брегете нету, будь он проклят…
“Плевако” тяжело вздохнул. Дед, молча слушавший этот разговор, теперь вмешался:
— Я вам вот что скажу, чижики. Дело худое… Житья вам не будет, ежели этот брегет не отыщется, потому вопрос политический. Я бы самолично ухи оторвал тому жлобу, который этот бимбар увел! О чём он, сукин сын, думал, когда к такой персоне в карман залез? Теперь надо хоть весь город перевернуть, а бимбар сыскать. Одним словом, ребята, послушайте старика. К Маньке-блохе забегите, к Филимону Петровичу, к Княгинюшке. Надо все хазы объездить, всех на ноги поставить! И так им от меня и скажите, что дед, мол, говорит: не будет нам житья, если не найдём этот бимбар, не будет!…
“Плевако” и Митрошка-маркиз слушали деда очень внимательно. “Плевако” был доволен, что дед его поддерживает, а Митрошка-маркиз подумал, что благодаря этому происшествию он как организатор розыска брегета сразу приобретёт авторитет в воровской среде. Митрошка-маркиз в своё время был исключён Хирургом из артели и теперь работал в одиночку. Это было гораздо труднее, и Митрошке-маркизу очень хотелось обратно в артель, откуда его исключили за то, что однажды он был уличён Хирургом в том, что не сдал в “котёл” свой улов. Митрошка-маркиз в пьяном виде проболтался об этом в пивной, и Хирургу стало всё известно. Хирург тогда объявил об этом на собрании артели, и был неслыханный позор…
Теперь, как думал Митрошка-маркиз, он может взять реванш и заработать право возвращения в артель.
Уже к вечеру благодаря стараниям Музыканта и Хирурга, Ваньки-ключника, Кольки-быка, “Плевако” и Митрошки-маркиза во всех малинах города знали о происшествии с злополучным брегетом. Поднялся большой шум.
С другой стороны, не терял времени и уголовный розыск, работники которого сбились с ног, стараясь напасть на след брегета.
А Эдуард Эррио продолжал знакомиться с достопримечательностями города. Неизвестно, что он думал по поводу исчезновения своего брегета, и думал ли он об этом вообще, будучи поглощён осмотром музеев, дворцов, великолепных набережных великого города и в ещё большей степени тем, что в этом городе происходит. Как умный человек и трезвый политик, Эррио хорошо понимал, что события, происшедшие в этой стране, имеют всемирно-историческое значение, и теперь, всматриваясь в лица людей, в обличье улиц, посещая театры и магазины, музеи и заводы, парки и клубы, Эррио видел, что русским ещё очень трудно, что не хватает товаров, что ещё не ликвидированы последствия царского режима, войны и разрухи, но что при всём том народ поверил в цель, которую поставила перед ним партия, и теперь идёт к этой цели уверенно и дружно.
Да, эти русские ясно видели на ещё далёком горизонте своё будущее и смело шли к нему, несмотря ни на какие трудности и помехи. Их не смущало ни то, что они плохо одеты, ни то, что ещё трудно с питанием, ни то, что на них злобно урчит весь капиталистический мир, ни то, что в их собственной стране ещё имеются враги того дела, за которое они борются…
И хотя Эдуард Эррио далеко не во всём разделял идеи, сплотившие миллионы этих людей, он всё чаще размышлял о том, что могучая сила этих идей уже сама по себе заслуживает уважения и что, во всяком случае, они стоят друг друга — эти идеи, увлёкшие такой народ, и этот народ, увлёкшийся такими идеями.
Эти размышления Эдуарда Эррио о судьбах новой России, её революции и её будущем потом были им выражены в книге “Новая Россия”, написанной после его возвращения на свою родину.
Вот почему происшествие с брегетом, вероятнее всего, не так уж занимало Эррио или вовсе не занимало его.
Вот почему, будучи через два дня на оперном спектакле в театре и внезапно обнаружив после прогулки в театральном фойе свой брегет в заднем кармане брюк, Эррио совсем не удивился или, во всяком случае, не выдал своего удивления. Только на мгновение он задумался, потом весёлая искра вспыхнула в его живых тёмных глазах, и лукавая улыбка осветила его характерное лицо — с высоким чистым лбом, густыми, мохнатыми бровями, коротким прямым носом и упрямым подбородком.
— А вот, господа, и брегет, — сказал он сопровождавшим его лицам. — Представьте, он оказался в заднем кармане моих брюк… Мир населён неожиданностями, господа… Хотя я всегда полагал, что и неожиданности закономерны…
И всё с той же тонкой улыбкой он посмотрел на лица окружавших его людей.
Эррио нажал головку брегета, и сразу раздался мелодичный звон.
— Отныне, господа, всякий раз, — с улыбкой добавил Эррио, — когда мой брегет будет отзванивать время, я буду вспоминать об известных и неизвестных мне друзьях, живущих в вашем прекрасном городе… И буду думать о том, что подлинная дружба способна творить чудеса…
Когда на следующее утро Васильев приехал к себе на работу, то сразу увидел в коридоре Музыканта и “Плевако”, нетерпеливо шагающих из угла в угол.
Васильев сразу пригласил их к себе в кабинет, и они, перебивая друг друга, с сияющими лицами сообщили ему, что “всё в полном порядке” и франко-советская дружба более ничем не омрачена…
— Увёл этот брегет один карманник-одиночка, — рассказывал Музыкант. — Поэтому так трудно было его найти. Сколько нам мороки было — кошмар! Хорошо, что с самого начала я провёл совещание с “королями”, и все за это дело взялись с большим чувством…
— Нет, ты про деда скажи, — прервал Музыканта взволнованный “Плевако”. — Ведь с деда всё началось…
— Ах, к чему эти мелкие детали? — пытался отмахнуться Музыкант. — Часы попали к деду, но разве в этом дело? Важно другое: к кому бы они ни попали, их принесли бы к нам…
— Нет, ты про деда скажи! — настаивал “Плевако”. — Зря я, что ли, сразу к нему ринулся…
— Надоел ты мне со своим дедом! Если бы не “короли”, спрятал бы твой дед этот бимбар, и дело с концом.
— Неправда! Дед ещё до всяких “королей” сказал, что надо сыскать этот брегет. Слово даю! — горячился “Плевако”.
Так, перебивая друг друга, они рассказали Васильеву, как всё произошло. Оказывается, вскоре после ухода “Плевако” и Митрошки-маркиза к деду явился карманник Филька-гвоздь, работавший в одиночку, и предложил деду приобрести брегет, который он украл. Увидев золотой брегет, дед с трудом сдержался, чтобы не выдать Фильке своего волнения. Он с самым равнодушным видом начал расспрашивать, при каких обстоятельствах и у кого именно Филька стащил этот брегет, на что тот ответил, что пофартило ему в Эрмитаже, где какой-то “чернявый и по виду не нашенский человек заглазелся на коллекции, и у такого не шарахнуть было просто грех”.
Затем Филька начал демонстрировать деду брегет. Он открыл крышку, нажал спусковую головку, и брегет стал мелодично отзванивать часы и даже минуты.
— Видал, дед? — спросил Филька. — Это тебе не часы, а полная филармония. Ежели умеючи с ними обращаться, так они целую оперу дуют, и на билеты тратиться не надо.
— В часах не музыка ценится, дурень, — сурово проворчал дед. — Мало толку с ихнего звону, ежели у них, скажем, механизм путаный, вроде как твоя башка. Тоже нашёл чему радоваться — звону! А вот слыхал ты звон, да не знаешь, откуда он. Тут ещё такое прозвонить может, что костей не соберёшь.
— Ты чего мелешь, что тень наводишь? — закричал Филька, почуяв неладное. — Не хочешь брать, я в другое место отнесу… Тут не монополия внешней торговли. На такой бимбар хозяин найдётся.
— Верно, что найдётся, — ответил дед, нахлобучивая шапку. — Нашёлся уж на него хозяин, два дня, как нашёлся. Поехали!
— Куда поехали? — дрогнувшим голосом спросил Филька. — Ты что взбеленился? Никуда я не поеду.
— Поедешь, — хладнокровно произнёс дед. — Как миленький поедешь. Будешь, сукин ты кот, знать, как Расею с Францией ссорить.
— Какую Францию? — окончательно растерялся Филька. — Чего несёшь?
— Ну, довольно языком мотать! Едем к Хирургу, — сказал, как обрезал, дед. И Филька, словно загипнотизированный этим императивным тоном, покорно последовал за ним.
Хирурга дед и Филька застали сидящим в пижаме за столом. Он пил чай и важно читал газету. Увидев деда, Хирург понял, что случилось что-то важное, потому что дед по пустому делу не приехал бы к нему на квартиру. За спиной деда переминался с ноги на ногу перепуганный насмерть Филька.
— Силантий, что стряслось? — спросил Хирург. — Беда?
— Скорей наоборот, — улыбнулся дед. — Вот он, сердечный, погляди.
Вынув брегет, он открыл крышку и нажал головку. Брегет начал отзванивать время. Хирург вскочил, как будто под ним загорелось сиденье стула.
— Нашли?! — закричал он. — Тот самый?
— Тот, — ответил дед. — А вот тебе и герой. Он и выкрал.
И дед указал на Фильку.
Хирург молча снял своё золотое пенсне, осторожно положил его на стол и потом, подойдя к Фильке, дал ему затрещину. Филька молчал. Хирург ударил его второй раз и внушительно произнёс:
— Знай, на кого бросаться, шкура! Весь город взбаламутил, паразит!
И только после этого, усадив за стол деда и Фильку, Хирург разъяснил последнему, кого он обокрал.
Через час приехали Музыкант, “Плевако”, Ванька-ключник и Мондра Глова, за которыми послали нарочных. Началось новое совещание, и все поддержали предложение Хирурга — поручить самому лучшему карманнику незаметно сунуть брегет в карман Эррио, как будто кражи вообще не было.
— Это сразу позор смоет, — сказал Хирург. — Но сделать это надо тонко, с умом. А так как все вы чисто работать не умеете, придётся мне стариной тряхнуть, тем более что при моей солидности мне легче будет подойти к этому Эррио… Я знаю, где он остановился, поеду туда…
И Хирург стал спешно бриться, а потом надел свой лучший костюм и тщательно протёр стекла пенсне, что он всегда делал в особенно значительных случаях. К этому времени появился и Музыкант, которого тоже удалось разыскать.
Музыкант с восторгом выслушал новость и поддержал предложение Хирурга. Они вдвоём пошли в отель, где жил Эррио. Им повезло: в тот вечер Эррио направлялся в оперный театр. Они последовали за ним.
В первом же антракте Хирург незаметно приблизился к Эррио, когда тот гулял по фойе, и “тряхнул стариной”.
Брегет оказался в кармане почётного гостя.
Всё это рассказали Васильеву Музыкант и “Плевако”. Васильев слушал их очень внимательно и думал о том, что ставка на доверие ещё раз выдержала экзамен, и о том, как обрадуется Крастин, решившийся на этот шаг, и что теперь Крастину будет легче отстаивать то, что нередко вызывало ироническую усмешку, скептические замечания, а иногда и прямые обвинения в наивности и “гнилом либерализме”.
Дело в том, что в те годы ещё не было ни знаменитых трудов Макаренко, рассказавшего миру о разительных результатах перевоспитания бывших уголовников в трудовых коммунах, ни горячих и мудрых статей Горького, посвящённых этой же теме, ни опыта “перековки” людей на Беломорско-Балтийском канале и канале имени Москвы, — опыта, удивившего весь мир; не были ещё опубликованы труды Феликса Дзержинского, который в самые тяжёлые годы самой острой борьбы с внешней и внутренней контрреволюцией отдавался всем сердцем всё тем же проблемам.
С другой стороны, противники ставки на доверие не понимали или делали вид, что не понимают того, что речь идёт вовсе не об огульном доверии ко всем уголовникам или об идеализации их характеров, их “традиций”, их быта. Сторонники ставки на доверие отдавали себе отчёт в том, что есть преступники, с которыми должна вестись самая беспощадная борьба, и что исправление таких преступников невозможно. На этом своеобразном фронте борьбы с уголовной преступностью требовалось умелое сочетание наказания с воспитанием, требовалась очень гибкая и многообразная тактика, исключающая какой бы то ни было огульный и уже по одному этому порочный подход к этой трудной и важной проблеме.
Теперь, слушая “Плевако” и Музыканта, Васильев, помимо прочего, думал (и об этом горько было думать!), что вот сейчас они закончат свой рассказ, и он, конечно, поблагодарит их за старание и поздравит с успехом, а потом… вызовет тюремную машину и отправит обоих в камеру.
Как следователь, Васильев был обязан поступить именно так, а не иначе. Как человек, он хотел бы поступить по-другому, потому что понимал, каким сильным, чистым ветром ворвались события последних дней в души этих двух людей и как доверие, оказанное им, пробудило в них веру в самих себя, ту самую веру, с которой человек способен и на подвиг, и на чудо, ту самую веру, которая помогает людям перестраивать землю и завоёвывать небо.
Впрочем, Васильев не сомневался в том, что даже возвращение в тюрьму не остановит нравственный процесс, начавшийся в душе Музыканта и “Плевако”, и что это, конечно, учтёт суд в своём приговоре.
Когда деловая часть разговора закончилась, Васильев поднял трубку телефона и позвонил Крастину. Он доложил, что брегет возвращён Эррио, а Музыкант и “Плевако” сдержали слово и находятся у него в кабинете. Выслушав это сообщение, Крастин немного помолчал, а потом тихо сказал:
— Я не сомневался, что так и будет. Молодцы! Ты что собираешься теперь делать?
— Хочу вызвать “ворона” и отправить обоих в “Кресты”.
— Гм, в “Кресты”… Ну да, ничего не поделаешь… Гм… Только “ворона” не вызывай, а я пришлю свою машину. И отвези их сам. Без конвоя. Понятно?
— Вполне, Иван Андреевич, — ответил Васильев.
Через полчаса в открытой комфортабельной машине губернского прокурора ехали Васильев, “Плевако” и Музыкант. Они сидели рядом на заднем сиденье.
Весёлый, солнечный полдень сверкал на улицах города. Васильев велел шофёру сначала ехать на Острова, а потом в центр Ленинграда, и ехать не торопясь. За бортами машины проплывали дворцы, зелёные сады, узорчатые чугунные мосты, широкие тротуары, гранитные набережные. Из парков доносились весёлые крики играющих детей, свежий, пьяный от солнца ветер свистел навстречу машине, уверенно и мягко рокотал мотор. На Островах машина развернулась, и вот уже расстилается за её бортами необъятное Марсово поле, слева раскинулся Летний сад, а потом снова дворцы и набережные, сады и опять дворцы, широкие проспекты, звонки трамваев и лакированные экипажи извозчиков, которых тогда ещё было великое множество. А на тротуарах и перекрестках шумные, весёлые толпы гуляющих.
И был в этом удивительном маршруте в “Кресты” через весь солнечный, нарядный, радостный город особый, великого значения смысл, пробуждавший уверенность в том, что и “Плевако”, и Музыкант ещё смогут вернуться на эти прямые, широкие улицы, в эти зелёные парки, в этот прекрасный, неповторимый город, смогут стать равными среди равных…
Была уже поздняя ночь, когда Васильев закончил свой рассказ. Мы сидели на пустынной набережной. Город давно уснул. И когда Васильев замолк, нас сразу окружила удивительная, предрассветная тишина, только подчёркиваемая тонкими свистками ночных буксиров, проплывающих по Неве.
— В рассказанной вам истории, — сказал после долгой паузы Васильев, — есть, однако, ещё один штрих. Он открывает оборотную сторону медали. Дело в том, что в тот самый вечер, когда брегет снова очутился в кармане Эррио, у одного из советских людей, его сопровождавших, исчез бумажник. Как видите, Хирург не выдержал и “тряхнул стариной” дважды… Ни “Плевако”, ни Музыкант ни слова мне об этом не сказали. При очередной встрече я спросил обоих: не знают ли они о краже бумажника? Музыкант засмеялся и ответил, что он в курсе дела и что, по его мнению. Хирург ничего особенного не совершил, поскольку никому никаких честных слов не давал. “Плевако”, выслушав мой вопрос, ядовито произнёс: “А вы что, хотите на одном брегете всех воров перевоспитать? Или вы полагаете, что нам всем верить можно? Воры тоже не на один фасон скроены”.
Васильев достал папиросу, долго её раскуривал, а потом добавил:
— Да, среди уголовников есть люди, которым можно поверить. Но их, к сожалению, меньшинство. И уже после истории с брегетом я раза два попадал в глупейшее положение, оказывая доверие тем, которые этого не стоили. Они не только обманули меня — это полбеды, — но ещё и очень цинично потом смеялись надо мною, хвастаясь, что обманули следователя. Вот почему ставка на доверие, помимо всего прочего, требует очень точного психологического диагноза. У нас, как и у врачей, разные “пациенты”. И то, что полезно одному, противопоказано другому. Об этом никто из нас не вправе забывать.
И в этот момент, словно соглашаясь с Васильевым, загудел на Неве густым, внушительным басом большой ярко освещённый пароход. И, по странной ассоциации, живёт в моей памяти рядом с рассказом Васильева о брегете господина Эррио этот долгий ночной, как бы предостерегающий гудок.
А через два с лишним года я был переведён в Ленинград и назначен старшим следователем областного суда, где по-прежнему работал Саша Васильев. Он очень изменился за эти годы, заметно похудел. Его добрые светлые глаза приобрели болезненный, лихорадочный блеск, который так характерен для последней стадии туберкулёза. Вероятно, Саша понимал, что обречён и доживает последние месяцы, но никогда не заводил разговора на эту тему. Работал, как и прежде, много и увлечённо. Только иногда, заходя к нему в кабинет, я заставал его задумавшимся, с опущенной головой и потухшим взглядом. В таких случаях он заметно смущался и, чтобы скрыть это, начинал разговаривать с той наигранной весёлостью и оживлением, за которыми нередко скрывается безысходное горе.
Осенью 1928 года ему стало хуже, и он был помещён в больницу, откуда уже не возвратился. В конце октября в следственную часть позвонили из больницы и сообщили, что Васильев умер.
И хотя никто уже не надеялся на иной исход, но известие о смерти этого чистого, доброго и умного человека поразило всех нас, его товарищей по работе. Мы написали и поместили в ленинградских газетах некролог, а через сутки, в сырой туманный день Сашу хоронили.
Частые и резкие порывы октябрьского ветра приносили с Балтики и со свистом гнали по кладбищенским аллеям клубящиеся облака тумана, заодно поднимая в воздух жёлтые, осенние листья. Низкое, серое, как огромная застиранная простыня, небо словно распялено было на верхушках деревьев, а комья земли уже стучали по крышке гроба, опущенного в могилу. Взвод красноармейцев конвойного полка дал три холостых залпа — прощальный салют.
И едва растаяли над свежей могилой дымки выстрелов, как я услышал где-то в стороне сдавленные мужские рыдания. Я оглянулся и увидел человека, который стоял, прислонившись к стволу берёзы, и всхлипывал, закрыв лицо руками и уронив на землю поношенную драповую кепку.
Подумав, что это кто-нибудь из близких родных покойного, я подошёл к нему, поднял с земли кепку и тронул его за руку. Он сразу пришёл в себя, бросил на меня смущённый взгляд и тихо пролепетал:
— Благодарствуйте… Давненько плакать не приходилось, а вот… Эх, какой был человек, если б вы только знали!
— Как не знать, — ответил я. — Ведь это же мой товарищ по работе.
— По работе? — как-то странно произнёс он. — Да и я знал его по работе… Только с другого конца.
Я ещё раз посмотрел на этого человека, на его круглое, чуть одутловатое лицо с коротким тупым носом, мягким ртом и опухшими от слёз глазами, на буйную шапку волос и глубокую ямочку на подбородке, и сразу вспомнил давний рассказ Васильева. Именно так он описал мне внешность “Плевако” — домушника Милохина.
— Простите, ваша фамилия не Милохин? — не выдержав, спросил я.
Он покраснел, немного замялся, а потом, в свою очередь, спросил:
— А вы почему знаете? Мне ведь с вами дела иметь не приходилось?
— Мне рассказывал о вас покойный, — тихо ответил я. — Он тепло о вас вспоминал, Милохин.
— Недавно из лагеря вернулся, — медленно, с трудом подбирая слова, сказал он. — И вот вчера в газете про своего крестного прочёл. Это покойного я считал крестным, и не один я считал. Век не забуду! Думал его порадовать, что человеком стал, на работу устроился; специальность имею сварщика, а вышло, что похвастаться-то и некому. И порадовать некого. Вот где свидеться пришлось. Извините.
И, махнув рукой, Милохин медленно пошёл к кладбищенским воротам, так и не надев кепку на голову.
Я долго глядел ему вслед, думая о том, как причудливо иногда скрещиваются и переплетаются человеческие пути и как счастлив был бы Саша Васильев узнать, что ещё один из его “крестников” в конце концов выбрался из омута, который чуть было его не засосал.
И ещё я подумал о том, что, когда умирает настоящий советский криминалист, не следует удивляться тому, что за гробом покойного, кроме родных, друзей и знакомых, появляются иногда и никому не известные люди, у которых есть особые основания отдать умершему свой последний долг.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
Незначительное происшествие, о котором пойдёт речь и которое случилось на Всемирном фестивале молодёжи в Москве, мало кому известно, оставшись в своё время почти незамеченным. И хотя главный герой этого происшествия был почти тридцать лет известен как Кардинал, мы позволим себе утверждать, что даже в Ватикане до сих пор не знают о том, как, почему и при каких обстоятельствах этот человек отрёкся от своего сана.
Для того чтобы ответить на все эти законные вопросы, мы вынуждены начать рассказ с одной, не совсем обычной конференции, открывшейся в Тамбове за три месяца до начала фестиваля. Хотя эта конференция, как объявил её председатель, была межобластной и даже так сказать, чрезвычайной, в ней принимали участие всего девять делегатов.
И заседала эта конференция в довольно странном помещении — в старой бане престарелой тёти Саши, одиноко проживавшей на самой окраине Тамбова в деревянном покосившемся домике с давно немытыми подслеповатыми оконцами. Сразу за домом начинался огород, заросший лопухом и бурьяном, а в конце огорода и стояла баня, обычная, довольно древняя баня, крытая щепой, покоробившейся от солнца и дождей.
Организатором этой конференции был Кардинал, уже немолодой, но ещё крепкий, сухощавый человек со сверкающей, будто наполированной автомобильным лаком лысиной, орлиным носом и пронзительным взглядом серых холодных глаз. Именно он и созвал эту конференцию, заранее списавшись с её участниками и сообщив им адрес тёти Саши, по которому они должны были явиться в положенный день. Сам Кардинал приехал в Тамбов заранее, чтобы обеспечить необходимую конспирацию, поскольку конференция носила строго секретный характер.
Первые два делегата, из Ростова, прибыли накануне открытия конференции, вечером, когда уже догорал майский закат. Кардинал сидел рядом с тётей Сашей на завалинке, попыхивая затейливой резной трубкой и мирно беседуя с ней о житье-бытье. Внизу, на дне оврага, на самом краю которого стоял домик тёти Саши, журчал ручеёк, тихий месяц осторожно подглядывал со стороны, вечерняя прохлада приятно освежала лысину Кардинала. Когда-то, давным-давно, тётя Саша содержала в этом домике воровской притон, и теперь обоим было что вспомнить. Кардинал знал, что тётя Саша уже много лет как “завязала” и теперь мирно доживает свой век, обратившись на склоне лет к господу богу, скорее всего во искупление старых грехов. Этим она снискала расположение отца Зосимы, местного священника, всегда ставившего её в пример своей пастве и даже дважды на глазах у всех отвезшего её домой в своей новенькой “Победе”, которой духовный отец обзавёлся во славу господню.
Выслушав рассказ старушки, не без гордости поведавшей об этом факте. Кардинал произнёс:
— Логика жизни. Прежде ты, тётя Саша, жуликов поддерживала. Теперь другие жулики тебя поддерживают. Только прежние жулики тюрьмой рисковали, а твой отец Зосима крестом прикрыт, как бетонным дотом. Засел в своей курильне опиума и в ус не дует… “Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман…”
— Не дело говоришь! — вспыхнула тётя Саша. — И вовсе отец Зосима не жулик, а духовное лицо… И нечего языком трепать!…
Именно в этот момент из-за угла появились две мужские фигуры. Кардинал бросился им навстречу, и начались объятия и восклицания:
— Здорово, мальчики!…
— Гутен таг, мейн либлинг!…
— А ну покажись, Кардинал!…
— Как доехали? Не наследили?
— Всё ин орднунг, — ответил один из прибывших, маленький, весёлый, круглый, как шар, человечек средних лет. — Ай-ай-ай, как мчится время!… Нет, кажется, за нами никто не топал… Верно, Доктор? — обратился он к жгучему брюнету восточного типа с меланхолическими коровьими глазами и тупым тяжёлым подбородком,
— Кажется, нет, — пробурчал Доктор.
— Как в Ростове? — спросил Кардинал. — Ещё кто приедет?
— Аусгешлоссен! — со вздохом ответил толстяк. — Кризис кадров. Дон мелеет на глазах. Одних уж нет, а те далече… — Толстяк бросил взгляд на тётю Сашу, сидевшую на завалинке, и шёпотом спросил: — Что это за казанская божья матерь?… Не дружит ли она с оперативниками из уголовки?
— Нет, старушка — верняк, — ответил Кардинал. — Значит, двое на весь Ростов?
— Швере цайт, — вздохнул снова толстяк. — А как на берегах Невы?
— Тоже хвастаться нечем, — уныло ответил Кардинал. — Евлампий, Ухо, Ванда, Токарь и Хорёк в почтовых ящиках. Лёнька Винт запсиховал и вышел из игры. С повинной в уголовку пошёл. На работу устроился. Мода времени.
— Именно мода, — проворчал Доктор. — Грипп какой-то. Как в Москве?
— Списался. Голубь должен приехать. Сенька Мороз тоже загрипповал. И слушать не хочет!… Подумать только, Сенька Мороз!… Золотые руки, светлая голова!… Через три месяца в Москве Всемирный фестиваль. Десятки тысяч иностранцев. Толпы на улицах. Танцы на площадях. Массовые гулянья на бульварах. Митинги, кучи зевак, оркестры. Открываются невиданные возможности!… И тут лучшие кадры выходят из строя!… Как вам нравится такой преферанс?…
…До поздней ночи Кардинал и ростовские делегаты вспоминали старых друзей и старые дела. За окном уже серел рассвет, когда Кардинал сказал:
— Однако пора и отдохнуть, мальчики. Ты, Пузырь, уже зеваешь, и по всему видать, что тебе надо подавить ухо. Доктор тоже устал. Будет, поговорили по душам. Наш разговор напомнил мне отрывок из “Тараса Бульбы”: “И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались, взаимно, и тут понеслись вопросы: “А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопёр? Что Пидсыток?” И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопёра содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. — Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: “Добрые были козаки!”
Кардинал сделал паузу, посмотрел на своих собеседников и добавил:
— Вот так. Никого из наших не повесили, ни с кого не содрали кожу, ничью голову не посолили в бочке. А многих козаков уж нет!… Остались нас единицы, а так всё рыба — мелочь, пескари. Микроорганизмы! Вот почему так нужна конференция. Есть у меня важный проект, мальчики. А теперь ложитесь спать. Завтра начнём заседать. Завтра обо всём расскажу…
* * *
К полудню приехали ещё шестеро. Из Астрахани прибыл старый карманник по кличке Окунь. Из Киева добрался старый одесский вор Зямка Кенгуру, он же Француз, он же Прыщ. Сибирь представлял маленький горбатый Фомка Болт.
Харьковчанин Бим-Бом, веселейший, краснорожий, всегда улыбающийся малый, появился в новёхоньком модном костюме с галстуком бабочкой, вызвавшем общее одобрение. Юркий, как ящерица, москвич Голубь, человек неопределённого возраста, с круглым, ничем не запоминающимся лицом, похожим на стёртую и подчищенную гербовую печать на фальшивом паспорте, был встречен приветственными криками. Голубь славился как первый враль среди карманных воров, но врал он талантливо, и его любили слушать.
Последним явился приехавший из Свердловска тучный, страдающий одышкой и болезнью печени Казимир Кадецкий, один из старейших и знаменитых в своё время карманников. Как говорили, он в последнее время сбился с руки и потерял форму. Тем не менее из уважения к былым заслугам Казимира встретили почтительно. Кардинал с ним облобызался, остальным Казимир снисходительно подавал руку, всякий раз добавляя: “Пардон, не припоминаю. Видимо, склероз!”
Затем, усевшись за стол, Казимир заявил, что если бы не приглашение Кардинала, то он вообще бы не приехал ввиду дальности дороги и состояния здоровья.
— Одолели годы и хворобы, — бормотал он, тяжело дыша и часто глотая воздух широко открытой беззубой пастью. — Давно пора на пенсию. Кстати, важнейший вопрос: надеюсь, у вас хватит совести отвалить старику пособие в порядке социального страхования? А то что же получается, братва? Профсоюза нет, соцстраха нет, пенсий нет… Я уж не говорю про больничные листы и временную потерю трудоспособности… Хана получается!…
— Подожди, Казимир, — перебил его Кардинал. — Есть более срочный вопрос. Прошу делегатов занять места. Поскольку нас всего девять человек, обойдёмся без мандатной комиссии. В повестке дня всего один вопрос — наше участие в предстоящем Всемирном фестивале молодёжи и студентов.
— Дело! — коротко бросил немногословный Доктор.
— Кардинал, я вам говорю — браво! — весело воскликнул Зямка Кенгуру.
— Как остальные? — спросил Кардинал.
Все закричали, что повестку дня надо утвердить. Кардинал улыбнулся, — такое начало порадовало его. Но он понимал, что самое трудное впереди. Резолюция, ради которой он организовал эту конференцию, так тщательно обдуманная и столько раз переписанная, лежала в его бумажнике. Он сделал паузу и долгим взглядом окинул делегатов. На самом верхнем полке сидели, как петухи на насесте, Пузырь и Зямка Кенгуру, свесив вниз ноги. На средней лавке устроились Фомка Болт и Окунь. Внизу — полулежал оплывший Казимир, в ногах которого живописно развалился Голубь. Бим-Бом с удивительно для него сосредоточенным серьёзным лицом сидел на маленькой скамейке в углу бани. Около него стоял, прислонившись к притолоке, весь напруженный, как бы готовящийся к прыжку, мрачный Доктор. Жулики молчали, понимая, что предстоит нечто серьёзное.
Кардинал медленно достал из замшевого футляра очки в тонкой золотой оправе, потом вынул из бумажника мелко исписанный лист и стал зачитывать проект резолюции:
“Отдавая себе отчёт в сложности международной обстановки, — раздельно и чётко читал текст резолюции Кардинал, — мы не можем отмахнуться от политики, хотя и далеки от неё. У нас были, есть и остаются некоторые расхождения с Уголовным кодексом РСФСР, но никто из нас не считает себя врагом советской власти. Никто из нас никогда не боролся против нее, и этот факт не сможет опровергнуть даже Главное управление милиции и уголовный розыск. Оставаясь верными избранной нами профессии, мы не можем игнорировать, как профессионалы, предстоящий Всемирный фестиваль — это было бы наивно и смешно…”
— И глупо! — рявкнул Доктор, которому очень понравилась эта часть резолюции, хотя в глубине души он не понимал, к чему вообще принимать резолюции и тратить время на конференцию.
— Тише, читаю дальше, — сказал Кардинал. — “Поэтому мы принимаем решение не обворовывать делегатов стран народной демократии, а также народов Азии и Африки, борющихся за свою независимость, а весь удар направить на представителей капитализма, и в первую очередь делегатов стран, примкнувших к НАТО и позорному Багдадскому пакту. В отношении этих поджигательских элементов мы считаем свободными свои руки…”
— Я прочёл вам первый пункт проекта резолюции, детки. Читать дальше или сначала обсудим этот?
— Сначала обсудим! — закричал Доктор. — Не шутка!
— Да, да. Есть о чём поговорить, — произнёс Зямка Кенгуру и ловко спрыгнул вниз. — Мне давно не было так интересно… Полный цирк — смертельный номер под куполом…
— Зер рихтик! — вопил сверху Пузырь. — И как написано, — прямо хоть печатай в газетах!… Во всяком случае, предлагаю разослать текст резолюции во все суды, чтобы потом нам давали скидку за правильную линию…
— Или давали втрое за организованный характер краж на фестивале, — перебил Пузыря Доктор. — Обрадовался, ишак!…
— Сам ты швайнехунд, — огрызнулся Пузырь. — Бим-Бом, ты к нему ближе, дай ему за мой счёт в ухо! Будь человеком!… Я тебе потом верну, слово Пузыря!
— Молчать! — ударил кулаком по подоконнику Кардинал. — Вы не на базаре, болваны!… Приступаем к прениям. Кто хочет высказаться первым?…
Прения шли бурно, и конференция затянулась. В конце дня уставшие делегаты потребовали перерыва на обед. Взяв кусок колбасы и ломоть хлеба, Кардинал вышел в огород, ему хотелось побыть одному. Он лёг навзничь, любуясь солнцем, уже стоявшим на горизонте будто огромный медный таз. В таком тазу из красной меди, когда Кардинал был совсем маленьким, покойная мать варила варенье. Это вдруг вспомнилось Кардиналу так ярко, что он почувствовал жаркий запах малинового варенья и словно увидел раскалённую плиту и мать, склонившуюся над тазом с бело-розовой кипящей пенкой.
Боже мой, как давно и как, в сущности, недавно это было! Вот ему уже за пятьдесят, давно уж нет у него семьи, всё чаще томит по ночам бессонница, и тупая головная боль сменяет её по утрам. Старость уже хватает за воротник, начало сдавать здоровье, и жизнь, как говорят, прошла мимо. Давно не льстит уже почёт, который по-прежнему оказывают ему знакомые карманники, а давнее прозвище — Кардинал — давно не радует его. С молодых лет он читал газеты и книги для того, чтобы блеснуть затем в своей среде, и это сыграло свою роль. Но позже, с годами, и книги и газеты стали уже интересны ему сами по себе и он иногда, горько улыбаясь, думал, что они проникли в его душу так же незаметно и ловко, как сам он умел проникать в чужие карманы. Сначала он злился, пытаясь противостоять мыслям, постепенно возникавшим в результате чтения. Он пытался поддержать в себе тот особый культ воровского молодечества, который когда-то сделал его самого вором. Оставшись в отрочестве сиротой после смерти матери, пятнадцатилетний Игорь — так когда-то звали его — не поладил с женщиной, на которой женился его отец. Случайно он свёл знакомство с шайкой карманных воров. Они работали “артелью”. Первые удачи. Первые деньги. Первая тюрьма.
Игорь был самолюбив, находчив, ловок, у него был характер. Это помогло ему завоевать сначала равное, а затем особое положение в воровской среде, и он стал Кардиналом. Потом в “антракте” между двумя отсидками, он встретился на юге с женщиной, которую полюбил. Она стала его женой, не зная, что он — профессиональный вор со многими судимостями. Когда это обнаружилось, она год боролась с ним за него, надеясь вырвать его из омута. Не вышло. В конце концов она навсегда ушла из его жизни. И опять пошло-поехало…
— Надо поговорить, — неожиданно услышал Кардинал чей-то голос и, открыв глаза, увидел подошедшего к нему Доктора.
— Ложись рядом, — ответил он.
Но Доктор продолжал стоять, пристально глядя на Кардинала. Оба молчали.
— Это всё к чему? — наконец спросил Доктор.
— Резолюция?
— Да.
— Время…
— Какое время?
— Всякое. Не в лесу живём. Не на острове.
— Жили же.
— Проехало.
— Значит, шапку ломать?
— Дурень!…
— Хитришь?
— Не приучен.
— В чём же дело?
Кардинал встал, потянулся, вынул из кармана трубку, закурил. Доктор терпеливо, но мрачно ждал. Кардинал сделал две затяжки, посмотрел на Доктора. Тот не выдержал.
— Ты объясни толком! — взревел он.
Кардинал оглянулся. Закат полыхал в запыленных оконцах дома, казавшихся теперь фиолетовыми. Как и вчера, лепетал внизу ручеёк. Весь горизонт был охвачен таким полымем, что казалось, вот-вот заревут сирены пожарных машин и съедутся все пожарные части города. Но уже вступала вечерняя прохлада, предвещая ещё одну неповторимую тихую майскую ночь. Как объяснишь этому тупому, сжигаемому неуёмной алчностью и привыкшему к паразитической жизни болвану, что жизнь может пройти мимо? Как объяснишь ему, что человеку дана только одна жизнь, но, пока она ещё длится, он ещё может стать человеком, и стать лучше, чем был вчера? Как объяснишь то, что ещё неясно тебе самому? Да, неясно, хотя уже не даёт спать по ночам и оборачивается болью в голове и горечью в сердце и заставляет горевать о жизни, растраченной на кражи и тюрьмы, пьянки и безрадостные воровские кутежи, о жизни, которую ты сам прокурил, как скверную, вонючую папиросу, после которой остаются только дым, горечь и смрад…
Но Доктор ждал ответа. И Кардинал тихо сказал:
— Эх, какой, брат, вечер выдался!… Наболтались мы с тобой. Давай немного помолчим…
— Мне будет, помолчал! — зло возразил Доктор. — Теперь я скажу, а ты слушай!… Ты для чего всё это выдумал? Сегодня этих… демократов не тронь, а завтра с повинной в милицию!… Начинается-то всегда с гривенника, а там, глядишь, пропал человек!… Не буду твою резолюцию подписывать — так и знай! В одиночку работать буду, а политики я знать не хочу!… Нет мне дела до политики, как ей нет до меня!… Так всем и передай…
И Доктор, круто повернувшись, вышел за калитку и поплёлся в Тамбов, к вокзалу. Кардинал долго глядел ему вслед, а потом вернулся в баню, где отдохнувшие делегаты поджидали своего председателя. Конференция возобновилась.
Первым взял слово Пузырь. Он снова заявил, что согласен с проектом резолюции, но обращает внимание на одно серьёзное затруднение.
— Как быть с немцами? — продолжал Пузырь. — Как не перепутать восточных с западными? Восточных шарашить нельзя — это наши друзья. Западных можно. Но как их разберёшь, битте, заген зи мир? Те и другие лопочут по-немецки и с виду смахивают друг на друга. Я говорю это вам как германовед…
Потом взял слово Казимир Кадецкий. Он поддерживал предложение Кардинала, но настаивал на том, чтобы самый факт конференции и резолюция, которую она примет, были тщательно законспирированы.
— Если кто-нибудь из наших засыпется, — говорил он, — то его будут судить как вора-одиночку, а это полбеды. Но если узнают про резолюцию да про конференцию, поднимется такой шухер, что нам будут давать на всю катушку… Я вот изучаю на старости лет уголовное право. И теперь понял, что кража считается квалифицированной, если она совершена — слушайте внимательно! — по сговору с другими лицами. Так дословно гласит пункт “В” статьи сто шестьдесят второй в ещё прежней редакции. Теперь новый указ, но подход не изменился. Вреднейшая штука этот самый сговор с другими лицами. Бойтесь пункта “В” как огня, ребята!…
— Казимир прав, — произнёс Зямка Кенгуру. — Пузырь не умеет юридически мыслить, вот что я вам скажу!… Если разослать резолюцию в суды, нам сразу начнут клеить пункт “В”. Мой покойный папаша всегда говорил: “Зямка, лучше не воровать, но если уж воровать, то не попадаться, если уж попадаться, то не сознаваться, но если уж сознаваться, то в краже простой, а не квалифицированной…” Он был первый карманник Одессы, а не какой-нибудь Винницы!…
— А что говорил твой папаша про фестивали? — спросил Голубь.
— Он умер тридцать лет назад, — быстро ответил Зямка Кенгуру. — Но перед тем как закрыть глаза, он сказал мне так: “Сынок, больше всего на свете опасайся государственных преступлений, женских советов и дружбы с идиотами”. Первые два завета я выполнил. Третий, судя по твоему вопросу, Голубь, нет…
…Была уже поздняя ночь, когда конференция закончилась. Резолюцию утвердили. Закрывая конференцию, Кардинал произнёс заключительную речь. Он был в ударе, и ему шумно аплодировали.
— Надо шагать в ногу с эпохой, — говорил Кардинал, — и я рад, что вы поняли это. Нельзя отмахнуться от вопроса, который поставил Алексей Максимович Горький: “С кем вы?”. Правда, он обратился с этим вопросом к учёным и деятелям искусств, но ведь мы тоже художники в своём роде. Всякий раз, когда я вижу чужой карман, оттопыренный бумажником, я возмущаюсь этим уродством и спешу его как можно скорее ликвидировать. Но когда бумажник переходит в мой карман и оттопыривает его, моё эстетическое чувство почему-то молчит. Философы объясняют это пережитками капитализма в сознании людей. Я готов с ними согласиться, коллеги. Тем логичнее нанести удар пережитками капитализма по самому капитализму Это лишний довод за принятую нами резолюцию…
В Москве бушевал фестиваль. Уже начиная с окраин огромный город полыхал многоцветным фейерверком национальных флагов, эмблем, цветов, лозунгов, шёлковых знамён и транспарантов, пятиконечных звёзд и государственных гербов всех стран мира.
С утра до поздней ночи город был до такой степени затоплен музыкой, танцами, весельем, карнавальными шествиями, восклицаниями на всех языках мира, национальными костюмами, и песнями, что казалось, молодость всей планеты, прорвав все географические и политические барьеры и плотины, хлынула ликующими потоками в этот древний и такой молодой город.
Кардинал уже третий день находился в Москве, где, как и было заранее условлено, остановился у Голубя, проживающего со старушкой матерью в районе Останкина. Голубь очень радостно встретил Кардинала и тут же стал врать, что он подружился с редактором одной из газет и тот твёрдо обещал дать ему пропуск “Пресса”, с которым можно везде пройти. Кардинал усмехнулся и так взглянул на Голубя, что тот сразу покраснел и, смущённо пробормотав: “Ну-ну, не сердись, уж будто и помечтать нельзя”, — тут же перешёл к делу. Голубь рассказал, что к нему заходил Пузырь, Окунь и Зямка Кенгуру, уже приехавшие в Москву, справлялись, скоро ли прибудет Кардинал, и поклялись, что будут строго соблюдать “резолюцию”.
— От Казимира пришла весточка, что не приедет, — продолжал свой рассказ Голубь. — Фомку Болта замела по дороге линейная милиция, и он сидит на какой-то узловой станции. Об остальных ни слуху ни духу… Да, третьего дня встретил в “Гастрономе” Доктора. Тоже спрашивал про тебя и опять сказал, что резолюцию не признаёт.
— А как мелкота? — спросил Кардинал.
— Большинство в курсе и вроде сочувствует, — ответил Голубь. — Пузырь со многими говорил, сам тебе расскажет.
— Сеньку Мороза не встречал?
— Не приходилось. Но ребята рассказывали, что он работает на заводе, по две нормы выполняет и скоро будет на доске Почёта.
— Не выздоровел?
— И слушать не хочет.
Голубь достал из буфета водку, но гость пить отказался. Он сидел у открытого окна; издалека доносилась музыка, на улицах посёлка почти никого не было — все уехали в город любоваться фестивалем.
— Где мать? — спросил Кардинал.
— В Останкине у дворца концерт. Малайцы пляшут, — ответил Голубь. — Старуха с соседками пошла. А то, говорит, сынок, помру и малайцев не повидаю. Я спрашиваю: “Мать, на кой сдались тебе эти малайцы?” А она рассердилась и отвечает: “Если люди к нам бог весть откуда в гости приехали, надо и нам вежливость соблюсти — в ладошки им похлопать и “мерси” сказать”.
Кардинал молчал, продолжая о чём-то думать. Потом встал, снял с вешалки шляпу и коротко бросил:
— Пошли!… Нечего зря время терять… И не забудь инструмент!…
На залитой огнями площади перед главным входом Сельскохозяйственной выставки (в те дни она ещё так называлась) было множество гуляющих. Почти все иностранные делегации жили в гостиницах, построенных в районе выставки, и теперь они гуляли с москвичами.
В толпе, состоявшей из москвичей и немцев, Кардинал и Голубь вдруг услыхали знакомый голос. Пробравшись поближе, они увидели Пузыря, исполнявшего обязанности переводчика. Непринуждённо обняв за плечи молоденькую ясноглазую немку, Пузырь, гордый общим вниманием, громко говорил:
— Немецкие камрады спрашивают — сколько стоит поездка на курорт?
— Смотря какой курорт, — отвечал кто-то из толпы. — И как ехать — по путёвке одно, без путёвки другое…
— Эй, друг, — кричали Пузырю из толпы. — Ты объясни, что у нас санаторий, а не отели. И что курс лечения, харчи и всё прочее входит в стоимость путеёки…
— Это когда есть путёвка, — вмешалась в разговор нарядная дамочка с модной лакированной сумкой. — А если курсовка, то уж совсем не так… А если диким образом, то…
Пузырь взглянул на дамочку, хотел что-то сказать и в этот момент заметил Кардинала и Голубя. Одним движением ресниц Пузырь указал им на лакированную сумку, а затем с изысканным поклоном произнёс:
— Мадам, ваша воля для меня закон. Непременно переведу всё, что вы сказали. Айн момент, мадам!…
Дама, порозовев от удовольствия, кокетливо улыбнулась, кивнув в знак признательности. Пузырь начал переводить, произнося, однако, по-русски слова “путёвка” и “курсовка”. Немцы его не понимали. В этот момент Голубь ловко прильнул к даме и занялся её сумкой. Потом он вернулся к Кардиналу и сунул ему в карман пиджака замшевый кошелёк, только что вытащенный из сумки.
Пузырь уже заканчивал переводить, как раздался истерический крик дамы, внезапно обнаружившей исчезновение кошелька.
— Ой, кошелёк!… Полторы тысячи, жулики проклятые!… Милицию сюда, милицию!…
Толпа зашумела, немцы, заинтересовавшись происшествием, стали перешёптываться. Дама продолжала кричать, что в украденном кошельке было полторы тысячи, которые она отложила на курорт. Тучный немец в кожаных коротких штанишках и зелёной шляпе с пером что-то горячо внушал своим соотечественникам, многозначительно подмигивая и ухмыляясь. Кардинал пробился поближе к Пузырю.
— Западные? — быстро спросил он.
— Да, баварцы, — ответил Пузырь. — Вон тот, с пером, хихикает. Держите, говорит, карманы крепче, Москва кишит жуликами. Я, говорит, вас ещё в пути предупреждал, а вы не верили!… В России нет законности, господа!… Сволочь!…
Кардиналу стало не по себе. Но в этот момент чей-то мужской, очень знакомый голос громко и отчётливо произнёс позади него:
— Сами уронили кошелёк, гражданка, а теперь кричите неизвестно зачем!… Вот ваш кошелёк. И нечего орать!
Кардинал быстро просунул руку в карман пиджака, в котором только что лежал украденный Голубем кошелёк. Но кошелька — удивительное дело! — уже не было. Кардинал обернулся и с трудом удержался, чтобы не закричать: перед дамой стоял Сенька Мороз, да, да, рыжий, курносый, как всегда веснушчатый Сенька Мороз, и дама горячо благодарила его:
— Мой кошелёк, мерси, гражданин! — радостно кричала она. — Вот видите, полторы тысячи, как я говорила!… Ах, как я вам благодарна!…
Толпа зашумела. Тучный немец сразу перестал хихикать. Пузырь стоял с раскрытым от удивления ртом, потеряв дар речи. Сенька Мороз очень спокойно и даже с лёгкой улыбкой смотрел на Кардинала. Тот выдержал взгляд Сеньки, потом подошёл к Пузырю и сказал:
— Переведите, пожалуйста, этой свиной баварской туше: зря он так хихикал и радовался!… Это у них фашистские каты в министрах ходят, у них!… Так что насчёт законности не нам слушать и не ему говорить!…
— Верно, — поддержал Кардинала Сенька и, подойдя ближе, тихо произнёс: — Пойдём, друг, побалакаем…
— Пойдём, — согласился Кардинал и пошёл с Сенькой к главным воротам выставки.
Оба шли молча, изредка поглядывая друг на друга. Сенька был чисто одет, рыжие кудри были аккуратно расчёсаны, в руках он держал пушистую пёструю кепку.
— Ну как? — наконец спросил он. — Ничего я сработал?… Ты и не заметил, как я у тебя из кармана кошелёк увёл?
— Нет, — признался Кардинал. — Я всегда говорил — руки у тебя золотые… Ничего не скажешь!…
— Полторы тысячи, — продолжал Сенька, странно улыбаясь. — Голубь так расстроился, что сразу убежал. Как ты с ним рассчитываться станешь?
— А тебе какое дело? Мы с Голубем свои люди — сочтёмся.
— И верно, не моё дело, — согласился Сенька и опять улыбнулся. — А всё-таки немец тебя разозлил. С чего бы это?
Кардинал растерялся. В самом деле, почему он так разозлился на этого немца? И почему Сенька с такой улыбочкой спрашивает об этом?
— Не знаю, чего тут зубы скалить, — проворчал после долгой паузы Кардинал. — Ты меня зачем позвал? Нам вроде говорить и не о чем…
— Найдётся, — загадочно возразил Сенька. — Поехали ко мне!
— Куда?
— Ко мне, говорю. На квартиру. Я теперь в Зацепе живу. Комнату получил.
— Вот как!… Ловко!… Далеко пойдёшь, если милиция не задержит. Так, что ли, говорят?
— Есть такая поговорка, — спокойно ответил Сенька. — Далеко ли, спрашиваешь, пойду? А мне, Кардинал, идти-то уж некуда…
— Как некуда? — удивился Кардинал. — Или назад захотел? Я так и думал…
— Ошибаешься. Идти некуда потому, что я уже, между прочим, пришёл… Поехали, сам увидишь.
Кардинал задумался. Стоит ли ехать? Судя по всему, Сенька и не думает о старом. И зачем он зовёт к себе? О чём хочет говорить? Или просто решил похвастаться комнатой и всей своей новой жизнью? Отказаться или всё-таки поехать? Пожалуй, лучше поехать и поднять Сеньку на смех… А то как-то обидно…
— Ну? — прервал размышления Кардинала Сенька. — Поедем? Или боишься, что я тебя в ловушку заманиваю?
— Я не из пугливых, — ответил Кардинал. — Едем!…
* * *
Всё вышло не так. Комнатой Сенька не хвастался, да и хвастаться было нечем: в новой его комнатушке оказалось всего двенадцать метров, а дом, в котором он жил, был старый, деревянный, мрачный, давно отживший свой век. Сенька рассказал, что, когда рабочих завода, на котором он теперь работает, переселяли в новые квартиры, ему дали ордер на одну из освободившихся комнат.
— Скоро, — сказал он, — этот дом пойдёт на слом. Тогда получу другую комнату, в новом заводском доме. Он уже строится. А пока и тут поживём.
Выяснилось, что Сенька недавно женился. Когда они пришли, жены не было, она ещё не пришла с работы. Сенька рассказал, что жену зовут Надей, что она работает на том же заводе, где и он, и что расписались они полгода назад.
— Живём дружно, — ответил Сенька на вопрос Кардинала. — Правда, Надя пока получает больше меня — она на монтаже работает, — и это, прямо тебе скажу, мне настроение портит…
— Даёт понять? — справился Кардинал.
— Да нет, что ты! — махнул рукой Сенька. — Она только смеётся, когда я ей об этом говорю. Самому, понимаешь, неприятно… А Надюшка говорит: “Привыкли, дурни, так рассуждать, что женщина должна быть пониже рангом и получкой, и ты, пожалуйста, этим старорежимным мыслям не поддавайся”. Так и говорит, честное слово… А всё-таки как-то не по себе. Но я теперь повышаю квалификацию и обязательно её обгоню, просто из самолюбия обгоню!…
— Сколько зарабатываете? — спросил Кардинал.
— Я восемьсот. Надюшка до тысячи нагоняет, — ответил Сенька. — На жизнь хватает, конечно, особенно не развернёшься. У Надюшки мать живёт в Подольске, надо помогать. Потом телевизор вот купили и электрическую прачку. Пришлось в кассе взаимопомощи ссуду брать. Надюшка у меня франтиха, то туфельки новые, то блузка… В общем, врать не буду, каждая копейка на учёте…
Такая откровенность Кардиналу понравилась. Сенька достал из маленького буфетика бутылку водки, открыл коробку рыбных консервов, нарезал колбасы и хлеб.
— Ну что ж, за встречу! — сказал Сенька, подняв рюмку.
— Можно, — ответил Кардинал.
После второй рюмки разговор пошёл веселее. Сенька подробно рассказал, как его приняли на завод, как сначала ему было трудновато, а теперь всё наладилось и относятся к нему хорошо. Кардинал слушал внимательно, изредка бросая короткие вопросы. По всему было видно, что Сенька доволен своей новой жизнью и к старому его не тянет.
Потом пришла жена Сеньки, маленькая, такая же, как и он, курносая, большеглазая хохотушка. Сенька представил ей Кардинала.
— Вот познакомься, Надюша, — сказал он. — Мой старый приятель… гм…
— Игорь Петрович, — добавил Кардинал и отвесил молодой женщине самый изысканный поклон.
Она бросила на него быстрый внимательный взгляд, и Кардинал сразу понял, что ей известно прошлое мужа. Позже, когда и она села за стол, Кардинал заметил, что она рассматривает его с интересом и даже чуть настороженно. Сенька продолжал рассказывать о заводе. Кардинал молча слушал.
— Сеня, да ты совсем заговорил нашего гостя, — прервала его вдруг Надя. — Ему, может быть, и неинтересно.
— Нет, почему же, — вежливо возразил Кардинал.
— Вам и в самом деле любопытно? — спросила Надя и как-то странно на него поглядела.
— В самом деле, — ответил Кардинал.
— Только любопытно? — не выдержала она и тут же густо покраснела.
Кардинал тоже смутился, — как бы ей ответить. Но она, пристально и прямо глядя ему в глаза, медленно сказала:
— Ну, будет нам в прятки играть. Не маленькие. Очень мы все хорошо понимаем, что к чему…
И так же быстро, как всё, что она говорила и делала, налила вино в рюмки и произнесла:
— Выпьем. Выпьем за то, что быль молодцу не укор. Если это только уже действительно быль… Пойдёт?
— Водка или тост? — невольно ухмыльнулся Кардинал, подумав про себя: “Экая пичуга, а с характером!”
— И то и другое, — ответила Надя, не отводя взгляда.
— Значит, за Семёна хотите выпить? — схитрил Кардинал.
— За Семёна давно выпито. Теперь не худо бы и за вас…
— Супруга, у тебя, Семён, с перчиком, — обратился Кардинал к её мужу. — Не заскучаешь.
— Не жалуюсь, — улыбнулся Семён. — Что ж не пьёшь? Или не под силу?
Кардинал молчал. Сенька встал, прошёлся по комнате, потом опять сел за стол и сказал:
— Теперь слушай, разговор пойдёт начистоту. Насчёт Тамбова и этой конференции дурацкой я в курсе. Ребят встретил — рассказали… И резолюцию твою знаю, и вот Надежда тоже знает, от меня… Так что говорить будем при ней.
— Отводов нет, — невесело улыбнулся Кардинал.
— Так вот, вся твоя затея — пустой номер. Я тебя давно знаю, догадываюсь, что тебе эта игра по душе. Дескать, с одной стороны, мы карманники, а с другой стороны, мы за лагерь социализма. Кого вздумал перехитрить, Кардинал? Звучит громко: делегатов стран народной демократии трогать не станем, весь удар по капиталистам… Ишь как лихо! А то, что большинство делегатов капиталистических стран приехали сюда, тюрьмой рискуя или выгонкой с работы, — это ты не подумал, сукин ты сын?!
— Но-но, без хамства, — огрызнулся Кардинал. — Я ведь тоже сумею что сказать…
— Нет, пока молчи и слушай!… Я сам таким же паразитом был, пока не завязал, сам!… И мне ты очки не вотрёшь, Кардинал!… И делегатов твоих, и тебя самого знаю как облупленных. За всеми нашими шуточками и резолюциями и всей этой воровской липой я вижу главное: паразитами были — паразитами хотите остаться. Сам таким был, знаю!… Поэтому скажу коротко — жизнь не перехитришь, Кардинал, как ни старайся. Если решишь кончать — я тебе первый друг и помощник. Если нет — скажи прямо, и скатертью дорога!…
— Игорь Петрович, вы на него за резкость не обижайтесь, он ведь от души, — вступила в разговор Надя. — Он ведь добра вам хочет, а не то чтобы… Ой, господи, у меня даже руки дрожат!… Сколько раз он про вас вспоминал… Честное слово!…
Кардинал поднял на неё глаза. Надя всхлипнула. Руки у неё в самом деле дрожали. Сенька жадно пил воду из стакана. Мерно тикали ходики, висевшие над столом. За распахнутым в ночь окном вспыхивали в дальнем небе красные, голубые, жёлтые молнии ракет. А ходики всё продолжали тикать, отмеряя время, которое действительно не обманешь, не минуешь, не перехитришь…
Уже далеко за полночь Кардинал вышел из квартиры Сеньки. На западе было пустынно, над сонными улицами медленно плыл августовский месяц. Кардинал ещё не знал, куда он теперь направится. Добираться до Останкина, к Голубю, было далеко. И, кроме того, почему-то хотелось побыть одному. Разговор с Сенькой и его женой разбередил Кардинала. Надо было всё это обдумать, взвесить, основательно прикинуть, что к чему…
На перекрестке Кардиналу повезло: он вскочил в какой-то заблудившийся автобус. Сонная кондукторша не очень разборчиво пробормотала, что автобус идёт в парк, мимо Чистых прудов. Ну что ж, чистые так чистые, пруды так пруды. Тоже неплохо.
На Чистых прудах и в самом деле было хорошо. Совсем недавно здесь кончился фестивальный карнавал, и на ветвях деревьев ещё висели зацепившиеся разноцветные воздушные шары, похожие на фантастические плоды из детской сказки.
Кардинал медленно брёл по главной аллее, направляясь к пруду, зеркало которого смутно поблескивало вдали. Стояла та особая, предрассветная тишина, когда перестаёт вериться, что эти самые дремлющие аллеи могут быть полны людьми, женским смехом, шарканьем множества ног, раскатами музыки и песнями. По обе стороны бульвара стояли высокие дома с тёмными, тоже спящими окнами.
— Простите, гражданин, не найдётся ли у вас спички? — внезапно обратился к Кардиналу человек, сидевший на скамье и поднявшийся теперь ему навстречу.
— Найдётся, — ответил Кардинал и, достав из кармана коробок протянул его подошедшему. Тот чиркнул спичкой, и вспышка осветила его тонкое, задумчивое, усталое лицо с аккуратно подстриженной седой бородкой.
— Благодарствуйте, — сказал он, закурив. — Вот, не спится, вышел подышать, а спички дома оставил. Ужасно захотелось покурить. А вы не балуетесь?
— Трубкой, — ответил Кардинал. — Папирос и сигарет не признаю.
— Всё плохо, — медленно произнёс неизвестный. — И трубка, и папиросы, и сигареты. Везде никотин и, следовательно, возможность заболевания раком. Но трубка опаснее. Из больных раком губы девяносто пять процентов мужчины, курившие трубку… Или пользовавшиеся твёрдыми мундштуками. Это я вам говорю как онколог…
— Но сами курите, хотя и папиросы, — улыбнулся Кардинал. — Тоже ведь, как вы сказали, плохо…
— Да, тоже, — тихо ответил неизвестный. — Тоже. К несчастью, я в этом убедился… Лично.
Кардинал удивлённо вскинул глаза. Перед ним стоял пожилой человек, лет за шестьдесят, высокий, хорошо одетый, с открытым, добрым лицом. Он спокойно встретил испытующий взгляд Кардинала, медленно затягиваясь папиросой.
— Извините, — смутился Кардинал. — Мне показалось… Я неправильно вас понял…
— Нет, как раз правильно, — возразил неизвестный. — И вы напрасно извиняетесь. Если не торопитесь, может быть, присядем?
— Охотно, — ответил Кардинал, всё более удивляясь. — Надеюсь, и вы не торопитесь?
— Да мне, по совести сказать, торопиться уже некуда, — ответил мужчина. — Кстати, давайте познакомимся: Николай Сергеевич. Профессор медицины.
— Очень приятно, — сказал Кардинал. — Меня зовут Игорь Петрович.
Они сели на скамью. Кардинал достал трубку, набил её табаком, закурил. Помолчали.
— А у вас, Игорь Петрович, — прервал паузу профессор, — какая профессия?
— Карманный вор, — ответил Кардинал таким тоном, как если бы он произнёс “инженер-электрик” или “доктор технических наук”. Кардинал и сам не понимал, почему вдруг так ответил на вопрос профессора, но иначе в эту минуту он ответить не мог. Уже позже, вспоминая этот необычный ночной разговор, Кардинал сообразил, что так ответил профессору из-за разговора с Сенькой. И назло Сеньке.
Между тем профессор, услышав ответ Кардинала, и глазом не моргнул. Он сидел с таким видом, как будто ему ежедневно приходится знакомиться с карманными ворами и беседовать с ними по ночам с глазу на глаз. Это тоже задело Кардинала.
— Ну как, устраивает? — вызывающе спросил он.
Профессор внимательно посмотрел на него и спокойно сказал:
— А вас это устраивает?
— А вы думаете — нет? — всё более раздражаясь, бросил Кардинал.
— Думаю. Более того — уверен.
— Почему?!
— Потому, что я врач. И, смею думать, опытный врач. Я видел тысячи больных, Игорь Петрович. И давно научился разглядывать за наигранной развязностью — застенчивость, за бравадой — тоску, за вызывающим тоном — душевную растерянность… Вам, вероятно, в силу вашей, гм… профессии приходится обманывать людей. Не так ли?
— Так, — подтвердил Кардинал. — Больше — обворовывать, но иногда и обманывать.
— Понимаю. Мне обворовывать не приходилось, но обманывать частенько приходится. В силу моей профессии…
— Извините, я что-то не пойму, — сказал Кардинал, с удивлением замечая, что его раздражение переходит в самый доброжелательный интерес к странному собеседнику. — Почему обманывать?
— Очень просто, — ответил профессор. — Я никогда, почти никогда, не говорил людям, заболевшим раком, что у них рак. Когда тяжкому преступнику суд выносит смертный приговор, то это неизбежная расплата за преступление. Но выносить смертный приговор человеку, не совершившему никакого преступления, — преступно, не говоря уже о прочем. Поэтому приходится обманывать. Так я всегда поступал сам, так я учил молодых врачей. И в этом вопросе в нашей медицинской среде расхождений нет. Понятно?
— Вполне, — горячо произнёс Кардинал. — И удаётся обмануть?
— В большинстве случаев, — сказал профессор. — Тут у нас могучий союзник.
— Именно?
— Человеческая психология. Это, я вам доложу, поразительная штука! Утверждаю на основе многолетнего опыта, что подавляющее большинство даже умирающих людей не верят в свою смерть до последней буквально минуты. Даже когда они говорят, что умирают, то в глубине души не верят в это, не верят, и слава богу, что не верят… Я атеист и лишь потому не благодарю господа бога за эту поразительную особенность человеческой психологии. Иначе непременно благодарил бы, непременно!… Впрочем, обманывать мне приходится в последнее время не только больных, но и здоровых. В том числе моих близких…
— А их зачем?
— Охотно объясню, — сказал профессор. — Признаться, я, Игорь Петрович, очень рад нашему ночному знакомству. Мы видимся в первый и, вероятно, в последний раз. Следовательно, я имею приятную возможность поделиться с вами тем, чем с близкими поделиться не вправе… Вы же, извините за прямоту, производите впечатление… гм… интеллигентного человека…
— Да, я интеллигентный вор, — с достоинством ответил Кардинал. — И слушаю вас, профессор, с большим интересом.
— Вижу. Так вот, у меня, к вашему сведению, рак лёгкого. Жить осталось месяцы…
Кардинал вздрогнул и посмотрел на профессора. Тот отвёл глаза.
— Не может быть!… — воскликнул Кардинал. — Не может быть, вы ошибаетесь!…
— К несчастью, нет, — сказал профессор. — Когда появились первые симптомы, я лёг в свою же клинику. И вот мои коллеги и мои ученики, окончательно убедившись, что у меня рак, решили меня обмануть. Святая ложь, так сказать… Я это сразу понял и на их месте поступил бы аналогично. Но обмануть опытного онколога не так легко, как вы понимаете. Поэтому они завели две истории болезни — одну настоящую, другую, так сказать, липовую, для меня. Они очень старались и подсовывали мне чужие рентгеновские снимки, благополучные биохимические анализы и прочее. Я сразу раскусил эти махинации, но делал вид, что во всё верю, чтобы их не огорчить… Короче, мы довольно ловко обманывали друг друга в интересах обоюдных.
— Может быть, вы ошибаетесь? — робко спросил Кардинал.
— Да нет, слушайте дальше. Однажды молодой ординатор, один из моих любимых учеников, продолжая эту игру, переборщил. Он написал фальшивый анализ крови и показал его мне. Сработано это было грубовато в том смысле, что молодой врач, желая меня порадовать, перестарался и обнаружил недостаточную подготовку. Правда, он хирург, а не специалист по крови, но эта ошибка недопустима и для хирурга. Я огорчился и сказал ему: “Вот уже месяц, молодой человек, как я с интересом наблюдаю ваши дружные старания обмануть своего учителя. Пока это шло у вас неплохо. Поэтому я тоже играл в поддавки. Но сегодня вы допустили грубую ошибку. И этого я, как ваш учитель, стерпеть не могу”. Я подробно объяснил суть допущенной им ошибки. Перед лицом железного строя улик, как выражаются прокуроры, он не выдержал и сознался.
— Раскололся, фраер! — возмутился Кардинал. — Штымп!… Я хотел сказать — идиот!…
— Нет, он не идиот, — возразил профессор. — Он не учёл одного: что я слишком много лет занимался раком, чтобы не поставить самому себе точный диагноз. После того как он признал свою ошибку, я взял с него слово, что никто из его коллег не будет знать о нашем разговоре. Он сообщил мне также, что моя жена знает всю правду и что она, таким образом, тоже принимает участие в этой трагической игре… Вскоре я вышел из клиники и продолжаю играть роль человека, уверенного в том, что он здоров… Могу вам сказать, Игорь Петрович, это — нелёгкая роль…
Профессор замолчал, достав новую папиросу, закурил. Молчал и Кардинал, потрясённый тем, что он только что выслушал.
Чем объяснить, что иногда люди рассказывают о самом сокровенном и важном случайным собеседникам? Как могло случиться, что этот пожилой профессор поделился своей страшной бедой с вором, которого и никогда прежде не знал, с которым никогда не встречался и с которым никогда больше не встретится? Какими загадочными законами управляются мгновенно возникающие человеческие симпатии или антипатии, откровенность и скрытность, дружба или вражда, доброжелательство или неприязнь. И почему Кардинал, не имевший ничего общего с человеком, который оказался с ним рядом, был так глубоко взволнован судьбой этого человека, так горячо благодарен ему за доверие и так страстно хотел, хотя и не мог, хоть чем-нибудь ему помочь? В самом деле, почему?…
Уголовники нередко сентиментальны. Кардинал был исключением из этого правила. Но уже давным-давно он не был так взволнован, как теперь.
Полчаса тому назад профессор поделился своим несчастьем с этим случайным прохожим только потому, что ему уже было невмоготу тащить в одиночку свой тайный и страшный груз. Простая и такая обычная человеческая потребность поделиться горем породила этот необычный ночной разговор. Теперь, наблюдая реакцию Кардинала на то, что он услышал, профессор был вдвойне рад этому разговору — и потому, что ему действительно стало чуть легче, и потому, что искреннее волнение собеседника снова — вот уже в который раз! — подтверждало неизменную веру профессора в человеческое сердце…
— Удивительно устроена жизнь! — начал профессор. — Час тому назад мы оба, Игорь Петрович, даже не подозревали о существовании друг друга. А теперь беседуем как близкие люди. И мне сдаётся, что вас взволновала моя судьба…
— И правильно сдаётся, профессор, — смущённо подтвердил Кардинал.
— А вам не кажется, что и ваша судьба мне не безразлична? — улыбнулся Николай Сергеевич.
— Что вы знаете о моей судьбе? — ответил Кардинал. — Или вы всерьёз поверили, что я вор? А вдруг я пошутил, одним словом, решил вас разыграть, слепил горбатого…
— Слепил горбатого? Это, извините, что за шутка? — опять улыбнулся профессор. — До меня… гм… не всегда доходит ваша лексика, Игорь Петрович. По-видимому, это недостаток моего образования… Я ведь как-никак медик, а не криминалист.
Кардинал невесело ухмыльнулся.
— Ловко вы меня подцепили, — сказал он. — Что ж, ваша взяла, подтверждаю свои предыдущие показания. Я действительно вор. Опытный. Тоже профессор своего дела. Честное слово Кардинала!… Это моя кличка. Нравится?
— Нет, — ответил профессор. — Человеку дана одна жизнь. И прожить её лучше с одним именем. С настоящим, я хочу сказать… Я всегда жалею людей, не понимающих, что может быть только одна жизнь, только одна родина, только одно имя. Такова мера, которую не стоит нарушать. И забывать эту меру тоже не стоит, Игорь Петрович. Согласны?
Кардинал молчал, обдумывая, как лучше ответить профессору. Ему хотелось ответить так, чтобы профессор понял, что и он, Кардинал, тоже может пофилософствовать.
— А кто знает, что такое мера? — медленно произнёс он. — Кто её определил? Что такое мера жизни? Мера преступления и мера наказания? Мера добра и зла? В какой аптеке и на каких весах взвесили эту меру, позвольте вас спросить? Я много раз судился и всякий раз искренне считал, что вынесенная мне судом мера наказания чересчур велика. Но судья считал эту меру правильной. А потерпевшие не раз кричали, что мне дали мало — мера наказания их не устраивала. Вот вам три разные меры. Кто же прав: я, судья или потерпевшие? И есть ли мера, которая устроит всех? Нет такой меры, голову даю на отсечение!… Вот вы сказали — одна жизнь. Но умирать не хочется, даже если жизнь уже прожита. И даже если это не очень складная жизнь.
— Не хочется, — сказал тихо профессор, и так сказал, что Кардинала будто обожгло. Он устыдился, что неосторожно и грубо коснулся того, чего касаться не смел.
Где-то на далёком горизонте, над крышами ещё спящих домов уже начало сереть предрассветное московское небо. Утро подкрадывалось к городу, и, хотя ещё было темно и очень тихо, деревья уже стали робко перешёптываться, и свежий ветерок иногда шелестел в прохладных аллеях. Кардинал сидел, низко опустив голову, ему всё ещё было стыдно за свою бестактность.
— Вы спрашиваете, есть ли мера, которая устроит всех? — прервал затянувшуюся паузу профессор. — Человеческое счастье — вот эта мера. Да, счастье… Впрочем, смысл этого простого и такого сложного слова был запутан, искажён и затемнён больше, чем какие бы то ни было другие слова… Разные люди в разные времена по-разному объясняли, что такое счастье и как его надо добиваться. Одни говорили о счастье, обманывая сознательно и корыстно, другие сами обманывались, третьи просто не понимали, что же такое в конце концов подлинное человеческое счастье. Многие века людей уверяли в том, что настоящее счастье наступает после смерти, и если во имя этого покорно переносить все горести на земле, то это будет вознаграждено на небесах… В погоне за так называемым счастьем совершались тягчайшие преступления и самые неожиданные поступки. Вот и вы, Игорь Петрович, тоже, вероятно, стали… гм… тем, кто вы есть, полагая, что это путь к счастью… По крайней мере, вы так считали в начале своей… деятельности.
— Да, было что-то в этом роде, — согласился Кардинал. — Что было, то было.
— Вот видите. Теперь, как мне кажется, вы так не считаете.
— А в чем, по-вашему, счастье? — спросил Кардинал.
— Почти во всём, — ответил профессор, — во всём, что дарит нам жизнь и что мы делаем во имя жизни, во имя человека. Во всём, где нет обмана, эгоизма, стремления поживиться за счёт другого человека, насилия, унижения. Если человек не пристраивается к жизни, а строит её, если он умеет творчески трудиться и наслаждаться этим трудом, — он неизменно и по-настоящему счастлив. И тогда счастье — всё: и вот такая тихая ночь на пустынном бульваре, и неожиданный разговор с незнакомым человеком, и каждый глоток воздуха, и работа, которая предстоит тебе завтра, и хорошая книга, и музыка, и картина, заставляющая тебе задуматься…
Профессор встал, зябко потянулся, потом снова сел рядом с Кардиналом, внимательно, ласково и грустно посмотрел ему прямо в глаза и, совершенно неожиданно перейдя на “ты”, медленно и очень твёрдо произнёс:
— Вот и всё, нежданный мой приятель. Мне пора — завтра, а точнее сказать, через несколько часов у меня серьёзная операция. Рак желудка в начальной стадии. Больному сорок два года. Он ещё должен жить, чёрт возьми, и он будет жить, голову даю на отсечение, будет!… И это тоже счастье — для него, для меня, для тебя, для всех!…
Кардинал неожиданно вскочил, отвернулся и, не глядя на профессора, сделал несколько шагов. Потом обернулся.
— Что, трудно? — спросил профессор.
— Трудно, — ответил Кардинал.
— Трудное счастье вернее, — крикнул профессор. — Иди, не бойся, иди!… Найдёшь счастье… А эту… трубку… ко всем чертям!… Вместе с кличкой!… И со всем прочим!…
Кардинал стоял не отрывая глаз от профессора. Он силился что-то сказать, но губы у него дрожали и он так и не мог произнести ни слова. Профессор подошёл к нему и сердито бросил:
— Ну, чего дрожишь?! От страха?
— От счастья, — еле выговорил Кардинал и бегом, как бы спасаясь от самого себя, бросился вперёд…
Глядя ему вслед, профессор думал о том, что, когда люди разговаривают друг с другом откровенно, доброжелательно и доверчиво, они всегда находят общий язык независимо от разницы в возрасте, биографии и профессии, и тогда их общение, свободное от расчёта, подозрительности, зависти и эгоизма, есть само по себе мудрое счастье, которое сильнее всего, что мешает людям жить, работать, беречь и ценить друг друга.
Удивительно мчится время и просто не верится, что вот уже три года прошло с того дня, как Кардинал явился с повинной в милицию и с тех пор честно живёт и работает.
Физика открыла законы цепной реакции, которая высвобождает загадочные силы, невидимо дремлющие в недрах атомного ядра; наука научилась учитывать эти силы и ими управлять.
Но все ли мы знаем о “цепной реакции”, возникающей под влиянием дней нашей жизни, с её идеями и борьбой, радостями и печалями, подвигами и трудностями, открытиями и ошибками? О реакции, высвобождающей потаённые и удивительные силы человеческого сердца и, о том, как жизнь мудро и незаметно управляет этими силами?
Недавно явились с повинной Пузырь и Голубь. Они пришли вдвоём. Пузырь, поздоровавшись с офицером милиции, сказал: “Гитлер капут!” и объяснил, в каком смысле эта выразительная формула применима к данному случаю. Голубь по старой привычке начал было что-то врать, но тут же, вспомнив, зачем он пришёл, сказал:
— Извините, гражданин начальник, брехня. Я вор, остальное ясно…
Зямка Кенгуру и Бим-Бом отбывают наказание. Первый избран членом совета колонии, второй руководит самодеятельностью. Тоже неплохо для начала.
Судьба остальных нам пока неизвестна.
Когда-нибудь будущий историк, разбираясь в самых удивительных и противоречивых документах нашего времени, остановит свой пытливый взор помимо всего остального и на сотнях протоколов о явке с повинной, лаконичных, написанных казённым языком милицейских протоколов, какие так часто составляются теперь во многих отделениях милиции, вовсе при этом не рассматриваясь, как нечто поразительное, потому что явка с повинной стала уже фактом распространённым и будничным.
Вот почему нам захотелось рассказать об одном маленьком происшествии, мало кому известном и потонувшем почти бесследно летом 1957 года в океане песен, музыки, цветов и замечательных встреч, которыми был так фантастически богат Московский фестиваль.
ТЕНИ ПРОШЛОГО ТРИ ПРОВОКАТОРА
Моя следственная судьба столкнула меня с тремя крупными провокаторами царской охранки: злым гением «Народной воли» Иваном Окладским, проработавшим в охранке тридцать семь лет; знаменитой Дамой Туз — Серебряковой, служившей секретным агентом в московской охранке более четверти века, любимицей самого Зубатова; и, наконец, с резидентом охранки в Балтийском флоте Кириллом Лавриненко, провалившим в 1906 году революционное восстание на крейсере «Память Азова», после чего девяносто с лишним матросов были преданы военному суду и семнадцать из них казнены.
К расследованию дел Окладского и Серебряковой я непосредственного отношения не имел, но в тот период, когда они были разоблачены, я уже был начинающим следователем; не раз присутствовал при их допросах и, наконец, был на судебных процессах обоих.
Что же касается Лавриненко, то следствие по его делу я вел лично весною 1928 года, будучи тогда старшим следователем Ленинградского областного суда.
Об этих трех делах я и хочу рассказать по порядку.
ЗЛОЙ ГЕНИЙ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»
Летом 1924 года я находился в командировке в Ленинграде и работал в помещении следственной части Ленинградского губсуда, на Фонтанке. Однажды ко мне в кабинет вошел старший следователь Ленинградского губсуда Игельстром, высокий, чуть сутулый, очень живой человек с тонкими чертами подвижного продолговатого милого лица и веселыми синими глазами, и сказал:
— Дорогой Лев Романович (мы успели с ним подружиться), если вы не слишком заняты, то я могу вам показать одного любопытного обвиняемого.
— О ком, собственно, идет речь? — спросил я.
— Речь, прежде всего, идет о временах весьма давних, — ответил Игельстром. — Я теперь погружен с головой в историю «Народной воли», злым гением которой был некий Иван Окладский — бывший соратник Желябова, затем ставший провокатором. Так вот речь идет как раз о нем…
Я встрепенулся. История «Народной воли», вписавшей столько ярких страниц в книгу русского революционного движения, всегда меня занимала. А тут представляется возможность увидеть крупного провокатора!… Я сразу пошел в кабинет Игельстрома.
Там, перед письменным столом Игельстрома, сидел, задумавшись, благообразный старичок с аккуратно причесанной бородкой и глубоко сидящими маленькими колючими глазками. Он встал при нашем появлении и очень внимательно посмотрел на меня, которого видел впервые.
Это и был Окладский, он же Иванов, он же Петровский, он же Александров, он же Техник. За его спиною стоял конвоир — молодой, стройный парень с румяным, почти детским лицом и кимовским значком на гимнастерке.
— Итак, вернемся к нашей беседе, — начал Игельстром, сев за свой стол.
— Вы продолжаете писать свои показания?
— Так точно, — ответил Окладский, искательно и чуть подобострастно заглядывая прямо в глаза Игельстрому. — Пишу, можно сказать, по мере сил и преклонных лет своих… Дело идет.
— Хорошо, — произнес Игельстром. — Но вот я прочел первую часть ваших «воспоминаний», как вам угодно было их назвать, и могу как читатель выразить некоторые, так сказать, претензии…
— Весьма благодарствую, — ответил Окладский. — Но сами знаете, я из рабочих, лицеев не кончал, так что в смысле стиля и прочего…
— Ну, во-первых, дело не в стиле, а совсем в другом. Во-вторых, я на вашем месте так не подчеркивал бы свое пролетарское происхождение. Вот вы сами пишете: «Отец мой крестьянин деревни Оклад, Новоржевского уезда, приписался к мещанскому обществу города, вследствие чего и получил фамилию Окладский, затем занялся мелочной торговлей». Это так?
— Так точно. Я писал.
— Вы пишете далее, что родились в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году. Значит, отец тогда уже был торговцем.
— Был. Не скрываю.
— Похвально, что не скрываете. Но прискорбно, что вы скрываете другие, гораздо более важные обстоятельства…
— Возможно, что и запамятовал по причине, преклонных лет своих, гражданин следователь. Память у меня совсем отшибло…
— Разве? В своих «воспоминаниях» вы называете сотни фамилий, дат, адресов. Вы напрасно жалуетесь на память. Она изменяет вам лишь в тех случаях, когда вам не хочется или, может быть, неприятно вспоминать. Не так ли?
— Я только первое время не признавался и говорил, что я не Окладский и им никогда не был. Но как только мне предъявили мои фотографии и моей рукой писанные рапорта в охранку, я сразу сказал; «Хватит! Больше обманывать не буду…» Так?
— Да, сказали вы так. Но поступаете не совсем так, — улыбнулся Игельстром. — Разумеется, как обвиняемый, вы можете писать все, что хотите, и это ваше право. Но я, как следователь, ведущий ваше дело, буду, вас изобличать в тех случаях когда вы будете пытаться скрыть истину, и это не только мое право, но и моя обязанность. Вам это ясно, Окладский?
— Чего ж яснее!… — хмуро произнес Окладский: — Так, например, вы пишете, что Столыпин в своем рапорте царю, в котором он хлопотал о даровании вам звания потомственного почетного гражданина за ваши «исключительные заслуги в деле политического сыска», будто бы преувеличил эти заслуги…
— Да, сильно приукрасил его высокопревосходительство…
— Не можете объяснить, из каких побуждений Столыпин вас так, как вы говорите, приукрасил? Может быть, он вас очень любил?
— Да его я почти не знал… Так, видел раза два, может быть, три…
— Полюбить можно и с первого взгляда. Особенно человека, приносящего большую пользу…
— Он мне в любви не объяснялся.
— А вы ему?
— Тоже не приходилось.
— Зачем же Столыпину нужно было преувеличивать ваши заслуги царю? Зачем?…
— Не берусь за него объяснять… Может, хотел показать, какие у него старательные осведомители работают… Оно ведь тоже лестно…
— В таком случае обратимся к фактам и документам. Сейчас вы увидите, что Столыпин нисколько не преувеличивал ваших заслуг…
И Игельстром очень последовательно начал предъявлять Окладскому донесения и рапорты, предписания и «всеподданнейшие доклады», всевозможные «меморандумы» и шифрованные телеграммы, секретные запросы и ответы.
Окладский, надев очки, очень внимательно их читал, разглядывал подписи, рассматривал эти пожелтевшие от времени документы, раскрывающие — год за годом, предательство за предательством — весь его долгий провокаторский путь. Вначале он владел собою и был относительно спокоен. Но каждый новый документ наносил удар по этому спокойствию. Видимо, он в глубине души надеялся, что не все его преступления отображены в архивах охранки или не все архивы попали в руки Игельстрома. Теперь он убеждался в обратном.
Я был молчаливым свидетелем этого допроса, в котором раскрывалась психология обеих сторон — и следователя и обвиняемого. Игельстром, ни разу не повысив голоса, очень корректно, но настойчиво изобличал Окладского и, не давая ему опомниться, обрушивал на него документ за документом, улику за уликой. Подготовленность следователя была разительна. Он наизусть, ни разу не сбившись, сыпал датами, именами, справками, тут же подкрепляя свои заявления подлинными документами. При этом следователь часто вставлял всякого рода побочные замечания и называл детали, показывавшие, как основательно он изучил эпоху и исторические события.
И это поражало обвиняемого не меньше, а может быть, и больше, чем самые документы. Несколько раз в глазах Окладского вспыхивали искры неподдельного удивления, и один раз он даже сказал:
— Однако и память же у вас… Ай-ай-ай…
И он сокрушенно покачал головой. В этом деле, где шла речь о преступлениях длительных, совершавшихся на протяжении тридцати семи лет, связанных со множеством фамилий, фактов, революционных организаций и групп, со множеством фамилий директоров департамента полиции и чиновников охранки, менявшихся за эти годы, поразительная память следователя играла особую роль.
Вот почему Окладский, убедившись, что он имеет дело с очень сильным противником в лице Игельстрома и что тот имеет мощных «немых» союзников в лице подлинных архивных документов, начал сдаваться. Он постепенно багровел, стал заикаться, часто пил воду, сбивался в ответах. Его самообладание таяло на глазах.
— Я вижу, вы устали, — произнес наконец Игельстром. — Что ж, можно прервать допрос до следующего дня. Но я очень вам рекомендую понять, что следствие располагает всеми необходимыми данными о вашей преступной деятельности. Ничего лишнего мы вам приписывать не хотим, но и ничего из того, что вы совершили, не позволим вам скрыть… Дело, конечно, ваше, но единственный выход в вашем положении — вся правда, только правда и одна правда. А там как хотите…
В апреле 1879 года, три четверти века тому назад, в Липецке, тогда маленьком уездном живописном городке Воронежской губернии, состоялся тайный съезд группы народовольцев, сторонников террора в борьбе с самодержавием. Большинство из них приехали под чужими фамилиями и как бы растворились среди многочисленных, больных, съехавшихся на липецкий курорт, издавна славившийся своими минеральными водами. В их числе были Андрей Желябов, Морозов, Фроленко, Квятковский, Анна Прибылева, Тихомиров, Михайлов и другие.
В липецком курортном парке уже зеленела листва деревьев. В аллеях бродили курортники, провинциальные священники в рясах, окрестные помещики с женами, щебетали липецкие барышни, звенели шпорами офицеры. После заседаний, проводившихся на конспиративной квартире, народовольцы приходили в парк и тоже пили воду из источника, чтобы не выделяться среди остальных приезжих.
Пять дней, с 17 по 21 апреля, продолжался липецкий съезд. Его участники договорились, что на предстоящем вскоре в Воронеже съезде «Земли и воли» они будут отстаивать методы террора в борьбе с самодержавием.
Воронежский съезд состоялся в июне. Раскол «Земли и воли» на этом съезде вполне определился, хотя формально и не произошел. Через несколько месяцев «Земля и воля» разделилась на две партии — «Черный передел» и «Народную волю».
Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор Александру II, и Андрей Желябов взялся привести приговор в исполнение. Он привлек себе в помощь Тихонова, Якимову-Баска, Преснякова, Квятковского, Ширяева и Окладского.
С последним Желябов познакомился в Одессе, в 1874 году, когда двадцатилетний в то время Окладский уже примыкал к Южно-Русскому союзу рабочих.
В сентябре 1879 года Окладский жил в Харькове и там встретился с Желябовым, приехавшим в этот город. В своих показаниях, написанных лично, уже после своего разоблачения в 1924 году, Окладский писал:
«…он (Желябов) предложил, не желаю ли я принять участие в цареубийстве. Александра II. Когда я изъявил свое согласие, то он мне сказал, что с этого момента я должен временно прекратить всякую свою революционную деятельность… Желябов сообщил мне подробности выработанного им плана… где именно удобнее произвести взрыв императорского поезда».
Вскоре Желябов выехал в Александровск, Екатеринославской губернии, где под видом купца приобрел дом, пару лошадей и поселился с Якимовой, выдав ее за свою жену. Тихонов жил у него под видом кучера.
Окладский же снял в Харькове на Москалевке маленький деревянный дом и начал изготовлять цилиндры для снарядов. В начале октября снаряды были изготовлены. Окладский тоже переехал в Александровск, и началась подготовка взрыва. Работали, из соображений конспирации, по ночам. Начались осенние ливни, и это очень затрудняло работу.
«Желябов, — пишет в своих показаниях Окладский, — выговорил себе право собственными руками просверлить насыпь, заложить мины и впоследствии соединить провода для взрыва поезда. Поэтому я и Тихонов только охраняли его во время работы… Самым опасным делом была переноска снаряженной мины со вставленными запалами, а также опускание ее на место. Перенести требовалось на расстояние саженей двести от места, где стояла телега с лошадьми на грунтовой дороге, а подъехать ближе было невозможно, местность не позволяла, причем приходилось несколько раз отвозить мину обратно в город на квартиру, так как за всю ночь не удавалось выбрать удобного момента для опускания: то проходили поезда, то сторож осматривал путь перед проходом поезда, согласно инструкции, которая в то время строго соблюдалась, то, наконец, проходила охрана. Пролежав на земле всю ночь, под утро приходилось тащить мину обратно к телеге и ехать домой…»
Наконец мины были заложены, и стали прокладывать провода. Но и тут помешали сильные дожди, провода два раза портились, так как изоляция выходила из строя. Измученные тяжелой работой, постоянной опасностью, необходимостью целыми ночами лежать в лужах воды, под дождем и снегом, все страшно устали. В это время из Крыма срочно приехал Пресняков, сообщивший, что надо торопиться, так как царь скоро выедет. Пресняков рассказал, что, как ему удалось выяснить, пойдут два поезда, один за другим, оба с императорским штандартом. Один из этих поездов будет считаться свитским, но царь имеет обыкновение переходить на остановках из одного поезда в другой.
Доложив обо всем этом своим товарищам, Пресняков помчался обратно в Крым, чтобы успеть телеграфировать оттуда, когда именно выедет царь.
«После сообщения Преснякова, — пишет Окладский, — мы с лихорадочной поспешностью старались окончить скорее работу, но эта поспешность нам мало помогала, так как невозможно тяжелые условия работы остались почти те же, такая же темнота, которая нас сбивала… В довершение всего нам стало казаться, что за нами следят и хотят нас схватить на месте преступления и как бы окружают нас…»
17 ноября из Крыма приехал Пресняков и сообщил, что завтра царский поезд пройдет мимо Александровска. Наступил решающий день. Желябов, Тихонов и Окладский выехали на место и все подготовили, поджидая поезд.
«Перед проходом поезда, — показал Окладский, — мы подъехали к оврагу и остановились на условленном месте. Я вынул провода из земли из-под камня, сделал соединение, включил батарею и, когда царский поезд показался в отдалении, привел в действие спираль Румкорфа и сказал Желябову: „Жарь!“ Он сомкнул провода, но взрыва не последовало, хотя спираль Румкорфа продолжала работать исправно…»
Измученные непосильным трудом и роковой неудачей, Желябов и его товарищи вернулись домой. Как показал Окладский, он уговорил Желябова проверить, почему не произошло взрыва, и на следующий день они снова направились к насыпи. Оказалось, что провода были перерублены, по-видимому, лопатой, ибо в это время путевые сторожа очень старательно ухаживали за железнодорожным полотном, то и дело его подравнивая и подчищая.
После этого Желябов и его товарищи покинули Александровск. Взрыв императорского поезда, подготовленный под Москвой, также, как известно, не удался. Покушение было раскрыто. Охранка заметалась. Начались массовые аресты. В числе других был арестован и Окладский, представший перед военным судом на известном «процессе шестнадцати».
— Да, я член партии «Народная воля», — ответил Окладский на вопрос председателя суда. — Да, я участвовал в подготовке взрыва. И если он не произошел, то это от меня не зависело…
— Каково ваше вероисповедание, подсудимый Окладский? — спросил председатель суда.
— Мое вероисповедание социалистическо-революционное, — ответил подсудимый.
В зале, заполненном «избранной» публикой, зашептались. Жандармы, окружавшие скамью подсудимых, многозначительно переглянулись. Директор департамента полиции Плеве, сидевший в креслах для почетных гостей, за спинами судей, поднялся, вытянул бледное худое лицо с немигающими глазами, долго разглядывал подсудимого, а потом, подозвав к себе взглядом своего помощника Судейкина, что-то ему прошептал.
Через несколько часов, в своем последнем слове, Окладский гордо заявил:
— Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении своей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление.
Но суд и не думал смягчать приговор. Он осудил «к смертной казни через повешение» пятерых главных обвиняемых: Ивана Окладского, Александра Квятковского, Андрея Преснякова, Степана Ширяева и Якова Тихонова. Остальные были приговорены к каторге.
Через пять дней в Петропавловской крепости были казнены Квятковский и Пресняков. За два дня до этого, 2 ноября 1880 года, царь «помиловал» Ширяева, Тихонова и Окладского, заменив им смертную казнь бессрочной каторгой. Но не прошло и года, как, 16 сентября 1881 года, умер в Алексеевской равелине Ширяев. Через восемь месяцев, летом 1882 года, погиб на каторге Тихонов.
Из пяти народовольцев, осужденных к казни, остался в живых только один.
— Иван Окладский, Вот как это произошло.
В ту ночь, когда он ждал казни, к нему в камеру неожиданно пришел начальник Петербургского жандармского управления Комаров, никогда не упускавший возможности «побеседовать» с революционерами-смертниками. Вот этот «визит» и определил дальнейшую судьбу Окладского. Сохранился рапорт Комарова, в котором он излагал свой разговор с Окладским.
Комаров пишет, что когда он намекнул Окладскому, что «по неисчерпаемой милости государя все они могут быть помилованы», то Окладский, задрожав как в лихорадке, пролепетал, что «все помилованы быть не могут», что ведь Квятковский, например, участвовал в четырех преступлениях, а он, Окладский, «только в одном»…
И Комаров, опытный жандарм, хорошо знавший меру и человеческого героизма и трусости, и верности и предательства, понял, что Окладский-революционер уже умер и что родился новый предатель. Комаров Прямо написал в своем рапорте на имя Плеве: «Клюет»…
Комаров, может быть, еще не знал тогда о том, что в эти самые часы телеграф Петербург — Ливадия передает шифрованную переписку Лорис-Меликова с Александром II как раз по этому делу. Докладывая царю, что военный суд приговорил по «процессу шестнадцати» Квятковского, Ширяева, Тихонова, Преснякова и Окладского к смертной казни через повешение, Лорис-Меликов писал:
«Исполнение в столице приговора суда одновременно над всеми осужденными к смертной казни произвело бы крайне тягостное впечатление. Еще менее возможно было бы распределить осужденных для исполнения казни по местам совершения ими преступления, т. е. в Александровске, Харькове, Москве и Петербурге, расположенным по путям предстоящего возвращения государя императора в столицу. Поэтому возможно было бы ограничиться применением казни к Квятковскому и Преснякову… Временно командующий войсками Петербургского округа ген. — ад. Костанда передал убеждение, что в обществе ожидается смягчение приговора дарованием жизни осужденным к смертной казни и что милосердие его величества благотворно отзовется на большинстве населения…»
На всякий случай, однако, Лорис-Меликов, очень тонкий и умный царедворец, счел нужным подчеркнуть, что он «не может не принимать в соображение неизбежных нареканий за смягчение приговора, хотя бы они исходили от незначительного меньшинства».
3 ноября 1880 года генерал Черевин телеграфировал из Ливадии Лорис-Меликову: «На телеграмму вашего сиятельства N 536 имею честь донести, что на депеше… его величество изволил наложить резолюцию: „Вчера приказал, через Черевина, приговоренных к смертной казни помиловать, кроме Квятковского и Преснякова“».
Как только была получена эта телеграмма, Комаров помчался в Петропавловскую крепость, чтобы окончательно «обработать» Окладского. В своем рапорте этот жандармский психолог с нескрываемым торжеством писал, что, когда он объявил Окладскому о помиловании, тот «так обрадовался, что даже побежал, забыв одеть туфли». И дальнейшая участь Окладского была решена. Он действительно «побежал, забыв одеть туфли», по страшному пути профессионального предателя и провокатора…
Самое удивительное в деле Окладского — это стремительность, с которой он превратился в штатного провокатора охранки. В самом деле, еще 31 октября, в своем последнем слове на суде, он гордо заявил, что не просит смягчения своей участи, и если суд смягчит свой приговор, то он «примет это за оскорбление». Но уже в ночь с 3 на 4 ноября, в «беседе» с Комаровым, Окладский взмолился о помиловании и произнес роковые слова о том, что Квятковский совершил четыре преступления, а он, Окладский, только одно. На следующий день, 4 ноября, когда Комаров объявил Окладскому о помиловании, он уже был окончательно «обработан». А через несколько дней Окладский уже стал охотно выполнять свои первые «задания»…
Он начал с того, что по требованию охранки перестукивался с сидящими в соседних камерах революционерами и, выпытывая у них важные сведения, потом передавал их своим новым хозяевам. Потом его стали подсаживать в камеры к политическим заключенным. Потом ему секретно предъявили арестованных, не желавших себя называть, и Окладский, разглядывая их в тюремный глазок, опознавал тех, кого знал. Так, например, он опознал народовольца Тригони, а в дальнейшем был арестован охранкой и Андрей Желябов, часто встречавшийся с Тригони на конспиративной квартире «Народной воли». Есть основания полагать, хотя Окладский это и отрицал на суде и следствии, что и сам Желябов был также «секретно» опознан Окладским. Дело в том, что Желябов, будучи арестован, скрывал свою фамилию. Тригони в своих записках «Мой арест в 1881 году» рассказывает, что Желябов неожиданно был опознан прокурором Добржинским, знавшим Желябова по знаменитому «процессу 193», слушавшемуся в 1878 году.
— Желябов, это вы?! — воскликнул Добржинский, когда арестованный, имя которого было неизвестно, был введен в его кабинет.
— Ваш покорный слуга, — ответил, иронически улыбаясь, Желябов.
Но очень возможно, что Добржинский на самом деле не опознал Желябова, а был уже осведомлен, что этот таинственный арестант — Желябов.
Известный историк П. Е. Щеголев, являвшийся экспертом на процессе Окладского, в своем заключении, основанном на изучении всех архивных материалов охранки, относящихся к «Народной воле», заявил, что уже в «середине ноября 1880 года Окладский был патентованным предателем, человеком, который в любой момент готов перестукиваться с кем угодно, опознавать и выдавать кого угодно».
Это заключение эксперта полностью подтверждают документы. Так, 28 февраля 1881 года Комаров в своем рапорте министру внутренних дел докладывает:
«Арестованный 27 февраля Михаил Николаевич Тригони был секретно показан Ивану Окладскому, который в нем признал лицо, носившее в революционной среде название „Милорда“ и „Наместника“».
В тот же день Лорис-Меликов в своем «всеподданнейшем докладе» царю пишет:
«…Как Тригони, так и в особенности предполагаемый Желябов категорически отказались на первых порах от дачи всех показаний, причем предполагаемый Желябов наотрез отказывается указать свою квартиру. К полудню надеюсь разъяснить его личность через Окладского, которого я приказал снова доставить ко мне из крепости».
Когда был арестован знаменитый народоволец Фроленко, он также был опознан и выдан Окладским. Фроленко потом показал на суде, что Окладский был единственным человеком, знавшим подлинную его фамилию, которую тот не носил с 1874 года. 11 сентября 1891 года министр внутренних дел, отмечая в своем рапорте Александру III «заслуги» Окладского, прямо пишет:
«…После злодейского преступления 1 марта 1881 года (имеется в виду убийство Александра II) личности задержанных с подложными фамилиями злоумышленников были обнаружены главным образом при негласном предъявлении их Окладскому».
Террористический акт в отношении Александра II был осуществлен «Народной волей». Его подготовила группа народовольцев, руководимая Андреем Желябовым, который был не только величайшим заговорщиком-террористом в русском революционном движении, но и одним из крупнейших политических деятелей своего времени.
Из-за предательства Окладского, опознавшего Тригони и выдавшего охранке конспиративные квартиры «Народной воли» в Петербурге, Желябов был арестован за два дня до убийства Александра II, подготовленного под его руководством. Узнав уже в тюрьме, что приговор «Народной воли» в отношении царя приведен в исполнение (а приговор этот был вынесен Исполнительным комитетом «Народной воли» 26 июля 1879 года), Желябов пришел к выводу, что правительство поспешит втихомолку казнить Рысакова, задержанного на месте убийства царя. Поэтому 2 марта Желябов подал письменное заявление прокурору, в котором писал:
«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня заявления. Прошу дать ход моему заявлению».
Заявлению «дали ход», и Желябов был включен в число обвиняемых по делу 1 марта. На суде он, настойчиво выгораживал всех подсудимых, принимая всю вину на себя. Желябов превратил самый судебный процесс в продолжение своей борьбы с самодержавием. В своих объяснениях, несмотря на звонки и окрики председателя суда и прокурора, Желябов сумел изложить программу «Народной воли» и причины, по которым партия перешла к террору. Желябов заявил, что не считает царский суд правомочным для рассмотрения этого дела, так как единственным судьей между революционерами и самодержавием может быть только народ.
3 апреля 1881 года, по приговору суда в Петербурге, на Семеновском плацу были казнены Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков.
26 июня 1882 года в пояснительной записке об Окладском, составленной охранкой, значится, что «желательно, чтобы Окладский был водворен на юге не под настоящей своей фамилией, а под чужим именем, ввиду того, что высылка его под настоящей фамилией может возбудить подозрение среди членов революционной партии, так как возвращение свободы человеку, приговоренному к смерти, а затем вечному заточению в крепости, может быть объяснимо лишь особенно важными заслугами его, оказанными правительству, а потому под своей фамилией он более полезен быть не может, под чужим же именем Окладский будет иметь возможность видеться с новыми революционными деятелями и войти в их среду».
Так был определен новый этап в предательской деятельности Окладского, которого было решено ввести как провокатора в революционную среду. 25 октября 1882 года директор департамента полиции направил коменданту Петропавловской крепости такое решение:
«По приказанию господина министра внутренних дел имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отказать в распоряжении о выдаче предъявителю сего отдельного корпуса жандармов поручику Кандыбе содержащегося в крепости ссыльно-каторжного государственного преступника Ивана Окладского с принадлежащими ему вещами. К сему долгом считаю присовокупить, что названный арестант в крепость более возвращен не будет, а самая выдача его должна быть произведена по возможности без огласки».
В тот же день директор департамента полиции секретно поручил дежурному по штабу корпуса жандармов:
«…принять арестанта, который будет вам доставлен сегодня вечером поручиком Кандыба, и поместить его в арестантскую камеру N 4, приняв меры к тому, чтобы помещение его не было обнаружено содержащимися в N 1 арестантами и чтобы лица эти не могли иметь между собою никакого сношения».
В деле Окладского, обнаруженном в архиве охранки, имеется справка, что «…в видах охранения Окладского от посягательств его бывших единомышленников, а также для предоставления ему возможности оказывать и впредь услуги правительству было признано необходимым скрыть его настоящее имя, вследствие чего в письмах к главноначальствующему гражданской частью на Кавказе и начальнику Тифлисского губернского жандармского управления он был назван „лишенным всех прав состояния по обвинению в государственном преступлении мещанином Иваном Ивановым“».
И Окладский превратился в Иванова. Через несколько дней он был отправлен в Тифлис. 31 января 1883 года начальник Тифлисского жандармского управления Пекарский донес Плеве шифрованной телеграммой, что «арестант Иван Иванов доставлен в Тифлис благополучно».
Но уже через несколько дней Иванов превратился в Александрова, о чем полковник Пекарский прислал следующее донесение:
«Вследствие отношения от 24-го числа сего декабря месяца за N 724, имею честь донести, что арестант Иван Иванов, вследствие изъявленного им желания, по соглашению с и. д. главноначальствующего краем водворен на жительство в гор. Тифлисе. Иванову выдан вид (как утерявшему паспорт) на имя мещанина Екатеринославской губернии Ивана Ивановича Александрова; фамилия Александров присвоена ему потому, что он в конце 70-х годов под этой фамилией и подобному паспорту жил… само собою разумеется, что полицмейстер, выдавая вид, совершенно не знал, для кого таковой предназначается, ему только и. д. главноначальствующего краем приказал написать свидетельство и для выдачи по принадлежности передать мне».
И наконец, 25 апреля 1883 года все тот же старательный полковник Пекарский донес директору департамента полиции, что «известный вашему высокопревосходительству Иванов на днях заявил желание служить агентом при вверенном мне жандармском управлении, причем поставил условием, чтобы ему ежемесячно выдавалось жалованье в размере 50 рублей». На этом донесении Плеве наложил такую резолюцию: «Уведомить, что предложение следует принять».
Так Окладский стал уже платным провокатором и был им до самой Февральской революции.
Он прожил в Тифлисе несколько лет под фамилией Александрова и выдал немало революционеров, с которыми знакомился, потом их провоцировал, а затем предавал. Сменивший Пекарского новый начальник Тифлисского жандармского управления Янковский души не чаял в своем агенте и был искренне огорчен, когда в октябре 1888 года получил такое предписание от нового директора департамента полиции Дурново:
«Встречая надобность в личном объяснении с известным вашему превосходительству Иваном Ивановым, имею честь просить вас, милостивый государь, пригласить его к себе и, снабдив деньгами на дорогу, предложить ему немедленно выехать в Петербург. По прибытии в Петербург Иванов не должен никому сообщить о цели своего приезда и между 6-7 часами вечера явиться ко мне на квартиру, по Владимирской площади, и представить в удостоверение своей личности письмо от вас. Для приезда и жительства Иванов должен быть снабжен документом, по которому он проживает в Тифлисе и по коему он мог бы беспрепятственно жить в Петербурге, но отнюдь не проходным свидетельством. Сохраняя поездку Иванова в строгой тайне, я покорнейше прошу, ваше превосходительство, о дне его выезда из Тифлиса и о дне, в который он явится ко мне, уведомить меня шифрованной телеграммой».
Получив указание, Окладский срочно выехал в Петербург к новому шефу департамента полиции. Конечно, точно в назначенный час он робко позвонил в подъезде квартиры Дурново. Конечно, он был допущен и встречен самым любезным образом.
Они сидели вдвоем в роскошном кабинете будущего министра внутренних дел империи — коренастый, невысокий Окладский, которому тогда не было и тридцати лет, и сухощавый, элегантный, сильно надушенный Дурново, заменивший Плеве и успешно делающий карьеру. На круглом журнальном столике стыл чай, налитый в тонкие, синие с золотом, чашки императорского фарфора. Хорошенькая, отменно вышколенная горничная в кружевном фартучке и наколке принесла по звонку хозяина варенье и неслышно удалялась из кабинета, даже не взглянув на гостя, — от нее давно была отобрана секретная подписка, и она отлично знала, у кого служит и с чем эта служба связана. Она уже привыкла к самым неожиданным гостям в этом кабинете. Надменных, модно одетых дам с затейливыми прическами здесь сменяли люди в смазных сапогах и кепках, студентов сменяли пожилые дамы, похожие на старых учительниц, дам — журналисты с развязными манерами и золотыми пенсне, журналистов — какие-то бритые актеры в котелках, с наглыми физиономиями и неестественными, как бы выдуманными, голосами актеров — самые обычные дворники в белых фартуках с медными бляхами на груди, дворников — люди неопределенного возраста, в гороховых пальто, с цепкими, всегда беспокойными, вороватыми глазами.
— Итак, голубчик, я, право, рад с вами познакомиться, — ласково тянул Дурново, не сводя глаз с Окладского, скромно сидевшего перед ним. — Я имею самые, гм… самые лестные референции о ваших действиях, гм… о вашей похвальной деятельности в Тифлисе… И это так понятно!… На смену горячей молодости и ее заблуждениям пришла мудрая зрелость, осознана ценность жизни и ее радостей, а вы еще так молоды, голубчик, и у вас так много впереди… А за царем служба не пропадает, хороший вы мой, надеюсь, вам это понятно?…
— Я в этом не сомневался, ваше высокопревосходительство, — ответил Окладский. — Служу всей душой, хоть и жизнью своей рискую… Сами знаете, на канате над пропастью хожу…
— Ну зачем же такой пессимизм, к чему? — воскликнул Дурново. — Ведь Ивана Окладского давным-давно нет, о нем все забыли, уверяю вас. Есть никому, решительно никому не известный Александров… Какая же пропасть, голуба моя?…
— Позвольте сказать, ваше высокопревосходительство, — произнес, кашлянув в кулак, Окладский. — Александров — это тоже не сахар после всех лет в Тифлисе… Крестников-то и там набралось немало… А ведь у ихнего брата революционера, сами знаете, какая между собою связь… Что там Тифлис! С каторги умудряются сообщить насчет всякого, кто у них из доверия вышел… А уж если прознают — смерти не миновать… Пощады не жди…
— Так это если прознают, как вы выражаетесь, — возразил Дурново. — Но ведь и мы с вами не дети, симпатичный вы мой, не детки… И, беря во внимание ваши соображения касательно дел тифлисских, не имею возражений, чтобы покончить и с Александровым… Бог с ним, с голубчиком, пусть умрет, как умер Иванов, а до Иванова — Окладский… Помянем их добрым словом, и дело с концом… Чем, например, плоха фамилия Петровский? А?…
— Оно бы лучше, — согласился Окладский.
— Вот и отлично, — улыбнулся Дурново. — Ну, а теперь, дорогой мой, перейдем к делу. Мне очень нужен человек, человек надежный, умный, ловкий, из рабочих. И потребен мне такой человек для дельца весьма деликатного, такого дельца, где сноровка нужна, чутье, такт, знание революционной среды, нравов, так сказать, всех этих завихрений, всей этой философии… Одним словом, мне нужны вы. В Тифлисе вам больше делать нечего, да и правы вы, что и опасно там продолжать… Ну, а здесь, в столице, человек — иголка в сене… Так вот, образовался тут этакий кружок Истоминой. Весьма опасная, я вам скажу, особа… Ставка — террор. Дело вам, если не ошибаюсь, знакомое?
— Был грех, — коротко ответил Окладский.
— Вот, вот. С этой Истоминой связана целая группа лиц. Тут, как водится, и студенты, и всякие там врачи, и профессиональные возмутители, и ниспровергатели… По моим данным, мадам Истомина весьма тянется к рабочему классу, к пролетариям, так сказать… Вот я и хочу пойти навстречу этой даме и рекомендовать ей пролетария… в вашем лице. А?…
— Что ж, если нужно… — задумчиво произнес Окладский. — Только, ваше высокопревосходительство, мне тогда и впрямь пролетарием надо стать… Одним словом, поступить на завод. Механик я неплохой… А так, без этого, нельзя…
— Разумно!… Я именно так и полагал поступить… Очень рад, что у нас мысли сходятся… Мы устроим вас на работу… И получать будете недурно.
— На заводе или у вас? — прямо спросил Окладский и поднял глаза на Дурново, так что тот даже на мгновение смутился и, подумав про себя: «Однако!», поспешил ответить:
— Ну, разумеется, у нас. А уж то, что вы на заводе заработаете, это, согласитесь, возглавляемого мною департамента не касается… С сегодняшнего дня, господин… да, Петровский, вот именно, Петровский, ваш штатный оклад сто пятьдесят рублей каждомесячно. Надеюсь, вы улавливаете, что это — черт возьми — сумма?! Это ровно втрое против того, что вы имели, голубчик, в Тифлисе… Итак, в добрый час!…
…А через некоторое время Дурново письменно докладывал министру внутренних дел, что Петровский, получивший в охранке кличку «Техник», успешно выполняет задания по кружку Истоминой.
Дурново сообщил, что Техника удалось познакомить с членами кружка Истоминой через некоего Миллера-Ландезена, также являвшегося агентом охранки.
11 февраля 1890 года Дурново писал:
«Что касается нашего Техника, то до сего времени к нему никто не являлся, чем, несомненно, доказывается чрезвычайная осторожность здешней компании».
14 марта того же года Дурново радостно докладывает:
«В течение этого времени и наш Техник начинает выступать на сцену. 20 февраля, более нежели через месяц после отъезда Ландезена, к Технику явился студент Бруггер, квартира которого служила местом свидания Ландезена с Фойницким. Бруггер заявил, что одна дама очень интересуется с ним познакомиться, беседовал о рабочих и пригласил его прийти 4 марта к себе. В назначенный день Техник посетил Бруггера, который снабдил его революционными книжками и просил Техника раздать эти книжки рабочим. Серьезных разговоров не было, и Бруггер выразил намерение посетить Техника в пятницу 16 марта. „Я, может быть, приду не один“, — прибавил он. Так как я могу видеться с Техником только у себя на квартире, то мне приходится избегать частых свиданий, ибо квартира моя известна очень многим и Техник легко может попасться».
26 апреля Дурново докладывал министру:
«На прошлой неделе, в пятницу, к Технику явилась какая-то молодая женщина, объявившая, что она пришла от Егора Егоровича Бруггера. После общих разговоров о положении революционного дела она заявила, что последовательное совершение террористических актов представляется единственным способом успешной борьбы с правительством. По ее словам, люди для этого есть и еще будут. Способы покушения должны зависеть от обстоятельств, но снаряды, наполненные планкластитом, представляются наиболее удобными… По предъявлении Технику фотографической карточки Истоминой, он признал в ней вышеупомянутую женщину…»
Это последнее донесение Дурново уже подписал как министр внутренних дел, и адресовано было оно непосредственно царю.
В конце мая 1890 года все лица, принадлежавшие к кружку Истоминой, были арестованы охранкой.
11 октября 1891 года Петровскому было присвоено «по высочайшему повелению» лично почетное гражданство. А через несколько лет Окладский-Петровский написал личный рапорт — докладную записку руководителю одного из отделов охранки Ратаеву следующего содержания:
«Его превосходительству
Леониду Александровичу Ратаеву.
Докладная записка И. А. Петровского.
Имею честь, просить ходатайства вашего превосходительства перед господином директором департамента полиции, о представлении меня к званию потомственного почетного гражданина.
И. Петровский».
Из справки, составленной департаментом полиции, видно, что «государь император по всеподданнейшему докладу его министра в 31 день июля 1903 года всемилостивейше соизволил пожаловать личному почетному гражданину Ивану Александровичу Петровскому звание потомственного почетного гражданина».
Так проходили годы, следовали чины за наградами и награды за чинами. Окладский обзавелся семьей, купил себе пятикомнатный особняк в Петрограде, вырастил при нем небольшой садик, завел огородик, ягодники. Он отпустил себе бороду, заботливо холил ее, заметно пополнел и жил в свое удовольствие.
На заводе, где он работал механиком, никто не подозревал, что он провокатор, но рабочие не любили его за важность. Окладский избегал связей с революционными кружками на этом заводе, потому что боялся оказаться расшифрованным. Но зато работа на заводе помогла ему приобретать знакомства в революционной среде других районов города, и он знакомился и предавал, предавал и знакомился…
Он жил удивительной, даже не двойной, а тройной жизнью. На заводе знали механика Ивана Александровича Петровского — седобородого почтенного мастера, строгого к подчиненным, очень важного и сухого. Соседи по особнячку знали почтенного Ивана Александровича — человека с достатком, солидного домохозяина, главу семьи, который жил тихо, замкнуто, но ни в чем предосудительном замечен не был, отличался большой религиозностью и исправно посещал церковные службы. А на Фонтанке, в белом здании министерства внутренних дел, где сбоку помещалось охранное отделение, имевшее свой особый подъезд и дополнительно черный выход во двор, знали Техника, незаменимого провокатора, умевшего ловко втираться в революционную среду, быстро завоевывать доверие и ловко вынюхивать нужные адреса, фамилии, явки, планы. В охранке, кроме того, знали, что Техник пользуется особым расположением его высокопревосходительства господина министра внутренних дел, вхож к нему в дом и известен своими заслугами самому самодержцу всероссийскому, царю польскому, королю финляндскому и прочая, и прочая, и прочая…
И вдруг грянула революция. Сразу рухнуло благополучие потомственного почетного гражданина Ивана Александровича Петровского, нажитое на муках и крови преданных им десятков и сотен людей, повешенных и расстрелянных, замученных и запоротых в казематах и централах политических тюрем и крепостей, на каторге и на этапах.
Вскоре Окладскому пришлось бежать из Петрограда. Он еще не знал, где жить и как скрываться, какую роль играть, но знал, что в том городе, где он стал провокатором, где предал так много людей, опасно жить и работать…
Весною и летом он еще надеялся, что царский режим будет восстановлен и все опять пойдет по-старому: он будет жить в своем домике, ухаживать за цветами, снова будет получать свое жалованье и снова будет писать донесения в охранку.
Но после Октябрьской революции эти надежды рухнули. Окладский разъезжал по городам центральной России, его сбережения постепенно таяли, ему становилось все труднее. Он внимательно следил за газетами, каждый раз волнуясь, когда ему попадались заметки о разоблачении того или иного провокатора, охранника, палача. По ночам ему часто снились люди, которых он предал.
Но шло время, и оставили его кошмарные сны, а через пять лет, в 1922 году, Окладский успокоился. Он решил, что «карантин» прошел и что тайна Ивана Окладского навсегда погребена в прошлом.
Он вернулся в Петроград, который тогда еще носил это имя. Здесь он устроился на службу в мастерские Мурманской железной дороги. Он снова стал мастером и начал работать. Но и здесь рабочие невзлюбили его. Начались конфликты. Невесть откуда и невесть как поползли слушки, что мастер Петровский был близок к охранке. Ему пришлось уйти.
Тогда он поступил на завод «Красная заря» и стал подписчиком журнала «Былое», в котором нередко печатались материалы о предателях революции. Каждый новый номер этого журнала повергал его в трепет. И он успокаивался только тогда, когда дочитав последнюю страницу, не находил своего имени.
Страх — плохой советчик, и он подсказал Окладскому рискованную идею написать в анкете, что он имеет революционные заслуги и примыкал еще к народникам. Он написал, кроме того, что подвергался репрессиям как народник и даже сидел два года в Петропавловской крепости.
А в это время следственные органы уже занимались розыском Ивана Окладского. Вскоре в очередном номере «Былого» появилась статья революционера Н. Тютчева «Судьба Ивана Окладского». Тютчев проделал огромную работу, изучая архивы охранки, и нашел документы, относившиеся к Окладскому и к его превращениям из Окладского в Иванова, из Иванова в Александрова, из Александрова в Петровского…
После своего ареста Окладский пытался доказать, что он действительно Петровский и никакого отношения к Окладскому не имеет.
— Это ваш рапорт на имя «его превосходительства Ратаева»? — перебил его следователь и протянул Окладскому написанный его рукой рапорт, в котором он «покорнейше ходатайствовал» о представлении его через директора департамента полиции к званию потомственного почетного гражданина.
Окладский посмотрел на пожелтевший от времени лист и строки с выцветшими чернилами. Отказываться было бессмысленно. Он заплакал злыми, бессильными слезами.
— Я спрашиваю снова — это писали вы? — произнес следователь.
— Я, — ответил Окладский. — Я это писал…
— Вы намерены давать показания о своей тридцатисемилетней работе в охранке?
— Я все скажу, как было, все… Тютчев приукрасил в своей статье, будь он проклят!… Меня заставили… Я не выдержал… Но я старался говорить лишь то, что охранка знала и без меня…
— Окладский, вы изобличены не только своим рапортом. В нашем распоряжении документы, устанавливающие каждый ваш шаг, каждое ваше донесение, каждого человека, которого вы предали… Рекомендую не пытаться обмануть следствие и преуменьшать свою роль… А там, как знаете… Дело ваше…
И Окладский начал рассказывать, все еще, однако, пытаясь изобразить себя жертвой. Но каждая такая попытка парировалась документом. Старший следователь Игельстром так изучил всю историю «Народной воли» и архивы охранного отделения, что мог бы смело читать лекции по этим вопросам. Окладскому приходилось с ним трудно. Все попытки сбить следователя с толку, увести его в сторону, запутать в сложных эпизодах взаимоотношений «Черного передела» с «Народной волей», раскола на воронежском съезде, образования «Искры» разбивались очень глубоким и стойким знанием истории революционного движения. Игельстром, сын обрусевшего шведа, считался одним из лучших следователей Ленинграда. Я любовался, как он очень спокойно и внимательно выслушивал Окладского и тут же, не повышая голоса, корректно, но сокрушительно разбивал его возражения «железными» документами и доводами.
— Не кажется ли вам, Иван Александрович, — неизменно обращался после очередного «разгрома» к Окладскому Игельстром, — что при этих условиях вам трудно настаивать на своей версии? Не так ли?…
— Очевидно, я запамятовал, — отвечал Окладский. — В моем возрасте, гражданин следователь, это удивлять не должно… Пусть будет по-вашему.
— Мне не нужны ваши одолжения, Окладский, — отвечал Игельстром. — Должно быть не «по-моему», как вам угодно было выразиться, а так, как было на самом деле, в исторической действительности…
Позиция, занятая Окладским на следствии, была ясна: он твердо решил признавать факты только в пределах, бесспорно установленных подлинными документами. Поэтому, признав все, что было доказано документально, Окладский, например, утверждал, что после кружка Истоминой он до революции не провалил ни одной революционной организации или группы и вообще будто бы уже для охранки не работал.
— Не угодно ли вам в таком случае объяснить, за что же вам платили в охранке по сто пятьдесят рублей ежемесячно, и притом до самой революции? — спросил Игельстром.
— Угодно, — спокойно ответил Окладский. — Дело в том, что я, как электрик, чинил в департаменте полиции и на квартире министра электрическое освещение… Потому и платили…
— Допустим. Но не находите ли вы, что за починку электрического освещения такие суммы не платят?
— Однако платили.
— И только за ремонт электрического освещения?
— Да, за него…
— Сомневаюсь. Во всяком случае, даже электрическое освещение не освещает этот вопрос, Иван Александрович… Увы, не освещает…
— Это как вам будет угодно, а я говорю так, как есть…
— Вы были близко связаны с министром внутренних дел Дурново?
— Какое там близко!… То министр, а я мелкая сошка…
— Вы знали членов семьи Дурново?
— Что-то не помнится…
— Разве?… А вот после революции, когда дочь Дурново стала кухаркой, вы с нею встречались?
— Почему вы так думаете, гражданин следователь? — быстро спросил Окладский и начал теребить свою седую бороду.
— Я не думаю, я знаю, — улыбнулся Игельстром. — И знаю совершенно точно, от самой Дурново. Она показала, что все эти годы вы часто навещали ее, а она вас… Подтверждаете?…
— Подтверждаю…
— Что же вас связывало? Воспоминания?…
— Просто было ее жаль… Дочь министра — и вдруг кухарка…
— А людей, которые из-за вас шли на виселицу, вам не было жаль?
— Жалел и их, да выхода не было… Шкуру свою спасал…
— Ну, положим, не только шкуру… Вы ведь и званий добивались, и наград… Не так ли?…
— Это уж потом, когда в привычку вошло… — И, неожиданно опустив голову, Окладский добавил: — Так уж жизнь была устроена: либо пан, либо пропал… Но ведь не я ее устраивал. Сначала просто жить захотелось, не выдержал, А потом уж захотелось жить получше, потянуло на звание, на собственный домик, на жалованье… И пошло, и пошло…
Дело Окладского слушалось в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, 10-14 января 1925 года Верховным Судом республики. На суде председательствовал А. А. Сольц, старейший большевик. Государственным обвинителем на процессе выступал Н. В. Крыленко, первый советский прокурор. Общественным обвинителем был Феликс Кон.
Окладского защищали московские адвокаты Оцеп и Членов.
На суде в качестве эксперта по вопросам историко-революционным давал заключение профессор П. Е. Щеголев.
А в качестве свидетелей выступали старейшие народовольцы, и среди них та самая Якимова-Баска, которая полвека назад участвовала вместе с Желябовым, Тихоновым и Окладским в подготовке взрыва царского поезда в районе Александровска.
Колонный зал был переполнен до отказа, И если первые ряды были заполнены седыми ветеранами русского революционного движения, прошедшими через тюрьмы и каторги царской России, отдавшими всю свою жизнь революции и на закате лет увидевшими ее торжество, то все задние ряды и балконы были заполнены молодежью, комсомольцами, перед которыми на судебном следствии, в прениях сторон, в заключении эксперта и показаниях многочисленных свидетелей как бы оживала история революционного движения со всеми его взлетами и поражениями, ошибками и победами.
Да, сама история революционных народников, вписавших яркие страницы в великую книгу русского освободительного движения, ожила в этом необычном судебном процессе, где с удивительной ясностью раскрывались самые противоречивые характеры и поступки — верность и предательство, способность беззаветно до самого последнего вздоха служить делу революции и, если требовалось, идти не раздумывая на смерть за это святое дело и подлая трусость, превращавшая вчерашнего соратника в смертельно опасного врага.
Я никогда не забуду удивительной, благоговейной тишины, властно наступавшей в огромном, битком набитом взволнованными людьми зале, когда в показаниях свидетелей-народовольцев были произнесены имена тех свидетелей, которые уже не могли присутствовать на этом процессе, — имена Андрея Желябова, Степана Халтурина, Софьи Перовской, Гриневецкого, Кибальчича, Веры Засулич и других.
Пять дней шел этот судебный процесс, привлекший к себе внимание всей страны. Пять дней, год за годом, десятилетие за десятилетием, проходили на суде события, имевшие место полвека тому назад. А на скамье подсудимых ежился под перекрестными взглядами публики и нацеленными на него объективами фото — и кинокамер старый, матерый волк царской охранки, сохранивший себе жизнь ценою предательства людей, считавших его своим другом, соратником, товарищем по оружию.
В конце процесса Н. В. Крыленко в своей речи, как всегда темпераментной, глубокой и яркой, между прочим сказал:
«…Одним из самых основных по своему историческому значению моментов настоящего процесса был момент, когда перед нами давала показания Якимова-Баска. Я думаю, что этот момент является центральным уже потому, что в нем, как в фокусе, отразились три, по существу, момента.
Один — это апофеоз „Народной воли“. Мы с вами видели картину величайшего удовлетворения, которое может быть дано человеку, когда он сорок лет спустя увидел торжество дела, за которое он отдал жизнь. Этот момент был отражен тогда, когда здесь, в зале пролетарского суда, перед лицом рабочих и крестьян нашего Советского Союза давал показания человек, который своими руками и своей жизнью заложил начало движению, приведшему в конце концов к торжеству революции и гибели царизма, — этот момент нашел свое отражение в факте дачи здесь показаний Якимовой. Это было торжество „Народной воли“ в лице ее ветеранов.
Второе, что отразил этот момент, — это наше торжество, торжество нашей революции, наш апофеоз, поскольку освободившая страну революция — это наше дело, дело масс рабочих, это дело русского пролетариата, ибо это он, и только он дал возможность старым ветеранам, основоположникам революционного движения, прийти сюда, здесь видеть торжество дела, за которое они отдавали свою жизнь, и видеть осуществление его в реальности здесь, в центре нашей страны, в Москве, где еще так недавно, всего семь лет тому назад, господствовал царизм…»
Верховный Суд республики признал Окладского виновным и приговорил его по статье 67 уголовного кодекса к высшей мере наказания — расстрелу и конфискации всего имущества.
Однако, принимая во внимание преклонный возраст Окладского и давность совершенных им преступлений, Верховный Суд счел возможным заменить ему высшую меру наказания десятью годами лишения свободы со строгой изоляцией.
Так закончилась биография злого гения «Народной воли».
«ДАМА ТУЗ»
Летом 1925 года старший следователь Московского губсуда Алексеев вел следствие по делу А. Е. Серебряковой, которая четверть века была секретным осведомителем охранки и выдала ей многих революционеров.
В то время я, в качестве народного следователя, был прикреплен к следственной части губсуда и не раз присутствовал при допросах Серебряковой, представлявших значительный исторический и психологический интерес. Свидетелями по делу Серебряковой были А. И. Елизарова — сестра Владимира Ильича, А. В. Луначарский, М. Ф. Владимирский, С. Н. Смидович и многие другие старейшие большевики.
Серебряковой в то время было уже шестьдесят пять лет, и она почти ничего не видела, страдая катарактой. Несмотря на старость и слепоту, это была, однако, очень волевая, злобная, упорная старуха, которая, вопреки бесспорным и подлинным документам охранки, ее изобличавшим, оказывала яростное сопротивление следствию, сначала все отрицая, а затем торгуясь, как на базаре, буквально по каждому эпизоду дела.
Свою провокаторскую деятельность Серебрякова начала давно, еще в восьмидесятых годах прошлого века, когда она, по заданию Зубатова, бывшего в то время начальником московской охранки, организовала в своей квартире «марксистский салон» и работала в нелегальном Красном Кресте помощи политическим заключенным. Это помогло ей проникнуть в революционную среду, тем более что она охотно предоставляла свою квартиру-ловушку для явок, встреч и совещаний.
Более того, Серебрякова оказывала революционным организациям и другие услуги: распространяла и хранила революционную нелегальную литературу, доставала бланки и паспорта, участвовала в сборе денег для организации подпольной типографии.
Сама она не состояла членом какой-либо организации, партии или кружка, но пользовалась абсолютным доверием.
А. В. Луначарский так рассказывает о своих встречах с Серебряковой:
«…Мое знакомство с нею имело место более четверти века тому назад.
Но тогдашняя Серебрякова встает передо мною совершенно живой. Это чрезвычайно подвижная дама, с лицом некрасивым, но симпатичным, с очень яркими, обладавшими каким-то особым живым блеском глазами, чрезвычайно разговорчивая, необычайно ласковая и отзывчивая на все общественное и личное.
Заехал я к ней с письмом от П. Б. Аксельрода, который рекомендовал мне связаться через нее с московскими социал-демократами. Это и было сделано.
Не скажу, чтобы между нами завязалась какая-нибудь личная дружба. Но я и С. Н. Луначарская, теперь Смидович, и мой покойный брат относились к Анне Егоровне с большим уважением и тепло. Я чаще других бывал у нее, и не только на разных вечерах, которые имели характер марксистского салона, но и более интимно, утром и вечером, к завтраку и чаю. Мы беседовали с Анной Егоровной, редко бывавшей одинокой, почти всегда окруженной какими-нибудь друзьями или гостями, о всех злободневных вопросах марксистской журналистики, общих политических событиях, о друзьях в ссылке и за границей и т. д. Анна Егоровна любила потом уединяться с глазу на глаз и осведомлялась о том, что делается в нелегальной области…»
Разумеется, ни А. В. Луначарскому, ни другим посетителям «салона» Серебряковой тогда и в голову не приходило, что ее квартира — западня, организованная охранкой, и что приветливая, радушная хозяйка этой зловещей квартиры — штатный секретный осведомитель самого Зубатова, действующая под кличкой «Дама Туз»…
А. В. Луначарский рассказывает, что «Серебрякова очень много знала, расспрашивала товарищей, интеллигентов и рабочих, как им живется, хорошо ли работают, осведомлялась о судьбе разных листков, о подготовительной работе для стачек. Очень многое из нашей деятельности было ей известно… Затем Анна Егоровна переходила на частные дела, заботилась о здоровье, о бытовых условиях того, с кем она беседовала, — и все это делалось с такой ласковостью, с такой готовностью оказать всяческие маленькие услуги, что, уходя от нее, вы неизменно говорили себе: „Какой все-таки добрый и милый человек эта Анна Егоровна“».
В восьмидесятых и девяностых годах прошлого века московская охранка добилась значительных успехов в борьбе с революционными организациями. Благодаря этому, как свидетельствует в своих мемуарах жандармский генерал Спиридович, Московское охранное отделение «занимало исключительное положение среди розыскных органов России, и деятельность его распространялась далеко за пределы Москвы и ее губернии».
Собрав богатые агентурные данные о деятельности московских революционных организаций и групп, охранка начала с 1894 года их ликвидацию. Аресты посыпались один за другим. «Провалы следовали за провалами, — указывает историк московской социал-демократической организации Мицкевич. — Ни одной группе не удавалось укрепиться хоть сколько-нибудь прочно, шесть месяцев считались уже большим сроком для ликвидации группы».
Так, в 1894 году были ликвидированы охранкой социал-демократический кружок Мицкевича, затем Рабочий союз и женский кружок А. И. Смирнова и Мураловой.
В 1895 году были произведены многочисленные аресты социал-демократической организации Московского рабочего союза. В 1897 году охранка разгромила социал-демократические кружки Воровского, затем Розанова и Дубровинского, затем Елагина.
В 1898 году был ликвидирован охранкой «Московский Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899 году были арестованы сестры Карасевы, Смидович и А. В. Луначарский.
И наконец, в 1901 году произошел первый провал Московского комитета РСДРП, а в 1902 году — второй.
Только после революции, когда архивы охранки попали в руки советских следственных органов, выяснилось, что все эти многочисленные провалы московских революционных организаций и групп последовали главным образом в результате провокаторской деятельности Дамы Туз, получившей затем в охранке клички «Мамаша» и «Субботина».
Пользуясь доверием своих многочисленных знакомых из революционной среды, завоевывая их симпатии своей ласковостью и готовностью ко всяким услугам, радушно угощал революционеров чаем и завтраками, активно сотрудничая в политическом Красном Кресте, распространяя революционные листки и прокламации, собирая деньги на подпольную типографию и делая передачи для политических заключенных, нередко попавших в тюрьму по ее же милости, Серебрякова настойчиво собирала нужные охранке сведения.
В этом отношении очень характерны показания А. И. Елизаровой, данные ею на следствии по делу Серебряковой. В 1898 году Н. К. Крупская, бывшая тогда невестой Владимира Ильича, находившегося в сибирской ссылке, выехала к нему. Анна Ильинична, опытная революционерка и хороший конспиратор, скрыла от Серебряковой этот факт, хотя Серебрякова живо интересовалась судьбой Владимира Ильича. Анна Ильинична, конечно, не знала, что Серебрякова — провокатор, но интуитивно не доверяла ей и даже не раз советовала А. В. Луначарскому быть с нею осторожнее. Анну Ильиничну особенно настораживало чрезмерное любопытство Серебряковой.
Уже после отъезда Н. К. Крупской в Сибирь Серебряковой стало об этом известно из других источников. Она высказала Анне Ильиничне свою обиду на то, что Анна Ильинична скрыла от нее отъезд Надежды Константиновны в Сибирь, а затем в разговорах с общими знакомыми начала жаловаться на Анну Ильиничну, назвав ее «дамой под вуалью», конспирирующей «даже в мелочах». При этом Серебрякова ловко разыгрывала роль человека, оскорбленного незаслуженным недоверием.
Анна Ильинична на следствии показала:
«Когда Крупская весной 1898 года поехала с матерью в Сибирь, к Владимиру Ильичу, которого была невестой, Серебрякова знала, что она поехала в Сибирь, но я ничего не сказала ей о близости Надежды Константиновны к брату. И вот через некоторое время она говорит мне тоном серьезного упрека о большой обиде, что я отношусь к ней далеко не так, как она ко мне, что я ей не доверяю: например, не сказала о замужестве Н. К., и что кто-то спросил ее про Крупскую: „Как она там с мужем поживает?“ Она не знала, с каким мужем. „Да ведь она вышла замуж за В. Ульянова. Как же вы говорите, что близки с Елизаровой, если этого не знаете?“ — „Мне так неприятно было“, — заключила Серебрякова. Я подняла ее на смех, сказала: „Ведь вы не знаете брата“. — „Нет“. — „Так зачем же вам знать, женился ли он и на ком“. Я сочла это бабьей любовью к сплетням и потом дразнила ее, все ли она сердится на меня за это. Но все же, помню, мне странным показалось; я спросила ее, что же это за люди, которым это надо знать? Она отшутилась чем-то. „А они меня знают?“ — спросила я опять. „Знают“, — ответила она с кривой улыбкой…»
Через несколько лет был разоблачен как провокатор некий Михаил Гурович, втершийся в революционную среду и выполнявший задания Зубатова. Гурович был близко знаком и с Серебряковой. Муж Серебряковой, проживавший вместе с нею, служил тогда в земской управе. А. В. Луначарский дал такой портрет этого человека:
«…Ее мужа помню прекрасно. Он всегда производил крайне странное впечатление. Это был грузный мужчина, упорнейший молчун. Разве только клещами можно было вырвать у него слово. Он всегда смотрел вбок, редко в глаза… В сущности, на его мрачном лице лежала какая-то печать виноватости, внутреннего проклятия, но мы на это большого внимания не обращали. А. Е. махала рукой на своего супруга и говорила нам: „Мой бедный муж не совсем нормален, у него страшно тяжелая неврастения, и лучше оставлять его в покое…“».
По-видимому, А. В. Луначарский очень верно подметил в муже Серебряковой эту «печать виноватости и внутреннего проклятия», потому что Анна Ильинична в своих показаниях приводит такой эпизод:
«…В 1904 году проездом из Киева в Питер я зашла к ней (Серебряковой — Л. Ш.), и впечатление было очень неприятное: она была очень расфранченной, какой-то нахально-самоуверенной… За чаем я намеренно внезапно сказала: „А мы еще общего знакомого забыли — Гуровича!“ — и взглянула на обоих Серебряковых. Он вскочил, схватился руками за стол и весь затрясся, уставив глаза в одну точку. Она с тревогой посмотрела на него, подошла и сказала: „Тебе нехорошо, пойди и успокойся“ — и увела его в комнату. Оставшись одна, я почувствовала некоторое угрызение: я слышала от нее часто, что он человек больной, нервный. Ведь и сознание, что принимал у себя провокатора, должно быть тягостно, думала я. И я ждала, что, возвратившись, она упрекнет меня. Но она просто заговорила о другом, как будто ничего не произошло, и это было мне всего неприятнее».
Зубатов очень дорожил Серебряковой и принимал все меры к тому, чтобы ее роль не была разоблачена. Так, в своем письме в департамент полиции он писал в сентябре 1897 года, что имеются все основания для ареста за революционную деятельность А. И. Елизаровой, Э. Г. Гамбургера, В. Н. Розанова и других, Но «брать собственно из них никого нельзя, если не желать сломать всю нашу систему», ибо «все это составляет „святая святых“ нашей столицы». По терминологии охранки, «святая святых» означало такого секретного агента, которым следует особо дорожить, и потому нельзя арестовывать лиц, с ним знакомых, чтобы не навлечь подозрений на этого агента.
По тем же мотивам однажды был немедленно освобожден студент, задержанный полицией на вокзале с нелегальной литературой, полученной им от Серебряковой. Опасаясь, что он при допросе ее назовет, охранка немедленно его освободила.
Лишь при аресте членов Московского комитета РСДРП в 1902 году предательскую роль Серебряковой не удалось достаточно завуалировать. Тогда в Москву из-за границы приехала агент «Искры» Гурвич-Кожевникова. Здесь по явке, данной ей членом ЦК Носковым, Гурвич обратилась к Серебряковой с просьбой связать ее с членами Московского комитета. Серебрякова охотно за это взялась и связала Гурвич с членами МК — Теодоровичем, Вайнштейном и Мещеряковым. Об этом она, конечно, немедленно уведомила охранку, а та — департамент полиции.
В архивном деле департамента полиции сохранилось предписание директора департамента Лопухина Московскому охранному отделению «принять меры к тому, чтобы застать представителей „Искры“ и „Комитета“ на каком-либо из их совместных собраний».
В московской охранке повздыхали, но выхода не было. Выяснив через Серебрякову, что 27 ноября члены МК и Гурвич соберутся на квартире зубного врача Аннарауд, охранка оцепила эту квартиру и арестовала Теодоровича, Вайнштейна, Мещерякова, Гурвич и хозяйку квартиры, Между тем именно эту квартиру Серебрякова порекомендовала Гурвич для встречи с членами МК. При аресте произошла досадная для охранки «накладка», окончательно скомпрометировавшая Серебрякову. Дело в том, что Гурвич-Кожевникова, связавшись по рекомендации Носкова с Серебряковой, представилась ей в качестве Юлии Николаевны Каменской, и эту выдуманную фамилию никто, кроме Серебряковой, не знал. После ареста Гурвич, как и члены МК, отказалась себя назвать, и тогда жандармский офицер, производивший дознание, ей сказал:
— Напрасно вы, мадам, отпираетесь. Ведь нам отлично известна ваша фамилия. Вы Юлия Николаевна Каменская…
А в 1907 году Зубатов, уже находившийся в отставке, возбудил ходатайство перед департаментом полиции о выдаче Серебряковой денежного пособия. Отметив в своем ходатайстве, что скоро истекает двадцать пять лет «служебной деятельности» Серебряковой, Зубатов прочувствованно писал:
«Обладая солидной научной подготовкой и имея возможность по первоисточникам наблюдать противоправительственную деятельность, означенная деятельница была вполне сознательной и убежденной защитницей отстаиваемых ею национально-государственных начал. Сила внутреннего убеждения, при природных высоком темпераменте, уме и такте, естественно, должны были гарантировать успешность ее практической деятельности.
Действительность в высокой степени оправдала эти надежды: крупнейшие дела Московского охранного отделения обязаны успехом ее инициативе… Мало того, убедившись на деле в наличности связи провинциальной преступной деятельности с Москвой, г-жа Субботина (Серебрякова) намеренно расширила свои кружковые связи за пределы столицы… Честь первого раскрытия Бунда принадлежит именно ей. Киев, Екатеринослав, Кременчуг были серьезно освещены также ею… Для должностных лиц отделения она являлась не только глубоко преданным агентурным источником, но и компетентным советчиком, а иногда и опытным учителем в охранном деле. Как имевший удовольствие пользоваться ее интеллигентными услугами, я от души присоединяюсь к ее почтительнейшему ходатайству о выдаче ей 10 тысяч».
Помимо Зубатова не менее трогательную характеристику «заслуг» Серебряковой дал и второй начальник московской охранки, полковник Ратко, сменивший Зубатова в 1902 году. Ратко писал, что Серебрякова еще в 1905 году просила об отставке, но товарищ министра внутренних дел Трепов, учитывая «серьезное время», поручил уговорить Серебрякову пока не выходить в отставку, на что она согласилась и поступила в непосредственное распоряжение департамента полиции.
«Считаю долгом службы и совести, — писал Ратко, — поддержать ходатайство Серебряковой о выдаче ей 10 тысяч».
28 мая 1907 года эти две рекомендации были направлены в департамент полиции начальником московской охранки фон Котеном, который, в свою очередь, поддерживал ходатайство Серебряковой. Отметив, что благодаря ее агентурным донесениям охранке удалось «лишь за один год обнаружить несколько подпольных типографий», Котен писал:
«Разносторонние познания, обширные связи, многолетняя опытность, природная тактичность и преданность делу сделали г. Субботину (Серебрякову) полезной для освещения не только московских организаций, но и для выяснения иногородних революционных кружков, имевших связи с руководящими центрами столицы».
10 января 1908 года министерство внутренних дел разрешило выдачу Серебряковой вознаграждения в размере пяти тысяч рублей.
Но тут же, наряду с наградой, на голову Серебряковой внезапно обрушилась непредвиденная беда. В Париж бежал крупный сотрудник департамента полиции Леонид Меньшиков и опубликовал там материалы о провокаторской деятельности Серебряковой.
Меньшиков был авантюрист высокого класса. В молодости он примыкал к одной из революционных групп, но затем был арестован и завербован охранкой. Он быстро сделал карьеру и стал чиновником для особых поручений департамента полиции. Это был корректный, малоразговорчивый блондин в золотых очках, с аккуратно подстриженной бородкой и солидными манерами. Он был очень похож на молодого профессора или доцента с большим будущим. Все тот же генерал Спиридович писал в своих мемуарах: «Меньшиков был редкий работник. Он держался особняком. Он часто бывал в командировках; будучи же дома, сидел „на перлюстрации“, то есть писал в департамент полиции на его бумаги по выяснениям различных перлюстрированных писем. Писал также и вообще доклады департаменту по данным внутренней агентуры. Это считалось очень секретной частью, тесно примыкавшей к агентуре, и нас, офицеров, к ней не подпускали…»
Меньшиков действительно хорошо знал революционных деятелей того времени, отлично разбирался в партийных программах и разногласиях. За свою работу в охранке он был отмечен орденами и часто получал награды. Словом, это был видный работник охранки.
И вот — Париж. 1909 год. Осень. К Бурцеву, который тогда жил в Париже и издавал газету «Общее дело», поступает письмо Меньшикова, в котором он сообщает, что порвал с охранкой, где будто бы работал с целью разоблачения провокаторов в революционной среде, а теперь приехал в Париж, чтобы передать заграничным революционным центрам списки этих провокаторов.
«В моем распоряжении, — писал Меньшиков, — фотоснимки подлинных секретных документов охранки, списки агентуры, ее клички, адреса конспиративных квартир. Часть сведений я намерен опубликовать в вашей газете. Остальные готов дать представителям революционных организаций за границей…»
Сразу из Парижа Меньшиков уехал на юг Франции и там обосновался. Он сообщил Бурцеву свой адрес, где может принять представителя центра.
Меньшевики обсудили это предложение и решили послать Горева-Гольдмана.
В заранее обусловленный день Горев-Гольдман приехал к Меньшикову.
— Прежде чем я вступлю с вами в переговоры, — начал Горев-Гольдман, — я должен задать вам один щекотливый вопрос…
— Спрашивайте, — коротко бросил Меньшиков и густо покраснел.
— Мы подозреваем, что вы — то самое лицо, которое шесть лет тому назад провалило, в качестве провокатора, втершегося в организацию, Северный союз…
Горев-Гольдман оборвал фразу и посмотрел на Меньшикова. Тот сидел перед ним, барабаня пальцами по столу, бледный и как бы задумчивый. Потом, после небольшой паузы, он спокойно произнес:
— Да, это я. Но я должен объяснить. Это единственный случай в моей жизни, когда я играл такую роль. Я стыжусь этого случая. Но это был необходимый шаг, чтобы заслужить доверие начальства и повыситься по службе, то есть попасть в Петербург, в секретный отдел департамента полиции, где сосредоточены все сведения о провокаторах… Кроме того, я принял все меры, чтоб выданные мною члены Северного союза отделались лишь административной ссылкой…
Так начался разговор Горева-Гольдмана с Меньшиковым. Последний рассказал подробности ликвидации Северного союза. По словам Меньшикова, охранка, где он уже работал, получила через секретных сотрудников, имевшихся в искровской организации, ключ шифрованной переписки, которую заграничная организация «Искры» вела со своими агентами и комитетами в России. И вот, не арестовывая адресатов и даже не конфискуя писем, охранка узнала ряд явок и паролей. Тогда, воспользовавшись одной из таких явок, Меньшиков, решивший сделать карьеру в охранке, поехал в Воронеж и явился под видом агента «Искры» к Любимову. Он назвал ему пароль, и Любимов не мог ему не поверить. По требованию Меньшикова Любимов назвал ему ряд явок в других городах империи, а также новые пароли.
Получив эти данные, Меньшиков начал свое турне по городам России, узнавал фамилии участников организации, их связи и адреса. Ему удалось даже встретиться с одним из лидеров меньшевиков — Даном, который объезжал организации после Белостокского съезда.
Вернувшись в Петербург, Меньшиков представил в охранку все собранные им данные, и весь Северный союз был разгромлен.
— Вы должны понять, — говорил Меньшиков Гореву, — что в результате этой поездки и встреч со многими участниками Северного союза я разочаровался. Организация мне показалась слабенькой, несерьезной, а люди — слишком наивными и доверчивыми. Таким людям я не мог открыться. С другой стороны, эта операция сразу подняла мои шансы в охранке, на что я и рассчитывал. Меня действительно перевели в Петербург и назначили заведующим особым отделом департамента полиции, то есть тем самым отделом, где производилась регистрация и «заагентуривание» всех секретных сотрудников охранки. Вот тут я и начал реализовывать свой давнишний план, из-за которого и пошел в охранку. Я его реализовал, и вот — я здесь…
Так объяснил свою службу в охранке Меньшиков Гореву. Иначе, много лет спустя, объяснил ее жандармский генерал Спиридович:
«…взятый в Петербург, в департамент, прослуживший много лет на государственной службе, принесший несомненно большую пользу правительству, он был уволен со службы директором департамента полиции Трусевичем. Тогда Меньшиков вновь встал на сторону революции и, находясь за границей, начал опубликовывать те секреты, которые знал. Вот результат быстрых мероприятий шустрого директора».
Но так или иначе Меньшиков назвал ряд провокаторов, и в частности Серебрякову. Ее он назвал не только в беседе с Горевым, но и в статье, опубликованной Бурцевым в его газете. Меньшиков обосновал разоблачение Серебряковой тем, что привел почти дословно ее разговор с глазу на глаз с Гурвич-Кожевниковой, когда та приехала в Москву и связалась при помощи Серебряковой с членами Московского комитета РСДРП. Гурвич потом подтвердила, что этот разговор, известный Меньшикову из донесения Дамы Туз, воспроизведен им абсолютно точно.
Так была разоблачена Дама Туз, Мамаша, Субботина.
В московской охранке начался страшный переполох. Провалился едва ли не самый ценный провокатор в лице Серебряковой. Фон Котен почти плакал. Зубатов, продолжавший, уже будучи в отставке, встречаться с Мамашей, скрежетал зубами и, конечно, кричал, что при нем ничего подобного случиться не могло. Зубатову вторил полковник Ратко. В охранке и на квартирах Зубатова и Ратко шли непрерывные совещания. Дама Туз закатывала истерики.
Кончилось тем, что муж Серебряковой опубликовал в ряде русских газет, перепечатавших из «Общего дела» заметку о Серебряковой, свое письмо, в котором, он от собственного имени, а также от имени «глубоко оскорбленной» супруги опровергал сообщение Бурцева и требовал организации «третейского суда» для ее реабилитации…
По показаниям Горева-Гольдмана, данным им на следствии в связи с письмом мужа Серебряковой, была создана межпартийная следственная комиссия, как тогда было принято в таких случаях в революционной среде, и Горев был назначен членом этой комиссии. Однако Серебрякова, несмотря на приглашение комиссии, отказалась выехать за границу для своей реабилитации.
Понятно, что она боялась выехать за границу, так как понимала, что реабилитирована не будет, и опасалась мести, за свое предательство.
В 1910 году Виктор Павлович Ногин, один из старейших большевиков, приехал из-за границы в Россию в качестве представителя ЦК. По показаниям В. П. Ногина, данным им на следствии по делу Серебряковой, он в тот приезд уже знал, что Серебрякова провокатор. «Мне стало доподлинно известно, — показал Ногин, — что в 1903 году я был провален именно ею… Я, как представитель ЦК партии в России, собрался было ее „ликвидировать“, но, получив сведения о том, что она уже дряхлая старуха, от этого намерения своего отказался».
А 27 января того же 1910 года директор департамента полиции Зуев писал по начальству:
«В январе 1908 года секретной сотрудницей Московского охранного отделения Субботиной, оказавшей в свое время неоценимые услуги делу политического сыска не только в Москве, но и для большей части Европейской России, было выдано из сумм департамента полиции единовременное пособие в пять тысяч рублей, взамен пенсии, — так как Субботина, достигнув престарелого возраста, вынуждена была прекратить свою исключительную по степени полезности и верности делу деятельность.
В конце минувшего 1909 года известному эмигранту Бурцеву удалось разоблачить прошлую деятельность Субботиной в качестве секретной сотрудницы правительства по освещению революционного движения в России.
Таковое разоблачение не только окончательно потрясло и без того расстроенное здоровье Субботиной, но отразилось крайне печально и на ее семейном положении, а именно: ближайшим результатом разоблачения было вынужденное оставление мужем Субботиной места в Московской земской управе, состоящей, как и все подобные учреждения, в лучшем случае в большинстве из оппозиционных элементов…»
Это почти лирическое письмо Зуев заканчивал просьбой выдать Серебряковой-Субботиной новое денежное пособие в сумме двух тысяч рублей.
Выдали. Но на голову Серебряковой обрушилась новая беда.
У Серебряковой были дети. Летели годы, и они незаметно превращались из детей в подростков, из подростков — в молодых людей. С самого детства они слышали дома разговоры о революции, они видели посещавших квартиру Серебряковой революционеров, они запоминали эти обычные для этой квартиры и в то же время такие пленительные своей таинственной романтикой слова: «явка», «пароль», «листовки», «подпольная типография», «Искра», «стачка»…
Сначала эти слова воспринимались детьми как некая опасная и потому тем более увлекательная игра. Но постепенно слова эти наполнялись определенным смыслом и чувством, — они звали к борьбе, они захватили детей Дамы Туз, и они, а не она воспитали их…
В сутолоке своей темной, двойной жизни Серебрякова как-то и не заметила того, что происходит с ее детьми, а когда заметила, то было уже поздно: они стали революционерами.
Дама Туз ужаснулась. Она не смела открыться своим детям, сказать им, что она совсем не та, за которую они ее принимают и которой даже гордятся, не могла сказать им, что вся жизнь, привычная им с детства среда, в которой она вращается, разговоры, которые она ведет, чувства, которые она выражает, что все это — только страшная и подлая игра, что ее квартира — западня, а ее друзья, доверяющие ей, — жертвы своего доверия и ее предательства…
Она побежала к своему старому шефу — Зубатову. Ведь и он, до того как стать охранником, считался когда-то революционером. Как быть? Что делать? Как спасти детей?…
Весь вечер они просидели вдвоем — два старых провокатора, которым нечего было скрывать друг от друга. Может быть, именно потому они так и тянулись один к другому. Их связывала общая подлость, как убийц связывает общее преступление. Связывал общий страх перед революционерами, каждый из которых, если б мог, не задумываясь их уничтожил. Связывала та опустошенность души и никчемность жизни, которая неизбежно приходит за предательством, как страшная расплата за него. Их связывало, наконец, полное отсутствие веры в дело, которому они служили, и в строй, ради которого они стали предателями. Правда, в этом они боялись признаться даже друг другу.
Им не удалось найти выход, потому что его нельзя было найти. И Серебрякова махнула рукой на своих детей. Но даже на этом она решила заработать. И, хлопоча о новых «вознаграждениях», она выдвинула начальству и новый мотив…
Ее поддержал сам Столыпин. Он доложил о Серебряковой и ее детях царю. Вот этот, поистине страшный, документ:
ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
В числе секретных сотрудников, состоявших в последнее время при Московском Охранном отделении, в течение 25 лет несла службу Анна Григорьевна Серебрякова, которая оказала весьма ценные услуги делу политического розыска. Благодаря ее указаниям розыскным органам удалось обнаружить несколько подпольных типографий, расследовать преступную деятельность различных профессиональных организаций, выяснить многие революционные кружки, проявившие свою деятельность в разных городах, имевшие связи с руководящими центрами столиц, и, таким образом, нанести революционному движению весьма значительный ущерб.
Будучи убежденным врагом крамолы, Серебрякова исполняла свои обязанности идейно, мало интересуясь денежным вознаграждением и совершенно тайно от своих родных. В силу принятых на себя добровольно обязанностей по содействию правительству в борьбе с революционным движением, Серебрякова вынуждена была мириться с тем, что ее дети, встречая в доме матери людей революционного направления, невольно сами заражались их убеждениями, и ей приходилось нравственно страдать ввиду невозможности уберечь своих детей от опасности увлечения революционными идеями и связанной с этим совершенной шаткостью всей их жизненной карьеры.
Несмотря на то что Серебрякова в течение всей своей продолжительной службы, полной тревог и нервного напряжения, отличалась исключительными способностями, находчивостью и осторожностью, старому эмигранту-народовольцу Бурцеву, в силу особых обстоятельств последнего времени, в октябре 1909 года удалось разоблачить и предать широкой огласке ее деятельность, благодаря чему Серебрякова была оставлена на произвол судьбы своим мужем и детьми, удалена со службы из Московской губернской земской управы и, таким образом, лишилась единственного средства к существованию.
Все последние удары жизни настолько расстроили еще ранее подорванное здоровье Серебряковой, достигшей пятидесятилетнего возраста, что она лишилась трудоспособности, в последнее же время совершенно потеряла зрение на оба глаза.
Признавая, ввиду сего, участь Анны Серебряковой заслуживающей исключительного внимания и озабочиваясь обеспечением ее старости, всеподданнейшим долгом поставлю себе повергнуть на Монаршее Вашего Императорского Величества благовоззрение ходатайство мое о Всемилостивейшем пожаловании Анне Серебряковой из секретных сумм Департамента Полиции пожизненной пенсии в размере 1200 рублей в год.
Министр внутренних дел, Статс-секретарь Столыпин.
31 января 1911 года.
На этом документе имеется следующая пометка, сделанная рукою Столыпина: «Собственною Его Императорского Величества рукою начертано „СГ“ — Согласен — в Царском Селе. Февраля 1 дня 1911 года. Статс-секретарь Столыпин».
И вот июнь 1925 года. Шумит Москва за окнами небольшого кабинета старшего следователя Московского губсуда, и я вижу шестидесятипятилетнюю, седую Серебрякову, сидящую перед столом следователя. У нее скуластое лицо, крепко сжатый рот, гладко зачесанные седые волосы, глубоко сидящие и уже ничего не видящие, мертвые глаза.
Она отвечает на вопросы следователя медленно, тихо, подумав. Она очень хорошо, как и все слепые, слышит, но часто, желая обдумать ответ на задаваемый вопрос, притворяется, что не расслышала вопроса, и медленно тянет:
— Вы, кажется, что-то спросили? Извините, не расслышала…
Она не признает себя виновной. Она знает, что восемь лет тому назад навсегда рухнул царский режим, которому она служила четверть века. Она понимает, что этот режим никогда не вернется, и поэтому хочет отмежеваться от него. Награды и пенсии из охранки? Да, она их получала, но, право, в документах явно преувеличена ее роль… На самом деле ее связь с охранкой заключалась лишь в том, что в девятисотых годах Зубатов, начиная проводить свой план легализации рабочего движения, просил давать ему сведения об отношении к этому различных общественных и литературных групп. Идея Зубатова ее увлекла, и она охотно с ним встречалась и рассказывала о впечатлениях по поводу его «легализации». Вот и все. Да, она еще иногда подбирала ему книги по истории рабочего движения на Западе…
— Вот все, что я знаю. Никого я не предавала, ничего, батюшка, знать не знаю и ведать не ведаю… А деньги мне Зубатов выхлопотал потому, что хотел доказать, что я вовсе его не одурачиваю, как думало его начальство… А из денег этих я себе только одну тысячу взяла, а остальные израсходовала на политический Красный Крест, хотите верьте, хотите нет…
— О ваших «заслугах» перед охранкой писал не один Зубатов, но и сменивший его полковник Ратко, а также сменивший Ратко фон Котен и сам Столыпин. Как вы это объясняете?
— Вы, кажется, что-то спрашиваете? Извините, не слышу…
Следователь повторяет вопрос. Серебрякова медленно жует губами, потом нехотя произносит:
— А коли они писали, так вы их и спрашивайте… Я за их писанину отвечать не могу… Хотите верьте, хотите нет…
— А вы объяснить не можете?
— Не берусь.
— Да, объяснить это трудно. Я вас понимаю, Серебрякова, — говорит следователь. — Трудное у вас положение: сказать правду не хотите, а опровергнуть документы не можете…
— Считайте как хотите. А я не признаю…
И внезапно, со злым и тупым упорством, кричит:
— Слышите, не признаю!… Не приз-на-ю!… Ясно?…
— Вполне, — отвечает следователь. — Все ясно, Серебрякова, Что ж, так и запишем, что вы все отрицаете…
— Пишите на доброе здоровье. Пишите, — почти шипит старуха.
И хотя ее, объяснения бессмысленны, отрицания нелепы, утверждения лживы, она занимает эту позицию до самого конца следствия, оставаясь до последнего своего вздоха лютым врагом всего того, что лишило ее детей, привилегий, пенсии, а главное — лишило возможности и дальше доносить, обманывать, предавать и посылать на каторгу и в тюрьмы людей, имевших несчастье ей поверить…
В этом и заключался главный смысл ее долгой, страшной и гнусной жизни, жизни ядовитой змеи.
КАРЬЕРА КИРИЛЛА ЛАВРИНЕНКО
Весною 1928 года я как-то поздно засиделся в своем кабинете, в здании Ленинградского областного суда на Фонтанке, где когда-то, до революции, помещалось министерство внутренних дел. В правом крыле этого странного здания, двухэтажного по фасаду и пятиэтажного во дворе, находились кабинеты старших следователей, в которые вел длинный темный коридор с неожиданными поворотами и тупиками.
Именно в больших комнатах этого крыла некогда находилась охранка, или Третье отделение, как она именовалась. Вероятно, поэтому правое крыло здания министерства внутренних дел имело свой особый подъезд и, кроме того, выход во двор, откуда можно было пройти на Пантелеймоновскую улицу.
С главного, парадного подъезда дома начиналась роскошная мраморная лестница в два марша, ведшая на второй этаж, где в свое время была приемная и кабинет Столыпина, когда он был министром внутренних дел Российской империи.
В тот мартовский вечер, о котором идет речь, я писал обвинительное заключение по очередному делу, законченному следствием. Это было дело об убийстве на почве ревности. Обвиняемый, некто Ивановский, застреливший жену из старого «смит-вессона», не отрицал своей вины и подробно рассказал о всех перипетиях своего неудачного брака, закончившегося так трагически.
Неожиданно мне позвонил по телефону Владимиров — прокурор, наблюдавший в то время за старшими следователями.
— Здравствуй, Лев Романович, — сказал он, как всегда покашливая. — Поступило новое дело. И придется тебе, друг мой, окунуться в далекое прошлое… Словом, если не в волны Балтийского моря, то, во всяком случае, в историю Балтийского флота.
— А в чем дело? Я ведь, кажется, не моряк и не историк.
— А кем только не приходится быть нашему брату криминалисту? — резонно ответил мне Владимиров. — Тут разоблачен один старый провокатор, проваливший революционное восстание в Балтфлоте в 1906 году. Одним словом, завтра принимай арестованного… Фамилия его Лавриненко.
Наутро следующего дня я получил дело, ознакомился с ним, и в середине дня ко мне доставили арестованного. Это был пожилой человек, небольшого роста, с седенькой, клинышком, бородкой, маленькими, глубоко сидящими серыми глазами и угодливой, какой-то елейной улыбочкой.
Как только его ввели в мой кабинет, он еще с порога отвесил поклон, произнес: «Здравия желаю!» — сел на стул перед моим письменным столом и начал с любопытством рассматривать комнату.
— Вот то окошечко, извините, выходит во двор? — неожиданно спросил он, указывая на правое окно, действительно выходившее во двор.
— Да, вы правы, — ответил я не без удивления. — А почему вас это интересует, Лавриненко?
— Судьба… — произнес он со вздохом. — Господи Исусе Христе, та самая комната, тот самый коридор… Скажите пожалуйста, какая ирония жизни… Ай-ай-ай…
И он сокрушенно покачал головой.
Я понял, о какой «иронии жизни» говорит Лавриненко, и прямо его спросил:
— Отсюда выходили через дворик?
— Большей частью, — ответил он. — Случалось, однако, И на Фонтанку, особенно в позднее времечко… С его превосходительством директором департамента полиции Трусевичем, ежели слышать изволили, не раз здесь беседовать приходилось… Что делать — выполнял присягу-с… Я ведь сам из простых людей… Лицеев не кончал… Конечно, образования не имел и сознания не хватало… Я ведь был простым артиллерийским кондуктором.
— Это вначале. Потом, если не ошибаюсь, вы были произведены в поручики?
— Сначала в подпоручики по адмиралтейству…
— А в тысяча девятьсот двенадцатом году вы уже стали штабс-капитаном флота на судне «Петр Великий»?
— Точно так. Стал.
— Значит, и без лицея обошлись?
— Что делать, судьба…
— Ну, зачем же все сваливать на судьбу, Лавриненко?… Давайте разберемся, где судьба, а где вы сами… Итак, перейдем к делу…
…Летом 1906 года Балтийская эскадра крейсеров проводила учения вблизи ревельских берегов. В то время на многих судах флота были созданы революционные группы и кружки. Героическое восстание «Потемкина» и волнения в Черноморском флоте дошли и до Балтики. На кораблях распространялась нелегальная литература, организовывались летучие митинги, устанавливались связи с ревельской большевистской организацией. Команды военных судов «Рига», «Рында», «Николаев» и «Память Азова» были под особым наблюдением, потому что охранка получила данные о том, что на этих судах организованы большевистские комитеты, которыми руководит группа матросов крейсера «Память Азова». Во главе этой группы стояли матросы Лобадин, Колодин, Тухин и Костин. Они и поддерживали связь с ревельскими социал-демократическими организациями и революционными группами остальных судов эскадры.
По заданию охранки Ревельское жандармское управление установило тщательное наблюдение за судами и их командами, особенно за крейсером «Память Азова».
В своем очередном докладе в охранку Ревельское жандармское управление писало:
«Со времени прихода летом сего года судов Балтийской эскадры в Ревельский рейд, как и в минувший год, установлено было наблюдение за поведением судовых команд и их сношениями с неблагонадежными на берегу.
Установлено было, что на судах „Память Азова“, „Рига“, „Рында“, „Николаев“, отчасти „Слава“ среди нижних чинов имелись лица, составлявшие как бы группу (вроде боевой дружины), которая руководила революционной пропагандой среди матросов, в свою очередь будучи направляема к тому посторонними агитаторами. Получены были сведения, что с „Памяти Азова“ и „Риги“ чаще других имели сношение с частными лицами: 1) минный квартирмейстер Сидоров, 2) артиллерийский квартирмейстер Лобадин, 3) артиллерийский унт. — оф. Костин, 4) Трофим Тухин, 5) минер Осадчий, 6) Иванов, 7) Шевчук („Рига“), 8) Колодин (боцман), 9) Аникеев, 10) Гаврилов (боцман), 11) Рукавишников (машинист), 12) Крючков (гальванер) и 13) Рубайлов (боцман).
Из них крупным главарем, влиявшим очень сильно на других, был Лобадин, ближайшими помощниками его — Костин, Осадчий, Аникеев и Гаврилов. Все означенные матросы главным образом сносились с некиим Оскаром Миносом, известным у них под кличкой „Оська“. Личность эта подлежит точному установлению. У этого лица или через его посредство составлялись сходки и, между прочим, по агентурным указаниям, в доме 19 кв. 13 по М. Юрьевской улице в Ревеле, где, по справкам, оказался проживавшим студент Эрнест Грюнберг с женой Александрой Артемьевой и сестрой Урлиной Грюнберг».
Получив это сообщение через департамент полиции, командование Балтийского флота всполошилось. После долгих и секретных совещаний было решено, что адмирал Бирилев должен лично выехать в Ревель, посетить крейсер «Память Азова» и произнести перед матросами пламенную речь, чтобы вырвать их из рук крамолы. Адмирал Бирилев считался недюжинным оратором.
В середине июля адмирал торжественно вступил на борт крейсера. Ему были отданы все положенные почести. В кают-компании был сервирован стол. После обеда адмирал собирался потрясти сердца команды заранее приготовленной речью.
Матросы были выстроены на палубе. И адмирал заговорил. Он говорил о волнениях в России, о «смутных днях» и «жидовских смутьянах», о верности царю и отечеству. Он напомнил матросам слова присяги. И, заканчивая свою речь, провозгласил «ура» в честь «императора всея Руси» К ужасу офицеров, сотни матросов крейсера ответили на эти слова адмирала гробовым молчанием, Адмирал побагровел, резко повернулся и пошел к трапу мимо матросов, продолжавших молчать. Было так тихо, что стук адмиральских каблуков, казалось, раздается на весь рейд.
На следующий день, 19 июля, несколько матросов крейсера были отправлены на берег, за провиантом. Они вернулись вечером и доставили продукты, за которыми их посылали. Но они доставили не только продукты: с ними приехал человек, одетый в форму матроса. И это был не матрос. Это был Оскар Минос-Ковтюх.
Офицеры не заметили, что на крейсере стало одним матросом больше. Офицеры многого не заметили. Ночью Минос-Ковтюх провел совещание с руководителями организации на крейсере «Память Азова». Было принято решение поднять восстание на крейсере, а затем на всех остальных судах эскадры.
Ночью 20 июля, около двенадцати часов, старший офицер Мазуров заметил, что на носу собралась группа матросов. Увидев офицера, они стали разбегаться. Мазурову это показалось подозрительным. Он пошел на батарейную палубу, где спали матросы. На одной из коек лежали два матроса. Один из них назвался кочегаром. Мазуров, знавший всех кочегаров, увидел, что его вводят в заблуждение. Мазуров задержал матроса и запер его в ванном помещении. Этот матрос был Оскар Минос.
Узнав, что Минос арестован Мазуровым, матросы выбежали на верхнюю палубу. Офицеры потребовали, чтобы они разошлись, но матросы отказались выполнять приказ. Началась свалка, офицеры подняли стрельбу из револьверов. Матросы сбили их с ног, отняли оружие…
Через несколько минут вся команда крейсера была на верхней палубе. Офицеры были обезоружены и задержаны. Крейсер оказался в руках восставших. Командование крейсером приняла на себя боевая дружина.
Всю ночь шли митинги и совещания. Офицеры были изолированы и надежно охранялись. Никто из матросов не ложился спать. Теплая июльская ночь медленно таяла, приближаясь к рассвету; вдали давно погасли огни Ревеля, где еще не было известно о событиях, происшедших на крейсере. Штаб боевой дружины совещался в капитанской рубке. Матросы группами собирались на палубах, ожидая решений штаба.
Наконец, уже на рассвете, штаб объявил свое решение: крейсер «Память Азова» начинает революционное восстание в Балтийском флоте. Крейсер должен подойти к военному судну «Рига», стоящему ближе других судов, и призвать его команду присоединиться к восстанию. Потом вместе с «Ригой» подойти к остальным судам эскадры и обратиться к ним с тем же призывом.
Объявив команде свое решение, штаб поднял над крейсером красный флаг. Раскаты громового «ура» пронеслись над рейдом. Многие матросы плакали от счастья. Флаг осветили бортовым прожектором, и он переливался в лучах голубоватого света. И когда на заре на горизонте всплыло багровое, будто дымное солнце, оно было почти одного цвета с этим флагом.
Старшим судовым кондуктором крейсера был Кирилл Лавриненко. Этот невысокий молчаливый человек был известен как черносотенец, наушник и подхалим. Матросы, знавшие его давно, относились к нему с презрением и называли его «шкурой».
Но на крейсере около трехсот матросов служили недавно. Это были молодые крестьянские парни, только в прошлом году призванные во флот. Они еще робели перед начальством, многие из них были неграмотны, и все, что случилось в эту тревожную ночь, казалось им непонятным. Непонятны были речи, которые произносились на митингах. Непонятен новый красный флаг, который взвился над крейсером. Непонятен был восторг команды, с которым она встретила этот флаг. И уж совсем непонятно было будущее, которое ждет и крейсер, и его команду, и эту боевую дружину, которая теперь командовала крейсером.
Лавриненко был наблюдательным человеком, и он заметил растерянность молодых матросов. На крейсере кроме Лавриненко были и другие кондукторы, большинство которых тоже со страхом ожидало будущего. И Лавриненко решил «подавить бунт» и таким образом отличиться.
Исподволь и очень осторожно начал он готовить матросов. Он вздыхал, говоря о том, что «неминуемо» с ними сделают за «этих бунтовщиков». Он говорил о военном суде и о каторге, о безнадежности бунта, о господе боге, который покарает мятежников и воздаст должное тем, кто остался верен «царю-батюшке и присяге».
Между тем крейсер подошел к «Риге». Вся команда высыпала на палубу, с трепетом ожидая, как встретит «Рига» предложение присоединиться к восстанию. Сигнальщики передали «Риге» братский призыв. Все с волнением ждали, что скажет «Рига». Как ответит «Рига»…
Но «Рига» никак не ответила. Корабль внезапно снялся с якоря и на всех парах пошел на Либаву. Это взволновало всех и озадачило многих.
Лавриненко торжествовал. Он уже смелее заговорил с молодыми матросами.
— Ну, что я вам говорил, ребята? — спрашивал он. — Ни одно судно изо всей эскадры на бунт не пойдет… Одни мы, дураки, обвести себя дали невесть кому, невесть зачем… Беритесь, дурни, за ум, пока не поздно!… А то всем нам головы не снести!… Одно спасение — связать бунтовщиков и освободить офицеров… Тогда и нам будет снисхождение от начальства…
В конце концов Лавриненко и ставшие на его сторону кондукторы убедили молодых матросов. Сразу после ужина, ровно в шесть часов, на батарейной палубе Лавриненко крикнул:
— С подъемом столов!…
Это был сигнал к нападению. Новобранцы с винтовками набросились на остальных матросов, для которых это явилось полной неожиданностью. Началась паника. Нападающие оттеснили матросов к фок-мачте. С мостика Лавриненко навел на них пулемет, со всех сторон их окружили вооруженные новобранцы.
— Сдавайся, пока не поздно! — кричал Лавриненко. Матросы сдались. Лобадин, увидев, что все, проиграно, тут же, на глазах всей команды, схватил детонатор и ударил по капсюлю. Ему разорвало живот. Часть матросов бросилась за борт, в море.
— Выловить всех до единого! — закричал Лавриненко.
И группа кондукторов спустила на воду моторный бот и пустилась в погоню за матросами. Кое-кого задержали. Остальные, не желая отдаваться в руки Лавриненко и властей, утопились.
Лавриненко торжественно освободил офицеров. С мачты сорвали красный флаг, и Лавриненко, пританцовывая, топтал его ногами и кричал:
— Вот так всех смутьянов затопчем!…
Правительство создало по этому делу особую следственную комиссию. Более девяноста человек были преданы военному суду. Суд тоже был особый, специально назначенный личным указом царя.
Восемнадцать человек были осуждены к смертной казни и расстреляны. В том числе и Минос-Ковтюх. Остальные были осуждены на каторгу.
А Лавриненко уже 7 августа получил «высочайшую» награду.
В императорском приказе по морскому министерству было опубликовано:
«Государь император в воздаяние честно исполненного долга и присяги при подавлении мятежа на крейсере 1-го ранга „Память Азова“ всемилостивейше соизволил пожаловать серебряную медаль с надписью „За храбрость“ артиллерийскому кондуктору Кириллу Лавриненко».
Помимо этого, Лавриненко был произведен в подпоручики по адмиралтейству.
А через несколько лет он уже был штабс-капитаном флота на судне «Петр Великий».
Лавриненко был достаточно умен, чтобы отрицать все эти факты, установленные документами и показаниями оставшихся в живых многочисленных свидетелей. Он и не отрицал их.
— Сделал я это, гражданин следователь, по своей темноте и религиозности, — говорил он на следствии. — Я так полагал, что сие долг мой человеческий… Однако то прошу принять во внимание, что я сам не из дворян и помещиков и потому действовал бессознательно и как слепой… Фактов не отрицаю, действительно виноват…
— Однако, Лавриненко, следствие располагает данными, что вы в дальнейшем продолжали свою контрреволюционную, провокаторскую деятельность… Не так ли?
— Что-то не пойму, гражданин следователь, — играя в простачка, ответил Лавриненко. — Я службу нес на флоте… Об этом, что ль, разговор идет?
— Нет, не об этом. Разговор идет о другом. О вашей работе в охранке.
— Да, мне пришлось видеться с его превосходительством Трусевичем, вот в этом самом здании… Было такое дело… Но это по долгу службы, а не то чтобы так…
Я предъявляю ему документы охранки, из которых видно, что в 1912 году, когда на флоте вновь начались волнения, Лавриненко принял на себя обязанности резидента охранки и начал насаждать на судах Балтийского флота секретную агентуру.
— Я и слова такого — «резидент» — не понимаю, — заявил Лавриненко. — А что касаемо до секретной службы, так кое-что мне по должности делать приходилось, однако я этого не любил… Да что поделаешь, служба…
Тогда я предъявил ему написанное им лично «завещание», которое было обнаружено после революции в его каюте на судне «Петр Великий».
Увидев этот документ, он сразу изменился в лице. Видимо, Лавриненко надеялся, что это «завещание» не попадет в руки следственных органов.
Вот что он в нем писал:
«Я, нижеподписавшийся, вполне и в полном рассудке и памяти пишу сии строки и обращаюсь с просьбой к правительству, а первое — к своему прямому начальству. В этих очень коротких строках прошу Ваше Превосходительство в случае моей смерти:
1. Не забыть моего престарелого родителя, которому я ежемесячно уделял из своего жалованья 5 рублей, на которые он и существовал.
2. Мою больную жену Анну Ивановну Кочневу, от каковой я имею двух кровных дочерей Клавдию и Серафиму, усыновленных Лавриненко, а также сына Евгения Александровича Кочнева, которого я вынянчил на руках. Все мое имущество находится в Астраханской губернии, Царевского уезда, Слободской волости, состоящее из части дома и части земли, переходит моему отцу. Все оставшиеся после моей смерти вещи, состоящие из квартирной обстановки и одежды, переходят в полное распоряжение Анны Ивановны Кочневой (моя гражданская жена, с которой я жил 14 лет).
Мне лейтенант Мякишев Виктор Васильевич в 9 с четвертью вечера 28 апреля сообщил, что на мою долю выпала задача организовать на учебных судах тайную полицию; хотя меня это страшно поразило, но вместе с тем я охотно принимаю на себя эту трудную в это время задачу и надеюсь выполнить ее перед царем и родиной, хотя бы это стоило мне жизни.
Ваше превосходительство, не оставьте от меня происшедшее племя. Надеюсь, что они послужат царю и отечеству на пользу, как и их отец.
Мне в 1906 году с 19 на 20 июля выпала на „Памяти Азова“ тоже нелегкая задача, которую я с помощью близких мне товарищей кондукторов: ныне подпоручика, убитого на „Памяти Азова“ Ивана Давыдова и поручика Огурцова, при участии артиллерийских унтер-офицеров — инструкторов школы комендоров — пришлось выполнить и подавить мятеж.
Пусть послужит печатью сей моей просьбы выкатившаяся слеза из глаз моих во время сей моей просьбы.
Может, теперь уже поздно, но скажу, что вина вспыхнувшего бунта лежит на нас, офицерах, недостаточно смотревших за тем, чему обещали, то есть воспитанием команды.
Подпись:
поручик по адмиралтейству
Кирилл Федорович Лавриненко, 28 апр. 1912 г.,
в 1 ч. ночи».
— Как видите, Лавриненко, это написано вашей собственной рукой?
— Да, моя рука.
— Значит, вы «охотно приняли», как сами писали, задачу организовать агентуру охранки на военных судах?
— Виноват, гражданин следователь.
— Меня интересует другой вопрос. Почему вы решили написать это завещание сразу после того, как приняли предложение Мякишева? Можете это объяснить? Почему вы сразу решили, что это может «стоить вам жизни», как вы сами сформулировали?
Лавриненко опускает голову и долго думает. Ему неприятен этот вопрос. Он соображает, как лучше ответить.
— Я вижу, вам трудно ответить на этот вопрос. Почему?
— Сам не знаю, почему, гражданин следователь, — лепечет он. — Пришло мне тогда в голову, я и написал… Мало ли что иногда напишешь…
— Может быть, вы таким образом хотели набить себе цену?
— Нет, этого я не хотел.
— Может быть, в самом деле решили, что это будет стоить вам жизни?
— Скорее всего, что так.
— Почему вам пришла в голову такая мысль? Говорите прямо.
— Матросы могли меня убить, — отвечает Лавриненко. — Я ведь с «Памяти Азова», потому и перешел на другое судно… Злы на меня матросы были, чего там говорить!… А тут еще этакое секретное задание, сами понимаете… Пятерых завербуешь, а шестой тебя ножом пырнет — и за борт… Сколько этих революционеров ни сажали, а их с каждым годом все больше становилось… И они все друг за друга стеной стояли… Эх, гражданин следователь, вы думаете, легко мне дались эти погоны да медали?… Будь они прокляты!…
И он заплакал — заплакал совсем по-старчески, всхлипывая и не вытирая слез.
Я протянул ему стакан с водой. Он только махнул рукой.
Страшным путем заработал он свои медали и погоны. Его сделали штабс-капитаном. Но среда, из которой он вышел и которую предал, ненавидела его, и он ее боялся. А общество, в которое он вошел ценою предательства, не стало его обществом. Офицеры презирали его, потому что в глубине души тоже считали его предателем. И никакие царские указы не в силах были стереть со лба этого человека страшное, как бы выжженное на всю жизнь и всеми презираемое клеймо — предатель!…
Приняв задание Мякишева, Лавриненко старался изо всех сил. Ему казалось, что новые медали и новые награды, заставят в конце концов уважать его. Он старательно насаждал секретную агентуру, выискивал слабых и продажных, озлобленных и тупых, жадных и ловких. В охранке не могли нарадоваться на энергичного штабс-капитана. Благодаря ему выслеживались и арестовывались десятки матросов, они шли на виселицу, расстреливались, отправлялись на каторгу. Кирилл Федорович, как он теперь величался, приобрел холеный, важный вид. Он очень следил за своей внешностью, манерами, языком. И когда по палубе «Петра Великого» проходил важный, подтянутый, в белом кителе, штабс-капитан, всякому могло показаться, что он доволен своей судьбой и счастлив своим положением.
И редко кто догадывался, как ему страшно, как он всегда и всякого боится, как в каждом матросе ему чудится тот, кто отомстит за своих товарищей, как по ночам он кричит от кошмаров и глотает пилюли от злой бессонницы и как никакие пилюли не в силах ее одолеть.
Так прошло пять лет. И вдруг началась революция. Она застала Лавриненко все в том же Ревельском рейде. В городе на набережной шли нескончаемые митинги. Холодными, тревожными ночами, запершись в своей каюте, Лавриненко старательно записывал фамилии, приметы, факты, наблюдения. Он все еще надеялся, что эти записи пригодятся охранному отделению.
Потом он решил еще раз отличиться и «подавить мятеж». Он поехал в город и выступил на одном из митингов. Он призывал матросов и горожан остаться верными «царю-батюшке» и не слушаться «смутьянов». Его сбили с ног, пытались устроить самосуд, ему чудом удалось спастись.
Через несколько дней Лавриненко был арестован и направлен в Петроград. Его обвиняли в принадлежности к охранке. Он запирался, но был изобличен. Он уже потерял надежды на спасение. Но тут начались июльские события, и Лавриненко внезапно освободили. Временному правительству было не до охранников и провокаторов — надо было освободить тюрьмы для большевиков…
Прошло полтора месяца с того дня, когда мы впервые познакомились с Лавриненко. Вот он сидит перед моим столом, с его аккуратно подстриженной седой бородкой, неторопливыми движениями, маленькими серыми, глубоко сидящими глазками. У него тихая, чуть слащавая речь, он скупо роняет слова, отвечая на вопросы; он любит подумать, прежде чем ответить. За эти полтора месяца мы виделись почти каждый день, мы изучили друг Друга. И каждый раз мы вместе совершаем прогулку в прошлое, в те давно минувшие, но незабываемые дни.
Неторопливо и всегда вдвоем совершаем мы эти экскурсии в прошлое, в те трагические и славные дни, ищем и находим запоротых, замученных, повешенных за то, что они добивались свободы для своего народа и счастья для своей родины.
И так постепенно мы доходим до того июльского дня, когда растерянный и безмерно счастливый Лавриненко вышел из ворот тюрьмы.
— Расскажите, куда вы пошли после этого, где жили, что делали, как скрывались, на что рассчитывали?
— Гражданин следователь, я не скрывался. Я-то полагал, что три месяца отсидки искупили мою вину…
— Не наивничайте, Лавриненко, это вам и не по возрасту и не к лицу. Если вы не скрывались, то зачем, спрашивается, три раза меняли фамилию, десятки раз переезжали из одного города в другой и скрывали свое местонахождение даже от родных и близких? Зачем?
Он молчит. Тогда я протягиваю ему справки о перемене им фамилии Лавриненко на Полухина, потом Полухина — на Шлосса. Я подвожу его к карте и указываю кружки городов, по которым он метался все эти годы, — Петроград, Астрахань, Москва, Киев, потом Ленинград…
— Вот она, ваша география, Лавриненко, за эти годы. Значит, скрывались вы или нет?
— Скрывался, гражданин следователь… Это я раньше зря сказал…
И он снова начинает рассказывать, а я начинаю записывать его показания. И снова скрипит перо на белом листе бланка протокола допроса обвиняемого. Мы снова вместе погружаемся в прошлое…
Вот мы в кипящем октябрьском Петрограде. Мы видим костры у Смольного, вооруженных матросов, рабочих, солдат, взятие Зимнего дворца, слышим гром первых декретов, слышим неповторимый, родной, чуть картавый голос Ильича, с равной силой звучавший и в Петрограде, и во всех углах России, и во всех странах земного шара, слышим его вещие и вечно живые слова, указавшие человечеству новый и светлый путь…
А где-то на Васильевском острове, забившись в свою конуру, уже немолодой, озлобленный человек, переодетый в штатский костюм, зорко следит за ходом событий. У власти — большевики. Матросы с ними. Ему несдобровать. И он бежит в Астрахань, но и в Астрахани большевики. Он мчится из Астрахани в Москву. Но и в Москве большевики. Он пробирается в Киев, к белым. Но белых прогоняют большевики. Он пытается прорваться к Врангелю, в Крым. Но Врангеля сбрасывают в море большевики. Он мечется, как одинокий, отставший от стаи волк, обложенный со всех сторон. Все надежды на зеленых, на белых, на желтых, на деникинцев, на каппелевцев, на врангелевцев, на колчаковцев, на махновцев, на пилсудчиков, на банды Эмир-хана, на банду батьки «Доброе утро» и батьки «Добрый вечер», на интервентов, пошедших походом на молодую Советскую Россию, — рушатся одна за другой, летят к чертовой матери!…
И на всех фронтах этой удивительной гражданской войны, вопреки расчетам и военной науке, вопреки цифрам и выкладкам, вопреки всему, во что Лавриненко верил всю свою жизнь, и всему, чему его учили, побеждает Красная Армия.
Тогда Лавриненко решает, что единственное спасение — убежать за границу, в Финляндию. Он достает подложный паспорт, возвращается в Ленинград, становится управдомом. Потом, присвоив казенные деньги, бежит в Сестрорецк и ночью пробирается к границе.
Стоит темная октябрьская дождливая ночь. Небо затянуто тучами, не видно звезд. Старый, усталый, промокший до костей человек ползком пробирается к границе. Он надеется, что ему поможет шум дождя, мрак, поздняя ночь. Но в самый последний момент он слышит окрик:
— Стой, руки вверх!…
И его задерживает пограничный патруль. Никто не знает, что он — Лавриненко. Он что-то бормочет насчет дочери, оставшейся в Финляндии, к которой он хотел пробраться «погостить». Его высылают за попытку перейти государственную границу.
Но вскоре он бежит из ссылки в Киев и там поселяется под фамилией Шлосс. Он надеется уехать из Киева в Тирасполь и оттуда убежать в Румынию. Он еще не знает, что в эти дни советские следственные органы уже разыскивают провокатора Лавриненко, резидента царской охранки в Балтийском флоте. Он еще не знает, что из архивов уже поднято его старое дело, которое было прекращено следователями Временного правительства.
И в конце концов удается напасть на его след. Его арестовывают в Киеве. Он утверждает, что он — Шлосс, что никакого Лавриненко не знает, что никогда не служил на крейсере «Память Азова»…
Тогда предъявляют ему его портрет и тюремную фотографию 1917 года. И его отправляют из Киева в Ленинград.
Последний протокол закончен. Я читаю его вслух. Лавриненко слушает очень внимательно, покачивая как бы в такт головой.
— Ну как, правильно записано, Лавриненко? Пожилой человек, сидящий перед моим столом, вздрагивает, как бы очнувшись, и тихо произносит:
— Да, правильно… Все записано так, как было… К несчастью, было…
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ (Ответный визит) 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
В двадцать три года просыпаются разом, весело, с глубокой уверенностью в том, что жизнь превосходна, молодость вечна, хорошее настроение обязательно и естественно. В теле необыкновенная легкость, свежий утренний ветерок проникает через открытое окно в комнату и треплет волосы. Впереди огромный и чуть загадочный летний день, полный всяких приятных и неприятных подробностей. Подробности приятные — отличная погода, вчерашняя улыбка Шуры, свидетельствующая, что ты ей во всяком случае не безразличен, великолепно сданный вчера государственный экзамен по уголовному праву (совершенно дико повезло с билетом) и вообще — самый факт существования. Подробности неприятные — кончаются деньги, растаявшие с почти фантастической быстротой, отсутствие уверенности в том, что сегодняшний экзамен по гражданскому праву пройдет так же благополучно, как вчерашний, и, наконец, предстоящая разлука с Москвой в связи с окончанием вуза и направлением на периферию.
Приблизительно так размышлял студент последнего курса юридического института Плотников в августовское утро 1940 года, проснувшись около восьми часов в своей комнате в тихом замоскворецком переулке, полном солнца, ветвистых лип и старинных купеческих особняков. В этом чисто кустодиевском уголке старой Москвы Плотников поселился с первого курса, приехав в столицу из далекого волжского городка, где он родился и вырос. В Москве у старой тетушки своей Дарьи Михайловны Плотников нашел себе пристанище. Тетушка служила провизором в аптеке, носила старомодное пенсне в черепаховой оправе, была одинока и души не чаяла в племяннике. Она отменно готовила пельмени, очень любила оперу и зачитывалась Бальзаком.
Узнав, что Плотников по окончании института намерен стать следователем, Дарья Михайловна с особым интересом перечитала страницы своего любимого автора, относившиеся к судебному следователю господину Камюзо, и посоветовала племяннику еще раз прочесть эту книгу.
Плотникова мало интересовал французский следователь Камюзо. Но зато он зачитывался воспоминаниями: Кони, мемуарами известных криминалистов и выпусками «Следственной практики», издаваемыми Прокуратурой СССР, в которых помещались рассказы советских следователей о своей работе.
В прошлом году Плотников проходил производственную практику в прокуратуре. Его прикрепили к народному следователю одного из районов столицы. В течение двух месяцев Плотников выезжал со своим шефом на места происшествий, присутствовал при судебномедицинских, технических и бухгалтерских экспертизах, участвовал в допросах свидетелей и обвиняемых.
Он понял, что профессия следователя отличается прежде всего огромным многообразием жизненных явлений, событий, человеческих характеров и конфликтов. Плотников убедился, что следователю никогда не следует забывать, что с каким бы делом его не столкнула судьба, — будь то дело о растрате или об уличном грабеже, о хищении государственных средств или об убийстве из ревности, — главное: всегда и за всеми этими делами стоят люди, люди разных возрастов и профессий, с разными характерами, привычками, склонностями и вкусами.
Впечатления, накопленные Плотниковым за два месяца производственной практики, по-новому осветили лекции, которые он слушал в институте, книги по методике следствия, которые он прочел, учебники криминалистики, изученные им. Плотников решил, что по окончании института станет не юрисконсультом, не адвокатом, не судьей, а следователем. Он пришел к выводу, что на юридическом фронте следователи как бы занимают передний край, так как по самому характеру своей работы они первыми сталкиваются с фактом преступления, первыми атакуют преступника.
И вот осталось около недели до того долгожданного дня, когда навсегда отойдут в прошлое годы учебы, новенький диплом будет бережно спрятан в заветном ящике письменного стола и будет получена путевка Прокуратуры СССР в один из районов страны — назначение народным следователем, путевка в жизнь… Зажмурив глаза, Плотников попробовал представить себе эту новую, самостоятельную и такую манящую жизнь. Как же она встретит его? Какой город, какие люди, какие дела ожидают его? Достаточно ли он подготовлен и зрел, чтобы уверенно сесть за следовательский стол, лицом к лицу с преступником? Хватит ли у него познаний, выдержки, терпения, настойчивости, спокойствия, наблюдательности, силы логики, без которых, как говорил на лекции один опытный криминалист, нет следователя, а есть — в лучшем случае — грамотный регистратор преступлений и письмоводитель, фиксирующий чужие показания…
Однако, как плотно ни смыкал он веки, ему так и не удалось ничего разглядеть в своем будущем, хотя и было оно близким. Сегодняшние лучи сегодняшнего солнца, проникавшие сквозь зажмуренные ресницы, упорно торопили Плотникова ринуться в это свежее утро, весело шумевшее за окном смехом и криками играющих детей, легкими шагами куда-то спешивших девушек, сиренами и фырканьем проносившихся машин и бодрым «физкультурным маршем», гремевшим изо всех репродукторов во всех квартирах дома. Плотников вскочил с постели, быстро умылся, оделся, выпил стакан горячего кофе и, поцеловав тетушку, пулей вылетел на улицу и с головой нырнул в этот ясный, пока еще прохладный августовский день.
В большом мрачноватом зале юридического института уже толпилось, несмотря на ранний час, много народа. Студенты, как шмели, мерно жужжали по углам, экзаменуя друг друга. Сегодня предстоял трудный экзамен — гражданское право. Профессор гражданского права Валентин Павлович Стрельбицкий славился своей строгостью на экзаменах. Профессору было уже за шестьдесят, но он отличался совершенно юношеской влюбленностью в свою науку и в глубине души был твердо уверен, что человек, не знающий основ гражданского права, есть личность, не заслуживающая уважения и во всяком случае не способная к юридическому мышлению. Высокий, сухощавый, не по возрасту стройный, профессор Стрельбицкий, помимо гражданского права, увлекался спортом — летом охотой и спиннингом, зимой коньками и лыжами. На студенческих вечерах он охотно и подолгу танцевал, принимал участие в студенческих вечерах самодеятельности, где отлично читал стихи Маяковского, и вообще дружил со студентами, оставаясь яри этом требовательным преподавателем.
Плотников, как и многие студенты, увлекавшиеся криминалистикой, не очень любил гражданское право. Теория судебных доказательств в уголовном процессе, учение о косвенных уликах, тактика допроса и судебная психиатрия интересовали Плотникова гораздо больше, нежели вопросы опеки, элементы гражданского правоотношения, обязательства по перевозкам и право наследования. Только одно примечание к статье второй гражданского кодекса вызывало восхищение Плотникова, дававшего ему расширенное, почти философское толкование. Это примечание гласило: «Принадлежность следует судьбе главной вещи».
Тем не менее экзамен есть экзамен, и Плотников добросовестно к нему готовился. Два солидных тома учебника гражданского права были им проштудированы и освежены в памяти. Через несколько минут должен был выясниться результат этих усилий.
Уже секретарь государственной комиссии разложил на столе билеты, бумагу и карандаши, а студенты все еще торопливо задавали друг другу вопросы:
— Что такое причинная связь между неправомерным действием и вредом?
— Какова давность по обязательствам из причинения вреда?
— Может ли быть ответственность без вины?
Услышав последний вопрос, Плотников тревожно задумался. Как криминалист он был убежден, что без вины не может идти речь ни о какой ответственности. Но в гражданском праве, увы, что-то в этом роде допускалось. Где и в каких случаях? Плотников решительно, этого не помнил. А вдруг достанется именно этот билет, черт бы побрал это гражданское право! В полном отчаянии Плотников бросился к студенту Кареву, считавшемуся на курсе лучшим знатоком гражданского права и являвшемуся любимцем Стрельбицкого.
— Карев, объясни, метр, что там за чертовщина с ответственностью без вины? — спросил Плотников.
Карев, очкастый, бледный и до отказа напичканный всяческими премудростями по гражданскому праву, посмотрел с нескрываемым презрением на Плотникова и процедил:
— Элементарнейший вопрос, мой милый. Даже на трехмесячных юридических курсах на него отвечают последние тупицы.
— Умоляю! Суть! Корень! Формулу! — почти простонал Плотников, боясь, что сейчас выйдут члены государственной комиссии.
Карев достал белоснежный накрахмаленный, аккуратно сложенный носовой платок, обстоятельно высморкался и отчетливо проскандировал:
— Наряду с ответственностью за ви-нов-ное причи-не-ние вре-да, которое является общим правилом, гражданский кодекс приз-на-ет и ответст-вен-ность без ви-ны. Согласно статьи четыреста четвертой гражданского кодекса, лица и предприятия, дея-тель-ность коих связана с по-вы-шен-ной опас-ностью для окружа-ющих, как-то: железные дороги, трамвай, держатели диких животных, торговцы горючими материалами, лица, возводящие строения, и т. п. — отвечают за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие неодолимой силы либо умысла или грубой небрежности потерпевшего…
Выпалив одним духом эту фразу, Карев с удовольствием добавил:
— Все. Рекомендую, уважаемый коллега, для усвоения этой статьи разобрать следующие вопросы: во-первых, почему закон в изъятие из принципа вины устанавливает в данном случае ответственность без вины; во-вторых, что означает термин «повышенная опасность»; — и, в-третьих, в каких случаях считается, что вред причинен источником повышенной опасности?
Разозлившись на докторальный тон Карева, Плотников ответил весьма язвительно:
— Признателен за разъяснение. Полагаю, ваше юридическое превосходительство, что если я провалюсь на экзамене, то источником повышенной опасности явится профессор Стрельбицкий, потерпевшим, коему причинен вред, — я, а самой повышенной опасностью будет столь любезное вашему сердцу гражданское право.
Слушавшие этот разговор студенты расхохотались. Рассердившийся Карев ехидно возразил:
— За этот вред, милейший, не придется отвечать, поскольку всем будет очевидно, что он причинен вследствие неодолимой силы, а именно — твоего невежества. Все!
И он с победоносным видом отошел в сторону. Как раз в этот момент в дверях зала показались члены государственной экзаменационной комиссии, в числе которых был и Стрельбицкий.
Ура, все обошлось благополучно! Плотникову достался билет, который был как нельзя более кстати. Речь шла о наследственной трансмиссии, которую Плотников знал хорошо. Он подробно ответил на вопрос, отчеканивая каждое слово и с удовлетворением отмечая довольный блеск в глазах Стрельбицкого.
Через несколько дней Плотников получил новенький диплом в приятно хрустящей серой обложке. А еще через неделю аттестационная комиссия объявила юристу Плотникову, что его желание посвятить себя следственной работе удовлетворено. Он был направлен в распоряжение Прокуратуры СССР, где и получил назначение народным следователем Зареченского района Энской области. Плотников добивался назначения именно в этот район, на что у него были достаточно веские причины…
В самом конце августа выпускники московских вузов праздновали в Центральном парке культуры и отдыха сдачу государственных экзаменов. Медики и юристы, геологи и политехники, экономисты и филологи собрались в огромном Зеленом театре парка. Чуть душный августовский день догорал над Москвой. С реки доносились веселые голоса купальщиков. В аллеях парка медленно прогуливались пары, не имеющие прямого отношения к госэкзаменам. Это были загорелые спортсмены и щеголеватые молодые летчики, укладчицы с кондитерской фабрики «Красный Октябрь», табачницы с «Дуката» и «Явы», курсанты-танкисты и миловидные чертежницы с ЗИСа.
Плотников сидел в театре в окружении друзей, рядом с Шурой Егоровой, окончившей в том же году ветеринарный институт. Они познакомились около года назад, на студенческом балу в Колонном зале. Стройная большеглазая Шура сразу понравилась Плотникову. В тот вечер они танцевали почти до утра. Потом Плотников провожал Шуру на Стромынку, в студенческий городок, где она жила. Синий рассвет чуть пробивался за краем догоревшей ночи. Было уже слишком поздно для ночных трамваев и слишком рано — для утренних, поэтому шли пешком.
Довольно долгий путь способствовал выяснению разительного сходства вкусов. Оказывается, оба любили театр имени Вахтангова, затем чтеца Антона Шварца, оба «болели» за футбольную команду «Торпедо», из кинорежиссеров предпочитали Ивана Пырьева, из художников — Дейнека, из современных писателей — Валентина Катаева.
Не удивительно, что такое совпадение вкусов привело, как сформулировал Плотников, к «конкретным оргвыводам»: было назначено свидание на следующий, точнее в этот, уже наступивший день; ровно в шесть вечера, под часами Центрального телеграфа.
Справедливость, требует отметить, что как час, так и место свидания, увы, не блистали оригинальностью. Когда, За четверть часа до назначенного времени, Плотников встал на вахту под указанными выше часами, он поразился: не менее дюжины очень похожих на него молодых людей топтались рядом, беспокойно и чересчур часто поглядывая — на часы. И когда с пятиминутным опозданием (что тоже не было оригинальным) появилась Шура с подчеркнуто деловым выражением лица, то впереди нее, сзади и по бокам постукивали каблучками другие девушки, тоже спешившие на свидание.
Так началась дружба Шуры и Плотникова. Они встречались почти ежедневно, и — удивительное дело! — с каждой встречей выяснялась все более насущная необходимость следующей. Теперь их уже занимало не столько сходство, сколько, напротив, расхождение во вкусах. Так, если Плотников утверждал, что лучшая в мире профессия — профессия следователя, то Шура доказывала, что гораздо интереснее быть ветеринаром. Когда Плотников ссылался на классическую литературу и приводил в пример одного из своих любимых героев — следователя Порфирия Петровича из романа Достоевского «Преступление и наказание», то Шура холодно замечала, что Порфирий Петрович — судейский крючок и жаба, а творчество Достоевского — реакционное и больное.
Казалось бы, что столь непримиримые противоречия губительно скажутся на только возникших дружеских отношениях, но они, напротив, сыграли положительную роль: при каждом очередном прощании выяснялось, что стороны не исчерпали своей аргументации и потому есть необходимость в новой встрече.
И вот пролетел год, получены дипломы, и они сидят рядом, почему-то держась за руки, на торжественном заседании в Зеленом театре. Плотников только что с очень равнодушным видом сообщил Шуре, что «случайно» назначен в Зареченск, куда, как она ему рассказала раньше, добилась назначения и Шура, — Зареченск был ее родиной, и там жила ее мать. Шура, выслушав это сообщение, почему-то вспыхнула, но потом еще более равнодушно, нежели Плотников, протянула: «Что ж, это очень мило» — и больше не возвращалась к этому вопросу.
После заседания в парке начался традиционный карнавал. В звездное августовское небо со свистом полетели разноцветные ракеты. В разных концах парка ударили оркестры. На танцевальных площадках поплыли пары. Переполненные рестораны-поплавки были ярко освещены разноцветными фонариками и чуть покачивались на темной притихшей реке. Со всех сторон доносились обрывки песен, взрывы смеха, тосты, восклицания, звон бокалов, стук ножей. Вихрем носились официанты. Все это сливалось с поздравлениями, клятвами в вечной дружбе, взаимными пожеланиями, названиями городов и республик, куда получены путевки, гулкими выстрелами пробок от шампанского и здравицами в честь любимых вузов.
Поезд пришел в Зареченск на рассвете. Дымное солнце пламенело в предутреннем мареве только загоравшегося сентябрьского дня. Плотников остановился на небольшом перроне. Красное кирпичное здание вокзала пылало окнами, отражавшими восход солнца. На перроне было пустынно. Прозвучал кондукторский свисток, загудел паровоз, и поезд, в котором приехал Плотников, двинулся вперед с довольным пыхтением, как бы радуясь тому, что покидает эту маленькую станцию.
Пройдя через зал ожидания с деревянными скамейками, на которых спали трое пожилых мужчин, Плотников вышел на привокзальную площадь, где стояли два извозчика.
— Куда изволите? — сразу подошел к Плотникову один из извозчиков, рослый старик с седой бородой клинышком.
— В город, — неопределенно ответил Плотников.
— Понимаю, что в город, — произнес извозчик, — да на какую улицу? Тут ведь не деревня, не одна улица…
— В гостиницу, если есть.
— Как не быть, имеется и гостиница, — весело сказал извозчик. — Тут у нас все имеется, что по штату положено. Театр и тот завели. Живем весело, вот только с овсом худо. Мается наш брат, извозчик, потому что мы вроде как частники считаемся и не дают нам государственного снабжения. Садитесь. До города две версты.
— Как две версты? — удивился, садясь в экипаж, Плотников. — Это почему же?
— Последствия царского режима, — ответил извозчик. — Не сумела тогда городская управа договориться с начальством, которое дорогу строило. Большую взятку то начальство с города затребовало, ну а наши толстосумы и уперлись. Тут начальство озлилось и дорогу на две версты от города отвело: дескать, вот вам, дуракам зареченским! Знайте, когда торговаться и кому отказывать. Эй, мил-лой!
И он стегнул коня кнутом. Колеса вязли в песчаной дороге. Сосны, стоявшие по ее сторонам, золотились в лучах солнца. Утро было удивительно тихим и свежим.
Экипаж вынесло на пригорок, с которого открывался широкий вид на Зареченск и его окрестности. Городок лежал внизу, раскинувшись полукругом по берегу большого озера с маленьким островом посреди. Купол городского собора и множество церковных колоколен розовели в лучах разгоравшегося утра. Серые, темные, красные домики пестрели в окружении садов и огородов. Слева выделялась подкова базарной площади с двумя рядами каменных, пожелтевших от времени рядов и большими сенными весами в самом центре площади. За мостом, переброшенным через реку, — вытекавшую из озера, зеленел старинный городской вал, а за озером дымились далекие луга и синел стоящий грядою лес.
— Вот наш Зареченск, — не без гордости произнес извозчик, указывая кнутом на раскинувшийся вид. — Господи боже ты мой, родился я здесь, здесь вырос и седую бороду нажил, скоро и на тот свет — пригласят, а вот красотой этой налюбоваться досыта не могу… Изо всех городов расейских — наилучшее место!
Слушая извозчика, я Плотников залюбовался живописным городком, только начинавшим просыпаться. Кричали петухи, кое-где лаяли собаки, кудреватые дымки вились над крышами. Тихий городок, тихие, поросший травою улички, тихая, размеренная жизнь.
Мог ли думать Плотников, что в этом тихом городке его поджидают удивительные события, невольным участником которых станет и он, народный следователь Плотников!…
2. В ИЮНЕ 1911 ГОДА
А лет за тридцать с чем-то до того дня, когда Плотников приехал в Зареченск, в городе Брауншвейге, в Германии, был организован традиционный выпускной бал брауншвейгской офицерской памяти фельдмаршала Мольтке школы, который начался ровно в девять часов вечера 21 июня 1911 года.
Едва стрелка часов на остроконечной башне старинного здания городского магистрата коснулась цифры «9» куранты хрипло прозвонили соответственное количество раз, как в распахнутых настежь дверях актового зала появилась группа гостей в сопровождении самого начальника школы — худощавого, чуть прихрамывающего генерал-майора фон Таубе. В огромном белом зале с хорами и лепными колоннами стояли, застыв, как на параде, семьсот воспитанников школы, которым должны были сегодня огласить императорский приказ о производстве восьмидесяти пяти из них в первый офицерский чин германской армии.
Фон Таубе и гости — два генерала и несколько полковников генерального штаба, все в парадной форме, при шпагах и орденах — заняли свои места за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Продолжая стоять и храня все то же торжественное молчание, присутствующие выслушали личный приказ кайзера Вильгельма о производстве в офицеры воспитанников школы, окончивших ее в 1911 году.
Торжественный туш заглушил заключительные слова приказа, и официальная часть была объявлена законченной. Воспитанники пяти младших классов были поротно, класс за классом, выведены на вечернюю прогулку, а оттуда отведены в длинные, приготовленные уже к ночи школьные дортуары.
В сопровождении своих командиров и наставников мальчики чинно промаршировали по широкой лестнице вниз, строго по уставу держа равнение налево, старательно и четко печатая шаг.
Воспитанники старших классов и восемьдесят пять только что произведенных офицеров остались в зале, где должен был начаться бал. Из соседних комнат в распахнутые настежь двери хлынули штатские гости, которым имперский воинский устав не разрешал присутствовать при оглашении военного приказа. Это были родители виновников торжества — солидные, полные сознания торжественности момента брауншвейгские бюргеры и окрестные помещики, их чинные пышнотелые супруги, их белокурые и голубоглазые дочки, их родственники, друзья и знакомые.
На хорах грянул медью военный оркестр, испуганно шарахнулась и закачалась освобожденная от чехлов парадная люстра. И пары поплыли в вальсе. Фон Таубе и гости, стоя в стороне, снисходительно наблюдали, как танцует молодежь. Черт возьми, им вспомнилась и собственная молодость, и тот давний выпускной бал в этом самом старом зале, когда виновниками торжества были они сами…
В разгаре бала к фон Таубе быстро подошел адъютант и что-то прошептал ему на ухо. Извинившись перед гостями, фон Таубе проследовал к себе в кабинет. Когда он появился на пороге этой большой комнаты со сводчатыми потолками и тяжелой старинной мебелью, навстречу ему поднялся худощавый человек средних лет в штатском платье.
— Добрый вечер, господин Бринкер, — почтительно приветствовал его фон Таубе.
— Рад вас видеть, мой друг, — чуть покровительственно ответил Бринкер и протянул фон Таубе костлявую руку с множеством старинных перстней на сухих, узловатых пальцах.
Оба сели в кресла друг против друга, лицом к лицу. Бринкер задумчиво жевал потухшую сигару, не торопясь начинать разговор. Он был немногословен, этот Бринкер. Молчал и фон Таубе, отлично усвоивший за долгие годы военной службы золотое правило: никогда не забегать вперед, разговаривая с начальством. А господин Бринкер, хотя на нем был штатский и притом несколько потертый костюм, безусловно являлся начальством в самом прямом смысле этого слова.
— Как бал? — прервал, наконец, затянувшуюся паузу Бринкер. — Как веселятся ваши питомцы?
— Все идет нормально, — ответил фон Таубе, — отличный выпуск, господин Бринкер. В армию приходит прекрасное пополнение.
— Сегодня их, кажется, восемьдесят пять?
— Совершенно точно, господин Бринкер.
— Меня интересует один из них. Что вы можете сказать о Гансе Шпейере?
Чуть заметная тень пробежала по лицу фон Таубе. Дело в том, что Ганс Шпейер приходился ему племянником, а фон Таубе хорошо знал, что еще никогда ведомство, представляемое господином Бринкером, не интересовалось кем-либо бескорыстно. Фон Таубе хотел, чтобы его племянник был офицером, и вовсе не желал ему карьеры по ведомству господина Бринкера.
— О чем вы задумались? — медленно произнес Бринкер, и на мгновение какое-то подобие улыбки появилось на его бесстрастном лице. — Вы задумались? Или вы затрудняетесь дать характеристику своему племяннику? Ведь, если не ошибаюсь, Ганс Шпейер приходится вам племянником?
Фон Таубе мысленно чертыхнулся. Бринкер, как всегда, был отлично осведомлен. Было бы гораздо лучше, если бы он не знал, что Шпейер племянник фон Таубе. Но теперь уже не было выхода, тем более что в последних словах Бринкера был явный намек, звучавший почти как угроза.
— Здоров? — отрывисто спросил Бринкер.
— Да, — ответил фон Таубе, — увлекается спортом, в меру горяч, но не теряет самообладания. Ему сейчас двадцать лет, он одаренный мальчик. Отлично учился и окончил школу одним из первых…
— Воля?
— Мне трудно так подробно ответить на все ваши вопросы, но полагаю, что и с этой стороны все обстоит вполне благополучно.
— Пьет? Любит женщин?
— И то и другое в меру. Шпейер мечтает о военной, чисто военной карьере. Чрезвычайно интересуется аэропланами.
— Очень хорошо. Нас тоже интересуют аэропланы. Очень хорошо. Вот что, пришлите его сейчас ко мне.
Фон Таубе вышел из кабинета и остановился на пороге актового зала. Разгоряченные танцем пары вихрем проносились мимо него. Юные лейтенанты в серых парадных мундирах почти поднимали в воздух своих дам. Блистающая на хорах медь оркестра как бы низвергала из широко разинутых труб водопады звуков, волны которых захлестывали зал.
Но вот в этой пестрой, быстро плывущей толпе мелькнуло молодое лицо с крепкими скулами, глубоко сидящими глазами и несколько тяжелым подбородком. Это и был Ганс Шпейер. Уверенно и ловко он кружил свою даму, влюбленно смотревшую на него. Когда они поравнялись с фон Таубе, тот чуть заметно прикоснулся к плечу Шпейера. Шпейер ответил ему легким кивком и, извинившись перед своей дамой, покинул ее. Подойдя к фон Таубе, юноша щелкнул каблуками и вытянулся, глядя прямо в глаза своему дяде и начальнику.
— Я слушаю, господин генерал-майор, — произнес он привычные слова.
— Пройдите в мой кабинет, — тихо сказал фон Таубе. — Там ждет вас господин, который хочет с вами поговорить. Помните, что, несмотря на штатское платье, это представитель высшего командования.
И, не ожидая ответа, фон Таубе прошел в буфетную. Он не хотел присутствовать при разговоре своего племянника с господином Бринкером.
А разговор этот затянулся на три с лишним часа. Шпейер, в соответствии с полученными указаниями, держался очень почтительно. Человек в штатском начал с расспросов о детстве Ганса, о его школьных успехах, привычках, интересах и даже шалостях. В ходе разговора наблюдательный Ганс заметил, что почти все, что он мог рассказать о себе, уже было известно этому спокойному, сухому человеку в штатском, который вот сейчас сидит против него, неторопливо задает вопросы, внимательно его разглядывает. Да, у него было странное лицо, у этого человека в штатском. Взгляд холодный и вместе с тем очень пристальный, цепкий. Очень спокойно и почти флегматично задавая вопросы, он в то же время непрерывно облизывал тонкие губы, и было в этой привычке что-то беспокойное, настороженное и злое. Пытаясь изредка улыбаться, он чисто механически раздвигал свои узкие губы, но глаза при этом не смеялись и сохраняли свой тусклый, рыбий блеск, а лицо оставалось таким, как было: флегматичным и плоским. И тогда становилось очевидным, что улыбка эта не только не имеет никакого отношения к тому, о чем он сейчас думает, что чувствует и чего хочет, а, напротив, имеет своим назначением все это скрыть от собеседника.
Уже в самом конце разговора господин Бринкер сказал:
— Пора, лейтенант, раскрыть карты. Я — заместитель начальника разведывательного управления генерального штаба. Мы следим за вами с первого класса, с момента вашего зачисления в школу. Нам известно о вас гораздо больше, чем вам самому. Вот приказ о том, что вы откомандированы в мое распоряжение. Завтра утром вы покинете Брауншвейг и поедете в Веленберг. Это маленький городок в долине Рейна. Там наша секретная школа. Еще два года вы будете учиться, лейтенант. У вас подходящая для будущего амплуа внешность. Дело в том, что вы будете работать в России, эти скулы, этот прямой нос, весь этот славянский облик еще пригодятся вам, лейтенант. И нам тоже. По русскому языку у вас отличная отметка. Но вы будете работать над ним еще два года. Вы должны научиться не только превосходно владеть им, но привыкнуть даже и думать по-русски — я хочу сказать, на русском языке. А через два года вы поедете в Россию. Теперь вы понимаете, как высоко мы вас ценим, как серьезно на вас надеемся и как много от вас ждем…
3. ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
До революции Зареченск был глухим городком, стоявшим вдали от железнодорожных узлов, на боковой ветке. В городке этом не было ничего примечательного, кроме большого озера и древней церковки, прославленной тем, что некогда в ней как будто венчался Александр Невский. Когда-то, очень давно, Зареченск стоял на великом торговом пути «из варяг в греки» и бойко торговал льном, рыбой, пушниной и другими товарами. Но потом стремительно возникли новые, гораздо бо?льшие города, открылись иные торговые пути, почти вывелся в окрестных лесах ценный пушной зверь, и городок быстро состарился и заглох.
Уездная жизнь тянулась нудно и размеренно, недели уходили за неделями, привычно сливаясь в месяцы и годы, а зареченцы жили все в том же сонном покое, занимаясь огородничеством и нехитрыми местными промыслами: бочарным и кожевенным делом, валянием шерстяной обуви и изготовлением расписных извозчичьих дуг.
Воскресными вечерами старики любили собираться на завалинках и пережевывать примечательные события зареченской хроники. Любили вспоминать о том, как покойный земский начальник Валерьян Павлович Харинский, большой любитель попариться в бане, имел обыкновение прямо с пару выскакивать голым на мороз и в этом виде нырять в снежные сугробы, после чего он незамедлительно возвращался в раскаленную баню и там вновь начинал париться. И о том, как однажды, прикончив в дымном предбаннике жбан домашней «смородиновой», земский начальник выбежал во двор, свалился в сугроб и там, бедняга, заснув, окоченел.
Старожилы любили также вспоминать рассказы дедов о том, как Наполеон Бонапарт, заняв Зареченск в 1812 году, поставил в церкви Николая-угодника, что стоит и поныне за городским валом, своего любимого коня и как конь этот ночью невесть отчего издох, а император после этого пятеро суток не ел, молча сидел на берегу озера и даже хотел отменить поход на Москву.
Одним словом, было о чем посудачить зареченским старожилам.
Революция пришла в Зареченск в лице балтийского матроса Дубяго, прибывшего в город с аршинным мандатом, в пять дней наведшего порядок, ликвидировавшего местную буржуазию, переименовавшего главную улицу — бывшую Миллионную — в улицу Мирового пожара и, между прочим, женившегося на первой городской красавице Зиночке Туфановой.
Несколькими годами позже в Зареченск прибыли инженеры и строители; вокруг города выросли два комбината: деревообделочный и фанерный. За ними возникла большая спичечная фабрика, и старый, тихий Зареченск стал хоть и не слишком крупным, но все же промышленным городом.
Зареченск сразу как бы ожил и помолодел. Начала издаваться газета. Появился городской клуб. В несколько лет были построены новые, красивые здания. В городе появилось электрическое освещение. На Базарной площади начали строить универмаг.
Одним словом, жизнь приобрела другой характер, другой стиль и размах.
Удивительные события, о которых пойдет речь дальше, начались в Зареченске 21 июня 1941 года с мирного и, казалось бы, незначительного происшествия: в эту субботу в городе было назначено открытие универмага, выстроенного на Базарной площади.
В два часа дня зареченцы собрались у нового здания, с нетерпением ожидая его открытия. Начальник раймилиции товарищ Петухов убедительно призывал граждан к всемерному спокойствию. Витрины универмага были закрыты полотняными маркизами. Еще накануне вечером за этими маркизами кипела лихорадочная работа. По замыслу директора универмага, товарища Бессмертного, центральная витрина, отведенная под мебельную секцию, должна была потрясти воображение зареченцев. В этой витрине, получившей наименование «счастье молодоженов», товарищ Бессмертный поставил роскошную кровать с никелированными шишками, покрытую голубым стеганым одеялом, ночной столик, на котором сияла лампа под розовым абажуром, и полированный древтрестовский шкаф-шифоньер с зеркалом.
И вот по знаку, который подал председатель райисполкома товарищ Максимов, полосатые маркизы медленно поползли вверх, и витрины универмага раскрылись одна за другой. Когда, наконец, дрогнув, как театральный занавес, взвилась вверх маркиза, закрывавшая центральную витрину, толпа разразилась безудержным хохотом: уютно завернувшись в роскошное голубое одеяло и разметав по белоснежной подушке рыжие спутанные кудри, сладко спал на кровати известный всему Зареченску Васька Кузьменко, первый в городе озорник и лучший актер местного драмкружка.
Увидев эту картину, товарищ Петухов со стоном ринулся в универмаг. Лицо товарища Бессмертного приобрело от естественного волнения неестественный фиолетовый оттенок. Толпа покатывалась со смеху.
Между тем товарищ Петухов, как неизбежный рок, ворвался в «счастье молодоженов». Схватив Ваську за пятку и стащив его таким образом с кровати, он опустил маркизу, явно не желая посвящать собравшихся граждан в тайны судопроизводства. Впрочем, через несколько минут он вывел Ваську на площадь, лично конвоируя его в милицию. Необходимо отметить, что Васька, по-видимому, не был особенно удручен этим, так как, едва появившись в подъезде универмага, он послал воздушный поцелуй толпе и даже сделал ей приветственный знак рукой.
Прибыв в раймилицию и сдав злоумышленника своему заместителю с кратким, но внушительным указанием «оформить дело по 74-й и до суда не выпускать», Петухов хотел было вернуться на площадь, но в дверях столкнулся с зареченским старожилом, районным землеустроителем Иваном Сергеевичем Шараповым.
Ивана Сергеевича знал и уважал весь город. В Зареченске он появился давно, еще в 1919 году. Он был лыс, худощав и добродушен. В городе он был популярен как организатор и руководитель местного драмкружка, которому Иван Сергеевич с увлечением отдавал все свое свободное время.
— Здравствуйте, товарищ Шарапов, — приветствовал его Петухов. — Рад вас видеть, но тороплюсь по делам службы: открытие универмага. Васька Кузьменко, сукин, сын, слыхали, чего натворил?! Нет, каков каналья!…
— Я к вам как раз по этому делу, — произнес Шарапов. — Вы его сюда привели, и, признаться, опасаюсь, что не зря…
— Арестован по семьдесят четвертой статье, — коротко разъяснил Петухов. — Хулиганство, то есть озорные действия, сопряженные с неуважением к обществу, в злостных случаях карается…
— Знаю, батенька, чувствую, что карается, потому и прибыл, — произнес, волнуясь, Шарапов. — Беспокоюсь, как бы сие юбилей не покарало, вот почему я за вами бежал… Это в мои-то годы, да при моем сердце…
— Какой юбилей? — спросил Петухов.
— Юбилей драмкружка, — ответил Шарапов. — Сегодня, дражайший, ему ровно десять годков стукнуло. В городском клубе будет торжественный вечер. Небось забыли? Новая постановка показывается — «Свадьба Кречинского». Я в ней играю Расплюева, а Вася — Кречинского. Вы уж меня извините, но придется Васю освободить всенепременно, уважаемый товарищ Петухов. Озорству его не сочувствую, как и вы, поведением Кузьменко возмущен, против законной кары не возражаю, но на освобождении, хотя бы на сегодня, настаиваю.
Товарищ Петухов задумался. Он совсем забыл про сегодняшний юбилей. В городе любили драмкружок, да и сам Петухов, говоря между нами, был большой поклонник сценических искусств. А Васька, хотя и являлся личностью озорной и даже, по глубокому убеждению товарища Петухова, социально-опасной, чувствовал себя на сцене так же просто, как в витрине универмага.
— А заменить его разве нельзя? — неуверенно спросил Петухов.
— Категорически и абсолютно! — с жаром ответил Шарапов. — Роль ответственная, большая. А Вася, злодейская его душа, поверьте — талант! Сумбатов-Южин!…
Товарищ Петухов, услыхав про Южина, не выдержал, вздохнул и отдал распоряжение об изменении меры пресечения. Ваську освободили, взяли с него подписку о невыезде, причем предварительно ему было разъяснено, что если бы не роль Кречинского, сегодняшний юбилей и уважение к Ивану Сергеевичу, то сидел бы он до суда «по всей форме и на законном основании».
— Не усматриваю в действиях своих состава преступления, — нахально ответил Васька. — Нет такого закона, чтобы нельзя было творческому работнику отдохнуть перед выступлением. Я, товарищ Петухов, должен разъяснить вам, что лепить образ — это не протокол составлять… Вы придете в театр и смеяться будете, а мне, может быть, роль Кречинского в муках далась… Я никого не оскорбил, ничего не украл, старуху не зарезал, я только организованно выспался. И все!
— Ступайте, обвиняемый. Я не намерен вступать с вами в дискуссии, — холодно ответил товарищ Петухов. — После спектакля мы вернемся к этому криминальному вопросу. А уж насчет состава преступления не вам говорить. При вашем образе жизни пора бы уже знать уголовный кодекс наизусть.
— Не понята душа поэта, — туманно выразился Васька и весело вышел из милиции в сопровождении товарища Шарапова.
Выручив таким образом Ваську Кузьменко и напомнив ему о необходимости явиться в городской клуб ровно к девяти часам, Иван Сергеевич направился домой.
Он жил за городским валом, на боковой уличке, обсаженной березами и заросшей зеленой высокой травой, на которой играли дети. Его маленький деревянный домик стоял в самом конце этой улицы. Иван Сергеевич жил в нем вдвоем со своей внучкой Тамусей, которая осталась у него после смерти дочери, скончавшейся в 1933 году от туберкулеза. Тамусе исполнилось уже девять лет, она была пионеркой и училась в зареченской школе-десятилетке.
Иван Сергеевич нежно любил свою внучку. Весь город восхищался тем, как внимательно и умело старик воспитывает девочку. И в самом деле, это была трогательная пара — девятилетняя Тамуся и ее старый добродушный дедушка.
Придя домой, Иван Сергеевич стал собираться на спектакль. Он очень увлекался драмкружком, в котором одновременно героически нес обязанности главного режиссера, заведующего репертуаром, художника и ведущего актера. В Зареченске не было профессионального театра, и горожане были благодарны Шарапову за его труды. После каждого спектакля его неизменно вызывали и устраивали ему овацию. Иван Сергеевич выходил смущенный от волнения, по-стариковски неловко раскланивался. И было во всем его облике, в этих морщинах на лице, в застенчивой улыбке и в блестящих от волнения глазах, что-то удивительно привлекательное и располагающее.
— Чеховский персонаж, — сказал о нем как-то рецензент местной газеты Рассветов. — И мягкость в нем какая-то чеховская…
По странному стечению обстоятельств торжественный юбилей зареченского драмкружка начался ровно через тридцать лет после описанного нами выше выпускного бала брауншвейгской офицерской школы, в тот самый день и даже в тот самый час — 21 июня 1941 года.
Юбилей начался с короткого заседания, на котором председатель райисполкома товарищ Максимов произнес речь. Отметив значение драмкружка и личные заслуги в этом деле Ивана Сергеевича, Максимов сказал:
— Мы долго думали, как отметить плодотворную деятельность Ивана Сергеевича на ниве, так сказать, просвещения. И поскольку нам стало известно, что он является страстным радиолюбителем, мы решили преподнести ему радиоприемник как скромное выражение нашей признательности.
При этих словах товарища Максимова оркестр сыграл туш. Заведующий городским клубом незамедлительно вынес на сцену трехламповый, так называемый «колхозный» приемник, который и вручил Ивану Сергеевичу под дружные аплодисменты всего зала, Иван Сергеевич произнес ответную речь. Как всегда, немного сутулясь, он вышел к рампе и взволнованно поблагодарил товарища Максимова и всех собравшихся за оказанное ему внимание.
Потом драмкружок показал «Свадьбу Кречинского», причем Иван Сергеевич отлично исполнил роль Расплюева. В ударе был и Васька Кузьменко — Кречинский. Спектакль прошел с успехом, публика осталась довольна. После спектакля начались танцы.
Было уже поздно, когда Иван Сергеевич вышел из подъезда клуба. Тихо шелестел теплый июньский дождь. Из Заречья доносился заливистый собачий лай. Под ногами после недавнего ливня тяжко вздыхали и чавкали лужи. Городок был уже погружен в сон. Тусклый фонарь, качаясь от резких порывов ветра, бросал на мокрую мостовую колеблющиеся пятна света. Иван Сергеевич поднял воротник пальто и, прижав к груди преподнесенный ему приемник, потихоньку поплелся к себе домой.
Добравшись до дому, старик открыл своим ключом калитку и тихо, стараясь не разбудить спящую внучку, прошел в свою комнату. Затем Иван Сергеевич, не зажигая света, сел в кресло и устало вытянул ноги. В темноте четыре раза прокуковали старинные часы. Было ровно четыре часа утра. Спать, однако, не хотелось, и старик продолжал сидеть, перебирая в памяти детали сегодняшнего дня. К нему незаметно подбиралась дремота.
Внезапно страшный грохот ворвался в нагретую домашнюю тишину. Дом дрожал. Иван Сергеевич бросился к окну. Огромное пламя бушевало в стороне зареченского вокзала, расположенного в двух километрах от города. Еще несколько сильных взрывов донеслось оттуда. По улице, крича, бежали разбуженные люди. Тревожно мычали в хлевах обеспокоенные коровы. Тамуся проснулась и с криком: «Что это, дедушка?» — бросилась к старику.
Но Иван Сергеевич и сам не понимал еще, что случилось. Он выбежал на улицу и, стоя у своего палисадника, увидел, как все больше разгорается пламя в районе вокзала. Один за другим раздались еще несколько взрывов. Вдруг на фоне багрового от пожара неба показался черный, костлявый силуэт самолета, который пикировал на вокзал. Снова взрыв, и снова столб пламени. Сомнений не оставалось — бомбили район вокзала. Война!
Иван Сергеевич бросился к себе и лихорадочно включил свой самодельный старенький приемник. Все германские радиостанции передавали речь Гитлера, который, сыпля проклятия и угрозы, хрипло кричал о войне.
В эту ночь гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
4. ВОЙНА
Никогда не сотрется в нашей памяти первый день войны. В это воскресенье — 22 июня 1941 года — родина слушала речь Молотова, объявившего о коварном и неожиданном нападении Германии на Советский Союз. На сразу притихших площадях больших городов, на заводских дворах и в парках санаториев, в Москве и на Камчатке, в якутской тундре и в Кахетии десятки миллионов советских людей, затаив дыхание, стояли перед радиорепродукторами. Вставшая в это утро для мирного отдыха страна узнала о начале войны.
Мы никогда не забудем, как в несколько минут изменилось в тот день лицо родины, как сосредоточенны и суровы стали вдруг лица людей, как совершенно по-иному пошла, завертелась жизнь.
И маленький Зареченск, как тысячи других советских городов, как вся страна, не растерялся, не дрогнул. Уже с утра городские жители помогали железнодорожникам восстанавливать разрушенные ночной бомбежкой пути, вокзальные пакгаузы и депо. В городе и в районе в образцовом порядке проходила срочная мобилизация. Колонны грузовых машин потянулись к военным складам, расположенным за озером. На фанерном и дерево-обделочном комбинатах уже через два дня вступил в действие график военного производства и заработали военные цехи. К вечеру перешли на казарменное положение только что созданные команды ПВО.
Начались военные будни. Радио непрерывно приносило в Зареченск суровые сводки первых дней войны, правительственные указы, международные новости, инструкции противовоздушной и химической обороны.
Зареченск приобрел особое значение как один из пунктов, в районе которых сосредоточивались военные материалы и запасы для фронта. По железной дороге через Зареченск сплошным потоком пошли к границе военные грузы. Наконец, в районе Зареченска были дислоцированы и людские резервы фронта, ожидавшие направления в действующую армию, на передний край нашей обороны.
Все это вместе взятое превращало Зареченск в важный с военной и стратегической точки зрения пункт.
Жители города были предупреждены о необходимости строго хранить военную тайну, о возможности выброски вражеских парашютно-диверсионных групп, о повышении бдительности в быту и на работе. Через несколько дней были созданы в городе и районе специальные истребительные отряды для вылавливания шпионов, диверсантов и лазутчиков врага. Вскоре в одном из сельсоветов удалось задержать группу подозрительных лиц, неизвестно откуда и как появившихся в этом районе и проявлявших чрезмерный интерес к местонахождению военных складов. Позднее оказалось, что все эти лица — немецкие парашютисты, выброшенные со специальными заданиями.
Через несколько дней колхозницы Гремяченского сельсовета случайно обнаружили в лесу несколько плохо замаскированных парашютов, владельцы которых успели куда-то скрыться. Организованная для их поимки облава не дала никаких результатов. По-видимому, эта группа парашютистов успела перебраться в соседний район.
В эти же дни на фанерном комбинате ночью был произведен поджог большого склада готовой авиационной фанеры. Благодаря бдительности одной из работниц, заметившей легкий дымок, удалось вовремя предотвратить пожар. При этом обнаружилось, что к заднему крыльцу склада чьи-то ловкие руки успели предусмотрительно натаскать охапки соломы, несколько смоляных факелов и шашки тола.
Как всегда бывает в таких случаях, слухи об этих происшествиях распространялись с невероятной быстротой, обрастая все новыми и подчас совершенно фантастическими подробностями. Зареченцы с волнением обсуждали эти факты.
И как раз в это тревожное время случилась беда с внучкой Ивана Сергеевича. Беда началась с летних школьных экзаменов. Тамуся в течение учебного года отставала по русскому языку. Старушка учительница Анастасия Никитична Егорова, прожившая в Зареченске всю свою жизнь, несколько раз обращала внимание Шарапова на плохие отметки его внучки в последнее время. Иван Сергеевич поговорил с Тамусей, и она обещала ему подтянуться и после летних каникул сдать экзамен по русскому языку.
В тот августовский день, когда был назначен этот экзамен, Ивана Сергеевича вызвали в один из сельсоветов. Тамуся на экзамене провалилась. Анастасия Никитична перед всем классом побранила девочку, сказала, что вопрос о ней будет поставлен в пионерском отряде и что, по всей вероятности, ей придется снять красный галстук.
Самолюбивая Тамуся заплакала. Когда все дети разошлись по домам, она осталась в школе и, закрывшись одна в классе, начала что-то писать. По-видимому, это было какое-то важное письмо, потому что она несколько раз его переписывала, а затем пошла в школьную сторожку и попросила у сторожа красных чернил.
— Дядя Сеня, — сказала она, — дай, пожалуйста, немного красных чернил. В классе у нас только фиолетовые, и они сильно кляксятся, а мне надо написать очень важное письмо.
— Дома пиши! — заворчал дядя Сеня. — Уже давно все ученики разошлись, а ты все тут торчишь…
Но чернила он все же ей дал. Тамуся налила их в чернильницу, снова села за парту и принялась за письмо. Но ей не везло: через две-три минуты она случайно опрокинула чернильницу. Красные чернила залили парту и часть письма. От неожиданности Тамуся вскрикнула. Дядя Сеня, убиравший в соседнем классе, пришел на крик и увидел залитую чернилами парту. Вдвоем с Тамусей они стали приводить парту в порядок, после чего рассердившийся старик потребовал, чтобы девочка «сей же минут очистила помещение». Захватив испачканное письмо, Тамуся ушла домой.
А на следующий день утром в кабинет районного прокурора Игната Парфентьевича Волкова прибежал Иван Сергеевич. Вид у старика был ужасный, глаза его блуждали. Сотрясаясь от рыданий, он с трудом сообщил прокурору, что Тамуся ночью повесилась, не выдержав оскорблений, публично нанесенных ей учительницей Егоровой.
— Вот и письмо ее, — рыдая, сказал Иван Сергеевич. — Вот тут все написано… Голубка моя!…
Прокурор взял письмо. На большой листе бумаги, залитом с краю красными чернилами, было написано:
«Анастасия Никитична! Вы жестоко обидели и оскорбили меня перед всем классом!… Я никому не позволю снять с себя красный галстук, и если бы это случилось, я не стала бы больше жить…»
5. СЛЕДОВАТЕЛЬ ПЛОТНИКОВ
Плотников принадлежал к числу начинающих, романтически настроенных следователей, рассматривающих свою профессию как источник неисчерпаемых возможностей распутывания загадочных преступлений и раскрытия сложных конфликтов и человеческих драм. Еще в институте Плотников мечтал о том, как он, став, наконец, следователем, раскроет десятки «замечательных» дел, проявит изумительное проникновение в тайники человеческой души и прослывет грозой преступного мира.
И вот Плотников — народный следователь в Зареченске. После шумных улиц Москвы, великолепных театров, после веселых студенческих вечеринок — маленький, тихий городок, сонное озеро, деревянные домишки, прочно устоявшийся провинциальный быт.
На работе в районной прокуратуре — неизменно спокойный пожилой, добродушный прокурор Игнат Парфентьевич Волков, большой любитель рыбной ловли. Дела — две растраты в сельпо, разбазаривание горючего в МТС, хищение пшеницы на пункте Заготзерна. Все!
— Где же «настоящие» дела? Где запутанные убийства, дерзкие ограбления, крупные хищения? — уныло спрашивал Плотников у прокурора в первые месяцы своей работы.
— Типун тебе на язык, батенька, — со смехом отвечал Игнат Парфентьевич. — Второй год, как в районе не было ни одного убийства! И прекрасно! Вообще преступность у нас — тьфу, тьфу, не сглазить! — сильно пошла на убыль… Порядок в районе приличный.
— Какой же это порядок, — в искреннем отчаянии восклицал Плотников, — когда нет ни одного хорошего дела? Порадоваться нечему. Одна рыба — мелочь.
Но Игнат Парфентьевич в ответ только добродушно посмеивался, и лишь один раз он рассердился и накричал на Плотникова.
Впрочем, вскоре после своего приезда Плотников еще крепче подружился с дочерью учительницы Егоровой, молодым ветеринарным врачом Шурой Егоровой. Справедливость требует отметить, что после нескольких лодочных прогулок по озеру в обществе Шуры следователь Плотников заметно повеселел и перестал жаловаться на отсутствие «настоящих» дел.
Районный прокурор, очень внимательно следивший за настроениями и бытом своего следователя, был, конечно, в курсе личных дел Плотникова. Как человек тактичный, он никогда на эту тему не разговаривал и лишь слегка посмеивался себе в усы, когда Плотников по вечерам срочно покидал свой кабинет, ссылаясь на «приступ острой головной боли». Успевший искренне привязаться к молодому следователю, Игнат Парфентьевич считал про себя, что Шура — «девица правильная», и вообще она с Плотниковым пара подходящая.
В Зареченске был только один следователь. И прокурор, отлично понимавший всю щекотливость создавшейся ситуации, все же скрепя сердце был вынужден поручить дело о самоубийстве Тамуси Плотникову.
— Придется тебе, — коротко сказал он, делая вид, что не замечает умоляющего взгляда Плотникова. — Больше некому.
— Невозможно это, Игнат Парфентьевич, — произнес Плотников с отчаянием. — Невозможно это по многим обстоятельствам. Ведь Шарапов обвиняет учительницу Егорову в доведении до самоубийства его внучки!
— Ну и что же? — прикидывался непонимающим прокурор. — Дело как дело.
— Да ведь учительница Егорова — мать Шуры, — с трудом выдавил из себя Плотников.
— Дочь за мать не отвечает, — ответил Игнат Парфентьевич.
— Но как же я могу вести дело о матери своей невесты! — почти закричал Плотников. — Ведь для вас не секрет, что я и Шура…
Волков задумался и отошел к окну. Потом он посмотрел на Плотникова и тихо сказал:
— Милый мой, я все знаю, как есть все. Но выхода нет. Кроме тебя, вести дело больше некому. Виновата старуха — будешь ее привлекать. Не виновна — прекратишь дело. Только и всего. В твоей объективности я не сомневаюсь.
— Неэтично. И потом, как я буду смотреть в глаза Шуре?!
— Смотри, как ни в чем не бывало, — ответил прокурор. — Девушка она умная, тактичная. Сама поймет, что служба — прежде всего. Одним словом, милый, приступай.
И Плотников приступил. Как полагается, он прежде всего осмотрел труп и место происшествия. На худеньком лице мертвой девочки застыли широко, как бы в ужасе, открытые глаза. Никаких признаков насильственной смерти при наружном осмотре не оказалось. Записка самоубийцы была написана ею собственноручно. Это в дальнейшем подтвердила и графическая экспертиза.
Оставалось произвести судебномедицинское вскрытие трупа. Плотников задумался. Дело в том, что в Зареченске не было судебномедицинского эксперта. Пришлось поручить вскрытие местному хирургу, доктору Осипову.
Врач в присутствии Плотникова произвел вскрытие и написал заключение, согласно которому:
«Смерть покойной Тамары Шараповой, 9 лет, наступила вследствие асфиксии, последовавшей в результате наложения петли на шею покойной. Отсутствие ран, царапин и иных признаков борьбы и насилия в сочетании с запиской, оставленной покойной, приводят к заключению, что в данном случае имело место самоубийство».
Закончив эти формальности, следователь приступил к допросам. Иван Сергеевич подробно рассказал Плотникову об обстоятельствах, при которых он обнаружил рано утром случившуюся беду. По его словам, еще накануне ночью, поздно придя с работы, он застал Тамусю в ее комнате. Она что-то писала за столом и, когда он вошел в комнату, быстро перевернула исписанный листок. Он спросил девочку, почему она не спит. Тамуся ответила, что ей надо повторить уроки. Иван Сергеевич сказал, что уже поздно, и приказал Тамусе ложиться спать, а сам пошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Утром, проснувшись, он зашел к Тамусе и застал ее в петле. Тело девочки уже остыло, и признаки трупного окоченения были налицо. На столе лежала ее предсмертная записка.
— Это был тот же листок, который вы видели накануне? — спросил Плотников.
— Да, — ответил Иван Сергеевич, — безусловно, это был тот же листок. Я хорошо запомнил его формат.
— Значит, вы уверены, что Тамуся писала эту записку дома, когда вы ее видели в последний раз?
— Безусловно, — ответил Шарапов. — В этом можно не сомневаться. Именно потому она и перевернула записку.
К концу допроса старик разволновался и заплакал.
— Простите меня, товарищ следователь, — говорил он Плотникову, всхлипывая и сморкаясь, — но поймите: ведь я теперь один на белом свете. Один у меня был свет в окне — моя Тамуся… И вот теперь ничего не осталось. Холодная, одинокая, страшная старость… Старость, которую ничем не согреть…
Плотникову было от души его жаль. Иван Сергеевич очень изменился за эти дни. Он как-то сразу поник, осунулся и постарел. Его неизменно добродушное, приветливое лицо потеряло свою обычную жизнерадостность, глаза ввалились, щеки отекли. Во всем облике Ивана Сергеевича, в его потухшем взоре, в скорбных складках его рта, в частых слезах сквозило неподдельное большое горе.
И Плотникову было понятно, почему убитый горем старик с такой настойчивостью — добивался привлечения к ответственности учительницы Егоровой, которую он считал виновницей гибели Тамуси.
Он требовал ареста Егоровой, показательного суда над ней и строгого наказания.
— Это человек в футляре! — взволнованно говорил он Плотникову. — Это она, старая ведьма, довела Тамусю до петли! Она затравила ребенка! Весь город знает, что Тамуся была здоровой, жизнерадостной девочкой… Я требую суда! Я требую наказания!
— Ну, успокойтесь, Иван Сергеевич, — отвечал Плотников. — Поверьте мне, все будет объективно исследовано и проверено, все станет ясно.
И в самом деле, он добросовестно, с полной объективностью продолжал расследование этого дела, которое в его реестре значилось как «Дело N 187 по обвинению гр-ки Егоровой А. Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».
6. ПОХОРОНЫ
Похороны Тамуси состоялись через два дня после патологоанатомического вскрытия. За гробом на кладбище тли Иван Сергеевич и его друзья, школьные товарищи Тамуси и несколько педагогов. Пошел на похороны и Плотников.
На кладбище, возле могилы, перед тем как гроб опустили в землю, Иван Сергеевич не выдержал и зарыдал. Бросившись на маленький гробик, он судорожно вцепился в него руками. Кто-то из присутствующих с трудом оторвал старика от гроба и отвел его в сторону. Когда гроб уже был опущен в могилу, в кладбищенских воротах показалась Анастасия Никитична Егорова. Она опоздала на похороны и торопилась, чтобы успеть проститься с Тамусей. Старуха уже знала о том, что Иван Сергеевич обвиняет ее в гибели своей внучки. Без конца припоминая подробности своего разговора с Тамусей, Анастасия Никитична никак не могла согласиться с тем, что это могло толкнуть девочку на самоубийство. Анастасия Никитична учительствовала сорок с лишним лет. Она отлично знала детскую душу и хорошо учила своих учеников. Тамуся была здоровой, жизнерадостной, немного ленивой, но безусловно способной девочкой. Выговор, сделанный ей учительницей, по мнению Анастасии Никитичны, никак не мог привести ее к самоубийству. Анастасия Никитична любила Тамусю, как и всех своих учеников. Узнав о ее похоронах, старушка решила проститься с Тамусей.
Запыхавшись от быстрой ходьбы, учительница подошла к могиле и остановилась неподалеку.
— Убийца!… Вон отсюда!… Как вы смели сюда прийти?! — истерически закричал Иван Сергеевич, увидев Егорову. — Это вы довели ее до — гроба. Бездушная тварь!…
Иван Сергеевич бросился к Егоровой, но его успели удержать. Учительница скорбно смотрела на старика. Потом она тихо, почти шепотом, произнесла:
— Вы ошибаетесь, Иван Сергеевич… Я не убийца… Я любила Тамусю и хотела ей только добра. Но я понимаю ваше горе и не обижаюсь на вас… Вам ведь еще тяжелее, чем мне…
Она повернулась к нему спиной и пошла с кладбища. С минуту после этого стояла тяжелая тишина. Понурив голову, беззвучно плакал Иван Сергеевич. Взрослые и дети, столпившиеся у могилы, старались не глядеть друг Другу в глаза. Потом комья земли полетели в могилу, с мягким стуком ударяясь о крышку гроба.
Плотников стоял в стороне. Ему было не по себе. Интуиция следователя подсказывала ему, что Егорова не виновна. Внутренне он был убежден в этом. Смутно догадываясь, что какие-то совсем иные, пока еще неизвестные причины привели девочку к гибели, Плотников вместе с тем был бессилен это доказать. Формально, с точки зрения всех обстоятельств дела, Анастасия Никитична была причастна к самоубийству Тамуси. С другой стороны, положение Плотникова было крайне щекотливо: он и сам опасался, что его отношение к Шуре невольно влияет на его суждение и выводы.
«Я должен быть объективен, я должен забыть все то хорошее, что мне известно о ее матери», — думал Плотников и незаметно для самого себя как раз и терял эту объективность, настраиваясь против Егоровой. Каждый раз, когда ему в голову приходил довод в пользу Анастасии Никитичны, он придирчиво спрашивал самого себя: «А не потому ли я так думаю, что речь идет о Шуриной матери?»
И вот теперь Плотников оказался свидетелем тяжелой сцены, которая разыгралась у свежей могилы. Он жалел Анастасию Никитичну, но понимал и душевное состояние старика.
Когда над могилой вырос свежий холмик, все стали расходиться.
Кладбище опустело. Плотников присел рядом на пень и закурил. Белые кладбищенские березы тихо шумели над ним. Плотников думал все о том же — о смерти Тамуси, о горе ее деда, об Анастасии Никитичне и о Шуре, которую он не видел уже несколько дней, о войне, которая разгорается все шире. Он объяснил девушке, что до окончания следствия им неудобно встречаться, и Шура — согласилась, с ним. Она ни словом не обмолвилась в защиту своей матери, и Плотников вспоминал теперь об этом с гордостью.
Легкий кашель привлек внимание Плотникова. Он обернулся и увидел старика Шарапова, который тоже остался на кладбище. Иван Сергеевич не видел Плотникова, сидевшего за деревьями. И странно — лицо старика показалось вдруг Плотникову почти спокойным. Иван Сергеевич деловито высморкался, неторопливо размял папиросу, спокойно закурил и затянулся.
Плотникова поразило это удивительное спокойствие старика, который всего несколько минут тому назад весь сотрясался от рыданий, едва держался на ногах и был почти невменяем.
Вернувшись с кладбища домой, Плотников продолжал размышлять об этой разительной перемене в облике Шарапова, и какие-то туманные сомнения возникли у него с новой силой.
Графическая экспертиза установила, что предсмертная записка Тамуси была написана ее рукой. С этой стороны записка не вызывала никаких сомнений. Но кое-что все же казалось в ней Плотникову подозрительным. Плотников не имел еще достаточного следственного опыта, но зато был хорошо подготовлен теоретически. Понимая значение криминалистического опыта в своей работе, Плотников пытался возместить недостаток его, усердно изучая пособия по криминалистике, воспоминания опытных следователей и записки криминалистов. Он понимал, что искусство следователя заключается в умении заметить каждую мелочь, запомнить все детали и, сопоставляя их друг с другом, логически правильно истолковать.
Записка Тамуси была без ее подписи. Известно, что девочки Тамусиного возраста если и решаются в силу каких-то исключительных обстоятельств на самоубийство, то стараются обставить его возможно торжественнее.
«Допустим, — думал Плотников, — что Тамуся и в самом деле решила покончить с собой. Разве она не захотела бы прямо упрекнуть в прощальной записке обидчицу, доведшую ее до самоубийства, и разве, написав об этом, не подписала бы эту записку? Ну конечно, психология девочки ее возраста с повышенной впечатлительностью и некоторой обостренностью рефлексов, хотя бы в силу приближения переходного возраста, должна была продиктовать ей такое письмо. А между тем в записке Тамуси не только нет ее подписи, но даже последняя фраза в ней не закончена, а самый текст в записке залит чернилами…»
В результате этих размышлений Плотников пришел к выводу, что нужно проверить, когда и где именно эта записка была написана и почему она не была закончена.
По показаниям одноклассников Тамуси он точно установил все подробности происшедшего инцидента. Дети припомнили, что по окончании экзамена Тамуся осталась в классе. Тогда Плотников исследовал ее парту и обнаружил, что она сравнительно недавно была залита красными чернилами. Между тем во всех чернильницах в этом классе были налиты фиолетовые чернила. Плотников обратился к школьному сторожу, и тот рассказал ему, как Тамуся попросила красных чернил для какого-то важного письма, как она нечаянно залила парту и письмо этими чернилами и ушла после этого домой.
Убедившись таким образом, что записку свою Тамуся написала днем, за много часов до самоубийства, Плотников решил окончательно проверить этот факт и с этой целью без предупреждения зашел вечером к Ивану Сергеевичу.
— Извините меня, — сказал он старику, отворившему ему дверь, — но мне нужно еще раз осмотреть комнату, в которой произошло несчастье.
— Пожалуйста, — коротко и сухо произнес Иван Сергеевич и проводил Плотникова в комнату Тамуси.
Это была самая обычная провинциальная комната с небольшим рабочим столом, кроватью и шкафом, в котором еще висели платья Тамуси.
Плотников обнаружил, что в чернильнице, которая стояла на столе, были фиолетовые чернила.
— А нет ли у вас в доме красных чернил? — как бы невзначай спросил он Ивана Сергеевича.
— Нет, красных нет, — ответил старик и пытливо взглянул на Плотникова. — А вам, собственно, для чего?
— Дело в том, — ответил Плотников, — что, по вашему утверждению, Тамуся писала свою записку в этой комнате, перед тем как покончить с собой. Между тем записка написана красными чернилами.
Старик еще раз взглянул на Плотникова и, подумав, сказал:
— Да, пожалуй вы правы. Я не заметил в волнении, что записка написана красными чернилами… Значит, я ошибся. Вероятно, Тамуся писала эту записку в другом месте… Впрочем, какое это имеет значение?
Плотников не ответил на этот вопрос. Но он отлично понимал, какое это имеет значение. Было психологически невероятно, чтобы девочка, написавшая записку днем, то есть несколькими часами раньше самоубийства, за это время не успокоилась и не пришла в себя. Кроме того, открытие следователя опровергало первоначальные показания Шарапова об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших самоубийству Тамуси.
Но Плотников ничего не сказал старику. Попрощавшись с ним, он пошел к себе на работу.
— Ну, как дела? — спросил его Волков, тоже сидевший в прокуратуре. — Когда ты кончишь дело о самоубийстве?
Плотников сел против Игната Парфентьевича и подробно рассказал ему о возникших у него сомнениях, о сцене на кладбище, о чернилах, о записке, — одним словам, обо всем.
Волков внимательно выслушал следователя и после небольшой паузы сказал:
— Что ж, твои сомнения законны и логичны. Но что отсюда следует? Какова твоя версия?
— У меня еще нет определенной версии, — ответил Плотников, — я ничего пока не могу утверждать. Но я считаю необходимым, чтобы труп Тамуси был эксгумирован и подвергнут повторному судебномедицинскому вскрытию и чтобы вскрытие это производил специалист, опытный судебномедицинский эксперт.
— В городе нет такого специалиста, — сказал Волков.
— Знаю. Надо вызвать из области, — ответил Плотников.
Прокурор долго молчал, как бы взвешивая еще раз все доводы следователя, а затем коротко сказал:
— Согласен. Давай телеграмму.
7. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Через несколько дней из области приехал судебномедицинский эксперт. Чтобы избежать кривотолков, Волков и Плотников решили произвести эксгумацию трупа ночью. Было уже около трех часов ночи, когда они пришли на кладбище.
Плотников разыскал могилу Тамуси, и ее начали раскапывать. Эксперт готовил к вскрытию инструменты. Волков налаживал переносный электрический фонарь.
Наконец, заступ глухо стукнул о крышку гроба. Плотников спустился в разрытую могилу, обвязал гроб веревкой и крикнул, чтобы поднимали. При тусклом свете слабого электрического фонаря извлеченный из могилы гроб раскрыли и вынули из него труп девочки. Эксперт приступил к работе. Плотников огляделся вокруг со странным чувством. Ему еще ни разу не приходилось присутствовать при ночной эксгумации.
Светлый круг фонаря только подчеркивал глубокую темноту, в которую было погружено кладбище. В руках эксперта тускло поблескивал скальпель, которым он быстро и уверенно работал. Волков стоял в стороне, терпеливо ожидая конца вскрытия. Изредка он поворачивал фонарь, который держал в руках, и тогда луч света вырывал из темноты кладбищенские березы и могильные кресты. Было очень тихо, но и самая тишина эта была какая-то тревожная, настороженная, какая бывает только ночью, на кладбище.
— Нашел! — воскликнул вдруг эксперт, и Плотников, а за ним и Волков бросились к нему. — Все теперь ясно…
И эксперт начал показывать и объяснять. Горловые хрящи девочки были сломаны. Это был тот хорошо известный криминалистам типичный перелом, который происходит, когда жертву душат за горло руками. Странгуляционная же борозда на шее Тамуси была выражена очень слабо.
— Ясно, — заключил эксперт, — что девочку сначала душили руками и только потом, когда она уже потеряла сознание, на нее накинули петлю, чтобы инсценировать самоубийство. Случай очень интересный. Убийство путем насильственной асфиксии с последующим инсценированием самоубийства. Аналогичный факт описан у Крюкова…
Уже на рассвете, когда все формальности были закончены и эксперт подписал протокол эксгумации и свое категорическое заключение, Плотников получил санкцию прокурора на производство обыска в квартире Ивана Сергеевича Шарапова. Написав постановление, Плотников взял с собой двух милиционеров и направился к старику. Около семи часов утра он подошел к домику Шарапова. На стук минут через пять вышел заспанный Иван Сергеевич. Увидев Плотникова и милиционеров, он слегка побледнел.
— Что такое? — спросил он. — Что случилось?
— Ничего не случилось, — ответил Плотников. — Но мне нужно произвести у вас обыск. Вот постановление и санкция районного прокурора.
Обыск уже подходил к концу, но поиски были безрезультатны. Не было найдено решительно ничего такого, что могло бы представлять интерес для дела, что проливало бы хоть немного света на причины гибели Тамуси. Иван Сергеевич молча, злыми глазами наблюдал за тем, как Плотников перелистывал книги, знакомился с документами и старыми фотографиями, рылся в древних сундуках.
Комната Тамуси и смежная с нею столовая были уже обысканы, и сейчас обследовалась личная комната Ивана Сергеевича, в которой стояли его кровать, шкаф с книгами и рабочий стол.
Время от времени Плотников задавал Ивану Сергеевичу вопросы, относящиеся к вещам, обращавшим на себя его внимание. Иван Сергеевич отвечал на эти вопросы коротко и односложно, подчеркивая этим свое возмущение обыском. Однако при этом он был абсолютно спокоен, как человек, уверенный в том, что ему решительно нечего бояться. И только один раз Плотников уловил искру, мелькнувшую в его глазах. Это случилось в ту минуту, когда следователь обнаружил среди кипы старых открыток вид города Брауншвейга.
— Вам приходилось бывать в Брауншвейге? — спросил Плотников.
— Нет, я не бывал за границей, — ответил Иван Сергеевич и тут же добавил: — У меня есть виды и многих других городов: Парижа, Венеции, Рима…
И в самом деле, среди открыток были виды всех этих городов.
В сундуке среди старых документов и журналов Плотников обнаружил вырезанные из «Нивы» фотографии первого русского многомоторного самолета «Илья Муромец».
— Вы, я вижу, интересовались авиацией? — спросил Плотников.
— Интересовался, — ответил Иван Сергеевич. — В то время все ею интересовались. Впрочем, вы, вероятно, этого не помните.
Наконец, обыск закончился. Плотников присел к рабочему столу Ивана Сергеевича, чтобы написать протокол. Стол был завален гербариями, банками и какими-то жучками, старыми конденсаторными лампами, маленькими аккумуляторами, предохранителями и всякой другой радиорухлядью.
— Вы радиолюбитель? — спросил Плотников.
— До войны увлекался. Потом пришлось сдать приемник, — все в том же подчеркнуто сухом и лаконичном тоне ответил Иван Сергеевич.
Сев к столу, Плотников чуть подвинул его, чтобы было удобнее, и заметил, что стол, сдвинувшись одной стороной, остался неподвижен с другой. Сделав вид, что он не обратил на это внимания, Плотников попробовал его сдвинуть. Но левая ножка стола была словно прикреплена к одной точке. Тогда он уже с силою начал двигать стол. Выяснилось, что его левая передняя ножка действительно прикреплена к полу. Плотников приподнял стол и увидел, что через эту ножку под пол пропущен какой-то провод. Иван Сергеевич молча сидел в стороне.
— Что это за провод? — опросил его Плотников.
— От старого приемника. Заземление, — ответил старик.
Ответ был правдоподобен. Тем не менее Плотников поднял половицу, следуя за проводом. Раскапывая землю, Плотников все больше обнажал провод и, наконец, обнаружил какой-то сколоченный из досок ящик. Иван Сергеевич продолжал хранить угрюмое молчание.
Достав топор, Плотников оторвал доски от ящика и увидел довольно большой, поблескивающий никелем и эбонитом радиопередатчик фирмы «Телефункен»…
8. ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
Иван Сергеевич сидит перед столом следователя, прямо против него, и не спеша затягивается дымом предложенной ему папиросы, стараясь спокойно отвечать на вопросы. Иногда он делано смеется, но смех этот горек: старый рот неохотно раздвигается в кривой усмешке, а в глубине зрачков притаился плохо запрятанный ужас, страх перед неизбежным наказанием, досада на свое поражение и — удивительная вещь! — искра надежды. Да, надежды, потому что обвиняемый не перестает надеяться даже тогда, когда его планы потерпели полное крушение и рассудок ясно говорит ему, что расплата неизбежна.
Шарапов был слишком умен для того, чтобы после обыска продолжать сопротивление. Он не находил уже в этом смысла и не чувствовал той фанатической одержимости, благодаря которой иногда обвиняемый, вопреки фактам и доказательствам, вопреки собственной выгоде и расчету на «чистосердечное признание», вопреки всему, коротко говорит «нет», не желая назвать ни одного факта, ни одного имени, ни одного адреса, хотя отлично понимает, что ему не верят и что в его виновности сомнений нет.
Шарапов сразу стал рассказывать все. Он рассказал о выпускном бале брауншвейгской офицерской школы, о том, как вновь произведенный офицер императорской армии Ганс Шпейер уехал, не простившись ни с кем, в маленький городок на Рейне, где еще два года проходил обучение в секретной школе германской разведывательной службы; в этой школе он тренировал свою память, изучал чертежное дело и фотографию, зубрил шифровальные коды, совершенствовался в русском языке и дополнительно ко всему этому овладел профессией землемера.
И вот в августе 1913 года в Гатчинской земской управе появился новый молодой землемер Иван Сергеевич Шарапов. Появился он неожиданно, с назначением из Петербурга, прямо из министерства земледелия, и в управе поговаривали, что новый землемер — лицо влиятельное, с весьма значительными связями. Несмотря на это, он расположил к себе всех своей скромностью, редкостной исполнительностью и примерным образом жизни. Был он очень общителен и отменно воспитан, почтительно относился к старшим, охотно угощал сослуживцев, прекрасно играл в преферанс, умел делать комплименты дамам и весело ухаживать за барышнями. Добавьте к этому приятную наружность, точность и аккуратность, поразительную в этом возрасте солидность — и вы поймете, почему очень скоро после своего появления в Гатчине Иван Сергеевич стал считаться душою общества и завидным женихом.
И в самом деле, через каких-нибудь пять месяцев Иван Сергеевич сделал предложение очень милой барышне, Маше Онисимовой, дочери гатчинского полицмейстера, получил согласие ее и родителей и вступил в законный брак.
После свадьбы он отлично зажил с молодой женой в небольшом домике у парка, полученном в приданое. Он завел широкие знакомства в среде местных чиновников и офицеров гатчинской военной воздухоплавательной школы. На вечеринках, которые очень любили и отлично, умели устраивать Иван Сергеевич и его молоденькая хорошенькая супруга, было неизменно уютно и весело; молодежь любила у них собираться, выпивать по маленькой, заложить польский банчок, петь хором под гитару: «Ах, зачем эта ночь так была хороша…», танцевать только входившее тогда в моду «танго смерти», декламировать Бальмонта:
«Заводь спит, молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний крик души…»
Любили также шумной компанией выезжать в окрестности Гатчины на пикники.
Иван Сергеевич импонировал и своей образованностью; он был аккуратным подписчиком «Нивы» со всеми ее приложениями, отличался любознательностью и проявлял, между прочим, большой интерес к воздухоплаванию и авиации — к «аппаратам тяжелее воздуха», как тогда было принято называть самолеты. В те времена увлечение авиацией было широко распространено в России. Со страниц газет не сходили портреты одного из первых русских авиаторов — Сергея Уточкина, лихого одессита, разъезжавшего по стране и показывавшего публике опытные полеты. Гатчинская воздухоплавательная школа являлась центром тогдашней авиационной жизни. В ней обучался знаменитый Петр Николаевич Нестеров, летчик, впервые сделавший «мертвую петлю» и впоследствии геройски погибший на фронте. В мастерских школы секретно строился опытный экземпляр первого в мире многомоторного самолета «Илья Муромец».
«Илья Муромец» чрезвычайно интересовал немецкую разведку. В самом деле, самолет этот был по тем временам огромным событием. В Европе досадовали, что именно русские первыми дерзают строить многомоторный самолет. В Германии предвидели, что в будущей войне, которую тайно подготовлял Берлин, эта машина сыграет немалую роль.
Ганс Шпейер понимал всю серьезность полученного им задания. Он завел дружбу со многими офицерами гатчинской школы и часто встречался с ними. Ему удалось точно выяснить, что «Илья Муромец» строится в мастерских школы. Но проникнуть в эти мастерские, а главное — добыть чертежи и расчеты самолета оказалось делом очень трудным.
В Берлине нервничали и поторапливали «землемера». Все возможные способы получения чертежей самолета были исчерпаны и не дали должных результатов. Даже в военном министерстве не знали толком, что же будет представлять собой этот загадочный самолет.
Наступило лето 1914 года, последнее мирное лето. Переполненные поезда привозили по воскресеньям из столицы нарядную публику. В парке щебетали птицы и барышни. Военный оркестр без отдыха исполнял томные вальсы и тягучие танго. Роскошные дамы в огромных шляпах с перьями, похожих на вороньи гнезда, тонкие, бледные петербургские аристократы, щеголеватые студенты, элегантные купчики в блестящих котелках или соломенных канотье, вертлявые столичные модистки, дорогие кокотки и «звезды» из столичных кафешантанов, надменные гвардейские офицеры в мундирах с иголочки и лакированных сапогах, картавящие штатские пшюты и перезрелые гимназисты гуляли стаями по аллеям парка, любовались мотоциклетными гонками, толпились в гатчинских кафе и кондитерских, флиртовали, сплетничали и вообще развлекались как могли.
В Берлине кайзер Вильгельм нетерпеливо пощипывал усы, рассматривая последние варианты планов генерального штаба. Германская разведка лихорадочно подводила итоги полученных донесений. Генералы тайно примеряли походные мундиры. Под видом летних маневров немцы проводили мобилизацию и поспешно сколачивали новые дивизии. Лето стремительно катилось к июлю, к военной катастрофе. А молодой «землемер» так и не мог получить чертежей и расчетов «Ильи Муромца».
— Как же вы объясняли свою бездеятельность начальству? — спросил Плотников, с интересом слушавший подробный рассказ Шарапова.
— Каждую неделю, гражданин следователь, — ответил Шарапов, — повторяю, каждую неделю я докладывал немецкой резидентуре в Петербурге о тщетности своих усилий. Нужно сказать, что мое начальство понимало трудность задания. Ведь чертежи самолетов и до меня старались получить, но не сумели.
— Я знаю, — сказал Плотников.
— Когда началась война, производство самолетов было передано Русско-балтийскому заводу. «Ильи Муромцы» были все же построены и пущены в дело. На фронте они произвели фурор.
— Все это известно, — перебил его Плотников, — вы рассказывайте о себе. Что вы делали дальше?
Иван Сергеевич начал опять рассказывать. Он рассказал, как переехал после войны в Петроград, где устроился работать на Русско-балтийском заводе. Ему удалось получить там данные о количестве пущенных в производство самолетов и некоторых других видов вооружения. Его деятельность была одобрена. Несколько позже он выехал в одну из западных губерний, где передал ряд шпионско-диверсионных заданий немецкой агентуре, насажденной в этих районах под видом колонистов, мельников, хуторян, аптекарей, владельцев небольших пивоваренных заводов, колбасных и т. п.
— Надо сказать, — продолжал Иван Сергеевич, — что в царской России была огромная сеть германской разведки. Не было буквально ни одного города, ни одного уезда, где бы под той или иной личиной, под тем или иным прикрытием не жил немецкий агент. И вот мне был выделен целый район, в котором я встречался с нашей агентурой, передавая ей задания. Так пролетели три года, и пришла революция. Был заключен Брестский мир. Мое начальство внезапно исчезло из Петрограда. Я растерялся и выжидал, не имея определенных инструкций. Так продолжалось до осени тысяча девятьсот восемнадцатого года. Однажды — это было в ноябре — в дверь моей квартиры постучались поздно ночью. Я уже спал. Жена открыла посетителю двери и разбудила меня. Я вышел в переднюю и увидел… господина Бринкера, моего «крестного папашу». Мы прошли с ним в отдельную комнату. Он поздравил меня с первым Железным крестом и капитанским званием. «Сейчас смутное время, — сказал он. — Германия проиграла войну. Но придет день, и она возьмет реванш. Немецкая разведка на время сворачивается, но отнюдь не перестает жить. Будем ждать». Бринкер добавил, что Германия не успокоится, пока не возьмет реванша, и что к этому реваншу надо уже теперь готовиться. Надо заранее насаждать агентуру германской разведки, создавая «опорные точки» для будущей войны. И он предложил мне «законсервироваться» — уехать в какой-нибудь небольшой городишко, не слишком далеко от границы, мирно жить и тихо работать, врасти в быт этого городка и… ждать указаний. Вот и все. Я приехал в Зареченск и с тех пор живу здесь. Жена вскоре скончалась от тифа. Я остался один с дочерью, Я вырастил дочь, рано выдал ее замуж, но неудачно. Она скоро умерла, оставив мне Тамусю, и, поверьте, я любил девочку, И если бы не эта страшная ночь…
— Почему вы убили Тамусю? — спросил Плотников.
— Это случилось внезапно для меня самого. Поздно ночью я пришел домой из клуба. Тамуся спала одетая. Я прочел ее письмо, которое лежало на столе. Потом я прошел к себе в комнату и начал работать с передатчиком. Дело в том, что за последний месяц у меня скопился материал для передачи.
— Но вы забыли рассказать, как и когда вы получили этот передатчик, — напомнил Плотников.
— Вы правы. Я немного рассеян, — ответил старик. — Это случилось в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Однажды ко мне приехал человек из Смоленска, которого я совершенно не знал. Он объявил мне, что период консервации кончился и что обо мне помнят. Он передал мне приказ Берлина приступить к работе и вручил передатчик. Он же научил меня, как с ним работать. До сих пор мои функции заключались в том, чтобы передавать по радио получаемые от нескольких точек данные в определенные дни. Передача производилась шифром, по короткой волне. С этого и началась моя новая работа. И вот в эту ночь, передавая очередные сведения, я увлекся… Может быть, это произошло из-за усталости. Незаметно для самого себя я стал вслух произносить то, что выстукивал ключом. Вдруг я услыхал детский крик: «Дедушка, что ты делаешь?» Обернувшись, я увидел Тамусю. Она стояла на пороге моей комнаты. Я страшно испугался и, не отдавая себе отчета в происходящем, бросился на нее. Потом вдруг вспомнил об этой записке и решил инсценировать самоубийство. Остальное вы знаете…
Иван Сергеевич замолчал и тупо уставился в угол комнаты. Руки его чуть заметно подрагивали. На виске набухла и трепетно пульсировала старческая фиолетовая жилка. Под глазами отчетливо обозначились набрякшие мешки. Он тяжело дышал. Плотников наблюдал за ним. Некоторое время они молчали, а затем Иван Сергеевич тихо сказал:
— Вот, собственно, и все. Я сам не знаю, для чего я опять взялся за это. Молодость давно прошла, а вместе с нею ушел в вечность и Ганс Шпейер. Эти тридцать лет не прошли даром, гражданин следователь! Вы поймите, русским я был больше времени, чем немцем. Я забыл Германию, я не помню, какая она, иногда мне кажется, что я никогда в ней и не был, что все это сон, чепуха, вымысел… Одним словом, верьте мне, я не могу логически объяснить случившееся. Я уже стар. Впереди у меня нет ничего, кроме могилы. Не думайте, что я хочу вас разжалобить. Это все — правда. Боже мой, как бессмысленно и нелепо прожита жизнь! Я выкурил ее, как дешевую папиросу, и теперь от нее не осталось ничего, даже дыма…
Шарапов опустил голову на стол и заплакал бессильными, старческими слезами.
— Теперь уже поздно плакать, — произнес Плотников, — теперь надо отвечать.
— Я знаю, — сказал Шарапов.
— У вас были в течение этого года люди оттуда? — спросил Плотников.
— Нет, — ответил старик, — не были. Но я не хочу вас обманывать и потому должен сказать, что с неделю тому назад я получил открытку, в которой какой-то племянник Миша извещал меня о своем скором посещении. Я понял, что ко мне приедет немецкий агент. По имеющемуся в открытке обратному адресу я ответил, что буду рад видеть дорогого племянника. Черт бы их всех побрал — этих «крестных отцов» и неожиданных «племянников»!
Плотников задумался. По всей видимости, старик рассказывал правду и выложил все, что знал. Будучи разоблачен, он уже не представлял особого интереса. Но имело смысл заполучить его «племянника». Во всяком случае, об этих новых обстоятельствах надо было, немедленно доложить.
Плотников написал протокол показаний Шарапова и дал его на подпись старику. Тот долго читал протокол и со старческой аккуратностью подписывал страницу за страницей. Наконец, дойдя до заключительной фразы: «Записано с моих слов верно и мною прочитано», он расписался в последний раз.
— На сегодня хватит, — коротко сказал Плотников и, вызвав конвоира, отправил старика в тюрьму.
9. «ПЛЕМЯННИК МИША»
Органы, которым следователь Плотников сообщил о показаниях Шарапова — Шпейера, естественно, заинтересовались «племянником Мишей». Среди переписки старика была действительно обнаружена открытка, в которой «племянник» уведомлял «дядюшку» о своем предполагаемом приезде.
Эта открытка, как показывал почтовый штемпель, была отправлена из Москвы за несколько дней до ареста Шарапова.
После того как были обсуждены все возможные способы заполучить «племянника», решили, что лучше всего поджидать его в доме Шарапова. И вот в домике этом, на тихой боковой уличке, спокойно поселился какой-то пожилой человек, одного возраста с Иваном Сергеевичем и даже имеющий с ним некоторое внешнее сходство. Новый обитатель дома мирно возился в своем огородике, мало показывался, не заводил знакомств с соседями и вообще ничем не возбуждал любопытства. Он так же, как и Шарапов, немного сутулился, был по-стариковски добродушен, домовит, аккуратен и немногословен. Одежда его была тоже соответствующей: он носил старый мешковатый костюм или холщовую толстовку и в жаркие дни пользовался соломенной каской с двумя козырьками, которые в провинции именовались обычно «здравствуй-прощай».
Одним словом, ни в облике, ни в манерах, ни в поведении этого пожилого спокойного человека не было ничего такого, что выдавало бы советского разведчика с огромным опытом, и большой школой, человека, за плечами которого были царская каторга, партийное подполье, два побега из деникинской контрразведки и многие годы героической чекистской работы.
Человека этого звали Сергеем Михайловичем. Фамилия его была Амосов. Впрочем, с того момента как Амосов поселился в маленьком домике Ивана Сергеевича, он стал называться Иваном Сергеевичем.
О характере человека можно судить по его вещам, так же как о вещах — по характеру их владельца. В подборе вещей, в обращении с ними всегда сказывается человек, его вкус, его привычки, его склонности и слабости. Но и вещи, окружающие человека, в свою очередь, влияют на его характер.
Поселившись в доме Ивана Сергеевича, Амосов присматривался к этому дому и к находившимся в нем вещам с настойчивым любопытством исследователя и с бдительностью человека, который не даст себя обмануть ни вещам, ни людям. Ивана Сергеевича Амосов видел в кабинете Плотникова несколько раз. Он запомнил походку Шарапова, его манеру разговаривать, его лицо. Здесь, в доме Ивана Сергеевича, Амосов пытливо изучал его вещи, его книги, его почерк, его фотографии. Все это делалось потому, что Амосову впредь предстояло играть роль Ивана Сергеевича, действовать в качестве Ивана Сергеевича, казаться Иваном Сергеевичем. И Амосов, как говорят актеры, «входил в образ» того человека, которого он должен был изображать. Из показаний Шарапова ему было известно, что немцы с 1918 года не посещали Шарапова, не имели его фотографий и, следовательно, не представляли себе его теперешнего внешнего облика. Так же как и Плотников, Амосов верил показаниям Шарапова. И теперь он с нетерпением ожидал приезда «племянника».
Прошло уже больше месяца, а «племянник» все не появлялся. Наконец, однажды в поздний час, почти на исходе ночи, осторожный стук в окно разбудил Амосова. Прислушавшись, он убедился, что и в самом деле кто-то очень тихо, но настойчиво стучал в стекло. Амосов быстро оделся и, не зажигая света, прильнул к оконному стеклу. Перед окном в серых сумерках уходящей ночи он разглядел смутные контуры высокой мужской фигуры. Амосов открыл форточку и спросил:
— Кто там?
— Это я, дядя, — ответил шепотом неизвестный.
— Миша! — воскликнул Амосов и, выбежав в сени, быстро отворил дверь.
Мужчина, оглянувшись, подбежал к нему, и Амосов протянул ему руку. Они с любопытством разглядывали друг друга, насколько это было — возможно в полумраке. Потом Амосов проводил своего гостя в комнату и зажег керосиновую лампу. Перед ним стоял высокий, тонкий человек, с длинным, вытянутым лицом. Его глаза смотрели внимательно и пытливо. Он был одет в форму железнодорожника.
— Ну, как ты, Миша, доехал? — очень спокойно и совершенно серьезно спросил Амосов.
— Ничего, — коротко ответил «племянник», одобрительно улыбнувшись серьезному тону старика. — Прилично. Как вы, дядюшка, живете? Давненько я вас не видал.
— Может быть, ты закусишь с дороги? — спросил Амосов.
— С наслаждением, — ответил «племянник». — Признаться, я здорово проголодался. Нет, дядюшка, вы просто прелесть!…
Амосов достал из буфета хлеб, колбасу, масло. Потом он зажег примус и поставил чайник. Гость молча курил. Время от времени они встречались взглядом и почти нежно улыбались друг другу.
— Вы живете один, дядя? — спросил гость.
— Один, — ответил Амосов и, подумав, повторил: — живу один.
Потом «племянник» стал закусывать. Ел он быстро и жадно. Амосов любезно пододвигал к нему тарелки с едой.
Наконец, гость насытился и снова закурил. Отхлебнув из стакана горячего чая, он внимательно посмотрел на Амосова и спокойно сказал:
— Итак, перейдем к делу. Я приехал к вам с очень серьезным поручением от нашего общего начальства. Мне приказано передать вам, Иван Сергеевич, что положение, создавшееся на этом участке фронта, диктует необходимость ряда срочных мероприятий. Согласно вашим же собственным донесениям, в районе Зареченска дислоцированы крупные советские резервы. Судя по некоторым данным, в ближайшие дни русские попытаются перебросить эти резервы в район военных действий. Задача заключается в том, чтобы…
10. КОНКРЕТНО ЕЗАДАНИЕ
Пока «племянник» излагал цель своего приезда и конкретное задание, которое ему поручено было передать Ивану Сергеевичу, Амосов с интересом разглядывал своего гостя, не переставая в то же время внимательно слушать его.
«Племянник», по-видимому, был из прибалтийских немцев. Однако он отлично, без всякого акцента говорил по-русски, и только его длинное остзейское лицо, чрезмерно тонкие губы и какая-то особая бесцветность тусклых глаз, называющихся у немцев голубыми, выдавали наблюдательному Амосову его происхождение. Свою мысль «племянник» излагал четко, без лишних слов, с какой-то особой, тоже чисто немецкой аккуратностью. На вид ему было лет тридцать пять, не больше.
Задание касалось нескольких эшелонов с боеприпасами, ожидавших в районе Зареченска указаний о дальнейшем маршруте. Эти боеприпасы немцы решили ликвидировать. План их имел своей целью, с одной стороны, оставить весь этот район фронта без боеприпасов, а с другой — вызвать панику в Зареченском районе, который уже стал прифронтовым.
— Мне поручено передать вам, — сказал «племянник», — что задание должно быть выполнено в самом срочном порядке. Стратегическая обстановка на данном участке фронта такова, что недели через две Зареченск будет уже в наших руках. Наступление идет в отличном темпе. И ваша задача — ускорить события.
— Где именно находятся эшелоны? — спросил Амосов.
— Точно мы этого не знаем. Достоверно установлено только, что они в районе Зареченска. По-видимому, они стоят на одном из ближних разъездов или полустанков. Вряд ли боеприпасы сконцентрированы в самом городе. Я постараюсь облегчить вашу задачу. Именно потому я и явился к вам в роли железнодорожника. У меня, помимо формы, отличные документы. Вот посмотрите…
Амосов ознакомился с документами «племянника». В них было указано, что инженер службы тяги Н-ской железной дороги Михаил Петрович Скорняков командируется в прифронтовые районы Н-ской области для инспектирования паровозного парка. Документы действительно были отлично сделаны и имели безупречный — вид.
— А как с техникой? — спросил Амосов.
— При мне несколько килограммов тола, — ответил «племянник». — На первое время этого более чем достаточно. Но дело не в этом. Имеются ли у вас надежные люди?
— Вам должно быть известно, — ответил Амосов, — что я не имел права ни с кем вступать в контакт. Я был законсервирован и все эти годы работал один, и то лишь по связи.
— Знаю. Однако, прожив в этой дыре столько лет, вы, конечно, завели прочные знакомства, изучили людей, присмотрелись к ним?
— Людей я знаю, но никого твердо рекомендовать не могу. Впрочем, надо подумать. Я не был подготовлен к такому делу.
На этом первый разговор окончился. Амосов предложил своему гостю отдохнуть, и тот с радостью принял это предложение. Устроив «племянника» в спальне и убедившись, что он заснул, Амосов вышел во двор и принялся обдумывать создавшееся положение. Сразу арестовать «племянника» не имело смысла. Он, вероятно, еще не все рассказал: не было выяснено, имеет ли он в Зареченске еще какие-нибудь явки, кроме Шарапова. Судя по внешности и манерам этого человека, он был далеко не рядовым шпионом. Приехал он из Москвы, где, по его словам, он жил много лет. Следовательно, он в Москве должен был иметь связи и корни, которые необходимо было выяснить. При этих условиях имело смысл продолжать игру.
Опасность таилась в данном случае в том, что «племянник» мог случайно узнать от кого-либо из зареченцев, что принял его вовсе не Иван Сергеевич Шарапов.
Тщательно обдумав всевозможные варианты и взвесив могущие встретиться осложнения, Амосов решил продолжать игру, приняв все меры к тому, чтобы никакая случайность его не выдала.
«Племянник» проснулся в полдень. Амосов предложил ему закусить еще раз. За столом оба выпили и снова разговорились.
Гость, по-видимому, ни в чем не сомневался. Амосов ловко вставлял в разговор воспоминания о брауншвейгской школе, пароли прошлых лет, позывные передатчика — одним словом, все то, что было ему известно из показаний Шарапова.
— Вы прошли хорошую школу, — произнес «племянник», — надо сказать, что старые кадры немецкой разведки были отлично подготовлены. В этом смысле наше поколение может вам только позавидовать.
— Ваша работа — лучшая школа, — возразил Амосов. — Ну что толку было получать специальное образование? Я сидел в провинции много лет, в сущности ничего не сделал, постарел и многое уже позабыл. Ведь я даже старался не разговаривать по-немецки.
«Племянник» улыбнулся и тут же заговорил по-немецки. Амосов, хорошо владевший этим языком, по-немецки же ему ответил. После нескольких фраз «племянник» оказал, что Иван Сергеевич скромничает, так как отлично владеет родным языком.
— А мне казалось, что я утратил немецкое произношение, — сказал Амосов. — Приятно, что это не так. По-видимому, муттершпрахе не забывается. Впрочем, я всегда старался думать по-немецки. А вот вы владеете русским языком, как — родным.
— Это не удивительно, — сказал «племянник», — я все последние годы прожил в Риге. А там русский язык и до советизации Латвии был в обиходе. Кроме того, я в свое время учился в русской школе. Однако, Иван Сергеевич, хорошо бы поразмять ноги. Далеко ли отсюда вокзал?
— В двух километрах, — ответил Амосов, — Кстати, вы посмотрите город. Пойдемте, я вас провожу.
Они вышли на улицу. Стоял жаркий сентябрьский день. На дворе почти никого не было.
— Здесь довольно пустынно, — произнес «племянник». — Что, так всегда?
— Провинция, — ответил Амосов. — А кроме того, в это время дня гуляющих нет, Да и живу я почти на окраине. Вот в центре города будет поживей. Нам как раз нужно пройти по центральной улице.
На центральной улице было действительно гораздо оживленнее. С вокзала тянулась длинная колонна военных грузовиков, по-видимому только что сошедших с железнодорожных платформ. «Племянник» внимательно разглядывал машины, нагруженные, доверху какими-то ящиками.
— Мы удачно вышли, Иван Сергеевич, — сказал он. — Как видите, прибыла большая партия боеприпасов. Пройдемте на вокзал и постараемся выяснить, откуда прибыл эшелон. Кстати, хорошо бы узнать, куда направляются эти грузовики. Вы не в курсе дела?
— Нет, — ответил Амосов. — Знаю только, что отсюда дорога на Ольховский большак. Но там, по-моему, нет никаких складов.
Когда они пришли на вокзал, там еще продолжалась разгрузка прибывшего эшелона. С длинных товарных платформ осторожно сползали по подставленным доскам тяжелые грузовики.
Эшелон был большой, в сто платформ. «Племянник» обошел весь состав, а затем вызвал старшего кондуктора эшелона. Когда тот подошел, «племянник» предъявил ему документы.
— Как работали стоп-тормоза? — деловито спросил он. — На подъемах тяга не подводила?
— Нормально шли, — коротко ответил кондуктор.
— По пути меняли паровоз?
— Нет, шли одним, — ответил кондуктор.
— В каком депо брали?
— В Н-ске, — ответил кондуктор. — Там и состав формировался.
Больше «племянник» вопросов не задавал. Немного погодя он вынул записную книжку и отметил название станции, в которой, по словам кондуктора, формировался состав, и названное ему Амосовым Ольховское шоссе.
После этого он зашел к начальнику станции и снова предъявил свои документы. Начальник по его требованию доложил ему, как обстоит дело с маневровыми и резервными паровозами.
Эти данные представляли для «племянника» большой интерес, так как по ним он мог получить представление о грузообороте станции, а главное — о предполагаемых перевозках.
— Если в такое время они держат здесь столько резервных и маневровых паровозов, — объяснил он потом Амосову, — то несомненно, что эшелоны, о которых я вам говорил, находятся где-то неподалеку и в любой момент могут быть переброшены к фронту… По-видимому, что-то готовится, так как, по словам начальника станции, вчера прибыло сюда без его заявки пять паровозов. Нам надо торопиться.
Он оказался прав. Когда они вернулись в город, то заметили, что в райкоме, в районном совете и в других учреждениях грузят дела и ценный инвентарь на грузовики.
Служащие толпились у машин с взволнованными лицами.
Было ясно, что некоторые учреждения готовятся к эвакуации.
Потом им встретилась колонна грузовиков, направлявшаяся к вокзалу.
Машины везли станки, оборудование лесопильных заводов и фанерного комбината.
— Мне кажется, — оказал «племянник», — что уже идет эвакуация учреждений и оборудования местных заводов. Уж не подходят ли наши?… Надо спешить со взрывом.
Амосов ничего ему не ответил. Он и сам понимал, что началась срочная эвакуация Зареченска. И именно поэтому он ни на минуту не оставлял «племянника», решив любой ценой предотвратить взрыв железнодорожных составов. А к вечеру на станции Зареченск не осталось ни одного из воинских эшелонов.
11. ЭВАКУАЦИЯ
Приказ военного командования об оставлении Зареченска и спешной эвакуации учреждений и промышленного оборудования был получен внезапно. В суточный срок должно было быть, перевезено наиболее ценное имущество и все дела советских учреждений. Промышленное оборудование должны были сопровождать рабочие соответствующих предприятий. Линия фронта стремительно приближалась к городу.
Поздно ночью, когда подвыпивший за ужином «племянник» спал — мертвым оном, Амосов вышел из дому и в условленном месте встретился со своим начальником. Последний информировал Амосова о полученном приказе и спросил его, как идут дела.
Амосов доложил начальнику о цели прибытия «племянника» и обо всем, что он успел за это время у него выведать.
— Его можно взять хоть сейчас, — сказал он, — но вряд ли это целесообразно. Несомненно одно: он абсолютно мне доверяет. Шарапов не обманул нас. По-моему, имеет смысл продолжать игру и вести ее как можно дольше. Упустить такую возможность было бы ошибкой.
— Вы считаете, что вам имеет смысл остаться в городе? — спросил начальник, сразу понявший план Амосова.
— Имеет смысл, — ответил Амосов. — Ну подумайте сами. Возьмем мы этого мерзавца, конечно одним прохвостом будет меньше. Но что же дальше? Между тем если остаться с ним и войти полностью в доверие к немцам, мы выясним очень многое, а главное — сумеем немало сделать. Кроме того, ведь останется в Зареченске и подпольная партийная группа, а в районе будет действовать партизанский отряд. И тем и другим будет полезно иметь верного человека, которому немцы доверяли бы вполне. По-моему, имеет смысл.
Предложение Амосова было принято. Договорившись о подробностях, условившись о форме и технике связи и получив адреса и фамилии нескольких лиц, Амосов простился с начальником. На прощанье они молча пожали друг другу руки и обменялись долгим взглядом.
Было уже совсем поздно, когда Амосов пошел к себе домой. В черном сентябрьском небе тревожно вспыхивали зарницы далеких орудийных выстрелов. Гул артиллерийской стрельбы доносился еще слабо, но багровые вспышки уже предостерегали город о приближавшейся опасности. Несмотря на поздний час, эвакуация была в самом разгаре. По темным ночным улицам тянулись колхозные стада, на скрипящих телегах ехали старики и дети, женщины, понурив головы, шли за ними. Городские жители зарывали в ямы наиболее ценное имущество. Плач детей, рев испуганного скота, скрип телег и тревожное ржание лошадей сливались в одну горькую симфонию.
Амосов подошел к своему дому и остановился у калитки. Движение на улице не прекращалось. Страшная беда приближалась к городу с каждым часом. И в ожидании этой беды, готовый встретиться с нею лицом к лицу, оставался в Зареченске этот спокойный пожилой человек.
Но немцы пришли раньше, чем их ждали. Не все объекты, намеченные к эвакуации, удалось вывезти. В частности, не успели эвакуировать заключенных городской тюрьмы.
В этот сентябрьский вечер тяжелый немецкий снаряд начисто скосил угол тюремного здания. Растерявшись от свободы, явившейся к ним столь неожиданно, заключенные столпились у ворот тюрьмы, точнее — у того, что осталось от этих ворот. Напротив полыхали дома, зажженные снарядами. В багровом зареве пожара мелькали, как на экране, темные фигуры жителей, бежавших от врага.
Первыми влетели на улицу Зареченска мотоциклисты-эсэсовцы. Они непрерывно и беспорядочно стреляли из автоматов, укрепленных на рулях их машин. На перекрестке один из них круто затормозил и, спрыгнув с мотоцикла, бросился к женщине, которая бежала с ребенком и большим узлом. Выкрикивая что-то на своем языке, фашист стал вырывать из рук женщины узел. Девочка, которую женщина держала за руку, заплакала и стала помогать матери, не желавшей отдавать свое последнее добро. Обернувшись к ребенку, эсэсовец раскроил ему череп прикладом своего автомата.
Это произошло мгновенно, на глазах у заключенных, все еще стоявших возле тюремных ворот. Многие из них хорошо знали эту девочку. Она жила напротив городской тюрьмы и часто играла на улице. Заключенным было известно, что девочку зовут Женей, и слова детских песенок, которые она любила распевать, знали в тюрьме наизусть. Порой, когда Женя начинала петь, камеры дружно подхватывали песню.
И вот теперь эту девочку убил белокурый фельдфебель.
Мать Жени закричала так страшно, так пронзительно, что крик ее, сразу заглушивший треск стрельбы, казалось, прорезал весь объятый тьмою город от края до края.
И в то же мгновение, не раздумывая, не сговариваясь, даже не оглянувшись, заключенные бросились на фельдфебеля.
Едва успев вскинуть автомат, он тяжело рухнул на землю.
А заключенные пошли на восток.
Они пошли на восток так же, как бросились на эсэсовца, — не раздумывая, не сговариваясь, не рассуждая.
Они пошли в строю, организованно и дружно, как одно небольшое соединение.
Они проходили улицы, корчившиеся в пожарах, поля, истоптанные врагом, леса, расстрелянные в упор, дороги, изрытые разрывами бомб. Они проходили через окровавленные села и обуглившиеся деревня, по искалеченной, измученной, замолкшей земле.
На вторые сутки они пришли в областной центр и выстроились у здания прокуратуры. Уже знакомый нам Васька Кузьменко, отбывавший наказание за допущенный им хулиганский поступок, был среди них. Как наиболее культурный из заключенных, он, по их просьбе, прошел в кабинет прокурора и коротко изъяснил ему суть дела.
— Гражданин прокурор, — сказал он, — имею доложить, что с марша прибыли заключенные из зареченской тюрьмы.
Прокурор выглянул в окно и увидел группу людей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу и выжидательно заглядывавших в окна его кабинета.
— А вы кто такой? — опросил прокурор, с интересом разглядывая курносую, задорную физиономию Васьки.
— Уполномоченный, — с большим достоинством, не моргнув глазом, ответил Кузьменко. — Ихний уполномоченный. Фамилия — Кузьменко, статья семьдесят четвертая, часть вторая.
— Срок? — коротко спросил прокурор, сразу поняв, что имеет дело с человеком бывалым, который поймет его без лишних слов.
— Два года. Имею два «хвоста», но без поражения прав.
— За что «хвосты»?
— Все по той же, семьдесят четвертой, — вздохнул Кузьменко. — Исключительно, гражданин прокурор, страдаю по одной статье. Одним словом, за озорство. Не могу никак уложить свой характер в рамки уголовного кодекса. Нет-нет да и выкину что-нибудь… Я даже к врачам обращался, да все без толку. «Современная, говорят, медицина еще до этого не дошла».
— А где же конвой, путевка? — перебил Ваську прокурор.
— Разрешите доложить — конвоя ввиду военной обстановки добыть не представилось возможным. Который в тюрьме был, то снарядом поубивало, а прочие исчезли. Пришлось идти самоходом. Что поделаешь, время военное, капризничать не приходится. Но ничего — прошли аккуратно. Потерь и побегов нет. Один только с немцами остался паразит.
— Фамилия? — спросил прокурор.
— Моя или паразита? — не понял вопроса Кузьменко.
— Его.
— Трубников, — произнес Кузьменко. И, подумав, добавил: — Ну, а как теперь насчет благоустройства? Куда прикажете садиться?
Убедившись, что Зареченск оставлен, эсэсовцы организовали торжественное вступление в город. Сначала церемониальным маршем в Зареченск вошла пехота.
Вслед за пехотой пошли танки, а за ними влетели штабные машины с офицерами. Впереди ехали в открытой машине кинооператоры и снимали «занятие Зареченска». Когда церемония была закончена, к группе офицеров подъехал на «оппель-адмирале» пожилой генерал с моноклем в запавшей, как у мертвеца, глазнице. Он принял рапорт от одного из офицеров, коротко дал какие-то указания и уехал обратно. Оставшиеся в городе офицеры начали устанавливать «новый порядок». Прежде всего надо было найти подходящего бургомистра. Выбор пал на единственного заключенного, оставшегося в Зареченске, Трубникова. Он был осужден за растление малолетних. Отец Трубникова в свое время был расстрелян за участие в белой банде.
Трубников был маленький рыхлый человек, с узкими, бегающими глазками и толстыми, всегда влажными губами, которые он имел привычку часто вытирать тыльной стороной руки. Его оплывшее бабье лицо всегда имело сонный вид, и лишь маслянистый беспокойный блеск глаз свидетельствовал о том, что в этом толстом, ленивом теле непрерывно тлеет нечистое, воровское желание.
Трубников незаметно улизнул из группы заключенных в тот момент, когда они набросились на фельдфебеля. На перекрестке Трубников подошел к немецким офицерам и попросил доставить его к военному коменданту.
Его задержали, а на следующее утро вызвали на допрос. Допрашивали два офицера, один из которых сносно говорил по-русски.
Трубников поспешил отрекомендоваться и объяснил, что его отец был расстрелян за борьбу с большевиками, а сам он тоже, дескать, имел от них большие неприятности. Он хотел было обойти молчанием вопрос о преступлении, за которое его судили, но среди документов, отобранных у него при задержании, оказалась копия судебного приговора. Офицер, говоривший по-русски, со смехом прочел этот документ и что-то сказал по-немецки другому офицеру. Потом он прямо заявил Трубникову:
— Вот что, господин Трубников. Нам нужен такой верный, такой надежный человек, на которого германское командование могло бы положиться. Кажется, судя по всему, вы именно такой… Нам нужен бургомистр, понимаете, хозяин города, мэр — одним словом, президент города… И мы говорим вам — вам, господин Трубников, а не какому-нибудь другому лицу — в добрый час. Вы меня понимаете?
— П-по-н-нимаю, господин офицер, ваше благородие, — несколько запинаясь, ответил Трубников. — Вот только как насчет образования, ведь у меня — всего шесть классов… Насчет старания не извольте и беспокоиться, насчет преданности и говорить не хочу, а вот с образованием прямо скажу…
— Господин Трубников, — перебил его офицер, — германское верховное командование намерено плевать на ваше образование. Нам нужна преданность, нох айн маль — преданность, и еще раз преданность. А мы вам поможем.
На следующий день в приказе, расклеенном по Зареченску, было объявлено, что бургомистром города назначен Степан Иванович Трубников и что «ему германское военное командование вверяет всю полноту власти и поручает организацию образцового гражданского порядка, поддержание чистоты, благоустройства и заботы о здоровье и культурном обслуживании уважаемого населения».
И Трубников приступил к своим новым обязанностям.
Через несколько дней после занятия немцами Зареченска командир вступившей в город эсэсовской дивизии, генерал-майор фон Крейчке, поселился в специально отведенном ему особняке на главной улице. Амосов и его «племянник» явились на прием и просили адъютанта доложить о себе. По паролю, названному «племянником», оба были незамедлительно приняты. Они вошли в кабинет, и уже знакомый нам генерал с моноклем поднялся им навстречу. Он снисходительно протянул им маленькую, высохшую руку.
— Разрешите представиться, господин генерал, — произнес по-немецки Амосов. — Ганс Шпейер.
— О, герр Шпейер, — снисходительно улыбнулся генерал. — Мне рассказывал о вас обер-штурмбаннфюрер Гейдель. Это вы прожили в России чуть ли не век?
— Ну, положим, не век, но довольно много лет, господин генерал, — ответил Амосов.
Поздоровавшись с «племянником», генерал тут же простился с ним и с Амосовым, пригласив их зайти к нему позже в штаб.
Амосов и «племянник» пошли к себе домой. «Племянник», полный радости от того, что немцы пришли так скоро, выпил и лег спать. Амосов вышел в огород, чтобы покурить. Его несколько смутила осведомленность генерала о Гансе Шпейере.
«Видимо, — думал Амосов, — об этом Шпейере заранее с чисто немецкой аккуратностью предупредили генерала — дескать, существует в Зареченске такой человек. Но кто такой этот обер-штурмбаннфюрер Гейдель и что ему, кроме фамилии, известно о Гансе Шпейере? И все ли рассказал на следствии Шарапов или утаил что-нибудь важное?…»
Амосов задумался о том, какие виды на Шарапова — Шпейера могут теперь иметь гитлеровцы. Захотят ли они использовать его в качестве бургомистра, начальника полиции или вздумают и впредь поручать ему шпионские задания, перебросив с этой целью в советский тыл?., Оставаться в Зареченске было опасно, так как рано или поздно могло выясниться, что он вовсе не Шарапов. С другой стороны, надо было заранее придумать уважительную причину для того, чтобы отказаться работать в Зареченске.
Амосов знал, кто из зареченских коммунистов остался в городе на подпольном положении и кто из местных жителей должен был держать связь с партизанским отрядом. В тот вечер, когда он простился со своим начальником, последний сообщил ему, что связь с партизанским отрядом он сможет держать через старушку учительницу, Анастасию Никитичну Егорову, или через ее дочь, молодого ветеринарного врача Шуру. Обе они также были предупреждены об Амосове, которого раньше не знали.
Подробно обдумав свое дальнейшее поведение и предстоящий разговор с генералом, Амосов вернулся в дом и разбудил «племянника». Угостив его чаем, Амосов напомнил, что пора идти в штаб. Было еще светло.
У немецкого постового, стоявшего на площади, Амосов с «племянником» узнали, что штаб разместился в здании горсовета на главной улице. Явившись туда, они назвали свои фамилии и вскоре были пропущены в здание.
Генерала они застали за ужином в кабинете председателя горсовета. Он приветливо улыбнулся им и предложил присесть. Пока генерал с аппетитом уничтожал яичницу, «племянник» подробно информировал его о целях своего приезда в Зареченск и сказал, что, когда его направили сюда из Москвы, он, и не предполагал так скоро очутиться в обществе немецкого генерала.
— О да, — вытирая салфеткой рот, произнес с самодовольной усмешкой генерал, — эта операция нам удалась превосходно. Командование чрезвычайно довольно темпами наступления. Правда, на последнем рубеже мы имели серьезные потери, но они стоят этого броска на восток. Однако сейчас дело не в этом. Надо поскорее навести порядок в городе. В этом деле мы рассчитываем на вас, господин Шпейер. Господин Гейдель рекомендовал мне советоваться с вами. Вы давно здесь живете, считаетесь русским, являетесь, наконец, представителем местной интеллигенции.
— Я готов выполнить любое приказание, — ответил Амосов, — и признателен за доверие вам и господину Гейделю.
— Оно вами заслужено, — сказал генерал. — Так начинайте действовать.
— Сегодня Зареченск, — начал Амосов, — важный фронтовой город, но через какой-нибудь месяц он станет глубоким немецким тылом. Какой же смысл оставлять меня в нем? Или вы думаете, что Ганс Шпейер уже так стар, что на большее не годится?
— В том, что вы говорите, Шпейер, есть резон, — медленно протянул генерал, — и я лично готов согласиться с вами. Но дело в том, что вы находитесь не в моем распоряжении. Пусть этот вопрос окончательно решит господин Гейдель, так как это входит в его компетенцию. Тем более что, насколько мне известно, он отлично вас знает, Шпейер.
— Откуда? — улыбнулся Амосов, хотя ему было совсем не весело. — Ведь, живя в этом городе, я не встречался ни с кем из немцев!
— Может быть, я путаю, — ответил генерал, — но господин Гейдель встречался как будто с вами в прошлую войну в Петербурге. Впрочем, он скоро должен прибыть сюда, и тогда вы сами уточните, где именно и при каких обстоятельствах с ним встречались.
В Петербурге?… Амосов стал лихорадочно припоминать все, что рассказывал Шарапов об этом периоде своей жизни. Гатчинская воздухоплавательная школа, тщетная попытка украсть чертежи «Ильи Муромца», начало войны, переезд в Петербург, работа на Русско-балтийском заводе, революция… Черт возьми, ни о каком Гейделе Шарапов не сказал ни слова! А если они в самом деле виделись, то запомнил ли этот проклятый Гейдель лицо Шпейера — Шарапова? Ведь с того времени прошло столько лет…
Пока в голове Амосова вихрем проносились эти мысли, генерал разговаривал с «племянником».
Разговор прервал адъютант, который вошел в комнату и громко доложил:
— Обер-штурмбаннфюрер господин Гейдель!
Генерал приятно улыбнулся и встал. В соседней комнате под чьими-то грузными шагами заскрипел пол, и в комнату вступил тяжелой походкой очень тучный, уже немолодой человек с оплывшим бабьим лицом и маленькими глазками.
— Здравствуйте, герр Гейдель, — произнес генерал. — Я очень рад вас видеть.
— Рад и я, — высоким, почти женским голосом ответил Гейдель. — Уф… Я чертовски устал… Эти азиатские дороги… Мой «адмирал» едва одолел их…
— Садитесь, отдохните, — сказал генерал. — А пока разрешите представить вам вашего старого знакомого — Ганса Шпейера…
Амосов подошел к Гейделю, глядя ему прямо в лицо. Гейдель с неожиданной для такой объемистой туши живостью вскочил, повернулся к Амосову и, осклабив сверкающий золотыми зубами рот, протянул ему обе руки. Глазки Гейделя с интересом и острым любопытством, впились в лицо Амосову, а затем забегали по всей его фигуре, словно ощупывая ее.
— Здравствуйте, Шпейер, — пропищал он все тем же, удивительным для его огромной фигуры голоском, — как быстро летит время! Боже мой, сколько лет!… Но я отлично помню вас, мой друг!… Как же, как же, воспоминания молодости бессмертны, как любовь, и душисты, как мед. Вот именно, душисты! Ну-ка, милейший, пойдем поближе к свету, к окну, я должен хорошенько вас разглядеть… Глядя, как изменился друг, которого давно не видел, начинаешь понимать, как изменился ты сам…
И Гейдель схватил Амосова за руку и потащил его к окну — в комнате уже начинало темнеть.
12. ДЕЛА ЛИЧНЫЕ
С Шурой Егоровой, как мы оказали, Плотников познакомился еще до войны, в Москве.
В Зареченске Плотников и Шура часто встречались. Они проводили вместе вечера в окрестностях городка, на озере, за рекой. В это самое время и возникло в производстве Плотникова «Дело N 187 по обвинению гр. Егоровой А. Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».
С того дня Плотников, как известно, перестал встречаться с Шурой. Он не без основания считал, что не имеет права встречаться с дочерью своей подследственной до окончания следствия по этому делу. Его точку зрения вполне разделяла и Шура; она согласилась с Плотниковым, что лучше на время прекратить их встречи, чтобы не ставить его в неловкое и двусмысленное положение.
Это решение было не легким для обоих. Свободные от работы вечера, которые раньше они так радостно проводили вместе, тянулись теперь нудно и томительно. Плотникову стоило немалых усилий, проходя мимо знакомого Домика с палисадником, удержаться от того, чтобы не постучать в окно или в калитку.
Неожиданный поворот дела N 187 вдвойне порадовал Плотникова. Дело по обвинению Егоровой было им прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом Плотников с великой радостью объявил, как полагается, по всей форме Анастасии Никитичне, вызвав ее к себе в кабинет.
Перед эвакуацией города Плотников был вызван в райком партии. Секретарь райкома коротко сообщил Плотникову о полученном приказе. Сидевший тут же Волков спросил:
— Ну, как ты? Поедешь или… останешься?
— Где останусь? — не понял его Плотников.
— Партийный актив уходит в лес, партизанить, — ответил Волков. — Так что ты езжай, брат, в область.
— Я ничего там не забыл, — рассердился Плотников. — И у вас нет никаких оснований не включать меня в партизанский отряд.
В ту же ночь Плотников вместе с другими коммунистами ушел из Зареченска. Отряд расположился в лесном массиве в Гремяченском сельсовете. Многолетний хвойный лес тянулся на несколько десятков километров и был почти необитаем, если не считать находившихся в нем лесных сторожек. Секретарь Зареченского райкома Попов, человек средних лет, со спокойными глазами и неторопливой речью, принял на себя командование отрядом. Старик Волков был назначен начальником штаба.
Первые дни после прихода немцев в отряде было не более ста человек. В основном он состоял из местных активистов. Однако в дальнейшем отряд стал пополняться колхозниками, узнавшими о его существовании и примыкавшими к нему и группами и в одиночку.
Кроме того, часть коммунистов осталась в Зареченске на нелегальном положении. Связь между отрядом и подпольной партийной организацией должна была поддерживаться через Анастасию Никитичну Егорову. Шура Егорова вначале тоже была зачислена в отряд — она хотела быть вместе с Плотниковым — и первые три недели провела с партизанами. Но потом командование отряда решило, что отсутствие Шуры неизбежно навлечет подозрение немцев на ее мать. Поэтому Шуре было приказано вернуться в Зареченск и жить дома.
Начались боевые партизанские будни. Были вырыты и быстро обжиты землянки. Отряд разбили на несколько групп, расположив их в разных участках лесного массива. Днем партизаны обучались военному делу: гранатометанию, обращению с пулеметом, саперным и подрывным работам. По ночам отправлялись группами в разведку и на выполнение отдельных — пока не очень крупных — заданий.
Очень скоро удалось установить связь со многими колхозами и сельсоветами. В отряде были хорошо информированы о мероприятиях, которые начали проводить немцы.
Несколько раз отряд посылал людей и в Зареченск, откуда они возвращались с подробными донесениями. Таким образом, Плотников знал, что у Шуры все благополучно. Мать ее, по-видимому, была вне подозрений. Два раза Шура посылала ему записку, в которой просила выхлопотать ей разрешение хоть на два дня прийти в отряд. Однако разрешение не было ей дано.
Об Амосове знал только командир отряда. Он был предупрежден, что Амосов остается в Зареченске со специальным заданием и что, если понадобится, ему надо оказать всяческое содействие.
Однако пока от Амосова никаких сигналов не поступало, а справляться о нем, даже через надежных людей, командир отряда не имел права.
13. В ТЫЛ ВРАГА
В самом конце сентября линия фронта приблизилась к тому областному городу, в котором теперь отбывали наказание заключенные из зареченской тюрьмы, в том числе Васька Кузьменко. Последний особенно тосковал в чужом городе, не имея никаких вестей из родного Зареченска, где он родился и вырос. Кроме того, Кузьменко волновала судьба одного человека, в чем, впрочем, он никогда бы не сознался никому из своих земляков.
Никто не знал о том, что была у Кузьменко несчастная любовь. Сам он скрывал это очень тщательно и даже, пожалуй, самому себе не признавался в том, что образ Гали Соболевой представляется ему что-то слишком часто. Галя была инструктором Зареченского горкома комсомола. Васька знал ее давно, еще с детских лет, — они росли и играли на одной улице.
Галя была тогда смуглой норовистой девчонкой, всегда окруженной мальчишками, с которыми она очень дружила. Вместе с ними Галя лихо лазила по деревьям, забиралась в чужие сады и уезжала далеко по реке на рыбалку. Ребята ценили в ней смелость, выносливость, а главное — то, что она не имела обыкновения хныкать, как другие девчонки, и жаловаться родителям на обиды.
Так шли детские годы. И однажды случилось нечто весьма неожиданное. Кузьменко встретил Галю на улице и только, по обыкновению, хотел было схватить ее за вихор, как вдруг почувствовал, что сердце у него забилось. Перед ним стояла стройная, смуглая, красивая — ах, какая красивая! — девушка, а вовсе не прежняя Галка, которая ничем не отличалась от других девчонок. Она, вероятно, тоже почувствовала, что в этот момент происходит что-то необыкновенное, чего никогда еще раньше не было и чего еще как следует не могла понять. Она залилась краской от волнения и какого-то совсем незнакомого, но радостного чувства. Это новое имело некое прямое и загадочное отношение к ней, к ее пятнадцати годам, к ее новому яркому платью и к первой прическе, которую, шутя, сделала ей сегодня старшая сестра.
— Здравствуй… те, Вася, — произнесла она шепотом, сама не зная почему, обращаясь впервые на «вы».
— Здравствуй, — пробасил Васька, покраснел и, подумав, протянул Гале руку.
После этого они, как и прежде, часто бывали вместе, но отношения их резко изменились. Оба смущались, когда случалось коснуться друг друга. Оба тосковали, если хотя бы два дня проходило без этих встреч.
Прошло несколько месяцев. И однажды, зимой, Васька (он никогда не забудет этого дня) предложил Гале пойти на лыжную прогулку. Сколько раз в прошлом им приходилось вместе ходить на лыжах, но почему-то теперь, услыхав его предложение, Галя покраснела до слез и едва произнесла только одно слово «хорошо».
Через час они уже были на самом гребне Зеленой горы, возвышавшейся над озером, недалеко от города, над винокуренным заводом. Стоя рядом на самой вершине горы, они долго смотрели вниз, на широко расстилавшееся задумчивое, покрытое снегом озеро, на фиолетовую дымку его далеких берегов, на снежную целину, мягко переливавшуюся в лучах морозного солнца. Никогда еще мир не казался им таким огромным, радостным и полным неожиданностей и загадок. В морозном воздухе мирно дымили трубы казавшихся сверху маленькими домов, где-то внизу скрипел снег под крестьянскими дровнями, и было так тихо, что даже сюда доносилось с далекой дороги веселое пофыркивание лошадей. Окаймленное ровными берегами, чуть синея в дымке морозного дня, озеро лежало, как огромное фарфоровое блюдо.
— Ну что, рванем вниз? — предложил, наконец, Васька.
— Давай; только я вперед, — ответила она.
Проверив крепления лыж, Галя подошла к краю горы, почти отвесно спускавшейся вниз. Она заглянула в снежную даль, куда ей сейчас предстояло ринуться, и в первый раз почувствовала легкое головокружение. Странное дело, никогда раньше она не боялась, а теперь ей вдруг стало страшно. Покраснев от мысли, что Васька заметит ее страх, Галя, резко вскрикнув, с силой оттолкнулась и стремительно полетела вниз. Но, в волнении не рассчитав толчка, она на середине пролета потеряла равновесие и с разбегу упала на бок. Прямо на нее мчался сверху Кузьменко, пригнувшись на лыжах. Еще миг — и он разрезал бы ей лыжами лицо. Но в последнее мгновение страшным напряжением мускулов он вырвал лыжи из глубокой лыжни и, раздвинув их накрест, остановил стремительный бег. Присев, он с испугом склонился над еще лежавшей на боку Галей. Глаза ее были закрыты, но, почувствовав его близость, она открыла их медленно и широко. И Васька прочел в них такое выражение нежности, ласки и благодарности, что, неожиданно для самого себя, поцеловал ее прямо в губы. Снова закрыв глаза, она ответила на поцелуй.
Это был первый поцелуй в жизни обоих.
На другой день, когда Васька пришел к Гале в дом, вышла ее мать и сухо сказала, что Галя очень занята, что выйти к нему она не может и что вообще они уже не дети и им обоим надо заниматься уроками, а не шалостями. Скажи она это еще неделю назад, Васька не придал бы этим словам особого значения, но теперь, теперь ведь было все иным… Васька дал себе слово больше с Галей «не гулять». И в самом деле, встретив через несколько дней Галю на улице, он издали поздоровался с нею с подчеркнуто равнодушным видом. Тут уж обиделась Галя и при следующей встрече демонстративно отвернулась. Пути их разошлись.
Галя продолжала учиться в школе и стала работать в комсомоле. Кузьменко увлекся драмкружком и начал озорничать. Через год его в первый раз судили за уличную драку. По окончании десятилетки Галя стала инструктором в горкоме комсомола. Кузьменко теперь уже с нею не здоровался и даже однажды, столкнувшись на улице лицом к лицу, неизвестно зачем притворился пьяным и начал горланить какую-то песню. Она только сердито сверкнула на него глазами и, резко повернувшись, ушла.
И никто не знал, что все эти годы Васька с горечью и нежностью вспоминал тот удивительный зимний день, и снежное озеро, и фиолетовую дымку его берегов, и теплые губы своей первой любимой, и ощущение огромного счастья, заключенного в маленьком, таком простом и коротком слове «люблю!»
В связи с решением эвакуировать заключенных областной прокурор явился в тюрьму и обходил камеры, беседуя с их обитателями. Когда очередь дошла до Кузьменко, прокурор сразу его узнал.
— А, уполномоченный, — улыбнулся прокурор, — Ну, как дела?
— Какие у меня дела, — хмуро ответил Васька. — Дела на фронте, гражданин прокурор, а у меня один срам. Прозябание и тюремный тыл. В глаза людям стыдно смотреть. Фашист прет, а я, здоровый байбак, в камере отсиживаюсь. Красиво, нечего сказать… — За драки судился, а при этакой драке сижу сложа руки.
— Ну, а чего бы вам хотелось? — серьезно спросил прокурор.
Кузьменко задумался. Потом он горячо сказал:
— Я не имею права в такое время, понимаете, не имею права тут сидеть! Я правильно осужден. Но теперь пришла такая беда, такая опасность, что не время статьями считаться и сроки по дням отсчитывать. Мое место сегодня не тут, а там, на фронте или в тылу врага.
Он долго еще говорил. А на следующий день заключенный Василий Кузьменко был досрочно освобожден. В хмурый осенний день он вышел за тюремные ворота. Город тревожно гудел. По улицам торопливо проходили войска. На восток тянулись поезда с оборудованием фабрик и заводов. Вслушавшись, можно было уловить далекие раскаты артиллерийских залпов. Враг приближался к городу.
Два дня пробыл Кузьменко в этом городе. Неизвестно, где жил, неизвестно, с кем встречался, и неизвестно, куда исчез. Ушел один, невесть куда, невесть зачем, как в воздухе растаял. Был Васька Кузьменко, и не стало его.
Ушел Васька в тыл врага.
14. ОШИБКА ГОСПОДИНА ГЕЙДЕЛЯ
Рассмотрев Амосова у окна, господин Гейдель с удовлетворением заметил, что его старинный друг мало изменился. Тридцать лет, в течение которых Гейдель не видел Шпейера, затуманили в его памяти образ последнего.
— О дорогой Шпейер, — восторгался Гейдель, — как много прошло лет и как сравнительно мало вы изменились! Друг мой, этот взгляд, этот рот, это выражение лица… Боже, как мчится жизнь! Ведь кажется, это было только вчера…
— Что вы, господин Гейдель, — возражал Амосов, — вы просто хотите меня порадовать. Я очень состарился за эти годы. Сидя здесь, в этой глуши…
— У провинции есть свои преимущества, — перебил его Гейдель, — она способствует сохранению здоровья и укреплению нервов. Вы говорите — годы, провинция… Что же сказать мне, летучему голландцу, который за эти десятилетия носился, как щепка, по всем морям и океанам и потерял молодость и здоровье! И вот — результат: эта тучность, эта одышка, приступы грудной жабы. Нет, вы посмотрите на это брюхо!… Каково мне таскать его по свету, милейший Шпейер!
— Да, у вас есть излишняя полнота, — неопределенно произнес Амосов, не знавший, каков был господин Гейдель в молодости.
— Излишняя — не то слово, мой друг! — с жаром сказал Гейдель. — Живот этот — не только мое личное не счастье, но, смею сказать, беда всей германской разведки. Он мешает мне как следует развернуться… Ох, если бы не это пузо!… Однако перейдем к делу. Какие у вас виды на будущее?
— Господин Гейдель, — ответил Амосов, — я привык считать своими видами то, что мне прикажут.
— Правильно. Но все же интересно знать вашу точку зрения.
Амосов повторил Гейделю то, что раньше уже сказал генералу. Он просил, если это возможно, не оставлять его в Зареченске, а перебросить в другой город или оставить при штабе фронта.
Гейдель очень внимательно выслушал Амосова. Он сразу стал серьезен, малоразговорчив, почти мрачен. Этот болтливый, смешной толстяк мгновенно, на глазах, изменил свой облик.
— Я думал, — наконец, сказал он, — что пока вам лучше всего остаться при мне. Я возглавляю нашу работу в пределах этого фронта. В Зареченске я пробуду день, а завтра мы с вами вместе поедем в Минск — в главную квартиру. У меня есть кое-какие виды насчет вашего будущего, Шпейер. Кроме того, будем справедливы, — если вы захотите после тридцатилетнего перерыва побывать на родине… Берлин очень изменился за эти годы.
— Я буду глубоко признателен, господин Гейдель, — сказал Амосов, лихорадочно обдумывая возможности, которые таило в себе это неожиданное предложение. — Тем более что уже лет пятнадцать, как я не имею никаких сведений о своих близких. Правда, мои родители давно умерли, а дядя — он был начальником брауншвейгской офицерской школы…
— Генерал фон Таубе скончался в тысяча девятьсот двадцать первом году, — произнес торжественно и печально Гейдель. — Это был весьма почтенный и всеми уважаемый человек… Я имел честь знать его лично.
— Я очень любил дядюшку и весьма ему обязан, — в тон Гейделю заметил Амосов. — Да, многое изменилось за эти годы! Как сказал русский поэт: «иных уж нет, а те далече…» Господин Гейдель, я позволю себе обратиться к вам с просьбой отдохнуть у меня в доме. Правда, я живу очень скромно, но мне было бы приятно принять вас у себя.
Гейдель снисходительно потрепал Амосова по плечу и принял предложение. Захватив с собой «племянника», они на машине Гейделя поехали к Амосову на квартиру.
Вечер был посвящен воспоминаниям: Гатчина, Петербург, 1913 и 1914 годы. Амосов, знакомый со слов Шарапова с этим периодом жизни последнего, время от времени вставлял довольно уместные замечания. В результате этого разговора выяснилось, что Гейдель в тот период работал агентом германской разведки в Петербурге и часто встречался со Шпейером где-то на Кирочной улице, у старой акушерки, содержавшей явочную квартиру. Об акушерке Амосов ничего не знал, но своей неосведомленности не обнаружил.
Наконец, Амосов предложил своему гостю отдохнуть. Гейдель согласился переночевать в комнате Амосова и занял его постель. «Племянник» устроился в бывшей комнате Тамуси, а Амосов решил спать на диване. Когда Гейдель и «племянник» заснули, Амосов, по своему обыкновению, вышел на улицу покурить перед сном. Стояла холодная осенняя ночь. В городе было темно. Откуда-то издали доносилась пьяная немецкая песня. Это развлекались солдаты, на ночь уволенные из частей. Время от времени с треском проносился на мотоциклах ночной патруль, объезжавший городские улицы. Где-то стреляли. Потом опять становилось тихо.
Амосов обдумывал предложение Гейделя съездить в Берлин. Какую пользу можно было бы извлечь из такой поездки? Не таится ли в этом предложении скрытая насмешка или провокация? Не лучше ли остаться при штабе фронта, выяснить организацию работы в ведомстве господина Гейделя, их связи, планы, расчеты?
«А если все-таки поехать в Берлин? Немец Шпейер приехал в Россию в тысяча девятьсот тринадцатом году и прожил в ней около тридцати лет. Что, если мне, в порядке ответного визита, поехать в Берлин и провести там пару месяцев? Право же, в этом есть смысл…»
Так размышлял Амосов в эту ночь, сидя на завалинке перед домом Шарапова — Шпейера. Занятый своими мыслями, Амосов не заметил темной тени, которая появилась за углом и стала осторожно пробираться к дому, у которого он сидел… Стараясь держаться вплотную к забору, неизвестный добрался, наконец, до дома и, в свою очередь не заметив сидевшего в тени Амосова, тихо постучал в окно.
— Кто это? — вскочил на стук Амосов. — Чего вы стучите?
— А вы кто? — спросил неизвестный.
— Кто вам нужен?
— Во всяком случае, не вы!
Амосов чиркнул спичкой и увидел молодого рыжеволосого парня, который довольно спокойно глядел на него. Это был Васька Кузьменко. Амосову он был незнаком.
— Перестаньте стучать, — спокойно оказал Амосов.
— Там отдыхают немецкие офицеры? — спросил Кузьменко, который не знал всех событий последнего времени.
— Иван Сергеевич уехал, — сказал Амосов. — И в городе его нет. А стучать нельзя.
Рыжий задумался. Потом он подошел к Амосову и спросил:
— А вы не знаете, где Иван Сергеевич? Что с ним? И вообще?
— А вы откуда?
— Я Кузьменко. Артист драмкружка. Но меня здесь давно не было. И вот я вернулся — в город, а в нем никого нет, и пришли немцы, и вообще творится чепуха какая-то. Иван Сергеевич мог меня приютить. А вы откуда его знаете?
— Вот что, уважаемый, — с сердцем произнес Амосов, не зная, как ему отделаться от этого ночного пришельца, — убирайтесь-ка вы отсюда подобру-поздорову. Сказано вам русским языком: Шарапова в городе нет, он уехал, эвакуировался. Ясно?
— Позвольте, но где же я буду спать? — с искренним удивлением спросил рыжий. — Я всегда ночевал в таких случаях у Ивана Сергеевича. Нельзя ли закурить?
Амосов молча протянул рыжему папиросу. Тот закурил ее с жадностью. Оба молчали. Амосов понял, что рыжий не врет и действительно не в курсе событий, происшедших с Шараповым.
— А почему в этом доме немцы? — не унимался Кузьменко. — Мало им домов в центре? Я вижу, вы русский человек. Объясните, пожалуйста, как это все случилось? Ведь я совершенно не в курсе дела…
И сбивчиво, торопясь, словно из боязни, что его не выслушают, — Кузьменко рассказал Амосову, как он после «Свадьбы Кречинского» был предан суду за хулиганство, учиненное в универмаге, как суд приговорил его к двум годам лишения свободы и как он теперь вернулся домой. Кузьменко, сам не зная почему, разоткровенничался и добавил, что перешел линию фронта, желая работать в тылу врага…
15. ПОЕЗДКА В БЕРЛИН
Амосов слишком хорошо разбирался в людях, чтобы не понять сразу, что рассказ Васьки Кузьменко вполне искренен и правдив. Вместе с тем ясно было, что надо как можно скорее отделаться от неожиданного гостя. Посоветовав Ваське направиться к партизанам, Амосов от всего сердца пожелал ему счастливого пути. Однако из предосторожности Амосов не дал Ваське никаких определенных явок, сказав, чтобы он шел в Гремяченские леса.
Простившись с Васькой, Амосов вернулся в дом. Гейдель мирно похрапывал. Одеяло, которым он был накрыт, вздыбилось на его брюхе и мерно колебалось в ритм дыханию.
Амосов решил тоже отдохнуть и прикорнул на диване. Проснувшись утром, он открыл глаза и встретил взгляд Генделя, который тоже уже не спал.
— Доброе утро, мой друг, — пропищал Гейдель. — Я отлично выспался. Эта дорога основательно утомила меня. Но сейчас я свеж, как новорожденный.
— Не угодно ли вам позавтракать? — спросил Амосов.
— Угодно и весьма, — ответил Гейдель и начал одеваться.
За завтраком Гейдель вернулся к поездке Ивана Сергеевича в Германию.
— Чем больше я об этом думаю, — сказал он, — тем больше убеждаюсь, что прав. В самом деле, имеете же вы право отдохнуть, посмотреть, как изменился за эти годы наш Берлин, подышать родным воздухом! Кроме того, милейший Шпейер, вам следует месяц-другой по работать в главной квартире. Как-никак, многое изменилось в нашей работе, многое пересмотрено. Жизнь идет вперед…
— Надо подумать, — неопределенно ответил Амосов, не зная еще, как ответить на это предложение. — Конечно, ваше приглашение соблазнительно, и я вам очень признателен, господин Гейдель.
— Тут не о чем думать, — возразил Гейдель. — Сейчас я отправлю шифровку в Берлин и запрошу согласие начальства. Уверен, что оно будет получено.
Гейдель действительно послал из штаба телеграмму, Амосов из осторожности не стал возражать. Кроме того, поездка в Берлин казалась ему все более и более заманчивой, «Пожалуй, — думал Амосов, — в самом деле имеет смысл поехать, пройти „усовершенствование“ в главной квартире гестапо, познакомиться со всей этой дьявольской кухней. Правда, поездка таит кучу неожиданностей и непредвиденных опасностей, но отказываться от нее не менее рискованно, — можно навлечь на себя подозрение».
Ответ из Берлина пришел через несколько дней. В телеграмме на имя Гейделя сообщалось, что его предложение о выезде Шпейера в Германию одобрено.
— Поздравляю! — кричал Гейдель, размахивая бланком шифротелеграммы. — Что я вам говорил!… Милейший Шпейер, я от души рад за вас… Завтра вам будут приготовлены все документы, деньги, адреса. Попрошу заодно захватить с собою посылочку моей Мицци. Расскажите ей, как я тут барахтаюсь… Она будет очень рада… Остановиться рекомендую в отеле «Адлон». Правда, там довольно дорого, но вы, черт возьми, имеете право пожить с комфортом!… Я снабжу вас солидной суммой на дорогу. Кроме того, личный доклад всегда лучше письменного, и я попрошу вас подробно изложить руководству все обстоятельства нашей работы и все наши успехи. Вечером я обстоятельно вас проинформирую.
Амосов с удовольствием — выслушал последнее предложение. Он был совсем не прочь «проинформироваться».
Вечером Гейдель заперся с Амосовым и начал посвящать его в курс дела. Он подробно перечислил Амосову пункты в оккупированных районах, в которых были развернуты диверсионно-шпионские школы, контингент лиц, принятых в эти школы на обучение, ближайшие планы немецкой разведки. Особую важность для Амосова представляли сообщенные Гейделем данные о явках немецкой разведки в прифронтовых городах.
— Все эти данные, — говорил Гейдель, — я приготовлю в письменном виде к вашему отъезду. Все точки, все адреса, все пароли. А пока я сообщаю их вам устно, для того чтобы вы получили общее представление.
Потом Гейдель перешел к партизанам. Он просил информировать Берлин о непрерывном росте партизанского движения и о трудностях борьбы с ним.
— В Берлине, — говорил он, — еще не совсем ясно представляют себе опасность партизан. Кроме того, там не учитывают специфики русской географии — эти непроходимые болота, лесные чащи, отсутствие культурных дорог. Маши солдаты боятся лесов, где стреляет каждый куст, каждое дерево, каждый пень. Танки тут беспомощны. Наконец, никакая карта не дает вам представления об этих путаных лесных тропах и закоулках, в то время как партизаны знают каждую, корягу как свои пять пальцев. Что же касается помощи со стороны крестьян, передайте, что рассчитывать на нее мы не можем. Даже крупные награды, объявленные нами за сведения о партизанах, не дали никакого результата. Более того, в любой хате партизаны имеют своего человека. А всех не перестреляешь… Но самое ужасное — это быстрота, с которой формируются эти партизанские отряды. Не успеваем мы занять район, как в нем уже появляются партизаны… Легко ликвидировать их, сидя в берлинских канцеляриях… Но каково бороться с ними здесь!
По мере того как господин Гейдель излагал свои соображения по поводу партизан, он все больше приходил в ярость. Лицо его побагровело. Амосов с удовольствием слушал жалобы господина Гейделя. По-видимому, партизаны причиняли господину Гейделю немало хлопот.
По окончании разговора Гейдель опять прилег отдохнуть. Воспользовавшись этим, Амосов под видом прогулки направился к Анастасии Никитичне. Ему было важно перед отъездом передать через нее кое-какие данные командиру партизанского отряда.
Старушка сидела дома за пасьянсом. Шура читала книгу. Увидев Амосова, Шура обрадовалась и стала рассказывать ему, как устроились партизаны в Гремяченском лесу.
— Да погоди ты, Шурочка, — перебила ее Анастасия Никитична. — Потом расскажешь. А пока приготовь нам — чайку.
Шура вышла в кухню, и Амосов передал Анастасии Никитичне все, что было необходимо. Учительница слушала его очень внимательно, стараясь запомнить все в точности, — записей она из осторожности делать не хотела.
Амосов попросил ее передать, что на некоторое время он уезжает в неопределенном направлении.
— Если, — добавил он, — к вам явится по паролю связной из области и опросит обо мне, вы ему скажите только три слова: «Наносит ответный визит». Ясно?
— Вполне, — ответила Анастасия Никитична и ни о чем не стала расспрашивать Амосова.
16. КУЗЬМЕНКО НАХОДИТСЛЕД
Амосов умышленно не указал Кузьменко точного адреса партизанского отряда, хотя хорошо его знал. Тем более он не считал себя вправе дать ему хоть одну партизанскую явку в самом городе. Поэтому он ограничился общим указанием: ищите, мол, партизан в Гремяченских лесах. Васька, как местный житель, хорошо понимал, что просто направиться в эти леса, тянувшиеся на сотни километров, бессмысленно. Поэтому он решил два дня провести в Зареченске, рассчитывая за это время получить более конкретные данные о местонахождении партизан, а кроме того, узнать о судьбе Гали Соболевой.
На следующее утро после ночного визита к Амосову Кузьменко пошел в центр города. На главной улице по свежим табличкам, приколоченным на перекрестках, он установил, что эта улица теперь именуется «Адольф Гитлерштрассе». Убедившись, что поблизости почти нет прохожих, Кузьменко сорвал табличку, очистил с нее ножичком свежую надпись и вместо нее старательно написал химическим карандашом: «Здесь была, есть и будет улица Карла Маркса, а паразиту Гитлеру никаких улиц у нас не полагается».
Восстановив таким образом справедливость на этом участке городского хозяйства, Кузьменко двинулся дальше. У здания горсовета, в котором теперь разместился магистрат, хрипел репродуктор, выставленный на балкон. Диктор передавал на русском языке «последние известия верховного командования германской армии».
Кузьменко прислушался. Диктор сообщал о «полном уничтожении» Советской Армии и о том, что в «недалеком будущем Гитлер будет принимать парад на Красной площади в Москве, которая со дня на день должна быть занята немецкими войсками». Несколько исхудалых людей молча слушали, стоя рядом с Кузьменко, эту радиопередачу. Эсэсовский патруль торжественно проследовал мимо здания магистрата, изо всех сил задирая ноги вверх и с яростью стуча ими о мостовую.
Посмотрев на них и на своих земляков, Кузьменко решил, что дальше бездействовать нельзя. Он бросился вперед, куда-то вдруг заторопившись.
Между тем диктор, закончив «последние известия», начал с пафосом читать статью на тему «об историческом превосходстве германской расы».
— Таким образом, — гудел диктор, — всякому непредубежденному человеку должно быть понятно, что идеи фюрера несут миру…
Так и не объяснив слушателям, что именно несут эти «идеи», диктор неожиданно как-то странно хрюкнул и замолк. Теперь из репродуктора явственно доносился шум какой-то возни, тяжелое дыхание и звуки, отдаленно напоминающие бурные аплодисменты. Потом чей-то звонкий, хорошо поставленный голос отчетливо произнес:
— Граждане, минуту терпения, часовой уже готов, сейчас я закачу этому оратору еще пару плюх и продолжу передачу.
Снова, на этот раз уже более явственно, послышались звуки оплеух.
Затем Кузьменко — ибо это был он — обратился к заинтересованным слушателям с краткой речью.
— Дорогие друзья, земляки, братья! — начал Кузьменко, и голос его задрожал от волнения. — Передаю вам привет от советской власти и Советской Армии. Не верьте фашистской пропаганде! Убивайте предателей и изменников родины! Знайте, что фашистам дорого обходятся их временные победы. Бейте их в хвост и гриву! Не давайте им передышек! Не выполняйте их приказов! Всем им скоро придет конец…
Когда «русская полиция» и несколько эсэсовцев примчались — в радиостудию, было уже поздно. Связанный диктор хрипел в углу — он был основательно избит. Кузьменко на прощанье вдребезги разбил микрофон и оставил на столе такую записку:
«Паразиты, бросьте обманывать народ. Предупреждаю, что всех дикторов буду лупить нещадно. Смерть немецким оккупантам!»
Когда бургомистру Трубникову доложили о происшествии в радиостудии, он очень взволновался. Он стал еще осторожнее: показывался на улице не иначе, как в сопровождении трех полицейских, по ночам вовсе перестал выходить, а у своего дома поставил усиленную охрану. Вообще бургомистр был недоволен своим положением и совсем не был уверен в завтрашнем дне. Население молчаливо, но очень выразительно бойкотировало его, и он часто читал в глазах зареченцев такое презрение и ненависть к себе, что от одного этого мгновенно обливался холодным потом.
Между тем в городе явно активизировалась подпольная группа. В районе учащались нападения партизан на немецкие обозы, склады, поезда. В городе то и дело появлялись листовки и воззвания к населению, которое явно сочувствовало партизанам и ненавидело оккупантов и их прихвостней.
Все это вместе взятое заставило оккупантов призадуматься. Однажды военный комендант вызвал к себе Трубникова и оказал ему, улыбаясь:
— Что вы скажете, герр бургомистр, если я предложу некоторые начинания, которые… гм… будут направлены к усилению… гм… дружбы между населением и немецкими военными властями… и… гм… даже любви… Это новый вид нашей политики… Вы меня понимаете?
«Давно бы так!» — чуть не закричал Трубников, но вовремя остановился и почтительно спросил:
— Что имеет в виду господин комендант?
— Ну, скажем, надо отремонтировать эту большую церковь, которая разрушена бомбой. Это сделают своими руками наши солдаты. Они это сделают очень быстро, аккуратно, и очень… гм… с любовью… Пусть население видит, как мы заботимся о религии. И потом мы пригласим русского священника и будем делать… Как это у вас говорят… Большая… Большая молитва.
— Большой молебен, — сказал Трубников, с интересом слушая коменданта.
— Вот именно — большой молебен. Это будет весьма, весьма хорошо, герр бургомистр. Да, да, пусть видит население наши заботы о нем.
На следующий день специально вызванная техническая рота приступила к ремонту церкви. Немцы действительно старались и быстро восстановили церковь. Тогда возник вопрос о священнике. Но именно тут немецкий комендант и Трубников столкнулись с неожиданным затруднением — два городских священника, как выяснилось, эвакуировались на восток, и некому было служить молебен.
Все дело срывалось. Трубников в ответ на брань коменданта только разводил в отчаянии руками и что-то лепетал насчет «бедности в духовных кадрах».
Комендант специально снесся с соседними городами я немецкими комендатурами ряда оккупированных районов. Наконец, было получено известие, что в одном из лагерей для военнопленных, в котором содержалось и гражданское население, найден человек, который хотя и не был священником, но согласен отслужить молебен. Через два дня его доставили в Зареченск. Он оказался учителем географии, старым щупленьким человеком с тощей бороденкой и испуганным выражением лица. Фамилия его была Скворцов.
Скворцова принял немецкий комендант в присутствии Трубникова. Отвечая на вопросы, Скворцов прямо признал, что никогда не был священником, но, будучи сыном сельского попа, с детства хорошо знает богослужение и молитвы и сумеет отслужить молебен.
Комендант долго объяснял Скворцову, что от него требуется, чтобы он не только отслужил один молебен, но и вообще стал бы священником зареченской церкви. Скворцов слушал коменданта стоя и о чем-то думал.
— Ну, что же вы молчите? — с раздражением спросил комендант. — Вы должны быть благодарны за это предложение. Вы будете сытно и спокойно жить, германское командование будет вас поддерживать. Это, господин Скворцов, не лагерь, где, как вы, вероятно, успели заметить, не так уж весело… Или вам хочется обратно в лагерь?
Скворцов отвечал тихо. Нет, ему не хочется обратно, и он успел заметить, что в лагере не так уж весело. Он даже заметил, что в этом лагере был замучен до смерти его единственный сын, отказавшийся стать осведомителем гестапо.
Через два дня заранее извещенное население явилось на торжественное открытие храма. На церковной паперти был выстроен «для порядка» взвод автоматчиков. Они не понимали ни слова по-русски, но с интересом следили за происходящим.
Скворцов, в облачении, которое ему сшили из старого орудийного чехла, с белым оловянным крестом на груди, начал богослужение.
Кузьменко появился в церкви с некоторым опозданием. Он с трудом протолкался в храм и здесь заметил Трубникова, стоявшего в почтительной позе за спиной немецкого коменданта.
«Да приидет царствие твое», — доносился с амвона старческий, чуть дребезжащий тенорок Скворцова.
— Здравствуй, бургомистр, — шепнул Кузьменко на ухо Трубникову. — Что, дрожишь, шкура? Только пикни — от тебя мокрое место останется. Всю тюрьму опозорил, паразит!
Трубников оглянулся, сразу узнал Кузьменко и мгновенно вспотел от страха. Странно икнув и энергично замотав головой, он дал понять, что и не думает «пикнуть» и вообще рад прибытию Кузьменко. Он даже протянул ему руку, но Васька своей руки не подал.
Между тем молебен кончился. Скворцов переходил к проповеди. В церкви, набитой до отказа народом, стояла тяжелая духота. Комендант вытер шелковым платком потное лицо. Его радовало, что все проходит так чинно и торжественно и при таком большом стечении публики. Затея явно удалась. Но дальше стоять в этой жаре было немыслимо. Сделав знак Трубникову, чтобы тот оставался следить за порядком, комендант пробрался к выходу и вышел из церкви.
Священник откашлялся. В церкви стояла напряженная, взволнованная тишина. Автоматчики с любопытством заглядывали в распахнутые настежь двери.
Вытерев мокрый от волнения лоб, Скворцов медленно обвел глазами толпу. Вот они стоят, тесно прижавшись друг к другу, исхудалые, измученные люди, попавшие в неволю, растерявшие своих близких, зависящие от каждого немецкого солдата, беспомощные в своем горе, но всем сердцем верные родине, которая так же верно теперь борется за них. Что он должен сказать им, — он, старый, седой человек, всю жизнь учивший русских детей, вырастивший столько поколений школьников, привыкший честно и правильно отвечать на их пытливые вопросы? Что должен он ответить на вопрос, который так отчетливо, так явственно слышит в этой напряженной тишине?
Скворцов на мгновение закрыл глаза и с необыкновенной ясностью вновь представил себе то страшное, незабываемое августовское утро, когда он увидел болтающееся на виселице тело своего сына, точнее то, что осталось от этого искалеченного тела. Это было все, что осталось от его мальчика, от его первого детского лепета, шалостей, первых учебников, сыновней ласковости, веселых, счастливых глаз, застенчивой юности, бодрой, уверенной в себе и в своем деле молодости…
— Братья и сестры во Христе, — начал Скворцов, и глаза его засверкали огнем непреклонного убеждения. — Неисповедимы пути господни, и велика милость всевышнего, но не приемлет Правда клятв Иудиных и не нужны народу дары из окровавленных рук… Мудро сказано было в древности: «Не верьте данайцам, дары приносящим».
Скворцов остановился и тяжело перевел дыхание. От волнения он едва владел голосом. Словно шелест прошел по церкви. Где-то в углу навзрыд заплакала женщина, но вокруг зашикали на нее, и опять стало тихо.
— Братья, — снова начал Скворцов, — не в том вера, чтобы отбивать поклоны в храме, лукаво отстроенном врагами нашими. Не покоряйтесь псам фашистским, верьте в наш народ, которому не бывать под кровавым гитлеровским сапогом. Не дайте отуманить свои головы ни бургомистрам, ни попам, верьте в свой народ, верьте в свою родину — она победит!
Кузьменко, остолбенев, смотрел на священника. Потом он оглянулся вокруг и увидел, как беззвучно плачут люди, как слезы ручьями текут из их глаз, как надеждой и радостью светятся их измученные лица. Он вгляделся в них еще внимательнее, и сердце его сжалось от боли и нежности — такая печать страданий и горя была на лицах его земляков.
И, может быть впервые за эти годы, Васька заплакал. Он плакал совсем по-детски, не стесняясь этого и не вытирая слез, все чаще всхлипывая и сморкаясь. Плакал он потому, что понял вдруг с предельной и горькой ясностью: все, что он до сих пор делал и чем жил, было не то, совсем не то, что надо было делать и чем надо было жить.
«Нет, скорее, пока не поздно, пока есть еще время и силы, — скорее туда, к партизанам, в леса, в леса!… Нельзя дальше действовать в одиночку, как волк; на врага надо идти вместе, дружно, в строю!»
Но прежде чем выбежать из церкви, Кузьменко подошел к Трубникову, стоявшему с серым лицом посреди враждебно рассматривавшей его толпы, и взял его за руку.
— Слушай! — сказал Кузьменко таким голосом, что кровь застыла в жилах у Трубникова. — Коменданта не было, когда говорил священник. Но ты… ты был здесь. Ты все слышал. И вот… если… если хоть один волос упадет с головы этого человека, тебе не жить, не спрятаться от меня, не уйти!
По мере того как Кузьменко произносил эти слова, кровь все сильнее заливала его щеки, лоб, все его лицо. Сам того не чувствуя, он дрожал всем телом. С нечеловеческой силой сжав руку Трубникова, он, казалось, насквозь прожигал его взглядом.
И Трубников, цепенея от ужаса, смотрел остановившимися глазами на Кузьменко и, не слыша собственного голоса, бессмысленно повторял:
— Охраню… охраню…
…Кузьменко покинул Зареченск на рассвете. Он и сам еще не знал, куда идти и как именно связаться с партизанами, но был уверен, что рано или поздно разыщет отряд и найдет в нем себе место. Выяснить в Зареченске, где находится Галя, ему не удалось, но он предполагал, что и она может оказаться в отряде.
С детских лет ему были хорошо известны все окрестности, шоссе, проселочные дороги и большаки в этих родных ему краях. Знал он и лесной массив, в котором могли скрываться партизаны, хотя понимал, что найти их в этих бесконечных лесах будет делом не легким.
В первый день он прошел километров тридцать и к вечеру остановился на ночлег в одной деревушке. Разговор с женщинами в этой деревне не дал никаких результатов в смысле установления, хотя бы приблизительно, местонахождения партизан. В ответ на его осторожные расспросы бабы только отмалчивались или отнекивались. Чувствовалось, что они ему не доверяют и ничего не скажут, даже если знают.
— Не верите! — вздохнув, сказал им Васька. — Эх, не видите, дуры, что я за человек. Думаете, я для фрицев узнать хочу…
— Зря ты, сынок, осерчал, — возразила одна из баб, совсем уже пожилая женщина. — Ничего мы, милый, знать не знаем и ведать не ведаем. А что дуры мы, так это уж верно, что дуры. И вовсе темный народ…
Бабы дружно рассмеялись и ушли.
Кузьменко понял, что толку от них не добьешься. Тогда он решил расспросить стариков. Встретив у самой околицы какого-то чуть не столетнего деда, Васька любезно угостил его табачком и, присев рядышком на бревне, дипломатично завел разговор о том о сем. Старик охотно поддерживал разговор. Дело шло на лад.
— А что, дед, — спросил, наконец, Кузьменко, — сыновья-то небось на фронте? Один остался?
— Снохи есть, — коротко ответил дед, ловко обходя вопрос о сыновьях.
— Ну, а дети-то где же твои, стало быть, снох твоих мужья? — не унимался Кузьменко. — В армии или еще где?
— Известно, где. В почтовых ящиках.
— Где? — искренне удивился Васька.
— Да сказано тебе, в почтовых ящиках. Николай — в почтовом ящике нумер пять тысяч пятьсот шестьдесят два, Серега — в нумере шесть тысяч семьсот восемьдесят девять, а Иван — внук мой старший, тот под нумером четыре тысячи сто двадцать шесть. Так и шли по нумерам. Не одни мои сыны — во всем колхозе так. Ну, а теперь, как пришел в наши места герман, так и писать стало некуда…
— Некуда, а номера вот помнишь, — подмигнул деду Васька, — на всякий, видать, случай…
Дед метнул в Ваську из-под мохнатых бровей острый, внимательный взгляд, затянулся козьей ножкой, сплюнул и спокойно произнес:
— А что ж, нумер не конь, овса не просит. Чего же его выбрасывать, пусть себе в башке сидит, на своей полочке… Наше дело стариковское, нам забывать не положено, мы не красны девицы. А ты чего, брат, ко мне прилип, как к одному месту лист? Тебе какое дело, сукин ты сын! Выспрашивать сюда пришел? Так я вот, не гляди, что стар, а с хворостиной управлюсь не хуже молодого… Проваливай, откудова явился! Инспектор какой на наши головы нашелся!…
Постепенно накаляясь, дед уже заковылял к изгороди, чтобы выдернуть из тына что-нибудь поувесистей. Имело смысл спешно ретироваться. Сплюнув с досады, Васька покинул деревню.
И опять потянулись проселки и большаки, поля и перелески, а он все шел и шел. Началась Гремяченские леса. Васька пошел прямо в глубь лесного массива. В лесу было теплее, чем в поле. Осень еще только сюда пробиралась. Пахло смолой, прелым листом и хвоей. Быстро темнело, и Васька то и дело спотыкался о лесные коряги. Усталость уже давала себя знать. Дьявольски хотелось прилечь и выспаться, но никаких признаков жилья не было. Вытащив карманный электрический фонарик, Васька медленно плелся дальше, время от времени включая свет.
Наступила ночь. Откуда-то потянуло ночной сыростью и грибными запахами. Где-то недалеко закричала лесная птица. Когда Кузьменко выключал фонарик, его буквально схватывала за горло ночная темень. Признаться, Ваське стало жутковато. Он решил закурить и, присев на старый пень, начал крутить «козью ножку». С мягким шорохом проскальзывали где-то совсем рядом какие-то шустрые лесные зверьки. Сильные порывы ветра раскачивали деревья, стоявшие вокруг, как часовые. Сосны встревоженно перешептывались, склоняясь друг к другу, верхушками.
Васька свернул «козью ножку» и, чиркнув спичкой, закурил. Именно в этот момент его обхватили сзади чьи-то сильные руки.
— Ни с места! — повелительно произнес мужской голос. — Далеко ли, сокол, пробираешься?
— Сначала руки отпусти, дьявол, — ругнулся Васька, — а потом спрашивай!
И тут, как из-под земли, выросли еще двое. Ваське связали за спиною руки и повели какими-то звериными тропами через балки и овраги, сквозь чащи и залежи валежника. Потом еще завязали ему глаза, хотя и так ничего не было видно.
Наконец, пришли. Кузьменко развязали и посадили на скамейку. Васька расправил затекшие руки и, с трудом привыкая к свету, огляделся вокруг. Он находился в землянке, освещенной лампой «летучая мышь». Несколько человек сидели за столом, но их лиц Васька з первую минуту не разглядел.,
— Провались я на этом месте, если это не Кузьменко! — произнес с искренним удивлением один из сидевших за столом.
Обернувшись на знакомый голос, Кузьменко ахнул от удивления: прямо перед ним сидел начальник зареченской милиции Петухов.
17. В БЕРЛИНЕ
На следующий день Гейдель торжественно вручил Амосову немецкий паспорт, пропуска, деньги, рекомендательные письма. К этому же времени господину Гейделю успели «организовать» объемистую посылку, которую он просил отвезти в Берлин.
В последнюю минуту, когда Амосов уже садился в машину, Гейдель вручил ему запечатанный пакет.
— Там все, что нужно доложить начальству, — сказал он. — Очень прошу вас вскрыть этот пакет уже в Берлине, в главной квартире. Ну, дорогой Шпейер, от души желаю вам счастливого пути.
Амосов в последний раз пожал протянутую ему руку, и машина тронулась. Из города выехали на Смоленское шоссе. Вдоль дороги потянулись обычные белорусский пейзажи: леса, поля и болота. Амосов сидел рядом с шофером. Слушая, как мягко поет машина, он думал об удивительном путешествии, в которое ему пришлось пуститься. Кто знает, как все пойдет дальше, в какие положения он попадет, с какими людьми ему придется столкнуться? Все было туманно впереди, на каждом шагу подстерегала смертельная опасность. Но ехать было нужно — в этом Амосов не сомневался.
Минск, на три четверти разрушенный немцами еще в первые дни войны, встретил Амосова мертвыми впадинами разбитых окон, обгорелыми остовами домов и грудами развалин. Немецкие солдаты слонялись по искалеченным улицам. Часто проносились машины с куда-то спешащими офицерами.
Амосов явился в немецкую комендатуру, предъявил документы и тотчас был принят офицером СС. Тощий, поджарый немец с моноклем любезно осклабился, когда Амосов передал ему записку от Гейделя. Он сообщил Амосову, что завтра может отправить его с попутной машиной в Негорелое, откуда идет поезд в Берлин.
Амосов провел ночь в военной гостинице, устроенной немцами в бывшем студенческом общежитии. Любезность офицера СС простерлась до того, что Амосову был предоставлен отдельный номер. Сначала Амосов пытался заснуть, но это не удавалось. Нервы его были напряжены до предела. Страха он не испытывал — это чувство вообще не было ему знакомо, — но сознание важности задуманного, желание предугадать все случайности напрягли сейчас его волю и мозг. К тому же мешал уснуть шум, доносившийся из соседних комнат, где кутили «господа офицеры». Крики, смех, женский визг и пьяные песни не утихали всю ночь.
Амосову надоело слушать, как веселятся рядом, и он, одевшись, вышел на улицу. Город был погружен в полумрак. Неверный свет луны бродил посреди домов, искалеченные контуры которых выглядели фантастически. Изредка на перекрестках громко перекликались патрули. Амосов стоял, подняв воротник пальто, — конец октября давал себя чувствовать, — и предавался все тем же мыслям. Наконец, он решил отдохнуть, вернулся в комнату, скинул пальто и, бросившись на постель, мгновенно заснул.
Утром за ним пришел офицер СС, повел его завтракать в офицерский ресторан, а затем проводил к машине, которая должна была везти его в Негорелое.
Несколько часов спустя Амосов сидел в вагоне поезда, который шел в Берлин.
На протяжении всего пути — и в Белоруссии и в Польше — он видел из окна вагона все те же горькие следы войны: разрушенные станции, пожарища, мертвые, обезлюдевшие деревни. Населения почти не было видно, только на редких остановках поезд окружали исхудалые дети, просившие хлеба. Щеголеватые штабные офицеры, направлявшиеся в Берлин, щелкали «лейками», снимая на память развалины и голодных детей. Не питая никакого интереса к своим соседям, Амосов держался от них в стороне.
В Берлин прибыли утром. Город выглядел мрачно. На улицах было великое множество полицейских и мало прохожих.
Амосов с вокзала поехал в отель «Адлон», еще сохранивший остатки довоенного благоустройства. Заняв номер на третьем этаже, он побрился, переоделся и вышел на улицу. Внешний вид встречных прохожих, очереди у магазинов, сравнительно редкие машины, запущенность городских улиц — все это воспринималось им жадно, с яркостью первого впечатления.
В два часа дня Амосов направился в главную квартиру гестапо, адрес которой был дан ему Гейделем. В комендатуре долго проверяли его документы, после чего выдали, наконец, пропуск. Серый огромный дом смотрел сумрачно. Поднявшись на третий этаж, Амосов нашел нужную ему дверь и постучался.
— Битте, — произнес низкий голос.
Амосов вошел. В комнате за столом сидел немолодой человек со скучающим выражением лица, одетый в штатское платье.
Амосов объяснил ему, что приехал в Берлин по приказанию Гейделя.
— Господин Ганс Шпейер, — улыбнулся немец, — я уже предупрежден о вашем приезде. Начальник русского отдела тоже будет рад вас видеть. Я думаю, что он сможет вас принять не позднее, чем завтра. Где вы остановились?
— В отеле «Адлон», — ответил Амосов.
— У вас нет родных в Берлине?
— Нет. Мои родные жили в Брауншвейге, но теперь в живых не осталось уже никого.
Разговор продолжался еще несколько минут, а затем Амосов простился и ушел, оставив свой адрес и телефон.
Амосов пошел пообедать. В ресторане гостиницы пиликал салонный оркестр, но котлеты от этого не становились вкуснее. Публики было мало, и, как объяснил Амосову портье, все столующиеся были приезжие.
— Берлинцы отвыкли от ресторанов, — со вздохом сказал он. — Не то время теперь — война… Да еще у обедающих вырезают мясные талоны из карточки, хотя мяса почти не дают. Где ж это видано? Скорей бы конец этой ужасной войне!… Говорят, на Востоке много мяса и сала… Моя сестра часто получает богатые посылки от сына. Он служит офицером на Восточном фронте.
После обеда Амосов отправился на Фридрихштрассе, где жила семья Гейделя. Посылку ему пришлось тащить самому — ни такси, ни носильщиков не было. Найдя дом и квартиру Гейделя, Амосов позвонил. Костистая, сухопарая немка открыла дверь. Она оказалась женой Гейделя.
— Добрый день, фрау Гейдель, — сказал Амосов. — Господин Гейдель поручил мне передать вам эту посылку и письмо.
Фрау Гейдель побагровела от удовольствия и пригласила Амосова зайти. Оставив его в столовой, она унесла посылку в другую комнату. Судя по времени, которое она там находилась, и по доносившемуся оттуда шороху, фрау Гейдель знакомилась с содержимым посылки. По-видимому, она осталась довольна, так как вернулась в столовую, сияя улыбкой. В ответ на ее расспросы Амосов сообщил о здоровье Гейделя, передал от него привет и просил написать ему, что посылка получена.
— Не премину сделать это сегодня же, — сказала фрау Гейдель. — Я вам очень признательна за вашу любезность, герр Шпейер.
Она угостила Амосова жиденьким кофе, после чего он попрощался и отправился опять в главную квартиру. Его принял тот же пожилой немец и сказал, что начальнику русского отдела уже доложено о приезде Шпейера. Он добавил, что начальник просил Шпейера быть вечером здесь, так как он намерен его принять.
Амосов стал дожидаться приема. Он просмотрел один за другим три иллюстрированных журнала, после чего, наконец, был вызван к начальнику.
Открыв массивную дверь, Амосов вошел в большую светлую комнату с темной мебелью мореного дуба. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, за которым никого не было. Амосов с интересом оглядел его и развешанные по стенам карты Украины и Белоруссии.
— Рад вас приветствовать, дорогой товарищ, — произнес по-русски чей-то голос за спиной Амосова. Обернувшись, Амосов оказался лицом к лицу с человеком средних лет, который, улыбаясь, очень внимательно его разглядывал.
Это и был начальник русского отдела гестапо,
18. ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ
Нельзя сказать, чтобы товарищ Петухов пришел в особый восторг от встречи с Кузьменко. Начальник зареченской милиции не очень любил этого озорного парня, хотя отдавал должное его талантам. Подвергнув Ваську тщательному допросу, чтобы выяснить, откуда, каким образом и с какой целью он здесь появился, Петухов пошел к командиру отряда, секретарю зареченского горкома Попову, которому доложил о случившемся.
При этом товарищ Петухов не преминул дать справку о прошлом Кузьменко, сообщил о двух его судимостях и осторожно высказался в том смысле, что, дескать, нужна ли в отряде такая «отпетая личность».
К удивлению Петухова, это не произвело должного впечатления.
— Озорной, говорить? — задумчиво сказал Попов. — Это хорошо, что озорной. Тихони нам здесь ни к чему.
— Боюсь, не доставил бы нам этот фрукт хлопот, — стоял на своем Петухов. — Вот чего я опасаюсь.
— А ты не опасайся, — улыбнулся Попов. — Парень он, как я припоминаю, не плохой. Ничего, человека из него сделаем. Но, между прочим, прошлого ему не вспоминай. А теперь приведи его ко мне.
Пожав плечами, Петухов вышел из землянки и пошел за Кузьменко. Попов встретил Ваську как ни в чем не бывало и сделал вид, что не знает о его пребывании в тюрьме.
— Давно из города? — спросил он.
— Вчера вышел.
— Ну что там новенького?
— Особых новостей нет. Вчера молебен был…
И Кузьменко рассказал о молебне и проповеди. Попов выслушал этот рассказ с удовольствием.
— Молодец поп! — произнес он. — Надо бы его к нам в отряд притащить. Только кто же он, откуда взялся?
— Не знаю, — ответил Кузьменко.
— А ты к нам надолго? Или погостить?
— Прошу зачислить меня в отряд, — сказал Васька, покраснев от страха, что встретит отказ.
— Хорошим людям всегда рады, — улыбнулся Попов и, обращаясь к Петухову, добавил:
— Надо гостя принять, накормить. Позовите мне нашу хозяюшку.
Петухов вышел и вскоре вернулся с высокой смуглой девушкой.
— Слушаю, Андрей Николаевич, — произнесла она певучим голосом.
Васька, услыхав этот голос, вскочил с места.
— Галя! — взволнованно крикнул он.
— Здравствуйте, Вася, — тихо ответила девушка.
— Э, да вы, я вижу, знакомы, — произнес Попов, широко улыбаясь. — Стало быть, мне и хлопотать за тебя, парень, нечего. Галя без меня догадается, как гостя принять. Верно, Галя?
— Постараюсь, Андрей Николаевич, — ответила девушка, приходя в себя. — Идемте, Вася.
Они вышли из командирской землянки. Васька, внутренне ликуя, шел за нею. Галя шла молча, изредка оборачиваясь, чтобы посмотреть, не отстал ли он.
— Ночи-то теперь сырые, — нерешительно начал Кузьменко.
— Осень, — коротко произнесла Галя.
— А здесь вам не скучно? — не зная, что говорить, ляпнул Кузьменко.
— Хорошие гости приезжают, — ядовито ответила девушка. — А вам тут не страшно?
— Вам должно быть известно, что я не из робких.
— Мы оба не из робких… Но ведь я давно вас не видал.
— Разве давно? Что-то я и не заметила, — опять съязвила Галя.
Это определило дальнейшее. Васька обиделся. Он отказался от ужина и спросил, где устроиться. Галя проводила его в общую мужскую землянку. Он холодно поблагодарил девушку и молча завалился на койку.
Но заснуть не мог. Не спалось и Гале. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о нем. В течение всего времени пребывания в отряде Галя ни на один час не забывала о Кузьменко. Она не знала, где он, какова его судьба. Галя любила его и не боялась признаться себе в этом. Осторожно, стараясь не выдать своего волнения, Галя расспрашивала Петухова, куда исчез Кузьменко, но Петухов сам ничего не знал. И вот сейчас Вася здесь, в отряде, рядом в землянке. Как хорошо, что она и виду не подала, что рада его приходу. Надо с ним и впредь держаться строго, чтобы он ничего не понял. А как он, бедный, похудел, видно туго ему пришлось это время. И он такой же рыжий, но очень симпатичный… Как смешно стоят у него волосы — ежиком. Верно, их в тюрьме так стригут. Но это его не портит. Только он совсем как маленький… Сколько лет прошло с того дня на Зеленой горе? Пять лет… А сколько это месяцев — целых шестьдесят, значит двести сорок недель… неужели это было так давно? Как мчится время, даже страшно! А все кажется, что это было вчера, не дальше. А чему так улыбался Андрей Николаевич? Неужели он что-нибудь заметил? Ой, только бы нет!…
— Подумаешь, задается, — ворчал в это же самое время Васька, ворочаясь с боку на бок на койке. — Эти девчонки думают, что без них мы не можем обойтись… Дуры!… И вообще заниматься любовью во время войны могут только кретины. Хорошо, что я виду не показал, что рад ее видеть… Пусть не задается. Подумаешь, какая птица!
Быстро время бежит!… Уже месяц прошел с того дня, как Кузьменко нашел партизанский отряд. Он успел за эти тридцать дней познакомиться с партизанскими буднями, а партизаны полюбили его за веселый нрав, за удивительную смелость и находчивость.
Нигде не узнаются люди так скоро и так верно, как в боевой обстановке, где человек проходит самое трудное и надежное испытание — испытание кровью.
Кузьменко не терялся в самых острых и рискованных операциях, которые проводил отряд, и удивительно легко находил выход из самых затруднительных положений. При всем том он никогда не был безрассуден и не признавал риска ради риска, без пользы для дела.
— Молодец Вася, — говорил о нем командир отряда. — Быть просто храбрецом — это еще недостаточно. Надо быть умным храбрецом. Легче всего — просто положить голову. Это небольшой подвиг. А вот голову сохранить и задание выполнить — это умения требует.
И, подумав, неизменно добавлял:
— Положить голову без крайней необходимости — это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Это, в сущности говоря, оппортунизм…
В этом смысле назвать Кузьменко оппортунистом было нельзя, так как из всех операций он возвращался, сохранив голову в целости и с выполненным заданием.
С Галей за это время он встречался по нескольку раз в день: на стрельбищах, в штабе отряда, где Галя постоянно работала, и порою на отдыхе. Во всех этих случаях они были суховаты друг с другом и оба делали вид, что о прошлом не может быть и речи. Девушке это удавалось лучше: она вела себя очень ровно, корректно, но безразлично. Васька же иногда срывался: язвил, принимал чересчур холодный вид или вдруг замолкал и начинал дуться.
Товарищ Петухов по-прежнему косился на Кузьменко, явно сторонился его и вместе с тем старался наблюдать за его поведением.
Командир отряда замечал, что Петухов продолжает неприязненно относиться к Кузьменко, и даже несколько раз разговаривал с ним по этому поводу.
— Я ему ничего плохого не делаю, — отвечал Петухов, — а что я о нем думаю — это уж, извините, мое частное дело.
И вот однажды в отряд поступили сведения, что на соседнем большаке движется немецкий обоз с боеприпасами. Узнав об этом, командир отряда задумался, а затем почему-то улыбнулся и вызвал к себе Кузьменко и Петухова. Когда они оба явились, командир рассказал им о полученных сведениях и приказал вдвоем направиться на большак и ликвидировать обоз.
Молча выслушав приказание, они вышли из командирской землянки и стали готовиться к операции. Через час, когда начало темнеть, оба уже направлялись к большаку. Всю дорогу шли молча. Придя к большаку, они замаскировались и притаились в придорожной канаве.
Через некоторое время послышался скрип приближающегося обоза. Ветром доносило обрывки немецкой речи.
— Едут, — шепнул Петухов. — Главное, не спеши. Подпустим поближе, а тогда начнем: ты — гранатами, а я — из пулемета.
Петухов был абсолютно спокоен. Васька мысленно поставил это в плюс начальнику раймилиции.
Наконец, немцы приблизились на такое расстояние, что уже ясно различались контуры повозок и солдатских фигур. Петухов чуть толкнул Ваську в бок, давая этим знак, что пора начинать. Васька перевел предохранитель на гранате и метнул ее в первую повозку. Раздался грохот, лошадь взвилась на дыбы и свалилась на бок. В ту же секунду застрочил пулемет Петухова. Немцы стали разбегаться в разные стороны, крича и беспорядочно стреляя из автоматов. Лошади испуганно ржали и метались, ломая оглобли. Васька методично бросал гранату за гранатой, с неизменной точностью попадая в цель. Один, другой, третий воз с боеприпасами взлетели на воздух. Многие из немцев уже валялись под ногами обезумевших лошадей, и всю эту картину озаряли багровым светом вспышки разрывов.
Но вот один из немцев бросился на Кузьменко, который привстал из канавы, чтобы вернее метнуть гранату. За ним кинулось еще несколько. Петухов снял двух очередью из автомата, в остальных Васька бросил гранату. Совсем рядом раздался оглушительный взрыв, и Кузьменко едва успел спрятаться в канаве от осколков. Через мгновение он поднял голову и увидел, что Петухов окружен немцами. Васька бросился к нему. Выхватив из рук Петухова ручной пулемет и действуя им как дубиной, Васька свалил двух немцев. Третьего он сшиб с ног удач ром головы под ложечку, но в это время еще один немец, внезапно выросший перед ним как из-под земли, в упор выстрелил в него.
— Врешь, фашистская морда! — закричал Васька и, почувствовав, что его словно чем-то обожгло, с удесятеренной яростью набросился на немца, схватил его за горло и начал душить. Немец захрипел и упал, потеряв сознание. Взяв выпавший из его рук маузер, Васька плашмя бросился наземь и стал стрелять по немцам.
В этот момент Петухов вырвался из схватки и, обливаясь кровью, закричал во все горло:
— Бей их, лупи! Слева, смотри слева!
Васька обернулся и увидел двух немцев, которые подбегали к нему с левой стороны. Двумя выстрелами он уложил их. Остальные разбежались.
Когда все утихло, Кузьменко окликнул своего товарища. Но Петухов только тихо стонал. По-видимому, он уже был без сознания. Васька разорвал на себе рубаху и перевязал раны Петухова в боку и на шее. Потом он перевязал свою рану. Превозмогая сильную боль, Кузьменко с трудом взвалил на плечи грузного Петухова и медленно поплелся в отряд.
Он шел очень долго и часто уставал настолько, что боялся потерять сознание. Тогда он ложился навзничь, отдыхал, жадно глотая свежий морозный воздух, и вновь пускался в путь.
Когда он пришел в отряд, было уже светло. Огромное багровое, только что вставшее солнце освещало стволы сосен, среди которых темнела знакомая фигура. Это была Галя, которая целую ночь в тревоге ждала их возвращения.
— Вася! — крикнула она в испуге, увидев, как он, шатаясь, бредет из последних сил.
Но Кузьменко уже ничего не мог ответить девушке, он медленно повалился на землю, уронив с плеч тяжелое тело Петухова.
Петухов и Кузьменко очнулись одновременно и вместе, как по команде, открыли глаза. Оба лежали в партизанском «госпитале», оборудованном в самой просторной и сухой землянке. Неяркое пламя приспущенной керосиновой лампы мягко освещало неровные, обшитые свежим тесом стены землянки, некрашеный, но чистенький сосновый столик с лекарствами и две низкие, сколоченные из досок койки.
На табуретке, стоящей между двумя койками перед столиком, дремал, посапывая, партизанский доктор Эпштейн. Когда немцы подходили к городу, Эпштейну было предложено эвакуироваться. Но он наотрез отказался уехать из Зареченска, в котором врачевал почти сорок лет, знал наперечет все семьи и был на «ты» с половиною жителей.
— Не поеду! — решительно заявил он в горкоме, куда его вызывали для переговоров. — Я здесь кум в каждом втором доме. На моих руках сотня больных, которых я не могу покинуть.
— А если город придется оставить? — спросил секретарь горкома, отводя глаза в сторону.
— Я думаю, что и тогда мне найдется работа. Но, разумеется, уже не в самом городе…
— Не понимаю, — попытался схитрить секретарь горкома. — Что, собственно, доктор, вы имеете в виду?
— Я имею в виду требования партии и правительства, — ответил Эпштейн. — В них весьма определенно сказано, чем должны заниматься советские люди в оккупированных районах. И секретарь горкома, конечно, хорошо помнит, что в этом докладе не сделано исключения для врачей. Короче говоря, мои шестьдесят с хвостиком отнюдь не повод для того, чтобы не зачислить меня в партизанский отряд.
— Все ясно, — улыбнулся секретарь горкома. — Оставайтесь пока здесь.
И доктор Эпштейн остался, а затем вместе с партийным активом ушел в отряд. Здесь он прежде всего наладил медицинскую часть: выбрал и оборудовал землянку, получившую громкое название «стационара», и стал тщательно оберегать здоровье бойцов отряда. Стоило кому-нибудь из партизан схватить насморк, как доктор немедля заводил на него подробную «историю болезни» и начинал мучить несчастного термометром, ядовитыми горчичниками и банками.
— Заразы не потерплю! — грохотал Эпштейн в ответ на их мольбы и стенания. — Грипп в этих условиях все равно что чума. Как лицо, ответственное за медико-санитарное состояние отряда, не желаю входить в дискуссии с бациллоносителями. Изолировать в стационаре, а там видно будет.
Месяца через два старик с корнем ликвидировал всяческие следы гриппа и терроризировал партизанскую кухню требованиями строжайшей санитарии. Партизаны отменно поздоровели на свежем воздухе, отлично выглядели, не жаловались на печень и совершенно перестали чихать. Поле деятельности доктора Эпштейна катастрофически сокращалось, он скучал, осунулся, ходил с мрачным видом и, наконец, явился к командиру отряда.
— Что нового, доктор? — приветливо спросил его Попов. — Что за мрачный вид? Не обнаружены ли вспышки тропической малярии, индийской чумы или афганской холеры?
— Вы все шутите, — возразил Эпштейн, — а мне, право, не до шуток. Впервые за последние сорок лет я чувствую себя бездельником. Клинического материала почти нет. И знаете, что я надумал?
— Признаться, нет.
— В немецких обозах нередко попадаются отличные медикаменты. Но наши люди не понимают в них ничего. Наличие на месте специалиста, как мне думается…
— Не хитрите, — перебил его Попов, — скажите прямо, что вам хочется разок пойти на операцию, и не подводите под это фармацевтической базы.
— А если хочется, так что за беда? — не сдавался старик. — Ну, хочется.
Начался спор. И, как ни упорствовал командир, Эпштейн настоял на своем. Взяв со старика честное слово, что он удовлетворится одной вылазкой, командир разрешил ему пойти на операцию. Эпштейн был послан с группой партизан заминировать полотно железной дороги. Доктору повезло: на обратном пути произошла небольшая перестрелка с немецким разъездом. Одним словом, получилось настоящее дело. Как рассказывал потом сам Эпштейн, он никогда еще «не проводил такого содержательного вечера».
Таков был «партизанский доктор», мирно дремавший в тот момент, когда Петухов и Кузьменко пришли в себя.
Когда взгляды их встретились, они оба сразу вспомнили все, что с ними произошло.
— Спасибо, браток, — коротко произнес Петухов, стараясь не смотреть Ваське в лицо. — Спас ты меня, а сам, видать, тоже был ранен. Небось на себе тащил?
Кузьменко посмотрел на своего недавнего врага и мгновенно всем сердцем понял: все, что стояло между ними в течение этих лет, рухнуло окончательно и навсегда, так что взаимной настороженности и неприязни уже нет места.
— Рана болит? — спросил он, уклоняясь от ответа.
— Ноет немного, — ответил Петухов и хотел сказать еще что-то, но вскочил проснувшийся доктор и закричал:
— Это что еще за разговоры! Митинг в стационаре? Категорически запрещаю!… Больные, вам предписан абсолютный покой, постельный режим и усиленное питание. А ну, повернуться спиной друг к другу!
Петухов и Кузьменко стали, ворча, поворачиваться на другой бок. В это мгновение послышались чьи-то легкие шаги, и Васька сразу почувствовал присутствие Гали.
— Ну, как дела, доктор? — тихо спросила девушка. — Когда же, наконец, он… они придут в себя?
— Он… простите, я хотел сказать — они… уже пришли в себя, — лукаво ответил Эпштейн. — Сейчас я разрешу им по очереди повернуться к вам лицом, ибо делать это одновременно им противопоказано.
Нужно заметить, что доктор Эпштейн давно уже отлично понимал, почему Галя путается в местоимениях и кого из двух пациентов ей хочется поскорее увидеть. Тем не менее Эпштейн произнес, сохраняя все то же серьезное выражение лица:
— Товарищ Петухов, повернитесь лицом к товарищу Соболевой.
— Есть повернуться к товарищу Соболевой, — ответил вместо Петухова Кузьменко и резким движением повернулся лицом к Гале.
— Вася! — воскликнула девушка и, уже не будучи в силах сдержаться, бросилась к нему.
Петухов, который тоже успел повернуться, взглянул на доктора, почему-то подмигнул ему и с тяжелым вздохом вновь отвернулся к стене. Скоро он притворился, что спит, и даже начал похрапывать.
Доктор Эпштейн в свою очередь вспомнил о «совершенно неотложном деле» и поспешно покинул землянку, строго бросив Гале:
— Пожалуйста, не оставляйте до моего прихода больного.
19. ПРОГУЛКА В ЗАРЕЧЕНСК
А через два месяца грянули морозы, стали реки, дороги замело сугробами; по утрам дымились инеем леса, по ночам протяжно пели вьюги — пришла зима.
Оккупанты в Зареченске зарылись в домах, как кроты. Они боялись высунуть нос на мороз и опасались выезжать за город в эти хмурые и опасные леса, в эти непонятные им, необъятные снежные пространства захваченной, но непокоренной земли.
Однажды вечером командир отряда вызвал к себе Кузьменко и сказал, что надо пробраться в город, разузнать, как идут там дела и какова численность немецкого гарнизона. Командир больше ничего не сказал, но по особой сосредоточенности его лица и сухости тона Кузьменко понял, что это не обычная разведка и что назревают большие события.
Командир приказал ему отправиться в город вместе с Галей, которую знали на подпольной явке.
— Долго там не задерживайтесь, — сказал командир на прощанье. — А главное — не лезьте на рожон.
Выйдя из командирской землянки, Кузьменко пошел к Гале и передал ей полученное приказание. Он был уже совсем здоров и спокойно мог отправиться в далекий путь.
На рассвете Галя и Кузьменко вышли на лыжах из леса.
Фиолетовая дымка стлалась над заснеженными полями, предвещая солнечное и морозное утро. Галя и Васька летели по крепкому насту, быстро оставляя за собою километры пути. Изредка Васька, шедший впереди, оборачивался к следовавшей за ним девушке и спрашивал, не устала ли она.
Часа через три они подошли к городу. Огромное солнце медленно поднималось из-за кромки горизонта, окрашивая поля в причудливые фантастические тона. Там и сям темнели перелески, словно догоравшая ночь еще цеплялась за них. Кузьменко решил подойти к городу со стороны Зеленой горы. Галя согласилась с его решением. Они сделали последнюю остановку и передохнули несколько минут.
— Ну, двинулись, — сказал он, наконец, и пошел вперед. Галя тронулась за ним.
Вскоре они достигли Зеленой горы. Знакомая с детских лет прекрасная картина широко раскинулась перед ними. Справа, прильнув к подножию горы, безмятежно дремал городок. Слева, за снежной гладью озера, тянулись бескрайние поля, синевато-розовые просторы которых уже искрились в первых солнечных лучах. День еще не настал как следует, а трубы на крышах уже дымились, и в тишине морозного утра ленивые столбы дыма стояли неподвижно, словно нарисованные на голубом полотне неба.
Кузьменко огляделся вокруг, как бы стремясь вобрать в себя эти просторы, весь этот мирный пейзаж.
А через минуту, подойдя к самому краю горы и проверив крепление своих лыж, Кузьменко сильно оттолкнулся и понесся вниз. За ним ринулась Галя.
Через несколько минут они были на окраине городка, который уже начинал просыпаться.
В одном из домиков этой окраины находилась вторая партизанская явка, которую содержала Дарья Прохоровна Максимова, старая акушерка городской больницы.
Несмотря на то, что Дарье Прохоровне шел уже седьмой десяток, она была еще совсем бодра, не бросала работу и никогда не жаловалась на нездоровье. Ее широкое добродушное лицо, ее плотная, крепкая фигура, совершенно седые, серебристые волосы, которые только подчеркивали молодой блеск ее глаз, смуглый румянец тугих, не по возрасту свежих щек свидетельствовали о здоровой старости.
У Дарьи Прохоровны не было своих детей, но добрую половину города она принимала при рождении, всех их считала своими крестниками и любила, как собственных детей. Она не была членом партии, но когда Зареченск заняли немцы и понадобилась надежная кандидатура для партизанской явки, то выбор остановился на Дарье Прохоровне. Когда ей сообщили об этом и спросили прямо, не страшно ли браться за такое дело, Дарья Прохоровна только усмехнулась и просто ответила:
— А то нет? Конечно, страшно. А рожать бабам разве не страшно? А ведь ничего, рожают… Страшно, да нужно.
Она деловито расспросила о подробностях, договорилась о способах связи, вызубрила на память пароли, не желая их записывать, и, уходя, сказала:
— А за то, что доверились старой бабке, благодарствую и век не забуду. Лестно, не буду скрывать, очень лестно.
Выбор оказался удачен: Дарья Прохоровна отлично справлялась со своими новыми обязанностями. Она оказалась великолепным конспиратором, была осторожна и предусмотрительна и, кроме того, не вызывала никаких подозрений. Когда Галя и Кузьменко появились на пороге домика акушерки, Дарья Прохоровна возилась у печи с ухватом. Она знала обоих со дня их рождения, но все-таки, сделав непроницаемое выражение лица, спросила:
— Какая температура у роженицы?
— Тридцать семь и одна, — ответил Васька.
— Первые роды?
— Вторые.
— Кого ждете: мальчика или девочку?.
— Родителям безразлично.
Удовлетворившись этим условным паролем, Дарья Прохоровна пригласила гостей в комнаты. Здесь она подробно изложила им все городские новости. Оказалось, что немцы по вечерам стараются не выходить на улицу, что гарнизон в городе не пополнялся и что Трубников продолжает восседать в «магистрате». Кузьменко спросил о судьбе священника. Дарья Прохоровна ответила, что Трубников, опасаясь мести народа, священника не выдал. Однако горожане для большей безопасности на следующий день после проповеди уговорили этого священника уехать в деревню, что он и сделал.
Рассказывая обо всем этом, Дарья Прохоровна быстро накрыла на стол, достала из старого буфета посуду, внесла из кухни пыхтящий самовар, а затем подала своим гостям свежие пышки, маринованные грибы и рыбу.
Галя и Васька, проголодавшиеся с дороги, поглощали всю эту снедь с аппетитом.
Поев, они стали совещаться о дальнейшем. Было решено покинуть город ночью, когда стемнеет. К тому времени Дарья Прохоровна взялась добыть еще кое-какие сведения. Заперев Галю и Кузьменко в доме, старушка пошла по своим делам.
К вечеру Дарья Прохоровна вернулась и сообщила, что в городе все спокойно. Немецкий гарнизон все тот же, новые части за последнюю неделю в город не приходили. Комендант живет на старой квартире и, как обычно, по вечерам старается не выходить на улицу. Патрульную службу в самом городе несут немцы, а у застав дежурят главным образом постовые из «русской полиции».
Получив все эти данные, Галя и Васька дождались наступления темноты и осторожно выбрались из города.
Через три дня, вечером, бургомистр Трубников вышел из «магистрата», направляясь к себе домой. На улицах было уже пустынно. Под ногами поскрипывал снег. Трубников поднял воротник: было морозно.
На базарной площади навстречу ему попался длинный крестьянский обоз с сеном.
Трубников подошел к первому возу и спросил:
— Кто такие, куда едете?
— До коменданта, сено везем по наряду, — спокойно ответил парень, шагавший рядом с дровнями.
Трубников, сам не зная почему, осветил лицо парня электрическим фонариком и хотел было спросить у него документы, но слова застряли в горле: перед ним стоял Кузьменко.
Не успел он произнести и слова, как Васька оглушил его страшным ударом в висок. Через мгновение Трубников был связан и положен на дровни, под копну сена, откуда вылезли двое партизан.
Из других саней длинного обоза тоже стали вылезать спрятанные в сене люди. В сумрачное небо с треском взлетела зеленая ракета. И сразу со всех концов застучали пулеметы, закуковали автоматные короткие очереди, загремели взрывы ручных гранат. Полуодетые захватчики, испуганно выскочившие из здания школы, не успели даже крикнуть свое традиционное «Гитлер капут» — они были мгновенно убиты. Тучный комендант выскочил в одном белье из своего особняка, с маузером в руках, но его навеки успокоила партизанская пуля.
А через два часа в здании горкома уже заседала тройка по восстановлению в городе советской власти.
Председатель тройки — командир партизанского отряда, он же секретарь Зареченского горкома, — позвонил в колокольчик и привычно начал:
— Заседание объявляю открытым. Полагаю, что кворум имеется…
Он остановился и невольно улыбнулся: кворум действительно был налицо. Кабинет, все соседние комнаты, коридор, крыльцо дома были до отказа наполнены народом. Улица была черна от густой толпы. Сбежавшиеся со всех сторон жители напирали друг на друга; мальчишки гроздьями свисали с ветвей деревьев.
В дремучих лесах Белоруссии Плотников и переехавшая к нему Шура продолжали свою партизанскую деятельность. Вместе работали в отряде, вместе ходили в разведку, вместе не раз принимали участие в боевых делах партизан. Так прошло полтора года.
Отряд, в котором они состояли, оперировал в районе Гомеля. Топкие, почти непроходимые леса служили великолепным убежищем для партизан. В каждой деревушке, в каждом селе, в каждом местечке отряд имел надежных людей, с которыми поддерживал постоянную связь. Командир отряда Глухов, уже не молодой молчаливый человек с отечным лицом почечного больного, полюбил Плотникова и Шуру, как родных детей. Его единственный сын Сергей был на фронте, и Глухов давно не имея о нем никаких известий. По вечерам, играя с Плотниковым в шашки или совещаясь с ним о деталях очередной операции, ловя сосредоточенный взгляд Плотникова, слыша его голос, его заразительный смех и видя, как он, задумываясь, смешно, совсем по-детски, морщит лоб, Глухов ловил себя на мысли, что Плотников чем-то напоминал ему Сергея.
Осень 1943 года активизировала деятельность партизан. Долгие ночи и грязь на дорогах облегчали налеты на немецкие обозы и диверсии на железнодорожных путях. Плотников, отлично усвоивший подрывное дело, считался в отряде специалистом по организации железнодорожных катастроф. Не один немецкий эшелон с грузами пустил он за это время под откос.
Отличная связь с местным населением обеспечивала партизанам хорошую информацию о железнодорожных перевозках немецких военных грузов. Поэтому взрывалось именно то, что было нужно, и тогда, когда было нужно. Немецкая полевая жандармерия и отряды гестапо сбились с ног, пытаясь выяснить, откуда у партизан такая точная информация, но так и не добились толку.
В последние дни партизаны получили сведения, что немцы подготавливают следование эшелона с особо секретным грузом, имеющим исключительную ценность. Это можно было заключить из того, что немцы резко усилили охрану железнодорожных мостов и полотна на участке Минск — Гомель. Сотрудники гестапо начали непрерывно дежурить на железнодорожных станциях. Были тщательно проверены все семафоры, стрелки, шпалы. День следования маршрута, для которого проводились все эти мероприятия, сохранялся в строгой тайне.
Глухов мобилизовал все возможности, чтобы выяснить, в чем дело. Ежедневно десятки партизан и партизанок уходили в разведку, встречались с железнодорожниками и возвращались с одним и тем же результатом: идет невиданная подготовка участка пути, но когда именно и с каким грузом проследует таинственный эшелон — никому не известно.
Учитывая усиленную охрану, выставленную немцами в эти дни на участке Минск — Гомель, нечего было и думать о минировании полотна, тем более что дважды в сутки специально прибывшие немецкие специалисты проверяли все секторы участка; кроме того, немцы ввели непрерывные подвижные патрули на автодрезинах. Глухов ломал себе голову, стремясь найти выход. И, как всегда, в случаях, требующих особой находчивости, он обратился к Плотникову. Они просидели вдвоем несколько часов, обсудили все варианты и взвесили все возможности. Наконец, Плотников сказал:
— Вот что, Иван Семенович! Сколько бы мы здесь ни думали, толку не будет. Тут дело такое: надо на риск идти. Пошлите меня.
— Куда? — спросил Глухов.
— Не знаю. Надо идти и решить на месте. Лучше всего, по-моему, к разъезду Скворцово. Там глушь, лес рядом, можно пару дней укрываться. А за это время, может быть, удастся разгадать загадку.
Глухов задумался. Плотников был в сущности прав. Правда, жаль было рисковать одним из лучших людей, но иного выхода не было.
— Один пойдешь? — спросил он, тем самым давая согласие на предложение Плотникова.
— Да, — ответил тот. — Тут лишний человек только обуза. Да и пробраться вдвоем будет труднее.
Решили, что в тот же вечер Плотников направится в Скворцово. В течение оставшихся ему немногих часов он запаковал взрывчатку в портативную оболочку, отобрал себе в путь несколько «мадьярок» — маленьких трофейных мин — и продукты на несколько дней. Шура, привыкшая к тому, что Плотников всегда брал ее с собой, удивилась, узнав, что на этот раз он решил пойти один.
Плотников объяснил ей, почему он решил обойтись без нее. Она признала, что он прав, хотя в глубине души ей очень не хотелось отпускать его одного.
Поздней ночью Плотников добрался до Скворцова — глухого разъезда, отдаленного от населенных пунктов. Сырая осенняя ночь словно потопила в черном лаке маленький домик путевого сторожа. Тусклый фонарь, раскачиваемый резкими порывами ветра, был не в силах пробить ночной мрак и лишь на мгновение вырывал из него то поблескивавший кусок рельсов, то мокрые шпалы, то горку гравия, предназначенного для ремонта пути. Плотников прислушался: где-то вдалеке тревожно ревела сирена автодрезины. Рев этот все нарастал. Вскоре стал слышен стук приближающейся дрезины и показались зеленоватые огни ее фар, горевшие в темноте, как глаза хищного животного. Плотников прыгнул в глубокую канаву, вырытую вдоль железнодорожной насыпи, и растянулся на дне. Дрезина подошла к разъезду и остановилась почти у того самого места, где лежал Плотников. Судя по тому, что мотор не заглушили, дрезина остановилась ненадолго. В дрезине ехал патруль. Плотников отчетливо расслышал немецкие слова, а затем протяжно заревела сирена — это вызывали сторожа. Он вскоре вышел, и один из немцев заговорил с ним на ломаном русском языке.
— Ну, что есть нового? — спросил немец.
— Да какие ж новости, господин офицер? — ответил сторож. — Всего час прошел, как вы тут были: много ли за час могло приключиться? Вот дождь прошел…
— Какие-нибудь люди не проходили?
— Откуда им взяться, людям-то? Сами видите, какая тут глушь. Здесь не то что людей — волка не увидишь: такое уж завидное место, прости ты, господи…
— Ну ты, сторож, смотри, это очень важный есть приказ. Будешь смотреть, будешь не спать — будешь потом иметь награда.
Покорно благодарим, господин офицер.
— Через час опять приедем. Смотри не зевай!
Дрезина зарычала и умчалась. Потом зашуршал гравий под ногами сторожа, уходившего к себе в домик, и опять наступила ночная тишина, только подчеркиваемая завыванием ветра и скрипом раскачиваемого ветром фонаря.
Плотников вылез из канавы, отряхиваясь, как мокрый пудель. Вода забралась в сапоги, под ватник, в рукава — всюду. Надо было торопиться закладывать мину, так как немцы могли скоро вернуться. Он отошел от разъезда шагов на сто, вынул маленький лом и начал выворачивать шпалу. Вырыв под ней ямку для мины, он стал осторожно ее утрамбовывать. Едва он закончил работу, как донесся рев дрезины, возвращавшейся обратно. Плотников снова нырнул в канаву. Дрезина опять остановилась у разъезда на мгновение, потом поехала дальше и скрылась в темноте. Можно было предполагать, что через час она снова вернется и так всю ночь будет объезжать участок. Это осложняло задачу, так как Плотникову нужно было взорвать таинственный поезд, а вовсе не дрезину. Следовательно, пока нельзя было прилаживать к мине запал. Сделать это можно было, лишь убедившись в том, что идет, наконец, поезд, а не дрезина.
Возникала другая трудность: отличить поезд от дрезины Плотников мог только по шуму в момент его приближения. Значит, в его распоряжении оставались считанные секунды, в течение которых нужно было успеть приладить запал и самому отбежать на достаточное расстояние. И, наконец, не было уверенности в том, что этот проклятый поезд пройдет ночью, а не днем, когда проделать все это будет уже немыслимо. Судя по всему, немцы придавали этому поезду совершенно особое значение, и вряд ли они стали бы пропускать его ночью.
Пока Плотников размышлял обо всем этом, время шло. Патрульная дрезина еще раз проехала мимо разъезда, а поезда все не было. Прилаживать запал было бессмысленно. Так, в напряженном ожидании, летело время. Незаметно стала таять темнота. Горизонт начал светлеть: наступало утро.
Оставаться дальше у полотна железной дороги было опасно. Плотников решил скрыться в лесу, немного передохнуть там после бессонной ночи и продумать, как быть дальше. Тщательно замаскировав гравием следы своей ночной работы и запомнив место, где была зарыта мина, он двинулся в глубь леса, захватив с собой пружину и запал.
Пройдя километров пять, он наткнулся на сухую полянку, выбрал себе с краю местечко поуютнее, натаскал туда хворосту и листьев и через минуту заснул, как в детстве, беспечно и крепко.
Он проспал часов пять и проснулся от детских голосов. Протерев еще сонные глаза, он увидел группу крестьянских детей, игравших на полянке. Очевидно, где-то недалеко была деревня.
Играли несколько мальчиков в возрасте от восьми до десяти лет. Дети не видели Плотникова, лежавшего за деревом и большой кучей хвороста. Они играли в войну. Плотников с интересом наблюдал за ними. Очень скоро он понял, что перед ним происходит добровольная сдача в плен немецкого фельдмаршала фон Паулюса и вообще на полянке разыгрывается финал сталинградской битвы. Удивленный, что здесь, в оккупированном районе, крестьянские дети настолько в курсе военных событий, Плотников с интересом следил за их игрой. Генерал-фельдмаршал фон Паулюс шел сдаваться в плен, тяжело ступая и низко опустив голову. У фельдмаршала было скорбное лицо. Его сопровождали два красноармейца с винтовками, выстроганными из деревянных палок. Винтовки они держали наперевес и не спускали глаз с фельдмаршала, по-видимому опасаясь, как бы он в последний момент не задал драпу. На противоположной стороне поляны стоял на бревне командующий фронтом Рокоссовский. Подойдя к нему, фон Паулюс вытянулся, щелкнул босыми пятками (вообще весь генералитет, несмотря на осень, был без обуви) и взял под козырек. Рокоссовский после многозначительной паузы прищурился и тихо сказал:
— Пожалуйте, пожалуйте. Давно вас поджидаем, герр фельдмаршал фон Паулюс. Русские прусских всегда бивали.
Неизвестно, чем закончился бы этот исторический разговор, если бы на полянку не выбежала неожиданно какая-то девочка, которая закричала, обращаясь к Рокоссовскому:
— Мишка, мамка сказала, чтоб сей минут шел кашу есть, а то она с тебя штаны спустит…
Командующий фронтом досадливо шмыгнул носом и, лихо сплюнув в сторону, проворчал:
— Одно слово, бабы! Тут сталинградскую операцию завершаем, а вы со своей кашей!… Ладно, счас приду.
Девочка убежала. Рокоссовский снял с себя ушастый шлем со звездой, то же самое сделали остальные ребятишки. Все стали прятать свои доспехи под бревно. В этот момент Плотников вышел на полянку. Дети, разинув от неожиданности рты, молча смотрели на него.
— Не бойтесь, ребята, я свой, — сказал Плотников и спокойно закурил. — Далеко ли отсюда живете?
— С версту будет, — ответил Рокоссовский. — А тебе какое дело?
— В Сталинград играете? — спросил Плотников. — Так, так. Люди кровь проливают, на фронте с немцами бьются, а вы, как маленькие, играми занимаетесь. Оно, конечно, спокойнее… Рокоссовский, твой батька где? Небось фашистам прислуживает?
— Мой батька в Советской Армии, а не у фашистов, — возразил мальчик. — И брат тоже на фронте. Что же ты зря говоришь?
— И мой: И мой! — закричали наперебой остальные ребята.
— Тогда извините: не угадал. А я думал, что вы за фрицев.
— Ты-то сам за кого? — перебил Плотникова Рокоссовский. — Разговорился! За фрицев, за фрицев… Чего тебе здесь надо?
Вопрос был поставлен в лоб. Плотников посмотрел на ребятишек, на их босые, посиневшие ноги и пытливые глаза, посмотрел, подумал и решился.
— Вот что, ребята, — сказал он. — Так и быть, я вам откроюсь. Скажу, зачем я здесь и почему. Вы уже не маленькие, я вам доверяюсь. Я, ребята, партизан. И нахожусь здесь со специальным заданием. Если вы честные парни, не трусы, не плаксы, помогите, а если маменькины сынки, болтуны, — вы мне не компания.
— Ну, а чем помочь-то? Оружие если, так у нас есть.
— Какое оружие? Чего ты врешь? — рассердился Плотников.
— А то нет! Раз говорю есть, значит есть!
— Да откуда оно у вас взялось?
— Откуда, откуда! Вот, смотри!
Ребята, дружно навалившись, с трудом отодвинули толстое бревно, под которым оказалась хорошо замаскированная яма. В ней, к великому удивлению Плотникова, действительно лежали настоящие немецкие автоматы, гранаты и патроны. Как потом объяснили Плотникову мальчики, они раздобыли это оружие еще в 1941 году, подбирая его в различных местах, где происходили бои. Оружие это дети хранили тайком от взрослых и, что особенно удивило Плотникова, великолепно его освоили. Они тут же мгновенно разобрали и собрали по частям автомат, показали гранаты трех систем и объяснили разницу в их устройстве. На вопрос, зачем они хранят это оружие, ребята ответили, что, во-первых, они пустят в ход его против гитлеровцев, когда подойдет Советская Армия, во-вторых, это вообще интересно.
Разговор затянулся и принял непринужденный характер. Потом Мишка, вспомнив о материнской угрозе, сбегал домой, оставив Плотникова с товарищами, но вскоре возвратился. Когда Плотников спросил его, не разболтал ли он дома об их знакомстве, Миша обидчиво ответил:
— Что я, девчонка, что ли, языком трепать?
Убедившись, что имеет дело с надежным народом, Плотников посвятил ребят в существо своей задачи. Он решил привлечь их к делу, использовав мальчиков для дневной разведки. Появление детей у железнодорожного полотна, естественно, не могло вызвать особых подозрений.
Когда он объяснил ребятам, что от них требуется, они восторженно приняли его предложение. Было решено, что трое мальчиков пойдут в разведку, Мишка будет дежурить у места, где зарыта мина, и при приближении поезда подаст знак Плотникову, который будет прятаться в лесу, непосредственно примыкающем к железнодорожному полотну.
Сумрачный осенний день стоял над лесом, в котором залег Плотников, не сводя глаз с маленькой фигурки Мишки, разгуливавшего у самого полотна железной дороги. Остальные ребятишки еще не вернулись с разведки. За те два часа, что Плотников и Мишка дежурили на своих местах, немецкая патрульная дрезина проехала мимо два раза. В первый раз немцы не обратили внимания на крестьянского мальчика, бродившего с лукошком в руке вдоль железной дороги. Во второй раз Мишка, заслышав стук приближающейся дрезины, залег в канаве и вообще не был замечен.
Лежа на влажной земле, Плотников вдруг услыхал далекий, неясный шум. Отсюда, из лесу, было трудно определить по шуму, идет ли это дрезина или поезд. Плотников напряженно вглядывался в то место, где стоял Мишка. Мгновение — и Мишкино лукошко, как было условлено, взлетело вверх. Приближался поезд, была дорога каждая секунда. Плотников вскочил и бросился изо всех сил бежать к мине. Пружину и запал он держал в руках. Прыгнув на полотно, он мгновенно разрыл гравий, поставил запал и приладил пружину. Поезд, который шел с большой скоростью, уже показался из-за поворота рельсовых путей. Пыхтящий паровоз, грозно постукивая на стыках, шел прямо на Плотникова. Мишка, как ему и следовало поступить, успел за эти несколько секунд убежать в лес, откуда, задыхаясь от волнения, следил за событиями. В самую последнюю минуту Плотников успел отбежать от полотна железной дороги. Не оборачиваясь, огромными прыжками он бросился в лес. В тот самый миг, когда он достиг, наконец, опушки леса, раздался страшный взрыв, от которого задрожала земля. Плотников с размаху бросился наземь. Через короткое время раздался второй взрыв, за ним третий, четвертый, и началось нечто невообразимое. По количеству взрывов, следовавших один за другим, по огромному столбу черного дыма, заслонившему место происшествия, и по перемежающемуся треску Плотников понял, что взорван большой эшелон с боеприпасами, среди которых есть и фугасные бомбы и артиллерийские снаряды.
Когда все было кончено и дым немного рассеялся, Плотников и Мишка выбежали на полотно. Надо было спешить, так как скоро мог подоспеть аварийный поезд. Вдоль развороченной железнодорожной насыпи валялись обломки товарных вагонов; вздыбившийся паровоз стоял, как огромная черная свеча. Среди обломков валялись обожженные, изуродованные трупы.
Определив, что в эшелоне было примерно семьдесят товарных вагонов, Плотников направился в обратный путь. Мишка провожал его несколько километров. Потом Плотников остановился, молча обнял мальчика, поцеловал его и сказал:
— Ну, спасибо, Рокоссовский! Выполнили мы с тобой задание. Теперь можешь играть дальше.
— Не буду играть больше, — тихо ответил Мишка. — Я теперь партизаном хочу быть. Всамделишно фашистов бить.
— Подожди, — ответил ему Плотников. — И это придет. Пока играй. Оружие ваше берегите, оно еще пригодится. Погоди, будем фашистов бить, Рокоссовский. Жди только моего сигнала. А я, брат, еще приду. Ты найди пока ребятишек понадежнее да с ними работу проведи. Словом, назначаю тебя здесь нашим ребячьим уполномоченным. Понял?
— Понял, — ответил Мишка.
— Ну вот и все. Пока меня нет, вы только играйте. Приду — вместе работать будем. Без меня ничего делать не смейте!
— Есть без вас ничего не делать! — вытянулся Мишка. — Ждем до вашего прихода!
— Правильно! — коротко и нарочито резко произнес Плотников и зашагал к себе.
Он вернулся в отряд уже к вечеру. Километра за два до стоянки отряда он наткнулся на Шуру, беспокойно бродившую взад-вперед по тропинке. Она поджидала его.
20. В БЕРЛОГЕ ЗВЕРЯ
Господин Отто фон Бургет, начальник русского отдела гестапо, довольно приветливо встретил Амосова, предложил ему сигару и выразил свое удовольствие лично видеть его.
— Весьма рад познакомиться с вами, герр Шпейер, — сказал он, внимательно разглядывая Амосова. — Не так уж много старых работников германской разведки осталось в нашей системе. Ну, а таких, как вы, столько лет проживших в России, и того меньше.
Амосов поблагодарил господина начальника за внимание и предоставленную ему возможность побывать в родном Берлине. Затем по просьбе Бургета он подробно рассказал ему о том, как в 1911 году был откомандирован в военную разведку, окончил специальную школу и направлен в Гатчино, чтобы собрать данные о первом в мире многомоторном самолете «Илья Муромец».
Амосов долго разговаривал в этот день с Бургетом, который очень внимательно слушал, делая изредка какие-то записи в своем блокноте. В конце беседы Бургет предложил Амосову отдохнуть месяц-другой, познакомиться за это время с Берлином, а уж потом приступить к работе.
— Вам надо месяца три поработать у нас, — сказал он. — За это время вы ознакомитесь с нашей системой — в ней много нового, а также с современной диверсионной техникой, радиоаппаратурой и прочим. Все это очень вам пригодится, герр Шпейер. А затем снова вернетесь в вашу милую Россию. Пока еще не решено, какая именно работа будет вам поручена, это во многом зависит, сами понимаете, от положения на фронте. Во всяком случае, мы учтем и ваш многолетний опыт и ваши пожелания. А пока отдыхайте, развлекайтесь, наслаждайтесь воздухом Германии.
На этом закончился их первый разговор. Амосов стал «отдыхать». Он продолжал жить в той же гостинице и ежедневно совершал большие прогулки по Берлину и его окрестностям. Он приглядывался к жизни города, настроениям людей, организации системы снабжения, торговли, внутренней пропаганды.
В Берлине было уныло.
С Восточного фронта непрерывно приходили поезда с ранеными. Власти, не желая, чтобы население знало об этих бесконечных эшелонах, дали указание принимать поезда с ранеными только по ночам. Но, несмотря на все принятые меры, берлинцы узнавали об этом страшном потоке, хлынувшем с востока. Через медицинский персонал военных госпиталей, санитаров, врачей, шоферов автобусов, перевозивших раненых, население узнало о страшных потерях на фронте. Правда, об этом передавали друг другу по секрету, шепотом, на ухо, с оглядкой, но шепот этот заглушал трескучие немецкие марши, непрерывно передаваемые по радио, и истошные вопли фюрера, время от времени поздравлявшего Германию с «историческими победами немецкого оружия».
Амосов все больше узнавал жизнь в гитлеровской Германии. Но главное было, конечно, впереди, и он с нетерпением ждал того дня, когда явится в гестапо и приступит к работе, о которой говорил ему Бургет.
Наконец, этот день наступил. Амосов точно в назначенный час явился в гестапо.
— Ну, как вы отдыхали? — спросил его Бургет, по обыкновению внимательно его разглядывая. — Мне кажется, вы много гуляли, ездили по городу, набирались впечатлений?
— Совершенно верно, господин фон Бургет, — ответил Амосов, который несколько раз замечал, что состоит под наблюдением и что по его пятам нередко следует «хвост».
И он очень точно рассказал Бургету о всех своих прогулках и путешествиях по окрестностям Берлина. Однажды он даже специально выехал в Брауншвейг, где когда-то обучался в военной памяти фельдмаршала Мольтке школе. Школа эта сама по себе мало интересовала Амосова, но он хотел этой поездкой создать впечатление человека, которого неодолимо тянет к местам, где прошла его молодость. И поэтому, приехав в Брауншвейг и заметив, что и на этот раз за ним установлено наблюдение, Амосов с лирическим видом человека, приехавшего уже в пожилом возрасте в город своей юности, ходил по улицам Брауншвейга, грустил на скамейках парка, долго стоял перед зданием военной школы и даже раза два вытирал платком глаза — это было вполне в немецком духе.
Вот и теперь, рассказывая Бургету, как он проводил отпуск, Амосов не преминул сообщить и о своей поездке в Брауншвейг и о «грустных, но сладких воспоминаниях, которые овладели сердцем», когда он там побывал.
Бургет одобрительно покачивал головой, — все, что теперь рассказывал ему Амосов, вполне сходилось с данными наружного наблюдения, которое было за Амосовым установлено именно по приказу господина Бургета. Правда, он сделал это не потому, что сомневался в личности этого человека, — напротив, ни на минуту не сомневался он, что имеет дело именное Гансом Шпейером, — но он считал необходимым понаблюдать за поведением человека, который столько лет прожил в России и мог за это время изменить свои убеждения и свою службу.
Но то, что Амосов в течение месяца не имел ни одной подозрительной встречи, что его прогулки сами по себе не вызывали никаких сомнений, так как были вполне естественны для немца, так много лет отсутствовавшего и жившего на чужбине, наконец и его поездка в Брауншвейг, освещенная особенно подробно в донесениях филеров, которые вели за ним наблюдение, — все окончательно убедило осторожного господина Бургета в том, что Амосову можно вполне доверять.
И он приказал своим помощникам допустить господина Шпейера к материалам русского отдела гестапо. Амосов приступил к работе.
Он работал много, по десять-двенадцать часов в день, чтобы поскорее выполнить задание и вернуться на родину. Он торопился потому, что отдавал себе отчет в том, как дорог каждый день, каждый час, каждая минута. Там — «дома», как мысленно с любовью и нежностью называл он свою родину, — было очень трудно в тот год. Значительная часть страны еще была оккупирована врагом, на протяжении огромного тысячекилометрового фронта шли грандиозные сражения, каких не знала военная история. В тылу люди работали не покладая рук, создавая необходимые припасы для армии, новое оружие, огромные количества танков, самолетов, артиллерии. В этих условиях было особенно важно разоблачить вражескую агентуру, предотвратить возможность диверсий на транспорте, в военной промышленности, на предприятиях, питающих фронт.
По ночам, долго не засыпая в своей пышной постели в отеле «Адлон», Амосов скрежетал зубами от мучительного сознания, что ценные сведения, которые ему уже удалось собрать, он еще не имеет возможности передать «домой», потому что, в целях предосторожности, он, конечно, не был снабжен рацией и не имел права связываться в Берлине с кем бы то ни было, чтобы не провалить ни себя, ни тех, кто выполнял там задания помимо него.
С одной стороны, по тем же мотивам он не имел права ничем обнаружить своего нетерпения и, с другой стороны, должен был использовать все возможности своей работы в гестапо до конца.
…Работа Амосова подходила к концу, и уже близился день его отъезда из Берлина. Все, что он прочел за это время, изучая тома донесений, карты, схемы и дислокации точек немецкой разведки, ее шифры и условные обозначения, представляло первостепенный интерес. Амосов по существу тщательно изучил сложную паутину гитлеровской разведки, ее ближайшие планы и методы работы.
Особый интерес представляли с разведывательной точки зрения донесения с Восточного фронта. Почти во всех этих донесениях содержались жалобы на трудности работы, нежелание советских людей работать с немцами, специфику местных условий и отличную осведомленность советской контрразведки, очень активно работавшей даже в оккупированных немцами районах. В советском тылу агенты гитлеровской разведки проваливались один за другим, что в значительной мере объяснялось тем, что советские люди активно помогали органам безопасности в разоблачении вражеской агентуры и борьбе со шпионами и диверсантами. Парашютисты, выбрасываемые в советских районах, обычно вылавливались самим населением, хорошо работали созданные истребительные отряды.
Оккупантам причиняли огромный ущерб и партизаны, работавшие буквально под самым носом у немцев, имевшие широкие связи среди населения и проводившие свою работу, несмотря на все принятые немецкими властями меры, карательные экспедиции и походы.
Эти донесения доставляли огромную радость Амосову, но важнее для него были документы, касающиеся дислокации агентуры и планов разведки.
Наконец, наступил долгожданный день, когда его вызвал фон Бургет.
— Добрый день, господин Шпейер, — сказал фон Бургет, любезно улыбаясь. — У меня имеется для вас приятный сюрприз. Сегодня нашли, наконец, в архиве бывшей военной разведки ваше личное дело. Теперь могу вам сказать, что мы даже думали, что оно уничтожено, потому что в течение долгого времени не могли его разыскать. Дело в том, что после Версальского договора часть архива военной разведки была уничтожена, а часть так рассредоточена в разных уголках Германии, что ее трудно было найти. Но вот на днях в Шлезингере обнаружили часть старого архива, и там оказалось, в частности, личное дело Ганса Шпейера. Вот оно.
И Бургет показал Амосову черную коленкоровую папку.
— Вот ваша молодость, герр Шпейер, — сказал он. — Ваши фотографии, снятые в том счастливом и, увы, неповторимом возрасте, ваши первые донесения, даже ваши письма, написанные вами лично…
Амосов похолодел. Что это — дьявольская игра, хитро задуманное испытание, катастрофа?
Огромным напряжением воли он заставил себя изобразить радостную улыбку.
— Боже, какое счастье! — воскликнул он. — Неужели сохранились даже мои первые донесения?
— Вот они, — сказал Бургет, раскрывая папку. — Сейчас мы вместе их почитаем. Я понимаю вашу радость, дорогой Шпейер. Нет ничего увлекательнее и счастливее, нежели ожившие дни юности.
Он сел рядом с Амосовым и стал перелистывать папку. На первом листе объемистого дела была наклеена выцветшая от времени фотография совсем юного лейтенанта Ганса Шпейера, окончившего в 1911 году брауншвейгскую военную памяти фельдмаршала Мольтке школу.
— Вам было тогда двадцать лет, Шпейер, — лирически произнес Бургет. — Посмотрим же, сильно ли вы изменились…
И Бургет, резко повернувшись, уставился своим острым, цепким взглядом прямо в лицо сидящего рядом с ним Амосова.
Амосов с почтительной улыбкой спокойно встретил его взгляд.
21. В КОМАНДИРОВКЕ
Все обошлось благополучно. Фотография юного Шпейера, имевшаяся в его личном деле, была рассмотрена Амосовым с неподдельным интересом. В свою очередь и начальник русского отдела с любопытством долго смотрел сначала на фотографию, а затем на Амосова.
— Да, время несколько изменило вашу внешность, — сказал он.
— Тридцать лет… И притом столько лет на чужбине, под маской, в глуши, — добавил Амосов.
Поблагодарив начальника за внимание, Амосов ушел, захватив с собой личное дело Шпейера. На досуге он внимательно изучил его и лишний раз убедился, что Шарапов рассказывал правду. История Шпейера-Шарапова, начавшаяся на выпускном балу брауншвейгской офицерской школы, его работа в дореволюционном Петербурге, гатчинская эпопея — словом, решительно все, что показал на следствии Шарапов, соответствовало данным его личного дела, собранным в этом деле донесениям, рапортам, приказам, заданиям. Ничего нового ознакомление с личным делом Шпейера Амосову не дало.
В этом смысле гораздо больший интерес для Амосова представляла его повседневная работа в русском отделе, дававшая ему возможность детально ознакомиться с методами работы германской разведки и ее опорными точками в ряде районов советско-германского фронта. Дислокация немецких разведывательных школ, в которых шла подготовка шпионов и диверсантов, методы вербовки, техника связи и оповещения, новые шифры и коды, применяемые агентурой, — все это представляло собой ценнейшие данные, которые Амосов поглощал с жадностью, умилявшей его «начальство».
— Как изумительно старателен и работоспособен этот человек, — говорил об Амосове начальник русского отдела.
— Да, старые кадры германской разведки были отлично воспитаны, — отмечали «сослуживцы» Амосова.
Так прошло несколько месяцев. Амосов начал подумывать, что пришла пора выбираться из Берлина домой и приступить к реализации собранных сведений.
Однажды после очередного доклада начальнику русского отдела он попросил, чтобы его направили на работу.
— Я достаточно отдохнул, господин начальник, — сказал Амосов. — Кроме того, моя переподготовка, успешно проходившая благодаря вашему содействию, близится к концу. Не пора ли мне выехать на фронт?
— Пожалуй, я с вами согласен, — ответил начальник. — Я не хотел проявлять в этом вопросе инициативу, так как считал, что вы имеете право жить в Берлине столько, сколько вам хочется… Но раз вы сами заговорили на эту тему, то, что ж, в добрый час!
Речь пошла о работе. Амосову было предложено выехать в Финляндию, а оттуда в северный район Восточного фронта.
— Нас интересуют северные порты СССР, — сказал начальник. — Именно эти порты представляют для русских большое значение: оттуда получаются грузы от союзников. Здесь огромное поле деятельности для вас: диверсионная работа в самих портах, собирание данных о количествах и характере поступающих грузов, наконец установление дат и маршрутов прибывающих и уходящих караванов судов, что необходимо для ориентировки наших подводных лодок, — одним словом, есть над чем поработать.
Амосов выслушал указания и советы начальника и выразил благодарность за доверие и за предоставление ему интересной работы.
— Меня вполне устраивает ваше предложение, — сказал он. — Я сам чувствую, что на севере Восточного фронта есть над чем поработать и в чем себя проявить. Но я просил бы, если это возможно, разрешить мне сначала заехать в Зареченск. Мне очень хочется побывать на своей старой базе. Кроме того, я хотел бы ликвидировать некоторые мелкие личные дела. Это займет у меня не более двух недель, а затем я вернусь и отправлюсь в Финляндию.
Начальник русского отдела согласился. Амосову эта поездка в Зареченск была крайне важна, так как он рассчитывал использовать ее для передачи собранных данных.
Что же касается предложения поехать на север, то оно таило в себе соблазнительные возможности, но сначала надо было «разгрузиться» от берлинских впечатлений и материалов.
«Сперва надо информировать наших, — думал Амосов, — тем более что некоторые данные могут быть немедленно использованы. В Зареченске я найду способ связаться с нашими и запросить указаний в связи с работой на севере. Ведь можно в значительной мере обезвредить немецкие подводные лодки, оперирующие против караванов союзников…»
Через два дня, снабженный всеми документами и полномочиями, Амосов выехал из Берлина на фронт.
Вскоре Амосов вернулся в Москву.
Месяцы, проведенные Амосовым в русском отделе, не прошли даром. В Берлине с ужасом узнавали о провале одной точки за другой. Агентура, с таким трудом насажденная в прифронтовые районы, была поразительно быстро ликвидирована советской контрразведкой. И только «племянник Миша», оставшийся в свое время в Зареченске, пропал неизвестно куда. Амосов не забыл о «племяннике», подозревая, что он, как и прежде, находится где-то в Москве, или, вернее всего, под Москвой. «Племянника» искали.
Однажды летом Амосов выехал за город. В электричке на Северной железной дороге, как всегда, было много народу. Амосов стоял в тамбуре вагона, просматривая газету. Рядом с ним стояли школьники, девушки, пожилые служащие — все они с граблями и лопатами ехали на коллективные огороды. Мелькали подмосковные леса, поляны и дачи. Всюду, начиная от полотна железной дороги, копошились люди. Каждый клочок земли был распахан под огород. Трудовая Москва все выходные дни, все часы, свободные от служебных обязанностей, дружно работала на огородах.
На одной из станций из вагона вышло много народу, и стало гораздо свободнее. Амосов занял место на скамейке и снова погрузился в газету. Внезапно он почувствовал на себе чужой взгляд. Подняв голову, Амосов увидел «племянника Мишу», который стоял неподалеку, с лопатой, в сером коломянковом костюме. Сомнений не было — это было его длинное остзейское лицо, его тусклые глаза. Амосов радостно улыбнулся и бросился ему навстречу.
— Миша! — крикнул Амосов. — Сколько лет, сколько зим!
— Дядюшка! — завопил «Миша», тоже радостно улыбаясь.
На глазах у пассажиров они обнялись. Амосов соображал, как ему быть дальше. Задержать сейчас «племянника» не имело смысла, так как надо было сначала выяснить, где он живет, с кем связан и т. п.
Завязался разговор. На ближайшей остановке «Миша» и Амосов вышли из вагона. «Миша» сказал, что он живет поблизости, в дачном поселке. Он пригласил Амосова к себе и стал расспрашивать, давно ли тот в Москве. Амосов тут же сочинил ему целую историю и дал понять, что он лишь недавно переброшен в Москву со специальным заданием.
Они пришли на дачу, где «Миша» познакомил Амосова с какой-то блондинкой, отрекомендовав ее как свою подругу.
— Можете чувствовать себя свободно, дядюшка, — сказал он. — Люся в курсе всех дел…
Проведя у «племянника» весь день и выяснив, что он и его партнерша потеряли связь со своим руководством вследствие провала одной из явок немецкой разведки, Амосов простился с ними и поехал в Москву.
А ночью «племянник Миша» и его дама были арестованы на своей даче.
Утром, узнав, что операция прошла хорошо и «племянник» находится в должном — месте, Амосов вышел на улицу. В зареченской эпопее, была поставлена последняя точка.
Прохладное, чистое летнее утро омывало город. Мимо со звоном мчались трамваи, летели машины и троллейбусы, сосредоточенно и строго шагали по тротуарам люди. Все были заняты, всем было некогда, у всех были важные дела. Столица, страна, народ спешили к победе.



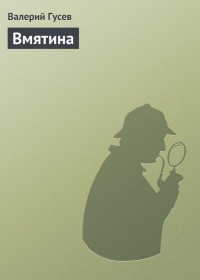
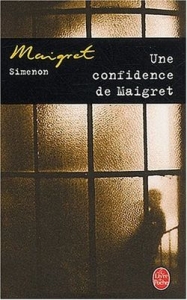





Комментарии к книге «Записки следователя. Тени прошлого. Старый знакомый», Лев Романович Шейнин
Всего 0 комментариев